Элизабет Боуэн Смерть сердца
The Death Of The Heart by Elizabeth Bowen
Copyright © 1938 by Elizabeth Bowen
Издатель выражает признательность за финансовую поддержку Ireland Literature Exchange (Фонд перевода), Дублин, Ирландия. info@irelandliterature.com
Издание книги осуществлено при содействии Curtis Brown UK и The Van Lear Agency
В оформлении обложки использован фрагмент картины Мэдлин Грин (1884–1947)
© Анастасия Завозова, перевод, 2019
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2019
Предисловие переводчика
В 1933 году раздосадованная Вирджиния Вулф писала своей подруге Элизабет Боуэн: «Я просто в ярости, что 40 фунтов достались этой Гиббонс. А кто она такая? И что это за книга? А ты теперь ковер себе купить не сможешь».
Речь шла о престижной в то время литературной премии Femina Via Heureuse Prize, которую сама Вулф получила ранее за свой роман «На маяк» (1927). В финал премии вышли три романа: «Приглашение к вальсу» Розамунды Леман, «Неуютная ферма» Стеллы Гиббонс и «На север» Элизабет Боуэн. Премию в итоге получила Стелла Гиббонс, но негодование Вирджинии Вулф объяснялось не только дружескими чувствами и тем, что новый ковер Боуэн нужнее, чем Стелле Гиббонс. Элизабет Боуэн была и остается одним из не то чтобы незаметных, но уверенно тихих голосов британской литературы, которые, несмотря на свою кажущуюся неприметность, и составляют саму ее основу, костяк ощущений, возникающих у читателя, стоит ему заслышать слова «британская литература». Точность описаний, сухая и едкая ирония, препарирование самых глубинных человеческих чувств при помощи обманчиво простых слов, поэтическое внимание к пейзажу и хирургическое – к деталям, – все это в разной степени свойственно многим британским писателям, от самой Вирджинии Вулф до Джулиана Барнса, от Нэнси Митфорд до Али Смит. И Элизабет Боуэн с романом «Смерть сердца», который в 1938 году завоевал признание не только читателей, но и критиков, в общем-то давно находилась в этом ряду на равных с остальными писателями. Сдержанный стиль Боуэн – такая же часть англоязычной культуры, как абсурдизмы Кэрролла или вязкий синтаксис Харди, просто для русского читателя ее роман был потерянным звеном британского стиля – точкой, в которой совершался переход от насмешливой прозы Нэнси Митфорд к прозрачности Айрис Мёрдок, но теперь этот пробел будет в какой-то мере заполнен.
Предки Элизабет Боуэн – валлийцы с фамилией апОуэн[1], скорее всего, перебрались в Ирландию вместе с английскими завоевателями в XVII веке. Приплыли – и остались англичанами среди ирландцев, резко подчеркивая свою принадлежность к протестантской культуре. Эта двойственность, которую выпестовал в себе род апОуэнов и в дальнейшем – Боуэнов, только усилилась, когда в 1765 году один из Боуэнов женился на богатой наследнице из такой же подчеркнуто англо-ирландской семьи Коулов. В честь этого союза и в честь самого ощущения, что Боуэны наконец-то окончательно вознеслись над Ирландией, и было выстроено семейное гнездо – Боуэнз-Корт, где родилась Элизабет Боуэн и которое сыграло огромную роль как в ее жизни, так и в творчестве.
Элизабет Боуэн родилась в 1899 году, в семье, которая так и просилась на страницы тихого романа о сдержанных до невыносимости людях, что переносят жизнь как легкое заболевание – на ногах. Ее мать, Флоренс Колли, росла в огромной жизнерадостной семье, где среди шумных сестер казалась кем-то вроде подменыша. По отзывам родственников, она была тихой, очень задумчивой и даже угрюмой. Ее муж, Генри Коул Боуэн, был характером ей под стать – замкнутый, молчаливый, очень книжный человек, который находился в режиме тлеющего конфликта с отцом, потому что, вместо того чтобы жить жизнью джентльмена и смотреть за родовым имением, освоил профессию юриста и практиковал в Дублине. Родовое имение к тому моменту уже было скорее источником стресса для всего семейства Боуэн – и продолжит быть им до того самого момента, когда Элизабет Боуэн продаст его в 1960 году, окончательно осознав, что дом буквально сжирает большую часть ее доходов. Боуэн всегда признавала важность этого дома для своей семейной истории, важность дома как крепости, в которой ее английские по духу предки отгородились от всей Ирландии – в каждом из ее романов домаґ существуют на равных с персонажами, и в романе «Смерть сердца» мы это увидим тоже, – но теплой любви к Боуэнз-Корт не испытывала. В домашнем мемуаре «Боуэнз-Корт» она писала, например, что семейные призраки в доме не являлись, потому что «они давно поселились в самих стенах дома».
Генри Коул Боуэн всю жизнь фактически работал на Боуэнз-Корт. Элизабет была их с Флоренс единственным ребенком, долгожданным – она появилась на свет на десятом году брака. Будущему наследнику было заготовлено имя Роберт, но и Элизабет родители были очень рады. Нет свидетельств того, что Элизабет была нежеланным или заброшенным ребенком, напротив – мать уделяла ей огромное количество времени и так переживала за ее эмоциональное здоровье, что позволила учиться читать только в семь лет. Проблема крылась в другом: и Флоренс Колли Боуэн, и Генри Коул Боуэн существовали в собственных замкнутых мирах, которые Элизабет позже назвала «их личными царствами мысли», добавив, что ей, наблюдавшей, как оба родителя уединились в этих своих личных царствах, не оставалось ничего иного, как придумать свое – такое же.
Когда Элизабет было семь лет, в семье Боуэнов приключилась трагедия – у Генри Боуэна диагностировали нервный срыв, в результате которого он, судя по всему (эта часть старательно замалчивалась), стал опасен для окружающих, и Флоренс с дочерью пришлось переехать в Англию, к родственникам, и довольно долгое время, почти шесть лет, провести в разных съемных домах на побережье Англии. За это время, по воспоминаниям Боуэн, они удивительно сошлись с матерью, их отношения стали очень нежными, но, когда Элизабет было тринадцать, мать умерла от рака. Этот период жизни и то, каким прекрасным он виделся ей, девочке-подростку, почти в автобиографичной форме перекочевал в роман «Смерть сердца». Героиня романа, юная Порция, оставшаяся сиротой в шестнадцать лет, примерно так же вспоминает о жизни с матерью и их бесконечных переездах.
«В их номере, хоть и самом дальнем, с окнами на сосновый лес, тоже имелся балкон, и они, бывало, сбегали из салона и сидели там долгими дождливыми днями. Лежали на кроватях – укрывшись пальто, оставив окно нараспашку – и вдыхали запах мокрого дерева, слушали, как дребезжит водосточный желоб. А еще – читали вслух друг другу купленные в Люцерне таушницевские[2] романы. Чайные принадлежности, спиртовка и лиловая бутылочка денатурата стояли на шатком комодике между кроватями; в четыре часа Порция принималась готовить чай. Ели они, поочередно откусывая то от плитки шоколада, то от бриоши. Они обожали открытки и завешивали сосновые стены своими набросками; выстиранные чулки сушили на батарее, хоть отопления и не было. Иногда из туманной дали доносился звон коровьих бубенцов, из соседней комнаты – голоса людей, говоривших по-немецки. Часто случалось так, что между пятью и шестью часами дождь переставал и по стволам сосен сползал влажный свет. Тогда они слезали с кроватей, надевали ботинки и спускались по деревенским улочкам к обзорной площадке над озером. Смотрели сквозь клочья тумана, как шестичасовой пароход, пыхтя, огибает скалу и причаливает к пристани» (с. 64).
Далее за образованием Боуэн следили многочисленные тетки Колли, а домой, в Боуэнз-Корт, она вернулась только после того, как ее отец окончательно пошел на поправку. Здесь восемнадцатилетняя Элизабет впервые окунулась в атмосферу вечеринок и приемов, которые устраивала вторая жена ее отца, Мэри Гвиннз. По воспоминаниям друзей и родственников, Элизабет после смерти матери начала страдать заиканием, которое особенно проявлялось на слове mother (мама), но это совершенно не помешало ей стать очень бойкой, очень разговорчивой и очень активной участницей этих приемов, которые со временем в Боуэнз-Корт стала закатывать уже она сама. Заикание в будущем не помешало Боуэн выступать на радио и с лекциями, которые она читала не только в Британии, но и в Европе и США.
Элизабет, впрочем, как и ее отцу, хотелось какой-то деятельности, и идея просто быть хозяйкой большого дома ей совершенно не нравилась. В начале 1920-х годов Элизабет отправилась в Лондон – учиться искусствоведению, но вскоре забросила занятия, решив посвятить себя писательству. Она уже писала рассказы, но напечататься ей удалось только в 1923-м, когда она познакомилась с Роуз Маколей – известной писательницей того времени, которая, разглядев в Боуэн талант, буквально взяла ее под опеку и помогла с первой публикацией. Практически сразу после этого Элизабет Боуэн вышла замуж – за Алана Кэмерона, чиновника в Министерстве образования. Брак окажется счастливым и окончится только со смертью Кэмерона в 1952-м, хотя друзья Боуэн – все как один тонкие и ядовитые интеллектуалы – зачастую подсмеивались над тем, насколько простоватый и тихий Кэмерон не схож с умной, ироничной, общительной светской бабочкой Элизабет. Роман «Смерть сердца», в котором нет второстепенных героев, – читателю предлагается понять, почему умирает сердце у каждого человека, появляющегося на его страницах, – в некотором виде вобрал в себя эти странные, но гармоничные отношения, и многие критики сходятся на том, что в чертах Томаса Квейна, брата Порции и мужа Анны, проявилось некоторое сходство с Аланом Кэмероном – точно так же, впрочем, как и Анна, язвительная светская особа, вобрала в себя некоторые черты самой Элизабет Боуэн.
После свадьбы Боуэн и Кэмерон перебрались в предместье Оксфорда, где Алан получил работу. Здесь-то Элизабет Боуэн и познакомилась с людьми, которые в дальнейшем не только определят всю ее карьеру, но и станут друзьями и важными опорными точками на всю жизнь. Например, она свела знакомство с известной писательской парой Бьюканов – Джоном и Сьюзан (баронессой Твидсмурской, она публиковалась под именем Сьюзан Твидсмур), а через них познакомилась с Вирджинией Вулф и Розамундой Леман. (Леман – еще один пример неизвестного у нас британского классика, хотя ее роман «Приглашение к вальсу» входит в канон британской литературы.) Через будущего критика Дэвида Сесила, который в то время был оксфордским доном, она свела знакомство с Исайей Берлином. После смерти Алана Кэмерона именно Берлин будет какое-то время сдавать Боуэн квартиру и всячески опекать ее.
Следующие десять лет Элизабет Боуэн и Алан Кэмерон счастливо проживут в Уолденкоте, в собственном доме, переделанном из бывшей каретной. Детей у них не было – по отзывам биографов Боуэн, они скорее были родителями друг другу, обожали долгие прогулки на машине и хорошие шутки. Несмотря на то что Боуэн регулярно заводила довольно страстные романы, их семейная жизнь была выстроена так комфортно, что брак это не разрушило.
В 1930 году умер Генри Коул Боуэн, и Боуэнз-Корт отошел Элизабет. На какое-то время она перебралась туда, сделав из дома что-то вроде приемной залы – вечеринки, встречи, литературные вечера, но денег на полноценное содержание дома у них все равно не было, и в 1935 году Боуэн и Кэмерон переезжают в Лондон.
Здесь они живут в доме на Риджентс-парк, там же, где в романе «Смерть сердца» живет семья Квейнов и куда после смерти матери приезжает шестнадцатилетняя Порция Квейн. Их дом, Кларенс-террас, становится литературным салоном – Боуэн, которая к тому моменту издает уже пятый роман, охотно привечает молодых писательниц, стараясь помочь им с публикацией. В числе ее гостей, например, американская поэтесса и писательница Мэй Сартон, а также будущий классик американской литературы писательница Карсон Макаллерс. Однако, несмотря на веселую атмосферу этих сборищ, в воздухе уже ощущается война, и ее предчувствием полон пятый роман Боуэн «Дом в Париже». Ухудшилось здоровье Алана Кэмерона: во время Великой войны (так у британцев называется Первая мировая война) он попал в газовую атаку и с тех пор его беспокоила боль и резь в глазах. Его нынешняя работа на Би-би-си отнимает много времени и сил, поэтому он все больше и больше напоминает Томаса Квейна, который прячется от гостей своей жены в кабинете на первом этаже.
В романе «Смерть сердца», несмотря на точность и детальность обстановки, конец тридцатых воссоздан с идеальной живостью, предчувствия войны нет, потому что время это во многом показано через восприятие мира эгоцентричным (бывает ли иначе?) подростком, который внезапно обнаружил свое несовпадение с окружающим миром. Порция не замечает надвигающейся войны, но для Боуэн Вторая мировая стала своего рода «пиковым» временем – в хорошем смысле этого слова. Она развила невероятно бурную деятельность: выступала на радио, участвовала в противовоздушной обороне Лондона, работала в Министерстве информации, от которого ездила в Ирландию, чтобы составить представление, как ирландцы настроены в отношении англичан. В своих воспоминаниях Боуэн с восторгом пишет, что «ни под каким видом бы не уехала из Лондона во время войны» и что время это было самым интересным в ее жизни.
Публикация «Смерти сердца» принесла Боуэн не только критический, но и финансовый успех – правда, большая часть денег снова ушла на подновление Боуэнз-Корт. Элизабет Боуэн продолжает жить между двумя домами, но все более и более тяготится родовым гнездом. Здесь же, кроме того, происходит забавный случай, который тоже, возможно, лег в основу «Смерти сердца»: юный и бойкий знакомый Боуэн по имени Геронви Риз во время одного из приемов в Боуэнз-Корт увидел Розамунду Леман и, несмотря на то, что ранее он оказывал знаки внимания Боуэн, тотчас же переметнулся к ее приятельнице. Известно, что этот эпизод Боуэн не только рассмешил, но и задел, поэтому многие биографы Боуэн сходятся в том, что Риз мог послужить прототипом для одного из героев романа «Смерть сердца» – Эдди, светского хлыща, который, расточая комплименты Анне, за ее спиной признается в любви ее золовке.
После войны Боуэны, разочаровавшись в Лондоне и послевоенной политике, уезжают из столицы. В их дом, Кларенс-террас, несколько раз попадали бомбы, и Боуэн с Кэмероном однажды чудом спаслись. Они все больше времени проводят в Боуэнз-Корт, здоровье Алана ощутимо ухудшается, и 26 августа 1952 года он умирает на руках жены. С его смертью Элизабет Боуэн будто утратила само чувство дома и теплоты, которое давало ей присутствие Кэмерона. В письме Мэй Сартон она признается: «И самое главное – невозможность разговаривать. И ох, как же мне без него холодно. Нет и не будет никого его теплее».
После смерти Кэмерона Элизабет подолгу не живет в одном месте, она ездит с лекциями, принимает предложения от нескольких американских колледжей – и перебирается в Америку преподавать. В 1960-м Боуэн продает Боуэнз-Корт. И хотя она всю жизнь подчеркивала, что любит свой дом лишь как историческое свидетельство жизни ее семьи, ее глубоко задело то, что новый владелец не стал делать из большого дома семейное гнездо, а попросту его снес.
В последние годы жизни Боуэн перебралась в небольшой коттедж на побережье, неподалеку от тех мест, где она провела счастливые детские годы с матерью. Там она жила до самой смерти в 1973 году – от рака легких. Уже зная, что умирает, она начала новый роман, стала писать автобиографию и перед смертью попросила издателя подготовить все к публикации. Первая биография Боуэн – авторства ее самого известного биографа Виктории Глендиннинг – вышла уже в 1977 году.
Роман «Смерть сердца» часто называют трагедией взросления, но это не совсем так. В 1952 году в интервью Элизабет Джослин писательница так говорит об этой своей книге: «Я, например, слышала, будто [“Смерть сердца”] называют трагедией взросления. Но я и когда ее писала, так не думала, да и сейчас, признаться, так не считаю. Единственный подросток в этом романе, юная Порция, кажется мне – по сравнению с остальными – наименее трагическим персонажем. У нее, по меньшей мере, еще есть надежда, и эта надежда еще не успела в ней увянуть. Вообще, вся книга… это трагедия увядания, она не столько о смерти, сколько о смертельном сне… И функция Порции в этой книге – быть единственной бодрствующей, в каком-то смысле без нее в этой книге просто нельзя было обойтись».
Шекспир и шекспировские имена всегда были важны для Боуэн, и здесь юную героиню не случайно зовут Порцией, несмотря на то что в «Венецианском купце» Порция – бойкая, смелая, острая на язык главная героиня, в то время как боуэновская Порция тиха, застенчива и скорее похожа на гадкого утенка, особенно по контрасту с Анной, которая впервые появляется на страницах романа вместе с белыми лебедями и сама похожа на хорошенькую, сытую белую уточку. Но точно так же как Порция у Шекспира спасает весь сюжет, выступив на суде в роли юриста, так и Порция Квейн выступает у Боуэн кем-то вроде судьи – угодив в сонное царство, она невольно выносит приговор всем его спящим обитателям.
Распространено мнение, что «Смерть сердца» – это в первую очередь история о Порции, которая должна утратить сердце, чтобы повзрослеть, но этот роман – история того, как все ее герои потеряли или теряют сердца. Томас Квейн и Анна, замкнувшись в своем доме-крепости, не могут принять того, что Порция ждет от них тепла и участия, что теперь им придется быть семьей, когда они уже – перестав надеяться на то, что станут родителями, – умертвили свои сердца и надежды. Эдди, который вечно пытается втереться к кому-то в доверие, переживает раннюю смерть сердца и из-за этого не может и не желает ответить на любовь Порции. А майор Брутт, еще один бездомный персонаж романа, переживает умирание своих надежд, кроме которых у него в жизни ничего и не было.
Все эти люди в той или иной степени пытаются обрести дом – а дом в прозе Боуэн всегда отражает происходящее с людьми. Порция примеряет на себя дом Квейнов, но не может прижиться ни в кабинете Томаса, ни в гостиной Анны. Старая служанка Матчетт – фактически хранительница очага, говорящий предмет мебели, вместе с которой она по наследству и досталась Квейнам, и единственный человек, который может рассказать Порции о ее прошлом. Все важные разговоры и ключевые сцены происходят здесь в помещении – так, два фатальных разговора между Порцией и Эдди случаются в заброшенном доме и в неуютной комнате Эдди, которая полностью (и этому разговору предшествует детальное описание комнаты) впитала в себя его характер. При чтении всегда стоит обращать внимание на то, где именно происходит разговор – вилла «Вайкики» шумит и трясется от ветра так же, как и ее крикливые обитатели. В номере втором по Виндзор-террас говорят вполголоса, шепотом или поддерживают светскую беседу, где за каждым словом стоит миллион невысказанных.
«Я уверен, у каждого из нас внутри, под тремя замками, сидит безумный великан – это мы во весь рост, которых не покажешь другим людям, – и только его толчки и удары, что мы изредка слышим друг в друге, и спасают наши беседы от непроходимой банальности. Порция же слышит их постоянно, более того – она только их и слышит. Стоит ли удивляться тому, что у нее почти всегда такой вид, будто она не от мира сего?» (с. 499).
Вторая важная черта романа – он выстроен вокруг перемен, которые происходят с душой, по мере того как меняется время. Названия трех частей романа – «Мир», «Плоть» и «Дьявол» – восходят к христианским представлениям о том, что именно они и есть три основных врага души. Порция преодолевает эти ступени, сталкиваясь с каждым препятствием на фоне меняющейся природы. Роман начинается зимой и проходит почти полный цикл, завершаясь ощущением упоительного, нового лета. Это не смерть, но что-то новое, скорее, Порция начала движение от зимней смерти – и ее вынесло к совершенно другой жизни.
При переводе романа самым сложным мне казалось сохранить стиль Боуэн, определенный ее исходным намерением. Как сама Боуэн в двадцатые годы отказывалась думать о том, что может статься с Боуэнз-Корт, если и его сожгут, как прочие богатые английские поместья в Ирландии, заполыхавшие, когда отношения между англичанами и ирландцами в буквальном смысле накалились («Я не могу себе этого вообразить», – писала она домой из путешествия по Италии), – так и многие герои романа живут и ведут себя, будто не замечают, что дом их в огне. (Кстати, в романе Боуэн «Последний сентябрь» происходит именно это: герои смотрят на горящий дом, не делая ровным счетом ничего.) Поэтому все диалоги Анны и Томаса, Анны и Сент-Квентина, Анны и Эдди, Эдди и Порции зачастую выстроены так, чтобы казаться максимально банальными или подчеркнуто ироническими, показными разговорами на публику. Это разговоры ни о чем, разговоры о погоде, за которыми кроется буря. Но эти разговоры – всего лишь тонкая мембрана, они старательно окружены жестами, предметами, движениями, и нужно было аккуратно перенести это в русский текст. Единственные живые реплики – у Порции, которая вышла на сцену, не зная слов, и поэтому говорит первое, что ей приходит в голову.
Строгость и сухость стиля сочетаются у Боуэн с текучим описанием природы – этот контраст непременно надо было сохранить, выделить эти места, показать, что они важны для всего хода романа, что роман движется буквально по календарю, вслед за солнцем, растет вместе с Порцией. Поэтому в целом стиль Боуэн невозможно было ухватить быстро, его приходилось медленно и аккуратно складывать из нескольких противоположностей: поэтичности и сдержанности, язвительности и ранимости. Я очень надеюсь, что мне это удалось, но, впрочем, любые ошибки остаются на совести переводчика.
Анастасия Завозова,
май 2017 – февраль 2019
Часть 1 Мир
1
Утренний лед, не лед даже, а хрупкая пленка, треснул и покачивался на воде осколками. Они то сталкивались, то разъезжались, обнажая темные промоины, по которым с тихим негодованием плавали лебеди. На острова спускались морозные, деревянно-бурые сумерки: минуло три часа пополудни, близилось к четырем. От какого-то глинистого дыхания, от дыхания города, за воротами парка воздух мутнел и сгущался, и из этого воздуха торчали макушки оледеневших деревьев. Бронзовый январский холод сковал и землю, и небо; к небу солнце не могло пробиться – но на лебедях, на кромке льда, на рядах блеклых, угрюмых домов эпохи Регентства лежал непривычный отблеск, будто сам холод был светом. Всегда есть что-то величественное в самой холодной поре зимы. На мостах, на черных дорожках звенели шаги. Погода установилась; вечером подморозит еще.
На пешеходном мостике между островом и большой землей мужчина и женщина беседовали, облокотившись на парапет. На пронизывающем холоде, из-за которого прохожие ускоряли шаг, они устроили долгую летнюю остановку. Они замерли, не замечая, что творится вокруг, будто влюбленные – но их рукава даже не соприкасались, мужчина и женщина были увлечены не друг другом, а ее рассказом. Теплые пальто делали их бесполыми, окостенелыми, похожими на шахматные фигурки: два состоятельных человека, чьи тела, за бастионами меха и ткани, непрерывно вырабатывают тепло; холод они только видели, а если и чувствовали, то разве что в конечностях. Время от времени он притопывал ногами или она прикрывала муфтой лицо. Сталкиваясь, льдинки уплывали под мост, и пока двое на мосту разговаривали, их отражения бесконечно дробились в воде.
Он сказал:
– Зря ты вообще его трогала.
– А все-таки, Сент-Квентин, ты бы на моем месте поступил точно так же.
– Нет, это вряд ли. Право же, я совершенно не желаю знать, о чем думают другие.
– Если бы я только знала…
– Однако же узнала.
– Я давно так не огорчалась.
– Бедняжка Анна!.. А кстати, как ты его нашла?
– Что ты, я его не искала, – быстро ответила Анна. – Пожалуй, теперь я предпочла бы и вовсе не знать о том, что он существует, а до того, сам понимаешь, мне такое и в голову не приходило. Ее белое платье принесли из чистки вместе с моим, я вынула свое, потому что собиралась его надеть, а ее платье, поскольку у Матчетт был выходной, отнесла к ней в комнату. Порция, конечно, была на занятиях. Я, разумеется, была готова к тому, что ее комната выглядит просто возмутительно: у нее там повсюду какие-то композиции, к которым Матчетт даже не притронется. Сам знаешь, какие бывают слуги – к тебе по мелочам придираются, зато детям и животным готовы бесконечно делать поблажки.
– Считаешь, она ребенок?
– Скорее животное. А я ведь украсила эту комнатку к ее приезду. Откуда же мне было знать, что она будет так бездумно жить. Я теперь туда почти и не захожу, у меня просто сразу портится настроение.
– Какая досада, – вяло отозвался Сент-Квентин.
Он втянул голову в складки шарфа, с безучастным вниманием поглядел на Анну. Порой в беседе с ним она принималась немного подтрунивать и над собой, и над своими бедами, преподнося себя так, чтобы в точности соответствовать его взглядам на представительниц ее пола. Она перекраивала себя, чтобы угодить ему – любезно, с легким дружеским нахальством. Ему же в этом переигрывании виделся своего рода блеф, и это располагало его к Анне, которая, впрочем, и так ему очень нравилась. Плавностью своих черт, тоненькой, иронической улыбкой и тем, как, улыбаясь, она опускала подбородок, Анна напоминала ему язвительную белую уточку. Но нынче за ее игрой и в самом деле угадывалось огорчение: она уткнулась подбородком в пышный меховой воротник, на лбу, под меховой шапочкой, которую она носила, надвинув на глаза, угадывались морщинки. Она печально глядела на свою муфту, на щеках у нее лежала тень тонких светлых ресниц; изредка она высовывала руку из муфты и терла кончик носа платком. Она чувствовала, что Сент-Квентин на нее смотрит, но не подавала виду, зная, что в его жалости к женщинам есть некоторая доля ехидцы.
– Я повесила ее платье, – продолжала она, – а затем всего-то осмотрелась, одним глазком, скорее даже из чувства долга. Настроение, конечно, сразу испортилось, я даже решила, что нужно все-таки ее держать в каких-то рамках. Но у нас с ней престранные отношения – всякий раз, когда я пытаюсь обозначить ей эти самые рамки, она их попросту не замечает. И она совершенно не умеет бережно обращаться с вещами, для нее что шляпка, что, например, старый конверт – совершенно никакой разницы. Все, что у нее есть, понимаешь, это как будто и не ее вовсе, поэтому ей бессмысленно дарить подарки, разве только что-нибудь съедобное, а такие подарки ей не всегда по вкусу. Это все, наверное, оттого, что они жили в гостиницах. Так вот, я подумала, что если уж ей что и понравится, так это миленький секретер, который нам достался еще от матери Томаса – возможно, и ее отец за ним сидел. Я поставила его к ней в комнату. Ящички запираются на ключи, а откидная крышка очень широкая – чем не письменный стол. Крышка запирается тоже: я надеялась, она увидит, что я не собираюсь мешать ей жить своей жизнью. И еще, может, мы, конечно, с этим и поторопились, но мы ей даже ключ от дома дали. Но ключи от секретера она, похоже, потеряла – их нигде не было видно, все нараспашку.
– Какая досада! – снова повторил Сент-Квентин.
– Вот именно. Потому что если бы… Однако… В общем, и тут я вижу этот несчастный секретер. Она его набила… нет, правда, он просто лопался от бумаг, будто мусорная корзина. Такое чувство, что она тащит к себе каждую бумажонку, писем она почти не получает, зато хранит все, что мы с Томасом выбрасываем, – записки с просьбами денег, брошюрки с шарлатанскими лекциями. Как говорит Матчетт, я так и обомлела.
– Когда открыла секретер?
– Понимаешь, он так ужасно выглядел. Крышка не закрывалась – бумаги лезли наружу, торчали из щели. Меня просто затрясло от ярости – даже и не скажу, почему. Я сгребла все бумажки и швырнула их в кресло – думала, там их и оставлю, а потом ей скажу, что нужно следить за порядком. Под бумагами лежали какие-то ее школьные тетради, а под тетрадями – этот дневник, который я, как уже сказала, прочла. Такая, знаешь, неприметная черная книжечка в муаровой обложке, они по шиллингу обычно… Ну и после этого мне, разумеется, пришлось вернуть все на место.
– Так же, как и было?
– По-моему, совершенно так же. Может, мне и не удалось в точности воспроизвести тот беспорядок, но вряд ли она это заметит.
Они помолчали, Сент-Квентин поглядел на чайку. Потом сказал:
– До чего же это все затруднительно.
Анна сжала руки в муфте, вскинула глаза, сердито посмотрела на озеро.
– Она еще не родилась, а от нее уже были одни неприятности.
– То есть лучше бы она и не рождалась?
– Ну, естественно, сейчас я именно так и думаю. Хотя, знаешь, ты, пожалуй, так не говори – она все-таки сестра Томаса.
– Ну а вдруг ты преувеличиваешь? От неожиданности можно так разволноваться, что все чудится куда хуже, чем на самом деле.
– Дневник этот не может быть хуже, чем он есть на самом деле. То есть для меня – хуже. Поначалу я даже не слишком разозлилась, но с тех пор все только об этом и думаю. И даже не додумала еще, постоянно что-то новенькое вспоминается.
– Что же, она выражалась… гадко?
– Нет, такого у нее и в мыслях не было. Нет, я уверена, она хочет нам помочь.
– Значит, слащаво?
– Нет, скорее, знаешь, она все перевернула и вывернула. Я читала и думала: или эта девчонка сошла с ума, или я. Но я ведь не сошла с ума, верно?
– Разумеется, нет. Но отчего же ты так огорчаешься, если по дневнику всего-то можно судить, что с ней что-то неладно? Она что, очень надрывно пишет?
– Весьма истерически.
– А ты все же сделай поправку на стиль. На бумаге ничего не появляется как думалось, зато появляется много такого, о чем не задумываешься. Когда пишешь, всегда немного бредишь, даже если и знаешь, что желаешь сказать, а в ее возрасте на такое рассчитывать не приходится. Над совершенством приходится работать и работать, постепенно становишься точнее, но далеко не всегда честнее. Уж кому как не мне об этом знать.
– Я тебе верю, Сент-Квентин. Но это ни чуточки не походило на твои прекрасные книги. Если честно, это даже и сочинительством назвать нельзя. – Она помолчала и прибавила: – Она так странно обо мне выражалась.
Сент-Квентин с недовольным видом похлопал по карманам, вытащил носовой платок. Высморкавшись, с железным упорством продолжил:
– У стиля всегда есть некоторый оттенок фальши, однако писать без стиля невозможно. Посмотри, сколько усилий мы прикладываем, просто чтобы надписать конверт… Ведь, в конце концов, все дело в том, какую цель ты преследуешь. Дневники пишут ради собственного удовольствия – и, само собой, в них всегда чудовищно привирают. Они пишутся по воле только одного человека, и подумай, в каких условиях они пишутся – в спальнях, заполночь, в одиночестве, в дурном расположении духа… И все-таки, Анна, что-то в нем тебя заинтересовало.
– Он раскрылся прямо на моем имени.
– И оттуда ты начала читать?
– Нет, он раскрылся на последней записи, я ее прочла, а затем пролистала к началу. Последняя запись была об ужине накануне.
– Так-так, вы принимали гостей?
– Нет-нет, хуже того. Мы ужинали втроем – она, я и Томас. Потом она, наверное, кинулась наверх и все записала. Разумеется, когда я все это прочла, то пролистала к началу, чтобы понять, что это на нее нашло. И все равно не понимаю, отчего она вообще это написала.
– Быть может, – мягко заметил Квентин, – ее интересует сам опыт как таковой?
– Уже? В ее-то возрасте? Сам видишь, у нее почти ничего нет. Люди понимают, что приобрели какой-то опыт, только когда он начинает повторяться – а пока не повторяется, его и опытом-то назвать нельзя.
– Скажи, а самую первую фразу ты помнишь?
– Еще бы, – ответила Анна. – Итак, я у них, в Лондоне.
– А после «них» – запятая?.. Запятая – это хорошо, это признак стиля… Пожалуй, я бы хотел на это взглянуть.
– Нет, знаешь, Сент-Квентин, хорошо, что ты этого не видел. Не то, как знать, расхотел бы к нам приходить. Или приходил бы, но расхотел разговаривать.
– Ясно, – коротко отозвался Сент-Квентин.
Он барабанил по парапету замерзшими пальцами и хмуро разглядывал лебедя, пока тот не скрылся под мостом. Как и у лебедя, глаза у Сент-Квентина были довольно близко посажены. Наконец он не выдержал:
– Она наблюдает за мной, подумать только! Вот ведь маленькое чудовище. А держится так, будто ей до нас и дела нет. Что же, ей кажется, будто я умничаю?
– Она больше пишет о том, какой ты всегда вежливый. Подколодной змеей она тебя, по-моему, не считает, хотя ее почитаешь – так у нее кругом одни колоды, змее есть, откуда выползти. Она подмечает все, до последней мелочи, и, разумеется, понимает все совершенно неправильно. Знаешь, даже задумываться начинаешь… Как же ты топаешь, Сент-Квентин! Так ноги замерзли? Мост трясется.
Сент-Квентин – задумчивый, угрюмый – предложил:
– Может, пойдем?
– Да, пожалуй, пора, – со вздохом согласилась Анна. – Но теперь ты понимаешь, почему меня не тянет домой?
Сент-Квентин проворно сошел с моста – одним этим движением показав, что сыт по горло озерными видами. Мороз уже покусывал их лица, подбирался к ногам. Анна с сожалением оглянулась на мост: она еще не все сказала. От озера они направились к деревьям, которые росли у самой ограды. В этот час вокруг Риджентс-парка уже стягивалось кольцо транспорта; гудящие автомобили непрерывно проносились мимо; еще немного, и загорятся фонари – сторожа засвистят: «Парк закрывается!» Дома на другом конце улицы сумрак словно отодвинул еще дальше: на фоне неба они были бесцветными силуэтами, вычурными до безвкусия, холодными и неприветливыми. Света еще не зажигали, занавесей не задергивали, и дома с черными окнами казались полыми внутри… Сент-Квентин и Анна, не выходя за ограду парка, шли в сторону угла, на котором она жила. Сент-Квентин не дал ей договорить, и Анна огорченно размахивала черной муфтой, немного не поспевая за ним.
Сент-Квентин всегда двигался, пожалуй что, слишком быстро, иногда казалось, это потому, что ему не нравится, куда он попал, а иногда – будто он хочет сбежать от любых удовольствий, которые ему сулят время или место. Держался он очень прямо и несколько сурово, отчего выглядел несовременно и даже слегка по-военному, но это было обманчивое впечатление. Росту он был высокого, темные, пушистые волосы стриг en brosse[3] и носил тонкие галльские усики. Поскольку его имя было хорошо известно, в гостиные он входил с видом человека, который уже знает, что может попасть в положение, глубоко противное его природе, – ведь с писателем многие хотят быть накоротке, а Сент-Квентин, если не считать снисходительной доброты, достававшейся Анне и еще паре друзей, презирал всяческую близость, потому что до сих пор она не принесла ему ничего, кроме боли. И поэтому, боясь стать уязвимым, он вечно куда-то торопился, был до обидного уклончив, понимал все превратно. Даже Анна не всегда могла угадать, что именно Сент-Квентин сочтет за навязчивость, однако их отношения были настолько дружескими, что Анна давно перестала из-за этого беспокоиться. Сент-Квентину нравился и ее муж, Томас Квейн, и он частенько посещал Квейнов, будто призрак, знавший когда-то цену доброму супружеству. И пока Квейны оставались семьей, Сент-Квентин оставался другом семьи. Сегодня же, волнуясь из-за того, что наговорила лишнего, и задыхаясь от невысказанного, Анна очень хотела, чтобы Сент-Квентин сбавил шаг. Но ей стоило бы договорить, пока он стоял на месте.
– Как не похоже на Томаса! – вдруг сказал Сент-Квентин.
– Что не похоже?
– Не похожа. Она на него не похожа.
– Совершенно. Но ты вспомни, какие разные у них были матери. А от бедняжки мистера Квейна, скорее всего, и здесь было мало проку.
Сент-Квентин повторил:
– «Итак, я у них, в Лондоне». Вот что самое невероятное.
– Что она у нас?
– И другого выхода не было?
– Нет, ведь нам отписали ее в завещании – точнее, в предсмертной просьбе, которая не имеет никакой законной силы и поэтому еще хуже. Умерев, мистер Квейн впервые заставил всех с собой считаться – по крайней мере, впервые после Ирэн. Томас очень серьезно отнесся к письму отца, оно даже меня усовестило.
– Право же, мне кажется, подобные воззвания к добрым чувствам до добра не доводят. Рано или поздно вы все равно бы об этом пожалели. Ты и вправду думала, что девочке будет у вас хорошо?
– Если бы мистер Квейн мог оставить нам что-то еще, кроме Порции, вся эта история не была бы такой щекотливой. Но, когда он умер, его деньги, разумеется, отошли Ирэн, а потом, после ее смерти, достались Порции – какая-нибудь пара сотен в год. Но с таким наследством никаких условий он нам ставить не мог: просто попросил нас приютить его дочь, донельзя, как нам показалось, жалобным голосом… когда он уже вот так взял и умер, когда мы получили письмо. Кстати, это ведь мать Томаса была богатой – бедняжка мистер Квейн, по-моему, получал какие-то крохи, и когда мать Томаса умерла, ее деньги достались нам. Она умерла лет пять тому назад, это ты, верно, и сам помнишь. Странно, конечно, но мне кажется, что это ее смерть – на расстоянии – и добила мистера Квейна, впрочем, осмелюсь предположить, жизнь с Ирэн тоже сыграла свою роль. Они с Ирэн и Порцией, постепенно впадая в минор, таскались туда-сюда по холодной стороне Ривьеры, пока он не простудился и не умер в больнице. За несколько дней до смерти он надиктовал Ирэн письмо для нас, насчет Порции, но Ирэн, презирая нас – и, надо сказать, не без оснований, – убрала его в шкатулку с перчатками, где его нашли только после ее смерти. Конечно, он и диктовал его на случай, если с ней вдруг что-то случится: конечно же, он не хотел, чтобы мы отбирали у кошки котенка. Но, по-моему, он предвидел, что Ирэн сама не сумеет долго справляться с жизнью, и оказался прав. Когда Ирэн умерла в Швейцарии, ее сестра нашла это письмо и отправила нам.
– Надо же, сколько смертей в семье Томаса!
– Ну, когда умерла Ирэн, мы вздохнули с облегчением, но потом получили письмо и поняли, чем ее смерть для нас обернется. Боже, какая это была ужасная женщина!
– А что Томас? Стыдился мачехи?
– Понимаешь, Ирэн любой бы стыдился. Но мы старались закрывать на это глаза – ради отца Томаса. Он, бедненький, чувствовал себя таким виноватым, что с ним просто следовало обходиться нежнее обычного. Хотя виделись мы редко: он очень скучал по Томасу, но, кажется, именно поэтому считал, что не имеет права видеться с ним чаще. Однажды мы с ним обедали в Фолкстоне, и он что-то такое сказал – мол, не хочет бросать тень на нашу жизнь. Боюсь, если бы мы дали ему понять, что нам это все неважно, то упали бы в его глазах. Когда мы с ним встречались – признаюсь, это и было-то всего раза два или три, – он вел себя совсем не как отец Томаса, а как старинный друг семьи, позабытый и потасканный, который не знает, стоило ли ему вообще приходить. Он изобрел себе такое наказание – не видеться с нами, и это стало его второй натурой, думаю, под конец он уже и сам не хотел нас видеть. Ну а мы решили, что он, наверное, по-своему счастлив. Мы и не знали, пока не получили письмо, что у него все эти годы, проведенные за границей, сердце разрывалось из-за того, чего была лишена Порция – то есть, по его мнению, была лишена. Ему казалось, писал он, что, будучи его дочерью – тем более, если учесть обстоятельства, при которых она ею стала, – Порция выросла, не зная не только родины, но и нормальной, веселой семейной жизни. И он попросил нас подарить ей год такой жизни.
Анна замолчала, покосилась на Сент-Квентина.
– Как видишь, он нас несколько идеализировал, – сказала она.
– А много было бы толку от одного года – будь вы даже очень нормальными?
– Я уверена, в глубине души он надеялся, что мы оставим ее у себя, ну или хотя бы выдадим замуж. Если же из этого ничего не выйдет, она уедет жить за границу, к какой-то тетке, сестре Ирэн. Он просил о годе, и нам с Томасом пока не очень хочется думать, что будет потом. Знаешь, бывают годы, а бывают годы – иногда они удивительно долго тянутся.
– По-твоему, этот год из таких?
– Ну, со вчерашнего дня мне именно так и кажется. Но, разумеется, Томасу я этого сказать не могу… Да, знаю, знаю, мы уже почти у двери, вон она. Но неужели нам и правда пора домой?
– Ну, это уж тебе решать. Но когда-нибудь да придется. Сейчас без пяти минут четыре: хочешь, перейдем через вон тот мост и еще раз прогуляемся вокруг озера?.. Но, сказать по правде, Анна, уже заметно холодает… А потом, может быть, все-таки выпьем чаю? Или мысль о чае, которого мне, кстати, ужасно хочется, тебе претит, потому что мы будем пить его не одни?
– Может быть, Лилиан позвала ее на чай к себе.
– Лилиан?
– А, Лилиан – это ее подруга. Но она так редко к ней ходит, – с отчаянием сказала Анна.
– Право же, Анна, послушай – нельзя так расстраиваться.
– Легко тебе говорить, ты ведь не читал всего, что она написала. И еще, знаешь, тебе вечно кажется, будто чужую жизнь можно легко объяснить. Но, боюсь, эту – нельзя, вот правда.
Возле железного моста с парапетом в косую решетку стояли три тополя, как три замороженных метелки. Сент-Квентин остановился на мосту – затянув шарф и поплотнее укутавшись в пальто, он с тоской поглядел на окно гостиной Анны: было видно, как весело переливается огонь в камине.
– Кажется, тут и вправду все очень непросто, – сказал он и пошел дальше решительным шагом смирившегося со своей участью человека.
За мостом тропинка уходила в гору, вглубь Риджентс-парка, в пустое, холодное, глиняное молчание под темнеющим небом. Сент-Квентину, которому сегодня было не до природы, стоило большого труда оставить позади уютную гостиную, тем более такую уютную, как у Анны.
– Да какое там непросто, – сказала Анна. – Глупо, с самого начала. Кругом сомнительная история, ни на грош приличия. Мистер Квейн был по-прежнему очень привязан к своей первой жене, матери Томаса, и не выказывал ни малейшего желания разводиться, ни при каких условиях. И до Ирэн, и при ней он у первой миссис Квейн из рук ел. Она была из таких, знаешь, неумолимо приятных женщин, от чьей приятности никак нельзя увернуться. Такая понимающая, что ее понимание застревало у тебя в зубах. Пока они жили вместе, он чувствовал себя просто превосходно – у него не было другого выхода. Когда он отошел от дел, они перебрались в Дорсет, в прелестнейший домик, который она купила, чтобы ему было куда отойти от дел. И вот, когда они уже прожили несколько лет в Дорсете, бедняжка мистер Квейн начал поглядывать по сторонам. Они поженились совсем юными – хотя Томас, отчего-то, появился у них далеко не сразу, – и у мистера Квейна совершенно не было времени натворить глупостей. И еще, мне кажется, она попросту внушила ему, что он гораздо серьезнее, чем считал он сам. С другой стороны, она верила, что в глубине души все мужчины – большие мальчишки, и изо всех сил не давала ему повзрослеть. Оказалось, тут есть свои недостатки. На фотографиях, сделанных как раз перед тем, как грянул гром, он выглядит полнейшим, наивнейшим старым дурнем. Солидным, глупым, глубоко добродетельным. Он выглядит так, словно бы и сам рад оскандалиться. Но она ни за что бы не позволила ему оскандалиться и, считай, отняла у него все игрушки. Он частенько говорил, что, мол, превыше всего ценит ее веру в него, но, наверное, его это все порядком раздражало. Согласись, это ведь довольно оскорбительно.
– Да, – ответил Сент-Квентин. – Наверное.
– Я тебе об этом уже рассказывала?
– Всю историю – нет. Впрочем, кое о чем я уже догадался.
– Право же, вся история – довольно долгая, и у меня от нее портится настроение… В общем, все, что случилось, случилось, когда мистеру Квейну было лет, наверное, пятьдесят семь, а Томас учился в Оксфорде на втором курсе. Они уже не первый год жили в Дорсете, и казалось, что мистер Квейн обосновался там до конца жизни. Он играл в гольф, теннис и бридж, руководил бойскаутами и заседал в нескольких комитетах. Вдобавок к этому он замостил чуть ли не все дорожки в саду, а когда закончил с дорожками, она разрешила ему повернуть ручей. От собственного общества он чаще всего приходил в ужас, поэтому вечно таскался за ней, как хвостик. Все в Дорсете радовались, видя их вместе, потому что они были как два голубка. Лондон она никогда особенно не любила, поэтому настояла на том, чтобы он пораньше отошел от дел – не думаю, конечно, что дела у него шли так уж бойко, однако работа – единственное, что у него было своего. Но едва она увезла его в Дорсет, как сама же – милейшая женщина – начала постоянно, где-нибудь раз в два месяца, отправлять его в Лондон, чтобы тот мог провести пару дней у себя в клубе, повидаться со старыми друзьями, сходить на крикет, ну и тому подобное. В Лондоне он быстро скисал и пулей летел домой, а ей это было как бальзам на душу. Но однажды он телеграфировал ей из Лондона и попросился остаться еще на пару дней, а почему – мы узнали уже потом. Тогда он как раз и познакомился с Ирэн, в Уимблдоне, на званом ужине у приятеля. Она только что вернулась из Китая – этакая вдовушка, что называется, не промах, с влажными ладошками, сиплым голоском и каким-то дефектом слезных протоков, отчего казалось, будто у нее глаза всегда на мокром месте. Прибавь к этому жалобный взгляд из-под ресниц и такое, знаешь, пушистое гнездо на голове, в котором шпилек не доищешься. Ей тогда было, наверное, лет двадцать девять. Она почти никого не знала, но кто-то выхлопотал ей место в цветочной лавке, она ведь была не промах. Она снимала комнатушку в Ноттинг-Хилле, и жена этого уимблдонского друга взяла ее под свое крылышко. Мистера Квейна усадили рядом с ней за ужином. После ужина мистер Квейн, у которого уже тогда ум зашел за разум, проводил ее на такси до Ноттинг-Хилла и получил приглашение зайти на чашечку «Хорликса». Никто не знает, что случилось, а уж почему – и подавно. Но с того самого вечера мистер Квейн напрочь потерял голову. Он остался в Лондоне на целых десять дней, и, как потом выяснилось, к концу этого срока они с Ирэн ужасно нашалили. Я часто представляю себе эти утренние часы в Ноттинг-Хилле – как Ирэн, истекая слезами, ищет шпильки, а мистер Квейн причитает, что это он во всем виноват. Его жена, конечно, никаких женских хитростей знать не знала – слишком хорошо была воспитана, но у Ирэн их, я думаю, было хоть отбавляй, кому-то ведь и такое по вкусу. Не сомневаюсь, что она капитулировала, заламывая руки. Пусть знает, что она впервые жертвует своей репутацией – скорее всего, кстати, и вправду впервые. Нет, легкой добычей она не была. И уж будь спокоен, она сумела внушить мистеру Квейну, что теперь ее невеликая жизнь – полностью в его руках. На десятый день он, наверное, и сам уже толком не понимал, кто он – злодей или святой Георгий.
В общем, в Дорсет он вернулся задумчивый и взбудораженный. Начал было копать яму под пруд с кувшинками, но на исходе второй недели промямлил что-то насчет портного и снова умчался в Лондон. И так, кажется, продолжалось все лето – они с Ирэн познакомились в мае. Томас говорит, что когда он в июне приехал домой на каникулы, то сразу заметил – дома что-то не так, но мать и словом ни о чем не обмолвилась. Томас уехал с другом за границу, а когда вернулся в сентябре, отец уже впал в чернейшую меланхолию – это и слепой бы заметил. Пока Томас был дома, тот ни разу не отлучился в Лондон, но теперь эта крошка принялась писать ему письма.
Бедный Томас как раз собирался уезжать в Оксфорд, когда бомба и разорвалась. В два часа ночи мистер Квейн поднял мать Томаса с постели и выложил ей все как есть. Ты, наверное, и сам уже догадался, что случилось – Ирэн обзавелась Порцией. Об этом она сообщила ему и более ничего не предпринимала, так и сидела у себя в Ноттинг-Хилле, гадая, что же будет дальше. Миссис Квейн, как всегда, оказалась на высоте: она утерла мистеру Квейну слезы, потом сразу же пошла на кухню и заварила чаю. Томас, который спал с ними на одном этаже, проснулся от каких-то непривычных звуков – выглянул за дверь, увидел, что в коридоре горит свет, и тут мимо него прошествовала мать в халате и с подносом в руках, точь-в-точь, говорил он, как больничная сиделка. Она улыбнулась Томасу, но ничего не сказала: тот, конечно, подумал, что отцу плохо, а не что тот изменил матери. Мистер Квейн же, судя по всему, не унимался всю ночь: молотил кулаком по краю их огромной кровати и приговаривал: «Она такая отважная девочка!» Потом он выудил письма Ирэн и три ее фотографии и всучил все это богатство миссис Квейн. Она прочла письма, вежливо похвалила фотографии, а потом сказала ему, что теперь он должен жениться на Ирэн. Когда до него дошло, что ему дают отставку, он снова ударился в слезы.
Ему эта затея не понравилась с самого начала. Вообще, если хочешь докопаться до того, почему это все случилось, нужно сразу понять: мистер Квейн был тупицей. У него в голове одно никак не соединялось с другим. С Ирэн он путался будто в каком-нибудь волшебном лесу, но меньше всего ему хотелось остаться в этом лесу навеки. В реальной жизни ему нравились простота и надежность, а простота и надежность – это миссис Квейн. Думаю, он и сам толком не мог отличить нежную к ней привязанность от зависимости, впрочем, разве кто поймет такого старого дурня. Но, как бы там ни было, он даже не сообразил, что поставил на карту все. Свой дом он любил как ребенок. Он всю ночь просидел на краю этой их огромной кровати, завернувшись в одеяло, и взахлеб рыдал и каялся. Но миссис Квейн, разумеется, была непреклонна; более того, она начала упиваться всем происходящим. Она словно много лет только этого и ждала – и, по правде сказать, думаю, она и в самом деле этого ждала, сама того не зная. У мистера Квейна осталось последнее средство – свернуться клубочком, уснуть и понадеяться, что наутро все станет по-прежнему. Поэтому в конце концов он свернулся клубочком и уснул. Она – вряд ли… Ты не заскучал, Сент-Квентин?
– Отнюдь нет, Анна. Честно говоря, у меня кровь в жилах стынет.
– Миссис Квейн спустилась к завтраку хоть и разбитой, но вся так и светилась, а мистер Квейн из кожи вон лез, чтобы ей угодить. Томас, конечно, понял, что случилось ужасное, и хотел только одного – подольше ни о чем не знать. После завтрака мать сказала, что он уже взрослый мужчина, вывела его в сад и представила ему всю историю в самом что ни на есть идеалистическом виде. Томас видел, как отец подглядывал за ними, прячась за портьерами в курительной комнате. Миссис Квейн вынудила Томаса согласиться, что они должны помочь отцу, Ирэн и их будущему несчастному ребенку и сделать все, что в их силах. При одной мысли о ребенке Томасу делалось ужасно стыдно за отца. Это все было до того позорно и нелепо, что он до сих пор не может подобрать для всего этого слов. Но ему не хотелось, чтобы отец уходил, и он спросил миссис Квейн, так ли уж это нужно. Нужно, ответила она. Ночью она все продумала, вплоть до того, на каком поезде он уедет. Она прямо-таки начала носиться с этой Ирэн: письма Ирэн подействовали на нее куда сильнее, чем на мистера Квейна, который не любил ничего написанного. Знаешь, я боюсь, что тогда Ирэн ей вообще нравилась гораздо больше, чем я потом. Если мистер Квейн еще и надеялся, что все как-нибудь образуется или что его жена все как-нибудь уладит, то все эти надежды, наверное, испарились, пока он глядел, как они расхаживают по саду. Его мнения вообще ни разу не спросили – а он, кстати, совершенно не одобрял разводов.
Два дня до отъезда он прожил в курительной, куда ему приносили подносы с едой, и за эти два дня миссис Квейн заразила весь дом своим идеализмом, как гриппом. Бедняжку мистера Квейна это ужасно подкосило. Романчик с Ирэн утратил для него всякую остроту, и он снова самым добродетельным образом влюбился в свою жену. Он клюнул на это в двадцать два года, и вот теперь снова – в пятьдесят семь. Разнюнился и сообщил Томасу, что его мать – святая. Через два дня миссис Квейн собрала его и отправила вечерним поездом к Ирэн. Томасу было велено отвезти отца на станцию, и всю дорогу до станции и пока они стояли на перроне мистер Квейн не произнес ни слова. Только перед самым отправлением он высунулся из окна и поманил Томаса к себе, будто хотел что-то сказать. Но сказал только: «Не смотри вслед поезду, дурная примета». И снова плюхнулся на сиденье. Томас все-таки посмотрел поезду вслед, и, по его словам, хвост удаляющихся вагонов показался ему до ужаса безысходным.
Миссис Квейн приехала в Лондон на следующий день и сразу запустила бракоразводный процесс. Говорят, даже к Ирэн зашла с добрым напутствием. Затем она – с героической стойкостью – отчалила в Дорсет, дом продавать не стала, так и осталась там жить. Мистер Квейн, который заграницу на дух не переносил, решил, что ему нужно уехать на юг Франции, и сразу же туда и отправился. Через несколько месяцев к нему приехала Ирэн, и они как раз успели пожениться. Потом, в Ментоне, родилась Порция. Ну и вот где-то там они все время и жили, в Англии почти не бывали. Мать раза три или четыре отправляла Томаса их навестить, но, по-моему, эти визиты для всех были страшно унизительными. Мистер Квейн, Ирэн и Порция вечно ютились в каких-то дешевых гостиничных номерах или в темных съемных комнатушках безо всякого вида. Мистер Квейн так и не привык к промозглым вечерам. Томас так и сказал, что отец этого не переживет, вот он и не пережил. За несколько лет до его смерти они с Ирэн приезжали в Англию, месяца на четыре, в Борнмут – наверное, потому что в Борнмуте их никто не знал. Мы с Томасом ездили к ним раза два или три, но Порцию они тогда оставили во Франции, поэтому ее я увидела, только когда она приехала к нам жить.
– Жить? Я думал, она у вас просто гостит.
– Как ни назови, это все одно и то же.
– Но почему ее назвали Порцией?
Анна с изумлением ответила:
– Да мы, кажется, этим ни разу и не интересовались.
Любовной жизни мистера Квейна хватило на еще одну прогулку вокруг озера. Раздавались свистки, парк закрывался: специально для них одну калитку держали приоткрытой, и сторож дожидался их с таким нетерпением, что Сент-Квентин перешел на величавую рысь. Вокруг парка скользили машины, морозный туман растекся в свете фонарей до самой двери дома Квейнов. Анна теперь размахивала муфтой куда беззаботнее; ей уже не так претила мысль о чае.
2
Прошуршав по коврику, парадная дверь дома номер два по Виндзор-террас со щелчком захлопнулась. Морозный воздух, проскользнувший в дом вслед за Порцией, сгинул без следа в ровном тепле коридора. Тепло уходило вверх по лестнице, за двойные белые арки. Она выронила книги, которые держала под мышкой, на столик у стены и, стягивая перчатки, подошла к батарее. Увидела промелькнувшее в зеркале свое отражение, но в коридоре было сумрачно, как в колодце, – света еще не зажигали, ни наверху, ни внизу.
Раздававшееся отовсюду эхо было неживым: она очутилась посреди затишья в жизни дома, которое, пока не подадут чай, казалось, может тянуться вечно. Верхние этажи еще не ожили, в этот дом еще никто не вернулся – ничего удивительного, что его облюбовали тишина и темнота, пробравшиеся сквозь широкие окна. Убедившись, что дома никого нет, Порция принялась греть руки.
Внизу, в подвальном этаже, открылась дверь; пауза, будто кто-то прислушивается, затем на лестнице послышались шаги. Приближались они неторопливо – шаги прислуги, которая дает себе передышку. Белые пятна – длинное лицо Матчетт и квадрат ее фартука – постепенно выплыли из темноты за аркой. Она сказала:
– А, вернулись уже?
– Только что.
– Уж я слышала. Быстро вы дверь закрыли. Опять, наверное, позабыли ключ снаружи?
– Не забыла. Нет, правда, – Порция выудила ключ из кармана.
– Вы бы не клали его в карман. Не дело, чтобы он там у вас болтался. Да и деньги тоже. Когда-нибудь все растеряете. Она ведь подарила вам сумочку?
– Я как корова с этой сумкой. По-моему, это так глупо.
Матчетт резко заметила:
– В вашем возрасте все барышни ходят с сумочками.
Досадуя на непритязательность Порции, Матчетт прищелкнула языком, от сердитого вздоха скрипнул ремень. Сумерки вытянулись между ними перегородкой, они с трудом различали друг друга. Матчетт решительно вскинула руку к выключателю между арками. Тотчас же у них над головами вспыхнула хрустальная люстра Анны, рассыпав по белому каменному полу сложные тени. Порция, в сдвинутой на затылок шляпке, обернулась к свету. Обе заморгали, наступила тишина, какая бывает, когда животные словно бы общаются, столкнувшись нос к носу.
Матчетт так и стояла, держась рукой за колонну. У нее было строгое, ироническое, прямое лицо, кожа гладко обтягивала выступающие скулы. Жесткие, курчавые, бесцветные волосы были разделены на пробор и сурово зачесаны назад, чепца она не носила. Обычно она ходила, опустив глаза, и ее мраморные, в прожилках, веки дружелюбия не выражали. В уголках рта – в эту минуту подчеркнуто сжатого – еще сохранились морщинки от последней, неохотной улыбки. И лицо, и манера держаться у нее были настороженными, недоверчивыми. Из-за этой монашеской бесстрастности ее внушительный бюст казался диковинкой, инородностью, чем-то вроде подпорки, к которой золотыми булавками крепился нагрудник фартука. Безотчетную ее тревогу выдавали только руки: одной она словно подпирала хрупкую колонну, другой – держа пальцы вразлет, как на портрете, – прижимала к бедру фартук. Пока она о чем-то раздумывала или, точнее, что-то прикидывала, ее глаза медленно двигались под опущенными веками.
Было без пяти минут четыре. Кухарка, у которой был выходной, по своему обыкновению принимала ванну. Горничная Филлис вертелась перед зеркалом в буфетной, примеряя новый чепец. Этих девушек, которым еще не исполнилось и тридцати, нанимала Анна, и поэтому среди слуг они составляли, так сказать, лагерь Анны. Матчетт же, напротив, никто не выбирал: она много лет находилась в услужении у матери Томаса Квейна, в Дорсете, и после смерти миссис Квейн приехала в номер второй по Виндзор-террас вместе с мебелью, уход за которой всегда лежал на ней. Мыла и убирала в доме теперь поденщица, миссис Вейз, а Матчетт полагалось только прислуживать Анне, Порции и Томасу. Но на деле Матчетт ревностно ограничивала круг обязанностей миссис Вейз и поэтому допоздна была на ногах. Спала она одна, в комнатке, соседствовавшей с чуланом, кухарка и Филлис жили на другом конце верхнего этажа, в просторной мансарде с видом на Парк-роуд.
Днем она тоже держалась особняком. Передняя часть подвального этажа делилась на буфетную Филлис и узкую, как щелочка, гостиную, где – по уговору, который Анна даже не пыталась оспаривать, – Матчетт проводила все свободное время. Воду для чая она кипятила себе сама, на газовой горелке, а к остальной прислуге, на кухню, выходила только ужинать: если внизу кто-нибудь забывал закрыть дверь, было слышно, как все оживлялись, едва она уходила к себе. Ее особый статус среди слуг подчеркивало и то, что она не носила чепца: девушкам Анна могла приказывать, Матчетт же – разве что предлагать. Молоденькие служанки, впрочем, не держали на Матчетт зла – строгая-то она строгая, зато в душу не лезет – и вообще, они уже давно усвоили, что идеальных мест не бывает, зато Анна – хозяйка добродушная, чтоб не сказать – невзыскательная. Никто не знал, куда ходила Матчетт в свой выходной: она была родом из Дорсета и здесь мало кого знала. Она никогда не показывала, что устала, разве только если уставали глаза: у себя в гостиной она снимала очки, которые надевала, когда шила или читала, и прикладывала ладонь ко лбу козырьком, будто бы всматриваясь в даль – только зажмурившись. Обычно тогда же она, словно желая забыться совсем, расстегивала тугие ремешки туфель, которые врезались ей в подъем. Но чаще всего она сидела с прямой, как палка, спиной и шила при свете тусклой лампочки.
На первом и втором этажах, где она работала, а Квейны жили, ее шаги – на лестнице, на паркетных половицах – звучали зловеще и в то же время вкрадчиво.
Было без пяти минут четыре, для чая еще рановато. Порция снова – серьезно, порывисто – повернулась к батарее, вытянула над ней руки, почти касаясь ее, чтобы жар сочился между растопыренных пальцев. Ладони у нее до сих пор были пятнистые от холода, кончики пальцев – бескровные.
Матчетт молча смотрела на это, потом сказала:
– Так и цыпки недолго заработать. Растереть нужно… Ну-ка, дайте мне.
Она подошла к Порции и, схватив ее за руки, принялась тереть их, больно надавливая на кожу крупными костяшками.
– Тихо, тихо, – сказала она. – Стойте смирно, не дергайтесь. В жизни не видала такой чувствительной к холоду барышни.
Порция перестала морщиться и спросила:
– А где Анна?
– Приходил этот мистер Миллер, они с ним ушли.
– Тогда можно я с тобой выпью чаю?
– Она сказала, что к половине пятого они вернутся.
– Ох, – отозвалась Порция. – Это плохо. Как думаешь, ну хоть разочек ее дома не будет?
Матчетт безучастно, ничего не говоря в ответ, нагнулась и подняла шерстяную перчатку Порции.
– Не бросайте их тут, заберите с собой, – сказала она. – И книжки тоже. Миссис Томас насчет учебников сделала особое замечание. Тут все только для красоты, ничего лишнего.
– Больше я ни в чем не провинилась?
– Она мне выговаривала насчет вашей спальни.
– Господи! Она что, туда заходила?
– Да, и, похоже, что-то ей пришлось не по вкусу, – монотонно отвечала Матчетт. – Утром спрашивала, не трудно ли, мол, мне протирать пыль, когда там такой беспорядок. Это она ваших медведей имела в виду, ну и не только. «Трудно, мадам? – говорю я ей. – Мне бы здесь было не место, начни я выискивать себе трудности». Потом я спросила – быть может, она чем-то недовольна? Она как раз надевала шляпку – мы у нее в комнате разговаривали. «Нет, что вы, нет, – отвечает она. – Я просто о вас думала, Матчетт. Если бы мисс Порция хоть что-то из этого убрала…» Я ей на это ничего не ответила, тогда она попросила подать ей перчатки. Она уже вышла было за дверь, а потом обернулась и эдак на меня посмотрела. «Эти композиции – увлечение мисс Порции, мадам», – говорю я. А она в ответ, мол, да-да, разумеется, и ушла. И больше ничего не сказала. Она не сказать чтоб чистюля, но ей важно, чтобы все было прилично.
Голос у Матчетт был ровный, бесстрастный. Договорив, она снова аккуратно поджала губы. Порция отвернулась от Матчетт и, нагнувшись над столиком, пряча лицо за волосами, принялась собирать книги. Сунула их под мышку, двинулась к лестнице.
– Я вот о чем, – продолжила Матчетт, – вы уж не давайте ей повода еще к чему-нибудь придраться. Хотя бы день-другой, пусть это сначала поуляжется.
– Но зачем она ходила ко мне в комнату?
– Захотелось, вот и ходила. Это ее дом, уж нравится вам это или нет.
– Но она же сама всегда говорит, что это моя комната… Она трогала какие-нибудь вещи?
– Откуда мне знать. А если трогала, ну и что с того? У вас никаких тайн быть не должно, в вашем-то возрасте.
– Я заметила, что у одного медведя с пирога осыпался зубной порошок, но думала – это из-за сквозняка. Могла бы и догадаться. Вот птицы сразу чувствуют, если в гнезде были чужие, и улетают.
– И куда это, скажите на милость, вы улетите? Вы идите, идите к себе, не то столкнетесь тут с ней и мистером Миллером. Они гулять долго не будут, по такому-то холоду.
Вздыхая, Порция стала подниматься к себе в комнату. На массивных каменных ступенях лежал такой толстый ковер, что ее шагов совсем не было слышно. Иногда она задевала белую стену – то локтем, то краешком расстегнутого и какого-то школьнического с виду пальто. Поднявшись на пролет, она остановилась, свесилась через перила.
– А мистер Сент-Квентин Миллер останется к чаю?
– А если и останется, что с того?
– Он слишком много разговаривает.
– И хорошо, значит, вас не съест. Ну-ка, не глупите.
Порция стала подниматься дальше. Услышав, как хлопнула дверь в ее комнату, Матчетт снова спустилась в буфетную. Филлис, в новом щегольском чепце, сновала туда-сюда, собирала поднос для чая, готовясь нести его в гостиную.
Когда Анна и вслед за нею Сент-Квентин вошли в гостиную, там как будто никого не было, но затем, в свете камина и единственной горевшей в дальнем углу лампы, они заметили сидевшую на табурете Порцию. Ее темное платье почти сливалось с темной лакированной ширмой, но едва увидев их, Порция вежливо встала и пожала руку Сент-Квентину.
– Вот ты где, – сказала Анна. – Давно пришла?
– Недавно. Я умывалась.
Сент-Квентин сказал:
– Нечистое это дело – учение!
Анна, с наигранной живостью, продолжила:
– Как день прошел?
– У нас была конституционная история, а еще – музыкальный анализ и французский.
– Подумать только! – воскликнула Анна, взглядывая на поднос с неизбежными тремя чашками.
Она зажгла остальные лампы, бросила муфту на кресло, стянула шубку и две надетые под нее вязаные кофточки. Перекинула всю эту охапку одежды через руку, огляделась.
Порция сказала:
– Давай я отнесу.
– Ты просто ангел… И шляпку тогда тоже возьми.
– Сама любезность… – заметил Сент-Квентин, когда Порция вышла.
Но Анна, облокотившись на каминную полку, глядела на него со стоическим унынием. В миленькую гостиную – наглухо задернутые аквамариновые портьеры, софа с изогнутыми подлокотниками, расставленные полукругом желтые кресла – не проникало ни малейшего сквозняка, лампы под шелковыми абажурами отбрасывали свет на зеркала и самаркандские ковры. Пахло фрезиями и сандалом, до чего же здесь было хорошо после холодного парка.
– Что ж, – сказал Сент-Квентин, – чаю мы все выпьем с удовольствием.
Шумно, удовлетворенно вздохнув, он уселся в кресло, скрестил ноги, запрокинул голову и, полуприкрыв веки, уставился на огонь. Всем своим видом он показывал, что не желает иметь ничего общего с царившим в комнате напряжением, и тем самым только его усиливал. Все вокруг было таким приятным… Анна барабанила пальцами по мрамору.
Он сказал:
– Дорогая моя Анна, тебе предстоит пережить еще очень и очень много таких чаепитий.
Вернулась Порция, сказала:
– Я положила вещи тебе на кровать. Я все правильно сделала?
Пить чай она снова уселась на табурет у камина, поставила тарелку на колени, чашку с блюдцем – на пол. Пила она, ссутулившись, низко наклоняясь к чашке. Сидя боком к камину, она со своего места прекрасно видела и Анну, которая разливала чай и курила, и Сент-Квентина, то и дело стряхивавшего масляные хлебные крошки с пальцев на носовой платок. От ее взгляда – спокойного, ровного, незаметного – не укрылось ни одно их движение. Зазвонил телефон, Анна сердито перегнулась через подлокотник софы, сняла трубку.
– Да, это я, – ответила она. – Но в это время я обычно не дома, меня нет, говорю же. Я так и думала, ты ведь был так занят. А разве нет?.. Да, конечно, есть… А без этого никак нельзя обойтись?.. Ладно, тогда в шесть или в половине шестого.
– В четверть седьмого, – вставил Сент-Квентин. – Я уйду в шесть.
– В четверть седьмого, – сказала Анна и повесила трубку, совершенно не изменившись в лице. Она снова откинулась на спинку софы. – Сплошное притворство…
– Неужели опять? – сказал Сент-Квентин.
Они переглянулись.
– Сент-Квентин, у тебя платок весь в масле.
– Все из-за твоих превосходных тостов…
– Ты им во все стороны размахиваешь… Порция, неужели тебе и вправду нравится сидеть на таком стуле, без спинки?
– Я очень люблю этот табурет. Знаешь, Анна, я сегодня шла пешком до самого дома.
Анна ничего не ответила, она и не думала слушать. Сент-Квентин сказал:
– Надо же. А мы гуляли по парку. Озеро замерзло, – добавил он, отрезав себе еще пирога.
– Ну, оно ведь не могло совсем замерзнуть, лебеди там плавают, я сама видела.
– Да, ты права, оно не совсем еще замерзло. Анна, что с тобой такое?
– Прости, я задумалась. До чего же у меня слабовольный характер, просто терпеть не могу. И терпеть не могу, когда люди этим пользуются.
– Боюсь, что с твоим характером уже ничего нельзя поделать. Он уже сложился, мой – так точно. А вот Порции повезло, ее характер еще формируется.
Порция уставилась на Сент-Квентина ничего не выражающим темным взглядом. Нехорошая, еле заметная улыбочка, уже совсем не детская, скользнула у нее по лицу, исчезла. Она по-прежнему молчала. Сент-Квентин довольно резко поменял позу, снова скрестил ноги.
Анна сказала, борясь с зевотой:
– И кто там знает, кем она вырастет… Порция, у тебя на каминной полке сотни, просто сотни медведей. Они все из Швейцарии?
– Да. Боюсь только, к ним пыль липнет.
– Пыли я не заметила, просто подумала, надо же, их тут сотни. И каждый, наверное, вырезан вручную каким-нибудь швейцарским крестьянином… Я заходила к тебе – повесила твое белое платье в шкаф.
– Если хочешь, Анна, я их уберу.
– Нет-нет, зачем же? У них ведь там, кажется, чаепитие.
У Квейнов была еще внутренняя линия, и когда по телефону звонили из одной комнаты в другую, вместо звонка раздавалось пронзительное жужжание. Теперь телефон зажужжал, и Анна потянулась за трубкой со словами:
– Это, наверное, Томас. – Она сняла трубку. – Алло?.. Да, у нас Сент-Квентин. Конечно, дорогой, скоро.
Она повесила трубку.
– Томас пришел с работы, – сказала она.
– Могла бы сразу ему сказать, что я уже ухожу. Зачем он звонил?
– Просто сказать, что он уже дома.
Анна сложила руки на груди, откинула голову, поглядела в потолок. И вдруг сказала:
– Порция, спустись-ка к Томасу, он в кабинете.
Порция просияла.
– Он хотел, чтобы я зашла? – спросила она.
– Может быть, он еще не знает, что ты уже дома. Мне кажется, он очень тебе обрадуется… Скажи ему, что у меня все хорошо и, когда Сент-Квентин уйдет, я сразу к нему спущусь.
– И передай ему от меня привет.
Осторожно поднявшись, Порция поставила чашку с тарелкой обратно на поднос. Затем, держась до дрожи прямо, ступая широко, мягко – и все равно по-сиротски неприметно – она направилась к двери. Шла она пятясь, не отворачиваясь, будто перед особами королевской крови – и Сент-Квентину с Анной ничего не оставалось, кроме как смотреть на нее, пока она не уйдет. На ней было темное шерстяное платье – сказывался превосходный вкус Анны, – застегнутое на пуговицы до самого горла, перехваченное тяжелым ремнем. Ремень съезжал с худеньких бедер, она то и дело судорожно за него хваталась и подтягивала повыше. Из коротких рукавов торчали очень тонкие руки с крупными, хрупкими локтями. Ее тело состояло сплошь из перетекавших друг в друга ломаных и рваных линий; оно было присобрано на живую нитку, но двигалось с ощутимой несобранностью: каждое движение было немного чрезмерным, словно изнутри всякий раз прорывалась какая-то тайная сила. И в то же время она держалась настороженно, памятуя о мире, в котором ей приходится жить. Ей было шестнадцать, она теряла детскую величавость. Сосредоточенное внимание Анны и Сент-Квентина летело на нее прибоем, приступом, отчаянно пытаясь поскорее выбраться из гостиной, она сжала губы и стиснула кулаки, руки плотно прижала к бокам. Добравшись до двери, она церемонно ее распахнула, затем, придерживая одной рукой, обернулась, желая с гордостью показать, что снова обрела дар речи. Но Анна тотчас же налила еще чашку остывшего чаю, Сент-Квентин пошаркал ногой по ковру, разглаживая какую-то складку. Она послушала их молчание и наконец захлопнула дверь.
Едва дверь закрылась, Сент-Квентин сказал:
– А все-таки мы себя могли бы и получше вести. Зря ты это, Анна, дались тебе эти медведи.
– Сам знаешь, почему так вышло.
– И зачем ты так кривлялась по телефону?
Анна отставила чашку и захихикала.
– Зато, – сказала она, – ей будет о чем написать. Надо же, мы кажемся ей интересными. Но, если подумать, Сент-Квентин, мы чертовски скучные.
– Ну нет, я себя скучным не считаю.
– Я тоже не считаю. Не думаю, что я скучная. Но, знаешь, она, как бы это сказать, нас дорисовывает. Упрямо стоит на том, что мы чем-то ото всех отличаемся, хотя я толком не понимаю, чем именно.
– Две злюки… Какой у нее высокий лоб!
– Это, дорогой, чтобы удобнее было о тебе думать.
– И все же интересно, откуда у нее это. С твоих слов я понял, что ее мать из себя ничего особенного не представляла.
– А, так это от Квейнов, правда, ты только посмотри на Томаса, – ответила Анна и затем, заметно потеряв интерес к разговору, свернулась клубочком на софе. Вскинув руки, она потрясла ими, чтобы сползли рукава, и залюбовалась собственными запястьями. На одном она носила бесшумные бриллиантовые часики. Сент-Квентин, не замечая, что его не замечают, продолжал:
– Как по мне, высокий лоб – признак злости… Это ты с Эдди разговаривала?
– По телефону? Да. А что?
– Мы все знаем, что Эдди невеликого ума, но ты-то зачем ему таких глупостей наболтала? «Меня нет, меня никогда нет дома». Пфф! – фыркнул Сент-Квентин. – Впрочем, это, конечно, не мое дело.
– Да, – ответила Анна, – кажется, не твое.
Она хотела еще что-то добавить, но тут открылась дверь и в комнату вплыла Филлис, чтобы убрать со стола. Сент-Квентин поглядел на свой платок, нахмурился при виде масляных пятен и сунул его в карман. Они даже не стали притворяться, что беседуют. Когда поднос унесли, Анна сказала:
– Вот теперь мне точно пора спуститься к Томасу. Пойдешь со мной?
– Нет. Если бы он хотел меня видеть, – сказал Сент-Квентин безо всякой обиды, – он бы к нам зашел. Я уже ухожу.
– Кстати, все хочу спросить – как продвигается книга?
– Очень неплохо, спасибо, – быстро и очень сухо ответил он. И поинтересовался в ответ: – А что будет, когда ты к нему спустишься? Ты выставишь оттуда Порцию?
– Из рабочего кабинета ее брата? Разве я посмею?
Томас Квейн стоял возле электрического камина, сжимая в руке стакан, хмурясь, стараясь отвлечься от мыслей о работе, когда его сестра вошла в кабинет. Ее лицо – волосы, убранные с высоких висков под сеточку, широко расставленные, рассеянные темные глаза – словно выплыло к нему из-за настольной лампы. Просто войти сюда – означало совершить интимный поступок, потому что это была личная комната Томаса. Он никогда здесь не работал, разве что очень усердно отдыхал, но комната все равно звалась рабочим кабинетом – намек на то, что это серьезное место, где нужно соблюдать тишину. Здесь были матово-серые стены и занавески голубого – пикассовского – цвета, кресла и софа, обитые полосатым тиком, журнальные столики, книжные полки и огромный стол, не меньше обеденного. Поняв по шагам, что в кабинет вошла не Анна, Томас раздраженно зашаркал ногами по коврику из козьего волоса.
– А, привет, Порция, – сказал он. – Как дела?
– Анна сказала, ты будешь не против, если я зайду.
– А что Анна делает?
– Сидит с мистером Миллером. По-моему, они ничем особенным не заняты.
Покрутив недопитую жидкость в стакане, Томас сказал:
– Похоже, я слишком рано вернулся.
– Устал?
– Нет. Нет, я только что пришел.
Порция оперлась на спинку кресла, провела пальцем сначала по красной полоске, затем – по серой, не отрывая внимательного взгляда от пальца. Томас молчал, и она, обойдя кресло, уселась в него – подтянула колени, обхватила себя за локти и уставилась в красную прогалину электрокамина. Томас тоже уселся – на полу, возле другого края каминного коврика, тоже уставившись, правда, в пустоту, остро ощущая скуку и усталость. Когда в это время по вечерам с ним был кто-то, кроме Анны, когда кому-то, кроме Анны, было что-нибудь от него нужно, Томасу делалось невыносимо тяжело. В это время по вечерам он хотел только одного – чтобы лицо обмякло до пустых линий. А когда кто-то сидел с ним рядом, ему казалось, будто он обязательно должен что-то из себя представлять, нацепить какое-нибудь выражение. Но, по правде сказать, между шестью и семью часами вечера он почти ни о чем не думал и почти ничего не чувствовал.
– На улице жуткий холод, – наконец нехотя сказал он. – Кажется, еще чуть-чуть – и лицо отвалится.
– У меня чуть не отвалилось! Вместе с руками. Я шла пешком всю дорогу.
– Анна выходила на улицу, не знаешь?
– По-моему, гуляла в парке.
– Сумасшедшая, – любовно сказал Томас.
Он вытащил портсигар и рассеянно в него заглянул: пусто.
– Будь добра, – попросил он, – передай сигаретницу. Нет-нет, она у тебя прямо под локтем… Чем сегодня занималась?
– Хочешь, наполню портсигар?
– Ой, спасибо огромное, спасибо… Так чем, говоришь, занималась?
– Конституционной историей, музыкальным анализом и французским.
– И тебе нравится? В смысле – как, справляешься?
– По-моему, история – грустная штука.
– Не просто грустная – скользкая, – сказал Томас. – С самого начала сплошное вранье, просчеты и мошенничество. Непонятно только, чего мы теперь с ней так носимся, можно подумать, что-то изменится к лучшему.
– Но разве раньше люди не были храбрее?
– Выносливее. И по кругу не бегали. Тогда у них еще было будущее. А когда стоишь на краю, куда там дальше двигаться.
Порция непонимающе на него посмотрела, потом сказала:
– Я неплохо знаю французский. Получше остальных девочек.
– Ну уже кое-что, – сказал Томас и замолчал.
Он сидел напротив Порции, с другой стороны камина – ссутулившись и медленно поводя головой из стороны в сторону с напряженным, затравленным видом, будто животное, которому предлагают что-то, что ему не нравится. У Томаса были очень темные волосы, вечно гладко причесанные, и решительно очерченные брови, такие же, как у отца и Порции. Выражение лица у него тоже было отцовское – упрямое, но за упрямством, однако, угадывалась глубокая нерешительность. Несмотря на внушительной лепки лоб и крупную голову, к тридцати шести годам его приветливое и подвижное лицо уже слегка одрябло и как будто бы свисало с черепа. Глаза и рот говорили о нем что-то, но не все; казалось, они пребывают совершенно отдельно от чего-то в нем важного. У него был хмурый, а временами даже высокомерный вид человека, осознающего, что он не совсем верно распорядился своей судьбой, словно у какого-нибудь второстепенного римского императора. Одной рукой он придерживал стакан на подлокотнике кресла, а другую свесил вниз, будто выронил что-то и теперь рассеянно это нащупывает. Было ясно, что Томасу сейчас совершенно нечего сказать. Шум Лондона доносился сквозь закрытые и занавешенные окна как сквозь вату, свет лампы обводил комнату почти призрачными кругами, огонь отбрасывал жаркий свет на коврик. В доме стояла такая напряженная, такая всеобъемлющая тишина, что казалось, кроме них тут никого и нет. Порция вскинула голову, будто бы вслушиваясь в эту тишину.
Она сказала:
– После гостиниц дома так тихо. Я все никак к этому не привыкну. В гостиницах все время слышно других людей, а когда нанимаешь квартиру, нужно вести себя потише, чтобы тебя никто не услышал. Может быть, в дорогих квартирах все и не так, но в наших мы старались вести себя очень тихо, иначе на нас сразу накидывался хозяин.
– А я думал, французам до этого и дела нет.
– Мы всегда нанимали комнаты в чьем-нибудь доме. Маме так больше нравилось – если вдруг что-то случится. Но в последнее время мы жили в отелях.
– Ужас какой, – сказал Томас, старательно поддерживая беседу.
– Наверное, если до этого ты жил в собственном доме. Но нам с мамой это даже отчасти нравилось. За ужином мы придумывали разные истории про других постояльцев, и так весело было глядеть, как люди приходят и уходят. А с некоторыми постояльцами мы даже знакомились.
Томас рассеянно ответил:
– Тебе, наверное, недостает всего этого.
Она отвернулась, и наступила такая тишина, что Томас даже забарабанил по полу пальцами. Он сказал:
– Конечно, я понимаю, что дело не только в этом. Чертовски жаль, что так вышло с твоей матерью, – ужасная несправедливость.
Она ответила с удивительным самообладанием:
– Мне у вас тоже хорошо, Томас.
– Жаль лишь, мы толком не можем тебя развлечь. Была бы ты постарше.
– Но тогда я, наверное…
Она замолчала, потому что Томас хмуро разглядывал пустой стакан, раздумывая, не выпить ли ему еще. Так ничего и не решив, он с сомнением покосился на стопку книг на полу, доходившую ему до локтя, на сложенные сверху афишки и журналы. Их он тоже отверг, поставил стакан на пол и потянулся за лежавшей на краю стола «Ивнинг Стандард».
– Ты не возражаешь, – спросил он, – если я взгляну?
Он мрачно прочел пару заголовков, отложил газету, подошел к столу и запальчиво нажал на кнопку домашнего телефона.
– Послушай, – сказал он в трубку. – Сент-Квентин у нас что, живет?.. Тогда сразу, как только уйдет… Нет, не надо… Да, похоже на то.
Он повесил трубку и взглянул на Порцию:
– Похоже, я сегодня рано, – сказал он.
Но она только посмотрела сквозь него, и Томас в полной мере ощутил, каково это – когда тебя не замечают… Она же видела пансион среди швейцарских скал, который на целый вечер окутывало дождем. Летние дожди в Швейцарии – серые, под их пологом хорошо думается. У самого края обрыва, за штакетником, в белой дымке черной прорезью виднелось озеро. Там они вечно ходили по краю – последние дни своей жизни вместе. Опасная высота была частью их жизни там, наверху, которая оказалась концом их жизни вместе. В тот вечер они прибыли из Люцерны последним пароходом, подняли головы и, увидев сквозь дождь огни деревни – на одном уровне со звездами, поняли, что приехали домой. Рука об руку они вскарабкались по отвесной петляющей тропинке, поддерживая друг друга за локти, слушая, как шуршит в соснах ночной дождь; им было совсем не страшно. Они всегда выбирали жилье там, где сезон еще не начался, когда еще не работали фуникулеры. Остальные постояльцы пенсьона были немцы или швейцарцы: здание было деревянное, с резными балкончиками. В их номере, хоть и самом дальнем, с окнами на сосновый лес, тоже имелся балкон, и они, бывало, сбегали из салона и сидели там долгими дождливыми днями. Лежали на кроватях – укрывшись пальто, оставив окно нараспашку – и вдыхали запах мокрого дерева, слушали, как дребезжит водосточный желоб. А еще – читали вслух друг другу купленные в Люцерне таушницевские романы. Чайные принадлежности, спиртовка и лиловая бутылочка денатурата стояли на шатком комодике между кроватями; в четыре часа Порция принималась готовить чай. Ели они, поочередно откусывая то от плитки шоколада, то от бриоши. Они обожали открытки и завешивали сосновые стены своими набросками; выстиранные чулки сушили на батарее, хоть отопления и не было. Иногда из туманной дали доносился звон коровьих бубенцов, из соседней комнаты – голоса людей, говоривших по-немецки. Часто случалось так, что между пятью и шестью часами дождь переставал и по стволам сосен сползал влажный свет. Тогда они слезали с кроватей, надевали ботинки и спускались по деревенским улочкам к обзорной площадке над озером. Смотрели сквозь клочья тумана, как шестичасовой пароход, пыхтя, огибает скалу и причаливает к пристани. Или пытались прочесть названия солидных, еще не открывшихся отелей на другом берегу. Разглядывали высокие шале, втиснутые в скобки лугов, сокрушались, что нет бинокля, но бинокль мистера Квейна отослали домой, Томасу. Возвращаясь обратно, они видели, как по деревне проводят коров – добрых коров, мокрых, спотыкающихся коров, которых преследует звук их же собственных колокольцев. Иногда, заслышав приглушенные звуки Angelus[4], разносившиеся по нагорью, Ирэн вздыхала, потому что когда-то очень любила ходить в церковь. Иногда они воровато прокрадывались в католическую церквушку, боясь, что поступают плохо, что припадают к божьей милости без спроса. Когда они уехали из этой высокогорной деревни, когда они уехали навсегда, большие отели только-только начали открываться и назавтра должны были пустить фуникулер. Они спустились на пролетке по знакомой тропинке-зигзагу, Ирэн стонала и цеплялась за руку Порции. Уезжая, Порция не плакала по деревне, потому что матери было очень больно. Но она все думала о ней, пока сидела в той люцернской клинике, где ее мать умерла после операции; она умерла в шесть вечера, в их самое счастливое время дня.
Зажужжали часы Томаса – вот-вот пробьет шесть. Шесть вечера, но не июньского. В такое время вся равнина, наверное, покрыта снегом, а там, где нет снега, темно, и только за ставнями светятся огоньки, ну и еще, может быть, горят огни в церкви. Но на нашей улице, должно быть, стоит полнейшая снежная тишина, и снег лежит и на нашем балконе тоже.
– Утром на озере был лед, – сказала она.
– Да, я тоже видел.
– Но днем он треснул, там плавали лебеди… Наверное, потом оно опять замерзнет.
Было слышно, как в холле Сент-Квентин прощается с Анной. Томас схватил «Ивнинг Стандард» и сделал вид, что читает. Порция прижала ладони к глазами, быстро вскочила и принялась разбирать книги на стоявшем в другом конце комнаты столике, чтобы держаться ко всем спиной. Столик был завален книгами, которые больше было некуда деть: Анне хотелось, чтобы комната выглядела уютно и по-домашнему, Томас же просто устроил здесь беспорядок безо всякой системы. Сент-Квентин с прощальными словами хлопнул входной дверью, и Анна, улыбаясь, вошла в кабинет. Казалось, будто Томас сначала досчитал до трех и только потом взглянул на нее поверх «Ивнинг Стандард».
– Ну вот, дорогой, – сказала Анна, – бедняжка Сент-Квентин ушел.
– Надеюсь, ты не выставила его за дверь?
– О нет, – рассеянно ответила Анна, – он, как обычно, вскочил и умчался. – Увидев на полу стакан Томаса, она спросила: – Решили с Порцией выпить?
– Нет, это мой.
– Ну почему же нельзя поставить стакан на стол? – Она прибавила, погромче: – Порция, прости, что напоминаю, но не пора ли тебе садиться за уроки? Тебе что-нибудь задали? Тогда вечером сможем все вместе сходить в кино.
– Мне нужно написать сочинение.
– Дорогая, у тебя как будто нос заложен. Ты не простудилась ли сегодня?
Порция развернулась, взглянула на Анну – и та осеклась, хотя явно собиралась сказать что-то еще. Сжав губы, вцепившись в ремень, Порция – с горестной решимостью – прошла мимо Анны и вышла за дверь. Анна подошла к двери, убедилась, что она закрыта, и воскликнула:
– Томас, ты довел ее до слез!
– Неужели? Кажется, она тоскует по матери.
– Боже правый! – поразилась Анна. – Но с чего вдруг? Отчего она сейчас-то взялась по ней тосковать?
– Ты сама говоришь, что я ничего не смыслю в чувствах других людей – откуда же мне знать, что у них эти чувства вызовет?
– Наверное, ты чем-нибудь ее расстроил.
Томас, пристально глядя на Анну, сказал:
– Раз уж на то пошло, это ты меня расстраиваешь.
– Нет, послушай, – сказала Анна, взяв его за руку, но держа ее на некотором от себя расстоянии. – Она что, действительно тоскует по Ирэн? Ужасно, если это правда. Все равно как если бы в доме завелся тяжелобольной. Но, конечно, тогда мне ее очень жаль. Как бы так еще сделать, чтобы она мне больше нравилась.
– Или даже полюбить ее.
– Мой дорогой Томас, никого нельзя полюбить нарочно. И кроме того, неужели ты вправду хочешь, чтобы я ее полюбила? Чтобы жила ей одной, дожидалась ее возвращения? Нет, тебе всего-навсего хочется, чтобы я делала вид, будто люблю ее. Но я совсем не умею делать вид – я гадко обошлась с ней за чаем. На то, правда, были свои причины.
– Вовсе не обязательно лишний раз мне напоминать, как ты всем этим недовольна.
– Ладно, в конце концов, она в каком-то смысле – часть тебя, а я ведь за тобой замужем. Кого ни возьми – у всех в семье что-нибудь да не так. Так что, ради бога, не надувайся.
– Ты сказала, что мы идем в кино? Я не ослышался?
– Нет, не ослышался.
– Но почему, Анна, почему? Нам уже которую неделю не сидится на месте.
Анна, рассеянно трогая жемчуг на шее, ответила:
– Нельзя же сидеть и ничего не делать.
– Не вижу в этом ничего плохого.
– Мы не можем втроем сидеть и ничего не делать. Меня это убивает. Тебе этого, кажется, не понять.
– Но она же ложится спать в десять.
– Не ровно в десять, ты же сам знаешь. Терпеть не могу, когда за мной наблюдают. А она за нами – наблюдает.
– С чего бы ей за нами наблюдать?
– Я, кажется, знаю с чего. В общем, с ней мы не можем остаться вдвоем.
– Сегодня – сможем, – сказал Томас. – Точнее, после десяти.
Пытаясь успокоить ее, он снова протянул руку, но она – сплошной сгусток нервов – увернулась. Уселась подальше от камина: плотно облегающее фигуру черное платье, руки скрещены, вся в напряженных мыслях. Пока тянулись минуты тишины, Томас задумчиво ее разглядывал. Затем встал, схватил ее за локоть и сердито поцеловал.
– Мне никак не удается побыть с тобой, – сказал он.
– Сам видишь, как мы живем.
– Мы живем совершенно безнадежно.
Анна сказала, уже гораздо мягче:
– Милый, ну не нервничай ты. У меня был такой тяжелый день.
Он отошел, огляделся в поисках стакана. Негромко сказал, будто цитируя:
– Мы ничтожны во всем, кроме наших страстей.
– Где ты такое вычитал?
– Нигде, я однажды ночью проснулся от того, что это произнес.
– Какой же ты ночью был напыщенный. Хорошо, что я спала.
3
Томас Квейн женился на Анне восемь лет назад. Они познакомились в Дорсете, где она частенько гостила у друзей, живших по соседству с его матерью. Тогда она была образованной, но все же праздной барышней многих талантов, понемногу увлекавшейся всем на свете и даже успевшей поработать. Бездельницей она, впрочем, больше притворялась: не то вдруг выяснится, что талантов у нее куда меньше, чем ей бы хотелось. Одно время – совсем недолго – она подвизалась как оформитель интерьеров, но очень мимолетно, боясь посвятить себя делу, в котором она может не достичь высот. Рассуждала она здраво, потому что достичь ей и вправду ничего не удалось, даже мимолетно. Клиентов у нее было очень мало, и после первой же неудачи она пала духом и все забросила. Она рисовала шаржи, иногда играла на пианино, читала (это занятие, правда, осталось в прошлом) и довольно много разговаривала. Подвижные игры были не для нее, потому что она не делала ничего, что не давалось бы ей легко и непринужденно. Когда они с Томасом познакомились, Анна была несчастна и неразговорчива: она потерпела неудачу не только в нехотя выбранной профессии, но и в любви. Любовная история эта тянулась несколько лет и как раз в это же время тихо и, как можно было догадаться по поведению Анны, бесславно закончилась. Когда Анна вышла за Томаса, ей было двадцать шесть лет. Она жила с отцом в Ричмонде, в доме на холме, откуда открывались превосходные виды.
Томасу сразу понравилась ее улыбчивая, небрежная меланхоличность, ее добропорядочность и добросердечность, энергия, которая угадывалась под ее леностью. Анна была пепельной блондинкой, но характер у нее был скорее брюнетки. Сказать по правде, она была первой светловолосой девушкой, что понравилась Томасу – тот, например, не выносил присущей им румяности, но у Анны кожа была матовая, как магнолиевый цвет. Она отлично, уверенно владела своим ладным и далеко не субтильным телом. Его поразила гармоничная ровность ее манер, в которых не было никакой грубости. Томаса также приятно удивил ее стиль – в частности, то, как она одевалась.
До встречи с Анной у Томаса было несколько интрижек с замужними женщинами, и, когда он заподозрил, а потом и уверился в том, что у Анны до него тоже был любовник, она стала от этого казаться только ближе, человечнее. С молоденькими девушками у него не ладилось, их жадные надежды его отпугивали. Он приходил в ужас (точнее говоря, тогда приходил в ужас) при одной мысли о том, что кто-то будет любить его взахлеб, всем сердцем. Ему не хотелось, чтобы в его чувствах затрагивали какой-то нерв, он оберегал его, даже толком не зная, где тот находится. Томас уже подумывал о женитьбе, когда встретил Анну: теперь он мог себе это позволить, да и от интрижек было одно беспокойство. Вернувшись из Дорсета в Лондон, они с Анной стали часто видеться – наедине или в гостях у общих друзей, вскоре у них вошло в привычку нежно подтрунивать друг над другом или, напротив, ядовито откровенничать. Когда они решили пожениться, Томас был вполне счастлив, Анна же совершенно не прочь. Они поженились, и Томас обнаружил, что пал жертвой страсти к собственной жене, страсти, которую на их языке никак было не выразить и ничем не утолить.
На деньги, выделенные ему матерью, Томас купил себе долю в рекламном агентстве и теперь управлял им на равных с партнером. Дела у агентства «Квейн и Мерретт» шли отлично. Все, кому это предприятие казалось авантюрой или безвкусицей (как, например, старой миссис Квейн, которая поначалу не одобрила эту затею), брали свои слова назад при виде Томаса, с солидным и даже державным видом сидящего за конторкой. Он вернул себе доверие отцовских коллег, когда выкинул почти позабытый стариками трюк – стал получать доход с этого своего новомодного дела. Свою роль, конечно, могло сыграть чутье, но старики отдавали должное его способностям: Томас был яблочком, значительно укатившимся от яблоньки. «Квейн и Мерретт» удержались на плаву, а затем и поплыли: Томас придавал предприятию весомости, а его партнер, Мерретт, держал нос по ветру. Мерретт же нанимал столь нужных им бойких молодых сотрудников. Агентство и проценты с остатков материнского наследства приносили Томасу в совокупности около двух с половиной тысяч годового дохода. Анне после смерти отца достались пятьсот фунтов в год.
Квейны думали обзавестись двумя или тремя детьми, но в первые годы брака у Анны случилось два выкидыша. Пережив сначала крушение надежд, а затем и жалость друзей, Анна оставила эту затею: теперь она не хотела никаких детей. Она продолжала заниматься тем, чем и занималась до брака, – с ленцой и немного напоказ. Что касается Томаса, то чем больше он жил, тем меньше интересовался окружающим миром. Он отвернулся от мира, заменив его Анной. И теперь, в тридцать шесть лет, ему казалось, что, будь у него ребенок, ему бы решительно нечего было ему передать.
Когда умер отец и когда вслед за ним умерла Ирэн, Томас наконец избавился от терзавшего его стыда. Мать нарочно не стала убирать расставленные по всему дому фотографии мистера Квейна, как будто бы старый джентльмен просто-напросто устроил себе небольшие и довольно нелепые каникулы. Само собой, она постоянно называла его не иначе как «твой отец». Когда она умерла, он перестал навещать отца с женой за границей, уверив себя (и не без оснований), что от этих визитов мистер Квейн с Ирэн испытывают не меньшую неловкость, чем он. Темные гостиничные номера, промозглые квартирки, опустившийся отец, его смех – то робкий, то нервный – и то, как натянуто он держался с Ирэн при Томасе, – все это вызывало у Томаса глубокий стыд: за отца, за себя, за общественные устои. Сама гротескность этого брака вызывала у него отвращение. А еще была Порция. Во время этих визитов она пряталась по углам и таращилась на Томаса глазами котенка, ждущего, что его вот-вот утопят. Когда же две эти жалкие личности, жившие безо всякого удовольствия и так его опозорившие, отошли в мир иной, Томас почувствовал такое неприкрытое облегчение, что безропотно согласился выполнить последнюю волю отца. Будет правильно, сказал он, получив письмо, будет только справедливо, если Порция приедет в Лондон. Он с фанатичной твердостью пресек возражения Анны. «Это всего на год, – сказал он. – Он просил – на год».
Итак, они решили поступить правильно. Когда об этом известили Матчетт, та ответила: «Это самое малое, что мы для нее можем сделать, мадам. Миссис Квейн сказала бы, что это по справедливости».
Матчетт помогла Анне обустроить комнату для Порции – комнату с высоким зарешеченным окном, где могла бы находиться детская. Если подойти к окну, можно было увидеть парк – карту тропинок и лужаек, узкую часть озера и косой железный мост. С кровати – Анна прилегла на минутку, чтобы проверить, – видны были одни верхушки деревьев, будто где-нибудь за городом. Никогда больше Анна не чувствовала такой близости с Порцией, как тогда, накануне их встречи. Потом она забралась на стул и завела часы с кукушкой, которые когда-то висели в ее собственной детской. Она заказала для комнаты новые занавески в мелкий цветочек, но обои переклеивать не стала – ведь Порция здесь всего на год. Весь хлам из двух шкафов, где его было очень удобно хранить, перенесли в кладовую, и сильная как бык Матчетт притащила с другого этажа небольшой письменный стол. Приладив гофрированный абажур на лампу возле кровати, Анна не удержалась и сказала: «Миссис Квейн была бы довольна».
Матчетт оставила ее замечание без ответа – она, стоя на коленях, пришпиливала к кровати подзор. На ремарки в сторону она никогда не отзывалась, ограждая таким образом себя от небрежных, многозначительных сигналов, в которые обычно вложено столько скрытого смысла. Нанимавшим ее людям она платила безграничной энергией и тем, что умела держать язык за зубами, но самолюбования и капризов, за которые слуги, по правде сказать, и получают жалованье, она не терпела. Поэтому ее форменная сдержанность иногда оборачивалась против нее, а от грубости ее удерживало только одно – она не позволяла себе вообще никаких чувств. Подколов подзор, она встала и, хрустнув под мышками поплиновым платьем, повесила на стену дрезденское зеркало в лепной раме, которое где-то раздобыла Анна, – так, чтобы прикрыть пятно на обоях. Только Анне хотелось повесить его совсем не сюда, и она тихонько перевесила его у Матчетт за спиной. Но Матчетт, которая в кои-то веки вышла за рамки своих обязанностей, и Анну выставила в наилучшем свете. Когда комната была готова, оказалось (сообщила Анна Сент-Квентину), что выглядит она премило, Порции она должна прийтись по душе, после бесконечных-то гостиниц. Даже в выцветших обоях было что-то домашнее, а кроме того, они в последнюю минуту добавили к обстановке белый прикроватный коврик, чтобы девочка не вставала на пол босыми ногами. Анна, конечно, была против того, чтобы Порция сюда приезжала, но, раз уж так вышло, она знала, как изящно капитулировать… Приехала Порция, черная как вороненок, в глухом, купленном в Швейцарии трауре, одежду для нее выбирала тетка, которая как раз вернулась с Востока и взяла все в свои руки.
Анна сразу же сказала ей, что трауром она никого не воскресит и лучше от него никому не станет. Томас выписал чек, Анна провела Порцию по всем лондонским магазинам и накупила ей платьев, шляпок, пальто, голубых, серых, красных, нарядных и модных. Разворачивая покупки, Матчетт сказала:
– Вы решили одеть ее поярче, мадам?
– Незачем ей выглядеть сироткой, ей от этого только хуже.
Матчетт в ответ лишь губы поджала.
– Ну, в чем дело, Матчетт? – обиженно спросила Анна.
– Молодым людям нравится носить то, к чему они привыкли.
Анна не знала, что и думать. Не успела тень Порции показаться на горизонте, как уже начались перемены. Взять хотя бы эту историю с зеркалом, неслыханное ведь дело – чтобы у Матчетт появилось свое мнение. Поэтому она ответила куда задиристее, чем намеревалась:
– Я купила ей мертвенно-белое вечернее платье и еще черное бархатное.
– А, стало быть, мисс Порция будет ужинать с вами?
– Разумеется. Пусть привыкает. И потом, где же еще ей ужинать?
Подобные представления у Матчетт остались, наверное, еще с прежних времен, когда юные барышни с бантами в струящихся локонах ужинали с гувернантками у себя в детских: поджаривали хлеб, рассказывали друг другу истории, гадали на яблочной кожуре[5]. В нынешних домах боннам не нашлось места: они были брошены на произвол судьбы. Матчетт, которая между слугами и господами вышагивала бесстрастной, внушительной поступью, совсем не замечала, что иных дорог уж давно нет. Ей, напротив, казалось, что в доме недостает какой-то жизни, что приличия здесь нарушены на уровне принципов. Отсутствие у Квейнов семейных традиций вызывало у Матчетт не только замешательство, но и негодование, – тех самых семейных традиций, отчасти милых, а отчасти жестоких, которые давно пали под натиском здравого смысла. В таком просторном и жизнерадостном доме, сплошь глянец да зеркала, не было места теням, не было уголков, где чувства подступали бы к горлу. Комнаты были обставлены для близости между чужими друг другу людьми или для одинокого уединения в минуты усталости.
Тем вечером братья Маркс в кинотеатре «Эмпайр» оставили Порцию равнодушной. Экран отбрасывал дрожащий свет на ее напряженный профиль: казалось, будто она глядит на все с ужасом. Анна несколько раз поворачивалась к Томасу, чтобы пожаловаться: «Ей совсем не смешно!» Время от времени Томас и сам невольно прыскал со смеху, но тут он снова помрачнел и ответил:
– Ну, все-таки есть в них что-то вульгарное.
Анна перегнулась через него:
– Но тебе же понравился Сэнди Макферсон[6], да, Порция?.. Томас, пни ее, спроси, понравился ли ей Сэнди Макферсон?
Органист, играя по-прежнему громко и уверенно, спускался теперь сквозь залитую солнцем мимозу куда-то в бездонную яму, откуда звуки Parlez-Moi d’Amour[7] продолжали еле слышно нестись до тех пор, пока их не прихлопнули крышкой. Порция не имела никакого права говорить, что люди теперь не такие храбрые… Фильм закончился, трое Квейнов похватали свои вещи и гуськом, тихонько вышли из зала – не попасть на новости стоило того, чтобы не попасть в давку.
Анна и Порция, невеселые по разным причинам, ждали в фойе, пока Томас искал такси. В резком, отражавшемся в зеркалах свете они были похожи на двух конторщиц, у которых впереди очередной рабочий день. Тут какой-то мужчина пристально поглядел на Анну, отвернулся, снова взглянул, поколебался, приподнял шляпу и вернулся назад, протягивая ей руку для разлапистого, взволнованного, радостного пожатия.
– Мисс Феллоуз!
– Невероятно! Майор Брутт!
– Подумать только, встретить вас вот так, случайно. Невероятно!
– Особенно если учесть, что я даже не мисс Феллоуз, то есть больше нет – теперь я миссис Квейн.
– Я прошу меня простить…
– Ну откуда же вам было знать? Я очень рада вас снова видеть.
– Лет девять с лишним прошло. А какой превосходный мы тогда провели вечер – вы с Пидженом и я…
Он осекся, неуверенно взглянул на нее.
Порция так и стояла рядом.
– Знакомьтесь, моя золовка, – быстро сказала Анна. – Майор Брутт – мисс Квейн.
И, поколебавшись, спросила:
– Надеюсь, вам понравились братья Маркс?
– Сказать по правде, я это место еще с давних времен помню… Об этих ребятах я и не слышал ничего, просто думаю: дай загляну. Не скажу, что…
– А, стало быть, вам они тоже кажутся вульгарными?
– Скажу так: это все, конечно, очень современно, но смешными я бы их не назвал.
– Да, – заметила Анна, – они современные – сейчас.
Взгляд майора Брутта проследовал от болтающего, улыбающегося рта Анны, мимо приколотой к ее воротнику камелии, к шляпке Порции с заломленными наверх полями – на ней он и остановился.
– Надеюсь, – сказал он, обращаясь к Порции, – вам все пришлось по вкусу.
Анна ответила:
– Нет, похоже, не очень… О, смотрите-ка, муж нашел нам такси. Едемте с нами, выпьем чего-нибудь… Томас, это майор Брутт.
Пока они парами шли к такси, Анна, почти не разжимая губ, бросила Томасу:
– Друг Пиджена, мы с ним как-то раз ужинали.
– Мы? Но я не… Когда?
– Не мы с тобой, глупенький. А мы с Пидженом. Сто лет назад. Но выпить нам всем не помешает.
– Это само собой, – ответил Томас.
С совершенно непроницаемым лицом, придерживая Анну за локоть, он провел ее сквозь толпу у входа – во сколько ни выходи, давки не избежать. Заразившись от майора Брутта, Томас сидел в такси вытянувшись в струнку и твердо, по-военному глядел в окно.
Сам майор Брутт, сидевший с ним рядом, робко поглядывал на лица дам, бутонами торчавшие в полумраке из меховых воротников. Раз-другой он заметил: «Ну и ну, вот так совпадение». Порция сидела боком, чтобы не задевать коленями Томаса.
До чего же это все мило, эта случайная встреча в шикарном заведении – за такими вот светскими расшаркиваниями они с Ирэн, бывало, наблюдали, когда подглядывали в окна «Палас Отеля». Такси подползало к Виндзор-террас, и Порция, просияв, воскликнула:
– Спасибо, что взяли меня с собой!
Томас ответил только:
– Жаль, что тебе не понравилось.
– О, но мне понравилось все остальное.
Майор Брутт сказал как припечатал:
– Эти четверо – просто стыд и срам… Мы здесь выходим? Отлично.
– Да, мы выходим здесь, – ответила Анна, со вздохом вылезая из такси.
Мороз не оставил и следа от вечернего тумана: пилястры их дома, подсвеченного снизу лампами, тонули в черной глади ночного воздуха. Порция зябко поежилась, поддернула воротник; тротуар позвякивал от бравой поступи майора Брутта – тот отряхивал пальто, приговаривая:
– Собачий холод!
– Завтра можем пойти кататься с горки, – сказал Томас. – Будет весело.
Он уставился на пригоршню монет, которую вытащил из кармана, заплатил таксисту, нащупал ключи. И тут, будто услышав эхо или чей-то насмешливый окрик, он резко вскинул голову и оглянулся на дом – пустой, неживой, в форме буквы Е, с застывшими на черной тени прочерками колонн; плоский фасад – и все.
– У нас тут замечательно тихо, – сообщил он майору Брутту, – почти как за городом.
– Ради бога, пусти нас скорее домой! – воскликнула Анна, и майор Брутт участливо на нее посмотрел.
В кабинете было восхитительно светло и жарко – но дома сразу стало ясно, что они зря это затеяли. Майор Брутт незаметно озирался по сторонам, словно хотел сказать: «Как у вас тут мило», но не был уверен, что для этого достаточно хорошо с ними знаком. Анна нервно щелкала выключателем лампы, пока Томас, осведомившись: «Шотландский виски, ирландский или бренди?», наполнял стоявшие на подносе стаканы. Анна не могла говорить – вспоминала ушедшие годы: Роберт Пиджен виделся ей огромной мухой, застывшей в янтаре памяти этого достойного человека. Ее собственная память казалась сплошными швами и кляксами. Оно уже побаивалась собственного голоса, которым сможет всего-навсего сказать: «Вы ничего о нем не слышали? Вы с ним не виделись?» Или вот еще: «Где он теперь, вы не знаете?» Колдовство того давно минувшего вечера – когда они с Робертом, наверное, были идеальной парой – заставило ее привести домой этого человека, этого прирожденного третьего лишнего. Томас же полностью от всего устранился, и Анне стало казаться, что она совершила ужасную оплошность. Пауза затянулась, было невыносимо смотреть, как неуверенно майор Брутт глядит в свой виски, явно задаваясь вопросом, надо ли ему вообще это пить? Надо ли вообще оставаться?
Так-то все вышло – лучше не придумаешь. Квейны, конечно, заметили, как он обрадовался приглашению. Он вернулся не пойми откуда, он больше не знал Лондона, и после кино ему до смерти хотелось пойти куда-нибудь еще. Он бы охотно пошел почти куда угодно. Но яркие огни вечернего Лондона только сильнее высвечивали его нынешнюю дешевую провинциальность. С наступлением темноты столица – как опустившаяся гувернантка, в тиаре из вулвортовского магазина и размалевана не к месту. Ее былая красота живет разве что в памяти эмигрантов. Майор Брутт был из тех мужчин, которые в полночь блуждают по Вест-Энду как неприкаянные призраки – не желая платить проститутке, не желая пить в одиночестве, не желая возвращаться в Кенсингтон и надеясь, вдруг что-нибудь да случится само собой. Надежда тает с каждой минутой – рано или поздно надо будет вернуться. Не успеет до закрытия подземки, значит, придется брать такси; это ударит по карману, и запах не его женщины в авто растревожит. Его воображение, словно пустая комната, разинув незанавешенные окна, отразит сцену в такси, которой не было и в помине. Но если на том все и кончится, тогда уж лучше поспешить в подземку. Может, он еще и уломает портье налить ему стаканчик в гостиничном баре – свет приглушен, все старухи ушли спать. Что ж, он предастся пороку, тут полумер не бывает.
– Ну, за удачу! – сказал майор Брутт, очнувшись, смело подняв стакан.
Он окинул взглядом три очень интересных лица. Порция подняла в ответ стакан молока с содовой[8], он поклонился ей, она поклонилась ему, и все выпили.
– Вы тоже здесь живете? – спросил он.
– Я приехала погостить, на год.
– Хорошо, когда можно вот так надолго приехать. И родители вас отпустили?
– Да, – ответила Порция. – Они… Я…
Анна взглянула на Томаса, явно желая сказать: тебе пора вмешаться, но Томас искал сигары. Порция, сидевшая на коленях возле камина, подняла к майору Брутту совершенно беззащитное лицо – руками она обхватила себя за локти, спрятав пальцы в коротких рукавах платья. Эта картина опечалила Анну, которая подумала, сколько невинности она сама загубила в других людях – да, даже в Роберте, в нем, наверное, больше всего. Встречи, заканчивавшиеся самыми опустошительными, самыми злыми их ссорами, всегда начинались, когда Роберт был безоружным, пылким – вот таким. Наблюдая за Порцией, Анна раздумывала, змея ли она или кролик? В любом случае скучать ей не приходится, – ожесточившись, решила она.
– Спасибо большое, нет-нет, я такое не курю, – сказал майор Брутт, когда Томас наконец отыскал сигары.
Томас закурил сам и подозрительно заглянул в коробку с сигарами.
– Их поубавилось, – сказал он. – Я же тебе говорил.
– Ну так держи их под замком. Полагаю, это миссис Вейз – у нее появился ухажер, и она его очень балует.
– Она и у тебя сигареты берет?
– Нет, перестала. Матчетт ее как-то за этим застукала. А кроме того, она слишком занята чтением моих писем.
– Так почему бы тогда ее не уволить?
– Матчетт говорит, она чистюля. Чистюли-поденщицы на деревьях не растут.
Порция воскликнула:
– Вот бы смешные тогда были деревья!
– Ха-ха! – сказал майор Брутт. – А знаете шутку про сандал?
Анна забралась с ногами на кушетку, усевшись немного поодаль. Вид у нее был усталый и безучастный, она то и дело проводила рукой по волосам. Томас, щурясь, разглядывал на свет напиток в стакане; время от времени, когда он пытался сдержать зевок, у него подергивались скулы. Майор Брутт уже осушил стакан на две трети и незаметно, как он умел, стал центральной фигурой на сцене. Где-то в комнате присутствовало и первое оживление Порции, трепыхалось под потолком, как улетевший воздушный шарик. Внезапно Томас сказал:
– Говорят, вы знали Роберта Пиджена?
– Как не знать! Молодчага парень.
– Мы с ним, к сожалению, никогда не были знакомы.
– Ой, он что, умер? – спросила Порция.
– Умер? – сказал майор Брутт. – Господь с вами, нет, точнее, я бы сказал, это маловероятно. У него девять жизней. Мы с ним почти всю войну прошли.
– Да, я совершенно уверена, что он еще жив, – согласилась Анна. – А вы знаете, где он?
– В последний раз я получал от него весточку в прошлом апреле, в Коломбо – мы там разминулись на какую-нибудь неделю, чертовски не повезло. Письма мы оба не горазды писать, но связь поддерживать исхитряемся самым поразительным образом. Пиджену, конечно, не занимать смекалки, уж он-то везде пригодится. И ведь он поладить может с кем угодно, с его-то сообразительностью. С таким человеком, как он, мне, конечно, и познакомиться бы не довелось, если б не война. Нас обоих ранило при Сомме, тогда-то мы с ним и сошлись, когда нам обоим дали увольнительную.
– Он был тяжело ранен? – спросила Порция.
– В плечо, – ответила Анна, отчетливо припомнив ямку шрама.
– Знаете, Пиджен, он, как говорится, человек разносторонний. На пианино играл получше профессионалов – с большим чувством, понимаете? Однажды во Франции он подкоптил тарелку и нарисовал мой портрет – я вышел как живой, честное слово. Ну и еще он, разумеется, много чего написал. И в то же время он весь был как на ладони. Никогда я не встречал более открытого человека.
– Да, – сказала Анна, – а мне больше всего запомнилось, как он умел удерживать апельсин на кромке тарелки.
– Часто он так делал? – спросила Порция.
– Очень часто.
Майор Брутт, которому налили еще выпить, взглянул на Анну:
– Вы с ним не виделись в последнее время?
– Нет, в последнее время нет.
Майор Брутт быстро добавил:
– Таких, как он, нечасто встретишь. Он на одном месте подолгу не засиживался. А ведь когда я уволился из армии и хватался то за одно, то за другое занятие, меня самого знатно помотало по свету.
– Интересно, наверное, живете.
– И да, и нет. Не хватает определенности. Всю пенсию я попросил мне выплатить разом, но потом поистратился в Малайе. Теперь вот вернулся ненадолго, присматриваюсь, что к чему. Неизвестно, конечно, выйдет ли из этого что-нибудь.
– Ну а почему бы и нет?
Заметно приободрившись, майор Брутт сказал:
– Да, есть у меня пара-тройка вариантов на примете. Значит, побуду тут какое-то время.
Анна не нашлась с ответом, поэтому отозвался Томас:
– Да, это вы верно придумали.
– А с Пидженом мы еще увидимся, это уж точно. Никогда не знаешь, где тебя с ним сведет судьба. А мне, кстати, везет на неожиданные встречи… да вот хоть сегодня.
– Тогда передайте ему от меня привет.
– Он будет рад узнать, как вы поживаете.
– Передайте ему, что я поживаю очень хорошо.
– Да, так и передайте, – сказал Томас, – когда с ним увидитесь.
– Когда все время живешь в гостиницах, – сообщила Порция майору Брутту, – привыкаешь, что люди постоянно приходят и уходят. Сначала кажется, будто они тут так и останутся, а потом оглянуться не успеешь, как они уже уехали, и уехали навсегда. Так странно все это, конечно.
Анна взглянула на свои часики.
– Порция, – сказала она. – Не хочется портить тебе вечер, но уже половина первого.
Стоило Анне посмотреть на нее, как Порция сразу же отвернулась. С тех пор как они пришли домой, им, кстати, впервые представился случай посмотреть друг на друга. Но пока они говорили о Пиджене, Анна чувствовала, как темные глаза снова и снова с напускной невинностью взглядывают в ее сторону.
Анна, полулежа на кушетке в позе мадам Рекамье, притворялась – а в тот вечер ей пришлось много притворяться, – что это ее совершенно не трогает. Если бы снедавшее ее нервное возбуждение вырвалось наружу аурой с переливчатым краем, можно было бы сказать, что взгляд Порции скользит по самой границе этого перелива, вдоль, вокруг привалившейся к подлокотнику Анны. Анне же казалось, будто ее сковало страхом, этой ее тайной, цепенящим взглядом Порции, – ей казалось, будто она обратилась в мумию. И потому, заговорив о времени, она повысила голос.
Порция уже давно привыкла не глядеть ни на кого подолгу. Такие глаза, как у нее, нигде не встречали привета и, замечая, какую тревогу они вызывают, привыкли к застенчивости. Такие глаза вечно отводят или скромно опускают, самое большое, на что они осмеливаются – смотреть в одну точку, из-за этой их бездомной наготы такие глаза кажутся фанатичными. Они могут пробудить чувства, они могут оскорбить, но они никого не могут вызвать на разговор. С такими глазами чаще всего встречаешься, – а точнее, стараешься не встречаться взглядом – на детских лицах, но никогда не знаешь, что же потом сталось с этими детьми.
Но вот теперь Порция, можно сказать, превосходно проводила время с майором Бруттом. Когда тебе еще так немного лет, что о любви не может быть и речи, голова идет кругом только от того, что тебя заметили: ты с восторгом примеряешь на себя статус человека. Майор Брутт встречал ее взгляд с добротой, без колебаний.
Садиться он так и не стал – врос, как скала, в пол огромными ногами, да так и грохотал что-то сверху вниз ей, сидевшей на коленях на коврике. Когда Анна взглянула на свои часы, сердце у Порции упало, она тоже посмотрела на часы и убедилась: увы, все так и есть.
– Половина первого, – сказала она. – Боже!
Когда она ушла, пожелав всем доброй ночи и обронив перчатку, майор Брутт сказал:
– Уж столько радости, наверное, вам от этой девчушки.
4
Почти каждое утро Лилиан ждала Порцию на старом кладбище за Паддингтон-стрит – так они любили срезать путь до школы. Начинавшееся сразу за домами кладбище уже давно было не в ладах со смертью, превратившись сразу и в укромный уголок, и в дорогу, о которых пока мало кто знал. Несколько плакучих ив и склепов, похожих на каменные беседки, придавали ему картинной строгости, но надгробия жались по стенам, будто стулья в танцевальном зале, а на полпути от входа, посреди лужайки, стоял круглый навес, который выглядел точь-в-точь как оркестровая площадка. От ворот до ворот бежали тропинки, а кустарник, растущий вдоль забора, отгораживал кладбище от улицы: место тут было не печальное, скорее – до уютного меланхоличное. Лилиан упивалась меланхолией, Порции же всякий раз, когда она поворачивала за ворота, казалось, что это место – ее секрет. Поэтому они часто ходили в школу этой дорогой.
Идти им нужно было на Кэвендиш-сквер. По этому солидному адресу мисс Полли давала уроки для девочек – нервических девочек, девочек, которые не слишком-то преуспели в школе, девочек, которых нужно было куда-то пристроить перед тем, как они уедут за границу, и девочек, которые никогда никуда не уедут. Места у нее хватало примерно на дюжину таких учениц. По утрам сюда приходили профессора, после обеда девочек водили в галереи, в музеи, на выставки, на спектакли или концерты классической музыки. С мисс Полли можно было особо условиться о том, чтобы девочка и обедала у нее дома – это было самое простое из многочисленных особых условий: секретарша мисс Полли практически жила на телефоне. Предприимчивость мисс Полли, надо сказать, окупалась, поэтому за свои услуги она брала очень дорого. Узнав цену, Томас было взбрыкнул, но Анна убедила его, что мисс Полли своих денег стоит, – так она придумала, куда деть Порцию днем. Что бы там Порция ни выучила, ей хоть будет о чем поговорить, а кроме того, так она сможет и с кем-нибудь подружиться. Пока что Порция подружилась только с Лилиан, которая жила неподалеку, на Ноттингем-плейс.
Анна считала, что Лилиан – не самое стоящее знакомство, но тут уж ничего нельзя было поделать. Волосы Лилиан заплетала в две длинных свободных косы и носила их, перекинув на грудь, словно какая-нибудь Лилейная Дева[9]. Выражение лица у нее было загадочное и отстраненное, а на ее довольно полную, красивую и сформировавшуюся фигуру уже засматривались мужчины на улицах. Ее забрали из пансиона, потому что она влюбилась в преподавательницу виолончели и поэтому решительно не могла больше есть. Порция высоко ценила таланты Лилиан – говорили, что она, например, отлично танцует и катается на коньках, а когда-то даже занималась фехтованием. В остальном жизнь Лилиан не была богата на развлечения: дома она старалась бывать как можно реже, а если и оказывалась там, то сразу принималась мыть голову. На лице у нее застыло обреченное выражение, какое, бывает, видишь на фотографиях девушек, ставших впоследствии жертвами убийц, но с Лилиан пока ничего такого не случилось… Тем утром, завидев Порцию, она мечтательно помахала ей алой перчаткой.
Порция заторопилась навстречу:
– Кошмар, кажется, из-за меня мы опоздаем. Скорее, Лилиан, бежим!
– Не хочу бежать, мне сегодня что-то нехорошо.
– Тогда поедем на сто пятьдесят третьем.
– Если он подойдет, – ответила Лилиан. (Этот номер ходил очень редко.) – У меня есть под глазами синие круги?
– Нет. Как ты провела вчерашний вечер?
– Ой, ужасно. А ты?
– Нет, – ответила Порция, почти виновато, – потому что мы ходили в «Империю». И, представляешь, совершенно случайно встретили там человека, который знал одного знакомого Анны. Его зовут майор Брутт – не ее знакомого, а этого человека.
– Твоя невестка расстроилась?
– Удивилась, потому что он даже не знал, что она замужем.
– Я часто расстраиваюсь, когда с кем-нибудь снова встречаюсь.
– А ты видела когда-нибудь, чтоб человек мог удержать апельсин на кромке тарелки?
– Да это кто угодно сможет, главное, чтобы рука не дрожала.
– Все знакомые Анны такие умные.
– О, ты сегодня с сумочкой?
– Матчетт сказала – глупо, что я ее не ношу.
– Не обижайся, но ты ее как-то странно держишь. Наверное, привыкнешь со временем.
– Если привыкну, то совсем про нее забуду и тогда еще оставлю где-нибудь. Впрочем, покажи-ка мне, Лилиан, как ты держишь свою.
Они вышли на главную улицу Мэрилебона и с минутку постояли, терпеливо притопывая, в надежде, что подойдет сто пятьдесят третий. Сегодняшнее утро было холоднее вчерашнего: наступили бесснежные заморозки. Но девочки не обсуждали погоду, принимая ее как часть своей судьбы, которую они навлекли на себя, просто проснувшись утром, – судьбы, которая каждый день менялась, как настроение у взрослых или состояние их внутренностей. Сто пятьдесят третий и вправду подошел, но останавливаться перед ними явно не собирался, до тех пор пока Лилиан, подобно юной разгневанной богине, не вышла ему наперерез, вскинув алую перчатку. Когда они уселись в автобус, Лилиан с упреком сказала Порции:
– Что-то ты сегодня очень довольная.
Та ответила, смешавшись:
– Мне так нравится, когда что-то происходит.
Отец мисс Полли был преуспевающим врачом, уроки она вела во флигеле на первом этаже, который пристроили к дому сзади и сначала хотели отдать под бильярдную. Чтобы не создавать неудобств пациентам, ученицы приходили и уходили через подвальный вход. Прохожие удивлялись, глядя, как модные юные создания, порой выпрыгивавшие из лимузинов, ныряли в подвал, будто кошки. Оказавшись у двери, они звонили в специальный звонок мисс Полли, после чего оказывались в коридоре с ковровым покрытием. В гардеробной возле винтовой лестницы они вешали шляпки и пальто, затем выстраивались в очередь к зеркалу – очень маленькому. Кремово-голубые плитки, мрамор, обои с золотым тиснением и турецкий ковер были примечательными чертами флигеля. В гардеробной с витражным окном пахло туманом и «Винолией»[10], в бильярдной (а точнее, классной) комнате – ковром, батареями и туманом. Окон тут не было: погоду определяли по куполу стеклянной крыши, которая свинцовела от тумана, позвякивала во время дождя, а когда выходило солнце, роняла на стол огромный квадрат слепящего света. Зимой, когда начинало смеркаться, крышу закрывали иссиня-черной лакированной портьерой на бегунке и включали электрический свет. Хорошей вентиляцией комната похвастаться не могла, наверное поэтому Порция, не успев зайти, начинала клевать носом. На уроках она не блистала, потому что не могла сосредоточиться или, как все остальные девочки, делать сосредоточенный вид. У нее не получалось удержать мысли на уровне лиц и столов – они упархивали сквозь стеклянную крышу. Один профессор умолкал, строго взглядывал на нее, барабанил по краю стола, другой спрашивал: «Мисс Квейн, прошу вас, прошу вас. Мы ведь не на небо поглядеть собрались». Ее невнимание порой граничило с невежливостью или, хуже того, отвлекало других девочек.
Она не привыкла к учебе, ее не научили, что надо учиться, казалось, ей просто некуда вместить даже самый интересный факт. Но чтобы не привлекать к себе внимания и не сердить профессоров, через несколько недель она все же наловчилась завораживать – даже гипнотизировать – самых сердитых профессоров неотрывным вниманием – к их шевелящимся губам, к воздуху над их головами… Утреннюю лекцию по экономике она выслушала с немигающим изумлением на лице. Сумку она принесла в класс, сидела, поставив ее на колени. После лекции профессор пожелал всем доброго утра; девочки разделились: одна группа отправлялась на экскурсию в какую-то частную галерею, остальные уселись делать уроки – одни вытащили тонкие перья и принялись вычерчивать карты, другие, упершись каблуками в перекладины между ножек стульев, радовались, что им не надо никуда идти. Мисс Полли, сидя немного поодаль – за отдельным столиком, на готического вида стуле, проверяла сочинения. День выдался мрачный, поэтому над тетрадями, которые читала мисс Полли, изгибалась лебединая шея зажженной лампы. Мисс Полли переворачивала страницы, девочки потихоньку ерзали на стульях, горячая вода в батареях время от времени побулькивала – паутина еле слышных звуков, которую называют тишиной, заполнила комнату до самого стеклянного купола. Лилиан то и дело прерывалась, чтобы поразглядывать кончик пера или повздыхать о своем хрупком здоровье. Порция вжалась грудью в край стола, ощущая животом сумку. Все наконец увлеклись своими делами, и Порция, в приливе оптимизма, почувствовала себя в безопасности. Она откинулась на спинку стула, огляделась, нагнулась и, стараясь действовать как можно бесшумнее, раскрыла сумку. Вытащив оттуда письмо на голубой бумаге, она разгладила его на коленях и принялась читать во второй раз.
Милая Порция,
Ты так славно помогла мне тогда вечером, и я чувствую, что просто-напросто обязан тебе написать и сказать, как ты меня этим утешила. Ты не возражаешь, надеюсь? Нет, конечно, ты все поймешь, мне кажется, что мы с тобой уже подружились. Уходя от вас, я был расстроен по разным причинам, но в том числе и потому что думал: ты, наверное, легла спать и мы уже не увидимся. И до чего же неожиданно было увидеть, что ты стоишь в коридоре с моей шляпой в руках – не передать словами. Тогда я понял, что ты, наверное, заметила, что я сам не свой, и решила – милая девочка! – меня подбодрить. Не могу выразить, как много это все – когда ты вдруг вышла в коридор и отдала мне шляпу – для меня значило. Знаю, что в гостиной я вел себя не лучшим образом, и боюсь, что после твоего ухода мое поведение испортилось еще сильнее, хоть и не совсем по моей вине. Сама знаешь, я люблю Анну, да и ты, я уверен, ее тоже любишь, но когда она начинает говорить «Эдди, ну хватит уже», я чувствую себя какой-то скотиной – ну и веду себя соответственно. Я слишком легко поддаюсь чужому ко мне отношению – тем более когда речь идет об Анне. Мне прямо в глаза говорят что-нибудь неприятное, я с этим соглашаюсь, ненавижу себя, а потом и тех, кто мне это сказал, – и чем больше я их люблю, тем сильнее ненавижу. Поэтому тем вечером (это ведь, кажется, в понедельник было) за шляпой я спустился мрачнее тучи. И когда ты появилась в коридоре и так мило протянула мне шляпу, я как-то разом остыл. Не только потому, что ты вышла ко мне, а от одной мысли о том (не слишком ли это самонадеянно с моей стороны?), что ты и вправду меня дожидалась, я сразу почувствовал себя буквально на седьмом небе. Тогда я не стал этого говорить, подумал, вдруг тебе это придется не по вкусу, но теперь не смог удержаться – и написал.
Кроме того, ты как-то раз сказала – как всегда, совершенно безыскусно, – что не часто получаешь письма, и я подумал, вдруг мое письмо тебя порадует. Мы с тобой люди, считай, одинокие, ты – по воле случая, я же во многом из-за своего дурного характера. Ты такая милая и славная, а со мной все так непросто. Сегодня мне особенно одиноко (я пишу тебе из дома, а моя квартира мне не слишком по душе), я только что пытался поговорить по телефону с Анной, но она отвечала довольно сухо, поэтому больше я ей не звонил. Наверное, я ей надоел или она решила, что со мной все уж слишком непросто. Ах, Порция, как бы мне хотелось, чтобы мы с тобой подружились. Может быть, иногда гулять в парке – что скажешь? Я сижу тут и думаю, как прекрасно было бы, если…
– Порция! – воскликнула мисс Полли.
Порция подпрыгнула, будто от удара.
– Дитя мое, не сутультесь вы так. И не работайте под столом. Положите работу на стол. Что у вас там такое? Не держите ничего на коленях.
Порция не шевелилась, поэтому мисс Полли отодвинула свой столик, встала и проворно подошла к Порции. Девочки глядели на нее во все глаза.
Мисс Полли сказала:
– Неужели это письмо? Сейчас не время и не место читать письма. Вы, должно быть, заметили, что другие девочки такого себе не позволяют. И где бы вы ни были, под столом письма читать нельзя – вам разве этого не говорили? Что это у вас там еще на коленях? Сумка? Почему вы не оставили сумку в гардеробной? В класс с сумкой не ходят, так и знайте. Так, уберите-ка письмо в сумку и отнесите все это в гардеробную. Ходить с сумкой в помещении – это гостиничная привычка, так и знайте.
Мисс Полли, может быть, сказала это без всякого злого умысла, но несколько девочек, в том числе и Лилиан, улыбнулись. Порция неуверенно встала, вышла в гардеробную и поставила сумку на полку под своим пальто, только теперь заметив, что на этой полке стоят и сумки всех остальных девочек. Но письмо Эдди, после минутного отчаянного метания, она засунула снизу в штанину шерстяных панталон – под резинку над коленом.
В бильярдной гладко причесанные головы девочек снова послушно склонились над учебниками. Молчаливые эти заседания в присутствии мисс Полли на самом деле были (и почти все об этом знали) упражнениями в неподвижности, в умении и глазом не моргнуть, когда за тобой наблюдают. Только Порции могло прийти в голову, будто мисс Полли не замечает, чем занята каждая ее ученица. Сидя, будто епископесса, на готическом стуле, мисс Полли своим ледяным молчанием сковывала каждое юное тело – каждое нервное почесывание, бьющее через край счастье от самого существования, острое ощущение такого же юного тела рядом. Даже Лилиан, обычно теребившая косы или разглядывавшая свои пышные белые руки, эти часы с мисс Полли просиживала так, будто ее, Лилиан, не существовало. Порция, на бледной коже которой по-прежнему пылал румянец, подтянула к себе книгу по теории архитектуры и уставилась на изображение палладианского фасада.
Но ощущение, что Порция не совсем та, за кого ее принимали, тем временем просочилось в бильярдную. Ей мерещилось даже, будто что-то обнюхивает подол ее платья. Самым убийственным в словах мисс Полли было то, как она их произнесла, – как будто она не высказала и половины всего, что было у нее на душе, как будто ей стыдно за Порцию перед всеми этими приличными девочками. Никто еще не читал писем под этим столом, никто о таком даже и не слыхивал. Мисс Полли очень щепетильно относилась к тому, какого класса девочки у нее учились. Порок, разумеется, не щадил ни один общественный класс, но вот об уровне человека многое можно было сказать по обычным проступкам. Поэтому не только прилежание или осторожность были причиной того, что девочки не поднимали гладко зачесанных голов и не глядели больше на дочь Ирэн. Сама Ирэн – понимая, что слушаться веления сердца означает в девяти из десяти случаев поступать неправильно, и понимая также, что поступить иначе она просто-напросто не способна, – и та не осмелилась бы перешагнуть порог этой комнаты. На мгновение Порции показалось, будто она вместе с матерью стоит в дверях и глядит на все это пугливыми, недоверчивыми, робкими глазами. Обои с золотым тиснением, купол, епископский стул, гладкие девичьи головы, наверное, всегда были здесь, где им и положено быть, пока они с Ирэн, две сомнительные личности, торчали где-то в межсезонье в богом забытых местах посреди камней и железнодорожных станций, пробирались гуськом по мокрым палубам третьего класса на озерных пароходиках, давились костями loups de mer[11], хихикали, утыкаясь в одеяла, от которых пахло предыдущими постояльцами. Ничему не учась, они ходили под руку по городским тротуарам, а по ночам сдвигали кровати или спали в одной – стараясь, насколько возможно, преодолеть вызванную родами разлуку. В обществе они бывали редко, а когда бывали, Ирэн совершала какую-нибудь ошибку и потом плакала. И как славно, как же славно Ирэн оживлялась после каждой своей ошибки, когда, перестав плакать, она высмаркивалась и просила чашку чаю… Порция, немного расслабившись, поерзала на стуле и сразу же почувствовала, как под коленкой хрустнуло письмо Эдди. Что бы Эдди сказал обо всем этом?
Мисс Полли была высокого мнения об Анне и потому жалела Порцию и жалела Анну. Ей было жаль, что Порция не нашла тут себе подруг, кроме более чем сомнительной Лилиан, но она прекрасно понимала, почему так вышло, и теперь с этим ничего нельзя было поделать. Она сожалела, что Порцию забирали из школы только в первые недели, а потом миссис Квейн решила больше никого за ней не посылать. Она была более чем уверена, что после уроков Порция с Лилиан болтаются на улице. Мисс Полли, конечно, понимала, что нехорошо быть такой старомодной, но все-таки, когда девочек забирали, это задавало определенный тон.
Остававшиеся у мисс Полли на обед девочки ели в маленькой столовой, которая находилась в подвале флигеля, свет здесь почти никогда не выключали. На месте же настоящей столовой была приемная доктора, с похожими на катафалки сервантами. Где обедал сам доктор Полли, никто не знал и никто не спрашивал.
Девочек кормили сытно, просто и далеко не изысканно – Лилиан, которая обедала здесь, потому что дома недоставало слуг, вечно ковырялась в тарелке. Сидевшая во главе стола мисс Полли пыталась вызвать девочек на разговор об искусстве. В ту среду, в Среду, Когда Пришло Письмо, Порция постаралась сесть от мисс Полли как можно дальше, и Лилиан с несвойственным ей проворством уселась рядом с ней.
– Ну ты и попалась, ужас, – сказала Лилиан. – Я не знала, куда глаза деть. Почему ты не сказала, что получила письмо? То-то мне показалось, что вид у тебя презагадочный. Почему ты не прочла его за завтраком? Или это такое письмо, которое перечитываешь снова и снова? Прости, что спрашиваю, но от кого оно?
– От друга Анны. Я отдала ему шляпу.
– Он ее потерял?
– Нет. Я услышала, что он спускается, взяла его шляпу и подала ему.
– Из-за такого писем не пишут. Он что, неприятный тип или просто очень вежливый? И что ты вообще делала в коридоре?
– Я была у Томаса в кабинете.
– Считай, в коридоре. Считай, в коридоре, если дверь была открыта. Слушала, наверное, не идет ли он?
– Я просто сидела там. Понимаешь, в гостиной была Анна.
– Какая ты чудачка. Чем он занимается?
– Работает в конторе у Томаса.
– И ты столько всего можешь чувствовать к мужчине? Я вот вряд ли.
– Он совсем не такой, как Сент-Квентин. Даже майор Брутт на него не похож.
– Все равно, веди себя с ним поосторожнее. Нам с тобой, в конце концов, всего шестнадцать. Ты будешь поливать эту ужасную баранину джемом из красной смородины? Я буду. Забери его у этой свинятины.
Порция отодвинула чашку с джемом от Люсии Эймс, которая скоро должна была дебютировать в обществе.
– Надеюсь, тебе получше, Лилиан? – спросила она.
– О да, но от нервов тянет на всякое.
После уроков – сегодня они закончились в четыре часа – Лилиан пригласила Порцию на чай.
– Даже не знаю, – ответила Порция. – Понимаешь, Анны нет дома.
– Моей матери тоже, а это еще лучше.
– Матчетт сказала, что я могу выпить чаю с ней.
– Господи, – сказала Лилиан, – да это ты когда угодно можешь. А мы с тобой нечасто бываем одни у меня дома. Притащим граммофон в ванную, пока я буду мыть голову. У меня три пластинки Стравинского. Покажешь мне свое письмо.
Порция сглотнула и с ужасом уставилась в одну точку.
– Не могу, я его порвала.
– Ничего ты его не порвала, – твердо сказала Лилиан. – Я бы заметила. Разве что когда ты ходила в уборную, а там ты не задерживалась. Но ты меня обижаешь, я вовсе не хочу ни во что вмешиваться. Кстати, что бы там ни говорила мисс Полли, не оставляй сумку без присмотра.
– Оно не в сумке, – неосторожно ответила Порция.
В конце концов Порция отправилась пить чай к Лилиан и вопреки всем опасениям прекрасно провела время. Они ели оладьи в гостиной, сидя на ковре возле камина. Щеки у них горели, но из-под двери тянуло холодком. Лилиан, пытаясь пристыдить Порцию, вытащила из перевязанной ленточкой пачки три письма, которые ей за время каникул написала преподавательница виолончели. Более того, она рассказала Порции, как однажды в школе у нее заболела голова и мисс Эбер растерла виски и затылок Лилиан своими месмерическими пальцами.
– Теперь я всякий раз вспоминаю о ней, когда у меня болит голова.
– Если она у тебя и сегодня болит, стоит ли тогда мыть голову?
– Не надо бы, но я хочу, чтобы она завтра прилично выглядела.
– Завтра. А что же будет завтра?
– Скажу по секрету, Порция, я и сама не знаю.
Завтра для Лилиан всегда было загадочным: вчерашних дней она не считала, хоть и вздыхала по ним. Она принадлежала к низшей ветви эмоционального сообщества, вечно жившего в ожидании трагедии. В этом жадном внимании к жизни Лилиан не находила, по-видимому, ничего необычного, и такое же внимание Порция замечала повсюду. С самого своего приезда в Лондон Порция взирала на жизнь с каким-то отчаянием – на энергичную и вечно торопливую, вечно движущуюся жизнь, казалось, что даже на мостах прохожие замедляют шаги с какой-то целью, что ни одна птица не летит просто куда глаза глядят. И только она одна никак не могла отыскать пружину, которая приводила эту жизнь в движение. Она ни минуты не сомневалась, что окружающие ее люди знают, что делают, – отовсюду на нее смотрели бдительные, внимательные глаза. Ей не верилось, что кто-то еще, кроме нее одной, может не иметь ни малейшего представления о том, как все вокруг устроено. И она так хотела во всем разобраться, что каждый взгляд, каждое движение, каждый предмет обретали для нее серьезность совершенно политическую, все наполнялось скрытым смыслом.
Домашняя жизнь (ее новая домашняя жизнь) Порцию озадачивала, здесь никто не снимал масок. Почему же люди говорят то, чего не думают, и не говорят того, о чем думают, растерянно спрашивала она себя. И всякий раз, подмечая крывшееся за острым словцом волнение, она чувствовала, что близка к разгадке.
Люди на улицах вели себя проще и куда понятнее. Ей нравилось гулять по городу – незнакомцы не сдерживали улыбок, одинокий прохожий явственно хмурился, влюбленные глядели друг на друга так, будто доискались до истины, а старики и убогие несли свою печаль до того неприкрыто, что ей казалось – пусть они еще не знают ее, пусть она еще не знает их, но эти люди знают хотя бы друг друга. Близость, которую она с этого самого утра чувствовала к Эдди (близость, какую чаще всего, бывает, чувствуешь во сне), была близостью к жизни, которую она пока ощущала, лишь когда ей улыбался незнакомец из другого конца автобуса. Люди, конечно, очень счастливы, думала она, но каждый по отдельности обрекает себя на несчастье. И потому она сторонилась показной загадочности, которой отдельные люди старались себя окружить: улыбок Анны, завтрашних дней Лилиан, запертых комнат, закрытых сердец.
Порция перевернула пластинку, снова завела стоявший на закрытом туалетном сиденье граммофон, и, пока Лилиан мыла голову, ванную наполнила музыка Стравинского. Лилиан закрутила волосы в тюрбан из полотенца, и Порция отнесла граммофон обратно к камину. Когда Лилиан наконец высушила волосы – перекрученный, душистый от жары водопад, – пробило семь; Порция сказала, что ей пора домой.
– Да они тебя и не хватятся. Ты ведь позвонила Матчетт, да?
– Ты говорила, что можно позвонить, но я отчего-то так и не позвонила.
Открыв дверь дома по Виндзор-террас, Порция услышала доносившийся из кабинета голос Анны, которая что-то объясняла Томасу. На минуту они смолкли, прислушиваясь к ее шагам, потом заговорили снова. Она прокралась по белому каменному полу, который никогда не был холодным, и подошла к ведущей в подвал лестнице.
– Матчетт! – тихо, взволнованно позвала она.
Дверь внизу была открыта: Матчетт вышла из комнатки за буфетной и, приставив ко лбу ладонь козырьком, взглянула на Порцию. Сказала:
– А, это вы.
– Надеюсь, ты не волновалась.
– А я вам чай приготовила.
– Лилиан уговорила меня пойти к ней.
– Ну и хорошо, – наставительно ответила Матчетт. – Давненько вас туда не звали к чаю.
– Но в то же время я чувствовала себя ужасно несчастной. Ведь вместо этого я могла бы пить чай с тобой.
– Несчастной! – суровейшим эхом откликнулась Матчетт. – Эта Лилиан хотя бы ваша ровесница. Но позвонить, однако, стоило. Это та, которая с волосами?
– Да. Она как раз мыла голову.
– Как приятно, в нынешние-то времена, посмотреть на такие волосы.
– Но мне-то хотелось поесть тостов с тобой.
– Ну, чтоб все да сразу, такого не бывает.
– Они ужинают в городе? Поговоришь со мной, пока я буду ужинать, Матчетт?
– Там поглядим.
Порция развернулась и пошла к себе. Слышно было, как Анна набирает ванну – вверх потянулся аромат банных масел. Закрывая дверь, она услышала шаги Томаса – тот с неохотой шел по коридору к себе в гардеробную: пора было переодеваться во фрак.
5
Получив место у «Квейна и Мерретта», Эдди уже не мог так часто бывать у Анны. Она сразу об этом подумала, и когда Томас, фактически по ее просьбе, уговорил Мерретта взять к ним Эдди, Анна, в самых любезных выражениях, разъяснила Эдди, что теперь они будут видеться гораздо реже. Начнем с того – и на этом, пожалуй, закончим, – что Эдди теперь будет очень занят: в конторе придется работать. Впрочем, совсем от него избавиться не удалось. Эдди (поначалу) был благодарен Томасу, но не Анне. Она, конечно, желала ему добра, и работа, конечно, ему была нужна, уже очень нужна, он к тому времени едва концы с концами сводил, но, как знать, не запихнула ли она его в «Квейн и Мерретт» как в своего рода oubliette?[12] Изводя себя сомнениями, он часто слал ей цветы и – в первые недели на новом месте – совершенно невинные с виду записочки, которые, впрочем, казались пародией на то, что он чувствовал на самом деле. Он писал, что благодаря новой работе стал новым человеком, что никто не знает, как плохи были его дела, что никто не знает, каково ему приходится сейчас и т. д.
Многие и уже довольно давно знали, каково приходится Эдди. Еще до их знакомства (Эдди был дружен в Оксфорде с кузеном Анны) ей рассказывали о его вселенских приступах черной меланхолии, которыми он главным образом и отличался. Ее кузен не знал никого, кто предавался бы им столь всецело, и был уверен: других таких людей попросту и нет. Дэнис, ее кузен, и Эдди в то время как раз принадлежали к кружку, где уникальность ценилась превыше всего. Но все были в восторге от Эдди, он был этакой маленькой, яркой хлопушкой, которая, если с силой дернуть за ниточку, взрывалась с громким хлопком. Гениальный ребенок неизвестных родителей, он приехал в Оксфорд с готовностью всему удивляться. Оксфорд повертел его и покрутил, побросал из стороны в сторону, обдал холодом, спустил с небес на землю и наконец, из-за одного идиотского проступка, с ним распрощался. Выглядел Эдди очаровательно: была в нем пролетарская, звериная, бойкая живость. Он год совершенствовал свои манеры и теперь держался уверенно, бодро и доверительно. Заделался откровенным карьеристом, хотя единственное, чего никто пока не знал об Эдди, так это то, что он чувствовал, торгуя своими талантами. Его бурные приступы поистине русской откровенности при ближайшем рассмотрении оказывались срежиссированными куда более тщательно, чем выглядели. Друзья кузена Анны, считавшие Эдди чертовски умным, относились к его вспышкам ярости, к его полнейшему (иногда) отречению от всех них как к самой примечательной черте его характера – и пару раз какой-то неуловимый, но длительный осадок, который оставлял по себе его гнев, вызывал у них искреннее уважение.
Когда он уехал из Оксфорда, выяснилось, что у него много приятелей, но почти нет друзей. Он отдалился от семьи – неизвестных жителей неизвестной провинции, которые и сделать-то, впрочем, для него ничего не могли. Приехав в Лондон, он устроился работать в газету, а в свободное время изливал обиду в сатирическом романе, публикация которого не принесла ему ничего хорошего. Его немногочисленные читатели разделились на тех, кто вообще не видел в этой книге никакого смысла, и тех, кто этот смысл увидел, оскорбился до глубины души и решил выместить свою обиду на Эдди. А все благосостояние Эдди настолько зависело от чужого к нему расположения, что он, по правде говоря, не мог себе позволить никого обижать: тут он, уже не в первый раз, показал себя человеком, чьи затаенные страсти в трудную минуту брали верх над здравомыслием. Спустя несколько недель после выхода книги Эдди узнал, что больше не работает в газете, редактор которой, сам соображавший довольно туго, приходился родственником кому-то из героев романа Эдди. Разочарованию и возмущению Эдди не было границ, он исчез, обронив что-то о том, что хочет, мол, записаться в армию. Но едва люди стали замечать, кто с облегчением, а кто и с разочарованием, что он куда-то подевался, как он вернулся – очень бодрый, от его возмущения не осталось и следа – и бессрочно поселился в Бейсуотере, у семейной пары по фамилии Монксхуд.
Никто не знал, где он взял этих Монксхудов, говорили что-то о том, что они все вместе взбирались на Кадер Идрис[13]. То была очень милая пара – серьезные, уже немолодые, бездетные идеалисты, пылко верившие в молодежь. Они были состоятельными людьми и как будто бы намеревались усыновить Эдди, хотя миссис Монксхуд, возможно, мечтала о чем-то немного большем. В монксхудовский период Эдди помогал своим покровителям с научными изысканиями, завязывал полезные знакомства на вечеринках, пописывал рецензии и сочинял памфлеты, которые размножала девушка, державшая печатный станок на чердаке. На смену «буре и натиску» пришли «искусства и ремесла». И в это-то время, когда Эдди с виду порядочно остепенился, Дэнис и привел его в гости к Анне, и он с доверчивостью котенка прижился у нее дома. Казалось, все шло даже слишком хорошо, но тут друг, у которого Эдди увел девушку – точнее, одолжил на время, а потом привел обратно, – втерся в доверие к Монксхудам и принялся поливать Эдди грязью. Эдди – сам того не осознавая, но, возможно, уловив витавшее в воздухе предчувствие конца, – со всех ног кинулся навстречу погибели: привел девушку в свою комнату в монксхудовской квартире. Квартира для такого оказалась слишком мала, и Монксхуды, уже и так порядком перенервничавшие, услышали гораздо больше, чем им бы хотелось. Не зная, как избавиться от Эдди, они сдали квартиру и уехали жить за границу. Эдди это глубоко ранило – он ведь так хорошо вел себя с Монксхудами, предупредительно, бойко, по-сыновнему. Не понимая, отчего они так жестоко с ним обошлись, он заподозрил своих покровителей в склонности к некоторым извращениям, в которых он, сам того не зная, видимо, все время им отказывал. Выходило, никому нельзя верить.
Всем заинтересованным лицам Анна рассказывала, что Монксхуды очень плохо поступили с Эдди: ей тоже казалось, что они собирались его усыновить. То было время, когда появление Эдди в доме на Виндзор-террас было поводом для радости, а не для головной боли. Утром того дня, когда Дэнис, не без удовольствия, сообщил ей дурные новости, Анна, поддавшись порыву, написала Эдди письмо. Он пришел, встал посреди ее гостиной. Она ждала, что у него будет вид человека, ставшего игрушкой в руках судьбы, но он держался просто молчаливо и как-то отвлеченно, с некоторой, впрочем, долей звериной угрюмости. Выяснилось, что он не знает и что его, похоже, совершенно не заботит, чем он будет питаться и где ночевать. Его юное порочное лицо – высокий лоб, бронзовые кудри, энергичные брови и, пожалуй, уж слишком подвижный рот – казалось ослепительно невинным. Пока они разговаривали, он даже не присел, а так и стоял на некотором отдалении от Анны, словно давая ей понять, что несчастье их разделило. Он сказал, что, наверное, уедет.
– Уедешь куда?
– О, куда-нибудь, – отвечал Эдди, опустив глаза. И прибавил, нарочито сухим тоном: – Мне кажется, Анна, будто всё и вправду против меня.
– Чепуха, – ласково ответила она. – А что родители? Может, поживешь пока дома?
– Нет, нельзя. Понимаешь, они ужасно мной гордятся.
– Да, – согласилась она (представив себе их простой дом). – Они, конечно же, очень тобой гордятся.
Эдди взглянул на нее с еле заметным презрением.
Она продолжила, подкрепив свои слова легким выразительным жестом:
– Но, послушай, тебе ведь нужно как-то жить. Не думал ли ты найти, например, работу?
– Отличная идея, – сказал Эдди, слегка вздрогнув, впрочем, Анна не уловила иронии. – Ну да ладно, – продолжал он, – не хочу, чтобы ты волновалась. Не стоило мне приходить.
– Я же сама тебя позвала.
– Да, верно. Очень мило с твоей стороны.
– Все это мне покоя не дает, эти Монксхуды – монстры какие-то. Хотя, как знать, может быть, в конце концов из этого ничего бы и не вышло. Но теперь-то ты стал гораздо свободнее. Можешь сам устраивать свою жизнь, ты ведь все-таки очень умный.
– Все так говорят, – рассмеялся в ответ Эдди.
– Давай-ка все как следует обдумаем. Нужно быть реалистами.
– Как это верно, – сказал Эдди, взглядывая в зеркало.
– И, знаешь что, не теряй головы, будь посговорчивее. Не делай ничего сгоряча, не поддавайся этой своей меланхолии – ну правда, у тебя нет на это времени. Слышала я об этих твоих перепадах настроения.
– Перепадах? – спросил Эдди, вскидывая брови.
Он как будто не просто смешался, а искренне удивился ее вопросу. Неужели он о них ничего не знал? Может быть, это и вправду были припадки.
Весь день Анна места себе не находила от беспокойства – Эдди не шел у нее из головы. Затем, часов около шести, ей позвонил Дэнис и доложил, что Эдди только что перебрался в его, Дэниса, квартиру и настроение у него преотличное. Ему только что заказали серию статей – статей, которые он мог написать хоть стоя на голове. На основании этого он занял у Дэниса два фунта и поехал выкупать свои вещи, находившиеся в камере хранения на станции метро «Пикадилли». Кроме того, на обратном пути он пообещал купить пару бутылок спиртного.
Опешив, Анна сказала:
– Но ведь у тебя в квартире нет места для двоих.
– Ничего страшного, я уезжаю в Турцию.
– С чего это тебе взбрело в голову ехать в Турцию? – спросила Анна, рассердившись еще больше.
– Ой, у меня куча причин. Эдди может пожить тут, пока меня не будет. Думаю, все у него будет хорошо, кажется, он избавился от этой девицы.
– Какой девицы?
– Ну той самой, которую он водил к Монксхудам. Она ему ни капли не нравилась – пустенькая потаскушка.
– Какие же вы все, студенты, сами пустенькие и вульгарные.
– Ладно, Анна, дорогуша, ты уж пригляди за тем, чтобы Эдди тут не заскучал. Эдди такой дусик, ведь правда? – сказал Дэнис. – Но он, как я всегда говорю, человек настроения.
И, не дожидаясь ответа Анны, повесил трубку.
Прошло два дня, Анна немного поостыла, Дэнис и впрямь уехал в Турцию, и Эдди, судя по голосу, было очень одиноко в квартире. Анна, чувствуя, что кто-то все-таки должен нести за него ответственность, разрешила Эдди приходить на Виндзор-террас, когда ему вздумается. Поначалу эти визиты всех устраивали: Анна всегда была чужда романтики, но теперь Эдди заделался ее первым трубадуром. Он ссудил всего себя, охотно и быстро, – ну или сделал вид, что ссудил, – иллюзиям, которые Анна питала насчет жизни. Более того, своим поэтическим к ней отношением он создал вокруг нее художественный мирок. Тщеславность, которую она остро осознавала, честность, к которой она себя понуждала, даже секреты, которых она ему не рассказывала, существовали внутри хрустального шара, куда гляделись они вдвоем, – и существовали в розовом свете. На Анну он произвел эффект, обратный тому, что позже окажет на нее дневник Порции. Казалось, Эдди боготворит Анну, и, скорее всего, так оно и было. Если его и настигали черные мысли, он снова выныривал на поверхность ради нее одной – с ласковой улыбкой наготове. На себе она в полной мере ощутила его дикарские манеры; он был с ней ужасно мил – почти против собственной воли, и ей нравилось слышать, как люди, другие люди, называют Эдди холодным или надменным… Этот период платонического флирта, флирта, не терявшего своей тонкости благодаря их ироническим улыбкам, продлился около полутора месяцев. Но тут Эдди сделал неверный ход – он попытался поцеловать Анну.
И не просто поцеловать – Эдди совершил куда более серьезную оплошность, дав понять Анне, что думал, будто она только того и хотела. Услышав это, Анна страшно разозлилась, и Эдди, которому снова показалось, что его предали, обманули и оскорбили, сразу потерял власть над происходящим. А потеряв власть, потерял и голову. Он не был влюблен в Анну, но искренне пытался отплатить ей за доброту таким способом, который, по его мнению, ей не мог не понравиться. Обычно ведь всем нравилось. И кстати, в последние годы его так безжалостно бросало из стороны в сторону как раз потому, что всем от него было только это одно и нужно: самый разный интерес к нему самых разных людей все равно, казалось, заканчивался ровно в одной этой точке. Во-вторых, он поцеловал Анну – точнее, попытался это сделать, – потому что в жизни руководствовался исключительно практическими соображениями. У него не было времени ни на отношения, которые ни к чему не вели, ни на бесконечно вежливые игры. И когда Анна устроила ему сцену, Эдди решил, что она просто дурочка. Он не знал о Пиджене, не знал о том, как тяжело она пережила эту историю – если вообще пережила. Он думал, что Анна устроила такую сцену по каким-то своим, и довольно неприглядным, причинам.
Они злились и досадовали, но, к несчастью, не были готовы разойтись по-хорошему. Их прежний союз был основан на предвкушении удовольствий. Теперь же они изо всех сил старались насолить друг другу и никак не могли удержаться от взаимных издевок. Теперь на людях Эдди пожирал Анну глазами, а оставшись с ней наедине – пытался неловко, украдкой до нее дотронуться. Будь Анна совершенно равнодушна к Эдди, это бы ее так не раздражало, но весь этот фарс, в котором не было ни малейшего намека на страсть, ее только оскорблял. На его лицедейство она отвечала убийственной иронией. Анне хотелось только одного – поставить Эдди на место (что это за место, она, правда, представляла очень смутно). Но чем больше она прикладывала к этому усилий, тем хуже вел себя Эдди.
Временами Анна почти ненавидела его – за внутреннюю пустоту. Эдди же считал Анну фальшивкой до мозга костей и презирал ее за то, что ей во всем хотелось быть главной. И при этом они все равно снова и снова обнаруживали друг в друге проблески подлинного чувства. Но если Анна хотя бы спрашивала себя, что же такое с ними происходит, то Эдди, похоже, такими вопросами даже не задавался. А вдруг она – его злой гений? Однажды в приступе раскаяния она позвонила в квартиру Дэниса, и Эдди разрыдался. Жалость, которая ее захлестнула, отчего-то стала последней соломинкой: она тотчас же спустилась к Томасу в кабинет и пожаловалась, что Эдди ее утомил и она больше не может его выносить.
Томас предвидел такое развитие событий и философски ждал, когда этот день наступит. Расцвет и гибель чужих отношений он наблюдал не впервые. Тогда он еще не испытывал неприязни к Эдди, который так старался ему понравиться, что Томасу нравилась уже сама откровенность этих его стараний. Он не без удовольствия смотрел, как Эдди донимает Сент-Квентина и остальных их друзей. С большим удовольствием он прочел роман Эдди, вызвавший у него куда более горячий отклик, чем у Анны, – Эдди был свободнее и мог сказать о жизни побольше, чем он, Томас, который в этой жизни уже основательно поувяз. И поэтому Томас читал роман, блаженно улыбаясь, чувствуя себя чуть ли не сообщником Эдди. Он дал почитать роман Мерретту, и тот, оценив его неграненый блеск, сделал себе пометку насчет Эдди – на будущее. Оказалось, не зря, потому что Анна сообщила Томасу, что Эдди нужна нормальная, постоянная работа, на которой его таланты будут оценены по достоинству, – и кстати, не найдется ли Эдди место у «Квейна и Мерретта»? Обстоятельства складывались как нельзя удачно, Эдди отправили на собеседование.
Узнав, что «Квейн и Мерретт» готовы дать Эдди три месяца испытательного срока, она позвонила Эдди и пригласила зайти. Теперь-то их отношения должны были стать просто идеальными – теперь она была его покровительницей.
В то утро на Эдди был галстук сдержанной расцветки, казалось, будто он уже принадлежит к другому миру. Держался он любезно и крайне отстраненно. Сказал, что в «Квейне и Мерретте» все были к нему очень добры и что писать забавные рекламки будет, несомненно, забавно.
– Не знаю, как тебя и отблагодарить, – сказал он.
– А зачем? Я просто хотела помочь.
На ее улыбку Эдди ответил не менее добродетельным взглядом.
Она продолжила:
– Я за тебя волновалась, может, потому и казалось, будто я тебя не жалею. Но я была уверена, тебе нужно как-то определиться в жизни. Томас думает, я дурно на тебя влияю, – неосмотрительно прибавила она.
– Это у тебя вряд ли получится, дружок, – беспечно сказал Эдди. Но тут же отбросил эту манеру. – Вы оба были ко мне так добры, – сказал он. – Надеюсь, вам со мной не слишком тяжко пришлось? Когда я волнуюсь, мне словно все-все прямо действует на нервы. Я столько контор обошел в поисках работы, и мне везде наотрез отказывали. Я уж было и впрямь начал думать, что все против меня, – глупо, конечно.
– Так ты, значит, искал работу?
– А что же я, по-твоему, делал все это время? Я тебе ничего не рассказывал – меня это все крайне удручало, а кроме того, я боялся, что ты сочтешь это вульгарным. Все друзья со мной как будто рассорились, и мне не хотелось просить у них помощи. Ну и, разумеется, я задолжал кучу денег – помимо всего прочего, я должен тридцать пять шиллингов поденщице Дэниса.
– Дэнису не следовало бросать тебя на такую дорогую поденщицу, – сердито сказала Анна. – О чем он только думал. Но ведь хоть какие-то деньги у тебя были?
– Были, пока я их не потратил.
– А чем же ты питался?
– А, чем придется. Должен признаться, я был тебе очень благодарен за превосходные обеды и ужины. Надеюсь, я не слишком брюзжал за едой? Знаешь, я когда волнуюсь, меня мучает несварение. Я совсем не такой, как Сент-Квентин и Дэнис и все эти люди твоего круга. Боюсь, дружок, мне недостает выдержки, и я ужасно стыжусь своего безделья.
– Глупенький! Ты же знал, что мы можем тебе помочь.
– Да, я так и думал, – совершенно искренне ответил Эдди. – Но, знаешь, мне прямо до смерти не хотелось вас ни о чем просить, а потом, когда ты так на меня набросилась, все стало еще сложнее. Но, видишь, как все вышло – я просто везунчик!
Анна взяла себя в руки.
– Рада слышать, – сказала она, – что все дело оказалось попросту в деньгах. А то я, знаешь ли, боялась, что это из-за нас с тобой.
– К сожалению, – ответил Эдди, – все было гораздо сложнее.
– Я бы сказала – гораздо проще. Очень важно ведь понимать, хорошо ты поступаешь с людьми или плохо.
– Наверное – когда у тебя есть деньги. И все-таки, Анна, как красиво ты мыслишь. Кажется, мне от знакомства с тобой одна сплошная польза. Но я, дружок, я совсем неинтересный: человек-желудок.
– Что же, я рада, что теперь все наладилось, – ответила Анна с несколько холодной улыбкой.
Она поднялась с дивана и облокотилась на каминную полку, затеребила хрустальную подвеску люстера[14]. Анна умела держаться совершенно неподвижно и ненавидела людей, которые ерзают и не знают, куда себя деть, поэтому теперь ее суетливые движения казались чуть ли не проявлением страсти, и Эдди, зная об этом, с удивлением на нее уставился.
– И все-таки, – спросила она, – не считая денег – хотя я, конечно, понимаю, что это очень, очень важно, – отчего же ты так невыносимо себя вел?
– Ну, дружочек, с одной стороны, мне хотелось, чтобы ты была счастлива, а с другой – я боялся, что ты заскучаешь, если мы с тобой будем продолжать в том же духе и при этом ровным счетом ничего не произойдет. Понимаешь, мне случалось понаскучить людям. И я жил в таком кошмаре, что от тебя мне хотелось чего-то, для чего не нужно было бы прикладывать все силы, чего-то, что не даст мне свихнуться.
Анна еще сильнее затеребила подвеску.
– Тогда желаю тебе больше не видеть никаких кошмаров.
– Еще бы, дружок, ведь у «Квейна и Мерретта» моя жизнь будет райским сном.
Анна нахмурилась. Эдди отвернулся и стал глядеть в окно, выходившее на парк. Он расправил плечи, сунул руки в карманы, в общем, принял позу человека, стоящего на пороге новой жизни. Аквамариновые портьеры, перевитые бахромчатыми шнурами, сборились у него над головой, спадали на пол рельефными складками, театрально обрамляя его фигуру. Мир виделся ему надежнейшим, веселым местом. То было весной прошлого года: на каштанах у нее под окнами уже вовсю набухали почки, сквозь ветви посверкивало озеро, плавали лебеди, промелькнул одинокий алый парус, весенний свет лежал на всем как глазурь. Эдди вытащил руку из кармана, ущипнул тяжелую муаровую складку портьеры. Неосознанное, но враждебное движение. Анна услышала, как скрипнул муар у него под пальцами.
Анна ни на минуту не сомневалась, что Эдди мысленно старался опошлить все происходящее. Да, и еще он всем своим видом показывал, что его, мол, купили как товар, шлепнули на спину ярлычок: «Квейн и Мерретт».
Она сказала – легко, негромко:
– Рада, что тебе все нравится.
– Пять фунтов в неделю – только за то, чтобы быть молодцом и умницей! Кому же такое не понравится?
– Боюсь, что они ждут от тебя несколько большего. Я надеюсь, ты и вправду будешь работать?
– Чтобы не подвести тебя?
Она не ответила, и наступило молчание. Эдди обернулся к ней с самой своей убедительной, самой бессмысленной улыбкой.
– Иди сюда, взгляни на озеро! Вряд ли нам с тобой когда-нибудь еще удастся вот так полюбоваться им утром – у меня будет слишком много дел.
Чтобы доказать, насколько это все ее не трогает, Анна послушно подошла к нему. Бок о бок они стояли у окна, она сложила руки на груди. Но Эдди с непритворной беспечностью человека, не обращающего внимания на границы, взял ее под локоть.
– Я стольким тебе обязан!
– Даже не знаю, что ты хочешь этим сказать.
Эдди окинул взглядом ее настороженное лицо – казалось, сияющие заводи его глаз стянули к себе весь свет, сквозь точечки зрачков проглядывала пустота.
– Дивно, наверное, – сказал он, – когда целая контора у тебя в кармане.
– И когда же тебе впервые пришло в голову, что я могу тебя туда пристроить?
– Конечно, я об этом давно думал. Но мне делалось дурно от одной мысли о рекламе, и, сказать по правде, Анна, с моей-то тщеславностью я все надеялся, что найду себе занятие получше. Ты ведь не сердишься на меня, дружочек? Не стоит судить других по тому, как им, бывает, приходится себя вести.
– Твои друзья говорят, уж ты-то вечно выйдешь сухим из воды.
И этих слов он тоже ей никогда не простит. Прошла минута – упала камнем, и наконец он ответил:
– Раз уж я знаюсь с людьми, которые меня погубят, хотелось бы и мне с этого что-нибудь иметь.
– Ничего не понимаю. Погубят тебя? Кто погубит?
– Ты и тебе подобные. Ты только и делаешь, что смеешься надо мной, и хорошо, если только смеешься. А возвращаться домой мне стыдно.
– Вряд ли мы уж так тебе навредили, Эдди. Ты, наверное, еще до конца не пришел в себя, раз так грубишь.
– О, уж грубить-то я умею!
– Тогда отчего же ты так злишься?
– Ох, Анна, я не знаю! – запальчиво, по-детски воскликнул он. – Мы скатились в какой-то абсурд. Пожалуйста, прости меня – вечно я не знаю, когда нужно уйти. Я просто зашел поблагодарить тебя за мою чудесную работу, я думал, что буду вести себя очень нормально… Ой, гляди, чайка уселась на шезлонг!
– Да, значит, весна пришла, – машинально отозвалась она. – Если они выставили шезлонги.
Она не совсем твердой рукой вытащила сигарету из портсигара, закурила. Белая чайка сидела в лучах солнца на зеленом шезлонге, полосатый парус пролетел по озеру вслед за алым, улыбающиеся прохожие и дети, носившиеся между арфообразными лужайками, казались мизансценой для пьесы. Карильон прозвонил мелодию, потом пробили часы.
– Что же – я последний раз говорю тебе «дружок», дружок?
– Похоже на то, – ответила она. Она ухватилась за предложенную возможность и в самых любезных выражениях объяснила ему, что теперь они будут видеться гораздо реже.
– Но это я и так знаю, – настаивал он. – Я то же самое и говорю. Поэтому-то я пришел – попрощаться с тобой.
– Попрощаться только отчасти. Вечно ты все преувеличиваешь.
– Ладно, прощай отчасти.
– На самом деле ничего не изменится.
– Знаю, знаю, дружок. Но мы сделаем вид, что изменилось.
Оказалось, что они не распрощались даже отчасти. Но, сказала себе самой Анна, это положило начало третьему и самому гармоничному периоду их отношений. Тем же вечером он прислал ей полдюжины камелий, а три дня спустя, уже выйдя на работу, – письмо, первое из серии писем, которые он напишет ей на солидного вида конторской писчей бумаге. Он совершенно безыскусно и до того по-детски, что это производило жутковатое впечатление, писал о том, какие его коллеги ужасно милые. На деле же он еще несколько недель дулся на Анну и ей подобных. Письмо, в котором он писал, что благодаря новой работе стал новым человеком, Анна порвала, а обрывки бросила в камин. Она спросила Томаса, как у Эдди дела на самом деле, и Томас ответил, что Эдди по-прежнему очень много из себя понимает, но все вроде бы идет к тому, что со временем он пооботрется.
Шесть дней спустя Эдди пожаловал к Анне с отчетом и поднес ей три цветущих вишневых ветки в голубом бумажном кульке. После этого проницательность, появившиеся у него деньги или новые друзья на некоторое время удержали его от повторного визита. В конце концов он остановился на еженедельном букете тюльпанов, ворковании по телефону, дипломатично милых письмах, а после тюльпанов – на розах. Томас в ответ на новые расспросы доложил, что Эдди держится молодцом, хотя не таким молодцом, как считает сам Эдди. Когда Дэнис вернулся из Турции и попросил освободить его квартиру, Анна написала Эдди и велела больше не слать цветов: теперь ему нужно будет платить за жилье. Цветов ей больше не слали, но Эдди, словно испугавшись, что их общение может и вовсе прекратиться, теперь стал чаще у них появляться. Работа работой, но он снова сделался привычным гостем дома по Виндзор-террас, когда сюда переехала жить Порция.
6
В половине одиннадцатого вечера Матчетт, стараясь дышать как можно тише, приоткрыла дверь в спальню Порции. Полоска света с лестницы прореґзала темноту, скользнула в комнату. Порция, не поднимая головы с подушки, прошептала:
– Я не сплю.
По правде сказать, наверху больше никого и не было: Томас с Анной ушли в театр, но их приходы и уходы на Матчетт никак не сказывались. Она не теряла бдительности и когда хозяева были дома, и когда их не было. Но, если они были дома, она не поднималась пожелать Порции спокойной ночи.
Если после десяти вечера Матчетт понижала голос и говорила еще лаконичнее, казалось, что это из уважения к надвигающемуся сну. Она ждала, когда дом затопит волной тишины. И, ожидая, приближала сон несложными церемониями: раскладывала на кровати ночные сорочки, взбивала опавшие подушки, приветственно разбирала постели. Становясь на колени, чтобы поворошить угли в камине, нагибаясь, чтобы засунуть грелку под одеяло, она словно бы склонялась перед непобедимой ночью. Все это она проделывала с такой непоколебимой торжественностью, что каждая кровать превращалась в своего рода алтарь, – в больших домах, где на все есть свои правила, не избежать атмосферы некоторой религиозности. Суточные обряды отправляются с боґльшим чувством, когда всю работу делают слуги.
Порция инстинктивно понижала голос с наступлением темноты: она привыкла к тонким стенам. Дверь закрылась, срезав дугу света, Порция услышала, как Матчетт прошла по комнате оглушительно тихими шагами. Как обычно, Матчетт подошла к окну и раздернула занавески – снова наступил тусклый, ненастоящий день, дымно-желтый, как будто Лондон был охвачен огнем. Время от времени мимо проезжали машины, сворачивали за угол. Тишина в запертом парке совсем не то, что тишина за городом: она сжатая, закупоренная.
В неровной полутьме виднелись очертания мебели и фартук Матчетт – фосфоресцентным пятном, которое приблизилось, когда она уселась на кровать.
– А я уж думала, ты не придешь.
– Я штопала. Мистер Томас прожег край простыни.
– Он что, курит в постели?
– Курил на прошлой неделе, пока ее не было. Забил всю пепельницу окурками доверху.
– Как по-твоему, он только из-за нее не курит в постели?
– Он курит, когда не может уснуть. Весь в отца, не любит, когда его бросают.
– Но ведь папу никто не бросал. Мама уж точно никогда, а она? Миссис Квейн, в смысле? Ой, Матчетт, слушай, если б она была жива – в смысле, если бы была жива мать Томаса, – как бы я тогда ее называла? Ведь и слова такого нет.
– Какая теперь разница? Она умерла, вам с ней не нужно говорить.
– Да, она умерла. Как думаешь, это из-за нее мы с Томасом так непохожи?
– Нет, мистер Томас скорее в отца, чем в нее. И как это вы непохожи с мистером Томасом? Куда ж еще больше-то?
– Не знаю… Скажи, Матчетт, а миссис Квейн потом пожалела? То есть ей хорошо было одной?
– Одной? У нее остался мистер Томас.
– Она пошла на такую жертву.
– Тех, кто приносит жертву, – сказала Матчетт, – жалеть не нужно. Жалеть нужно тех, кого они приносят в жертву. Те, кто жертвуют, – с ними не так все просто. Каждому ясно, без чего он сумеет прожить. Да, миссис Квейн последнюю рубашку бы с себя сняла и отдала, но по большому счету ничего она не потеряла. Когда мы узнали, что вы родились где-то там во Франции, она ходила с таким видом, будто вы ее первая внучка. Зашла ко мне в бельевую, рассказала. «Прелестная малышка», – говорит. «Ох, Матчетт, – говорит, – он всегда так хотел дочку!» Потом она спустилась в холл и телефонировала мистеру Томасу. Слышу, значит: «Томас, прекрасные новости!»
Увлекшись, как всегда, этой темой, Порция перевернулась на бок, поджала колени так, чтобы обвиться вокруг сидящей на кровати Матчетт. Скрипнули пружины – Матчетт выпрямилась, уселась поудобнее. Просунув руку под подушку, Порция уставилась в темноту, спросила:
– А какой тогда был день?
– На чем я остановилась? А, день был погожий, очень весенний – для февраля-то. Сад наш был хорошо укрыт от ветра, он был разбит на солнечной стороне холма. Она вышла из дома без шляпы, я видела, перебралась через ручей, который мистер Квейн сделал, и стала там, на другой стороне ручья, рвать подснежники.
– Как это он смог сделать ручей?
– Ну, в саду был ручеек, но не там, где хотелось миссис Квейн, поэтому он вырыл канаву и пустил его в другую сторону. Он над ним трудился все лето, перед тем как уехать, – и как же он потел! Одежду выжимать было можно.
– Но в тот день, когда я родилась, что ты ей ответила, Матчетт?
– Когда она сказала, что вы родились? Я сказала: «Подумать только, мадам», ну или что-то в этом роде. Она-то уж точно хотела услышать больше. Но я себя чувствовала, я чувствовала себя так, будто у меня что-то в горле застряло, поэтому и не смогла больше ничего сказать. Да и зачем мне что-то говорить? Уж ей-то точно незачем. Разумеется, мы знали, что вы появитесь. Все так и ели миссис Квейн глазами – как, мол, она это воспримет, и уж поверьте мне, она знала, что на нее все смотрят. Я отвернулась тогда, принялась снова белье раскладывать и говорю сама себе: «Несчастное дитя». Она это заметила и никогда мне этого не простила – хотя сама того не зная.
– А почему ты решила, что я несчастная?
– Тогда я так думала. Ну и вот, собирает она подснежники, а сама то и дело останавливается и взглядывает на небо. Чувствовала, наверное, как Господь на нее сверху смотрит. Весь сад был из окон виден – чтобы можно было следить за тем, как мистер Квейн работает, будто он мальчишка какой. Потом она вернулась и поставила подснежники в воду, в китайской вазе, которой она очень дорожила – ох, как она ей дорожила, но в конце концов вазу эту разбила горничная. (Миссис Квейн пришла ко мне с осколками в руках, улыбаясь что было сил. «Вот и еще одного кусочка жизни не стало, Матчетт», – сказала она. Но горничную она ни словом не упрекнула – о нет, для этого она была о себе уж слишком хорошего мнения.) А вечером приехал мистер Томас, поездом из Оксфорда: ему, наверное, казалось, что он должен своими глазами увидеть, как мать это все на самом деле восприняла. Я ему приготовила комнату, он заночевал дома. Вид у него был весьма растерянный, а из петлицы торчали три подснежника, которые она ему сунула. Он тогда еще остановился возле дверей и поглядел на меня так, будто думал, что ему непременно нужно что-то сказать. «Ну, Матчетт, – сказал он мне, и довольно громко, – значит, теперь у меня есть сестра». «Совершенно верно, сэр», – ответила я ему.
– И это все, что сказал Томас?
– Уж, наверное, тогда ему, такому молодому парню, дома было не по себе, как будто ребенок прямо тут и родился. Да и нам всем тоже, честно сказать. Потом миссис Квейн уселась за пианино и играла для мистера Томаса.
– Но они были хотя бы немножко рады?
– Уж мне-то откуда знать? Так она и играла на пианино до самого ужина.
– Матчетт, но если Томас любит игру на пианино, отчего же здесь нет пианино?
– Он его продал, когда она умерла. О, со мной-то она всегда обходилась честь по чести, все пятнадцать лет, что я у нее проработала. Что касается работы, хозяйки лучше было и не найти: она расстраивалась, только если ты ей дашь понять, что она, мол, не слишком к тебе внимательна. Ей хотелось, чтобы уж я не забывала, как она меня высоко ценит. «Я с легким сердцем оставляю дом на тебя, Матчетт», – бывало, говорила она мне, стоя в дверях, когда куда-нибудь уезжала. Я это вспомнила, когда ее гроб выносили. Нет, ни разу она не повысила на меня голоса, и всегда у нее для меня находилось доброе слово. Но полюбить я ее никак не могла – не было в ней жизни. Она на меня частенько косо так посматривала. Ей нравилось все, что я делала, не нравилось только, как я это делаю. А уж сколько раз я слышала, как она говорит своим друзьям: «Будь любезна с прислугой, проявляй к ним интерес, и они на все для тебя пойдут». Так ей, значит, казалось. Что ж, работать мне там нравилось, работа эта мне понравилась с самого начала, но она простить мне не могла того, что мне нравилось работать ради самой работы. Натираю я, например, мебель у себя в гостиной или мрамор свой начищаю щеткой с мыльной пеной, как она тут же подойдет ко мне и скажет: «Ах, как все блестит! Я, честное слово, не нарадуюсь». О, и она-то, по-своему, хотела как лучше. Но работа – это не то, что ты из себя изображаешь, а то, что ты в нее вкладываешь. Никогда ты не добьешься хорошей работы от горничной, которая только и думает о том, как бы тебе угодить, – такая и работать будет только напоказ. Но она этого никогда не понимала. А вот если мистер Квейн заходил к себе в курительную или еще куда-нибудь, где ему хотелось побыть, и видел, что я там работаю, вот он, хоть и был кроткого нрава, а все равно тогда глядел на меня мрачно, будто хотел сказать: «А ну проваливай!» Он-то прекрасно знал, я ему не друг, я работаю в курительной, где он хотел посидеть. И стоило мне хоть что-то положить не туда, как он принимался скандалить, потому что, когда я все делала по-своему, он прямо из себя выходил. Но в мистере Квейне было столько жизни. Если ты его не выводишь из себя, то и он тебе не мешает. Но она не могла такого позволить, чтоб хоть что-то да прошло мимо нее. Все эти подснежники да музицирования – это чтобы показать, что и она приняла участие в вашем появлении на свет.
Когда она умерла, меня с ней рядом не было, но я так и чувствовала, что она за мной приглядывает – как, мол, я к этому отнесусь. «Что ж, – говорю я себе, – плохи дела – на пианино-то я играть не умею». О, переживать-то я переживала, все-таки смерть в семье и столько перемен. Но это все, что я чувствовала. А вот тут – ни капельки. – Сухим, резким движением Матчетт ткнула обтянутой манжетой рукой куда-то себе под грудь.
Она сидела на кровати боком, коленями в сторону подушки, темная юбка сливалась в темное окружье, так что виднелся один фартук. Голова и плечи – размытый силуэт – чернели на фоне дымно-желтого квадрата неба, лицо, истертое полутьмой, будто лицо статуи – непогодой, изредка вспыхивало, когда по нему пролетал веер света от фар. До сих пор она сидела прямо – как суровый судья, и еще так, будто ее тело было сосудом памяти, которой нельзя расплескать, но теперь, словно желая снять с себя груз прошлого, она оперлась рукой о кровать, позади лежащей Порции, и навалилась на руку всем телом, как на арку.
Сквозь эту живую арку, в зыбкой полутьме виднелось изножье кровати. Мускусное тепло ее подмышки передалось подушке, и с каждым ее вздохом в этом полунаклоненном положении от усилий поскрипывал корсет. Казалось, что нельзя быть ближе, не соприкасаясь. Но, словно бы для того, чтобы вернуть прежнюю дистанцию, ее голос зазвучал отстраненнее.
– Ох, мне было совестно, – сказала она, – потому что не получалось у меня ее простить. Только не мистера Квейна – этого я ей простить никак не могла. Когда медсестра нам сообщила, что миссис Квейн отходит, кухарка сказала, может, и нам надо к ней подняться. Сказала, раз они сообщили, уж, наверное, ждут, что мы как-нибудь да откликнемся. (Кухарка, конечно, имела в виду, что это хозяйка – ждет.) Поэтому мы с кухаркой поднялись, встали у дверей в коридоре, остальные слуги так разнервничались, что остались сидеть внизу. Кухарка была католичкой и принялась молиться. В спальне с хозяйкой были мистер и миссис Томас. Мы поняли, что все, конец, когда к нам вышла миссис Томас, вся белая, и сказала мне: «Ох, Матчетт». Но мистер Томас и слова ни проронил. Я им заранее выставила графин с виски в столовой и вскоре слышу – туда они и пошли. Мистер и миссис Томас совсем не такие, как миссис Квейн, они с людьми прощаются совсем по-другому.
– Но, Матчетт, она же хотела сделать как лучше.
– Нет, она хотела сделать все как положено.
Тихонько вздохнув, поворочавшись в темноте, Порция положила руку на колено Матчетт – пронзительно живые пальцы, пытавшиеся просить за мертвых. Но само ощущение фартука под рукой, накрахмаленной ткани поверх теплого, большого колена, убедило ее, что Матчетт по-прежнему неумолима.
– Ты знаешь, как она поступила, но откуда ты знаешь, что она чувствовала? Представь, каково это, когда кто-то от тебя уезжает. Может, у нее и не было другого выхода – только поступить, как положено. Она ведь осталась одна, а это, может быть, даже хуже смерти.
– Уж ей-то никуда ехать не пришлось, она осталась на своем месте. Нет, он обидел ее, но уж она себя не обидела. О, железная она была женщина. Хуже смерти, говоришь? Уехать из дому – вот что для твоего отца было хуже смерти. Он свой дом обожал как ребенок. Уехать? Да его отослали. Ему нравилось знать, где его место, он любил работать руками. Он не только ведь этот ручей сделал. Заграница – совсем не место для такого джентльмена, как он. Уж не знаю, как она глядеть-то могла на этот сад после того, что сделала.
– Но ведь я должна была родиться!
– Его выставили из дому, как, к примеру, могли бы выставить меня или кухарку – но куда там, что бы она без нас делала. Она стояла, сложив руки, когда мистер Томас посадил его в машину и увез, будто ребенка. Это ж надо, заставить мистера Томаса так поступить с собственным отцом! И вспомните-ка еще, как ваши отец с матерью жили: ни капли уважения, ни своего угла. А ведь его раньше все уважали. И кто, по-вашему, его до такого довел?
– Но мама мне объяснила, что они с папой очень жестоко обошлись с миссис Квейн.
– А уж как она-то с ними обошлась! Как они жили, вы вспомните, ведь ни гроша за душой. Вы-то, конечно, другой жизни и не знали, но ведь он знал.
– Но ему нравилось переезжать с места на место. Это мама хотела иметь свой дом, но папа всегда отказывался.
– Любой человек переменится, если его сломать.
Порция воскликнула в панике:
– Но мы были счастливы, Матчетт! У нас были мы, у него была мама и я… Ну не злись ты так, а то я чувствую себя виноватой за то, что родилась.
– Кто же вас в этом упрекнет? Вам надо было родиться, вы и родились. Так я и думала в тот день, когда белье складывала. Вот, думаю, что случилось – значит, так оно и должно быть.
– Они все так думают. Поэтому они всегда так на меня смотрят. Будь я какой-нибудь особенной, они бы меня простили. Но я не знаю даже, зачем я нужна.
– Ну, хватит, – резко сказала Матчетт, – не раскисайте.
Сама того не осознавая, Порция во время разговора все давила и давила на колено Матчетт, словно пытаясь оттолкнуть стену. Но все так и осталось на своих местах. Порция снова прикрыла рукой лицо и непроизвольно содрогнулась, так что заскрипела кровать. Она зажала рот тыльной стороной ладони – осторожно, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, сдерживаясь из-за ужаса перед чем-то безмерным. И расплакалась – робко, не возмущаясь и даже не в полную силу, словно девочка-актриса, которую загипнотизировали ради роли. Ее плач был похож на пантомиму, но на самом деле она так мгновенно, так послушно впала в прострацию, чтобы не подпустить к себе худшего, всей полноты горя, которое захлестнуло бы ее полностью. Теперь, крепко сжав руки на груди и как будто придавив себя ими, она, казалось, хотела прилепиться хотя бы к своей надежной кровати. Есть такие люди, которые, едва заслышав поступь судьбы, будто шаги на лестнице, заползают, съежившись, в спасительную тьму. Слезы Порции были флагом, приспущенным без боя: ей казалось, что ее некому защитить.
Слышно было, как ее плечи елозили по подушке, ее вздрагивания отдавались в теле сидевшей на кровати Матчетт. Та изо всех сил вглядывалась в Порцию в полутьме и стоически слушала ее несчастные вздохи, будто ждала, когда жалость в ней перельется через край. И наконец, очень мягко, Матчетт сказала:
– Господи боже. И зачем же вы так себе сердце рвете? Раз уж не отболело, так и не надо мне было вам ничего рассказывать. Это уж я дала маху, но вы ведь вечно пристанете с расспросами. Раз уж вы так себя изводите, так и не спрашивайте тогда ни о чем. А теперь давайте-ка, будьте умницей – выбросьте это все из головы, да поскорее засыпайте.
Она выпрямилась, поводила рукой в темноте, нащупала мокрые запястья Порции, развела ее руки в стороны.
– Ну, право, – сказала она, – какой от этого толк?
Вопрос, впрочем, был отчасти риторическим, Матчетт уже почувствовала: все-таки что-то поулеглось. Она разгладила одеяло, уложила руки Порции поверх него, будто украшения, и так и осталась сидеть, согнувшись, приглядывая за ее ладонями. Из груди у нее вырвался долгий шипящий выдох, сразу растворившийся в воздухе, будто крик летящих высоко в небе диких лебедей. Звук оборвался, она спросила:
– Перевернуть вам подушку?
– Нет, – неожиданно быстро ответила Порция и прибавила: – Но ты не уходи.
– Так вы же любите, когда я вам подушку переворачиваю. Но если…
– И что же, нам с тобой нужно обо всем забыть?
– О, позабудете, когда других воспоминаний поднакопится. Но все ж таки не стоило вам спрашивать.
– Я просто спросила о том дне, когда родилась.
– Ну, одно за другим. Вот оно все и вспомнилось.
– Никому до этого и дела нет, кроме нас с тобой.
– Да, в этом доме нет прошлого.
– Тогда отчего же они такие дерганые?
– Им прошлое не нужно, они бы хотели без него обойтись. Неудивительно, что они и сами не знают, что делают. У кого воспоминаний нет, те не понимают, что к чему.
– И ты поэтому мне все это рассказываешь?
– Мне бы лучше помалкивать. Я не из болтливых и привычкам своим не изменяю. Если я что вижу, то вижу, но язык держу за зубами. У меня дел хватает. Но все равно, как уж тут ничего не заметить, а я не из забывчивых. Ничто не проходит бесследно, доложу я вам. Но разговорам обычно нет конца и края, и я только впустую время потрачу. Я все больше молчу, такой уж родилась, а те, кто без конца рот разевают, только мух ловят да дрязги затевают. Меня спросят, я отвечу – тем всегда и обходилась.
– И что же, одна я тебя расспрашиваю?
– Они осторожничают, – ответила Матчетт. Убедившись, что верх одеяла Порции уложен как надо, она отодвинулась и снова оперлась на руку. – Все невысказанное, оно накапливается, и когда его накапливается порядочно, не всякому хватает смелости это выслушать. Мистер Томас не то чтобы обрадовался, когда я сюда приехала после смерти его матери, хотя встретил он меня очень вежливо и виду совсем не подал. «Да это же Матчетт, – сказал он. – Теперь тут снова как дома». Миссис Томас, та быстро меня приняла, ей нужно было, чтоб вся работа по дому была сделана, и она знала, что работать я умею. Вещи, которые им достались от миссис Квейн, привыкли к превосходному обращению, а миссис Томас их бы ни за что не упустила. Ох, прекрасная эта мебель, мистер и миссис Томас сразу поняли, какая она ценная. Насчет ценных вещей миссис Квейн и миссис Томас были одного мнения. В мою полировку можно как в зеркало смотреться, миссис Квейн нравилось, как это выглядит.
– Но почему ты сюда приехала?
– Мне казалось, так будет правильнее всего. Кроме того, у меня духу не хватило расстаться с этой мебелью, я была бы сама не своя. Это из-за нее я у миссис Квейн работала. Мраморные статуэтки я так начистила, жаль было от них уезжать, но что поделать, пришлось о них позабыть.
– Мебель бы скучала по тебе?
– Мебель, она все понимает, это уж точно. От вещей в комнате ничего не ускользнет, а столы со стульями, знаете ли, на тот свет не скоро отправляются. Всякий раз, когда натираю губкой мебель в гостиной, то как будто говорю: «Ну вот, теперь ты еще что-то знаешь». Когда я сюда приехала и увидела, куда миссис Томас понаставила вещи миссис Квейн, господи!.. Будь у меня поменьше мозгов, я бы сказала, что все вещи глядели на меня искоса. Но мебель-то молчит, вот и я промолчала. Если мистер и миссис Томас, как ты говоришь, дерганые, то дерганые они уж наверняка из-за того, что осталось невысказанным. И не мне их винить: живут, как умеют. Вся семья у них жила неживой этой жизнью, и, уж поверьте мне, мебель это прекрасно знает. Хорошая мебель знает, что к чему. Она знает, что сделана не просто так, она себя уважает, а когда я сказала, что и вы появились не просто так, вы взялись плакать. Ох, такой мебели, какая у нас тут есть, многовато для дома, в котором хотят прожить без прошлого. Если б мне пришлось глядеть на нее и мебель в ответ глядела на меня, я бы тоже, наверное, стала дерганой. Но, когда с ней работаешь, мебель тебе ничего не сделает. Ой, мебель эта… Я ее годами натирала бархотками, я ее знаю, как свое лицо… Да-да, я тоже все замечаю. Но не мне рот раскрывать, у меня на это времени нет. Когда у них нашлось место для мебели, у них нашлось место и для меня, и вскоре они поняли, что им это ничем не грозит.
– Но, когда я приехала, все стало хуже.
– Это было правильное решение, – быстро ответила Матчетт. – За всю свою жизнь он только об одном их и попросил, с тех самых пор, как уехал…
– Да, папа рассказывал мне об этом доме. Говорил, какой он красивый. Он никогда здесь не был, но однажды проходил мимо. Он мне сказал, что это дом с голубой дверью и что он стоит на углу, и, наверное, он воображал себе, как тут все внутри устроено. «Только в этой части Лондона и нужно жить, – говорил он. – Эти дома сдаются в аренду по распоряжению самого короля, и обставлены они не хуже Букингемского дворца». Однажды в Ницце он купил книгу о птицах и показывал мне картинки водоплавающих птиц, которые плавают по этому озеру. Сказал, что наблюдал за ними. Еще он рассказывал о клумбах с алыми цветами – и я представляла, что они так и тянутся до самого озера, без этих тропинок между ними. Он говорил, что это последний в Лондоне парк для джентльменов и что Томасу только здесь и следует жить. Он рассказывал мне и всем, кого мы встречали, как процветает дело Томаса и какая Анна красавица – шикарная, как он говорил, – и сколько у них бывает гостей, и какие веселые они закатывают вечеринки. Он говорил, что в молодости, когда только начинаешь завоевывать мир, не зазорно и пустить пыль в глаза. Стоило нам приехать в какое-нибудь модное место, как он всегда обращал внимание на то, как одеты дамы, и говорил: «А вот это как для Анны сшито». Да, он так гордился и ею, и Томасом. Сразу веселел, когда о них заговаривал. Когда я была маленькой и глупой, то вечно спрашивала: «А мы скоро к ним поедем?», и он отвечал: «Когда-нибудь поедем». Он обещал, что когда-нибудь я буду жить с ними – ну и вот, теперь живу.
Матчетт торжествующе произнесла:
– Ух, и ведь в конце-то концов он своего добился.
– Они мне нравились, потому что папа ими гордился. Но когда я осталась с мамой, о них пришлось забыть – понимаешь, ей от них было, как бы это сказать, не по себе. Ей казалось, будто Анна смеется над тем, как мы живем.
– Ой, миссис Томас не станет утруждать себя насмешками. Она сама живет и другим не мешает – лишь бы только ей не мешал никто. И так оно все и было.
– Но меня-то ей пришлось забрать.
– А кого еще ей было селить в эту комнату, – резко ответила Матчетт. – Так она у нее и пустовала, несмотря на все ее таланты. Пыль в глаза она пускать, конечно, умеет – вон как она тут все украсила: часы, столики, безделушки всякие. Красиво, конечно, ничего не скажу, да и вам, надеюсь, нравится. Да уж, вкуса ей не занимать, и она любит при случае этим похвастаться. Но на большее она не способна.
– Думаешь, она никогда меня не полюбит?
– Так вот, значит, чего вам хочется? – Матчетт накинулась на нее с такой ревностью в голосе, что Порция отодвинулась подальше.
– Это она, конечно, должна тут сидеть, где я сейчас рассиживаюсь, – продолжила Матчетт холодным, бесстрастным тоном. – Нечего мне тут прохлаждаться, у меня еще штопки непочатый край.
Застыв на кровати, она вся подобралась и сурово скрестила руки, словно бы навеки замыкая в груди всю любовь. Порция, глядя на ее силуэт на фоне окна, понимала, что в ней говорит не уязвленное самолюбие, а осознание собственной правоты – и от этого голос Матчетт словно бы отдалился еще на два тона.
– Я свое место знаю, – сказала она, – а вам следует искать любви там, где положено. И я рада буду, если найдете. Ох, я-то радовалась, когда она пришла тогда и сказала, что вы родились. Как знать, может, и не стоило.
– Не сердись, ой, не надо! Мне очень даже тебя хватает, Матчетт!
– Ну-ну, не растравляйте себя снова!
– Не надо, не надо все время так… – с отчаянием заговорила Порция.
Осекшись, она вскинула руки – зашуршало одеяло. Матчетт, нехотя смягчившись, дюйм за дюймом и сама расцепила руки, снова склонилась над кроватью – на этот раз совсем низко – и в таинственной темноте над подушкой их лица сблизились, глаза, хоть и не видя друг друга, встретились. Что-то незыблемое стояло между ними: они никогда не целовались, вот и теперь наступила пауза, одновременно и тягостная, и неощутимая. Через минуту Матчетт высвободилась и сурово вздохнула.
– Ладно, это я, конечно, погорячилась.
Но Порция, искря нервным возбуждением, по-прежнему цеплялась за крепкую, основательную шею Матчетт, за ее широкую спину. Матчетт же обнимала ее с некоторой долей сопротивления, словно желая не просто сдаться перед разделявшей их стеной, а сокрушить ее. Но если она и позволила себе измениться в лице, темнота все скрыла. Наконец она сказала:
– Давайте-ка переверну вам подушку.
Порция заметно напряглась:
– Не надо. Мне и так нравится. Нет, не надо.
– Это еще почему?
– Потому что мне и так хорошо.
Но Матчетт уже сунула руку под подушку, чтобы ее перевернуть. Под подушкой рука Матчетт сжалась, застыла.
– Что это у вас там такое? Ну-ка, что это?
– Это просто письмо.
– И что оно там делает?
– Ну, наверное, я его туда сунула.
– А может, и само заползло, – сказала Матчетт. – И кто же это пишет вам письма, позвольте спросить?
Порция постаралась как можно вежливее промолчать. Она позволила Матчетт перевернуть подушку, прижалась щекой к ее свежей, прохладной стороне. Почти с минуту, пытаясь задобрить Матчетт, она притворялась, будто вот-вот с благодарностью заснет. Затем с величайшей осторожностью она запустила руку под подушку, но письма там не было.
– Матчетт, ну будет тебе! – воскликнула она.
– Письма надобно держать в ящике стола. Вам миссис Томас для чего стол подарила?
– А мне нравится держать новые письма под подушкой.
– Не место это для писем, в вашем-то возрасте, – нехорошо это. Рано вам еще получать такие письма.
– Это не такое письмо!
– И кто же его написал, позвольте узнать? – спросила Матчетт, повысив голос.
– Всего-навсего друг Анны… Всего-навсего Эдди.
– Аа! Он, значит?
– И только потому, что я принесла ему шляпу.
– Какой вежливый.
– Да, – твердо ответила Порция. – Он знает, что я люблю получать письма. Мне уже целых три недели никто не писал.
– О, значит он, значит он… знает, что вы любите получать письма?
– Да, Матчетт, люблю.
– И он, стало быть, решил вас любезно отблагодарить за то, что вы принесли ему шляпу? Он тут шныряет как хорек, туда-обратно, а о хороших манерах вспомнил впервые. Манерах! Да он ведь не джентльмен. В следующий раз пусть ему Филлис шляпу носит, а то и сам пусть ее забирает – он тут так часто околачивается, что уж знает, где она лежит… Да-да, попомните мои слова, я-то знаю, что говорю.
Голос Матчетт, тяжелый и невыразительный, пощелкивал, будто останавливающаяся грампластинка, пока не докрутился до последнего слова. Порция лежала в тишине, будто в гробу, сунув руку под подушку – туда, где она прятала письмо. С улицы донеслось молчание остановившегося на миг Лондона, она повернула голову к окну и поглядела на стеклянисто-темное небо с красным отливом. Обтянутая манжетой рука Матчетт взметнулась рассерженной птицей – задев гофрированный абажур прикроватной лампы, она зажгла свет. Порция сразу же зажмурилась, сжала губы и лежала не двигаясь, как будто такой яркий свет вскрыл глубокую рану. Она знала, что уже очень поздно, заполночь – миг, когда река ночи проносится под самим временем, когда на свет таинственным образом появляется завтрашний день. Внезапный, хлороформный белый свет, раздернутый на полосы складками абажура, создал в комнате атмосферу больничной палаты. И дух Порции, словно бы она и впрямь оказалась в больничной палате, тоже спрятался, отгородился ото всех.
Захваченное письмо лежало у Матчетт в прогалине юбки. Похожими на лопатки пальцами она гнула и ломала, с безотчетной чувственной жестокостью – жестокостью ребенка – уголки голубого конверта. Сжала лежавшее внутри пухлое письмо, но вытаскивать его не стала.
– Не надо вам ему доверяться, – сказала она.
На миг почувствовав себя в безопасности, укрывшись под сжатыми веками, Порция воображала себя с Эдди. Ей виделся материк под исчезающим закатом, весь в складках и зазубринах теней, будто море. Темный, желтый свет лежал на деревьях и проникал в их темные сердцевины. Весь материк звенел тишиной, будто задетое стекло. Вся земля – медленной, упругой, тонущей в сумерках рябью – вздымалась у их ног, они с Эдди сидели на пороге хижины. Спиной она чувствовала эту хижину, полную темноты. Неземной ровный свет струился по их лицам; и когда он повернулся к ней, свет коснулся его скул, кончиков его ресниц, ослепил золотом белки его глаз. Он свесил руки между коленей, и она сидела с ним рядом, на пороге хижины, точно так же умиротворенно свесив руки. Она почувствовала, как их коснулись покой и общность: они с ним были едины, даже не касаясь друг друга, – это было их единственным соприкосновением. Что там было в хижине, она не знала: свет был вечен, они останутся здесь навсегда.
Но тут она услышала, как Матчетт открыла конверт. Она распахнула глаза, вскрикнула:
– Не трогай!
– Вот уж не думала такого о вас.
– Папа бы меня понял.
Матчетт покачала головой.
– Вы сами не знаете, что говорите.
– Так нечестно, Матчетт. Ты ничего не знаешь!
– Я знаю, что у этого Эдди вечно что-нибудь на уме. И что он любит жить за чужой счет. Ничего-то вы не знаете.
– Я знаю, когда я счастлива. Уж это я знаю.
7
Для майора Брутта отдать визит было проще простого, все словно бы к тому и шло. Во-первых, он выяснил, что автобус номер семьдесят четыре может самым отменным образом доставить его от Кромвель-роуд прямо до Риджентс-парка. Майор был не из тех, кто звонит, чтобы предупредить о своем появлении – такие, как он, сразу звонят в дверь. Телефонировать о своем визите казалось ему верхом напыщенности, а он любил невзначай завернуть в гости. Он жил в таких уголках мира, где люди попросту заглядывали на огонек, и нет тут, думал майор, ничего особенного. Дом по Виндзор-террас показался ему теплым и светлым, ему очень хотелось увидеть второй этаж и гостиную. В его отеле царило почти неизбывное одиночество, и со времен его прошлого визита номер второй по Виндзор-террас стал чем-то вроде депозитария для всех его грез: он уносился мечтами к милой Анне и этой их славной девочке с пылкой и нежной страстью, лишенной всякого намека на что-либо плотское. Мужчину-романтика две женщины зачастую воодушевляют куда больше, чем одна, – его влюбленность попадает в яблочко ровно меж ними. И сегодня он вернулся в этот оазис, вокруг которого Лондон лежал совершеннейшей пустыней. Тем вечером Квейны провожали его, улыбаясь и сердечно повторяя: «Заходите еще!» Он решил, что они говорили это совершенно искренне, поэтому и зашел снова. Томас, правда, сказал: «Только позвоните сначала», но майор пропустил это мимо ушей. Они предоставили ему carte blanche, вот он и заскочит на огонек. Субботу он счел самым подходящим для этого днем.
В субботу Томас вернулся домой из конторы во второй половине дня, и теперь сидел у себя за столом в кабинете, рисуя кошек на промокательной бумаге и дожидаясь, когда вернется Анна. Он был раздосадован и тем, что ей в субботу вздумалось обедать не дома, и тем, что она уже порядком задерживалась. Услышав звонок в дверь, он грозно вскинул голову (впрочем, могло статься и так, что Анна забыла ключи), прислушался, нахмурился, пририсовал кошке усы и снова поднял голову. Если это Анна, она позвонит еще раз-другой.
Другой раз в дверь, впрочем, звонить не стали, но эхо звонка тревожно повисло в воздухе. Посылок по субботам не приносили. Телеграммы теперь почти всегда зачитывали по телефону. Томасу даже в голову не пришло, что кто-то мог заявиться к ним с визитом. Визитеры на Виндзор-террас были делом неслыханным. От них избавились, они попросту больше не приходили. Домашняя жизнь Квейнов была настолько личной, словно и женаты они были незаконно. Их приватность окружал электрический забор – без предварительного звонка друзья к ним не приходили.
И поэтому даже Филлис, несмотря на свою самоуверенность и хорошенький чепец, уже позабыла, как принимать посетителей. Она знала всех, кто был вхож в дом, всех, заходивших почитай что без стука и проносившихся мимо, даже не спрашивая, дома ли хозяева. Одни ей улыбались, другие – нет, но «своих» она определяла с первого взгляда. А сюда – за исключением вечеринок и званых ужинов – приходили только свои.
Поэтому, распахнув дверь и увидев майора Брутта, она сразу поняла, что отказать ему в ее власти. Она вскинула брови и молча смерила его взглядом. Майор Брутт тоже увидел за столь манившей его дверью не совсем то, что ожидал. Разумеется, он знал, что люди обычно держат прислугу, но в прошлый раз коридор был полон света, прощальных улыбок, сваленных в охапку дамских шубок. В нем сразу поубавилось решимости – поменьше стало мужской самоуверенности, заметила Филлис. Она презирала унижение любого рода и поэтому причислила майора к коммивояжерам из бывших военных, которые торговали пылесосами или чулками, до того блестящими, что их и носить-то было нельзя.
Поэтому она, со сварливым торжеством в голосе, сказала, что миссис Квейн нет дома. Тогда майор, приноравливая ожидания к новым обстоятельствам, спросил мистера Квейна, и Филлис окончательно уверилась, что этому человеку что-то нужно. И она была права: нужно – он проделал долгий путь, чтобы узреть святое семейство.
– Мистер Квейн? Не могу сказать, – поджав губы, ответила Филлис и, окинув его взглядом еще раз, прибавила: – Сэр. Если вы изволите подождать, я спрошу.
Она снова поглядела на него: сумки при нем не было, поэтому она пустила его за порог. Ума ей было не занимать, поэтому она не стала заглядывать в кабинет, чтобы ненароком не выдать Томаса, а спустилась вниз – позвонить по внутреннему телефону. Сняв трубку с рычажка телефона, висевшего у самого подножия лестницы, она уже начала было:
– Сэр, тут вас кто-то… – но услышала, как Томас, рывком распахнув дверь, выскочил из кабинета и что-то сказал. Миссис Квейн, разумеется, такого бы себе не позволила.
Впрочем, не успел Томас выйти, как майор Брутт уже начал смутно догадываться, что, пожалуй, лучше, когда тебя в этот дом приводят с почестями, чем пытаться проникнуть сюда в одиночку. И пока он глядел на непродуваемую лестницу за белыми арками, его чаяния постепенно угасали. Он покосился на пристенный столик, но шляпу на него решил пока не класть – так и стоял, чинно, нерешительно. Но, заслышав шаги за той самой, уже знакомой ему дверью, он встрепенулся, будто пес: усы слегка встопорщились, приготовились к улыбке.
– А, это вы – отлично! – сказал Томас, протягивая ему руку с натужливой сердечностью. – То-то мне показалось, будто я слышу чей-то голос. Простите, мне так жаль, что…
– Простите, надеюсь, я не…
– Ой, что вы, нет! Я просто ждал Анну. Она пошла с кем-то обедать… Сами знаете, это обычно надолго.
Ничего такого майор Брутт не знал, ему-то вообще казалось, что дело уже близится к чаю. – Наверное, за обедом лучше всего беседовать, – сказал он, пока Томас, до конца не смирившись со своей участью, вел его к себе в кабинет – с довольно-таки преувеличенным радушием.
В комнате стоял дымный, предвечерний полумрак. Томас сначала поспал тут с часок, а уже потом открутил колпачок ручки, открыл бювар и уселся за разбор документов.
– Да там все только и делают, что беседуют, – ответил Томас. – Даже не представляю, как они это выдерживают, а вы?
Он с тоской поглядел на своих кошек, захлопнул бювар, смел документы в ящик стола и с шумом задвинул ящик. Ну ладно, как будто говорил он, я был занят, но пустяки, что уж теперь. Майор Брутт тем временем, поддернув брюки на коленях, уселся в кресло. Томас, пытаясь сосредоточиться, спросил:
– Бренди?
– Благодарствую, но нет. Еще рано.
Томас почувствовал укол досады – час от часу не легче. Майор Брутт, судя по всему, хотел остаться к чаю, а Квейны от чая как раз хотели бы отказаться. Затяжные обеды сказывались на Анне не лучшим образом, значит, домой она вернется неприветливой и угрюмой. Они с Томасом думали пройтись разок по парку, а потом, часов около пяти, сходить на французский фильм. В синематографе они снова превращались во влюбленную парочку и часто возвращались в такси, держась за руки. Томас подозревал, что майор Брутт прекрасно удовольствуется и малышкой Порцией – по правде сказать, он, наверное, ради нее и пришел. Но, как назло, и Порция куда-то запропастилась. В субботу у нее не было уроков, так что где бы ей еще быть, как не дома. Но Томасу сообщили, что Порция, отобедав, сразу же ушла – и куда, не сообщила. Она просила Матчетт передать, чтобы к чаю ее не ждали. Томас понял, что уже привык к Порции настолько, чтобы рассердиться на то, что в субботу вечером ее нет дома.
То одно, то другое – Томас спрашивал себя, за каким чертом он подошел к двери, когда мог бы остаться в кабинете и притвориться, что спит. То ли не выдержал вот этого ощущения, что он тут как в осаде, то ли не желал себе признаваться в том, что ему тут одиноко. Теперь сиди тут, смотри на этого стоического человека! Томас взглянул на майора Брутта – быстро, вопросительно, недобро. Сразу было понятно, что работы у майора Брутта нет: он ведь что-то там говорил, мол, у него пара-тройка вариантов на примете? Значит, он в поисках. Поэтому и пришел. Наверное, надеется захватить какую-нибудь синекуру у «Квейна и Мерретта» – видели они уже таких старых дуралеев.
Тут на Томаса накатила волна отвращения к себе. Дернувшись, он со стыдом отвернулся от восседавшего в кресле столпа честности и понял, что, став дельцом, он, Томас, загнал себя в дурацкое положение, в положение вечной обороны, для него – теперь, когда он это заметил, – невыносимое. Ему только и оставалось, что глядеть сквозь щели-бойницы на гротескные щелки лиц, щелки видов. У него вошло в привычку видеть все узким, искаженным. Завидев любое движение, даже животного, он сразу думал: «Так, это зачем?» Обычный жест – а он уже прикидывает: «Ах, так вот чего ему надо… Ну и чего же он хочет?» За глянцевым блеском общества скрывалась обычная биржа. Вечный натиск угадывался в каждой светской беседе. Дружбы перемежались точками-паузами, каждый одним глазом всегда поглядывал на часы, что-то высчитывая. Казалось, от этой вечной бдительности есть одно спасение – любовь, которая закрывала собой это неприятное знание. Любить он мог без оглядки. И как следствие, любил он безо всякой осторожности, свойственной более простым натурам, – потому-то, кстати, удачливым коммерсантам так часто изменяют.
Но, ищет он работу или не ищет, думал Томас, мы точно не сможем его себе позволить. «Квейну и Мерретту» требовался только шик и один-единственный сорт незамутненной нервозности. Они могли позволить себе сколько угодно Эдди, но ни одного Брутта. Томасу казалось, что Брутту стоило бы податься в какие-нибудь гиды-проводники – возможно, он уже что-то такое себе и подыскивал. Ведь тому, похоже, нечего было выставить на продажу, кроме (сомнительного) опыта, унылой надежности и открытого, галечно-серого взгляда, который действовал на совесть Томаса как гипноз. Оставалась еще, разумеется, отвага, которую больше некуда деть, некуда применить, некуда выплеснуть, за этот ненужный пережиток и гроша не выручишь. Люди тоже устаревают, как модели автомобилей; майор Брутт был моделью 1914–1918: на таких, как он, нет больше спроса. И при этом он до того настойчиво продолжает жить дальше, что даже жаль, что его нельзя сдать на запчасти… Нет, мы не можем его себе позволить. Томас снова дернул головой. Майор Брутт, надо признать, оказался битой картой – тенью, которая наконец полностью заслонила от Томаса и без того нелюбимый им мир.
Майор Брутт, которому Томас резко и довольно неприветливо протянул портсигар, поколебавшись, все-таки решился закурить. Так оно будет как-то поспокойнее. (Томас и понятия не имел, что тому надо успокоиться.) Майор все никак не мог свыкнуться с Томасом, с самим фактом того, что Томас – это муж Анны. Майор Брутт помнил Анну только возлюбленной Пиджена. Картину того превосходного вечера, который они провели втроем – Анна, он, Пиджен, – он мысленно повесил в раму и снять уже не мог, она стала ценной вещью для человека, у которого почти не было вещей, и переезжала с ним с места на место. Когда он увидел Анну в фойе «Эмпайр», та, разумеется, могла ждать только Пиджена, и у майора сразу стало веселее на сердце, ведь он сейчас встретится с Пидженом. Но тут к ним подошел Томас, сказал что-то о такси, с хозяйской улыбкой взял Анну под руку. Его это потрясло (а ведь она сразу сказала, что замужем), и от этого потрясения он не мог оправиться до сих пор. Тот превосходный вечер – ее вечер, его, Пиджена – остался единственной сплошной линией в его пунктирной жизни. Стоило ему приуныть, как он вспоминал об этом вечере. Свадьба Анны и Пиджена была единственным важным событием, которого майор с нетерпением ждал. Пиджен, правда, на этот счет все отмалчивался и отмалчивался, но майор Брутт думал, что они просто решили со свадьбой пока повременить. Нет никого преданнее человека, влюбленного в чужую любовь, который однажды стал свидетелем поцелуя. И, выйдя замуж за Томаса, выйдя замуж за Томаса целых восемь лондонских лет назад, Анна во многом уничтожила майора Брутта. Увидев тогда в фойе «Эмпайр» ее несчастливо-спокойную улыбку, он решил, что Анна, наверное, поняла, как с ним обошлась. Ее доброту он счел за раскаяние. И когда потом, уже дома, она, не утратив отменных, свойственных женщинам, манер, подвела его к разговору о Пиджене, их единственном общем друге, то причинила майору еще больше страданий. Невыносимо было слушать, как она говорит о Пиджене, об апельсине, о тарелке. Он и вынес-то это все только потому, что с ними была Порция.
Но жизнь продолжается. Ведь не просто так мы столько себя вкладываем в чужие жизни – даже увиденных мельком и совершенно незнакомых нам людей. Бывает от этого и польза: веселая компания в ярко освещенном окне, увиденная из окна поезда чья-то фигурка в саду, посреди высокой травы, остаются в нашей памяти и поддерживают нас в трудные минуты. Для сентиментального человека иллюзии – это целое искусство, этим искусством мы и живем, раз уж ничего другого не остается. В конце концов, если мы чему и верны, так это эмоциям: мы попросту учимся отыскивать их заново в других местах. Впервые оказавшись в доме на Виндзор-террас, майор Брутт, до того места себе не находивший от беспокойства за Пиджена, сразу начал прирастать душой к этой теплой комнатке. Ради гостеприимства, ради девочки на коврике он уже начал отрекаться от Пиджена. Безжалостность была присуща даже чувствам майора Брутта, а он, кроме того, жил один в гостинице на Кромвель-роуд. Отблеск огня на ковре, Анна на кушетке, стройные ножки поджаты, Томас добродушно роется в поисках сигар, Порция обнимает свои локотки будто пару любимых котят – вот что теперь стало средоточием столь нужной ему мечты. Но вот с Томасом, с Томасом он так и не мог до конца свыкнуться. И, угощаясь его сигаретой, оставляя за собой этот маленький должок, майор Брутт надеялся к нему чуть больше попривыкнуть, как мужчина к мужчине.
Томас виделся майору Брутту человеком, заполучившим главный трофей. Но в темнеющем свете субботнего вечера кабинет, будто тучей, накрыло одиночеством. На фоне разбросанных бумаг, пепла, кофейных чашек преемник Пиджена совсем не выглядел победителем, словно и не досталось ему никакого трофея. Даже огонь просто щерился из камина, как огонь в рекламках. Майор Брутт, который редко до чего мог дойти своим умом, в отношении людей был своего рода барометром. Он уловил крывшуюся в манерах Томаса напряженность и то, как неловко и возбужденно тот вертел головой. Вместо нервов у майора Брутта были инстинкты, повинуясь которым животное, например, может выскочить из комнаты или напрочь отказаться туда заходить. Был ли Пиджен здесь, с ними, затмевая Томаса, пока Томас принимал у себя друга Пиджена? Он решился закурить и теперь потягивал сигарету, огонек которой отражался в его внимательных, галечно-серых глазах. Он понимал, что скоро должен будет уйти – но не сейчас.
Томас тем временем весьма натурально сделал вид, что устраивается поудобнее в мягком кресле. Не сдержавшись, он довольно выразительно зевнул и, чтобы скрыть зевок, поспешил сказать:
– Как же досадно, что Анны нет дома.
– Да, тут я, конечно, понадеялся на случай. Зашел без предупреждения.
– И жаль, что Порции тоже нет. Куда она делась, ума не приложу.
– Она, я полагаю, дома не сидит?
– Нет, напротив. Она все-таки еще маленькая.
– Осмелюсь заметить, девочка она, кажется, славная, – просияв, сказал майор Брутт.
– Да, кажется, да… Она мне, понимаете ли, сестра.
– Как замечательно!
– Правда, только наполовину, по отцу.
– Ну, тут уж никакой разницы.
– Правда? – спросил Томас. – Да, наверное, вы правы. Но как-то это все немного странно. Во-первых, я ее на добрых полпоколения старше. Хотя, вроде бы, пока все складывается неплохо. Мы подумали, пусть поживет у нас хотя бы год, посмотрит, как ей тут у нас нравится, ну и так далее. Понимаете, она сирота – ей нелегко приходится. Мы с ней редко виделись и рады были бы видеться почаще, да только отцу больше нравилось жить за границей. Мы, правда, боялись, что ей у нас трудновато придется. Она только что потеряла мать и сама еще ребенок, поэтому с Анной она выходить никуда не сможет, мы думали, вдруг в Лондоне ей будет немного… ну… Впрочем, пока все, кажется, неплохо складывается. Мы подыскали ей неплохую школу, она общается со сверстницами…
Собственная речь показалась Томасу настолько скучной, что он, оборвав себя на полуслове, еще сильнее развалился в кресле. Но майор Брутт слушал его очень внимательно и явно ждал продолжения.
– С такой девчушкой и дома-то, наверное, сразу повеселее стало, – сказал он. – Сколько, говорите, ей лет?
– Шестнадцать.
– Наверное, они лучшие подруги с… с миссис Квейн.
– С Анной-то? Ну да. Забавно, что вы с Анной вот так, случайно, встретились. Она ленится поддерживать отношения со старыми друзьями и в то же время по ним скучает, это уж точно.
– Очень любезно с ее стороны было вспомнить, как меня зовут. Понимаете, мы с ней встречались всего однажды.
– Ах да, с Робертом Пидженом. Мы с ним не знакомы, а жаль. Но он, похоже, колесит по свету, а я пустил здесь корни. – И, окинув майора Брутта подозрительным взглядом, Томас прибавил: – У меня, знаете ли, свое дело.
– Вот как? – вежливо отозвался майор Брутт. Он стряхнул пепел в тяжелую стеклянную пепельницу. – Это замечательно, если вам нравится жить в Лондоне.
– А вам бы хотелось куда-нибудь уехать?
– Да, пожалуй что так. Но сейчас все зависит от того, что подвернется. Есть у меня пара-тройка…
– …вариантов на примете? Мне кажется, вы совершенно правы.
– Да, не выйдет с одним, так, наверное, все сложится с другим… Беда только в том, что я теперь немного не в курсе.
– А, да?
– Да, похоже, я слишком долго проторчал за границей. Теперь вот хотелось бы ненадолго войти в курс. Я пока не хочу отсюда уезжать.
– Но в курс – чего? – спросил Томас. – Что, по-вашему, тут такого есть?
Помедлив, засомневавшись – почти незаметно, на какую-то долю секунды, майор Брутт нахмурился и взглянул на Томаса куда пристрастнее, чем глядел до этого. Но Томас теперь виделся ему не столь отчетливо – сгущавшиеся в кабинете миазмы закрыли его, будто пленкой.
– Ну, – сказал майор, – что-то ведь тут происходит. Я хочу сказать – в целом. Знаете, что-нибудь, о чем вам всем…
– Нам всем? Нам – кому?
– Ну, вам, например, – ответил майор Брутт. – Что-то же должно быть… Потому-то мне и кажется, что я не в курсе. Я же знаю, есть что-то, насчет чего вы все сходитесь.
– Насчет чего-то, может, и сходимся, – ответил Томас, – но я, впрочем, так не думаю. Честно говоря, я бы даже не сказал, что мы сходимся. Нам всем сейчас, похоже, невесело, и вряд ли кому-то хочется, чтобы другие об этом знали. Нет, наверное, ничего более нездорового, чем соперничество вкупе с унынием, а именно так мы сейчас все себя и чувствуем. А самое-то смешное, все остальные так и норовят нас, буржуазию, пнуть, полагая, что уж мы-то наслаждаемся жизнью. По крайней мере, я так думаю. Им и в голову, похоже, не приходит, что нам до самих себя и дела нет. Нас не так сильно ненавидели, когда поводов для ненависти было куда больше. Наши отцы были дураками, но у них хотя бы на это хватило духу. А мы всего лишь сборище никчемных Кристоферов Робинов. Жить – живем, но вряд ли сами понимаем зачем. Остается только надеяться, что мы так и будем дальше выходить сухими из воды, пока кто-нибудь нас наконец не утопит.
– Как-то уж больно мрачно вы ко всему относитесь.
– Хотите, наверное, сказать, что мне нужно почаще бывать на свежем воздухе? Попринимать «Эно»[15] или что-нибудь в это роде? Нет, слушайте, я всего-то хотел сказать, что вы ничего такого, на самом деле, не упускаете. Ничего толком и не происходит… Впрочем, может, Анна что-то знает… Сигарету?
– Нет, спасибо. Пока не буду.
– Что там? – вскинулся Томас.
Майор Брутт – участливо – тоже обернулся. В парадной двери заскрежетал ключ.
– Анна, – с наигранным безразличием сказал Томас.
– Слушайте, мне, наверное, пора…
– Ерунда. Она будет вам рада.
– Но она не одна.
И вправду – в коридоре слышались голоса, говорили вполголоса.
Повторяя: «Нет, нет, останьтесь», Томас с огромным усилием вылез из кресла. Он подошел к двери и рывком распахнул ее, будто желая подавить восстание. И предельно невыразительным голосом воскликнул:
– А… Привет, Порция… О, привет, добрый вечер.
– Вечер добрый! – отозвался Эдди с фамильярной почтительностью, которую теперь он в общении с Томасом приберегал для нерабочего времени. – Мы сейчас снова уйдем, так что совсем вам не помешаем.
Ловко поднырнув за спину Порции, он закрыл ведущую в кабинет дверь. Судя по тому, как невозмутимо он держался, нервы у него были в полном порядке – потому что с каких это пор старина Томас взял за привычку вылезать из кабинета? Порция молчала, она стояла рядом с Эдди, как-то уж чересчур улыбаясь. Томасу они показались какими-то жуткими близнецами: что он, что она стояли, вскинув головы, с одинаковой, довольно неуверенной гордостью, что он, что она заговорщицки ему улыбались. Они явно надеялись прошмыгнуть незамеченными – то, как подчеркнуто внимательны они были к Томасу, только доказывало, что Томас застал их врасплох. От быстрой ходьбы оба разрумянились.
Томас показывал, что его застали врасплох, тем, что мрачно глядел мимо них.
– Я думал, это Анна, – объяснил он.
Эдди вежливо ответил:
– Нам ужасно жаль, что мы – не она.
– А ее нет дома? – машинально спросила Порция.
– Зато знаешь, кто есть? – спросил Томас. – Майор Брутт. Порция, тебе надо показаться, зайди хоть на минутку.
– Мы… а мы уже уходим.
– От одной минуты ничего не изменится, правда ведь?
Даже самым угрюмым и упрямым затворникам иногда хочется настоять на своем, вылезти на свет, показать силу. Капля дождя, бежавшая вниз по стеклу и внезапно вильнувшая в сторону, домашнее животное, отказавшееся выполнять команду, – еле заметные мелочи вдруг становятся неизбежными для того, чтобы природа могла взять свое. Томас с удовольствием разлучил Порцию с Эдди и втолкнул ее в кабинет поприветствовать майора Брутта. Он подталкивал ее в спину с невыразительной, неосознанной жестокостью. Эдди, насупившись, последовал за ними, решив быть как можно более de trop[16].
Пока за дверью шли переговоры, майор Брутт сидел, расставив колени, и рассеянно крутил руками, глядя, как посверкивают запонки. Если он что и слышал, то от всего услышанного отряхивался, как, бывает, встряхивает ушами пес. Девчушку втянули в кабинет, подтолкнули к нему. Томас, помолчав, представил Эдди. Порция с Эдди стояли плечом к плечу, улыбаясь майору Брутту с почтительностью военнопленных. Оба, он видел по глазам, были виновны в предвкушении счастья.
– Я тут заявился без приглашения, – сообщил майор Брутт Порции. – Боюсь, что здорово побеспокоил вашего брата. Но ваша невестка очень любезно сказала, что…
– Конечно же, она говорила искренне, – сказала Порция.
– В любом случае, – продолжил майор, не переставая с мучительным усердием улыбаться, – ей посчастливилось всего этого избежать. Кажется, она с кем-то обедает. А я отвлекаю вашего брата от послеобеденного сна.
– Вовсе нет, – сказал Томас, – ужасно мило, что вы заглянули.
Он снова уселся в кресло, и так основательно, что Эдди с Порцией нужно было или тоже куда-нибудь усесться, или – если они останутся стоять, как стояли, например, – сделать свое полуприсутствие, свое нежелание быть здесь еще более заметным. Стояли они в футе друг от друга, а казалось, будто рука об руку. Взгляд Порции обтекал Эдди, уходя в никуда, словно пока она не смотрела на него, ее и самой не существовало. Эдди закурил. Курил он с вызывающим видом. Эта демонстрация их связи – да еще с полным безразличием к окружающим – неприятно поразила Томаса: одной семейной проблемой, стало быть, больше. Кроме того, он не понимал, как у Эдди и наглости-то хватило… Майору Брутту, который к любви относился добрее Томаса, все это казалось какой-то сакральной аномалией.
– И где же вы были? – спросил Томас, у которого, в конце концов, на это было полное право.
– О, мы ходили в зоопарк.
– И неужели не замерзли?
Они поглядели друг на друга так, будто и сами не знали.
– Там, конечно, воняет и ветрено, – ответил Эдди, – но мы с Порцией решили, что там очень мило, правда, Порция?
Томас с изумлением подумал: «А наглости-то ему и впрямь не занимать. Что же будет, когда вернется Анна?»
8
– Что это за старикан?
– Майор Брутт. Он дружил с каким-то знакомым Анны.
– С каким знакомым?
– Его звали Пиджен.
Эдди хихикнул, спросил:
– Он что, умер?
– Нет-нет. Майор Брутт считает, что с ним все в полном порядке.
– Я никогда не слышал о Пиджене, – нахмурившись, сказал Эдди.
Порция отозвалась без тени ехидства:
– А разве ты всех ее друзей знаешь?
– Дурочка, говорил же тебе, что мы на кого-нибудь наскочим. Говорил же, так и будет, если вернемся.
– Но ты сам попросил меня принести…
– Ну да, ну да… Слушай, какой гадкий старикашка этот Брутт. Как он похотливо пялился.
– Ой нет, Эдди, вовсе нет.
– Ну да, наверное, – уныло сказал Эдди. – Уж он, наверное, куда лучше меня.
Обернувшись и с тревогой оглядев лоб Эдди, Порция сказала:
– Сегодня он был какой-то грустный.
– Еще бы ему не быть грустным, – ответил Эдди. – Он искал, чем бы поживиться. Может, он, конечно, и в сто раз лучше меня, дружочек, но вот что я тебе скажу: меня от таких, как он, просто тошнит. И ты видела, у Томаса от него мурашки – бедный старина Томас, его аж перекосило. Нет, Брутт, ты Брут. Порция, деточка, неужели ты не понимаешь, что это из-за таких, как он, люди живут так, как я? Как он вообще проник в дом?
– Сказал, его пригласила Анна.
– Циничная Анна!
– По-моему, Эдди, ты делаешь из мухи слона.
– У меня нет никакого чувства меры, и слава богу. Я всей кожей чувствовал, как этот человек меня презирает.
Эдди остановился, с шумом выдохнул.
– Господи, – сказала Порция, – я уже жалею, что мы вообще с ним встретились.
– А я говорил, так оно и будет, если вернемся. Сама знаешь, этот дом – просто паутина.
– Но ты сказал, что хочешь почитать мой дневник.
Они пили – а точнее, пока что заказали – чай в «Мадам Тюссо». Порция раньше здесь не была и очень огорчилась, увидев, что официантки тут очень даже живые, и все по-настоящему, а восковые фигуры – вообще где-то в другом месте. Они сидели рядышком за длинным столом, предназначавшимся для четырех, а то и шести человек. Перехваченный плотной резинкой дневник, который она забрала с Виндзор-террас, лежал между их локтями. Она спросила:
– Почему это Анна – циничная?
– Она поступает милейшим образом из самых гадких побуждений. Мне до этого, впрочем, дела нет никакого.
– Если тебе правда нет дела, почему же ты из-за этого расстраиваешься?
– Ну, будет, крошка, она все-таки тоже человек. Да, когда-то я расстраивался из-за ее характера. С тех пор, как мы с ней познакомились, я стал на порядок дряннее. Как жаль, что я не встретил тебя раньше.
– Дряннее – но в чем? Думаешь, ты плохой человек?
Эдди, слегка отодвинувшись от стола, окинул взглядом весь ресторан: лампы, другие столики, зеркала, – все это время серьезно обдумывая ее вопрос, словно бы она спросила, не заболел ли он. Потом он снова пристально взглянул на Порцию и ответил с почти лучезарной улыбкой:
– Да.
– И что же в тебе плохого?
Но тут к ним подошла официантка с подносом, поставила на стол чайники с чаем и горячей водой, блюда с оладьями и затейливыми пирожными. Пока она все расставляла, удачный миг был упущен. Эдди поднял крышку, оглядел оладьи.
– Но почему же, – спросил он, – она сахар-то не принесла?
– Так помаши ей, попроси… Я разливаю?.. Но, Эдди, ты не кажешься мне плохим. Что в тебе плохого?
– Ну ладно, что тебе во мне не нравится?
– По-моему, мне все…
– Давай по-другому. Что нравится меньше всего?
Она задумалась, потом ответила:
– Как ты иногда корчишь рожи безо всяких на то причин.
– Я так делаю, когда хочу, чтобы у меня вовсе не было никакого лица. Ненавижу, когда люди пытаются что-то про меня вызнать.
– Но этим ты привлекаешь внимание. Конечно, люди тебя замечают.
– Все равно, так я хотя бы сбиваю их с толку. Божечки, думают они, у него сейчас начнется нервный приступ, он, наверное, взаправду возьмет да и забьется в припадке. Они так оживляются, что начинают сами из себя невесть что строить. А я тем временем собираюсь с мыслями и превращаюсь в лед.
– Понятно… но…
– Нет, крошка, видишь ли, дело в том, что от людей у меня мурашки… Понимаешь?
– Понимаю.
– Жизненно важно, чтобы ты это понимала. Мне отчасти кажется, что я веду себя с людьми гораздо хуже, например с той же Анной, когда ты рядом, потому что мне всегда чудится, будто ты-то поймешь, почему я так себя веду, и меня это только подстегивает. Ни за что, ни за что не давай мне понять, будто ты ничего не понимаешь.
– Что же будет, если ты поймешь, что я тебя не понимаю?
Эдди ответил:
– Я так и останусь навсегда ненастоящим.
Он скатал ее перчатки в тугой ком, стиснул его в ладони. Затем с ужасом уставился куда-то поверх ее шляпки. Она обернулась, чтобы посмотреть, что он такого увидел, и они оба наткнулись на свое отражение в зеркале.
– Мне кажется, я всегда пойму, что ты чувствуешь. А мне обязательно при этом всегда понимать, что ты говоришь?
– Вовсе нет, крошка, – живо ответил Эдди. – Видишь ли, ничего особенно интеллектуального между нами нет. По правде сказать, не знаю даже, зачем я с тобой разговариваю. Я бы скорее предпочел этого не делать.
– Но нам же с тобой нужно что-то делать.
– Мне кажется, ты создана не для разговоров. Ох уж это твое миленькое, глупенькое личико, я уж не знаю, что о тебе и думать. То есть таких, как я, ты попросту не встречала?
– Но ты же сам говорил, что других таких, как ты, – нет.
– Да, но у меня много подражателей. Впрочем, тебе, наверное, и такие не попадались… Детка, налей же нам, пожалуйста, чаю, а то он стынет.
– Будем надеяться, что я справлюсь, – сказала Порция, ухватившись за металлическую ручку чайника через носовой платок.
– Ох, Порция, неужели тебя и на чай в ресторан ни разу не приглашали?
– Одну – нет.
– И вообще в ресторан? Сколько же от тебя счастья! – Он глядел, как она медленно наливает ему чай в чашку – дрожащей, слабенькой струйкой. – Во-первых, мне даже шевелиться с тобой не надо. Только когда я с тобой, мне не нужно ничего делать. Остальные мои знакомые как будто все время ждут, когда я уже начну отрабатывать свой хлеб. А мы с тобой, похоже, одного поля ягоды: две или отъявленно дрянных, или отъявленно невинных личности. А тебе понравилось, когда я сказал, что Анна – гадкая.
– Все было не так, ты сказал, что она циничная.
– Это я вспомнил, сколько денег выбросил на цветы для Анны!
– Они очень дорого стоили?
– Ну для меня – да. Лишний пример того, каким я выучился быть дураком. Я уже три года из долгов не вылезаю, случись что, меня никто и не выручит… Нет, дружок, не переживай, за чай уж я могу заплатить… Но я в буквальном смысле не могу себе позволить потерять голову. Тебе, наверное, часто говорят, что я, мол, живу за чужой счет? Но на деле все обстоит так: меня купили с потрохами. Людям кажется, будто мне нужно то, что есть у них и чего нет у меня, поэтому-то они и думают: дай мне денег, и дело сделано, теперь все по-честному.
– Наверное, отчасти так оно и есть.
– Ах, деточка, ничего ты не понимаешь… Вот скажи, ты сочла бы меня тщеславным, скажи я, что я хорош собой.
– Нет. Я тоже думаю, что ты очень хорош собой.
– Так и есть, и еще я, видишь ли, обаятельный, людям со мной весело. Но они не замечают мой ум, они вечно меня оскорбляют. Меня ненавидят за то, что я умный, потому что умом я не торгую. Вот за что меня на самом деле все ненавидят. Я и сам, бывает, себя за это ненавижу. Стал бы я водиться с этими свиньями, если б не был таким умным. Знаешь, Порция, когда я в последний раз ездил домой, младший брат меня высмеял – за то, какие нежные у меня руки.
Порция уже некоторое время не глядела на Эдди, боясь спугнуть его пристальным вниманием. Она разрезала оладушек на мелкие кусочки и рассеянно отправляла их в рот, посыпав каждый кусок сахаром. Доев его, она вытерла пальцы салфеткой и сделала большой глоток чаю, глядя на Эдди поверх края чашки. Поставив ее на блюдце, она сказала:
– Жизнь всегда такая сложная.
– Не просто жизнь сложная. А я.
– А по-моему, и ты, и другие люди.
– Наверное, ты права, прекраснейший милый ангел. Я вынужден иметь дело только с теми, кому я нравлюсь, а я не нравлюсь хорошим людям.
Она взглянула на него расширившимися глазами.
– Кроме тебя, разумеется… Слушай, если я тебе вдруг разонравлюсь, ты же не подашь виду, правда?
Порция посмотрела, есть ли у Эдди еще чай в чашке. Покосилась на свой дневник и, не отводя глаз от черной обложки, сказала:
– Ты говорил, что я красивая.
– Правда? Ну-ка, повернись, дай погляжу.
Она повернула к нему лицо – одновременно и гордое, и робеющее. Но он захихикал:
– Деточка, да у тебя весь подбородок в масле, а к нему сахар прилип, прямо как снег на рождественских открытках. Дай-ка вытру, не двигайся.
– Но я хотела съесть еще один оладушек.
– А, тогда это все, конечно, несколько бесполезно… Нет, так не пойдет. Еще не хватало, чтобы и ты наводила меня на серьезные мысли.
– А они у тебя часто бывают?
– Часто. Клянусь!
– Сколько тебе лет, Эдди?
– Двадцать три.
– Боже, – серьезно сказала она и положила себе еще оладушек.
Пока она ела, Эдди разглядывал ее с блеском в глазах. Затем он сказал:
– У тебя нелепенькое, но одухотворенное личико. Понимание в нем так и светится. И зачем я вообще трачу время на кого-то, кроме тебя? Все, с кем я разговариваю, в душе только глумятся надо мной, считают, что я все драматизирую. Ну да, драматизирую – а что в этом такого? Да, я все драматизирую. Да весь Шекспир про меня. Остальные, конечно, это тоже чувствуют, поэтому-то они все так разбираются в Шекспире. Но я делаю то, на что у них нервишек не хватает, и поэтому они все ко мне придираются. Чертовы глупые рожи…
Она ела, не сводя глаз с его лба, который сейчас хмурился от избытка чувств, но решила ничего не говорить. Она разглядывала его так старательно, что напоминала человека, который смотрит пьесу на иностранном языке, не понимая при этом ни единого слова, и поэтому напряженно следит за происходящим на сцене. От ее взгляда Эдди стало слегка неуютно, он осекся и спросил:
– Я утомил тебя, крошка?
– Нет… Я просто думала, что если не считать Лилиан, то я впервые с кем-то по-настоящему разговариваю. То есть с тех пор, как я приехала в Лондон. Это гораздо больше похоже на те беседы, которые я веду сама с собой.
– И гораздо веселее тех бесед, которые веду с собой я. Когда я осыпаю себя упреками. Я совершенно с собой не в ладах… Но ты, кажется, рассказывала, что вы с Матчетт разговариваете по вечерам?
– Да, но она не в Лондоне, она дома. И в последнее время она со мной довольно холодна.
Эдди разом помрачнел.
– Полагаю, это из-за меня?
Порция ответила не сразу:
– Ей все мои друзья не нравятся.
Разозлившись на ее уклончивость, он сказал:
– У тебя нет друзей.
– Есть. Лилиан.
Эдди, скривившись, дал понять, что в это не верит.
– Нет, все дело в Матчетт, она ревнивая старая корова. И снобка, как все слуги. Ты к ней слишком добра.
– Она была очень добра к моему отцу.
– Прости, дружок… Но, слушай, ради бога, никогда обо мне не рассказывай. Никому и никогда.
– Но кому, Эдди? У меня и не получится.
– Стоит мне представить, о чем могут подумать люди, и мне хочется всех убить.
– Ой, Эдди, осторожнее, ты капнул чаем на мой дневник! Матчетт-то и узнала о тебе только потому, что нашла твое письмо.
– Так не оставляй их где попало!
– Я и не оставляла, она нашла его там, где я его спрятала.
– И где же?
– У меня под подушкой.
– Деточка! – сказал Эдди, на миг смягчившись.
– Я все это время была в комнате, и она всего-то подержала его в руках. Она знает только, что ты написал мне письмо, и все.
– Но она знает, где оно лежит.
– Я уверена, она меня не выдаст. Ей нравится знать обо мне то, чего не знают они.
– Наверное, ты права, у нее и рот-то похож на мышеловку. И я видел, как она смотрит на Анну. Да, она промолчит и как-нибудь потом обернет это в свою пользу. О, бойся старух – ты даже не представляешь, как они присасываются к чужой жизни. Запирай все на замок, прячь все! И ни в чем не признавайся.
– Как будто мы с тобой заговорщики?
– Заговор – это про нас и есть. Интриги мы плетем все время.
Встревожившись, она спросила:
– Но если так, останется ли время у нас с тобой?
– Останется – для чего?
– Ну, для нас.
Он отмахнулся от ее вопроса, сказал:
– Заговор… Да вся наша жизнь – это настоящая революция. Вся свора против нас. Так что ни слова, никому ни слова.
– Почему?
– Плохо ты людей знаешь.
Она задумалась, припоминая:
– Майор Брутт, по-моему, все понял.
– Восторженный старый крокодил! Да еще и Томас нас застукал – говорил же, не надо возвращаться.
– Но ты сам попросил принести дневник.
– И о чем мы только думали? Вот, погоди, Анна поговорит с Бруттом. Показать тебе, какой у нас с ней тогда выйдет разговор?
Эдди принял позу: облокотившись на стол, как это делала Анна, – с ее непринужденной, но довольно напористой грацией. Лениво откинул пальцами со лба воображаемый локон. И, с очаровательной неохотой роняя слова, начал:
– Слушай, Эдди, ты только не злись. Мне это тоже не доставляет никакого удовольствия. Но мне кажется…
Занервничав, Порция огляделась:
– Ой, может, не стоит тут передразнивать Анну?..
– Но в другой раз я, может, буду не в настроении. Обычно при мысли об Анне я прихожу в ярость. Но я хочу, чтобы ты послушала, что она мне скажет после такого оригинальнейшего вступления… Она напомнит мне, что ты еще совсем ребенок. Намекнет, будто никак не может понять, что такого я в тебе нашел. Намекнет и на то, будто я веду какую-то игру и что ей, мол, только-то и хотелось узнать, какую именно. Скажет, что я, разумеется, могу на нее положиться – она ни словечка тебе не скажет о том, каков я на самом деле. Скажет, что она прекрасно понимает, какими занудами они с Томасом кажутся на моем фоне, ведь я-то гений, который снисходит только до той работы, которую она мне подносит на блюдечке. Конечно, скажет она, нет никого зануднее людей, которые платят по счетам. А еще она скажет, что понимает, как тяжко мне приходится – надо ведь соответствовать своей репутации, и понятно, что я уж спасаюсь от скуки как могу. И в конце концов она скажет: «Ну ясно, она ведь сестра Томаса».
– Я что-то не понимаю, зачем это все говорить.
– Ты и не поймешь, дружок. Зато пойму я. Анна будет сидеть на диване, а меня вкрутит в это свое дурацкое желтое креслице. Если я попытаюсь встать, она скажет: «Как ты меня утомил». Она закурит. Вот так… – Эдди раскрыл портсигар, вяло поворошил его содержимое кончиками пальцев и затем, откинув голову набок, будто арфист, вытянул одну сигарету, загадочно ее оглядел, манерничая, закурил и снова откинул со лба воображаемый локон.
– Она скажет, – продолжал он, – «Кажется, тебе пора. Тебя, наверное, Порция в коридоре дожидается».
– Ох, Эдди, она такое скажет?
– Она что угодно скажет. Дело в том, что Анна обожает обвинять других в распущенности. Себе-то она такого не позволяет, не хватает духу.
Порция удивилась:
– Но она ведь тебе нравится, я это точно знаю.
– Пожалуй, что и нравится. Вот потому-то я так на нее и злюсь.
– Ты однажды сказал, что она очень добрая.
– Верно – это она для того, чтобы сильнее меня позлить. Детка, скажи, разве я не был ужасно смешной Анной?
– Нет, не очень. По-моему, тебе самому было невесело.
– А вот и нет. Было очень смешно! – запальчиво возразил Эдди.
Он принялся корчить рожи, гримасничая так сильно, будто хотел стереть с лица последние промельки Анны. За его пародией, как заметила Порция, крылась ярость: каждая стрела, которую предположительно пускала в него Анна, была оперена демонической улыбкой. Наконец он пододвинул к себе чашку и залпом выпил остывшего чаю. Вид у него был такой грозный, что Порции на миг даже почудилось, будто он сейчас выплюнет весь чай – как будто он и отхлебнул его, только чтобы прополоскать рот. Но он проглотил чай и улыбнулся – правда, довольно устало, как отыгравший важную сцену актер. И в то же время на его лице читалось облегчение, словно он избавился от тяжелого груза, и даже – добродетельность, словно бы он еще и выполнил свой долг. Наконец он повернулся к Порции и, будто с радостью возвращаясь домой, принялся глядеть на нее во все глаза.
Помолчав еще, он сказал:
– Да, Анна очень мне нравится. Но нам же нужен хоть какой-нибудь злодей.
Но ее реакция за ним не поспевала. Пока Эдди выступал от имени злодея, Порция ела оладушек, с сомнением хмуря брови. Она не сказать чтобы удивилась, скорее, такое изображение Анны ее заворожило. Она разволновалась и в то же время ожила, как молодое деревце, которое гнет во все стороны порывами ветра. Своим напором Эдди выпутал ее из сотни унизительных недоразумений, сотни неудачных попыток распознать самые простые намеки. Любую его просьбу она могла понять с ясностью, которая естественным образом сопутствует дружбе и любви. Казалось, движущая им стихия разом установила в их жизни новый поэтичный порядок. В области чувств малейшая хитрость оказалась бы роковой для влюбленной девушки – ведь невозможно противостоять ветру. Неискушенность Порции, ее бесхитростность – все, что мешало ей понять законы, по которым жили на Виндзор-террас, – сыграли ей на руку в отношениях с Эдди. Ей не на чем было настаивать, не от чего было отказываться. Она родилась послушной. Когда она – быстро, тревожно – на него посматривала, в ее взгляде не было никакой растерянности, одно обожание. Эдди настроил ее под себя, словно пианино, настолько, что она рефлекторно улыбалась, стоило улыбнуться ему, но именно благодаря этому она и смогла изучить, впитать его в себя: вот это – Эдди. Избавиться от его слов, от того, как он выглядит, теперь уже было нельзя. Можно сказать, что она почти сразу его узнала. Впервые после смерти Ирэн она почувствовала в ком-то самого обычного человека.
Невинность так часто оказывается в ложном положении, что невинные в душе люди вскоре приучаются лицемерить. Не овладев языком, на котором они могли бы говорить от своего имени, они смиряются с тем, что отныне их будут переводить – и неточно. Они одиноки, а вступая в отношения, идут на ненужные компромиссы – из-за страха, из-за желания поделиться теплом и ощутить его в ответ. Для них наша любовь устроена слишком порочно. Они неизбежно оступаются, после чего их упрекают в неверности. Их любовь, нежная и разрушительная, оборачивается бесчисленными предательствами для тех, кто не столь невинен. Будучи в этом мире безнадежно чужими, они все равно – упорно, героически – требуют от него счастья. Их неприкаянность, их беспощадность, их безустанное движение к одной-единственной цели обрекает их на жестокость – и на жестокое к себе отношение. Двоим невинным людям редко удается встретиться – до того их мало, но если это происходит, то земля вокруг них обычно усеяна их жертвами.
Порция с Эдди, сидевшие бок о бок, – между ними, под ее рукой – дневник – посмотрели друг на друга, и два безжалостных взгляда, разминувшись буквально на миг, слились в один. Казалось, их глаза впервые глядят в полную силу – все ради того, чтобы породить один этот взгляд. Взгляд, в котором вместо любовной нежности отчетливо читался обмен приветствиями. Все равно что двое сообщников впервые заговорили о своем участии в одном и том же преступлении или двое детей впервые узнали о том, что оба они – королевского рода. По поводу любви и сказать-то было нечего: оба, похоже, не строили никаких планов, обоим ничего не хотелось. Сегодня их беседа вертелась вокруг заключенного ранее соглашения, и теперь они отдали ему честь.
До этого жизнь Порции сводилась к тихой, покорной уступчивости, хотя уступала она другим вовсе не из жалости. Теперь же она с жалостью, но ни в чем себя не упрекая, думала обо всех, кем ей пришлось пожертвовать – о майоре Брутте, Лилиан, Матчетт и даже Анне, – через кого ей пришлось переступить, чтобы добраться до Эдди. И она знала, что это не в последний раз, ведь жертву нельзя ограничить одним поступком. Дому на Виндзор-террас не стоит ждать от нее ничего хорошего, и не в справедливости здесь дело: таких последствий любви посторонние люди просто не заслуживают. Даже Анна проявила к ней что-то вроде безнравственной доброты, а любовь Матчетт хоть и несла облегчение для самой Матчетт, все же была любовью – значит, и от нее нужно будет отказаться тоже.
Для Эдди же любовь Порции словно бы опровергала все, в чем его обвиняли годами, и все, в чем он винил себя сам. И это он еще не рассказал ей и половины того, что его возмущало. Он был старше нее и потому дольше страдал от греховной благопристойности мира. Он был уверен не столько в своей правоте, сколько в собственной неотразимости. Но просчитался он вот в чем: все отношения с другими людьми он начинал на условиях, которые, как он потом понял, были вовсе не их. Стоило Эдди упасть в очередные, как ему казалось, приветливые объятья, как им самым нелепым образом начинали помыкать – и объятья делались ему невыносимы. Любовь же стала чем-то вроде девственного добродетельного духа, не имевшего никакого отношения к его катастрофическим влюбленностям, – и все его до автоматизма отработанные приемы в обращении с другими людьми (ласковые словечки, улыбки в пару чужим улыбкам, значительные-многозначительные взгляды) на самом деле были его броней, защитой того, что он считал неприкосновенным. Его умильные манеры уже не имели почти ничего общего с его сексуальными аппетитами; его тело постепенно сбрасывало наивность. Подлинная наивность еще теплилась в том Эдди, которого он ото всех скрывал, и этот Эдди надеялся на покой и уважение. Ему, конечно, казалось, что с родителями его больше ничего не связывает, но при этом из дома он в каком-то смысле так и не уехал. Он ненавидел Анну – по мере собственных сил, разумеется, потому что вечно читал в ее глазах: «И что дальше?» Сам он никакого «дальше» не видел, только одно бесконечное Сейчас.
Он взглянул на руку Порции, сказал:
– Какой толстенный дневник!
Она убрала руку с тетрадки в черном переплете.
– Я его наполовину исписала, – сказала она. – Уже.
– А когда этот закончится, заведешь новый?
– Да, наверное, ведь всегда что-нибудь происходит.
– Но, положим, тебе больше не будет до этого дела.
– Все равно обед, уроки и ужин никуда не денутся. Бывают дни, когда, кроме этого, ничего не случается, тогда я просто оставляю страницу пустой.
– Думаешь, эти дни стоили целой пустой страницы?
– Ну да, ведь это как-никак целый день.
Эдди взял дневник, взвесил его на ладони.
– И все твои мысли тоже тут? – спросил он.
– Не все. Но я послушала тебя и теперь даже не знаю – может, мне перестать думать?
– Нет, мне нравится, что ты думаешь. Если перестанешь, для меня это будет все равно как если часы посреди ночи остановятся… И которые же из твоих мыслей – тут?
– Которые поособеннее.
– Дружок, мне ужасно приятно, что ты даешь его мне почитать… Но что если я, например, забуду его в автобусе?
– Там есть мое имя и адрес. Скорее всего, его вернут. Но, может быть, ты хотя бы положишь его в карман?
Они втиснули дневник в карман его пальто.
– И кроме того, – добавила она, – раз у меня теперь есть ты, дневник мне, наверное, и не очень-то нужен.
– Но мы не будем так часто встречаться.
– Я могу беречь свои мысли для тебя.
– Нет, лучше записывай, а потом мне покажешь. Мне нравятся мысли после того, как их как следует помыслили.
– Но они все равно уже будут не совсем такими же. В смысле – после дневника. До сих пор я писала только для себя. Если я хочу и дальше писать точно так же, придется мне вообразить, будто тебя не существует.
– Со мной ты не перестала быть собой.
– С тобой я больше не одинока. Одиночество было частью моего дневника. Когда я приехала в Лондон, я была одна в целом мире.
– Послушай-ка, а где ты будешь писать, пока эта тетрадка у меня? Пойдем в «Смитс», купим тебе новый?
– Тот «Смитс», который рядом, по субботам закрывается после обеда. Да и потом, кажется, о сегодняшнем дне я ничего писать не стану.
– Совершенно верно, и не пиши. Не хочу, чтобы ты писала о нас с тобой. И знаешь что, лучше вообще обо мне ничего не пиши. Обещаешь?
– Но почему?
– Мне это не нравится, и все тут. Нет, пиши лучше о том, что происходит. Пиши об уроках, и об этих тошнотворных разговорчиках, которые вы, наверное, ведете с Лилиан, и о том, что было на обед, и что сказали все остальные. Но поклянись, что не станешь писать о своих чувствах.
– Но ты еще не знаешь, есть ли они у меня.
– Ненавижу писательство, ненавижу искусство – вечно у всего есть двойное дно. Я не хочу, чтобы ты подбирала слова, чтобы написать обо мне. Начнешь, и твой дневник станет ужасной ловушкой, и мне уже не будет с тобой так спокойно. Мне нравится, что ты думаешь, скажем так. Мне нравится, что ты не стоишь на месте, как часики. Но никаких мыслей между нами никогда не должно быть. И недомыслия я просто не выношу. Сказать по правде, я даже рад, что заберу у тебя эту тетрадку, пусть и всего на пару дней. Ну что, ты, наверное, и понятия не имеешь, что это я тут такое говорю?
– Нет, но это и неважно, на самом деле.
– С кем тебе нужно поговорить, так это с майором Бруттом… Боже!
– Что такое?
– Уже шесть. Я опаздываю. Мне пора… Так, ангел, не забудь перчатки… Ну, что еще?
– Ты ведь не забудешь, что дневник у тебя в кармане пальто?
9
Дневник
Понедельник
Эдди вернул дневник почтой. Он не приложил никакого письма, потому что у него не было времени. На посылке был конторский штамп. Очень много нужно записать, чтобы наверстать пропущенные девять дней.
Белый прикроватный коврик отдали в чистку, потому что я пролила на него лак, которым покрывала моих медведей. Вместо него Матчетт положила красный, кусачий.
Сегодня мы проходили историю умбрийской школы, счетоводство, писали сочинение по немецкому.
Вторник
Эдди пока ничего не сказал о дневнике. Лилиан на уроке мутило, и ей пришлось выйти. Она говорит, что от чувств ее всегда мутит. Анна еще не вернулась, когда я пришла домой, поэтому чай можно было пить внизу, с Матчетт. Она была занята – штопала лиловое шифоновое платье Анны – и совсем ни о чем меня не спрашивала. Потом пришла Анна и послала за мной, а когда я к ней поднялась, сказала, что вечером поведет меня на концерт, потому что у нее есть лишний билет. Вид у нее был расстроенный.
Сегодня мы проходили первую помощь, слушали лекцию по Расину, писали сочинение.
Среда
Эдди пока ничего не сказал о дневнике. Утром мы с Лилиан опоздали на первый урок, мать посадила ее на диету. Вчера вечером, когда мы с Анной ехали в такси, она сказала, что надеется, что наша с Эдди прогулка мне понравилась. Я сказала да, а она сказала, вот и Эдди говорит, что ему тоже. Тогда я отвернулась и посмотрела в окно. Она сказала, что у нее болит голова, а я спросила, разве она не разболелась еще сильнее из-за концерта, и она ответила: еще бы. Она очень огорчилась, что ей пришлось взять меня с собой.
Сегодня мы проходили основы гигиены, на французском – писали сочинение о Расине, ходили в Национальную галерею смотреть на картины умбрийских мастеров.
Анна с Томасом сегодня ужинают не дома. Интересно, зайдет ли Матчетт сказать спокойной ночи. Скорее бы вернулся из чистки белый коврик.
Четверг
Сегодня я получила от Эдди письмо, но он пока так ничего и не сказал о дневнике. Пишет, что обедал с Анной и что она была очень мила. Пишет, что хотел мне позвонить, но передумал. Почему – не говорит. Пишет, что ему кажется, будто он стоит на пороге новой жизни.
Интересно, кто все-таки тогда не пошел на концерт с Анной?
Пишет, что мы скоро увидимся.
Сегодня мы писали сочинение о нашем любимом шедевре умбрийских мастеров, и нужно было описать все его характеристики. Читали Гейне, нам раздали проверенные сочинения по немецкому. Слушали лекцию о событиях этой недели.
Пятница
Написала Эдди письмо, но не про дневник.
Я написала ему в половине пятого, когда вернулась домой, а потом вышла, чтобы купить марку. Оба раза Матчетт не слышала, как я вошла, ну или слышала, но не стала подниматься. У Анны к чаю были гости, двое ее новых знакомых, которые не понимали, нужно ли им со мной разговаривать. Анна не произвела особого впечатления на них, и они не произвели особого впечатления на нее. Я выпила чаю и ушла.
Так странно было войти домой дважды, потому что обычно когда я прихожу, то прихожу насовсем. Но когда я вышла за маркой, а потом вернулась, мне стало как-то страннее обычного, и дома было тише и просторнее, чем всегда, а не как обычно. По вечерам это больше заметно. Когда Томас приходит с работы, вид у него такой, будто он унюхал что-то, что уже нельзя есть. Этот дом превращает чувства в запахи. С тех пор, как я познакомилась с Эдди, я все спрашиваю себя, чего в этом запахе больше.
Сегодня нам раздали проверенные сочинения по Расину, несколько девочек рассказывали, о чем они писали. Мы разбирали Меттерниха, а потом нас водили на лекцию «Как правильно слушать Баха».
Завтра опять суббота.
Суббота
Получила письмо от Эдди, он пишет насчет воскресенья. Просил позвонить, если не смогу прийти, но я могу, поэтому звонить не придется. Анна с Томасом уехали на авто еще до обеда, они уехали на все выходные. Анна разрешила мне позвать к чаю Лилиан, а Томас дал мне пять шиллингов, чтобы мы с ней сходили в кино, и сказал, что надеется, что со мной все будет хорошо. Лилиан не смогла прийти, поэтому я сижу в кабинете у камина. Мне нравятся такие дни, когда есть какое-то завтра.
Воскресенье
Просто напишу «Воскресенье», Эдди так больше нравится.
Понедельник
Сегодня мы начали проходить сиенскую школу живописи, а еще читали немецкую пьесу и занимались счетоводством. Анна устраивает вечеринку, будет ужин и много гостей, она говорит, что мне будет скучно.
Впрочем, что это я жалуюсь, когда вчера был такой день.
Вторник
Сегодня мы с Томасом как будто бы даже поговорили. Когда он пришел, то позвонил и спросил, дома ли Анна, я сказала «нет» и спросила, спуститься ли к нему, он сначала толком ничего не ответил, но потом сказал «да». Он сидел, навалившись на стол, и читал вечернюю газету, а когда я зашла, сказал, что, похоже, потеплело. Сказал, что ему вообще-то даже душно. Вчера вечером мы с ним не виделись, из-за вечеринки, поэтому он спросил, хорошо ли я провела выходные. Сказал: надеюсь, ты не заскучала тут, и я ответила – «о нет». Спросил: нравится ли мне Эдди. Я ответила «о да», а он сказал – он ведь заходил вчера, так? Я ответила – «о да», и сказала, что мы сидели у него в кабинете и что надеюсь, он не имеет ничего против того, когда кто-нибудь сидит у него в кабинете. Он ответил «нет-нет», каким-то таким рассеянным тоном. Сказал, что мы с Эдди, похоже, подружились, и я ответила: да, подружились. Потом он снова принялся читать газету так, будто хотел вычитать там что-то новое.
Отчасти ему хотелось, чтобы я ушла, и мне тоже отчасти этого хотелось, но я не ушла. Томас впервые спросил меня о чем-то, что он, казалось, и вправду хотел узнать. Мне было приятно услышать имя Эдди, и я уселась на подлокотник кресла. Он хотел закурить и по ошибке предложил сигарету и мне. Конечно, я рассмеялась. Он сказал: я и забыл, а потом сказал: нет, только не становись взрослой. Сказал, что в нашей семье эту ошибку уже многие совершали. Он сказал, что когда отец только познакомился с мамой, он тогда еще жил в Дорсете, с миссис Квейн, тогда отец стал курить гораздо больше. Он сказал, отцу было очень стыдно, что он так много курит, и поэтому он собирал окурки в конверт, а конверт потом закапывал в саду. Потому что было лето, каминов не разжигали, а ему не хотелось, чтобы Матчетт считала окурки. Я спросила, откуда Томас это знает, а он как-то так усмехнулся, что ли, и сказал: однажды я его поймал за этим занятием. Сказал, отцу не понравилось, что его поймали, но Томас подумал, что это какая-то шутка, только и всего.
Томас сказал, что и сам не понимает, с чего это все вдруг пришло ему в голову, и посмотрел на меня, когда думал, что я на него не смотрю. Все взгляды Томаса, кроме тех, что достаются Анне, они на тех, кто не смотрит. Но он не огорчился, когда заметил, что я смотрю. Ведь у нас с ним есть отец. Пусть у них с Анной есть вот это вот общее, внутри у него и у Анны все равно все разное, не то же самое, что внутри у нас с ним. Он спросил, как-то очень вскользь и очень по-моему: надеюсь, Эдди хорошо себя ведет? Я спросила: то есть? А он сказал: ну, я Эдди не знаю, он ничего такого себе не позволяет? Сказал: нет, ты, наверное, и не понимаешь, о чем это я, и я ответила «нет», а он сказал: ну тогда, похоже, все в порядке. Я сказала: мы разговаривали, и Томас поглядел на коврик, как будто зная, где мы сидели, и ответил: а, разговаривали, ясно.
Потом Томас как-то так разлохматил коврик ногой, как будто ему не понравилось, что там кто-то сидел. Из-за этой лампы кажется, что у Томаса все лицо – одни сплошные мешки и морщины, кажется, что он тут совсем один. Он сказал: ну хорошо, посмотрим, что из этого выйдет. Он взял книжку и сказал, что любить вообще хоть кого-нибудь – это ошибка, а я сказала, что в браке-то можно, наверное. И он быстро ответил: ну да, конечно, тогда можно. Я услышала, как подъехало такси, Анна так всегда подъезжает, поэтому сказала, что мне пора, и встала. Я чувствовала себя таким Томасом, что была даже рада, что приехало такси.
Среда
Сегодня мы проходили основы гигиены, французскую риторику и ходили в Национальную галерею смотреть на шедевры сиенской школы. Когда мы шли в Национальную галерею, Лилиан спросила, и о чем это я вечно думаю? Я сказала: ни о чем, но она сказала, что я витаю в облаках. После Национальной галереи она попросила меня пойти вместе с ней в «Питер Джонс» и помочь ей выбрать коктейльное платье. Мать Лилиан разрешает ей самой покупать себе одежду, чтобы у нее сформировался вкус. Но вкус у Лилиан и так есть. Я сказала, что мне нужно позвонить Матчетт, а Лилиан сказала, что скоро мне уже будет стыдно звонить и отпрашиваться. Лилиан выбрала прекрасное синее платье, точно по фигуре и стоит четыре гинеи.
Когда я вернулась, из кабинета был слышен голос Анны. Томаса я не видела со вчерашнего вечера.
Четверг
Эдди пишет – спросить, не спрашивал ли кто про воскресенье. Пишет, что нарисовал для меня картинку, но, наверное, забыл вложить ее в конверт. Пишет, что на следующих выходных ему нужно будет уехать.
Привезли мой белый коврик, он стал еще мягче, такими мягкими бывают животы у кошек. Надеюсь, что я больше ничего на него не пролью.
Сегодня мы писали сочинение о сиенской живописи, и нас попросили сказать, какие у нее есть характеристики, каких нет у умбрийской школы. Слушали лекцию о событиях недели, затем приходила дама, которая учит нас декламации.
Мать Лилиан говорит, что синее платье слишком облегающее, но Лилиан с этим не согласна.
Сегодня туман, и прегустой.
Пятница
Когда я проснулась, окно словно заложили кирпичом и в комнате ничего толком нельзя было разглядеть. И так во всем доме, не сказать чтобы темно, а просто будто сам воздух – больной. Пока завтракала, разглядела, как крепко прохожие держатся за ограду вокруг дома. Томас обычно завтракает позже меня, но сегодня он вошел и сказал: ну что, похоже, это твой первый туман. Потом Анна прислала горничную спросить, не хочу ли я остаться дома и не ходить к мисс Полли, но я ответила: нет-нет, я лучше пойду. Тогда Анна велела передать, что пусть уж тогда со мной пойдет Матчетт. Томас сказал, она права, ты не разглядишь дороги, нужно идти, помогая себе руками. Разумеется, руки у Матчетт посильнее моих.
Путь до школы стал настоящим приключением. За воротами парка горели костры, Матчетт сказала, это сигнальные огни. Она велела мне закрыть рот шарфом и молчать, не то я наглотаюсь тумана. С полдороги мы взяли такси, и Матчетт сидела с такой прямой спиной, как будто сама была за рулем. Разговаривать она мне все равно не разрешила. Когда мы добрались до школы, оказалось, что половина девочек не пришли. Мы весь день сидели с включенным светом, и казалось, что у нас каникулы. Под вечер тумана почти не осталось, но Матчетт все равно за мной пришла.
Нам должны были прочесть лекцию о том, как правильно слушать Моцарта, но из-за тумана ее заменили дискуссией о том, что постоянство – это химера ограниченных умов. Еще мы написали сочинение о политике Меттерниха.
Анна с Томасом ужинали сегодня дома. Она сказала, что когда такой туман, ей вечно кажется, будто это она в чем-то провинилась, но, по-моему, она это не всерьез. Томас сказал, что, наверное, всем людям так кажется, а Анна ответила, вот уж вряд ли. Потом мы все сидели в гостиной втроем, и им хотелось сидеть там вдвоем.
Завтра суббота, но ничего не произойдет.
Суббота
Я оказалась совершенно права, сказав, что ничего не произойдет, даже туман рассеялся, хоть и оставил по себе бурые пятна. Томас и Анна уехали на выходные, но в этот раз на поезде. Я уселась в гостиной и начала читать «Большие надежды». У Матчетт было полно хлопот с платьями Анны. К чаю я спустилась к ней, она сказала: ну и ну, вы точно привидение. Но это не я, это дом такой. Филлис позвала меня на кухню послушать граммофон. Они его заводят, только когда Анны нет дома.
Раньше, пока мы не гуляли с Эдди, я ничего такого не чувствовала, разве что чувствовала, только сама того не зная.
Воскресенье
В то же время, в тот же день, что и неделю назад.
Сегодня утром я гуляла в парке. Там было немноголюдно. Собаки носились кругами, убегая с глаз долой, их хозяева свистели, и всюду пахло глиной. Я осмотрела все места, которые нам больше всего понравились, но они теперь были совсем другими. Иногда воскресенья бывают ужасно печальными. После обеда мы с Матчетт поехали на автобусе в собор Святого Павла, она взяла меня на вечернюю службу. Пели «Пребудь со мной». По пути домой Матчетт спросила, знаю ли я, что Анна с Томасом в апреле уезжают. Сказала, они думают поехать за границу. А я ничего и не знала. Она сказала, раз уж я вечно все подмечаю, странно, что об этом я ничего не слышала. Сказала, значит, когда надо будет, вам обо всем скажут. Я спросила: а я останусь здесь? А она ответила: нет, вам тут нельзя будет остаться, дома будет генеральная уборка. Я сказала: вот оно что, но она больше ни слова не вымолвила. Улицы за окном автобуса казались гораздо темнее, потому что все магазины были закрыты.
Вот бы кто-нибудь любил бы меня так сильно, так, чтобы, когда меня нет дома, прийти и оставить для меня подарок на столике в коридоре, чтобы, вернувшись, я его нашла.
Когда мы возвратились из собора, Матчетт зашла через подвал, с входа для слуг, но мне велела зайти через парадную дверь.
После ужина я сидела у Томаса, на коврике возле камина. Я вспоминала о том, что Эдди рассказал мне, когда мы с ним сидели на этом самом коврике.
Отец у него – строитель.
В детстве он знал наизусть много стихов из Библии.
Он, положительно, боится темноты.
Больше всего на свете он любит сырные палочки и заливное.
Ему совсем не хочется быть слишком богатым.
Он говорит, что когда любишь кого-нибудь, все когда-нибудь загаданные тобой желания начинают сбываться.
Он не любит, когда над ним смеются, поэтому и притворяется, что хочет, чтобы над ним смеялись.
У него тридцать шесть галстуков.
В записанном виде это похоже на характеристики разных предметов, которые нас просят писать на уроках. Интересно, Эдди придет когда-нибудь в голову оставить для меня подарок на столе, когда меня нет дома?
Понедельник
Эдди написал мне, пока был в отъезде. Говорит, что он в гостях у людей, которые ему нисколечко не нравятся. Просит позвонить ему на работу и сказать, когда Анны вечером не будет дома, но я не знаю, как это выяснить.
Сегодня мы снова проходили сиенскую школу и счетоводство и снова писали сочинение по немецкому. Лилиан не дожидалась, как обычно, меня на кладбище, и вообще опоздала на урок. Сказала, что ужасно расстроена из-за какого-то актера, и назавтра позвала меня к чаю. Когда я пришла домой, Анна была в преотличном настроении и рассказывала мне про их поездку на выходных так, будто я – Сент-Квентин. Может быть, она рада, что они едут за границу. Но об этом она не может мне сказать, пока не придумает, что со мной делать.
Вторник
Ой, майор Брутт словно бы прочел мои мысли и прислал мне головоломку! Я вошла домой, а она лежала на столике. Говорит, ему будет приятно представлять, как я ее собираю.
Сегодня мы писали сочинение и проходили первую помощь, а потом нас водили в школу для девочек смотреть Le Cid[17]. Потом я пошла к Лилиан пить чай, чтобы она могла рассказать мне про своего актера. Их где-то там представили друг другу, а затем она ему написала, что восхищается его творчеством, потому что она и вправду им очень восхищается. Актер ответил только после третьего письма и пригласил Лилиан на чай. Она надела синее платье, а сверху жакетку. К чаю пришли и другие люди, но он потом попросил ее остаться и повел себя отвратительнейшим образом. Она говорит, что в нем вскипела страсть. Лилиан очень расстроилась. Говорит, что, вернувшись домой, написала ему два письма, чтобы разъяснить ему, что именно она почувствовала. Ни на одно из писем он не ответил, и теперь Лилиан думает, что, наверное, задела его чувства. От этого ее снова ужасно мутит.
У меня в комнате нет такого большого стола, на котором головоломка поместилась бы целиком. Интересно, будет ли Матчетт сердиться, если я разложу ее на полу?
Среда
Матчетт отослала белое бархатное платье Анны в срочную чистку, потому что Анна собирается надеть его завтра вечером. Я спросила: надеть дома? – и Матчетт сказала: нет, она куда-то идет. Значит, нужно сказать Эдди, я же обещала.
Сегодня мы проходили основы гигиены и французскую риторику, а потом нас водили смотреть на исторические наряды в Лондонский музей – что-то новенькое. Еще мы видели модель лондонского пожара, и мисс Полли сказала, что мы должны делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить войну.
Я позвонила Эдди.
Четверг
Эдди говорит, что ложь – это не недостаток. Поэтому я сказала, что иду гулять с Лилиан. Мне разрешили при условии, что я вернусь домой к десяти. На обратном пути нужно будет зайти к Лилиан, потому что за мной туда могут прислать Матчетт. Но Эдди живет в каком-то совсем другом месте. А вдруг у меня не хватит денег, что тогда?
Пятница
Вчера все прошло очень даже неплохо.
Суббота
Утром Анна повела меня за покупками. После обеда Томас водил меня в зоопарк. Она разрешила мне самой выбрать, что у нас будет сегодня к обеду. Они что, поссорились или наконец решили сообщить мне, что уезжают?
Воскресенье
Они ездили обедать к своим знакомым в Кент и взяли меня с собой. Поэтому я почти весь день сидела в машине и думала, за исключением того времени, когда мы собственно обедали. Анна с Томасом сидели впереди, и он изредка спрашивал: как у нее там дела? Тогда Анна оборачивалась и проверяла.
После того как мы вернулись, я собирала головоломку.
В четверг вечером, когда я впервые была у Эдди в гостях, оказалось, что я совсем по-другому представляла себе его жилье. Оно ему не нравится, и оно, я уверена, об этом прекрасно знает. Мы ели очень вкусные холодные закуски с картонных тарелок, Эдди еще купил для меня макарунов, и мы с ним сварили кофе на газовой горелке. Он спросил, умею ли я готовить, а я ответила, что мама умела, когда жила на Ноттинг-Хилл-Гейт. Вилки у него были, но нож отыскался только один, хорошо, что ветчина продавалась уже нарезанной. Он сказал, что раньше никого не приглашал к ужину, если он вечером один, то идет в ресторан, и если не один, тоже идет в ресторан. Я сказала, что это, наверное, здорово, а он ответил: совсем нет. Я спросила: что же, раньше тут не было гостей? – и он сказал: ах да, бывает, что гости заходят ко мне на чай. Я спросила, какие гости, и он ответил: ну, знаешь, дамы. Затем он принялся изображать даму, которую он пригласил к чаю. Он сделал вид, как будто швыряет на диван шляпу, затем стал поправлять волосы перед зеркалом. Потом он прошелся по комнате, разглядывая обстановку и этак покачиваясь. Потом он показал, как дама, устроившись поудобнее в кресле, загадочно ему улыбается. Потом он изобразил все, что он при этом делает сам, например берет лисью горжетку дамы и делает вид, что это кошка. Я спросила: а что еще ты делаешь? – и он ответил: почти ничего, крошка, пока это сходит мне с рук. Я спросила, зачем же он вообще зовет их к чаю, а он ответил, что так выходит дешевле, чем кормить их где-нибудь обедом, но в результате – куда утомительнее.
Потом он поднял с дивана воображаемую шляпу и сделал вид, как будто бы он прыгнул на нее обеими ногами и растоптал. Он сказал, что я сняла с его души такую тяжесть. Потом он отдал мне последний макарун, положил голову мне на колени и притворился, будто спит, сказав, правда, чтобы я не крошила пирожное ему в глаза. Когда он проснулся, то сказал, что если бы он был дамской горжеткой, а я была бы им, я бы совершенно точно погладила бы его по голове. Я гладила его по голове, а он делал вид, будто у него стеклянные глаза, как у горжетки.
Он сказал: жаль, что мы слишком молоды для брака. Потом рассмеялся и сказал: смешно, правда? Я спросила: почему, Эдди, не понимаю? – а он ответил: нет, это не смешно, это очень мило. Потом он снова закрыл глаза. Без двадцати минут десять я сдвинула его голову и сказала, что мне нужно вызвать такси.
Я обещала, что не буду об этом писать. Но именно по воскресеньям так часто думается о прошлом.
Майор Брутт огорчится, если я буду так медленно собирать его головоломку.
Понедельник
Когда я вернулась от мисс Полли, Анна сидела у меня в комнате и собирала головоломку. Она извинилась, но сказала, что не может оторваться, поэтому мы с ней продолжили собирать головоломку вдвоем. Она спросила, откуда взялся стол, на котором она разложена, и я сказала, что его откуда-то принесла Матчетт. Она сказала: аа. Она собрала целый уголок, часть неба с самолетом. Она улыбалась чему-то своему, рылась в кусочках головоломки, потом спросила: ну как там поживают твои кавалеры? Она сказала, что надо, наверное, пригласить майора Брутта на ужин, пусть соберет ту часть неба, которая поскучнее. Потом спросила, кого мы еще позовем – Эдди? Сказала: ты только скажи, это твой праздник. Мы с ней собирали головоломку до тех пор, пока Анне не пора стало переодеваться к обеду.
Сегодня мы начали изучать искусство Тосканы, еще проходили счетоводство и немецкую грамматику.
Вторник
Я спускалась к завтраку, а дверь в спальню Анны была приоткрыта и был слышен их разговор с Томасом. Она говорила: ладно, это твое что-то там, а не мое. Томас часто сидит с ней на кровати, пока она пьет кофе. Потом она сказала: она же дочь Ирэн, сам понимаешь.
Актер так ничего больше и не написал Лилиан.
Сегодня мы проходили первую помощь и обсуждали наши сочинения, а потом нас водили на лекцию по Корнелю.
Среда
Я получила письмо от Эдди, но он не пишет, что делал на выходных. Просит не рассказывать Анне об этих его пародиях, потому что пару раз она сама заходила к нему на чай. Что такого, по его мнению, я могу рассказать Анне? Иногда я его совсем не понимаю.
Сегодня лил дождь. Мы проходили основы гигиены, обсуждали Корнеля, а потом нас водили в Национальную галерею.
Вечером Анна взяла меня на грандиозную вечеринку с золотыми стульями, где было, правда, несколько моих сверстниц. Я была одета в черное бархатное платье. Какая-то дама подошла к Анне и сказала: я слышала, вы собрались за границу. Анна ответила: ой, я и сама еще не знаю, и потом этак на меня посмотрела.
Четверг
Сегодня мы слушали лекцию о событиях недели, а потом специальную лекцию о Савонароле и проходили риторику (на немецком).
Мы с Томасом ужинали вдвоем, потому что Анна ужинала с кем-то еще. Он спросил, не буду ли я против, если мы никуда не пойдем, потому что, сказал он, день у него выдался тяжелый. Ему даже не хотелось особенно ни о чем говорить. В конце ужина он сказал: боюсь, это все довольно скучно, но это и есть семейная жизнь. Я сказала, что когда мы жили на юге Франции, то часто не разговаривали. Он сказал: а кстати, раз уж мы заговорили о юге Франции, я и забыл, мы тебе говорили, что едем на Капри? Я сказала, что это будет очень хорошо. Он кашлянул и сказал: то есть мы с Анной едем. И затем быстро продолжил: мы все прикидывали, что бы такого хорошего придумать для тебя. Я ответила, что, кажется, Лондон для меня очень хорош.
Пятница
Вчера вечером, едва я успела убрать дневник, Матчетт зашла пожелать мне спокойной ночи. Увидев, что я еще не в постели, она всплеснула руками. Тогда я сказала ей, что они мне сказали, что едут за границу. Она ответила: вот как, вам сказали, – и уселась на кровать. Она сказала: она все его донимала, чтобы он сказал. Я ответила: ну, что же им делать, они же не виноваты, что есть я. Она ответила: нет, но если бы они поступили с вами по справедливости, вы не бегали бы теперь за этим Эдди.
Я сказала: но ведь, в конце концов, они муж и жена, а я никому из них не муж и не жена. Она сказала: был один брак, а потом стал другой брак – вот отчего все беды и начались. Я сказала Матчетт, что у меня в любом случае есть она. Тогда она навалилась на кровать с правой стороны и спросила: это-то понятно, а ведете-то вы себя хорошо? Я сказала, что не понимаю, что это она такое говорит, а она сказала: не понимаете, это-то и плохо. Сказала, если бы мистер Томас был бы хоть вполовину таким человеком, каким был его отец, то у меня бы…
У меня бы что, Матчетт? – спросила я. Но она ответила: да ничего.
Она встала и, поджав губы, разгладила фартук. Сказала: он есть актеришка, вот кто он. Сказала: ему бы оставить вас в покое. Ее пожелания спокойной ночи теперь совсем не те, что прежде.
Завтра суббота.
Суббота
Утром Анна зашла с самой обычной своей улыбкой и сказала: Эдди просит тебя к телефону. Телефон звонил уже давно, так что, наверное, Анна первой поговорила с ним сама. Он спросил: как насчет того, чтобы снова прогуляться по парку? Сказал: все в порядке, я знаю, что они едут в Ричмонд. Сказал: встречаемся на мостике в три.
Матчетт даже внимания на меня не обратила, когда мы столкнулись на лестнице.
Мы встретились на мостике в три.
Воскресенье
Утром они поднялись довольно поздно, поэтому я пока складывала головоломку. Когда они наконец спустились, то сказали, что мы будем делать все, что я пожелаю. Я не могла придумать, чего я желаю, так что кто-то из них сказал – Эппинг. Мы поехали туда, зашли в место под названием «Робин Гуд» и ели на обед колбаски. Потом мы с Томасом отправились гулять по лесу, а Анна осталась в машине читать детектив. Он сказал мне, они договорились, что я поживу на побережье, пока они с Анной будут на Капри. Я ответила: хорошо, наверное, будет здорово. Томас как-то так на меня покосился и ответил: наверное.
Когда мы вернулись к машине, Томас сказал: я рассказал Порции о наших планах. Анна ответила: ой, правда? я так рада. Она так увлеклась детективом, что всю дорогу до дома читала.
Я сказала, что наша прогулка мне очень понравилась.
Анна сказала: не успеешь оглянуться, как наступит весна.
Часть 2 Плоть
1
В начале марта замигали, а затем запылали желтым и багряным крокусы в парке. Свисток тоже давали позже: теперь здесь можно было гулять и после чая. Заметим, кстати, что первый час весны бьет как раз около пяти вечера, это осень наступает ранним утром, но весна – под конец зимнего дня. Воздух, перед тем как потемнеть, становится плотнее, начинает пульсировать странным белым светом, и завеса черноты так и не падает, словно бы случилось что-то из ряда вон выходящее. Может быть, еще и нет никаких закатов, и еще не набухли почки на ветках, но чувствам уже подали знак, знак еле приметный, но до того надежный, что, кажется, это и не знак вовсе, а движение души. И от этого пробуждается все, что было на сердце.
Ни одно человеческое переживание не сравнится по силе с этим нагим переживанием земли. Другие стадии весны, когда она уже шагнула за порог, встречают с присущей случаю радостью. Но ее первое, незримое появление всегда вызывает тревогу: в компаниях смолкают разговоры; о желании уединиться – с собой ли или с тем, кого любишь, – дают знать взглядом или порывистым движением, распахивают окно, окидывают взглядом улицу. В городах поток машин и пешеходов то редеет, то учащается, и даже в зданиях чудится такая глубина, что улицы кажутся бороздками в древесине. И только прохожие, обмениваясь взглядами, признают, что это все происходит на самом деле, и еще – влюбленные. Сердца тридцатилетних ноют от ненаписанной поэзии. Для того, кто вышел прогуляться в этот первый вечер весны, нет ничего мертвого, ничего бесчувственного: чернеющие печные трубы, виадуки, особняки, заводы из стекла и металла, однотипные магазинчики вдруг видятся монументальными, будто скалы, и кажется, что они не просто существуют, но еще и умеют мечтать. Атомы света дрожат меж ветвей вытянувшихся черных деревьев. Именно в первый, потусторонний час весенних сумерек сильнее всего чувствуешь эту почти конвульсивную земную жизненность. Некоторых людей это время так пугает, что они торопятся домой, поскорее зажигают свет – их преследует запах фиалок, которыми торгуют у обочины.
Так вышло, что тем ранним мартовским вечером и Анна, и Порция, обе, но не вместе, гуляли в Риджентс-парке. Эта весна для Порции была ее первой английской весной; совсем юные люди – инструменты точные, но не резонирующие. Все их чувства, будто чувства животных, заземлены, и чувствуют они без всякой боли, без колебаний. Порции было еще далеко до Анны, которая уже наполовину погрузилась в суетливую, расписанную по ходам жизнь женщины, жизнь, которую ум только сильнее искажает. Анна же теперь если что и чувствовала, то нехотя, зато чувства отдавались в ней куда сильнее. Внутри нее память все росла и росла – металась эхом по полузаброшенной пещере. Анне проще и приятнее было вспомнить себя ребенком, чем себя же – в возрасте Порции: вместе с подростковым возрастом наступил туманный период. Она не знала и половины того, что помнила, и вспоминала о чем-либо, только ощутив это всем телом; пока не наступали эти первые весенние вечера, она и не думала ни о чем вспоминать.
В разное время они обе перешли через озеро по разным мостикам, и обе видели нахохлившихся лебедей: темные, белые загогулины на белой воде, бессмертные грезы. Обе они поглядели на меандрические киферийские заросли по берегам озера, обе вскинули головы и увидели голубей, облепивших прозрачные деревья. Они видели сумерки, перемазанные желтыми и багряными пятнами крокусов, язычками бессильного пламени. Они слушали тишину, а за ней – клаксоны, крики, плеск весла по воде, затем на них снова обрушивалась тишина и так прекрасно посвистывал дрозд. Анна то останавливалась, то ускоряла шаг, проходя мимо облокотившихся на перила парочек; одинокая элегантная дама в черном притягивала к себе взгляды, и поэтому она пошла смотреть на собак, носившихся по пустой сердцевине парка. Но Порция – в восторге от собственной энергии – почти бежала, как ребенок, который еле поспевает за обручем.
Чем ближе к северу, тем острее ощущается смена времен года. На Ривьере весна для Порции наступала, когда появлялась мимоза, а Ирэн вынимала из чемоданов ее мятые хлопковые платья. Весна не приносила с собой никаких особенных радостей, а для маленьких девочек в Англии весна означала пасхальные каникулы: велосипедные прогулки и пиджачки, имбирные печенья в карманах, синие фиалки в белесой траве, игра в «зайцев и собак», секреты и хоккей с мячом. Но Порция, сначала благодаря Ирэн, а теперь Анне, по-прежнему ничего об этом не знала. Она приехала прямиком в Лондон… Как-то раз, в субботу, им с Лилиан разрешили съездить на автобусе за город, они погуляли немножко по лесу возле автобусной остановки. Потом загрохотал гром, и им захотелось домой.
Накануне отъезда Томаса и Анны на Капри Порцию отправили к миссис Геккомб, которая жила в городке Сил-он-Си. Покойный супруг миссис Геккомб, отошедший от дел доктор, служил тут секретарем в местном гольф-клубе. До своего довольно позднего замужества миссис Геккомб звалась мисс Ярдс и была гувернанткой Анны. С Анной и ее отцом она прожила до тех пор, пока Анне не исполнилось девятнадцать, – она вела хозяйство и деликатно заботилась о них обоих. Учить Анну чему-либо она перестала за несколько лет до этого, только водила ее в школу, а потом оттуда забирала, следила, чтобы та упражнялась на пианино и не забывала, что матери у нее нет. Но без нее было трудно представить себе дом Анны – этот их дом на пригорке, с прекрасным видом на реку, с овальной гостиной и миндальными деревьями на садовых террасах. Анна звала ее «бедняжкой мисс Тейлор» и была приятно удивлена, когда мисс Ярдс, последовав примеру мисс Тейлор, после своего ежегодного отпуска объявила, что обручилась с вдовцом. К тому времени Анна и мисс Ярдс уже существовали в состоянии неловкой полудоверительности – стоит заметить, что как раз в это время появился Роберт Пиджен, и мисс Ярдс была слишком об этом осведомлена. Конечно, утрата эта проделала досадную прореху в их привычном укладе, но в целом после ухода мисс Ярдс Анна с отцом вздохнули с облегчением. Ведение хозяйства Анна взяла на себя, счета выросли, зато обеды стали не такими скучными. Отец Анны безропотно платил по счетам и растрогал ее, сказав, что дома теперь гораздо уютнее. Оказалось, мисс Ярдс прожила с ними столько времени только потому, что ему казалось, будто девочке не обойтись без женщины в доме. Во время правления мисс Ярдс отец Анны с легким сердцем и ради собственного спокойствия обзавелся привычкой к ненаблюдательности, и этой привычки он не бросил и после ухода мисс Ярдс. Потому он почти не замечал ни Роберта, ни других, менее важных молодых людей.
Чтобы отпраздновать свадьбу мисс Ярдс, Роберт привез в Ричмонд коробку шутих, свадебным вечером они с Анной вместе спустились в сад и пускали фейерверки. На обратном пути он впервые поцеловал Анну. После этого он на два года уехал за границу, а она приучилась выходить в свет одна. Она уже давно поняла, что в его тогдашнем безответственном поведении был виноват не только он, но и она. Все началось после его возвращения. Поздно ночью, а точнее уже под утро, его машина вскарабкивалась на Ричмонд-хилл, к дому, где крепко спал отец Анны, где ей больше не оставляли термоса с молоком, где мисс Ярдс больше не дожидалась ее, приоткрыв дверь. В гостиной Роберт умело оживлял тлеющие угли в камине, подкладывал китайскую подушечку Анне под голову… Они не поженились только потому, что отказывались доверять друг другу.
Выйдя замуж, миссис Геккомб, урожденная мисс Ярдс, уехала жить на кентское побережье, в городок Сил, милях в семидесяти от Лондона. Здесь ее муж купил участок осушенного пляжа – сразу за набережной. На участке он выстроил дом с видом на Ла-Манш – с балкончиками, верандой и ставнями, чтобы закрывать окна в шторм. А зимние штормы, бывало, зашвыривали гальку на газоны стоявших вдоль набережной домов, а то и в окна, если их забывали закрыть, – на ковры и на пианино. Этот свой дом доктор Геккомб считал отличным вложением – и так оно и оказалось: на июль, август и сентябрь он, его вторая жена и его дети от первого брака уезжали из Сила и снимали комнаты на удаленной от моря ферме, а дом сдавали по шесть гиней за неделю. Из летней ссылки доктор Геккомб ежедневно ездил на маленькой машинке в Сил, в местный гольф-клуб. Он пользовался популярностью, все члены клуба отлично его знали, его звали на каждый праздник. И вот как-то на закате, возвращаясь с одной такой вечеринки, доктор Геккомб слишком уж разудало вел машину и со всего размаху врезался в шарабан. После этого ужасного случая члены гольф-клуба, пустив по кругу шляпу, в знак сочувствия собрали для вдовы восемьдесят пять фунтов. Вкладывать такую сумму не имело смысла, поэтому деньги миссис Геккомб потратила на траурные наряды для себя и детей, оплату секретарских курсов для Дафны Геккомб и солидный крест для доктора Геккомба на сильском кладбище.
Живя в Ричмонде, она не только привыкла не думать о деньгах, но и обзавелась некоторыми представлениями о роскоши. Оставшись вдовой после нескольких лет брака, она была вполне довольна жизнью, но совершенно к ней не приспособлена. Ее доброжелатели волновались за нее больше, чем она сама. Совсем ни с чем она не осталась, что правда, то правда, но она как будто и не подозревала о том, как мало имеет. Отец Анны уговорил ее принять от него небольшую пенсию, а после своей смерти оставил ей годовую ренту. Анна отсылала миссис Геккомб одежду, которую она больше не носила, и разные безделушки. Миссис Геккомб тем временем даже с некоторым удовольствием зарабатывала себе на жизнь: давала уроки игры на пианино в Силе и Саутстоне, разрисовывала подставки под тарелки, абажуры и другие предметы, а то и пускала в дом жильцов, но открытый всем непогодам дом, рев моря на галечном берегу и безжалостные манеры юных Геккомбов почти всегда делали пребывание жильцов очень недолгим.
Юные Геккомбы помогли ей тем, что выросли и стали сами себя обеспечивать. Дафна работала в библиотеке, а Дикки – в банке, в Саутстоне, в четырех милях от Сила. Жили они по-прежнему дома, но теперь тоже вкладывались в расходы. Места эти им подыскали друзья доктора Геккомба из гольф-клуба, миссис Геккомб утруждаться не стала. Ее идеи были, разумеется, куда грандиознее: ей хотелось, чтобы Дикки стал военным, а из Дафны она пыталась вылепить вторую Анну. Когда она только-только взяла их под крыло – а она и замуж-то вышла, наверное, по большому счету ради того, чтобы взять их под крыло, – юные Геккомбы были неотесанными юнцами, совсем не такими детьми, которых она вытерпела бы, будь она их гувернанткой. Они и выросли невоспитанными, несмотря на все ее старания. Все дело было в том, хотя говорить об этом было не принято, что первая жена ее мужа была очень «не очень». Но, благодаря своему добродушному характеру, миссис Геккомб поладила с этими молодыми людьми, которые так и жили дома, просто потому что с ней им было уютно, потому что все их друзья жили поблизости, потому что посмотреть мир им совершенно не хотелось. Вскоре им надоело подшучивать над ее жильцами, и поэтому когда они сами смогли отдавать ей по пятнадцать шиллингов в неделю, то попросили жильцов больше не брать. После этого дома стало тише.
Когда Дафна и Дикки Геккомб не работали, они, вместе с остальной своей веселой компанией, пропадали на катках, в кафе, кинотеатрах и танцевальных залах. Они были заводилами и всеобщими любимцами, поэтому другие люди только рады были платить за них. Прибрежное общество, даже не в сезон, превосходно подходит молодым людям, если они выросли бойкими и довольными жизнью весельчаками. Сил был тихим городком, но отсюда часто ходили автобусы до Саутстона – города, что может похвастаться, и небезосновательно, всевозможными развлечениями.
У самой миссис Геккомб в Силе-он-Си тоже имелись друзья. Прибрежное общество было коммерсантским и не самым изысканным: почти все ее друзья жили в таких же прехорошеньких особнячках с балконами или в солидных домах с фронтонами, стоявших на холме. И она, по правде сказать, нашла тут себе ровню. Она участвовала в благотворительности, пела в местном хоре. Если бы она еще не переживала о том, какими заурядными личностями вырастут ее приемные дети, жизнь ее была бы совсем безмятежной. Она радовалась тому, что ей удалось выйти замуж, и не жалела о том, что ее браку настал конец.
Посадив Порцию на поезд, отправлявшийся с Чаринг-Кросс, Матчетт бдительно следила за носильщиком, который грузил багаж. Когда поезд тронулся, она несколько раз махнула ему вслед: рука в нитяной перчатке будто чудной семафор. Она дала Порции коробочку леденцов, но наказала не объедаться. Пока они ехали в такси, Матчетт держалась так, что вместе с ней помрачнел и день, – будто туча, которая заволокла все небо, хотя дождь, скорее всего, так и не прольется. Казалось, будто веки у нее набрякли – можно подумать, вот-вот расплачется. Она до того безупречно изображала преданную служанку, которая провожает на поезд юную госпожу, что Порция решила: теперь-то, из-за Эдди, дверь между ними захлопнулась окончательно. Леденцы в киоске Матчетт покупала и вовсе с каменным лицом, чтобы Порция не вздумала ненароком ее неправильно понять. Она сказала:
– Мистер Томас вам бы их тоже купил. Они жажду хорошо утоляют, лимонные леденцы эти. А то когда еще вам удастся выпить чаю.
Когда поезд, запыхтев, тронулся, Порция была этому только рада. Она засунула по леденцу за каждую щеку и принялась листать книжку. Она впервые ехала куда-то одна и долгое время не решалась поднять глаза на других пассажиров, боясь, что не сумеет поглядеть на них как бы невзначай.
Когда поезд подъехал к Лимли, откуда нужно было пересаживаться до Сила, миссис Геккомб раза два-три махнула рукой – сначала паровозу, словно бы приказывая ему остановиться, а затем Порции, чтобы та ее не проглядела. Этого бояться не стоило, потому что на безжизненно тянувшемся перроне кроме нее больше никого не было. Эта безлюдная пересадочная станция – далеко от деревни, у самого въезда в туннель – существует сама по себе, среди деревьев. Ромбовидные клумбы увиты собачьей мятой, над платформой висит сырая, лесная тишина – ее нарушают только поезда, мелькающие видения, что с гулом и грохотом проносятся мимо. Шубка, в которую была одета миссис Геккомб, досталась ей от Анны и немного сборила сзади. Она подняла воротник, потому что со стороны полотна всегда ужасно сквозит. Начав с самого первого вагона, она принялась методично выискивать Порцию в поезде. Увидев, что та сошла на перрон в самом его конце, миссис Геккомб без малейшей запинки перешла на плавную рысцу. Подбежав к Порции, она оглядела ее маленькую круглую шляпку, попыталась угадать, доросла ли она умом до своих лет, и поцеловала ее.
– Давай-ка сначала усядемся в поезд, – сказала она, – а уж потом поговорим.
Носильщик перенес багаж на другую сторону перрона, где уже стоял другой поезд – коротенький, всего в три вагона. Через несколько минут после того, как они уселись, поезд, запыхтев, покатился по исчезающей в лесу одноколейке.
Миссис Геккомб сидела напротив Порции, держа на коленях пустую, разноцветную корзину для покупок. У нее было пухлое, рассеянное и довольно озабоченное лицо, под шляпкой – взбитая копна пушистых седых волос. Порция заметила у нее на шубе шрамики, оставшиеся от переставленных пуговиц.
– Вот как хорошо, – сказала миссис Геккомб. – Ты приехала; все, как и говорила Анна. Кстати, как там моя душечка Анна?
– Она мне велела обязательно вам передать самый сердечный привет.
– Надо же, не забыла, а ведь она едет за границу! Какая она спокойная. Они уже все вещи уложили?
– Матчетт сегодня закончит.
– А потом устроит дома генеральную уборку, – сказала миссис Геккомб, представляя себе эту картину образцового порядка. – Матчетт, конечно, цены нет. Все у нее идет как по маслу. – Видя, что Порция глядит на лес за окном, она прибавила: – Да и тебе, наверное, за городом понравится.
– Конечно, понравится.
– Впрочем, мы не сказать, чтоб совсем за городом живем, у нас там море. Но…
– Море мне тоже нравится.
– Моря в Англии – или, скорее, моря вокруг Англии – ты, наверное, раньше не видела? – спросила миссис Геккомб.
Она явно не ждала ответа, и Порция догадалась, что Анна уже обо всем ей рассказала – где они жили и почему не приезжали домой. Если бы Анне пришлось что-то скрывать от миссис Геккомб, она бы больше не стала с ней видеться. Анна искренне любила миссис Геккомб, но им было бы решительно не о чем говорить после утренних киносеансов, если бы Анна, в надежде на сочувствие, не рассказывала ей обо всех своих переживаниях. Раза три в год Анна посылала миссис Геккомб деньги на билет до Лондона и обратно и с искренней теплотой посвящала ей целый день. Обе получали от этих визитов огромное удовольствие – непонятно, правда, было, делилась ли с Анной своими переживаниями миссис Геккомб. Говорила ли она с Анной о своих приемных детях? «Боюсь, они совсем ужасные», – сказала Анна.
– Ты умеешь кататься на коньках? – вдруг спросила миссис Геккомб.
– Увы, не умею.
Миссис Геккомб с облегчением сказала:
– Ну и хорошо. И не нужно будет на каток ходить. А читать любишь?
– Иногда.
– И правильно, – ответила миссис Геккомб, – у тебя еще столько времени для чтения будет, когда до моих лет доживешь. Было время, когда Анна слишком много читала. Но она, слава богу, и повеселиться любила, вечно получала столько приглашений. Да и, по правде сказать, она до сих пор развлекается вовсю, прямо как в юности. Позволь спросить, Порция, сколько тебе лет?
– Шестнадцать.
– Совсем другое дело, – заметила миссис Геккомб. – Я хочу сказать, это не то что восемнадцать.
– Но мне тоже бывает весело, даже сейчас.
– Верю, верю, – ответила миссис Геккомб, – и надеюсь, что тебе будет весело у нас и море тебе понравится. Тут, в округе, еще есть кое-какие интересные места, развалины. Да, надеюсь…
– Я просто уверена, что мне будет очень весело.
– И в то же время, – добавила миссис Геккомб, краснея до самых волос, – мне не хочется, чтобы ты думала, будто ты у нас в гостях. Мне хочется, чтобы ты чувствовала себя у нас совсем как дома, совсем как у Анны. Поэтому приходи ко мне с любой, с малейшей неприятностью, совсем как к ней. Конечно, я надеюсь, никаких неприятностей не будет. Но если тебе чего-то захочется, сразу говори мне.
Больше всего Порции хотелось чаю, от лимонных леденцов все-таки очень хочется пить, у нее во рту от них до сих пор остались вмятинки. Она боялась, что до моря еще далеко, но тут поезд выехал из леса и помчался по высокому обрывистому берегу. В окно вагона влетел соленый воздух, внизу она увидела побережье и море. Станция Сил-он-Си выскочила перед ними без всякого предупреждения, поезд замедлил ход – конечная. В сквозной двери билетной кассы, будто в рамке, виднелось небо, потому что станцию построили на холме. Пока миссис Геккомб переговаривалась с носильщиком, Порция подошла к лестнице, уходящей вниз. Все море, весь город и ясный, прозрачно-серый мартовский свет словно бы накренились, чтобы она могла поглядеться в них, как в зеркало.
– Вот мой дом, – сказала миссис Геккомб, махнув рукой в сторону горизонта. – До него еще довольно далеко, но мы возьмем такси. Оно всегда приезжает к поезду.
Миссис Геккомб улыбнулась таксисту, и они с Порцией уселись в авто. Они стали спускаться со взгорья по долгой дуге, мимо белых ворот особняков и темных садов, откуда время от времени доносилось пение дроздов.
– Теперь нам вообще-то сюда, – они спустились к подножью холма, и миссис Геккомб кивком указала налево. – Но мне сегодня нужно кое-что купить, по-этому мы поедем в другую сторону. Не так уж часто мне выдается случай доехать до лавки на такси, и я, признаться, поддалась искушению. Душечка Анна умоляла меня и до станции добраться на такси, но я сказала: нет, мне полезно будет пройтись пешком. Но, говорю ей я, вот обратно, пожалуй, можно вернуться и на такси, чтобы заодно заехать и за покупками.
В такси было тесно, из окон ничего толком нельзя было разглядеть, и теперь Порция видела одни витрины – витрины магазинов на главной улице. Но что это были за магазины! Совсем крошечные, конечно, зато бойкие, завлекающие, заманчивые, переполненные, веселые. Мимо нее проносились кондитерские лавки и антикварные лавки, цветочные лавки и сувенирные лавки, дорогие аптеки и дорогие магазины, торгующие писчими принадлежностями. Миссис Геккомб держала корзинку наготове, вид у нее был взбудораженный, но совершенно счастливый.
Вскоре корзинка наполнилась до краев, и свертки стали складывать прямо на сиденья. Всякий раз, возвращаясь к авто, миссис Геккомб спрашивала Порцию:
– Надеюсь, ты еще не очень хочешь чаю?
Часы на городской ратуше показывали двадцать минут шестого. Какой-то мужчина подтащил к такси рулон рогожки и поставил его стоймя прямо у ног Порции.
– До чего же я рада, что это купила, – сказала миссис Геккомб. – Еще на прошлой неделе заказала, но доставили только сегодня… Так, ну а теперь дойду до конца, – под «концом» она имела в виду почту, которая располагалась в самом конце главной улицы, – и отправлю телеграмму Анне.
– А?
– Сообщу, что ты благополучно доехала.
– Думаю, она не будет беспокоиться.
Миссис Геккомб заволновалась:
– Но ты ведь никогда раньше от нее не уезжала. Не хотелось бы, чтобы Анна за границей о чем-нибудь тревожилась.
Ее спина мелькнула в дверях почты. Вернувшись, миссис Геккомб вспомнила, что позабыла что-то на другом конце города.
– И как раз, – сказала она, – мы доедем туда, откуда и приехали. А значит, домой все-таки вернемся коротким путем.
Порция наконец догадалась, что это все – в ее честь. Она с грустью подумала о том, как презрительно отнеслась бы Матчетт к мечущейся из стороны в сторону, суетливой, будто нырок, миссис Геккомб. Матчетт непременно спросила бы, почему та не позаботилась обо всем заранее. Зато Ирэн была бы от миссис Геккомб в восторге и прониклась бы всеми ее страхами и надеждами. Такси проехало по мосту через канал и направилось в сторону моря, мимо идеально ровных полей, отделявших городок от побережья. За рядами высоких, покосившихся домов, перемежавшихся красными точками бунгало, виднелась береговая линия. Все дома стояли на возвышении, вдоль насыпи, которая сдерживала подступы моря.
Такси развернулось и поползло мимо насыпи, миссис Геккомб приободрилась и принялась собирать все свои свертки. Отсюда пощербленные оштукатуренные стены домов казались куда выше лондонских. Заросшие газоны и подобравшийся к ним тамариск, унылый шум волн вдалеке, – от всего этого дома казались еще более мрачными и неприютными. Меж окон, ослепших от белых занавесок, тянулись иссохшие ржавые трубы. Поля к северу от насыпи казались серее самого моря. Страх, что какое-нибудь здание вот-вот обвалится, уже позабытый ею в Лондоне, вновь охватил Порцию.
– А здесь кто живет? – спросила она, нервно кивнув в сторону домов.
– Никто, дорогая, эти дома сдаются внаем.
Миссис Геккомб стукнула в стеклянную перегородку, и таксист, который уже и так замедлил ход, насмешливо вздрогнув, резко затормозил. Все вылезли из машины, Порция взяла свертки, которые не могла унести миссис Геккомб, таксист шел за ними и нес чемоданы. Они вскарабкались по крутому галечному склону и оказались у последнего в ряду дома. Миссис Геккомб показала Порции набережную. Море вздымалось, секущий ветер сдергивал с нее шляпку. Красные волны гальки набегали на асфальт, в воздухе стоял бодрящий соленый запах. Вдоль горизонта медленно плыли два парохода, но на набережной не было ни души.
– Надеюсь, тебе здесь понравится, – сказала миссис Геккомб. – И, надеюсь, свертки не тяжелые, донесешь? К дому нельзя подъехать, мы живем у самого моря.
Чтобы добраться до «Вайкики», дома миссис Геккомб, им пришлось еще с минуту идти по набережной. Из-под живописной красной крыши с разных этажей глядели окошки – одно распахнулось, ветер яростно трепал линялую занавеску. Фасад дома – из-за веранды, стеклянной входной двери и пузатого эркера – казался почти прозрачным. «Вайкики», почти целиком выстроенный из стекла и губчатой белой штукатурки, бесстрашно глядел на море, словно бы подзадоривая стихию разнести его вдребезги.
В полумраке за дверью Порция разглядела горевший в камине огонь. Миссис Геккомб три раза постучала в стеклянную дверь – был тут и звонок, но он висел, вывалившись из паза, на длинной и перекрученной проволочной пуповине, – и в гостиной показалась маленькая горничная, оправляя огромные манжеты. Она отворила им дверь с довольно надменным видом.
– Ключ-то у меня есть, – сказала миссис Геккомб, – но тебе, Дорис, практика не помешает… Я всегда запираю дверь, когда ухожу, – сообщила она Порции. – Тут побережье все-таки, не деревня… Так, Дорис, это вот юная леди из Лондона. Помнишь, что ее вещи нужно отнести к ней в комнату? А вот молодой человек как раз заносит рогожку. Помнишь, куда я тебе велела ее положить?
Пока миссис Геккомб расплачивалась с таксистом и благодарила его, Порция вежливо оглядывала гостиную, то и дело опуская глаза, чтобы никто не подумал, будто она так и пожирает ими все вокруг. На набережную уже опустились сумерки, но комната еще хранила отражавшийся от воды свет. Запах весны отыскался в корытце с голубыми, едва расцветшими гиацинтами. Одну стену почти целиком занимали двустворчатые окна, которые выходили на веранду, но сейчас были закрыты. Бросив торопливый взгляд на веранду, она увидела плетеные стулья и пустой аквариум. В другом конце комнаты на коричневых изразцах пылали отблески щедрого огня, сильнее всего блестел радиоприемник. Напротив окон – застекленный книжный шкаф, набитый книгами и при этом откровенно закрытый, явно служивший только зеркалом для вида на море. Синяя шенильная портьера, вылинявшая светлыми полосами, закрывала арку, через которую, наверное, можно было выйти на лестницу. Кроме этого Порции удалось мельком увидеть переносной граммофон в алом футляре, поднос с кистями и красками, наполовину разрисованный абажур и гору журналов. Два продавленных кресла и такая же козетка стояли квадратом возле камина, раздвижной столик был уже накрыт для чая. Накрыть-то он был накрыт, но блюда для пирожных стояли пустые – пирожные миссис Геккомб как раз вытряхивала из бумажных пакетов.
За окнами продолжало независимо насвистывать море, и все равно казалось, что оно лишь пристройка к гостиной. Укладывая перчатки на кресло, Порция вдруг поняла, что тут всем хватало места. Потом она узнала, что Дафна называла эту комнату салоном.
– Деточка, ты не хочешь подняться наверх?
– Не сейчас, спасибо.
– И даже в комнату не заглянешь?
– Ничего, я потом.
Отчего-то миссис Геккомб восприняла это с заметным облегчением. Когда Дорис принесла чай, та тихонько сказала:
– Значит так, Дорис, насчет рогожки…
Приготовившись пить чай, миссис Геккомб сняла шляпу, и Порция увидела, что ее волосы, будто листья артишока, растут, кажется, только вверх: правда, они были увязаны в плоский пучок и накрепко пришпилены к голове. Из-за этой прически выражение лица миссис Геккомб почему-то казалось еще более изумленным. Однако человеком она оказалась милейшим. Она так откровенно говорила с Порцией и столько ей всего рассказала, что Порция, привыкшая к методам Виндзор-террас, стала думать, так ли уж это осмотрительно – тогда у них уже к концу первой недели не останется тем для разговоров. Ей еще предстояло узнать, что между женщинами близкое знакомство часто завязывается от обратного: начинается с откровений, а заканчивается светскими разговорами, которые ведутся с прежним уважением. Миссис Геккомб рассказывала истории о детстве Анны в Ричмонде, подбавляя в них беспомощных красивостей. Потом сказала, какое это, мол, несчастье – двое деток, которых у Анны так и не появилось. Порция ела пончики, песочное печенье, фруктовый кекс и глядела не на миссис Геккомб, а на исчезающее море. Она думала о том, какой уютной эта ярко освещенная комната видится с набережной, о том, до чего на улице темно, и даже позавидовала самой себе.
Но тут миссис Геккомб встала и задернула занавески.
– Не ровен час, – заметила она. – Нехорошо все-таки.
(Она имела в виду, что кто-нибудь может заглянуть в окно.)
Потом она налила Порции еще чаю и сказала, что та, наверное, очень скучает по матери. Прибавив, правда, что ей очень повезло, ведь у нее есть Томас и Анна. Долгие-предолгие годы, проведенные в роли мисс Ярдс, приучили ее вести себя тактично, но с оптимизмом, чтобы молодые люди учились правильно смотреть на вещи. Поэтому она частенько могла и переусердствовать с сочувствием. Вместе с независимостью у нее появился и кое-какой авторитет: теперь, если она что сказала, то отныне так тому и быть. Она взглянула на каминную полку, где громко тикали часы красного дерева, и сказала, как славно, что Дафна скоро вернется. С этим Порция, разумеется, не могла поспорить.
– Я тогда поднимусь наверх и причешусь, – ответила она.
Порция расчесывала волосы у себя в комнате, слушая, как потрескивает оберточная бумага в чемодане, наблюдая за тем, как пузырится от сквозняка новый половичок из рогожки, когда хлопнувшая дверь возвестила о приходе Дафны. «Вайкики» оказался резонаторным ящиком: всегда было слышно, кто где находится и чем занят, – и только вой ветра изредка заглушал шум. Она услышала, как Дафна о чем-то громко спрашивает, но тут миссис Геккомб, наверное, предостерегающе вскинула руку, потому что Дафна резко осеклась. Надеюсь, я понравлюсь Дафне, подумала Порция… Электрический свет лился из фарфорового плафона с прямотой, какой не знали на Виндзор-террас. Свет легонько покачивался в сквозняке, которым тянуло с моря, и Порция почувствовала, что началась новая жизнь. Внизу Дафна выкрутила радио на полную громкость и проорала миссис Геккомб: «Слушай, когда Дикки уже починит этот звонок?!»
2
Когда Порция, набравшись храбрости, спустилась вниз, Дафна околачивалась возле стола, вгрызаясь в макарун, а миссис Геккомб разукрашивала абажур и, пытаясь перекричать музыку, вопила, что скоро ужин и Дафна перебьет себе аппетит. За годы вечеров, проведенных в обществе Дафны и музыки, крик миссис Геккомб сделался почти таким же ровным, как и ее обычный голос, кричала она, совершенно не надрываясь. Более того, каждым ее движением руководила какая-то подспудная сдержанность, и пока она разрисовывала абажур, то пристально всматриваясь в детали, то откидываясь на спинку стула, чтобы оглядеть всю работу целиком, казалось, будто она разрисовывает этот абажур, сидя на сцене.
Когда Порция вышла из-за портьеры, Дафна даже не поглядела в ее сторону, но зато с пугающей вежливостью выключила радио. Оглушительный рев смолк так резко, что миссис Геккомб вскинула голову. Дафна сунула последний кусочек макаруна в рот, аккуратно вытерла пальцы крепдешиновым платком и, по-прежнему не говоря ни слова, пожала Порции руку. Похоже, Дафна собиралась молчать до тех пор, пока не придумает какой-нибудь впечатляющей реплики. Дафна была привлекательная, отлично сложенная и довольно высокая девушка; плотно сидевшее на ней вязаное синее платье подчеркивало ее сильные руки и ноги. У нее была челка до бровей и коротко остриженные волосы, которые были уложены ровными волнами и лоснились от бриллиантина. Румяные щеки, на губах – ярко-оранжевая помада. Так и не придумав, чего бы сказать Порции, она бросила матери через плечо:
– Сегодня вечером никого не будет.
– Ох, спасибо, Дафна.
– Спасибо нужно говорить не мне.
– У Дафны очень много друзей, – пояснила миссис Геккомб Порции, – но она говорит, что сегодня вечером у нас в гостях никого не будет.
Дафна с некоторым презрением оглядела остатки пирожных и плюхнулась в кресло. Порция, стараясь двигаться как можно незаметнее, подобралась к миссис Геккомб, которая передвинула свой поднос с кистями и красками под яркую лампу, и встала у нее за спиной. Ей, конечно, было страшно, но не так страшно, как на Виндзор-террас, где Сент-Квентин и остальные друзья Анны вечно молча наблюдали за ней. На абажуре на фоне рыже-розового неба были нарисованы дельфиниумы и мраморные купидоны.
– Как красиво! – сказала Порция.
– Покрою лаком, будет еще красивее. По-моему, милая задумка. Это мне заказали, подарок на свадьбу, но потом, надеюсь, я еще успею разрисовать абажур для Анны, будет ей сюрприз… Дафна, милочка, мне кажется, Порция не будет возражать против музыки.
Дафна застонала, но все-таки встала и снова включила радио. Потом скинула туфли, закурила.
– Знаешь, – сказала она, – я сегодня чувствую весну всеми костями.
– И я, дорогая, как чудесно, правда?
– Моим костям – не очень. – Дафна с явным интересом взглянула на Порцию. – Ну что же, – сказала она, – тебя они, значит, за границу не взяли.
– Понимаешь, дорогая, они не могли, – быстро вмешалась миссис Геккомб. – Они сами будут жить у каких-то друзей, у которых там вилла. А кроме того, Порция ведь родом из-за границы.
– Ого! И какого ты тогда мнения о наших английских полицейских?
– Но я ни разу не…
– Дафна, ну хватит уже шутить. Будь умницей, вели Дорис убрать со стола.
Откинув голову, Дафна проорала:
– Дорис! – И Дорис, юркнувшая в комнату с подносом, неодобрительно на нее покосилась.
Уже потом Порция поняла, что мавзолейная тишина библиотеки, где Дафне приходилось просиживать целый день, была ей не только глубоко противна, но и вредна. Поэтому дома она поддерживала форму, издавая громкие звуки. Дафна не дотрагивалась до предметов – она с размаху шлепала по ним рукой, а помадой по губам водила так, будто режет кому-то глотку. Даже если радио не было включено на полную громкость, Дафна все равно орала так, будто старалась его перекричать. И потому, когда с набережной доносилась поступь возвращавшейся домой Дафны, миссис Геккомб заранее клала нервы на полку. Она много лет только и делала, что пресекала шум, который мог кому-нибудь помешать, повторяя своим юным подопечным: «Деточка, пожалуйста, потише», а потому, разрешая Дафне вопить сколько влезет, вполне могла испытывать от этого своего рода радость прогульщицы. Как знать, возможно, прощая Дафне весь этот ор и вздор, миссис Геккомб отдавала дань той самой жизненной силе, сдерживать которую столько лет было ее прямой обязанностью. Шум до того ассоциировался у нее с присутствием Дафны, что стоило радио замолчать или Дафне перевести дух, как миссис Геккомб откладывала свое рукоделье и шла притворить окно или поворошить угли в камине – чувствуя, что чего-то недостает, миссис Геккомб обычно воображала, что ей холодно. Она уже давно не надеялась вырастить из Дафны вторую Анну. Но для себя она накрепко решила, что уж Порция-то ни за что не вернется в Лондон и к Анне, нахватавшись всякого от Дафны.
Когда Дорис убрала со стола чайную посуду, сложила кружевную скатерть и отправила ее в комод, миссис Геккомб откупорила бутыль с лаком и, затаив дыхание, покрыла абажур первым слоем. Покончив с этим, она вернулась к жизни и сказала:
– Дорис, похоже, уже освоилась.
– Еще бы, – ответила Дафна, – у нее и ухажер есть.
– Уже?! Ох-ох! Правда?
– Да, я ехала в автобусе, а они сидели наверху. У него прыщ на шее. Сначала я заметила прыщ, потом – мальчишку, а потом – кого я вижу? А это Дорис, сидит с ним рядом и скалится во весь рот.
– Надеюсь, он приличный молодой человек…
– Говорю же, у него прыщ на шее… Нет, слушай, правда, мамуля, ты уж потормоши Дикки насчет звонка. Выдран с корнем и болтается, просто жуть, что такое, да еще и не звенит. А может, вообще поменяем его на электрический?
– Твой отец, деточка, говорил, что они вечно ломаются.
– Ладно, а ты все-таки потормоши Дикки, обязательно. Зачем он сказал, что его починит, если даже не собирается его чинить? Никто его не просил обещать, что он починит звонок.
– Это было очень любезно с его стороны. Если не забуду, напомню ему за ужином.
– Он не придет ужинать. У него свидание. Он сам сказал.
– И ведь верно, сказал. О чем я только думаю?
– Вот уж не знаю, – беззлобно отозвалась Дафна. – Но ты не переживай, ту оставшуюся сосиску я доем. Кстати, а что на ужин?
– Пирог с яйцом[18]. Как раз для легкого ужина.
– Как легкого? – с ужасом переспросила Дафна.
– Для Порции, ведь она с дороги. Но, дорогая, если ты совсем голодная, давай откроем заливное.
– Да ладно, – смирившись, ответила Дафна.
Порция, примостившись на краешке дивана, листала журнал «Женщина и красота». Миссис Геккомб была занята своим абажуром, Дафна – тем, что просто сидела с унылым видом, и Порция очень жалела, что головоломка майора Брутта осталась дома, а то можно было бы ее пособирать. Но, увы, собранную на три четверти головоломку в чемодан не положишь. Теперь же, сидя под алебастровой тарелкой-люстрой, из которой ей на голову лился придушенный оранжевый свет, Порция чувствовала, как ее оглушает этим новым миром. Глухой гул радиочастот, вобравший в себя вибрации морских волн, запах лака, гиацинты, турецкий ковер, разложенный возле жара и треска дров в камине, – все это так и навалилось на нее. Во все это она еще не вжилась. Как же далеко она забралась – и речь тут не только о расстоянии.
Пытаясь понять, станет ли ей грустно, она подумала о доме на Виндзор-террас. Меня там нет. Она осторожно принялась кружить вокруг того, что было дорого хотя бы ее чувствам: кровать и включенная зимним утром лампа, коврик в кабинете Томаса, сундук с резными ангелами, стоявший на лестничном марше, вощеная клеенка в комнате Матчетт. Только в доме, где человек приучается к одиночеству, бывает такая привязанность к вещам. Отношения с ними от ежедневных взглядов и прикосновений перерастают в любовь, которая превращается в боль, когда перестает быть тайной. Вспоминая череду пустых дней, человек видит на пути эти вехи. Привычка – это не кабала, а нежная привязанность: воспоминания о привычном и принимают за счастье. Поэтому им с Ирэн становилось даже как будто грустно, когда они оглядывали гостиничный номер перед тем, как покинуть его навсегда. Они против собственной воли чувствовали, будто совершили какое-то предательство. В незнакомых местах они бессознательно искали знакомое. Каркас наших домов выстроен не из наших восторгов, а из нашей сентиментальности. Бродяги, жаждущие прилепиться хоть к чему-нибудь, могут где угодно пустить корни всего за день; и едва мы, сами того не осознавая, что-то чувствуем, мы начинаем жить.
Потолок в спальне на втором этаже «Вайкики» был покатым – из-за крыши. Пожелав Порции спокойной ночи, миссис Геккомб приотворила оконце в металлической рамке дюймов на шесть, занавеска затрепыхалась в луче света от горевшего на набережной фонаря. Порция несколько раз вскидывала руку, чтобы потрогать скат потолка над кроватью. Она надеется, что Порции тут не будет одиноко, сказала миссис Геккомб.
– Если что, я сплю в соседней комнате, просто постучи в стену. В этом доме мы живем вплотную друг к дружке. Тебе нравится шум моря?
– Кажется, как будто оно совсем близко.
– Сейчас самый прилив. Но ближе оно уже не подступится.
– Правда?
– Да, дорогая, честное слово, ближе не подступится. Ты не боишься моря?
– О нет!
– И у тебя тут еще есть портрет Анны, – прибавила миссис Геккомб, умиленно кивнув в сторону каминной полки.
Портрет Порция уже как следует рассмотрела – рисунок пастелью, Анне на нем лет двенадцать, в руках она держит котенка, пушистые длинные волосы перевязаны двумя шелковыми бантиками. Рисунок был выполнен с трогательной неумелостью, отчего у втиснутого промеж волос лица вид был несколько бесплотный. Мордочка котенка торчала на груди темным клинышком.
– Так что ты тут не совсем одна, – сказала миссис Геккомб, и на этом успокоившись, выключила свет и ушла…
Занавеска елозила по подоконнику, море заполняло темноту набегавшими вздохами, чуть хрипловатыми из-за гальки. Самый прилив? Море подобралось к дому так близко, как только сумело.
Порции снилось, что она читает книжку вместе с маленькой девочкой, кончики длинных светлых волос Анны задевали за страницы. Девочки забрались на подоконник в ожидании чего-то. Худшее, что могло случиться, – трель звонка, лучшее – если они успеют дочитать до определенного места в книге. Но Порция вдруг обнаружила, что разучилась читать, и не смела сказать об этом Анне, которая все переворачивала страницы. Она знала, что читать должны они обе, а потому, слыша шуршание волос Анны, она с отчаянием и жалостью думала о том, что вот-вот случится. Лес (под окнами рос лес) был весь покрыт лаком: путь к спасению был отрезан. И вот – ужасный конец, шумный всплеск, раздался рев, что-то забулькало… Порция с криком вскочила с подоконника…
– Тихо, тихо, деточка! Я здесь. Все в порядке. Это Дафна сливает воду из ванны.
– Я не знаю, где я…
– Ты здесь, дорогая.
– О!
– Приснилось что-то? Посидеть с тобой немножко?
– Нет-нет, спасибо.
– Тогда будь умничкой и спи безо всяких снов. И помни, если что – стучи в стену.
Миссис Геккомб выскользнула в коридор, осторожно, дюйм за дюймом, притворив дверь. Затем они с Дафной принялись перешептываться, стоя на лестнице. Их шепот казался шепотом, который доносится из больничного коридора, или звуками увиденного во сне леса.
– Ну и ну, – сказала Дафна, – нервы-то у нее на пределе.
Дафна ушла, звонко стуча задниками шлепанцев, вода наконец стекла из ванной, хлопнула дверь.
Порции отчего-то казалось, что она поступила плохо, проснувшись, и, возможно, поэтому она все никак не могла покинуть зачарованное преддверие сна. Она не была добра к Анне, никогда не была к ней добра. Она жила в их доме, затаив нелюбовь в сердце… Что, например, сталось с котенком – он умер? Анна никогда о нем не рассказывала. Боялась ли Анна, что в школе она самая маленькая? Когда ее подстригли? При свете лампочки волосы на портрете казались желтыми, как мимоза. Могла ли Анна, хоть иногда, тоже не знать, что делать дальше? Она всегда знала, как быть дальше, всегда знала, над чем посмеяться и что сказать, но значило ли это, что она всегда знала, какой путь выбрать? У всех нас внутри прячется обеспокоенный человечек, который замирает посреди пустой комнаты, не зная, что делать. Подняв голову с подушки, Порция подумала: и ее больше нет. И может быть, она больше не вернется.
Миссис Геккомб, похоже, не ложилась спать, чтобы дождаться Дикки и предупредить его, чтоб тот не шумел. На набережной послышались его решительные шаги. Сквозь пол было слышно, как миссис Геккомб зашикала на Дикки, который рывком распахнул стеклянную дверь. Он развернул кресло, поворошил угли: казалось, что в салоне буйствует великан. Глухо звякала посуда на подносе – наверное, они все-таки открыли заливное. Миссис Геккомб, кажется, сказала про звонок, потому что Дикки ответил: «Ну сейчас-то мне чего об этом говорить?..» Порция понимала, что утром им придется познакомиться. Ей сказали, что ему двадцать три – ровесник Эдди.
В восемь утра Порция спустилась вниз – Дикки как раз доедал завтрак. Ему нужно было успеть на какой-то определенный автобус до Саутстона. Когда она вошла, он привстал, утирая желток с подбородка. Едва они, что-то пробормотав, пожали друг другу руки, как он шлепнулся обратно на стул и, не говоря ни слова, принялся допивать кофе. Дикки оказался рослым и крепким парнем, хоть и не таким огромным, как можно было бы подумать, судя по звукам, которые он издавал; у него был румянец во всю щеку, гладкая кожа, оленьи глаза и на удивление искренний взгляд, крупный подбородок и порядком набриолиненные волосы, все равно стоявшие торчком. Дикки, безусловно, был полон сил. В это буднее утро он был одет в темный костюм и рубашку с крахмальным воротничком, но сидели они на нем так, что становилось понятно: это не его стиль. До этого утром весь дом слышал, как Дикки ураганно моется и одевается, в ванной после него остался чистый и какой-то детский запах мыла для бритья. В доме по Виндзор-террас, со множеством перекрытий и разветвленной системой водопроводных труб, приватная жизнь Томаса проходила незаметно. А Дикки был слышимым, мощным существом. Не глядя на Порцию, Дикки встал – в его глазах явно читалось, что он не собирается изменять своим привычкам, – вышел из-за стола и заперся где-то за шенильной портьерой. Минут через пять, напустив на себя удовлетворенный, официальный вид и держа в руках шляпу, он вышел, одинаковыми кивками попрощался и с Порцией, и с миссис Геккомб (которая сновала между кухней и салоном, вынося всем, кто спускался к завтраку, тарелки с горячей едой) и, нырнув за стеклянную дверь, отправился сражаться с работой.
– По нему часы можно сверять, – с довольным вздохом заметила миссис Геккомб, глядя в окошко веранды, как Дикки спускается по набережной.
Библиотека Дафны находилась на главной улице Сила, в десяти минутах ходьбы от «Вайкики» по аллее, соединявшей набережную с городом. На работе Дафне полагалось быть в четверть десятого, и потому они с братом редко встречались за завтраком – Дафна была ненасытной соней. Заслышав, что Дафна выходит из ванной, миссис Геккомб подавала знак Дорис, и та кидала на сковороду копченую селедку или разбивала яйцо. Завтрак здесь, можно сказать, подавали как на конвейере – это делало честь организаторским способностям миссис Геккомб, но, похоже, отнимало у нее все силы, потому что остаток дня она ходила с изможденным видом. Дафна спускалась к завтраку с гребнем, в ожидании селедки или яичницы седлала стоявший перед зеркалом стул и воздавала должное своим кудрям. Губы она красила уже после завтрака, а то ведь там яичница, не говоря уже о джеме. Пока Дафна укладывала волосы, миссис Геккомб заботливо накрывала кувшинчики с молоком и кофе стеганым чехлом с индийским узором, чтобы те не остыли. Сама она завтракала размоченными в горячем молоке сухариками, то есть скорее в континентальном стиле, сказала она Порции. Дикки ушел, вышла Дафна, а Порция все сидела за столом, ела доставшийся ей завтрак, стараясь не растопыривать локти и не встречаться ни с кем взглядом.
Но Дафна, едва усевшись за стол, сказала:
– Прости, что напугала тебя своей ванной.
– Ничего, я сама виновата.
– Может, ты что-то не то съела?
– Дорогая, она просто устала, – сказала миссис Геккомб.
– Наверное, трубы для тебя в диковинку. Наверное, у твоей невестки дома канализация как в Букингемском дворце.
– Я не понимаю, что…
– Деточка, Дафна шутит.
Дафна не унималась:
– Наверное, у нее ванна из зеленого фарфора? Или – ну эта, вделанная в пол и еще с подсветкой?
– Ну нет, Дафна, Анна не любит ничего такого уж слишком новомодного.
Но Дафна только фыркнула в ответ:
– Наверное, она в ванне плавает на поверхности, как лилия.
И, набросившись на джем, Дафна строго и сердито втянула щеки, всем своим видом показывая, что ей вообще-то еще есть что сказать. Было ясно, что она подобреет к Порции, как только перестанет отождествлять ее с Анной. Дафне казалось, что каждый, кто приезжает в «Вайкики» от Анны, только и ждет, чтобы навязать им всем свои порядки. Анну она видела всего три раза – и во время этих встреч Дафна терпеливо и безжалостно подмечала в Анне все, за что ее можно было не любить. Завистливой Дафна, впрочем, не была и к высшему обществу относилась хоть и с брюзгливым, но уважением, – бывай Дафна почаще в Лондоне, то в толпах женщин, осаждавших все подряд красные дорожки на лестницах под навесами, она непременно протискивалась бы в первые ряды. Она была бы среди девушек-зевак, которые тянутся широкими, независтливыми лицами вслед летящему краешку фаты какой-нибудь знаменитой невесты, или среди тех, кто без тени недовольства вдыхает запах чужих гардений, проходя мимо Оперы. Довольные жизнью, острые на язык, приличные девушки вроде Дафны были сухим остатком дрянного старого уклада. Они с радостью чтили то, без чего прекрасно могли обойтись. И в то же время стоило Дафне себя накрутить, как в ней просыпалось что-то от tricoteuse[19], и это выливалось в ее постоянную злость на Анну.
Она считала – вполне справедливо, – что Анна не настоящая аристократка, но при этом чувствовала на себе силу ее власти; она вообще думала об Анне куда больше, чем следовало. Ей казалось, что Анна задирает перед ней нос. Кроме того, она испытывала смутное презрение (которое никогда не могла облечь в слова) из-за того, что Анна превратила мамулю в свою нахлебницу. Как знать, может, будь у Анны титул, Дафна бы так не злилась. Она, впрочем, искренне и несколько великодушно забывала о том, что если бы не отец Анны, не есть бы Геккомбам сейчас заливного.
Одни характеры формируются под влиянием пристрастий, другие – под влиянием антипатий. Если уж что и сказалось на развитии Дафны, так это ее желание каждым своим словом, каждым поступком отличаться от Анны. Вот и теперь при одной только мысли об Анне она с изменившимся лицом так вгрызлась в тост, что ей пришлось ловить закапавший с него джем нижней губой.
Джем в «Вайкики» был почти желейный, сладкий и ослепительно оранжевый; на столе сияла кобальтово-белая посуда, в узорах на которой угадывались китайские мотивы. На столешнице из искусственного дуба лежали циновки толщиной с пирог, из-за чего стоявшие на них толстостенные посудины слегка покачивались. Прозрачный солнечный свет – какой бывает только у моря – ложился на стол, и Порция, глядя в окна веранды, подумала, до чего же это хорошо. Геккомбы и ели, и жили в салоне, не доверяя – и вполне заслуженно – угольной печи в настоящей столовой. Поэтому в столовую они перебирались только летом или на время вечеринок – когда туда набивалось порядком народу, чтобы нагреть ее естественным образом… Над лужайкой вереницами белых вспышек носились чайки; миссис Геккомб с грустью глядела, как Дафна дуется на Анну.
– Но ведь лилии обычно не кладут в ванну, – наконец сказала она.
– Кладут, чтобы не завяли.
– Тогда, наверное, их лучше сложить в умывальник.
– Мне-то откуда знать? – спросила Дафна. – Мне лилий не дарят.
Она выставила чашку, чтобы ей подлили кофе, и, явно решив поговорить о чем-то более приятном, спросила:
– Ты потормошила Дикки насчет звонка?
– Он не думает, что…
– Ах, он не думает? – сказала Дафна. – В этом весь Дикки, понимаешь? И почему сразу нельзя было вызвать механика от Сполдинга? Знаешь что, вызывай-ка механика от Сполдинга. Мне нужно, чтобы к завтрашнему вечеру звонок починили.
– Почему именно тогда, дорогая?
– У нас будут гости.
– Но они ведь и так всегда барабанят по стеклу.
Дафна сделала кислое лицо (так в ее понимании выглядела застенчивость). Казалось, что глаза у нее вот-вот съедут к носу, будто у акулы. Она сказала:
– Мистер Берсли обещался зайти.
– Какой мистер? – робко переспросила миссис Геккомб.
– Берсли, мамуля. Б-Е-Р-С-Л-И.
– Но мы с ним, по-моему, не…
– Нет, – терпеливо проорала Дафна, – в этом-то весь смысл. Он у нас еще не был. Ты же не хочешь, чтобы он увидел этот звонок? Он из стрелковой школы.
– Ах, из армии? – просветлела миссис Геккомб. (Об армии Порция почти ничего не знала, поэтому ей сразу послышалось с набережной бряцанье шпор, а то и сабель.) – И где же вы с ним познакомились?
– На танцах, – коротко ответила Дафна.
– Тогда вы и завтра, наверное, захотите потанцевать?
– Да, ковер, может быть, стоит скатать. Не будем же мы тут торчать без дела… Танцевать умеешь? – она поглядела на Порцию.
– В гостиницах я танцевала с другими девочками…
– Ну, мужчины тебя не съедят. – Повернувшись к миссис Геккомб, Дафна сказала: – Скажи Дикки, чтоб привел Сесила… Господи, пора двигать!
И она задвигалась и вскоре уже бежала вниз по набережной. Выражений крепче, чем «Господи!» или «Черт!», Дафна не употребляла – с лихвой хватало ее энергических манер. В этом она была совершенно не похожа на Анну, которая в трудную минуту разражалась проклятьями и непристойностями, произнося их беспомощным, слабым голоском. Анна, например, могла назвать кого-нибудь сучкой, а Дафна на ее месте сказала бы: «Вот ведьма!» Дафна излучала секс, а выражалась до безупречного целомудренно. Любое замечание в свой адрес она могла парировать простым: «Не говори гадостей!», а то и вовсе одним взглядом… Когда она наконец ушла, Порция чувствовала себя выжатой как лимон, а у миссис Геккомб вид был совсем оторопелый. Дафна с Дикки показались Порции стихийным бедствием, которое случается раз в жизни, ей не верилось, что они бывают каждый день.
– Напомни мне зайти к Сполдингу, – сказала миссис Геккомб.
Солнце на миг скрылось за дымкой, но море сверкало и салон был полон света. Чтобы проветрить комнату после завтрака, миссис Геккомб распахнула выходившее на веранду окно, а затем отворила окно и на самой веранде. Запах соленых, сохнущих водорослей, морской воды, испаряющейся с галечных гребней, и крики чаек ворвались в салон «Вайкики». Первый день у моря, когда чувствуешь себя просоленным, сильным, стойким и полым – будто шар водорослей, который пружинит под каблуком. Порция вышла на веранду, поглядела на набережную сквозь окошки-квадратики. И храбро распахнула стеклянную дверь. Лужайку Геккомбов отделяла от дороги низенькая – по колено – каменная изгородь с очень высокими и очень солидными воротами. Перед тем как перешагнуть через изгородь (что, раз уж тут были ворота, вполне могли расценить и как проявление неуважения), Порция оглянулась и посмотрела на окна «Вайкики». Но никто за ней не следил, никто ей, похоже, ничего не запрещал. И она перешла на другую сторону набережной.
Прибрежная полоса Сила тянется вдоль еле приметного изгиба мелководной, очень широкой бухты. В направлении восточной линии горизонта берег вздымается – точнее, тут подступают к морю холмы, внушительный утес увенчан самым главным отелем среди всех главных отелей Саутстона. Его золоченый купол, его реющие флаги в закат обретают полное свое величие и поблескивают вдали – плутократический рай для тех, кто скромно фланирует по набережной Сила. В ясное бессолнечное утро кажется, что очертания «Сплендиде» нарисованы прямо по небу серо-лиловыми чернилами… От Сила до Саутстона мощная бетонная насыпь, засыпанная щебнем, тянется на целых две пустых мили. За насыпью вниз уходят безлюдные, просолившиеся поля, которые она и ограждает от моря. Беспримесная пустынность дамбы оканчивается там, где она перетекает в шоссе Сил – Саутстон, которое бежит вдоль моря.
К западу от Сила не видно ничего, кроме болот. Плоская, мертвая береговая линия сужается до тонкого, как игла, мыса. Тускнеющая, пестреющая излучина прерывается только башнями мартелло[20], и чем они дальше, тем ниже, тем сильнее плавится каждая на свету. Тишину нарушают только доносящиеся со стрельбища выстрелы. К западу от Сила мир видится пустым, мир видится застывшим, позабытым, словно давно промелькнувшая мысль. Сверкающие, дрожащие штрихи и пятна света, тени, наслаивающиеся друг на друга, образуют свой собственный мир… На этом отрезке берега галечные камни потеснил гладкий, как вода, песок, по нему самая бурная волна может докатиться до башен, разве что расплющившись.
Стоя между этими двумя просторами, сцепив за спиной руки, Порция глядела на море: горизонт был туго натянут над длинным изгибом неглубокой бухты. В прозрачном воздухе повисли завитушки дыма от трех пароходов, сверкающее море походило на сталь, и было удивительно, что его можно взрезать винтом корабля. На пляже подрагивали кружевные края пены, но горизонт лежал лезвием.
Чуть раньше утром это самое лезвие отсекло от нее Томаса с Анной. Они исчезнут за горизонтом, оставив после себя – и то на минутку – легкий завиток дыма. К тому времени, когда они высадятся в Кале, их жизнь обратится в абстракцию. Глядеть на море в тот самый день, когда кто-нибудь по нему уплывает, значит принять завершенность прочерченной между вами линии. Ведь наш осязаемый мир держится на одних чувствах, и там, где их власть прекращается, разверзается пропасть – когда закрывается дверь, когда поезд исчезает за поворотом, когда перестает быть слышен гул самолета, когда корабль уходит во мглу за горизонтом. Сердце может думать, что ему-то виднее, но чувства знают, что разлука вымарывает людей из жизни. Друг становится предателем, удаляясь – пусть с тоской, пусть с неохотой – из нашего пространства, и мы, несмотря на все мольбы сердца, судим его по всей строгости. Добровольное отсутствие (каким бы недобровольным оно ни было) – это отречение от любви. Воспоминания иногда становятся бездушной повинностью, потому что вспоминаем мы ровно столько, сколько можем вынести. Мы соблюдаем несложный ритуал, но отгораживаемся от ужасной памяти, которая сильнее воли. Мы отгораживаемся от комнат, от обстановки, от предметов, которые вызывают галлюцинации, которые заставляют чувства вскинуться, помчаться вслед за призраком. Мы оставляем тех, кто оставил нас, мы не можем позволить себе страдать, мы должны жить так, как уж выходит.
К счастью, чувства не так уж легко перехитрить – точнее, их не удается перехитрить слишком уж часто. Они находят дорогу обратно и вслед за собой выводят нас к тому, за что еще можно схватиться. И в своей пылкой неверности они не знают жалости. Порция привыкала жить без Ирэн не потому, что она позабыла или отказалась от прежде незыблемой близости между матерью и ребенком, а потому, что не чувствовала более прикосновения материнской щеки к своей (до которой, хоть и лениво, но совсем недавно дотронулся Эдди, прочертив пальцем складочку от улыбки) и более не ощущала сашеточного запаха от платьев Ирэн, не просыпалась больше в нанятых комнатах на северной стороне, где они с ней всегда просыпались.
Что до Эдди, то неоспоримый закон «присутствия или отсутствия» тут пока не действовал. На первой стадии большой любви, которая у молодых людей может тянуться очень долго, возлюбленные существуют друг в друге, а потому не могут уходить или приходить. И в этом глупом, восторженном и вызывающем восторг смешении все происходящее наяву почти не играет никакой роли. Сказать по правде, их дух становится другому чем-то вроде антенны, и реальное присутствие возлюбленного рядом иногда бывает даже слишком, слишком невыносимым, и хочется сказать ему: «Уйди, чтобы ты мог остаться». В это время полнее всего живешь в часы воспоминаний или ожидания, когда сердце переполняется до предела и никто его не сдерживает. Все, что могло произойти, Порция теперь связывала с Эдди: во всем, что она видела, она видела его. Он был в Лондоне, а она здесь, но эти семьдесят миль Англии просто-напросто сжались в одно их личное, остро осязаемое пространство. К тому же они могли переписываться.
Но отсутствие, полнейшая пустота там, где раньше были Томас и Анна, казались чем-то противоестественным – они были ее каждым днем. И осознание того, что ей не то чтобы очень этого жаль, что она не будет по ним скучать, предстало перед Порцией так же отчетливо, как стальная гладь моря. Приняв ее в свой дом (скрепя сердце, потому что их вынудило к этому кровное родство), Томас и Анна заменили Ирэн во всех простых проявлениях жизни. Он, она, Порция, трое Квейнов, бок о бок в одном доме пережили зимние холода, приняв, а не просто выбрав друг друга. Все трое, каждый со своей стороны, трудились над полотном обыденности. Ходили по одним и тем же лестницам, брались за одни и те же дверные ручки, слушали бой одних и тех же часов. За дверьми дома на Виндзор-террас они слушали голоса друг друга, будто беспрестанный шепот в завитках ракушки. Она входила в комнату и вдыхала дым из их легких, видела их имена на конвертах, всякий раз проходя по коридору. Оказываясь в гостях, она отвечала на вопросы о своих брате и невестке. Для внешнего мира она пахла Томасом и Анной.
Но чего-то, что должно было произойти потом, не произошло, чего-то не случилось. Они сидели вокруг нарисованного, а не пылавшего огня и тщетно старались согреть руки… Она попыталась представить себе Анну и Томаса, которые, стоя на палубе и опершись на поручни, смотрят в одну сторону. Картинка вышла почти живой – настолько, что ей на миг даже захотелось стереть с их лиц вполне себе говорящие взгляды. Потому что они казались не туристами, а беженцами. Томас, сказавший, что на корабле он всегда носит шапку, напялил ее до самых ушей, а Анна с несчастным видом куталась в меховой воротник. Их близость – они стояли, соприкасаясь локтями, – делала их еще больше похожими на беглецов: они бежали вместе. Но их лица уже были не такими четкими, как лица Дафны и Дикки Геккомбов… Но тут Порция вспомнила, что они еще даже не сели на корабль, что они, наверное, еще даже не выехали из Лондона. А едва они поднимутся на борт, как Анна тотчас же ляжет у себя в каюте: она плохо переносила качку, она никогда не глядела на море.
3
Номер 2 по Виндзор-террас, NW1
Дорогая мисс Порция,
К сожалению, Филлис задела вашу головоломку, которую я, как вы и просили, накрыла газетой. Ей было велено ее не трогать, но это у нее из головы вылетело. Я укладывала вещи миссис Томас, поэтому отправила Филлис прибрать вашу комнату, она не знала, что там под газетой, вот и толкнула стол. Она рассыпала немного неба и часть офицеров, но все кусочки я сложила в коробку и поставила у вашей кровати. Она расстроилась, когда я ей сказала, как вы этой головоломкой дорожите. Я решила вас насчет этого предупредить, чтобы вы не слишком огорчались, когда вернетесь. Филлис больше не зайдет в вашу комнату, и нечего ей, кстати, там делать.
Мистер и миссис Томас выехали из дому загодя, чтобы не опоздать на поезд до Италии, а я сегодня понесу занавеси в чистку. Я была рада узнать из телеграммы миссис Геккомб, что вы добрались до Сила. Не сомневаюсь, что мистер и миссис Томас были тоже этому рады. Надеюсь, вы бережетесь от морского ветра, он в это время года особенно коварный. Миссис Геккомб, когда была у нас в прошлый раз, рассказывала о том, как там холодно, и старой нутриевой шубке миссис Томас, похоже, очень обрадовалась. Непременно поддевайте кардиган под пальто, прямо на джемпер, я вам их два положила, хотя вы все равно, наверное, забудете.
Слышала, что к нам заходил майор Брутт и очень огорчился, узнав, что вся семья разъехалась. Похоже, он перепутал день и думал, что миссис Томас сказала ему зайти сегодня. Он спрашивал о вас, ему сказали, что вы на море. Дом теперь не узнать без занавесей, вы его таким никогда не видели. Кроме того, мы сняли с полок все книги мистера Томаса – их почистят электромашиной, а затем и полки вымоют. Заходил ваш друг мистер Эдди, сказал, что позабыл у нас кашне, и особо высказался о запахе мыла. Еще он забрал из гостиной какую-то французскую книжку, которую, как он сказал, он одолжил миссис Томас. Чтобы отыскать эту книжку, мне пришлось в гостиной поснимать все чехлы с мебели, а эту комнату уже всю зачехлили, чтобы можно было подметать.
Надеюсь, отдых на побережье пойдет вам на пользу. Я однажды была в Силе вместе с моей замужней сестрой, которая живет в Дувре. Говорят, там прекрасное место для жилья. Уверена, не успеете вы оглянуться, как уже пора будет возвращаться. На этом заканчиваю.
С уважением,
Р. Матчетт
P. S. Вы тогда напишите, если нужно будет что-то прислать. Открытки будет вполне достаточно.
«К. и М.», пятница
Милая Порция,
Спасибо тебе за написанное перед отъездом письмо.
До меня наконец дошло, что ты уехала, и это ужасно, я, по правде сказать, надеялся, что не дойдет, но увы. Я тут заскочил на Виндзор-террас, чтобы забрать тот мой красный шарф, и дом выглядит так, будто вы все умерли от чумы и Матчетт теперь его после вас дезинфицирует. Там омерзительно воняло мылом. Матчетт свалила все книги Томаса в кучу, похоже, чтобы на них поплясать. Меня она старательно пепелила взглядом. Вся гостиная была в чехлах, я думал, под ними и спрятаны ваши трупы. Пришлось поуговаривать старую крокодилицу, чтобы она меня туда пустила, и она стояла там, щелкая зубами, пока я искал Les Plaisirs et les Jours[21], мне хотелось заполучить эту книжку обратно, пока Анна ее не потеряла. Чувствовал я себя престранно: я был у вас в гостиной, но знал, что ты не прошмыгнешь вниз по лестнице. Везде раздавалось эхо, и впрямь как в покойницкой, и я сказал себе: «Она умерла молодой».
Скажи-ка, крошка, как по-твоему, что именно Матчетт знает о нас с тобой? День выдался до того дрянной и унылый, что я чуть не разрыдался.
Так что помни, что часто я чувствую себя очень паршиво, и пиши мне длинные письма. Но если ты будешь слишком часто писать о Дикки, я приеду и пристрелю его, ведь я очень ревнивый. Он и правда так ужасен, как говорила Анна? А Дафна? Честное слово, я очень хочу, чтобы ты обо всем мне рассказывала, и очень гадко с твоей стороны было заявить, что я совсем не читаю твоих писем. Хочешь, я приеду на выходные – и даже не ради того, чтобы пристрелить Дикки? Вот была бы смехота, если б я и вправду его пристрелил. Как думаешь, они ведь смогут меня приютить? Конечно, нужно понимать, как еще тут все повернется, но сейчас мне ужас как нехорошо.
В конторе без Томаса все идет вкривь и вкось, узнай об этом Томас, он бы наверняка обрадовался. И передать не могу, до чего они тут все ужасные. Я всегда знал, что тут собрались одни мошенники. Они кого угодно отравят своим интриганством, а дела при этом стоят. Зато у меня есть больше времени, чтобы писать тебе. Видишь, я даже не пишу на конторской бумаге: блюду интересы Томаса, пока его нет.
Ох, Порция, крошка, как же ужасно, что нельзя тебя увидеть. Ты уж, пожалуйста, почувствуй себя ужасно тоже. Я видел в Холборне пару серебряных индийских детских браслетов. Наверное, пошлю их тебе – твоим смешным запястьицам.
А помнишь субботу?
Как же это на них похоже – взять и вот так отправить тебя на море, когда все так хорошо складывалось. Анна держит тебя под замком, как варенье. Надеюсь, что их зальет дождем и заморозит на этой их вульгарной итальянской вилле. Нет, правда, вот было бы смеху, если бы я приехал в Сил. Из твоей спальни слышно море?
Пора заканчивать. Мне правда очень тоскливо и бесприютно. Мы тут договорились кое с кем пойти выпить, но это не одно и то же. А как было бы прекрасно, если б ты поджидала меня дома, вороша угли в камине, верно ведь?
До свиданья, доброй ночи, моя крошка. Подумай обо мне перед сном.
Эдди
Гостиница «Карачи»,
Кромвель-роуд, SW
Дорогая мисс Порция,
Очень жаль, что я уже никого не застал, когда заходил в номер второй по Виндзор-террас. Я думал пожелать вашим брату и невестке удачной дороги, а кроме того, надеялся лично ответить на славную весточку, которую вы послали мне через миссис Квейн, о том, как далеко вы продвинулись в сборке одной тут головоломки. Я также думал узнать, не желаете ли вы получить еще одну, потому что с этой вы уж, наверное, почти закончили. Мало ведь веселого в том, чтобы собирать головоломку по второму разу. Если вы позволите мне прислать вам еще одну головоломку, то первую всегда сможете передарить какой-нибудь подруге, которой нездоровится. Говорят, что головоломки пользуются особенным спросом в лечебницах, но сам я, по причине отменного здоровья, этого подтвердить не могу. Да и не сказать, чтобы во время войны такие головоломки были в моде.
Погода совсем испортилась, но вы, как говорится, «уж точно проехали Лондон». Во время моего последнего визита в гостеприимном доме вашего брата все было разобрано на части перед генеральной уборкой. Страшное это дело! Вы, я надеюсь, высадились на приятной части побережья? Боюсь, что для вас там все равно будет слишком ветрено. У меня же в последнее время дел по горло, хожу тут, разговариваю с разными людьми насчет работы. Судя по всему, дело движется.
Добрые мои друзья, с которыми я в этой гостинице и познакомился, на днях отсюда съехали, и без них теперь здесь как-то пусто. В таких гостиницах частенько встречаешь стоящих людей. Но, разумеется, тут никто надолго не задерживается.
Ну что же, если вам вдруг захочется попытать сил с еще одной головоломкой, вы уж тогда, будьте добры, черкните мне пару строчек. Как знать, вдруг вам захочется пособирать головоломку и на море, где стихия не всегда ведет себя как положено. Если бы я знал ваш адрес, то сразу бы по нему и выслал головоломку. Ну а пока это мое письмо, несомненно, вам перешлет ваша замечательная экономка.
Совершенно искренне ваш,
Эрик Э. Дж. Брутт
Никогда еще Порция не получала столько почты – так вот ради чего стоило уезжать из Лондона. Все три письма доставили в субботу утром, и она перечитывала их, сидя за зеленым мозаичным столиком в кафе «Корона» в ожидании миссис Геккомб. То было ее второе утро на побережье, но она уже совсем свыклась с заведенными в «Вайкики» порядками. С десяти тридцати до полудня миссис Геккомб всегда ходила по магазинам – с перерывом на чашечку кофе в кафе «Корона». Если к десяти тридцати ее не было «в городе», она начинала нервничать. С похожей на улей корзинкой под мышкой и Порцией в кильватере, миссис Геккомб блаженно, медленно плыла по главной улице – вперед и назад, частенько разворачиваясь и причаливая там, где ей вздумается. Женщины, совершающие покупки по телефону, не знают всей прелести хождения по магазинам. Богатые женщины живут так далеко от жизни, что зачастую и денег своих не видят, – говорят, например, что у королевы даже кошелька нет. Но сафьяновый, с потемневшими серебряными уголками кошелечек миссис Геккомб был всегда на виду. Почти везде она расплачивалась наличными, потому что знала за счетами такую странность: они вечно оказываются больше, чем тебе помнилось, и еще потому что из-за своей кочевой натуры не хотела оседать в одних и тех же лавках. Ей хотелось, чтобы ее узнавали почти во всех магазинах, ей нравилось, когда на входе ее встречали предназначавшейся именно ей улыбкой. И в этом она так преуспела, что теперь ее знали в каждой более-менее приличной лавке Сила. Там, где она ничего не покупала, она постоянно ко всему приценивалась. Она, правда, признавала, что пользуется услугами только одного мясника и только одного молочника, потому что свои товары они доставляли на дом: миссис Геккомб не хотелось ходить по городу с куском мяса, а запасы молока в доме должны были и вовсе пополняться автоматически. Впрочем, даже этим двум торговцам она не то чтобы хранила верность – то в одной, то в другой лавке она время от времени покупала почки, какое-нибудь масло пожелтее, горшочек сливок.
Порции, которая прежде никогда не видела, чтобы кто-нибудь так часто лез в кошелек (когда живешь в гостиницах, покупать особенно нечего), расточительность миссис Геккомб казалась поистине королевской, хотя кошелечек ее чаще всего был забит сдачей с флорина[22]. Когда у миссис Геккомб скапливалось слишком много мелочи, она платила ею за следующую покупку – выстраивала монетки на прилавке в столбики по шесть или двенадцать пенсов и осторожно пододвигала их к продавцу. Ей казалось, что в том, чтобы расплачиваться одними медяками, есть особая выгода: если не платить серебром, деньги целее будут, да и какой же экономный человек будет часто разменивать банкноты. Все покупалось небольшими порциями, ровно столько, чтобы хватило на день.
Сегодня, например, миссис Геккомб купила:
1 кусок «Винолии» в ванную,
полдюжины перьев для ручки,
1 банку паштета из лосося с креветками (маленькую),
1 металлическую губку для чистки кастрюль,
1 упаковку таблеток карбоната магния (маленькую),
1 банку приправы для соуса,
1 моток пряжи из «натуральной» шерсти (для безрукавки Дикки),
1 электрическую лампочку,
1 пучок салата,
1 отрез полосатой парусины на перетяжку лежака,
1 упаковку пластин китового уса на починку корсета,
4 бараньи почки,
полдюжины мелких болтов,
1 газету – «Черч Таймс».
Кроме того, из специально отложенной купюры в десять шиллингов она по списку Дафны купила все, что было нужно для сегодняшней вечеринки. Порция купила почтовой бумаги и конвертов – тонко разлинованная лиловатая бумага, бордовые внутри конверты – и полуторапенсовых марок на девять пенни. Надышавшись щедростью морского воздуха, она купила еще зеленый футляр для зубной щетки и красную ленту, чтобы подхватить ею вечером сетку для волос. Теперь же миссис Геккомб отправилась к жилищному агенту – за ежегодной консультацией насчет сдачи дома внаем. Среди домовладельцев Сила она одна, наверное, начинала так рано договариваться о сдаче дома на лето. Дело было в том, что Дикки и Дафна с каждым годом все больше и больше возражали против того, чтобы съезжать из «Вайкики» на три лучших месяца в году. Но их отец выстроил этот дом, чтобы летом его сдавать, и его вдова это правило истово соблюдала. В июле, августе и сентябре она, вместе со своими кистями и красками, поочередно гостила у всех родственников, Дикки с Дафной в это время приходилось жить у друзей. Из-за их возражений миссис Геккомб старалась пораньше договориться насчет сдачи дома, чтобы потом представить все как fait accompli[23]. Но к агенту она шла с тяжелым сердцем, ей казалось, будто она решила обвести Дикки с Дафной вокруг пальца.
Поэтому, чтобы не совершать это черное деяние на глазах у Порции, миссис Геккомб не взяла ее с собой, а отправила в «Корону» – занять им столик. В это время там всегда было полно посетителей; места на втором этаже считались самыми лучшими, ведь оттуда можно было обозревать всю главную улицу. Внизу кофе пили только приезжие. И до чего же светло было наверху: из печи с ревом валил жар, солнце потоками вливалось в окна, сгущая дымок от парочки дерзких сигарет; горячо пахли жарящиеся зерна кофе, постукивали плетеные стулья. Дамы в ожидании других дам листали старые номера «Татлера» и «Скетча». Собаки опутывали поводками ножки столов. Повсюду яркие пятна: в вазах – бумажные тюльпаны, на мозаичных столешницах – печенья в цветных обертках. Официантки знали всех и вся. Здесь было куда веселее, чем в Лондоне, кроме того, на этом утреннем пиру царила бесцеремонность, которую могли себе позволить только очень приличные люди.
Несколько раз Порция отрывалась от чтения писем, завидя, как из-за перил всплывает дамская шляпка. Но время шло, а владелицей шляпки всякий раз оказывалась не миссис Геккомб. Сама миссис Геккомб возникла словно бы из ниоткуда, будто чертик из табакерки. Три конверта так и были разбросаны по столу. Миссис Геккомб глянула на них профессионально цепким взглядом, впрочем, цепкость тотчас же уступила место такту. Не зря ведь столько лет она провела в роли дуэньи. Почерк Эдди, если не приглядываться, казался совершенно безопасным, а вот майор Брутт писал решительно по-мужски. По письму Матчетт сразу было понятно, что это письмо может написать разве что Матчетт. Этих почерков миссис Геккомб еще не видела: за утренней почтой галопом выскочила Дафна.
– Ну, душечка, хорошо, что ты тут не скучала. Меня задержал мистер Банстейбл. Так, сейчас я закажу кофе. Съешь-ка шоколадное печенье, пока мы ждем.
Даже не отдышавшись как следует, миссис Геккомб пристроила корзинку на свободном стуле и помахала официантке. Лицо у нее было розовое. Настороженность, смешанная с нерешительностью, нависала над ним, будто вторая шляпка.
– Как приятно получать письма, – сказала она.
– О да! Сегодня утром я получила целых три.
– Вы с мамой так много путешествовали, что, наверное, обзавелись кучей приятных знакомств?
– Нет, потому что, понимаете, мы путешествовали слишком много.
– А теперь ты, наверное, подружилась с друзьями Анны?
– С некоторыми. Не со всеми.
Тревога миссис Геккомб понизилась на несколько градусов.
– Анна, – сказала она, – так замечательно разбирается в людях. Она всегда была разборчивой, даже в юности, а теперь-то ведь какие выдающиеся персоны бывают у нее в гостях, правда? Если любить тех, кого любит Анна, никогда не ошибешься. Она удивительным образом умеет собирать вокруг себя людей, как же хорошо, душечка, что ты попала в такой прекрасный дом. Уверена, ты сделала ей приятное, так отлично поладив с ее знакомыми. Вот уж чему она обрадуется всем сердцем. Ты ей, наверное, с удовольствием показываешь все свои письма?
– Я только на море получаю столько писем.
На миг миссис Геккомб опешила. Но тут дама, сидевшая за соседним столиком, перегнулась к ним и резко ткнула миссис Геккомб в плечо. Между ними завязалась беседа – игривая, с укоризной. Порция, и сама перестав что-либо понимать, подлила в кофе сливок из игрушечного кувшинчика. Вскоре ее представили знакомой миссис Геккомб, и она вежливо встала, чтобы пожать той руку. Письма она засунула в карман своего твидового пальто.
Когда они вышли из кафе на главную улицу, миссис Геккомб, притормозив возле смутовского здания, с некоторой горечью взмахнула рукой – чтобы показать, где работает Дафна[24]. Порция тут же представила, как Дафна сидит там, за окном, словно разъяренная Леди из Шалота[25].
– Она любит читать? – спросила Порция.
– Вообще-то нет, но им это и не нужно. Им нужна девушка, которая, понимаешь ли, выделяется. Девушка, которая… даже не знаю, как объяснить… если девушка не из приличной семьи, ей тут и делать нечего. Знаешь, выбор книг – это все очень личное, Сил – город маленький, и люди тут очень приятные. Так что, какой ты человек, тут очень важно. Между прочим, «Короной» владеют настоящие леди.
– О!
– Ну и, разумеется, все знают Дафну. И она так освоилась на этой работе, просто замечательно. Боюсь, ее отец счел бы это все не самым идеальным выходом. Но будущее ведь не всегда можно предугадать, правда?
– Да.
– Тут почти все берут книги. Ты как-нибудь навести ее утром, то-то она обрадуется. Господи, смотри-ка, уже двенадцать! Пора бежать домой.
И они помчались обратно к морю по заасфальтированной дорожке, а потом еще час ждали в салоне «Вайкики», пока Дорис разберется с обедом. Миссис Геккомб поворачивала абажур из стороны в сторону, приговаривая, что лак подсыхает. После обеда она сказала, что минуточку помолчит, и уснула на диване, повернувшись спиной к морю.
Порция несколько раз взглянула на спящую миссис Геккомб, затем сняла туфли и прокралась на второй этаж, чтобы исследовать спальни и поглядеть, найдется ли там комната для Эдди. В спальне миссис Геккомб, где она побоялась задерживаться надолго, была широкая двуспальная кровать, продавленная посередине, и много фотографий маленьких девочек. В комнате Дафны пахло пудрой «Коти» (шипровой), под комодом стояла целая армия вечерних туфель, а на кровати сидел Понурый Десмонд[26]. Зеркало было утыкано фотокарточками, изображавшими людей обоих полов и очень уверенного вида. Комната Дикки выходила окнами на север, в сторону города, и в ней стоял тот осязаемый запах, какой часто бывает у северных комнат. Там нашлись: жук-денщик[27], боксерские перчатки, стопка номеров «Эсквайра», три маленьких серебряных кубка на подставках черного дерева, сиявших под групповыми фотоснимками в рамочках. Комната Дорис была настолько дорисовской, что Порция быстро закрыла дверь.
Зато она нашла еще одну комнату – треугольную, будто край сырного ломтя. Слуховые окошки выходили на север. Здесь высились составленные друг на друга картонные коробки, стоял – с почти королевской надменностью – портняжный манекен, а стены были увешаны снимками из тропиков, которые успел посетить доктор Геккомб. Кроме того, тут – что вселяло некоторую надежду – отыскались раскладная кровать, квадратик зеркала и бамбуковый стол. В последний раз окинув комнату взглядом, Порция тихонько спустилась обратно. Когда миссис Геккомб проснулась, она уже успела дописать письмо до середины.
Она писала: «Тут есть комната, и, по-моему, тебе все понравится. К нашему дому ведут две дороги. Я спрошу про тебя завтра, будет воскресенье и…»
Миссис Геккомб, проснувшись, легонько подергала себя за волосы, словно бы услышав что-то оттуда.
– Ты занята, душечка? – спросила она. – Нам с тобой через час нужно будет выходить. Поднимемся на чай к соседям – там две дочки, обе, правда, немного тебя постарше.
Она заправила за поясок выбившуюся сзади блузку и какое-то время умиротворенно расхаживала по салону, двигая и поправляя какие-то предметы, как будто бы именно это ей и пришло в голову во сне. Просочившийся с веранды сквозняк стучал кольцами занавесок, «Вайкики» по-корабельному поскрипывал, и волны все сильнее и сильнее шлепали по песку.
Пока миссис Геккомб и Порция – обе в замшевых перчатках – неспешно поднимались наверх, к дому, куда их позвали на чай, не раскрывшиеся еще нарциссы в садах клонились во все стороны. В Силе нынче давали очередной драматический весенний вечер, с солнцем и ветром, и даже отсюда было видно, как над топью перекатываются облака. Внизу переменчивый серебристый свет дробил излучину бухты.
– Вас с Анной, наверное, часто зовут куда-нибудь к чаю?
– Да, но Анна редко откликается.
На обратном пути миссис Геккомб повела Порцию к вечерней молитве, которую читали в часовне Богоматери. Затем они зашли в ризницу, миссис Геккомб нужно было забрать несколько подризников, чтобы дома их заштопать. Она и не мечтала о том, чтобы, например, украсить алтарь цветами, потому что не могла себе позволить красивых цветов, и трудилась на благо церкви таким образом.
– Мальчики такие неаккуратные, – сказала она, – как дырка, так обязательно по шву на шее.
Они довольно долго перебирали подризники, и еще дольше – заворачивали их в коричневую упаковочную бумагу, миссис Геккомб и другие допущенные в ризницу дамы запасались такой бумагой для своих нужд и складировали ее за относительно священным сосновым шкафом. Викарий об этом ничего не знал. Всякий раз, разворачивая какой-нибудь сверток, миссис Геккомб откладывала бумагу, чтобы потом отнести ее в церковь, поэтому в «Вайкики» никогда нельзя было отыскать коричневой упаковочной бумаги… Когда они вместе с подризниками вернулись в «Вайкики», Дафна расставляла в салоне стулья.
Дафна заново уложила волосы, и теперь они были похожи на золоченую сталь. Дверь в столовую была открыта, чтобы жар от камина в салоне хоть чуть-чуть вытянул оттуда холод: из столовой и впрямь ощутимо сквозило. Они вошли, огляделись, и Дафна – с невозмутимостью вконец отчаявшегося человека – сдула пыль со стоявшего в центре стола букета физалиса.
– Звонок теперь звенит просто замечательно, деточка.
– Да, звонок в порядке, но не успела я в него позвонить, как выскочила Дорис и закатила истерику.
– Может, он все-таки слишком громкий?
– Все равно, пусть так больше не делает. Кстати, банку с паштетом она тоже не может найти.
– Ох, прости, дорогая, она так и лежит у меня в корзинке.
– Мамуля, ну ты даешь… Но, в общем, к сэндвичам она еще даже не приступала. А вы, похоже, ходили в церковь? – набросилась на них Дафна.
– Ну, мы только…
– Знаешь, с церковью можно было бы и подождать. Сегодня вообще-то суббота.
Поужинали они холодными закусками – и раньше обычного, чтобы Дорис успела убрать со стола и вымыть посуду. Потом еще надо было переодеться. Дикки не выказывал особого энтузиазма насчет вечеринки, он собирался поехать на матч – посмотреть, как играют в хоккей на льду. Сам он половину субботы провел в Саутстоне, играя в ничем не примечательный хоккей в грязи.
– И охота им сюда идти, не понимаю, с чего бы, – сказал он.
– Слушай, но ведь и Клара придет.
– Чего это ради? Впервые об этом слышу.
– Ну, знаешь ли! Знаешь ли, ну и ну! Ты сам ее позвал, Дикки! А вот и позвал! Ты сказал: может, забежишь к нам в субботу? – а она только этого и ждала. Я даже думаю, что она ради нас отменила свидание.
– Уж не знаю, что там за свидания отменяют твои подружки, но Клару я точно не звал. Стал бы я ее звать, когда тут «Монреальские орлы» приехали?
– Какие орлы, дорогой? – спросила миссис Геккомб.
– Они сегодня играют на «Ледодроме» – и Дафна об этом прекрасно знает.
– Да плевать мне, где играют твои противные орлы. Я прекрасно знаю, что ты сам пригласил Клару. И не надо мне тут говорить про кларины свидания. Знать, на какие свидания она ходит, – твое дело, а не мое.
– Ах, вот как? – спросил Дикки, дерзко поглядев на сестру. – И на каких, позволь спросить, основаниях ты делаешь такие выводы?
– Ну, она ведь приходит, только когда ты здесь, – ответила Дафна, слегка присмирев.
– Куда она ходит, это ее личное дело.
– Тогда не выдумывай, будто она моя подружка.
– Ну, ладно, ладно, ладно, это я ее позвал, а не ты. Конечно, мне ведь совсем не хотелось посмотреть на «Монреальских орлов», какое там. А Сесила обязательно надо было приглашать?
– Я сбегала и позвала его, – вмешалась миссис Геккомб. – Подумала, что вы-то оба наверняка забудете, а он потом ужасно обидится.
Дикки сказал:
– Не знаю, зачем нам сдался Сесил.
– А я знаю, – ответила Дафна. – Мы с мамулей подумали, что он как раз сойдет для Порции.
– Нет, Дафна, это все ты придумала, ну правда.
Дикки впервые устремил на Порцию свой важный олений взгляд:
– Сесил, он, знаешь ли, немножко как девчонка.
– Ой, Дикки, вот и нет.
– Да ладно тебе, я к нему хорошо отношусь, только терпеть не могу эти его девчачьи пуловеры.
– Ты и сам носишь пуловеры.
– Только не девчачьи.
– А кстати, Дикки, видел бы ты, как подскакивает Дорис, когда слышит звонок.
– Ага, значит, теперь он звенит?
– И не благодаря тебе.
– Дикки очень занят, деточка… Нам пора переодеваться. Да и Дорис давно ждет, чтобы убрать со стола.
– Так чего же она ждет, господи боже?! И пусть еще проветрит – нельзя, чтобы тут так и пахло телятиной и ветчиной.
Три дамы поднялись наверх, недопитую чашку кофе миссис Геккомб унесла с собой. Вскоре на лестнице послышались шаги Дикки – тот, немного поколебавшись, тоже решил переодеться. Теперь по всему второму этажу «Вайкики» захлопали ящики комодов, заскрипели краны. Поднимался черный, ночной ветер, и «Вайкики» уверенно встретил его всей грудью, прорываясь сквозь него, будто пароход, все в доме задребезжало. Предпраздничное возбуждение от этого только усилилось. Порция втиснулась в черное бархатное платье, которое висело за занавеской и слегка пропиталось морской сыростью, бархат лип к коже над вырезом комбинации. Она зачесала волосы, надела сетку с красной лентой, завязав ее так туго, что у нее даже кончики бровей приподнялись. Глаза тоже стали разъезжаться в стороны, и поэтому она проглядела себя в зеркале.
Она спустилась первой и, присев на плиточный бордюр вокруг камина, слушала, как ревет огонь в трубе. Растопырив локти и вскинув руки на египетский манер, она вертелась в разные стороны, прогревая тело, чувствуя, как влажный бархат понемногу отлипает от кожи между лопатками.
Это ее первая вечеринка. Сегодня потолок казался выше, салон – больше, загадочнее, неспокойнее. Меж оранжевых абажуров колоннами высились прозрачные золотистые тени. Граммофон стоял раскрытый, пластинка была поставлена, и игла занесена над ней, будто рука для удара. Дорис не видела Порции – взволнованная и призрачная, в огромном чепце, она проходила через салон с подносами. Там, в море, их дом могут принять за еще один ярко освещенный корабль, и скоро эта комната, будто магнитом, притянет к себе людей с темной набережной. У воображаемых партнеров Порции не было лиц: с кем бы она ни танцевала, ей в каждом виделся только Эдди.
Спустился Дикки – в темно-синем костюме в тонкую полоску – и спросил, не поможет ли она ему скатать ковер. Они успели только отодвинуть козетку, как о дверь что-то забилось, будто летучая мышь, и Дикки, крякнув, бросил ковер и впустил Сесила.
– Ну вот, – сказал Сесил, – кажется, я слишком рано.
– С одной стороны, да. С другой, помоги-ка мне с ковром. Как обычно, все свалили на меня… А, кстати, это мистер Сесил Боуэрс, мисс Порция Квейн… Кстати, Сесил, – сказал Дикки, и довольно строго, – звонок теперь работает.
– Да? Извини. Такого с ним раньше не было.
– Так вот, запомни теперь.
– Дикки, кто там? – провопила Дафна, перегнувшись через перила.
– Сесил, больше никого. Он скатывает ковер.
Скатав ковер, Сесил поправил галстук и вышел помыть руки. Порция не заметила в его внешности особых изъянов, хотя он, конечно, выглядел не так мужественно, как Дикки. Вернувшись, он обратился было к ней с фразой: «Я так понимаю, вы недавно приехали из Лондона», но тут появилась Дафна и всучила ему поднос.
– Так, Сесил, – сказала она, – нечего тут стоять без дела.
Было понятно, что если Сесил и достанется Порции, то только потому, что Дафна его пожалует ей со своего плеча. На Дафне было зауженное в бедрах крепдешиновое платье – все в восхитительных оборках: маки, розы и настурции цвели на нем, лишь кое-где теряясь в многочисленных складках. В изумрудного цвета туфлях на каблуках она ступала еще выше обычного. Когда раздался звонок, от которого весь дом словно бы передернуло, и Дикки пошел открывать дверь, Дафна отправила Сесила и Порцию в столовую – помечать сэндвичи флажками и пересчитывать стаканы для сидра.
Понять, с чем сэндвичи, можно было, только приподняв за уголок верхний кусок хлеба. Но даже так не всегда получалось угадать, где какой рыбный паштет. Сесил, убедившись, что в столовой они одни, попробовал все сэндвичи, подцепив кончиком пальца по крошке с каждого.
– Не совсем точно, – сказал он, – но que voulez vous?[28]
Став, таким образом, сообщниками, они с Сесилом, воткнув все флажки, уселись рядом и с интересом поглядели друг на друга. В салоне стоял гул голосов, про них все и думать забыли.
– Вечеринки у Дафны с Дикки всегда просто дивные, – сказал Сесил.
– Они их часто устраивают?
– Довольно часто. Всегда по субботам. И всегда, я бы сказал, с размахом. Но для вас тут, наверное, слишком тихо, после Лондона-то?
– Нет, не очень. А вы часто бываете в Лондоне?
– Ну да… когда не катаюсь во Францию.
– О, вы катаетесь во Францию?
– Да, и знаете – очень даже часто. Вы, наверное, думаете, что я не в своем уме, здесь все так думают. Потому что здесь все ведут себя так, будто Франции вовсе не существует. Если день ясный, я, бывает, спрашиваю: «А что это вон там такое?» А они мне: «А, это Франция». И все, ноль эмоций. Я частенько езжу в Булонь, оборачиваюсь за день.
– Один?
– Ну, когда один, а так я, например, часто езжу туда с одной моей ужасно легкой на подъем тетушкой. Ну и пару раз я был там с другом.
– И что вы там делаете?
– Да просто гуляю. Знаете, туда хоть и легко добраться, но Булонь такая замечательно французская. Мне кажется, она даже пофранцузее Парижа. Нет, в Париже я еще не был: думаю, а вдруг он меня страшно разочарует… Стоит мне хоть раз не появиться в «Павильоне», на «Ледодроме» или в «Пале», как потом мне все сразу кричат: «Привет-привет! Опять за границу ездил?» Уж не знаю, что они там обо мне думают, – смущенно сказал Сесил, пряча глаза. – Не знаю, может, вы тоже обращали внимание, – продолжил он, – на то, как редко людям хочется расширить круг своих интересов. Но я свой всегда стараюсь расширить.
– Ой, и я тоже.
Она застенчиво поглядела на Сесила и прибавила:
– Круг моих интересов значительно расширился в последнее время.
– Я так и думал, – ответил Сесил. – У меня о вас ровно такое впечатление и сложилось. Поэтому-то я с вами и разговорился.
– Иногда круг моих интересов расширяется еще даже до того, как меня что-нибудь заинтересует.
– Да, вот и у меня так. А вообще-то я человек сдержанный… Кстати, как вы поладили с Дикки?
– Ну, когда вы вошли, мы как раз собирались скатывать ковер.
– Надеюсь, я не был бестактен.
– О нет.
– Все просто обожают Дикки, – сообщил Сесил со смесью гордости и уныния. – Должен признать, что он прирожденный лидер. Вы, наверное, и от Дафны решительно без ума?
– Ну, ее почти весь день нет дома.
– Я не знаю ни одной девушки, – сказал Сесил с еле заметным упреком в голосе, – которую обожали бы больше Дафны. К ней, наверное, будет весь вечер не пробиться.
– Ой! А если все-таки попробовать?
– Сказать по правде, – ответил Сесил, – мне и тут неплохо.
Дела начинали принимать интересный оборот, но тут в столовую заглянула встревоженная миссис Геккомб в кружевном платье винного цвета, которое вряд ли досталось ей от Анны.
– Ах, вот ты где, деточка, – сказала она. – А я уж и не знала, что думать. Добрый вечер, Сесил, я рада, что ты пришел. По-моему, они уже думают насчет танцев.
Порция и Сесил встали и поплелись к двери. По нерешительной тишине, наступившей в салоне, они поняли, что первая волна веселья уже схлынула. В комнате было человек десять, они подпирали стены, с каменными лицами сидели на козетке или, скрючившись, на свернутом в рулон ковре. Все они вяло поглядывали на Дафну, намереваясь – впрочем, без особой охоты – согласиться с любым ее планом. Миссис Геккомб, похоже, была права, когда сказала, что они думают насчет танцев – если они о чем и думали, то разве что об этом. Дафна поглядывала на гостей немного враждебно – чтобы, как она говорила, знали свое место. Затем она отвернулась и вместе с мистером Берсли, который наглаживал стопку пластинок, занялась граммофоном.
Но тут она зашла в тупик, потому что ей не хотелось заводить граммофон, пока гости не встали, а гостям не хотелось вставать, пока Дафна не заведет граммофон. Дикки стоял рядом с Кларой возле камина, явно чувствуя, что свой долг он уже исполнил. Всем своим видом он словно говорил: «А вот если бы мы пошли на “Орлов”, этого можно было бы избежать». Клара была мелкая платиновая блондинка с рифленой укладкой, длинным носом, короткой шеей и угодливым личиком славной белой мышки. Ее воротник был украшен белыми розами из органди, отчего казалось, будто ее голова лежит на блюде. Из-за того, что она то и дело посматривала на Дикки снизу вверх, тот выглядел еще более мужественным. Они вроде бы о чем-то разговаривали, но, похоже, только благодаря упорству Клары.
Стоило Порции вместе с Сесилом появиться в дверях, как в Дафне словно бы сработала какая-то внутренняя пружина. Несомненно, она вспомнила об Анне – и ожив, как ужаленная, Дафна завела граммофон, шлепнула иглу на пластинку и принялась фокстротировать с мистером Берсли. После этого еще четыре или пять пар поднялись и решились пройтись в танце. Порция раздумывала, пригласит ли ее Сесил – ведь пока что они общались исключительно на высокоинтеллектуальном уровне. Но, пока она раздумывала, Дикки отошел от Клары, с важным видом приблизился к Порции и, безучастно нависнув над ней, спросил:
– Потанцуем?
Затем Порция почувствовала, что ее решительно фокстротируют туда-сюда и на каждом повороте еще и медленно раскручивают, как юлу. Вскинув голову, она заметила, что Дикки танцует с таким лицом, с каким обычно водят машину. Дикки управлял ею, нажимая большим пальцем под лопатку, другой рукой – точнее большим и указательным пальцами – он держал ее за запястье, и когда к ним приближалась другая пара, он поспешно сгибал ее руку, будто складывая перочинный ножик. Порция была распята на его вздымающейся груди, и ее ноги лишь слегка задевали пол, как у марионетки. Все больше и больше успокаиваясь, она не сводила взгляда с ямочки у него на подбородке. Насчет себя она не обманывалась: у демарша Дикки была только одна цель – огорчить Клару, чтобы досадить Дафне. Дафна из-за плеча мистера Берсли метнула на Дикки яростный взгляд. Клара была девушкой не только щедрой, но и небедной, и если Кларе было весело, то и Дафна, по негласной договоренности, имела с этого веселья свой процент.
Но непроницаемый Дикки все-таки оказался способен на доброту – на середине второй пластинки он сказал:
– По-моему, ты неплохо справляешься.
Порция так обрадовалась, что не успела вовремя отставить ногу, и Дикки немедленно на нее наступил.
– Извини, я не хотел!
– Нет, это я не хотела!
С этим Дикки не мог не согласиться. Перехватив ее покрепче и прижимая теперь к ее ребрам всю пятерню, он продолжил танцевать фокстрот при помощи Порции. Когда пластинка закончилась, он с торжественным видом отвел ее к камину, где до этого стояла бедняжка Клара. Королева салона – сдающая позиции, но все равно ликующая, – оглядела комнату, увидела сидевшую с вязанием миссис Геккомб, увидела стоявших к ней спиной мистера Берсли и Дафну, которые разговаривали на веранде, увидела руку мистера Берсли, примявшую крепдешиновый бантик над задом Дафны, увидела Сесила, который угрюмо расточал любезности не ей, и голову Клары, печально склонившуюся на белые рюши. Она надеялась, что никто не держит на нее зла.
– Ты ведь не куришь, правда? – несколько грозно спросил Дикки.
– Вообще-то я даже не умею.
Дикки медленно закурил и сказал:
– Из-за этого точно переживать не стоит. Сейчас почти все девушки слишком много курят.
– Ну а я, может, так и не научусь.
– А заодно еще вот чему не нужно учиться – разукрашивать себе ногти. Почти всех мужчин от этого просто тошнит. И зачем только девушки это делают?
– Может, им просто никто не говорил?
– Ну, я всегда говорю. Если уж хочешь познакомиться с девушкой, лучше сразу говорить, что думаешь. И вот еще чего я не люблю – перемазанных ртов. Когда я зову девушку на чай, то всегда гляжу на ее чашку. А потом, если она вымажет край чашки этой красной дрянью, сразу говорю: «Надо же, тут розовый узор на чашке, что-то я его раньше не замечал». Девушки от такого сразу теряются.
– А если чашка и вправду с розовыми узорами?
– Тогда говорю что-нибудь другое. Зря девушки стараются привлечь мужчин такими способами, от которых мужчины попросту теряют к ним всякое уважение. Какому мужчине захочется, чтобы у матери его детей все лицо было перемазано в этой дряни. Неудивительно, что рождаемость пошла на спад.
– Моя невестка говорит, что мужчины слишком уж капризничают.
– Вот уж не знал, что следовать идеалам – это каприз. Я бы вот запросто женился на девушке, которая бы по-человечески выглядела и умела вести хозяйство. И знаешь что, большинство мужчин, если их спросить, скажут тебе то же самое. Хочешь лимонаду?
– Нет, спасибо, пока нет.
– В таком случае, прошу прощения, но я пойду, ангажирую себя на следующий танец. Шестая песня после этой – наша. Встретимся у граммофона.
Порция хотела присесть рядом с миссис Геккомб, но тут к ней подошел Сесил и пригласил ее танцевать.
– Я и рта не успел раскрыть, как вас похитили, – сказал он, но поглядел на нее при этом очень уважительно.
Танцевал Сесил куда настойчивее, и Порция вскоре поняла, что справляется с ним куда хуже. Она поглядела на мышиную ручку Клары, которой та довольно-таки умоляюще цеплялась за плечо партнера (Дикки вальсировал красотку в оранжевом), и заметила, что ногти у нее не накрашены. В отличие от партнерши Дикки. После этого Порция только и вертела головой, чтобы посмотреть на ногти остальных девушек, и из-за этого постоянно толкала и задевала Сесила. На третьем круге он предложил еще поговорить, было видно, что он предпочитает ее интеллектуальный уровень. Они уселись на козетку, прямо на сквозняке, которым тянуло с веранды, и Порция даже упрекнула себя в том, что считала Сесила недостаточно мужественным. Сесил умолк, и взгляд его стал свирепым.
– К нам идет этот Берсли из стрелковой школы. Кажется, он думает, будто ему тут все позволено. Мне кажется, что Дикки о нем не очень высокого мнения. Пусть видит, что мы увлечены беседой.
Порция послушно уставилась на Сесила во все глаза, но мистер Берсли все равно плюхнулся рядом с ней на козетку.
– Не помешаю? – спросил он, впрочем без особого беспокойства.
– Это уж вам виднее, – пробормотал Сесил.
Мистер Берсли бойко отозвался:
– Что вы сказали? Не расслышал.
– Сказал, что пойду за сигаретами.
– И какая это муха его укусила? – спросил мистер Берсли. – Кстати, нас с вами друг другу представили, но вы, по-моему, ничего не услышали, вы и смотрели в другую сторону. Едва вы впорхнули в комнату, как я сразу спросил Дафну, кто вы такая, но она не слишком-то горела желанием нас знакомить. Тогда я попросил старую леди замолвить за меня словечко, но из-за шума ее не было слышно. А вечеринка-то совсем недурственная, а?
– Да, совсем.
– И вам весело?
– Да, очень, благодарю вас.
– Оно и видно, – сказал мистер Берсли. – Глаза как звезды и так далее. Послушайте, а не желаете ли вы улизнуть вместе со мной в так называемый бар? Там все безалкогольное, у них нет лицензии. Одна птичка мне напела, что тут, мол, так везде, поэтому я еще до прихода сюда опрокинул рюмку-другую.
Это более-менее бросалось в глаза. Порция ответила, что предпочла бы остаться здесь.
– Ясненько! – отозвался мистер Берсли. Развалившись на козетке, он сполз вниз, хорошенько вытянул ноги в коричневых ботинках. – Вы тут впервые?
– Я приехала в четверг.
– Знакомитесь с аборигенами?
– Да.
– Я тоже поживаю недурно. Но нас, конечно, сложно вытащить из Саутстона.
– Кого это – нас?
– Нас, разгульную солдатню. Скажите-ка, а лет вам сколько?
– Шестнадцать.
– Божечки! А я думал – десять. Вам ведь говорили, что вы славная крошка?
Порция подумала об Эдди.
– Не совсем, – ответила она.
– Тогда я вам скажу. Дядюшка Питер так вам и говорит. Вы уж не забудьте, что вам сказал дядюшка Питер. Честное слово, вы только показались за этой дверкой, а я уж хотел разрыдаться и поведать вам всю свою пропащую жизнь. Наверное, вы со всеми парнями так поступаете?
Порция с несчастным видом просунула палец под ленту на волосах. Мистер Берсли накренился, закинул руку на спинку козетки. Его чисто выбритое, отечное от эмоций лицо приблизилось к лицу Порции, она против своей воли поглядела – не в, а на его глаза, которые были похожи на голубые, нахрапистые яйца-пашот. Ее перепуганный взгляд не выдерживал столкновения с его полнейшим к этому пренебрежением.
– Нет, вы скажите, – сказал мистер Берсли, – что вам все-таки будет жаль, если я умру.
– Ну да. Но зачем вам умирать?
– Кто знает.
– Наверное… Да.
– Вы и впрямь славная крошка…
– Порция, – сказала миссис Геккомб, – это мистер Паркер, они с Дикки большие друзья. Мистер Паркер желает с тобой потанцевать.
Порция вскинула голову и увидела, что возле козетки собралась своего рода спасательная экспедиция во главе с миссис Геккомб. Она с трудом встала, и мистер Паркер с понимающей улыбкой моментально оттанцевал ее подальше. Покачиваясь под мышкой у мистера Паркера, не попадая в ритм, Порция обернулась и увидела, как Дафна с каменным, не предвещающим добра лицом уселась на козетку рядом с мистером Берсли.
4
Слушая проповедь в церкви, Порция впервые спросила себя, отчего это беседа с мистером Берсли оказала на нее столь удручающее воздействие, что она избегала даже думать об этом. Было в его словах что-то, чего ей не хотелось замечать – не потому ли она с самой вчерашней вечеринки еще ни разу не вспомнила об Эдди? Становится не по себе, когда понимаешь, что окарикатуренные черты любимого человека могут совершенно случайно проявиться у того, кто с ним совсем не знаком. Сам черт, наверное, дернул мистера Берсли спросить – да еще так уверенно, – не говорил ли ей кто, что она славная крошка. И самое ужасное – теперь она не могла вспомнить, чтобы Эдди называл ее как-то иначе. Сгорбившись, сидела она возле миссис Геккомб, разглядывала швы на своих кофейного цвета перчатках – подражая миссис Геккомб, она не стала их снимать и положила руки на колени, крест-накрест, – и размышляла, может ли чувство зародиться в сердце, может ли оно полностью завладеть человеком, не будучи при этом единственным в своем роде. (Но будь любовь единственным в своем роде чувством, уникальным изобретением двух уникальных сердец, ей бы не придавали столько значения, она не казалась бы всеобщим законом. Порыв, которому мы охотнее всего поддаемся в жизни, это всего лишь порыв испытать то, что уже испытали другие, – то, чего сами мы не придумывали.)
Не скрывалось ли за мутным лицом мистера Берсли, за этими нарисованными нетрезвостью чертами чувство, которое и побудило Эдди написать ей то, самое первое письмо? Теперь за шумом и гамом вечеринки затаился страх, что счастье, подаренное ей Эдди, можно свести к одному-единственному пьяному выкрику. Этот страх преследовал ее во сне, который теперь не спешил приходить, и перекатывался в ней, когда она бодрствовала, как, бывает, волны перекатывают прибрежную гальку в жутковатой утренней тишине.
Все внезапно стало донельзя хрупким.
Наступает время, когда вдруг очень страшно понимать, что в мире кроме тебя есть и другие люди – по меньшей мере, кроме тебя и еще одного-единственного человека. Телефонный звонок, вторгающийся в твои грезы, становится чуть ли не жестокой нападкой. Нежная доброта, которую люди – особенно молодые люди – испытывают к миру, происходит от снисходительного ощущения его нереальности. Счастливая, бездеятельная натура, замкнувшись сама в себе, будто зеркало в просторной комнате, отражает все происходящее, но требует, чтобы к ней не приближались. Словно с жизнью у них договор, договор о ненападении – но договор этот соблюдается не всегда: какое-нибудь уличное происшествие, подслушанная ссора, проскользнувшие в голосе нотки, замаячившее слишком близко лицо, поваленное ураганом дерево, чья-то несправедливая участь, – и все, мир разваливается на куски. Жизнь объявляет войну столь желанному уединению. И когда в него вторгается хаос, внезапно все становится реальным – кроме, пожалуй что, любви. Но любовь, любовь после этого воспринимается гораздо острее: ценой этого чувства становятся все опасности, все страдания человеческие. Возлюбленный становится живой фигурой на носу всего корабля человеков, которую на милость безжалостной стихии вытолкнул вперед весь теснящийся за ней род людской. А потому имейте снисхождение к эгоизму влюбленных: он короток, он – несбыточная надежда, он невозможен.
Лихорадочные улыбки на вечеринках, увертюры, за которыми таится отчаяние, зловонная топь разговора с растерявшимся занудой, обходные пути – сквозь взгляды, рукопожатия, поцелуи, – все это свидетельства того, что человеку не удается жить в одиночестве. Какое там уединение, мы по большому счету даже компанию не всегда вольны себе выбирать. И возможно, дом на Виндзор-террас и казался таким невыносимым, таким холодным тем, кто пытался этому хоть как-то противостоять. Такой ошибочный подход к жизни – а то, что он ошибочный, временами понимали все, от Томаса Квейна до кухарки, – порождал обиды и противоречия, свойственные разве что безнадежным романтическим отношениям. У каждого жителя дома на Виндзор-террас внутри колом стоял пусть и еле ощутимый, но навязчивый страх. Телефонный звонок или звонок в дверь, приход почтальона предвещали недоброе – хоть и не сию минуту. Едва гость из внешнего мира переступал пружинивший под ногами дверной коврик, как с ним случалась разительная перемена. Сказать по правде, жизнь в доме Квейнов что-то сдерживало, и по тому, как тут себя вели люди вроде Эдди, действие какого-то тормоза, каких-то рамок было особенно заметно. И в то же время никто словно бы толком и не понимал, чего здесь недостает, чем жизненно важным они поступились. И если Матчетт здесь побаивались, если она чем и угрожала дому, то тем, что она единственная могла отыскать ответ на этот вопрос.
Жизнь в «Вайкики» ничто не сдерживало, и оттого все здесь вели себя напористо и искренне. Здесь соблюдали разве что самые невинные приличия – благодаря чему Дафна орала, но не сквернословила, Дикки был суров, но скромен, и даже рука мистера Берсли вчера вечером все-таки остановилась в нескольких дюймах от бантика на заду у Дафны. Приличия не слишком-то сдерживают природу – природа, сказать по правде, в их стенах только крепнет, – а потому люди тут без конца таращились, краснели и бледнели, повинуясь любому примитивнейшему порыву. После Виндзор-террас Порция увидела в «Вайкики» честную грубость первобытных людей, а не тех, кто лучше скроет пустоту внутри. Сотрясавшие дом хлопавшие двери, спешный топот ног по лестнице и шум канализации, щедрость миссис Геккомб в обхождении с полукронами и шиллингами, множественные чувственные приметы того, что Дорис была человеком и не существовала в вакууме, превращали «Вайкики» в стихийный источник жизни. Здесь жили, казалось, под высочайшим напряжением, и Порция глазела на Дафну с Дикки примерно так же, как могла бы глазеть, скажем, на динамо-машины. По ночам она думала, какую же мощность приходится выдерживать кроватям в соседних спальнях.
Теперь, с позиций этой свободной жизни, она видела – а точнее, увидела – не только тех, с кем она познакомилась в «Вайкики», но и вообще всех, кого знала. Несколько замеченных ею здесь крупных фигур и представляли – с пугающей точностью – все знакомое ей общество, и отрицать этого сходства она никак не могла. За ними-то ей приходилось подмечать каждое желание, каждое побуждение – ведь как желаний, так и побуждений у нас вообще пугающе мало. Ее любовь по-прежнему надеялась вытеснить все воспоминания о том, что Эдди может быть в чем-то похож на мистера Берсли. И все равно что-то ее спрашивало или, скорее, принуждало ее спросить себя, а не Эдди ли сидел с ней вчера вечером на козетке?
Порция нащупала шестипенсовик для пожертвований, засунутый под правую перчатку. Она сжала кулак, и легкое почесывание, рифленые края новенькой монетки напомнили ей о том, где она, – в церкви городка Сил, среди закаленных пожилых прихожан в коричневой, серой, синей или лиловой одежде с недорогими меховыми воротниками. Плавкое солнце косилось в южные окна, обводило меха нимбами из пылинок, оставляло на щеках отпечатки витражных ромбов. Слегка обернувшись, Порция заметила людей, к которым они ходили на чай. Над сплоченной паствой вздымалась церковь во всю свою добрую, неисповедимую высоту. Задрав голову, она разглядывала восточное окно и его сверкающую историю; она не сразу вслушалась в исповедь и только сейчас начинала понимать, о чем идет речь – Пасха уже прошла, но это не значит, что нужно снова проявлять скупость, свойственную людям в дни поста.
Хор, обдуваемый потоками воздуха из органа, скрылся в ризнице под башенкой. Когда процессия проходила мимо миссис Геккомб, та несколько раз оценивающе взглянула на подризники. «Чистоль» и ревностный труд ее товарок придали крестообразной процессии белое сияние. Отзвучали последние аккорды, ряды обменялись еле заметными улыбками, и прихожане радостной гурьбой высыпали на улицу. Миссис Геккомб обожала поговорить после службы, а потому они с Порцией спускались с холма в окружении порядочной толпы друзей. Дафна и Дикки в церкви появлялись редко, по воскресеньям, после вечеринки, они всегда голосовали против того, чтобы куда-то идти. Салон «Вайкики», где снова навели порядок, был весь залит солнцем, Дафна и Дикки читали воскресные газеты под крепкий аромат жарящегося мяса. Без двадцати минут девять, когда миссис Геккомб и Порция отправились в церковь, они еще даже не спустились к завтраку. Снаружи в ощутимо прохладном воздухе метались чайки, и миссис Геккомб поспешно захлопнула стеклянную дверь.
– Привет, – сказал Дикки Порции, – ну что, как самочувствие?
– Все хорошо, спасибо.
– Ну, все закончилось, и слава богу, – ответил Дикки и снова уткнулся в «Сандэй Пикториал».
Дафна расхаживала по дому в красных туфлях на каблуках и без задников.
– Господи боже, – сказала она. – Сесил такой слюнтяй! Сначала вот так вот рано пришел, потом вот так вот торчал допоздна. И как у него только духу хватило, я не понимаю… Кстати, Клара забыла свою перламутровую сумочку.
Миссис Геккомб, поправив парочку безделушек, сказала:
– Какой замечательный вы тут навели порядок.
– Везде, кроме книжного шкафа, – с нажимом сказал Дикки.
– А что с книжным шкафом, дорогой?
– Чтобы навести там порядок, нам понадобится стекольщик. Солдафон Дафны разбил локтем стекло – ты бы и сама заметила, мамуля, если бы пригляделась повнимательнее. И я что-то не слышал, чтобы он предлагал оплатить счет.
– Ох, дорогой, вряд ли мы можем его об этом просить… Вечеринка ведь, кажется, удалась на славу.
Дафна подала голос из-за разворота «Сандэй Экспресс»:
– Да, ничего так. – И, повысив голос, добавила: – Некоторые люди чихать хотели на собственных друзей, зато перед чужими только и делают, что задирают нос. Уоллес Паркер ужасно грубо всех расталкивал, вот и толкнул мистера Берсли прямо на книжный шкаф. Хорошо еще, что он не поранился. Не хочу, чтобы он думал, будто у нас тут какой-то вертеп.
– Как по мне, – сказал Дикки, – так он ничего и не заметил. Так бы и торчал из шкафа, если б Чарли Холстер его не вытащил. Он уже пришел, порядком набравшись, мне сказали, что он успел забежать на променад и пропустить пару-тройку стаканчиков в «Империал Армз». Интересно, что он разобьет, когда его занесет к нам в следующий раз. Не скажу, в общем, что мне он понравился. Но, похоже, я ничего не понимаю в людях.
– Зато он очень понравился Кларе. Поэтому она и забыла сумочку. Она вызвалась подвезти его домой и не вернулась.
– Это мы уже слышали. Что ж, если это сумка Клары, то мне она не нравится: такое впечатление, что она вся покрыта муравьиными яйцами.
– Вот и скажи ей об этом.
– Вот и скажу. Сегодня же и скажу. Мы с Кларой договорились поиграть в гольф.
– Дикки, какой же ты свинтус! И ты молчал! Мы ведь хотели играть в бадминтон с Ивлин, она всех нас ждет.
– Боюсь, тут ничего не поделаешь, пусть ждет меня и дальше. Клара заедет за мной в половине третьего. Может, мы заскочим к чаю, а может, поедем к ней… Кстати, мамуля, можно попросить Дорис, чтобы она не затягивала с обедом?
– Она как раз собирается накрывать на стол, милый. Можно я уберу твою газету? Дафна, а ты чем займешься после обеда?
– Ну вообще-то мы все хотели немного прогуляться. А потом идти к Ивлин, играть в бадминтон. Хочешь, чтобы я взяла с нами Порцию?
– Это было бы превосходно, деточка. Порция, ты ведь не против, нет? А я тогда немножко вздремну. Вечеринка, конечно, удалась, но разошлись мы слишком поздно.
Все собравшиеся на прогулку – Дафна, Порция, Ивлин (та самая красотка в оранжевом), Сесил (которого, похоже, никто не звал) и еще двое молодых людей, Чарли и Уоллес, – медленно брели по насыпи в сторону Саутстона. Все юноши были одеты в брюки-гольф, пуловеры, фетровые шляпы с идеально ровной вмятинкой посередине и высокие носки с выпуклыми полосками, отчего икры у них выглядели просто массивными. Дафна и Ивлин были в беретах, платках с рисунком в виде собачьих морд и фасонистых клетчатых пальто. Ивлин взяла на прогулку свою собаку.
На насыпи, как всегда, не было ни души, внизу, между волнорезами, трепетало сверкающее море, которое сегодня было макрелево-сизого цвета. Время от времени какую-нибудь примостившуюся на дальнем столбике чайку смывало волной, и она с преглупым видом покачивалась на воде. Пахло тоже волнорезами – просоленной древесиной, склизкими зелеными досками, в которые вгрызался прилив. Необъятное весеннее небо протянулось дугой от лесов до самого морского горизонта. В одном месте насыпь вздымалась, образуя что-то вроде высоких мостков между водой и сушей, здесь к запаху моря примешивалось дыхание земли – с огородов, с пролесков в расщелинах меловых холмов, с кустиков дрока, росших наверху, в хребтистой темноте, где на поле для гольфа играли Дикки с Кларой. Гребни двух невидимых воздушных волн – с моря и с суши – сшибались над асфальтом, нервно вскидывались, затягивая и тебя во внутренний круговорот синей белизны тихого и волнительного дня.
Друзья Дафны шли решительным воскресным шагом, безотчетно дыша во все легкие. Они знали каждый дюйм насыпи, они глядели только в сторону Саутстона, где горел золотом купол «Сплендиде». Им казалось, что в этой прозрачной пустоте они все как на ладони, и потому друг с другом они себя вели разом и уклончиво, и нахально. Шагали они бок о бок, стараясь держаться друг от друга как можно дальше, но иногда все равно сталкиваясь локтями; стоило им разбиться на пары, как одна пара тотчас же начинала перекрикиваться с другой – посреди бела дня и речи не могло быть ни о каком tкte-а-tкte. Пройдя мили полторы, возле старой лодочной станции они, не говоря ни слова, развернулись и двинулись обратно. Девушки держались вместе, молодые люди шагали строго позади. Теперь они двигались на запад.
С первым прикосновением вечера, с первой его вспышкой их всех охватило смутное поэтическое чувство. Прекратилась обрывочная беседа, все зевали, хватая ртами кислород. Ивлин взяла Дафну за руку, Сесил отошел к самому краю насыпи и шагал, поддевая носком ботинка одинокий камешек. На Ла-Манше показалась прелестная бригантина, вся розовая от света.
Порция глубоко вздохнула и вдруг спросила Дафну:
– Один мой друг… можно ему приехать и пожить здесь?
Она выпалила это безо всякой подготовки, но так вышло даже лучше. Дафна – руки в карманах, подбородок в складках «собачьего» шарфа – задумчиво обернулась, Ивлин, державшая ее за руку, выглядывала у нее из-за плеча.
– Что-что? – переспросила Дафна. – Друг – в смысле ухажер?
Ивлин сказала:
– Так вот чего она такая задумчивая.
– И что там ему можно? – спросила Дафна.
– Приехать и здесь пожить.
– Приехать и пожить – когда?
– На выходные.
– Ну, если это твой ухажер, почему бы и нет? Ты вот, Ивлин, можешь сказать, почему нет?
– Я бы сказала, тут есть нюансы.
– Конечно, тут есть нюансы. Он и вправду твой ухажер?
– Подумать только, это у нее-то, – вклинилась Ивлин. – И все равно, почему бы и нет.
Дафна быстро спросила:
– Он друг твоей невестки?
– Ну да. Она, он, они…
– Тогда для нас он слишком комильфотный, – что, разве не так? Впрочем, – добавила Дафна, глядя на Порцию хоть и презрительно, но с некоторой долей уважения, – если уж он так сюда рвется, то потерпит, ничего страшного. А ты, надо же, времени не теряешь. Конечно, тебе нужно будет все утрясти с мамулей… Да брось, ну что ты как дурочка. Ничего она не подумает, она к мальчикам привыкла.
Но эти мальчики не были Эдди. Порция помолчала, потом сказала:
– Я думала, что спрошу тебя, а ты, может быть, спросишь ее.
– И чем твой друг занимается? – опять вклинилась Ивлин. – Он, наверное, в дипломатическом корпусе?
– Кто в дипломатическом корпусе? – спросил подошедший к ним Чарли.
– Дружок Порции, который к нам приезжает.
– Нет, совсем нет, он работает в конторе у моего брата.
– Ах, вот оно как, – сказала Ивлин, переваривая эту информацию.
Сама она работала регистраторшей в самом большом салоне красоты Саутстона, и что бы там Дикки ни думал о ее лице, оно все равно сияло, как муляж сочного персика. Ее отцом был мистер Банстейбл, крупный жилищный агент, – он заведовал сдачей на лето не одного «Вайкики», к нему обращались клиенты со всего графства. Ивлин поэтому не только была столпом общества, но и имела стабильную работу – следовательно, никак не могла разделить предубеждение Дафны против Квейнов. Деловые люди – они и есть деловые люди.
Она сказала, уже добрее:
– Ну тогда он молодец, что к тебе приклеился.
– Твою невестку, – с заметным удовольствием сказала Дафна, – наверное, удар хватит.
Ивлин спросила:
– С чего бы это?
– Слушай, Сесил, – крикнула Дафна, резко обернувшись к нему, – ты так и будешь пинать этот дурацкий камень?
– Прости, прости, я задумался.
– Знаешь, если ты хотел поразмышлять, зачем тогда идти гулять? Можно подумать, мы с похорон возвращаемся… Слушай, Уоллес, эй, слушай, Чарли, Порция про вас, мальчики, и думать не думает! У нее есть кавалер, который к ней приезжает.
– Местные таланты, – отозвался Уоллес, – тут не представлены. Ох уж эти лондонские штучки – что с них возьмешь.
– Странно, правда, – сказала Дафна, – зачем желать большего, когда можно просто смотреть, как Сесил пинает камень.
– Ой, это не то, что вы подумали. – Порция встревоженно смотрела на них. – Совсем не то, честное слово.
– В общем, ничего такого, приезжает – и пусть, – поставила Ивлин точку в разговоре.
Она подошла к ведущим вниз ступеням и свистнула собаке, которая убежала на берег и извалялась в чем-то омерзительном.
Все ждали Ивлин. Остановка отозвалась во всей компании легкой дрожью – так, один за другим, вздрагивают вагоны подъезжающего к станции поезда. Поездом они были скорее товарным, чем пассажирским, – они стояли чередой груженых вагонеток, важно уставившись в сторону пути, которым они скоро проследуют. Над неблизким еще, увенчанным церковью Силом таял в лучах незрелого весеннего солнца легкий дымок. Дымка эта истончала дома на взгорье и окружавшие их сады; холм, проступавший из-за балкончиков и фронтонов, окрасился в гиацинтово-синие тона и казался форпостом какой-то сказочной страны. Порция поглядела на остальных и осталась довольна: об Эдди все уже позабыли. Они не просто больше не думали об Эдди, они не думали вообще ни о чем.
Приятелей Дафны она теперь боялась гораздо меньше, потому что научилась справляться с их суетливостью. В людях нас обычно пугает неутомимая, кипучая деятельность. Но здесь, в Силе, деятельность проявлялась только в движении – отвлеки человека от его занятий, и он заодно отвлечется и от своих мыслей. Достаточно было остановить этих молодых людей, как они останавливались напрочь, будто часы. Поэтому эта их пауза на пути к воскресному чаю не была заполнена ничем, совершенно ничем. Вполне может, они уже улавливали призрачные ароматы горячих пышек с изюмом, шоколадного печенья и нагретых кожаных кресел, доносившиеся из дома Ивлин. Они прогулялись, они возвращаются, они, похоже, провели время с пользой.
Собака Ивлин взбежала по ступенькам обратно, спина у нее была вымазана какой-то гадостью, и пока ее стыдили, она весело, услужливо виляла хвостом. Ей было велено идти рядом, чего она не послушалась, и вся компания, по-прежнему не говоря ни слова, снова пришла в движение.
У Порции было предостаточно времени, чтобы подумать о следующем воскресенье (или это случится в воскресенье через неделю?), пока они были у Ивлин, потому что говорили тут мало, а в бадминтон она не играла. Огромный особняк Банстейблов, выстроенный в начале двадцатых, напоминал фахверковые дома старой Нормандии – темный узловатый дуб и внутри и снаружи. То был лабиринт каморок с витражными окнами толстого зеленоватого стекла, в которых весеннее небо казалось выцветшим. Лестницы тут были как в старинных поместьях, гостиные – до вычурного старомодны. Здесь из медных и латунных дисков на тебя отовсюду глядело собственное перекошенное отражение; здесь были изразцы. До того незаметно перелетело через Ла-Манш нормандское влияние, что почти все жители Сила считали этот стиль британским – просто оставшимся от более веселой эпохи. Столовая была такой солидно-темной, что скоро пришлось зажечь старинные лампы. С матерью Ивлин обращалась хоть и пренебрежительно, но беззлобно, отца дома не было. Сесил выказал желание сесть рядом с Порцией, поэтому его отправили сидеть возле чайника и поддерживать беседу с миссис Банстейбл. Сесил почти сразу уронил четвертушку намазанной маслом пышки себе на брюки, и все оставшееся время старался выглядеть dйgagй[29], тщетно пытаясь оттереть масло салфеткой, смоченной в кипятке.
Допив чай, они перебрались на площадку для бадминтона, крытую стеклянной крышей, здесь вся компания держала свои спортивные туфли, подвесив их за шнурки на рядок крючков. Пока остальные переобувались, Порция взгромоздилась на высокий стул у батареи. Она уперлась каблуками в самую верхнюю перекладину стула и почувствовала себя птичкой. Она воображала себе, как в следующее воскресенье Эдди будет во всем этом участвовать. Или, может, когда придет этот день, им захочется побыть у моря – не гулять по насыпи, а дойти до башен мартелло и глядеть, как в сумерках волны взбегают на гладкий песок? Ненадолго, конечно – им с Эдди ни за что нельзя пропускать воскресное веселье. Они с ним еще не были в обществе. От одного упоминания его имени там, на берегу, друзья Дафны зауважали ее чуть заметнее – впрочем, с тех пор они уже успели позабыть, почему, и ей чудилось, что и относиться к ней они стали чуть теплее. А что, если ей захочется сойтись с ними поближе? Кто поможет ей в этом лучше Эдди? Как быстро растает между ними лед, как она будет им гордиться! В желании представить возлюбленного обществу есть что-то первобытное, в желании показать всем, что ты любима, кроется часть самоуважения. И тогда им с Эдди будет над чем посмеяться, она из другого конца комнаты заметит, как он старается ей не подмигнуть. У одного человека точка зрения всегда будет неполной – когда ты одна, трудно разобрать, что смешно, а что нет. Чем любовь безусловно хороша, так это удовольствием, с которым влюбленные сверяют свои впечатления от произошедшего. Порции казалось, что с их последней встречи она ни разу еще не смеялась – улыбаться она, разумеется, улыбалась, но чаще чтобы сделать людям приятное. Нет, не стоит им бродить у моря.
Сесил, которого не взяли играть первую партию, бочком обошел площадку и пристроился рядом с Порцией, уперся ногой в нижнюю перекладину стула, и тот завибрировал от его вздохов. Все раздумья пришлось отложить. Где-то в гостиной, в дальнем конце коридора, мать Ивлин включила «Радио Люксембург»[30], музыка добавила игре – скачущим, скользящим игрокам, хлопкам воланчика – бойкого ритма, который нравился Порции, но еще сильнее вгонял в меланхолию Сесила.
– Мне что-то нет дела до весны, – сказал он. – Весной я вечно чувствую себя немного жалким.
– Ты совсем не выглядишь жалким, Сесил.
– Еще как выгляжу, я же весь в масле, – ответил Сесил, печально дергая себя за штанину. И добавил: – О чем ты сейчас думала?
– Я сейчас не думаю.
– Но раньше-то думала, да? Я видел. Будь я поразвязнее, то предложил бы тебе поделиться своими мыслями со мной и так далее.
– Я думала, каким будет следующее воскресенье.
– Таким же, как и всегда, наверное. Впрочем, в это время уже хочется чего-то нового.
– Но для меня тут все и так новое.
– Разумеется, приятно думать, что хоть кому-то у нас все в новинку. Твоему другу, наверное, тут тоже все будет в новинку. Знаешь, забавно, а когда я впервые тебя увидел у Дафны на вечеринке, казалось, будто у тебя в целом мире ни единого друга нет. Это, признаюсь, меня в тебе и привлекло. Но, похоже, я насчет тебя ошибся. А ты правда сирота?
– Правда, – суховато ответила Порция. – А ты?
– Нет, сейчас нет, но когда-нибудь, полагаю, все равно придется им стать. Я в последнее время довольно часто размышляю о будущем. Я, видишь ли, настоящий волк-одиночка. Я неплохо схожусь с девушками – до определенного момента, но потом кажусь им слишком загадочным. Мне нелегко давать волю чувствам. Да и большинство девушек, по-моему, совсем не ценят дружбу, им непременно нужно, чтобы за ними приударяли.
– Я люблю дружбу.
– А, – отозвался Сесил и мрачно на нее поглядел. – Ты уж прости, но это, скорее всего, потому что ты еще так молода, что за тобой пока никто не приударял. Как только это начинается, пиши пропало – у девушек голова идет кругом. Но ты пока еще совсем застенчивая. Вчера мне было тебя даже жаль.
Она не знала, что на это ответить. Сесил нагнулся и еще раз оглядел штанину.
– Конечно, – сказал он, – можно отнести их в чистку, но это все стоит денег, а я хотел скататься во Францию.
– Может быть, у твоей мамы получится вывести пятно керосином? Я всегда так отчищаю масло с одежды.
– Правда? – спросил Сесил. – Слушай, я тут подумал, ты не хочешь как-нибудь вечером съездить в Саутстон? Сядешь в автобус в половине шестого, и мы сможем встретиться после работы. Можем сходить на второе отделение концерта в «Павильоне», там, кстати, и перекусить можно; местечко славное, я бы сказал – космополитичное. Если тебе вдруг захочется…
– О да, с удовольствием!
– Тогда мы проведем вечер вместе. Какой именно вечер, договоримся позже.
– Ой, это очень мило с твоей стороны. Спасибо.
– Не за что, – ответил Сесил.
Игра окончилась, Чарли с Дафной разгромили Уоллеса и Ивлин. Ивлин подошла к ним и вытащила Сесила на площадку, сказав, что теперь тот должен поиграть вместо нее.
– Ты точно не хочешь попробовать? – любезно спросила она Порцию. – Ну ладно, я сама все вижу. Вот что я тебе скажу: ты приходи как-нибудь в будни и потренируйся с Кларой. Ей, видишь ли, тоже нужна практика. И тогда в следующий раз ты сможешь с нами сыграть… Господи! – воскликнула вдруг Ивлин. – Нам срочно нужно на воздух! Тут жуткая вентиляция!
Нежно придерживая Порцию за локоть, она провела ее по коридору и распахнула дверь. После ослепительного электрического света на площадке сад казался очень темным, сине-сумеречным; от звука открывшейся двери из кустов вспорхнула встревоженная птица. Сквозь голые, дрожащие на ветру ветки мигали огни города, снизу доносилось фырканье моря. Стоя на пороге, Ивлин и Порция всей грудью вдохнули темный, сладкий, соленый весенний воздух.
5
Порция, крошка, какая же дивная идея! Ну конечно, я ужасно хочу приехать, но смогу ли я отсюда вырваться? Но раз уж меня все ждут, я очень постараюсь. Нет, я вовсе не против спать в чулане. Послушаю, как за стенкой храпит Дикки. Без Томаса в конторе все по-прежнему вверх дном, и если мистеру Раттисбоуну снова не взбредет чего-нибудь в голову, думаю, у меня получится улизнуть. Другое дело, что у меня, похоже, выходные расписаны на три недели вперед. Впрочем, от следующих, кажется, будет проще всего отвертеться – так что уж не бросай меня, когда я наживу себе врагов. Если я приеду, то приеду тем самым утренним поездом, о котором ты говорила. Я точно дам тебе знать в пятницу. Прости-прости, что так поздно.
Надеюсь, что я понравлюсь всем твоим шикарным друзьям. Ах, как я буду робеть. Нет, лапочка, пора мне закругляться – третью ночь подряд поздно ложусь, и я уже просто труп. Стоило тебе уехать, как я совершенно отбился от рук, что лишний раз доказывает, какой ты для меня важный человек. Но мне просто позарез нужно выходить из дому. Ты знаешь, до чего я ненавижу свою комнату.
Получил письмецо от Анны. Похоже, она всем довольна. Ну ладно, я тогда напишу. Надеюсь, что смогу приехать.
От всего сердца,
Эдди
Это довольно мучительное письмо пришло в среду утром, и к этому времени миссис Геккомб уже принялась наводить красоту в чулане. Она весьма безмятежно отнеслась к вероятности такого визита, потому что как-то так вышло, что Эдди ей представили старым другом Томаса и Анны, который просто заедет поглядеть, как тут дела у Порции. Миссис Геккомб это казалось чем-то само собой разумеющимся. А вот с чем она никак не могла смириться, так это с тем, что друг самих Квейнов будет спать в чулане. Дафна и Дикки наотрез отказались меняться с ним местами и каждый вечер зорко следили за тем, чтобы она сама не вздумала уступить ему свою спальню. Чем суровее Дафна говорила, что Эдди не умрет, если поспит в чулане, тем отчетливее проступали на лбу у миссис Геккомб тревожные морщины. Но что ей оставалось – только купить еще рогожки и перенести в чулан свое шератоновское зеркало. Кроме того, она поставила в чулан свою скамеечку для молитвы – на место прикроватной тумбочки, и сделала из красной гофрированной бумаги абажур для лампы. Покрывало она одолжила у матери Сесила. Порция наблюдала за всеми этими приготовлениями с дурным предчувствием, она все больше и больше боялась, что Эдди возьмет и не приедет. Она так и видела, как возможное разочарование вздымается над домом огромной, грозной горой – ведь даже Дафна не осталась равнодушной, даже Дикки запомнил, что к ним едет гость. Напрасно Порция умоляла миссис Геккомб не забывать о том, что планы Эдди на выходные висят буквально на волоске.
Кроме того, ее беспокоило стойкое впечатление, которое сложилось у миссис Геккомб об Эдди: он явно виделся ей кем-то вроде майора Брутта. А вот Дафна все прекрасно понимала и при любом упоминании Эдди поглядывала на Порцию сообразительным поросячьим взглядом. У самой Дафны дела не ладились, потому что мистер Берсли, несмотря на благоприятное начало, не появлялся у нее с той самой субботы, а к Чарли с Уоллесом с их «гражданскими» замашками Дафна теперь относилась слишком презрительно.
Вторую головоломку от майора Брутта доставили в среду утром – той же почтой, что и письмо Эдди, – и Порция, сидя за столиком на веранде, прилежно собирала ее, чтобы успокоить нервы. Головоломка обещала сложиться в картину пышного военного парада. Неделя выдалась солнечной – Порция прилаживала кусочек к кусочку, свет слепил ей глаза, и она резко вскидывала голову, когда над головоломкой мелькала тень чайки. Сгрудившиеся на фоне ультрамаринового неба самолеты вдруг стали один за другим принимать какие-то символические формы, а собирая зрителей, она выискивала в каждом задранном к небу лице надежду или угрозу. Однажды вечером Дикки предложил свою помощь, они перетащили столик под лампу, и Дикки собрал карету скорой помощи, за которую у нее не хватало духу взяться.
Она получила открытку от Анны, коротенькое письмо от Томаса и длинное – от Лилиан, чьи горести показались Порции совсем далекими.
Каждое утро она ходила в город с миссис Геккомб. Миссис Геккомб упросила ее заглянуть к Дафне в библиотеку. Первый визит не предвещал ничего хорошего – наверху, в библиотеке, тепло от батарей вытягивало из книг запах клея; Дафна так и сидела с наморщенным носом. Литературу здесь, во всех смыслах, на дух не переносили. Косые лучи солнца, пыльные, плотные, падали прямо на сердитую кудрявую голову Дафны, в другом конце библиотеки, в полумраке коллега Дафны, ссутулившись за столом, читала книгу. Презрение к чтению как к времяпрепровождению отчетливо выражалось в том, как Дафна вязала, бросала вязание, чтобы отполировать ногти, и снова принималась за него, то и дело раздраженно подтягивая поближе клубок коралловой шерсти. Подергивания коралловой нити никак не сказывались на апатии библиотечного кота – этого грозного мышелова приняли на работу, когда мыши стали осваивать шедевры литературы, но трудился он только по ночам. Когда Порция вошла, в библиотеке не было ни единого подписчика и Дафна, которая и так уже почти скрылась за конторкой, высунулась с вполне понятной недовольной ухмылкой.
– О, привет! – сказала она. – А ты-то что тут делаешь?
– Миссис Геккомб подумала, что тебе будет приятно, если я загляну.
– Заглядывай, конечно, – ответила Дафна.
Она продолжала вязать, упираясь языком то в одну, то в другую щеку. Порция, водя пальцем по конторке, за которой сидела Дафна, огляделась и сказала:
– Сколько тут книг.
– И тут еще не все. Кстати, ты садись.
– Интересно, кто их читает.
– Чего тут думать, – ответила Дафна, – скоро сама увидишь. А твоя невестка любит читать?
– Говорит, что с удовольствием читала бы, будь у нее побольше времени.
– Вообще-то у людей и без того поразительно много времени. Знаешь, тут впору задуматься. А у нее-то, наверное, абонемент? Те, которые с абонементами, вечно столько из себя строят – не успеешь еще книгу выписать, как они уже за ней прибегают. Им кажется, наверное, что тогда они не зря денежки платили. А я всегда говорю, что…
Мисс Скотт предостерегающе кашлянула из дальнего угла – знак того, что пришли подписчики. К столу подошли две дамы и, заискивающе сказав: «Доброе утро», вернули взятые книги. Дафна скатала вязание и хмуро на них посмотрела.
– Какое прелестное утро…
– Очень, – отрезала Дафна.
– А как ваша матушка?
– Ничего, справляется.
Дама, не участвовавшая в разговоре, уже нерешительно топталась возле стола с новыми романами. Ее подруга, кинув алчный взгляд в сторону романов, твердо направилась к полкам с belles lettres[31]. Задирая нос, так чтобы пенсне оказалось под верным углом, она вытащила стопку книг, изучила титульные листы, проглядела иллюстрации и почти все, разочарованно вздыхая, вернула на полку. Неужели она знала, что Дафна терпеть не может, когда люди часами торчат в библиотеке и переставляют книги с места на место?
– Здесь, наверное, есть что-то, что мне понравится? – спросила она. – По обложкам так сразу и не скажешь.
– Мисс Скотт, – жалобно позвала Дафна, – не могли бы вы помочь миссис Адамс?
Сгорая со стыда, миссис Адамс сказала:
– Мне, конечно, надо было бы составить список.
– Да, знаете, многим это помогает.
Миссис Адамс была не восторге от того, что ее перепоручили мисс Скотт, всучившей ей сборник известных эссе, от которого той неловко было отказаться. Она с завистью поглядела на довольную подругу, которая подошла к ней с романом в веселенькой обложке.
– Обязательно прочтите, написано просто прекрасно, – сказала библиотекарша, стервозно поглядывая на бедняжку миссис Адамс, – мисс Скотт, не теряя подобострастной манеры, училась быть задирой под стать Дафне.
Дафна вытащила из ящика библиотечные карточки и уже занесла над ними карандаш, приготовляясь наставить презрительных пометок. Было ясно, что смутовской библиотеке Дафна добавляла – и она знала, что добавляла, – шику, когда всем своим видом показывала, что с трудом выносит местных посетителей. Ее откровенное нежелание что-либо читать ставило в невыгодное положение тех, кто не мог избавиться от этой привычки, и это неравенство всех вполне устраивало. От мисс Скотт было больше проку, но на нее никто внимания не обращал: она, в отличие от Дафны, не была леди, и она не просто любила читать – ей, что еще хуже, за это платили. Кроме того, она не могла похвастаться сногсшибательной внешностью, как у Дафны, – большинство подписчиков сильской библиотеки были уже в возрасте, а возраст вкупе даже с легкой формой интеллекта заставляет людей со снобизмом относиться к чужой внешности. В других библиотеках Дафна вряд ли бы достигла таких высот. Но постоянным посетителям библиотеки, этим списанным со счетов людям, отчего-то казалось, что именно из-за своей свежести и презрительности Дафна выше всякой литературы. То были читатели, которым больше нечего ждать от жизни, и потому они смели разве что заглядывать в книги, чтобы узнать, что еще прошло мимо них. Старикам часто присущ мазохизм, и их обмякшие сердца слегка подрагивали от ее дерзкой, холодной улыбки. Эта жестокость, возможно, была взаимной, ведь в конце концов именно смутовские подписчики своей властью удерживали эту красавицу на цепи. Загляни они к ней под стол, то увидели бы проплешину на ковре, в который она с неутомимой яростью всаживала каблуки. Если стояла хорошая погода, они говорили, как ей тяжело, наверное, сидеть в четырех стенах, а потом забирали свои книжки и ковыляли на улицу, к соленому солнцу.
Порция глядела, как Дафна перебирает карточки в картотечном шкафу, и ее уважение к Дафне росло с каждой минутой. Приглядевшись, она обнаружила, что все авторы на полках расставлены в безупречном алфавитном порядке, что уже свидетельствовало о работе недюжинного ума. Кроме того, Дафна хоть и относилась с отвращением к печатному слову, зато к нарядным переплетам питала заметную слабость: у вверенных ей книжек вид был вполне холеный… Когда миссис Адамс увела подругу, мисс Скотт с многозначительной улыбкой вернулась к своей книге, а Дафна встала и прошлась к окну туда-сюда, обеими руками оправляя юбку на бедрах. Затем, фыркнув, она снова плюхнулась на стул и опять принялась за вязание.
– Есть новости от твоего дружка?
– Пока нет…
– Ну ладно. Приедет он, это уж точно.
В тот же четверг, вечером, как и было условлено, Порция села на автобус до Саутстона и отправилась на встречу с Сесилом. Миссис Геккомб полностью доверяла Сесилу, что, конечно, лишало поездку приятного волнения. Порция приехала немного раньше, и ей пришлось дожидаться Сесила возле конторского здания, из которого тот наконец вышел, сморкаясь. По открытым всем ветрам улочкам с частными гостиницами они дошли до «Павильона» на восточном утесе. Это огромное стеклянное здание в несколько этажей было умело пристроено к утесу, и в него нужно было не входить, а спускаться – как в катакомбы. Ряды застекленных балкончиков нависали над самым морем, которое к тому времени, когда окончился концерт, помутнело до лиловатой дымки. Порция не отличалась хорошим слухом, но заметно выросла в глазах Сесила, сумев распознать мелодию из «Мадам Баттерфляй». Сказать по правде, оркестр играл многое из того, что они с Ирэн украдкой слушали за границей, притаившись возле какого-нибудь дорогого отеля. В половине седьмого капельдинеры закрыли портьерами теперь уже совсем исчезнувший вид. Когда концерт окончился, Сесил и Порция перешли от плюшевых кресел к стеклянному столику, за которым они поужинали пикшей с яйцами-пашот и мороженым с бананом и взбитыми сливками. Зал с рядами столиков был на удивление ярко освещен и почти пуст, заполняла его только величественная тишина. Несомненно, когда-нибудь в другой раз тут будет очень весело. Порция рассеянно слушала содержательную беседу, которую вел с ней Сесил; завтра в это время она уже будет знать, приедет Эдди или нет. Они успели на обратный автобус до Сила, отправлявшийся без четверти девять, и у ворот «Вайкики» Сесил на прощание платонически пожал ей руку.
Время, минувшее от пятничного письма Эдди до его приезда, словно бы сократилось до единого мига. Но сколько бы времени ни оставалось, оно все было пронизано тревогой. Напряжение всей недели хоть и сказывалось на нервах, но следовало при этом заданной мелодии, заданному образцу, теперь же, стоило Порции узнать, что он приезжает, как мелодия оборвалась. Тем, кто живет надеждами, порой тяжело бывает признать, что они исполнились. Надежда – самая опасная форма мечты, и когда мечты сбываются, то сбываются они в реальном мире, разница эта ощущается смутно, но зачастую весьма болезненно. Ожидание – вот чем она должна была наслаждаться с самого утра пятницы, но выяснилось, что ожидание больше не приносит ей того же ничем не омраченного удовольствия, как прежде. Всего какой-нибудь год назад она с трудом могла дождаться обещанной ей радости – проживать оставшееся до нее время было сущей пыткой. Теперь же ей вдруг захотелось, чтобы суббота наступала не так быстро – одной рукой она, сама того не сознавая, отмахивалась от нее. Но радости не было, присутствия духа тоже, зато ей очень хотелось надолго где-нибудь уединиться, чтобы снова обрести и то и другое, что уже говорило о том, как мало в ней осталось детского, и эта утрата – или, скорее, перемена в ее характере – поразила Порцию так же сильно, как если бы перемена эта произошла в ее теле.
Проснувшись в субботу утром, она только через минуту осмелилась открыть глаза. Затем она увидела, что занавески белы от субботнего света – неумолимо по морю, по подоконнику разливался этот чересчур важный день. Тут ей пришло в голову, что Эдди мог прислать второе письмо, сообщить, что все-таки не приедет. Но письма не было.
Позже на улице не столько потемнело, сколько помутнело; линию горизонта заволокло дымкой, да и солнце не сказать чтобы светило. Ближе к делу прекратились всякие разговоры о том, что Эдди приедет утренним поездом, он приедет тем же поездом, что и Порция. Миссис Геккомб хотела вызвать такси, чтобы его встретить, но Порция понимала, что Эдди это выбьет из колеи, а кроме того, за такси ей платить не хотелось, поэтому было решено, что багаж Эдди доставит носильщик. Порция взобралась на холм, чтобы встретить Эдди на станции. Сначала она услышала свисток паровоза где-то в лесу, затем свисток раздался снова, и поезд медленно выполз из-за поворота. Когда Эдди спрыгнул на перрон, они подошли к парапету и поглядели на открывавшийся перед ними вид. А потом стали вместе спускаться с холма. Когда приехала Порция, день был совсем другим, теперь же целая неделя весны заметно подсластила воздух.
Эдди удивился виду с парапета: он и не подозревал, что Сил так далеко от моря.
– Да, до него еще далеко, – радостно сказала она.
– Но я думал, тут раньше был порт.
– Был, но море потом отхлынуло.
– Правда, дружок? Подумать только!
Ухватив Порцию за руку, Эдди дважды – старательно и весело – взмахнул ею, пока они, с божественной скоростью бегущих под уклон людей, спускались с холма. Вдруг он отпустил ее руку и принялся ощупывать карманы.
– Черт, – сказал он, – я забыл отправить письмо.
– Ой. Важное письмо?
– Важно, чтобы его получили сегодня вечером. Это люди, которым я телеграфировал, что не приеду.
– Спасибо, большое тебе спасибо, Эдди, что ты приехал!
Эдди улыбнулся – ослепительно, но натянуто и с заметной тревогой.
– Я столько всего наплел. Поэтому письмо обязательно должно дойти вечером. Ты даже не представляешь, какие люди бывают обидчивые.
– А сейчас нельзя его отправить?
– Штемпель… Хотя меня уже и так все возненавидели. Да и вообще, Лондон отсюда кажется прекрасно далеким. Ну, крошка, где тут ближайший почтовый ящик?
При мысли об этой отчаянной, но простой мере лицо у Эдди сразу прояснилось. Он больше не глядел, нахмурившись, на письмо, а вместо этого, перейдя через дорогу, весело забросил его в почтовый ящик на углу. Глядевшая на него с другой стороны улицы Порция вдруг успела понять, что он к ней вернется, что они вообще-то теперь снова вместе.
Эдди вернулся и сказал:
– Ага, у тебя лента на голове завязана бантиком. И ты до сих пор носишь шерстяные перчатки.
Взяв Порцию за руку, он сжал ее пальцы.
– Какие славные, – заметил он, – будто выводок слабеньких мышат.
Они медленно спускались по петлявшей перед ними дороге. Эдди читал вслух все названия особняков на прибитых к белым воротам табличках – ворота были в зеленых потеках смолы, дома начинались за елями. Моря отсюда видно не было, оглушительная тишина с материка, серая от надвигавшихся сумерек, заполняла дорогу от станции. Сам Сил был скрыт за холмом, только дымок поднимался из-за садовой хвои. Потом они услышали, как где-то в овраге течет ручей. Не удержавшись, Эдди воскликнул:
– Крошка моя, какое тут все нереальное!
– Погоди, ты еще не видел, где мы будем пить чай.
– Но где же он, этот твой «Вайкики»?
– Ох, Эдди, я же тебе говорила – на берегу моря.
– А что миссис Геккомб, радуется моему приезду?
– Да, очень, хотя, должна сказать, ей не много нужно для радости. Но даже Дикки утром за завтраком упомянул, что, наверное, увидится с тобой вечером.
– А Дафна тоже рада?
– Мне кажется, очень. Но она боится, что ты слишком комильфотный. Покажи ей, что ты не такой.
– Я так рад, что приехал, – сказал Эдди и ускорил шаг.
В «Вайкики» поведение миссис Геккомб поначалу оказалось не на уровне. Она дважды взглянула на Эдди и сказала: «Ой…» Потом опомнилась и сказала, что очень рада его видеть. Она нервно обвела рукой чайный столик, не сводя глаз с фигуры Эдди, словно пытаясь попристальнее вглядеться в призрака. Когда они уселись пить чай, миссис Геккомб села спиной к окну и Эдди предстал перед ней в менее обманчивом свете. Стоило ему заговорить, как ее глаза устремлялись к его лбу, к пробору, от которого расходились в стороны его роскошные буйные кудри. Паузы в разговоре возникали сами собой, и тогда Порция буквально слышала, как миссис Геккомб судорожно сдвигает, меняет местами все свои представления об Эдди – будто стулья перед вечеринкой. Угощение было щедрым, но миссис Геккомб до того растерялась, что обносить всех пирожными пришлось Порции. Ей вдруг пришло в голову, что она не знает, кто за них заплатит, и что она, быть может, поступила необдуманно, пригласив Эдди, потому что тем самым ввела «Вайкики» в дополнительные расходы.
Она не знала даже, пришло ли это в голову самой миссис Геккомб. Порция выросла в гостиницах, где счета, куда вписано все «дополнительное», еженедельно поджидают тебя возле лестницы, и поэтому накрепко усвоила, что если кто-нибудь где-нибудь живет, то это чего-нибудь кому-нибудь да стоит, и стоимость эту надо возмещать. Она понимала, что теперь, когда она жила в доме на Виндзор-террас, ела то, чем ее кормили, спала на простынях, которые нужно было стирать, даже когда просто дышала нагретым воздухом, платить за все это приходилось Томасу и Анне. Но, нравилось им это или нет, можно было закрыть глаза на то, что они за нее платят, притворившись, что это все – дело семейное, и Порция приучилась думать об этом с той нечуткостью, которая обычно вырабатывается по отношению к родственникам. Теперь же она могла только надеяться, что они не скупясь платили и за ее проживание в «Вайкики» и что эта сумма покроет и стоимость съеденных Эдди пирожных. Но уверенности в этом у нее не было, и поэтому сама она решила есть поменьше.
У Эдди же во время чаепития было одно преимущество: он до этого совершенно не знал миссис Геккомб. Ему она показалась ужасно застенчивой – только и всего. И потому он решил вести себя с ней искренне, легко и непринужденно, а вести себя легко, искренне и непринужденно он мог, даже стоя на голове. Откуда ему было знать, что его внешность и нечто, его окружавшее – пожалуй, это можно было назвать аурой, – впервые за долгие годы заронили в ее сердце подозрения, нет, не насчет Порции, а насчет Анны. Откуда ему было знать, что теперь у миссис Геккомб в голове роились подозрения насчет Анны и Пиджена, которые она подавляла годами, – подозрения, о которых она с радостью позабыла, выйдя замуж. Убеждение (поселившееся в ней в последний ее год в Ричмонде), что от прытких молодых людей не стоит ждать ничего хорошего, отозвалось печальным тиком в складках ее левой щеки. Боязнь повстречать плебея была самым большим ее страхом с тех пор, как она воцарилась в «Вайкики». Разумеется, нет ничего плохого в том, что этот юноша – друг Порции, раз Порция сказала, что он дружит с Анной. Но как же так вышло, что Анна дружит с ним?.. Порция глядела, как подрагивает ее щека, и гадала, что же случилось.
Эдди же казалось, что он отлично справляется. Ему нравилась миссис Геккомб, и он изо всех сил старался ей угодить. В его поведении не было ни капли лукавства. Он простодушно верил, что слегка вскружил голову миссис Геккомб. Он и впрямь хорошо здесь смотрелся – едва войдя в комнату, он завязал гармоничные отношения со всей ее обстановкой: с синей шенильной портьерой слева от его головы, с буфетом, в который он упирался спинкой стула, с готовым абажуром, который он заметил и расхвалил. Он выглядел здесь так естественно и так идеально сюда вписался, что Порция не могла понять, как это салон «Вайкики» мог вообще существовать до него. А на веранде лежала наполовину собранная головоломка, куда перед его приездом Порция пыталась втиснуть свои надежды и страхи. После чая она поглядела на головоломку свежим взглядом, и она показалась ей осколком другой эпохи. Эдди задорно болтал, задорно балансируя на плиточном бордюре у камина. Даже Дорис на него взглянула, когда просочилась в салон, чтобы убрать со стола.
– До чего же хорошо погреться у настоящего огня, – сказал он. – У меня вот в квартире только газ.
Миссис Геккомб взяла у Дорис скатерть, сложила ее; скатерть по краю была дюймов на восемь обвязана крючком.
– Но у мистера Квейна в конторе, наверное, центральное отопление?
– О да, – ответил Эдди, – там все тип-топ.
– Да, мне тоже говорили, что обстановка там очень элегантная.
– Но самый дивный камин, разумеется, в гостиной у Анны. Вы ведь часто бываете у нее в гостях, верно?
– Да, я заезжаю на Виндзор-террас, когда бываю в Лондоне, – ответила миссис Геккомб, так до конца и не оттаяв. – Очень гостеприимный дом, – добавила она, чтобы некоторые не считали, будто они владеют исключительными правами на его хозяев.
Она включила свет над своим столиком для рукоделия, уселась за него и принялась перебирать кисти. Порция, глядя, как веранду обступают сумерки, сказала:
– Я, наверное, покажу Эдди море.
– Ох, деточка, сколько там того моря ты сейчас увидишь.
– Ну, мы только посмотрим.
И они ушли. Порция спускалась по дорожке, натягивая пальто, но Эдди только обмотал шарф вокруг шеи. Прилив наползал на берег, линия горизонта еле виднелась в темно-сером воздухе. С мелководья доносилось галечное перешептывание – и не тишина даже, а что-то еле приметное у самой границы с тишиной. Ветра не было – так, ощущение холодка за воротником и в волосах. Эдди и Порция стояли на набережной, глядя, как небо и море постепенно стираются из виду. Эдди стоял немного поодаль, словно человек, позволивший себе наконец остаться в полном, свободном от всего одиночестве. Его общительность имела мало отношения к его характеру, который теперь проявился во всей своей угрюмости. Одной Порции дозволено было присутствовать при этой мрачной перемене – перед ней одной ему не нужно было притворяться, что она существует, потому что для него ее больше не существовало. Нежная или дерзкая игра в полувлюбленность со взрослыми людьми становилась подчас слишком изнурительной, слишком утомительной для Эдди. От одной Порции он мог отмахнуться – вот так, в мгновение ока – с усталой простотой. И потому у нее одной было особое право: он позволял ей оставаться с ним рядом по меньшей мере во плоти, когда сам он фактически был не с ней, уходил от нее. Никто не умел быть рядом так ненавязчиво, как она. Он воспринимал ее как стихию (например, воздух) или как некое состояние (темноту) – это они соприкасаются с тобой ровно и легко, когда человеческих прикосновений вынести невозможно. Он мог смотреть сквозь нее, не удостаивая ее ни малейшим взглядом, не чувствуя никакого стыда за пустоту, которая наверняка заметна в его глазах.
Порция, дожидаясь Эдди, – ей уже не впервые приходилось вот так его дожидаться – медленно вертела кулаками в карманах и огорчалась, что ему именно сейчас понадобилось отлучиться. Этот осенний миг, какой случается в каждом сезоне, и темное море с мелкими закорючками пены расширяли ее одиночество до бесконечности, даже несмотря на то, что она была к этому готова. И тут разом свет с середины Ла-Манша заметался по морю, выхватывая то прогалины, то глянцевые волны. Теперь маяк так и будет вспыхивать всю ночь. Свет, будто кончиком пальца, мазнул по лицу Эдди – и минуту спустя на набережной разом зажглись все фонари. Обернувшись, она увидела на стене пансиона тени от тамарисковых кустов.
– Сколько света! – воскликнул Эдди, тоже просветлев. – Ну вот, теперь это уже больше похоже на морской курорт. А пирс у них тут есть?
– Знаешь, нет. Но он есть в Саутстоне.
– Давай спустимся к морю.
Галька захрустела у них под ногами.
– Ну так что, значит, тебе здесь хорошо? – спросил Эдди.
– Понимаешь, я к такому больше привыкла. Дома у Анны я никогда не знаю, что произойдет дальше, а тут – даже если и не знаю, то меня это не очень беспокоит. В каком-то смысле у Анны дома ничего и не происходит, ну, может, и происходит, только я об этом не знаю. Но здесь я сразу понимаю, что люди чувствуют.
– Интересно, а я? – задумался Эдди. – Я догадываюсь о том, что люди чувствуют, и это уже само по себе отвратительно. Интересно, окажется ли правда лучше или гораздо хуже? Правда – в смысле насчет того, что чувствуют другие. О своих-то чувствах я все уж слишком хорошо знаю.
– И я.
– Знаешь все о моих чувствах?
– Да, Эдди.
– Теперь я чувствую себя виноватым.
– Отчего же?
– Ну, ты ведь даже не представляешь, как я, бывает, себя веду, а я сначала что-нибудь сделаю и только потом понимаю, что именно чувствую.
– Получается, ты не знаешь, что ты можешь почувствовать?
– Нет, крошка, понятия не имею. Это все совершенно непредсказуемо. Вот что самое плохое. Тебе стоило бы меня бояться.
– Но я только тебя и не боюсь.
– Погоди-ка… черт! Камешек попал в ботинок.
– Мне тоже, если честно.
– Так чего же ты молчала, глупышка? Зачем было мучиться?
Они уселись на бугорок и оба стянули ботинки. Их вдруг окатило светом от маяка, и Порция сказала:
– Смотри, у тебя на носке дырка.
– Да. Этот маяк – словно Божье око.
– Но ты правда считаешь, что тебя нужно бояться?
– Что за оскорбительные вопросы. Ты хочешь сказать, что я слишком много о себе понимаю. Но, по-моему, даже то, что я – это на самом деле я, – всего лишь романтическое допущение. Может, это и вульгарно – думать, будто я что-то из себя представляю, но куда хуже думать, будто я не представляю из себя ничего. Конечно, у всех у нас много общего, но все это общее просто ужасно. Я и в себе-то самом почти все ненавижу, как же я могу терпимо относиться к другим людям? Может, пойдем, дружок? Мы прекрасно тут с тобой сидим, но эти камешки впиваются мне в зад.
– И в мой тоже, если честно.
– Терпеть не могу, когда ты такая вся из себя славная… Хорошо тут с тобой, но мне что-то все равно невесело.
– Значит, эта неделя в Лондоне у тебя не задалась?
– Хм, ну… В неделю Томас платит мне пять фунтов.
– Боже!
– Да, вот она, цена за фунт мозга… Опять чуть не загнал камень в ботинок, давай-ка вернемся на променад. А кто живет на набережной?
– Никто, это пансионы. Три дома сдаются внаем.
Они вскарабкались на набережную, развернулись и отправились обратно в «Вайкики».
– И все-таки, – сказала Порция, – правда ведь, миссис Геккомб очень милая?
Мигом воспрянув духом, Эдди спикировал к Дафне и Дикки, которые возле камина слушали радио. Они с сомнением его оглядели. Он обменялся крепким мужским рукопожатием с Дикки и дерзким взглядом – с Дафной. Тут к ним спустилась миссис Геккомб, и Дафна сразу перешла к прежней тактике и свои отточенные реплики адресовала только ей. Перекрикивая надрывавшееся радио, миссис Геккомб и Дафна договорились, что ужин надо подавать пораньше, так как некоторые из присутствующих потом собирались пойти в кино.
– И там мы встречаемся с Кларой! – взревела Дафна.
Дикки и ухом не повел.
– Клара тоже идет, говорю! Встречаемся там!
Дикки холодно взглянул на нее поверх «Ивнинг Стэндард» и ответил:
– Впервые об этом слышу.
– Вот и не идиотничай. Клара, наверное, за нас заплатит.
Дикки фыркнул и, нагнувшись, принялся чесать лодыжку так, будто это было самым безотлагательным делом. С минуту казалось, будто глаза Дафны провалились куда-то вглубь ее головы – до того их заволокло напряженными размышлениями. Потом она спросила Порцию:
– Ты и твой друг пойдете? – и бросила полный безразличия взгляд в зеркало над ухом Эдди.
– Пойдем, Эдди? – привстав на колени, спросила сидевшая на диване Порция.
И Эдди сразу обрушил на нее этот свой пронзительнейший быстрый взгляд. Он по-прежнему подчеркнуто не смотрел на Дафну, и его лицо осветила безмятежная недобрая улыбка.
– Если нас и впрямь приглашают, – прокричал он в ответ, – то это просто божественно.
– Мы не помешаем, Дафна?
– А, да мне-то все равно. Как хотите.
Поэтому сразу после ужина они отправились в кино. По дороге зашли за Уоллесом, и все пятеро, выстроившись рядком, зашагали по асфальтовой дорожке, ведущей в город. На аллее было темно, огни мерцали впереди. Шумно стуча каблуками, они прошли по пешеходному мостику через канал, который выдыхал струйки пара. За еловым леском «Синема Гротто» переливалась созвездиями золотого, красного, синего. Клара, в норковой шубке и с жертвенным выражением на лице, ждала их под пальмой в фойе. Возле кассы образовалась вежливая сутолока: Дикки, Уоллес и – правда, не так убедительно – Эдди пытались сделать вид, что заплатят за всех. Но тут из-под локтя Дикки высунулась Клара и купила всем билеты, на что все и рассчитывали. Друг за другом они пробрались по темному ряду и уселись в следующем порядке: Клара, Дикки, Порция, Эдди, Дафна, Уоллес. На экране шел комедийный скетч.
Пока шла программа, Дикки был гораздо обходительнее с Порцией, чем с Кларой, выражалось это в том, что он облокотился на ручку кресла со стороны Порции и не облокотился на ручку кресла со стороны Клары. Он шумно дышал. Клара, дождавшись запинки в скетче, спросила, хорошо ли Дикки поиграл в хоккей. Когда бедняжка Клара уронила свою расшитую бисером сумочку, вместе с деньгами и всем прочим, поднимать ее тоже пришлось ей самой. Порция сидела, не сводя глаз с экрана, – раз-другой, когда Эдди менял положение, он задевал ее колено своим. Тогда она взглядывала на него и видела, как у него в глазах отражается свет от экрана. Он сидел, подавшись вперед, будто находился в тесном сговоре с самим собою. За Эдди виднелся идеально вздернутый профиль Дафны, а за Дафной – полуобморочно зевал Уоллес.
Закончился киножурнал, началась картина. Тут оживились все, даже юноши. Что-то отвлекло внимание Порции от экрана – какая-то настороженность рядом с дальним коленом Эдди. Она затаила дыхание – и не услышала дыхания Эдди.
Почему Эдди не дышал? Что могло случиться? В их рядке из шестерых человек чувствовалось напряженное присутствие чего-то лишнего. Пытаясь понять, что происходит, она повернулась к Эдди, но тот сразу откликнулся на ее взгляд широкой, ничего не выражающей улыбкой, сверкнувшей на фоне экрана. Эту улыбку она перехватила у кого-то другого. Рука Эдди вяло свисала с подлокотника ее кресла, между пальцев была зажата сигарета, второй руки она не увидела. Вжавшись в кресло, она умоляюще уставилась на экран, уговаривая себя не отворачиваться, ни о чем не думать.
Экран угрожающе переполнился людьми, кажется, назревала буря; вежливо охнула Клара. Дикки, неуязвимый к происходящему на экране, привстал и вытащил из кармана портсигар. Равнодушно следя за картиной, он вытянул сигарету, сунул ее в рот, сжал зубами. Защелкал зажигалкой. Прикурив, он любезно повернулся к соседям – не нужно ли кому-нибудь огоньку.
Дрожащий огонек зажигалки выхватил ряд их коленей и расселину прохода. Он выхватил хромированную защелку на ридикюле Дафны и в конце ряда – наручные часы Уоллеса. Он покружил над тугим, белым шелком чулка Дафны, посверкал валявшейся на полу оберткой. Все, кто хотел курить, уже курили, никому не было нужно огоньку. Но Дикки так и сидел с дрожащим пламенем в руке, так выжидающе и держал зажигалку – так выжидающе, что Порция, будто Дикки резко толкнул ее в шею, развернулась, чтобы проследить за его взглядом. Свет с жестокой меткостью скользнул по манжете, металлу браслета, сверкнул на ногте большого пальца. Даже не прячась слишком глубоко в прогалину между ручками кресел, Эдди с Дафной недвусмысленно держались за руки. Пальцы Эдди мяли ладонь Дафны, ее большой палец отзывчиво подергивался в ответ.
6
В пустом пансионе шуршало море, как будто эхо, годами отлетавшее от волн и гальки, поселилось теперь в его трубах, в неплотно прикрытых шкафах. Лестница скрипела под ногами Эдди и Порции, тряслись расшатанные перила. Распахнутые настежь двери вросли в пол – их перекосило от морской сырости, гулявший по комнатам сквозняк шелестел обрывками обоев. Потолки в передней части дома блестели – до них долетал свет с моря, задние окна глядели на север, на соляные пустоши. Младший партнер мистера Банстейбла, мистер Шелдон, нечаянно оставил ключ от этого дома в «Вайкики», когда на днях заходил поиграть в карты. На ключе был ярлычок: «5, Уинслоу-террас», ключ нашел Дикки, Эдди взял его у Дикки, вот так Эдди с Порцией сюда и попали. Пробраться в пустующий дом – что может быть лучше?
Дело было воскресным утром, вот-вот пробьет одиннадцать: звон церковных колоколов доносился в комнату даже сквозь закрытые окна. Но миссис Геккомб пошла в церковь одна. Дикки ушел, чтобы переговорить о чем-то с другом, Дафна лежала в шезлонге на солнечной стороне веранды – хотя солнца не было – и читала «Сандэй Пикториал». Она по-новому уложила волосы, прикрыв лоб челкой, и даже глазом не повела, когда Эдди, придерживая Порцию за локоть, вышел из «Вайкики» и они зашагали вниз по набережной.
Спальни верхнего этажа походили на монастырские кельи – наружные ставни на окнах были изнутри закрыты на крючок. Стены были плесневело-синего цвета, цвета мертвого неба, а при взгляде на разбегавшееся по потолку перекрестье трещин сразу думалось о том, как тут просыпаются отдыхающие. От каминной решетки пахло затхлой золой, и казалось, будто «Вайкики» где-то очень далеко. После долгих лестничных пролетов эти комнаты были тупиком: пустота и чувство распада следовали вверх по лестнице за всеми, кто входил в дом, отрезая путь обратно. Порции казалось, что она, пытаясь уйти от преследования, вскарабкалась на самую верхушку дерева. Она вспомнила, что видела этот до ужаса высокий дом сзади и как он напугал ее, когда они вместе с миссис Геккомб проезжали мимо него в такси. Сегодня, когда они, повернув ключ в замке, храбро толкнули осевшую дверь, из коридора послышался шелест обоев. Но Порция боялась остаться с Эдди наедине не только здесь.
Он закурил, привалившись к каминной полке. Он словно бы обмерял комнату взглядом, раскручивая на пальце веревочку с висевшим на ней ключом. Порция подошла к окну, выглянула наружу.
– Тут во всех окнах двойные стекла, – сказала она.
– Толку-то от этого, если дом снесет ветром.
– Думаешь, правда может?..
Колокола смолкли.
– А ты вообще должна быть в церкви.
– Я ходила в прошлое воскресенье, но это все не обязательно.
– Тогда зачем ты туда ходила в прошлое воскресенье, а, маленькая пройдоха?
Порция молчала.
– Слушай, крошка, ты сегодня какая-то странная. С чего это ты себя так странно со мной ведешь?
– Я? Странно?
– Ты прекрасно знаешь, что да. Не дури. Что такое?
Она стояла отвернувшись и молча дергала за оконную щеколду. Но Эдди дважды свистнул, и ей пришлось обернуться. Он так туго закрутил веревочку на пальце, что из-под нее проступили бороздки окрашенной никотином кожи. В его оживленном взгляде угадывалась нервная настороженность, словно его мир вот-вот рухнет. Машинально вскинув ладонь к щеке, она глядела на его виднеющиеся между губ зубы.
Он сказал:
– Ну?
– Почему ты держал Дафну за руку?
– Когда это?
– В кино.
– А, там. Потому что, понимаешь, ну надо же мне как-то общаться с людьми.
– Почему?
– Потому что у нас с ними больше нет ничего общего, и меня это просто выводит из себя. Да, я заметил, ты тогда как-то странно на меня посмотрела.
– Когда ты мне улыбнулся? Ты тогда уже держал ее за руку?
Эдди задумался.
– Да, наверное, похоже на то. А ты разволновалась? То-то я думал, ты слишком рано ушла спать. Но мне казалось, ты и так знаешь, что я за человек. Мне нравится касаться других людей.
– Но ты даже не вспомнил обо мне!
– Да, похоже, не вспомнил. – Он опустил взгляд, раскрутил веревочку на пальце. – И ведь правда, не вспомнил, – сказал он уже гораздо мягче.
– Ты об этом говорил тогда на берегу? О том, что ты не знаешь, как можешь себя повести?
– А ты, конечно, сразу кинулась домой и все записала? Я ведь просил тебя ничего обо мне не писать.
– Нет, Эдди, в моем дневнике об этом ничего нет. Ты ведь сказал это только вчера, после чая.
– Ладно, в общем, это даже нельзя назвать поведением – настолько это все неважно. Ничего нового в этом нет.
– Но для меня – есть.
– Тут уж я ничем не могу помочь, – ответил он, рассудительно улыбаясь. – Я не могу тебя изменить.
– Я знала, что что-то не так, еще до того, как Дикки стал вертеть зажигалкой. Я поняла это по тому, как ты улыбался.
– Такая малышка, а уже невротичка.
– Не такая уж я и малышка. Ты даже сказал однажды, что можешь на мне жениться.
– Ты была такой малышкой, вот я и сказал.
– Поэтому можно было говорить все, что вздумается?
– Нет, но я думал, что уж ты-то не разделяешь этих совершенно предвзятых взглядов. Но теперь ты ничем не отличаешься от других местных девушек, которые только и делают, что смотрят на меня и меня оценивают, а потом выдумывают обо мне бог весть что. Из-за тебя я…
– Да, но почему ты держал Дафну за руку?
– Мне просто хотелось дружеского общения.
– Но… то есть… Мы ведь с тобой дольше дружим.
Безжалостность то ли разом оставила Эдди, то ли уступила место совершенно другому чувству. Он подошел к стенному шкафу, который до этого внимательно разглядывал, и аккуратно прикрыл его дверцы. Затем он огляделся – с таким видом, будто жил здесь и вот теперь пришел забрать оставшиеся вещи. Он поднял обгорелую спичку и кинул ее в камин. Затем рассеянно сказал:
– Ладно, пойдем отсюда.
– Но ты слышал, что я сказала?
– Слышал, конечно. Ты всегда такая милая, крошка моя.
Они спустились на этаж, поближе к мягкому шороху моря. Эдди зашел в гостиную, чтобы еще разок осмотреться. Пол, там, где от ковра остался след, покрывали красноватые разводы мастики. В деревянную раму над арочным окном был вделан крюк, на котором, наверное, висела птичья клетка.
Свет с моря проник в комнату через окно и упал на лицо Эдди, когда тот быстро обернулся и сказал, стараясь говорить легко, мягко:
– Мне так стыдно, ты и не представляешь. Я просто хотел поразвлечься, только и всего. Честно, дружок, я и не думал, что ты заметишь, а если и заметишь, то не придашь этому значения. Мы с тобой давно знакомы, ты прекрасно знаешь, какой я болван. Но если ты и впрямь ужасно расстроилась, значит, я поступил очень дурно. Так что ты уж не огорчайся, пожалуйста, не то мне и вовсе жить расхочется. От меня одни неприятности – снова и снова. Не нужно бы мне этого говорить, раз уж я только что извинился, но право же, крошка, это ведь такой пустяк. Спроси хоть старушку Дафну. Ну просто именно так у многих людей и завязывается общение.
– Нет, Дафну я не могу спросить.
– Тогда уж поверь мне.
– Но, Эдди, они все думали, что ты мой друг. Я так гордилась тем, что все они так думали.
– Крошка моя, но если бы мне не хотелось тебя увидеть, стал бы я тащиться в такую даль и отказываться от других приглашений? Ну, не глупи, ты же знаешь, что я тебя люблю. Я просто хотел побыть с тобой на море, и вот мы здесь и прекрасно проводим время. Зачем портить все это из-за какой-то мелочи, которая ровным счетом ничего не значит?
– Но что-то ведь она значит – что-то еще.
– Знаешь, я только с тобой и веду себя серьезно. Всем остальным я и слова всерьез не скажу – просто делаю то, чего от меня хотят, и все… Ты ведь понимаешь, что с тобой я серьезен, правда, Порция? – спросил он, подойдя к ней и заглянув ей в глаза.
У него самого в глазах – будто затвором камеры щелкнули – из темноты на какую-то долю секунды проступил настоящий Эдди.
Никогда прежде, никогда – до этой доли секунды – Порция не отводила взгляд первой. Она посмотрела на призрачные очертания какого-то комода, оставшиеся на обоях с рисунком из выцветших пурпурных листьев.
– Но ты сказал – там, наверху, – она дернула головой, указывая на потолок, – что раз я еще маленькая, тебе можно и не отвечать за свои слова.
– Ну, разумеется, я не могу быть серьезным, когда несу всякий бред.
– Тогда тебе не стоило бы бредить насчет свадьбы.
– Нет, крошка, ты решительно не в себе. С чего бы это тебе хотеть замуж?
– Ты и на пляже бредил, когда говорил, что мне нужно тебя бояться?
– И как ты только это запомнила!
– Это было вчера вечером.
– Ну, может, вчера вечером мне так казалось.
– Ты разве не помнишь?
– Слушай, крошка, ты уж, пожалуйста, не выводи меня из себя. Ну как я могу до сих пор чувствовать что-то, что чувствовал давным-давно, когда вместо этого можно еще перечувствовать столько всего. Люди, говорящие, что никогда не изменяют своим чувствам, самые обыкновенные лицемеры. Я, может, и обманщик, но не лицемер – это совсем не одно и то же.
– Как же ты тогда можешь говорить, что серьезен со мной, если у тебя нет ни одного постоянного чувства?
– Ну, значит, не серьезен. – Эдди со смехом – довольно раздраженным – затоптал сигарету. – Ничего не поделаешь, придется тебе принимать меня таким, каков я есть. Я думал, ты так и делаешь. И если ты будешь расстраиваться по каждому пустяку, лучше тебе тогда вообще не верить, будто я хоть что-то говорю всерьез. Я вот помню, как вчера вечером сказал тебе, что и сам толком не понимаю, что делаю. И да, я, бывает, делаю такое, от чего тебе дурно станет. Теперь я понимаю, что был не прав – раньше мне казалось, что я могу тебе рассказывать… могу даже не скрывать от тебя всех своих поступков и что ты даже и бровью не поведешь. Потому что я надеялся, что в мире есть хотя бы один такой человек, но, наверное, у меня сложилось слишком уж абсурдное, слишком невероятное представление о тебе… Нет-нет, милая моя крошка Порция, придется признать, что в наших с тобой отношениях наступила какая-то совсем нездоровая, чтоб не сказать – муторная, стадия. А для меня это в сотни раз хуже, чем какие бы то ни было нежности с Дафной. И теперь дела у нас обстоят так: ты, как и все остальные, с лаем загоняешь меня на дерево. Ладно, давай спускаться. Насмотрелись мы уже на этот дом. Запрем дверь и вернем ключи Дикки.
Решительным шагом он направился к двери.
– Постой, Эдди, подожди! Я что, все испортила? Я не хотела тебя огорчать, я лучше умру! Правда… Я только ради тебя и живу. Обещаю, правда, я обещаю! То есть обещаю, что не буду расстраиваться. Мне только надо ко всему этому привыкнуть, а я еще не совсем ко всему привыкла. Я говорю глупости, только когда ничего не понимаю.
– И не поймешь. Мне это уже ясно.
– Но я очень, очень хочу понять! Я пойму и не буду такой глупой. Правда…
Она обеими руками вцепилась в его руку, лихорадочно, не различая, где ткань рукава, а где кожа. Она оглядела его лицо – не лихорадочно, но с нескрываемой грустью. Он сказал:
– Слушай, замолчи-ка, не то я кажусь себе каким-то мерзавцем.
Высвободившись, он с досадой, но безо всякой злобы схватил ее руки – будто пару ошалелых котят.
– А шума-то, шума, – сказал он. – Вот не дашь ты человеку расстаться с иллюзиями так, чтобы стены от крика не рухнули, да, глупышка ты этакая?
– Но я не хочу, чтобы ты с ними расставался.
– Ладно, ладно. Не расстался.
– Правда, Эдди? Честное слово? Я не только ради себя прошу, просто ты говорил, что у тебя их так мало осталось – иллюзий в смысле. Обещаешь? Ты ведь не для того, чтобы я замолчала, это сказал?
– Да, да, то есть нет. Честное слово. Я сказал первое, что пришло в голову. Для разговора – хуже нет. Ну а теперь пойдем отсюда? Я не прочь выпить, если здесь это вообще возможно.
Эхо их голосов спустилось за ними по лестнице, ступени снова заскрипели, перила снова зашатались. В отверстии для почты проступала полоска света. Они пробрались сквозь наносы рекламных брошюрок, заплесневелых каталогов. Когда они бросили последний взгляд на коридор с обоями шоколадного цвета, куда свет из гостиной заглядывал только украдкой, он показался им таким казенным, неприветливым. Неужели когда-нибудь в этот дом вернутся люди? А ведь он по-прежнему глядел на солнце, отражал море и хранил воспоминания о счастливых каникулах.
Дикки встретился им у самых ворот «Вайкики», и Эдди отдал ему ключи.
– Большое спасибо, – сказал Эдди, – недурной домик. Мы с Порцией внимательно его изучили. Думаем теперь, не открыть ли нам самим пансион.
– Правда? – отозвался Дикки с некоторым mйfiance[32] в голосе.
Он сошел с дорожки, пропустив гостей, и закрыл за ними ворота. Дафна по-прежнему возлежала на веранде с воскресной газетой на коленях.
– А вот и мы, – сказал Эдди, но Дафна их как будто и не заметила.
Они столпились вокруг шезлонга, и Эдди, довольно виртуозно выхватив у Дафны газету, принялся читать ее сам. Читал он с преувеличенным вниманием, присвистывая после каждой прочитанной новости. Едва пробило двенадцать, как он с легкой тревогой оглядел салон «Вайкики», не замечая никаких признаков (потому что их и не было) хереса или джина с лимоном. Наконец он предложил всем пойти куда-нибудь выпить, но Дафна спросила:
– Куда? – А потом добавила: – Тут тебе не Лондон, знаешь ли.
Дикки сказал:
– Порция к тому же не пьет.
– Ну, она может просто пойти с нами за компанию.
– Не можем же мы привести девочку в бар.
– Почему это? На морском-то курорте.
– Это ты так думаешь, но мы здесь, боюсь, придерживаемся другого мнения.
– Ну да, ну да… Тогда, слушай… Дикки, не пойти ли нам вдвоем?
– Я, в общем, не против, если…
Дафна зевнула и сказала:
– Да, мальчики, идите-ка вдвоем. Нечего вам тут торчать.
И мальчики ушли.
– А твой друг-то не прочь выпить, – заметила Дафна, поглядев им вслед. – Он вчера предлагал мне рвануть с ним куда-нибудь после кино, но я, конечно, сказала ему, что везде уже будет закрыто. Как считаешь, мальчики поладят?
– Какие мальчики? – спросила Порция, которая снова принялась собирать головоломку.
– Он и Дикки.
– А… Думаю, я об этом не думала.
– Дикки говорит, что он слишком много болтает, но, конечно, что еще Дикки скажет. А у этого, как его, Эдди – много разных друзей?
– Не понимаю, каких это?
– Девчонки вокруг него вертятся?
– Я почти не знаю никаких девчонок.
– Но ты ведь говорила, что он нравится твоей невестке. Хотя она, конечно, не девчонка. Кстати, вот так вот и задумаешься насчет нее. В смысле, он ведь совсем младенец. А он что, всегда себя так ведет?
– Как ведет?
– Так, как здесь.
Порция обошла головоломку, уставилась на перевернутую картинку.
Подвигав один кусочек туда-сюда, она рассеянно промямлила:
– По-моему, он всегда ведет себя примерно одинаково.
– А ты, похоже, не слишком хорошо его знаешь, да ведь? А говорила, что вы с ним такие друзья.
Порция пробормотала в ответ что-то неразборчивое.
– Ты вот что, будь с этим мальчишкой поосторожнее. Даже не знаю, может, мне лучше промолчать, но мне тебя ужас как жалко, ты ведь совсем еще маленькая. Ты только смотри, не влюбись в него совсем по уши. Мальчик-то он неплохой, я ничего такого не имею в виду, но таким, как он, только бы поразвлечься. Не хочу, конечно, говорить про него гадостей, но вот честно… Ты уж послушай меня… Конечно, ему нравится, что ты к нему липнешь, а кому бы не понравилось, ты ведь такая миленькая малышка. Парням даже нравится, когда девчонки на них вешаются – посмотри вон на Дикки с Кларой. Встречайся ты с таким идеалистом, как Сесил, и ничего бы страшного, но вот честно, у Эдди никаких идеалов нет. Конечно, ничего такого он себе не позволит, ему и не захочется, он ведь понимает, что ты еще ребенок. Но если ты влюбишься в него по уши, так и не узнав, что он за человек, тебя ждет большое потрясение. Ты уж послушай меня. В общем, ты сама что ли не видишь, что он с тобой играет – поэтому-то он сюда приехал, ну и вообще. Таким, как он, лишь бы с кем-нибудь поиграть, будь у нас тут котенок, он бы и с ним уже наигрался будь здоров. Ты просто ничего не понимаешь.
– Это ты о том, что он держал тебя за руку? Он говорит, это потому, что ему хотелось дружеского общения.
Дафна не отличалась быстрой реакцией: на то, чтобы совершенно застыть в шезлонге, у нее ушло более двух секунд. Затем ее глаза сблизились, черты лица набрякли, наступила пауза, во время которой она переваривала чудовищное замечание Порции. И пока длилась эта пауза, устои цивилизации «Вайкики» ощутимо пошатывались. Когда Дафна вновь заговорила, в ее голосе слышалось дребезжание, будто у нее что-то треснуло в моральной трахее.
– Знаешь что, я просто тебе намекнула, что к чему, потому что мне тебя вроде как жалко. Но вовсе необязательно так вульгарно себя вести. И вообще, я очень удивилась, когда ты заявила, что у тебя есть дружок. Я еще подумала – ну точно какой-нибудь хлюпик. Но раз уж тебе так не терпелось, чтобы он приехал, то я тебя поддержала и, между прочим, обтяпала все с мамулей. Не хочу, конечно, себя тут нахваливать, не в моих это правилах, скажу только, что я не какая-нибудь там гадючка и у подруги друга никогда отбивать не стану. Но как только ты притащила сюда этого мальчишку, сразу стало ясно: его кто хочешь подобрать может. У него это на лице написано. Он даже соль не может передать так, чтоб кому-нибудь глазки не состроить. Правда, все равно странно было, когда…
– Когда он взял тебя за руку? Да, мне тоже это сначала показалось странным. Но я подумала: вдруг тебе – нет.
– Так, Порция, знаешь что – если не можешь разговаривать как леди, бери свою головоломку и собирай ее где-нибудь в другом месте. На веранде из-за нее не развернуться! Вот уж не думала, что ты такая деревенщина, да и мамуля – ни сном, ни духом, не то уж она не стала бы делать твоей невестке никаких одолжений и селить тебя у нас, удобно – неудобно, неважно. Сразу видно, как они тебя там воспитывают, у меня, знаешь, просто слов нет. Забирай эту противную головоломку и неси ее к себе в комнату, если тебе уж так не терпится ее закончить. Ты мне на нервы действуешь, когда тут с ней ковыряешься. Между прочим, это наша веранда!
– Я уйду, если хочешь. Но я не собираю головоломку.
– Ну тогда не возись тут, от тебя кто хочешь умом тронется.
Румянец Дафны усиливался вслед за голосом, она прокашлялась. Наступила еще одна пауза – в ней безошибочно угадывалось напряжение, после которого закипающий чайник обычно начинает пыхтеть.
– Твоя беда в том, – продолжала она, распаляясь, – что здесь ты начала слишком много о себе думать. Все с тобой носятся. Сесилу тебя жалко, потому что ты сиротка, Дикки вертится вокруг тебя, чтобы позлить Клару. Я тебя взяла в нашу компанию, потому что думала, ты хоть опыта наберешься, ты ведь такая тихая мышка. Мамуля, бедняжечка, сказала, что ты такая славная девочка, и я ей поверила. Но, как говорится, с кем поведешься. Уж не знаю, как там все заведено в обществе, где вращается твоя невестка, но у нас тут, знаешь ли, все очень пристойно.
– Но раз для тебя это все так непривычно, зачем ты тогда гладила его руку в ответ?
– Есть две вещи, которые я на дух на переношу, – сказала Дафна, вся подобравшись. – Когда люди шпионят и подглядывают, а потом говорят всякие вульгарности. Может, это и странно, но я уж такая, какая есть, и меняться не собираюсь. Ты меня вывела из себя. Не стоило мне опускаться до твоего уровня. Я не виновата в том, что у тебя мозги как у младенца – и, уж прости, младенца довольно гадкого. Если ты не умеешь себя вести…
– Но я не понимаю, зачем нужно как-то по-особенному себя вести… Эдди сегодня утром сказал мне, что людям, у которых нет ничего общего, все равно ведь надо как-то общаться.
– Ого! То есть вы уже успели все обсудить?
– Я просто его спросила.
– Ты просто ревнивая гадючка.
– Больше нет, Дафна, честное слово.
– Но тебе тоже хотелось немножко… Да-да, я видела, как ты к нему прижималась.
– Но с другой стороны не было места! Дикки занял весь мой подлокотник.
– Ты моего брата сюда не впутывай! – завопила Дафна. – Да что ты вообще о себе понимаешь?!
Порция, спрятав руки за спину, что-то неуверенно пробормотала.
– Pardon? Что ты сказала?
– Сказала, что не знаю… Но, Дафна, я не понимаю, почему Эдди так тебя шокирует. Если вам не нравилось то, что вы делали, почему я должна ревновать? И если тебе это не нравилось, почему ты не отняла руку?
Дафна сдалась.
– Ты совсем ку-ку, – сказала она. – Иди-ка, приляг. Ты ничегошеньки не понимаешь. Стоишь тут с таким лицом – как не знаю что. Знаешь, правда, ты уж прости, но так недолго и поверить, что ты совсем дурочка. У тебя хоть какие-нибудь понятия есть?
– Не имею ни малейшего понятия, – оторопев, отвечала Порция. – Например, мои родственники – те, что еще не умерли, – вообще не имели понятия, почему я родилась. То есть мои мать с отцом…
Дафна, казалось, вот-вот лопнет. Она сказала:
– Знаешь, тебе правда лучше помалкивать.
– Хорошо. Хочешь, я пойду к себе? Прости меня, пожалуйста, Дафна, – сказала Порция, стоя у самого дальнего края своей головоломки, исподтишка оглядывая Дафну: от кончиков пальцев до крепких, округлых икр, до подола шерстяного платья в обтяжку. – Прости, что я тебя разозлила, ты ведь всегда так хорошо ко мне относилась. Я бы и не сказала ничего о тебе с Эдди, я просто подумала, что ты именно это и имеешь в виду. И еще, Эдди сказал, что если я так и не пойму, как это – когда людям нужно дружеское общение, то лучше мне спросить об этом у тебя.
– Вот это наглость так наглость! Значит так, вы оба ку-ку, и ты, и друг твой.
– Ты только ему это не говори, пожалуйста! Ему здесь так хорошо!
– Вот уж не сомневаюсь… В общем, давай, иди-ка ты наверх. Дорис сейчас будет накрывать на стол.
– Хочешь, я пока не буду выходить из своей комнаты?
– Нет, дурочка, а как же обед? Но сделай что-нибудь с лицом, у тебя такой вид, будто ты мышь проглотила.
Порция отдернула шенильную портьеру, поднялась к себе в комнату. Стоя у окна, она механически водила гребнем по волосам. Что-то странное творилось с ее коленными суставами – колени у нее тряслись. В щелочку под дверью просачивался воскресный запах бараньей ноги, которую жарила Дорис. Порция глядела, как миссис Геккомб, держа в руках зонт и молитвенник, весело спускается по набережной вместе с подругой. Что-то перебирало ее седые прядки, верно, поднялся полуденный ветерок, краешки коротких занавесок в комнате Порции тоже подрагивали на подоконнике. Дамы остановились у ворот «Вайкики», чтобы с наслаждением поболтать. Затем подруга двинулась дальше, а миссис Геккомб направилась к дому, ликующе и даже с каким-то торжеством помахав Порции молитвенником в красном сафьяновом переплете, будто бы она принесла с собой Божьей милости и на ее долю. Пока Порция стояла у окна, Эдди и Дикки так и не появились, но позже с набережной донеслись их голоса.
К обеду пока не звонили, и Порция, усевшись возле комода, пытливо вгляделась в портрет Анны. Она и сама не знала, чего искала в этом портрете, – подтверждения, что страдать могут и те, на кого это совсем не похоже, или что все страдают в одном и том же возрасте?
Но эта маленькая страдалица Анна – нарисованная до того непропорционально, что казалась изувеченной собственными локонами, – эта беспокойная заблудшая душа оживала только в электрическом свете. Но и днем, впрочем, непохожее это сходство все равно тревожило: в чем она, эта несхожесть? И несхожесть ли? А вдруг хозяйке дома, напротив, что-то открылось в этом лице? Этот рисунок, хоть и неумелый, выхватил что-то инертное, что обычно прячется за все понимающим, живым взглядом. Ни один портрет с натуры не бывает неудачным, каждый прибавляет что-то новое, высказывает невысказанное. В свой любовный труд миссис Геккомб, помимо пастели, вложила еще и чувства. Она была, мягко говоря, художником наоборот. Но именно таких художников ведет какой-то невидный гений. Любое лицо, любой пейзаж на самой плохой картине еле заметно, но неотвратимо меняется в так называемой реальной жизни – и чем хуже картина, тем сильнее эта перемена. Эксперименты миссис Геккомб с пастелью навсегда изменили Анну. При свете дня ее портрет казался человеческой картой, изрезанной бороздками мелков. Но когда электрический свет падал на эти обнаженные треугольники – на волосы, лицо, котенка, на эти глядящие глаза, – портрет приобретал ничем не оправданную важность. С тех пор как это лицо появилось в первом увиденном здесь сне Порции, оно преследовало ее и наяву. Всякий раз, вспоминая прижатого к груди котенка, она чувствовала спазм необъяснимой грусти.
Помощи, которой она не находила в картинке, Порция искала в ее дубовой рамке и каминной полке, на которой она стояла. После того как все перевернется внутри, очень важно зацепиться за что-то незыблемое. Сама эта незыблемость, само ощущение того, что с этими вещами ничего не происходило, восполняет нашу уверенность. Люди не вешали бы картины над каминами строго по центру, не приклеивали бы обои так, чтобы узор казался бесшовным, если б им не казалось, что с жизнью можно как-то договориться. Вот это мы подразумеваем, говоря о цивилизации: вещи напоминают нам, что все непредвиденное, все неслыханное дает о себе знать до чрезвычайного редко. В этом смысле уничтожение зданий и мебели отзывается в сердцах куда острее, чем уничтожение человеческой жизни. Разговор с Дафной был хоть и ужасен, но все же, если вдуматься, не так бесповоротно фатален, как землетрясение или упавшая бомба. Если бы Порция зажгла газовую плиту, а та взорвалась бы, разнеся комнату в клочья, это было бы гораздо хуже того, что Порцию назвали шпионкой и деревенщиной. Конечно же, Дафна наговорила ей много всего неприятного, но ее слова принесли куда меньше вреда, чем артиллерийский обстрел с моря. Нельзя исправить только внешние разрушения. А так хотя бы скоро будет обед, хотя бы можно вымыть руки «Винолией».
Колокольчики к обеду не успели еще отзвонить, как миссис Геккомб сняла с блюда крышку и принялась нарезать баранью ногу. Она не знала, что молодые люди были в пабе, она думала, они ходили прогуляться. Едва Порция проскользнула на свое место, между Дикки и Дафной, как ее сразу же попросили передать брокколи. Над воскресным обедом в «Вайкики» занавес взмывал моментально – здесь ели так, будто участвовали в обеденном марафоне. Эдди, кажется, общался с одним Дикки, похоже, с выпивкой они угадали. Время от времени он бойко поглядывал на Порцию. Протягивая тарелку за добавкой баранины, он сказал Порции:
– Надо же, какая ты чистенькая.
– Порция всегда чистая, – с гордостью сказала миссис Геккомб.
– Очень чистая. Умылась, наверное. Но она все равно не леди – лицо моет мылом.
Дикки заметил:
– Всем девушкам не помешало бы умываться с мылом.
– Девушки считают иначе. Они умываются специальным маслом.
– Не сомневаюсь. Вопрос только в том, дочиста ли?
– А, это ты, наверное, про расширенные поры вспомнил? Для нас это важнейший источник дохода, я как раз на днях написал о них текстик. Вот как я начал: «Почему многие англичане целуются с закрытыми глазами?», но меня заставили это вычеркнуть.
– И неудивительно, должен сказать.
– Ну, мне сказали, что англичане так и делают. За что купил, конечно, за то и продаю, проверить это я никак не могу.
По некоторой реакции сидевших за столом было видно, что Эдди в очередной раз перегнул палку, – Порции хотелось, чтобы он вел себя поосторожнее. Однако когда дело дошло до пирога со сливами, разговор коснулся более приятных тем. Они обсудили ночное истощение[33], недостаточно белое белье, ожирение, неуверенность в себе и тусклые волосы. У Эдди хватило воспитания не затрагивать две самые серьезные свои профессиональные темы – дурной запах изо рта и обвислые бюсты. Дорис, обнаружив, что купленные на девять пенсов сливки до того густые, что их нельзя вытряхнуть из картонки, прямо в картонке и подала их к столу, отчего миссис Геккомб покраснела до корней волос. Дафна воскликнула:
– Господи, да они прямо как масло!
И Эдди отковырял ложкой кусок специально для нее.
К этому времени Дафна хоть еще и глядела на него свиньей, но уже не так недружелюбно. Доев крекеры с горгонзолой, они встали из-за стола и плюхнулись на кушетку.
Эдди сказал:
– Кстати, еще одна наша беспроигрышная тема – тяжесть после еды.
Обещала зайти Ивлин Банстейбл, чтобы самой проинспектировать дружка Порции. Однако где-то без четверти три, когда Дафна уже начала спрашивать, не собираются ли они и дальше тут сидеть, случилось кое-что получше и поважнее: на сцене вновь появился мистер Берсли. Первым его услышал Дикки и сказал, глянув в окно:
– Смотрите-ка, кто идет.
Миссис Геккомб, которая собралась было прилечь, развернулась на лестнице, спустилась обратно и, дойдя до самого края веранды, сказала:
– По-моему, это тот мистер Берсли.
Мистер Берсли – в шляпе как у Рональда Колмена[34] – приближался к дому несколько неустойчивой походкой человека, понимающего, что к нему приковано все внимание, и Эдди, который уже был о нем наслышан, сказал:
– Ничто не сравнится с военной выправкой.
Дафна старательно вглядывалась в свое вязание, Эдди перегнулся к Порции и игриво ущипнул ее за шею. Он прошептал:
– Крошка, сейчас будет веселье!
Мистера Берсли провели в салон.
– Боюсь, я вас подзабросил, – сказал он. – Но неделька выдалась суматошная, все расписано под завязку.
Поддернув брюки на коленях, он втиснулся на кушетку рядом с Эдди. Порция вертела головой, поочередно взглядывая то на одного, то на другого.
Мистер Берсли спросил Порцию:
– Как поживает младшее поколение?
– Спасибо, хорошо.
Мистер Берсли покосился на нее и как бы невзначай бросил Дафне:
– Я на машине. Может, мы с тобой прокатимся с ветерком?
– Спасибо, но у меня вечер уже расписан.
– Так перепиши его! Да ладно тебе, будь лапочкой, не то я подумаю, что уже у тебя в печенках сижу. Жаль, что я не могу прокатить вас всех, маленькая машина – сами понимаете. Я свою зову «жуком», она так бойко ползает. Она…
– Вообще-то, – сказал Дикки, – я иду играть в гольф.
– Клара ничего про это не говорила.
– Потому что я иду играть с Ивлин.
– А давайте-ка встретимся где-нибудь в Саутстоне? Как насчет «Павильона»? Может, там и встретимся?
– Да, давайте.
– Вот и славно. Часиков в шесть. И всю честную компанию приводите.
– Мы с Порцией, – сказал Эдди, – пойдем куда-нибудь прогуляться.
– Ну тогда приводите юную Порцию в «Павильон».
– Нужно позвать Клару…
– Ладненько, часиков в шесть, – сказал мистер Берсли.
7
Они поднимались в гору, к лесам, начинавшимся за станцией, – к тем самым лесам, очертания которых она видела с насыпи. В то воскресенье, когда она думала только об Эдди, леса не были частью того пейзажа, который она видела сердцем.
Но в это воскресенье они пришли сюда, перелезли через плетеную изгородь, прошмыгнули мимо бдительных табличек с надписями «Частная собственность». Заросли орешника затуманивали горизонт, окружья деревьев тянулись сквозь орешник к весеннему воздуху. Свет, омывавший протянутые ветки, стекал в заросли, превращая каждый свежий лист в зеленый огонек. Листья, развертывавшиеся в подмышечной теплоте долины, были еще робкими, сырыми, а на холмах весна лишь задела лес зеленым туманом, убегавшим в небо. Чешуйки с набухших почек запутывались у Порции в волосах. Сквозь кружево жилковатых листьев видны были торчавшие из земли пуговки крошечных первоцветов, а у оснований дубов, на выбеленной солнцем земле, лесные фиалки выжигали своей синевой воздух, которым еще никто не дышал. Скрытая живительная сила леса стекала в прогалину долины и, плескаясь в кронах деревьев, набегала на крутой холм.
Здесь были проходы, но не было тропинок. Согнувшись, они пролезали под ветвями орешника и каждые несколько минут останавливались и потягивались.
– Как думаешь, нас арестуют?
– Эти таблички ставят только для того, чтобы люди возненавидели лес.
Порция, отводя от лица спутавшиеся ветки, сказала:
– Просто я думала, мы пойдем гулять к морю.
– Хватит с меня уже моря – во всех его проявлениях.
– Но тебе ведь тут нравится, да, Эдди?
– У тебя в волосах полно мушек – нет, не трогай, у тебя с ними ужасно милый вид.
Эдди остановился, а затем улегся под дубом. Вяло вскидывая руку, он шлепал по земле тыльной стороной ладони до тех пор, пока Порция не уселась рядом с ним. Затем, уткнув подбородок в грудь, он медленно принялся рвать ногтями листья, изредка прерываясь, чтобы взглянуть в небо – словно бы ему оттуда сообщали что-то важное.
Порция, обхватив колени, глядела в тоннель меж зарослей орешника. Эдди, помолчав, сказал:
– В каком же мерзком мы были доме! Точнее, каких мерзких вещей мы друг другу наговорили.
– Это в том пустом доме?
– Ну конечно. Я так обрадовался, когда мы вернулись в «Вайкики». Мне и там не по себе, но в целом все вполне пристойно. Баранина была с кровью, ты заметила?.. Нет, это я о том доме, куда мы ходили утром. Я обидел тебя, дружочек? Честное слово, я совсем не имел в виду всего того, что наговорил. А что я говорил?
– Ты говорил, что не имел в виду кое-чего, о чем говорил раньше.
– Ну да, наверное, не имел… Или это были какие-то важные для тебя вещи?
– И еще ты сказал, что тебе не все нравится в наших отношениях, – продолжала Порция, отвернувшись.
– Вот и неправда, клянусь! По-моему, крошка моя, у нас с тобой все идеально. Но было бы хорошо, если б ты понимала, когда я не имею в виду того, что говорю, – чтобы нам с тобой не приходилось потом к этому возвращаться и расставлять все по своим местам.
– Но как же я это пойму?
– Своим умом.
– Но Дафна считает, что я ку-ку. И еще, перед обедом она сказала мне, чтобы я не влюблялась по уши.
– Не сиди так, а то мне тебя толком не видно.
Порция улеглась, прижалась щекой к траве, послушно встретившись с ним взглядом. Он глядел на нее светло, любопытно – Порция закрыла глаза рукой и замерла, сжимая и разжимая пальцы.
– Она говорит, что я влюбилась в тебя по уши. Говорит, что у меня нет никаких понятий.
– Стерва, – сказал Эдди. – Все они будут пытаться развратить твой ум, но кроме меня, крошка, это никому не под силу. Наверное, какие-нибудь понятия и у тебя когда-то появятся, хотя мне страшно об этом даже думать. Ты единственный человек, которого я люблю ровно потому, что ты такая, какая есть. Но это, конечно, нечестно с моей стороны. Ни за что не влюбляйся в меня по уши – тут ты помощи от меня не дождешься. Точнее, я не захочу тебе помогать, я не хочу, чтобы ты менялась. Не нужно, чтобы мы с тобой сожрали друг друга.
– Конечно нет, Эдди… А как это?
– Ну, как у Анны с Томасом. Или даже хуже.
– Как это? – боязливо спросила она, слегка приподняв руку и приоткрыв глаза.
– Ну, как это всегда бывает. Это еще называют любовью.
– Ты же говорил, что никого не любишь.
– Что я, дурак, что ли? Я все эти уловки насквозь вижу. Но ты всегда меня радуешь – не считая этого утра. Не меняйся, пожалуйста, ни капельки.
– Хорошо бы, конечно, но я чувствую, что от меня все этого ждут, что все теряют терпение, – я не могу не меняться. Все будут ждать от меня каких-то перемен через год или два. Сейчас люди вроде Матчетт и миссис Геккомб очень добры ко мне, а майор Брутт шлет мне головоломки, но ведь так не будет всегда – они ведь не всегда будут рядом. И Дафна что-то во мне презирает, я же вижу. И твои слова утром меня напугали… В наших отношениях правда есть что-то нездоровое? Тебе со мной хорошо, потому что я ку-ку? И каких таких понятий у меня, по мнению Дафны, нет?
– Ее собственных, наверное. Но…
– Тогда каких понятий у меня, по-твоему, не должно быть?
– Таких, которые даже Дафне не снились.
– У меня от тебя такое отчаяние, – сказала она, не двигаясь.
Эдди потянулся к ней, лениво дернул за руку, которой она прикрывала глаза. Прижав ее кулак к траве, он нежно разогнул ее пальцы, один за другим, и принялся водить кончиком пальца по ее ладони, словно бы читая шрифт Брайля. Порция поглядела на проступающее сквозь ветви небо, неслышно вздохнула и снова закрыла глаза.
Эдди сказал:
– Ты и не представляешь, как я тебя люблю.
– Да, и грозишься разлюбить – разлюбить, если я повзрослею. А если бы мне было, скажем, двадцать шесть?
– То есть если б ты была совсем старухой?
– Не смейся, пожалуйста, я от этого только сильнее отчаиваюсь.
– Как же тут не смеяться – мне ведь не нравится то, что ты говоришь. Разве ты сама не понимаешь, что говоришь ужасные вещи?
– Не понимаю, – испуганно сказала она. – Что я говорю?
– Ты обвиняешь меня в жестокости.
– Нет, не обвиняю!
– А я ведь знал, что так оно и будет. Так бывает всегда – вот и сейчас.
Испугавшись непреклонности в его голосе и его лице, Порция воскликнула:
– Нет, нет!
Смяв разделявшую их траву, она обвила Эдди рукой, навалилась на него всем телом и с отчаянием принялась целовать его щеки, рот, подбородок.
– Ты идеальный, – всхлипывала она. – Ты мой идеальный Эдди. Открой глаза! Не могу тебя таким видеть!
Эдди открыл глаза – ее тень полностью заслонила ему свет с неба. Его взгляд был страшен – одновременно безумный и безразличный. Чтобы она больше на него не смотрела, он ухватил ее за голову, притянул к себе, так что их лица перечеркнули друг друга, и словно бы вернул Порции ее собственный поцелуй – она даже ощутила на губах соль собственных слез. Затем он начал нежно ее отталкивать.
– Отстань, – сказал он, – ради бога, отстань от меня и помолчи.
– А ты тогда не думай. Не выношу, когда ты думаешь.
Отодвинувшись от нее, Эдди затравленно вскочил на ноги и принялся расхаживать вдоль зарослей орешника, было слышно, как его пальто с чирканьем задевает ветки. Он останавливался возле каждого просвета в кустах, словно перед закрытой дверью, вдавливая каблуки в бесшумный мох. Порция, по-прежнему лежа на траве, глядела на оставшийся рядом с ней след его тела, а затем, отвернувшись, увидела несколько фиалок и сорвала их. Она вскинула их над головой, посмотрела сквозь них на свет. Наблюдая за ней издали и подглядев это движение, Эдди спросил:
– Зачем ты их сорвала? Тебе стало легче от этого?
– Не знаю…
– Нет бы оставить их в покое.
Она ничего больше не могла делать, только смотреть на фиалки, которые дрожали в ее поднятой руке. Стоило Эдди остановиться, как сквозь лесную даль до нее доносилось шуршание, будто шум с моря, волнами прокатывавшийся под землей.
– Несчастные фиалки, – сказал Эдди. – Зачем было их срывать? Вставь их тогда уж мне в петличку.
Он подошел, нетерпеливо опустился на колени рядом с ней, она встала на колени, неуклюже затеребила стебельки, их лица были почти на одном уровне. Она долго вдевала стебельки, и наконец фиалки глянули на нее с твида его пальто. Она оторвала от них взгляд, только когда он схватил ее за руки.
– Я не знаю, что ты чувствуешь, – сказал он, – и не смею тебя спрашивать, потому что даже знать об этом не хочу. Не смотри ты на меня так! И не дрожи так – это невыносимо. Это плохо кончится. Я не могу чувствовать того, что чувствуешь ты, – я весь в себе. Я знаю одно, ты очень славная. Не надо за меня держаться, я только утяну тебя за собой на дно. Порция, ты сама не знаешь, что делаешь.
– Знаю.
– Крошка, мне не нужна ты, для тебя у меня нет места, мне нужно лишь то, что ты мне даешь. Мне никто не нужен полностью. Я не хотел тебя обидеть, я даже задеть тебя не хотел. Но едва я начинаю говорить правду, как, видишь ли, у тебя от меня отчаяние. Можно сколько угодно любить друг друга, но разве ты не видишь, с каким ожесточением мы друг друга отталкиваем? Ты мучаешь меня тем, что так мучаешься. Да плачь же ты в голос, если уж расплакалась, плачь, плачь – не пускай ты тихонько эти ужасные кроткие слезы. Ты хочешь, чтобы я был весь твой – ведь так, так? – но всего меня попросту нет, ни для кого. Такого меня, которого тебе хочется, не существует. И теперь ты места себе не находишь из-за того, что никак не можешь свыкнуться с этой правдой обо мне – правда эта пустячная, но кто знает, что там еще за ней кроется? С того самого вечера, когда ты подала мне шляпу, я был с тобой правдив – как умел. Вот и не подталкивай меня к неправде. Ты сказала, что никогда не сможешь меня возненавидеть. Но заставь меня ненавидеть самого себя, и вот тогда я тебя возненавижу.
– Но ты ведь и так себя ненавидишь. Я хотела, чтобы тебе стало полегче.
– Мне и стало. С тех самых пор, как ты подала мне шляпу.
– Почему же мы тогда не целуемся?
– Это так выматывает.
– Но мы с тобой… – начала она.
И, осекшись, уткнулась лицом в его пальто – под фиалки, засучила руками в его вялой хватке, забормотала что-то неразборчивое и наконец простонала:
– Не выношу твоих разговоров!
Она высвободила руки, снова обняла его, и ее так затрясло от бесстрастной ярости, что и он задрожал в ее объятиях.
– Ты никого к себе не пускаешь, ты никого к себе не пускаешь!
Эдди с каменно-белым лицом сказал:
– Сейчас же меня отпусти!
Порция повалилась назад, инстинктивно вскинула голову – убедиться, что дуб по-прежнему стоит вертикально. Она сжала руки – когда она вырывалась из хватки Эдди, ладони ожгло грубой тканью пальто. Последние капли слез набухали у нее на лице, утратив разбег, застывали саднящими пятнышками, она порылась в карманах пальто, сказала:
– У меня платка нет.
Эдди вытащил не меньше ярда шелка, он держался за один кончик носового платка, пока Порция, высморкавшись в другой его край, прилежно утирала со щек слезы. Словно заботливый призрак, чьи прикосновения бесплотны, Эдди заткнул Порции за уши влажные прядки волос. Затем он печально поцеловал ее – поцелуй отозвался двойной их вечностью, а вовсе не тем, что было сказано сейчас. Но она испугалась того, что набросилась на него, что она его ранила и предала, а потому отшатнулась от поцелуя. Какая-то зябкая дрожь передалась от земли ее коленям; стена орешника, испещренная светлыми листьями, подергивалась у нее перед глазами, будто лес, мелькающий в окне поезда.
Когда они снова уселись на траву – теперь где-то в ярде друг от друга, Эдди вытащил из кармана пачку «Плейерс». Сигареты были мятые.
– Вот, смотри, что ты еще натворила, – сказал он, но все равно закурил.
Из его ноздрей поплыли ниточки дыма, во мху зашипела, остывая, задутая спичка. Докурив, он выкопал небольшую ямку и похоронил в ней еще живой окурок, но этому предшествовали несколько целительных минут.
– Ну, крошка, – сказал он с присущей ему легкостью, – Анна тебе, наверное, рассказывала, какой Эдди невротик.
– Это она так говорит?
– Тебе лучше знать, это ведь ты с ней полгода прожила.
– Я не всегда слушаю, что она говорит.
– А надо бы. Иногда она попадает прямо в точку… А знаешь что – давай-ка взглянем на нас с расстояния? И будем тогда думать, какие же они счастливые! Мы молоды, на дворе весна, вокруг лес. Так или иначе, но мы любим друг друга, и у нас впереди – господи, помилуй! – целая жизнь. Слышишь, как поют птицы?
– Я их почти не слышу.
– Их тут почти и нет. Но ты должна их слышать – подыграй мне. А чем вокруг пахнет?
– Горелым мхом, ну и остальным лесом.
– И что же подожгло мох?
– Ох, Эдди… Твоя сигарета.
– Да, сигарета, которую я выкурил, сидя в лесу подле тебя – милой моей крошки. Нет-нет, только не вздыхай. Гляди лучше, как мы с тобой сидим под старым дубом. Чиркни, пожалуйста, спичкой: я еще покурю, а вот тебе не стоит, ты еще слишком мала. Не только у Дикки, но и у меня есть свои принципы. Мы не водим тебя по барам, и нам нравится та нездоровая благочестивость, которую ты в нас вызываешь. Эти фиалки должны украшать твои волосы – ах, Примавера, Примавера, – и зачем только они обрядили тебя в этот жуткий бушлат? Дай руку…
– Не дам.
– Тогда сама посмотри на нее. Мы с тобой кому угодно сердце разбить можем – с чего бы нам тогда жалеть свои? Мы утонули в этом лесу все равно что в море. Так что, конечно, мы счастливы, с чего бы нам быть несчастными? Подумай об этом, когда я вечером уеду.
– Вечером?! Ой, но я думала…
– Мне завтра утром на работу. Так что очень даже хорошо, что мы с тобой сейчас счастливы.
– Но…
– Никаких «но».
– Миссис Геккомб огорчится.
– Да, я не буду больше спать в ее славном чуланчике. Мы завтра не проснемся под одной крышей.
– Не верится, что ты вот так приехал и уехал…
– А ты спроси Дафну, она тебе точно скажет.
– Эдди, не надо, пожалуйста…
– Почему не надо? Надо же нам о чем-то разговаривать.
– Не говори, что мы счастливы, с этой жуткой улыбкой.
– За свои улыбки я не отвечаю.
– Давай еще пройдемся?
Взбираясь по узким тропинкам, раздвигая ветви орешника, продираясь сквозь кусты, они вскарабкались на холм. Отсюда было видно всю округу. Сбегавшее по лесистому скату солнце золотило бело-зеленую пелену набухших почек, в теплой полуденной дымке остро чувствовался смолистый запах. На юге – мелово-синее море, на севере – ровная пустошь, и еще они увидели проблеск железной дороги. Их души взмыли к самой вершине жизни, будто пузырьки. Эдди подал Порции руку, Порция положила голову ему на плечо и, закрыв глаза, стояла рядом с ним в лучах солнца.
Пока они, забравшись на самый верх автобуса, ехали в Саутстон, Эдди вытаскивал у Порции из волос ниточки мха и радужные чешуйки почек. Он провел гребнем по волосам, передал гребень Порции. Воротничок у него смялся, ботинки выпачкались в грязи. Что он, что она были без шляп, а Порция еще и без перчаток. Для «Павильона» – недостаточно нарядно. Но пока автобус катился вдоль набережной, оба они повеселели, наслаждаясь поездкой в огромной, светлой и тряской стеклянной коробке. Эдди курил одну за другой, Порция опустила стекло и, выставив наружу локоть, высунулась из окна. Морской ветер дунул ей в лоб, она снова попросила у Эдди гребень. На подъеме в Саутстон, пока автобус переключал скорости, они поглядели на часы: всего пять вечера, они еще успеют выпить чаю до прихода остальных.
– Я пыталась узнать у Дафны, когда людям хочется дружеского общения.
– Дурочка, и как тебе только это в голову взбрело?
– Знаешь, мне однажды, на вечеринке, показалось даже, будто мистер Берсли похож на тебя.
– Берсли? Ах да, тот малый… Ну, знаешь ли. Интересно, кстати, куда это они с Дафной упорхнули?
– Могли даже и в Дувр.
Они допивали чай в «Павильоне», когда туда вошли Дикки, Ивлин, Клара и Сесил. На Ивлин был костюм канареечного цвета, на Кларе – плюшевое пальтишко, перехваченное бантиком под самым подбородком. Дикки с Сесилом были оба в полосочку – похоже, к вечеру все переоделись. К этому времени «Павильон» повис в розоватом воздухе незажженным фонарем, оркестр играл что-то из «Самсона и Далилы». Ивлин наконец увидела Эдди и спросила, любит ли тот гулять по горам. Сесил, выказывая безразличие ко всему, вид имел довольно унылый. Клара не сводила глаз с Дикки и не открывала рта, только изредка с беспокойством заглядывала в свою замшевую сумочку. Считалось, что раз их всех собрал мистер Берсли, то без него начинать нельзя. Дикки отодвинул хромированную стеклянную дверь, предположив, что девушки, наверное, захотят полюбоваться видом.
С балкона они поглядели вниз – на дорогу, на верхушки сосен и крышу катка. Эдди так далеко перегнулся через перила, что Порция испугалась, а вдруг он сейчас вздумает показать им (как уже показывал ей), как далеко он умеет плеваться. Однако ничего не произошло, только фиалки вывалились у него из петлицы.
– Потеряли вы свои цветочки, – бойко заметила Ивлин.
– А может, у меня голова закружилась, – ответил Эдди, многозначительно глядя на нее.
– Какой вы, значит, неженка.
– От одного вида вашего превосходного желтого жакета и опьянеть можно.
– Вот как, – ответила Ивлин, не зная, что и думать. – Слушай, Дикки, у вашего друга голова закружилась. Может, пойдем внутрь?
Дикки поглядел на часы – куда строже, чем раньше.
– Ничего не понимаю, – сказал он. – Я сказал Берсли, что приведу девушек к шести. Я думал, мы с ним договорились, но теперь уже почти двадцать пять минут седьмого. Надеюсь, он не попал в какую-нибудь передрягу.
– Это уж решать Дафне, – язвительно отозвалась Ивлин, подмазывая рот.
Дикки подождал, пока она спрячет помаду, и холодно ответил:
– Я имел в виду – передрягу с машиной.
– Нет там ничего сложного с этой машиной, я ее сама водила, да и Клара тоже. А сегодня, наверное, Дафна за рулем. Смотри, Клара дрожит. Лапочка, ты замерзла?
– Немножко.
Внутри, среди колонн и зеркал, отыскались Дафна с мистером Берсли, уютно устроившиеся за выпивкой. После обмена упреками и несколько раздраженными смешками мистер Берсли подозвал официанта и восстановил справедливость. Кларе с Порцией подали оранжад с завернутыми в салфетки соломинками, Дафна заказала еще один «бронкс», Ивлин – «сайдкар»[35]. Мужчины пили виски – все, кроме Эдди, который попросил себе двойного джину с капелькой ангостуры. Он настоял на том, чтобы накапать ангостуры самому, и устроил из этого целое представление. Раскрасневшаяся Дафна казалась очень довольной. Она сняла шляпку и, разговаривая, то поправляла кудри, то уверенно поглядывала на пряжку в виде кинжала, которой была заколота ее зеленая бархотка. Они с мистером Берсли сидели бок о бок, но почти не разговаривали, словно бы очень друг друга стесняясь.
Тихонько потягивая оранжад, отстранившись от всей остальной компании, оставшись в одиночестве на своем конце длинной соломинки, Порция наблюдала за происходящим. То и дело она взглядывала на время – еще три часа, и Эдди уедет. Она видела, как он, разгорячившись, говорил, что следующий круг – за ним. Видела, как он совал руку в карман – хватит ли ему денег? Он показал Ивлин содержимое своего бумажника, отдернул манжету, чтобы продемонстрировать волоски на запястье. Он спросил мистера Берсли, есть ли у него татуировки. Клара допила оранжад, он выхватил соломинку и пощекотал ей шею Клары, когда та снова полезла в сумочку.
– Кстати, Клара, – сказал он, – а ведь ты мне и словечка не сказала.
Она косилась на него, как недоверчивая мышка. Он накапал слишком много ангостуры в джин, поэтому второй стакан джина пришлось разбавить третьим. Облокотившись на плечо Сесила, он сказал, что ему бы очень хотелось поехать вместе с ним во Францию. На салфетке, в которую была завернута соломинка Клары, он помадой Ивлин написал свое имя.
– Не забывай меня, – сказал он. – Впрочем, все равно ведь забудешь. Я тогда еще свой номер оставлю.
Дикки сказал:
– Как-то мы расшумелись.
Но мистер Берсли тоже разошелся. Они с Эдди прониклись друг к другу искренней любовью, какая бывает только после совместно выпитого. Их взгляды то и дело встречались – с влажным, мечтательным восторгом. Эдди, несомненно, раззадоривал мистера Берсли: сначала мистер Берсли изображал Дональда Дака, а потом, выхватив у Дафны зеленую пластмассовую гребенку, попытался подыграть на ней оркестру. Когда музыка смолкла, он принялся наигрывать мелодию собственного сочинения, приговаривая:
– Я пастушок и хочу подудеть своим овечкам.
– Себе подуди! – ответила Дафна, опрокинув третий «бронкс». – Дай сюда! Оставь в покое мою гребенку!
– Слушайте, – вмешался Дикки, – ссорьтесь где-нибудь в другом месте!
– Никаких «других мест», – ответил мистер Берсли. – Мы уже ссоримся здесь.
Что-то зашуршало у Порции за спиной, задвигали портьеры, по темно-лиловому небу пронеслась пелена желтого шелка. Сесил пил виски и молчал.
– Знаете что, – сказал Дикки Эдди и мистеру Берсли, – если вы оба сейчас же не замолчите, я отведу девушек домой.
– Нет, нет, не надо, как же мы без женщин!
Дикки сказал:
– Тогда помалкивайте, не то вас отсюда вышвырнут. Тут вам не «Казино де Пари»… В общем, я провожу девушек домой.
– Провожай, Муссолини. Или нет, давай я.
– Нет-нет, не всех девушек, – сказал мистер Берсли, прикрыв один глаз, а вторым поглядывая через гребенку Дафны.
– Значит, не шуметь? – хихикал Эдди, молотя Сесила по плечу. – Спросите лучше Сесила, вот уж кто все знает о Франции.
– Знаете что, – безмятежно заметила Ивлин, – по-моему, вы, мальчики, ведете себя преужасно.
– Скажи это Сесилу. Сесил витает в облаках.
– Сесил везде ведет себя как джентльмен, – сказала Дафна, нежно водя пальцем по бокалу Сесила. – Сесил – вы только поймите меня правильно – очень милый мальчик. Я Сесила знаю с детства. Мы с тобой, Сесил, знаем друг друга с детства, да, Сесил?.. Я тебе сказала оставить мою гребенку в покое! Это моя гребенка. Отдай ее сюда!
– Нет, это моя дудочка, я играю на дудочке своим овечкам.
Дикки выпрямил ноги, отодвинулся от стола.
– Сесил, – сказал он, – давай-ка проводим девушек домой.
Сесил осторожно улыбнулся и приложил руку ко лбу. Затем встал и резко вышел из-за стола, пробрался между столиками, сверкнул крутящейся дверью и исчез. Клара сказала:
– Теперь нас всего семеро.
– Невосполнимая потеря, – сказал Эдди. – Он думал за всех нас. Чувства меня страшат, вот и Клару чувства страшат тоже, у нее это на лице написано. Тебя ведь страшат чувства, правда, Клара? О господи, вы только посмотрите, сколько уже времени. Как же я успею на поезд, если я даже не знаю, где тут искать поезд? Слушай, Дафна, где бы мне найти поезд?
– Чем скорее, тем лучше.
– Я не спрашиваю когда – когда, я знаю, я говорю, где? Как ты жестока… Слушай, Ивлин, может, отвезешь меня в Лондон? Умчимся с тобой в ночь.
Но Ивлин, застегивая желтый жакет, только и сказала:
– Ладно, Дикки, мне пора. Не знаю, что скажет папа… Нет, спасибо, мистер… эээ… мне не нужен ваш номер.
– Господи, – воскликнул Эдди, – вы что, все меня бросаете?
Он обратил на Порцию лихорадочный, бегающий взгляд и громко сказал:
– Дружок, что же мне делать? Я так плохо себя веду. Что мне делать?
Он опустил глаза, хихикнул, чиркнул спичкой и поджег салфеточный жгутик со своим, написанным помадой именем.
– Вот так. – Пепел просыпался на стол, Эдди дунул на него, растер остатки пальцем. – Я бы ушел, – сказал он, – только я не знаю, где тут поезд.
– Мы спросим кого-нибудь, – сказала Порция.
Она встала и дожидалась Эдди.
– Ладно, до свиданья всем, пора мне обратно в Лондон. До свиданья, до свиданья, огромное всем спасибо.
Но Дикки презрительно ответил:
– Толку-то здесь прощаться. Тебе нужно в «Вайкики», забрать вещи – помнишь, где это? А еще ты говорил, что твой поезд в десять, сейчас пять минут девятого. Поэтому прощаться здесь совершенно без толку. Так, слушайте, мы все уходим? Кому-то надо дождаться Сесила.
Эдди побелел и сказал:
– Ну вот вы и позаботьтесь о Сесиле, черт вас дери, а Порция пусть позаботится обо мне. Так мы всех пьянчуг по домам и доставим.
Остальные девушки при этих словах прыснули в стороны, как кролики. Порция рывком раздвинула желтые портьеры, распахнула стеклянную дверь. Черный воздух вывалился в комнату как из открытой раны, несколько посетителей поежились, заозирались. Она вышла на балкончик, нависавший над темным морем, освещенный только приглушенным желтым светом из окон. Через минуту за ней вышел Эдди, поглядел в темноту, спросил:
– Где ты? Ты еще здесь?
– Я здесь.
– Вот и хорошо, смотри, не свались.
Эдди спрятался в соседнем оконном проеме, скрестил руки и разразился рыданиями, в окне позади него видно было, как трясутся его плечи. К тому, кто так плачет, лучше не подходить.
8
Дневник
Понедельник
Утром миссис Геккомб ничего не сказала, как будто весь вчерашний день мне приснился. Я продолжаю собирать головоломку, кто-то ее задел, и часть, которую я уже сделала, рассыпалась, поэтому я не смогла продолжить с того места, где остановилась. Может, она кому-то мешает на веранде? Дафна тоже больше ничего не говорила. Идет дождь, но когда идет дождь, еще темнее.
Вторник
Когда я проснулась, дождь лил вовсю, но теперь перестал, и вся набережная блестит. Мы с миссис Геккомб сегодня ходили в «Тойнз» – за прищепками, чтобы ничего ветром не унесло, и когда мы выходили из «Тойнза», у нее было такое лицо, как будто она вот-вот что-то скажет, но не сказала, но, может, она и не собиралась ничего говорить. В дождливые дни на улицах гораздо сильнее пахнет солью. Вечером мы ходили пить чай к каким-то людям, чтобы обсудить церковный праздник, и они сказали, как жалко, что я на него не попаду. Праздник будет в июне. Интересно, до июня что еще случится?
Среда
Так странно оставаться там, откуда кто-то уехал. Раньше это были два совсем других места: место, где человек был, и место, которое было до того, как он туда приехал. А я никак не могу привыкнуть ни к этому новому третьему месту, ни к тому, что я тут осталась.
У миссис Геккомб новый ученик в Саутстоне, она взяла меня с собой, когда поехала учить его игре на фортепиано. Я ждала ее на лавочке на утесе. Видела флаги «Павильона», но близко подходить не стала.
Четверг
Дафна сказала, что Сесил на меня обиделся. И еще сказала, что Эдди прожег дыру в покрывале, которое им одолжила мать Сесила, и это поставило их в очень неловкое положение перед матерью Сесила. Дафна сказала, что поделать с этим ничего нельзя, но узнать об этом мне не помешает.
Пятница
Я получила письмо от Эдди, и миссис Геккомб тоже, он пишет, что всегда будет вспоминать «Вайкики». Она показала мне письмо и сказала: как мило, правда? – но больше про Эдди ничего не говорила. Однажды у нее сделалось такое лицо, как будто она хочет что-то о нем сказать, но не сказала, так что, наверное, она и не собиралась ничего говорить.
Вечером пришел Сесил, сказал, что у него была внутренняя лихорадка. По-моему, он не очень на меня обиделся.
Суббота
На прошлой неделе в этот день приехал Эдди.
Дикки любезно согласился взять меня с собой в Саутстон, чтобы посмотреть хоккейный матч, Клара тоже едет, мы едем в ее машине. Дафна и Ивлин собираются на танцы в «Сплендиде» вместе с мистером Берсли и еще каким-то мужчиной, которого он приведет. Сесил сказал, что его еще слегка лихорадит.
Воскресенье
Утром я ходила в церковь с миссис Геккомб, дождь так и колотил по церковной крыше. Льет так, что кругом ничего не видно. В лесу да и везде, наверное, очень мокро. Сегодня мы идем пить чай к матери Сесила.
Понедельник
Я получила письмо от майора Брутта, который благодарит меня за письмо, в котором я поблагодарила его за головоломку. Спрашивает, когда мы все вернемся.
Кажется, все позабыли, что случилось. Клара очень ко мне добра, она позвала меня с собой к Ивлин поучиться играть в бадминтон, и мы пошли, но игра не очень заладилась. Потом мы пошли пить чай к Кларе. У нее богатый отец, он в чайной торговле. Дома у них жарко, везде лежат ковры из шкур, а на лестницах горшки с цветами стоят в больших медных сосудах. Клара показала мне свою спальню, у нее возле кровати стоит фотография Дикки, которую сам Дикки и подписал: «Твой Дикки». Она сказала, что нам с ней бывает скучно, потому что остальные целыми днями работают, поэтому она и сама думает что-нибудь себе подыскать. Она подарила мне шифоновый носовой платок, в который она еще ни разу не сморкалась, и два ожерелья. Сразу же покажу их Дикки, пусть видит, какая Клара добрая.
Вторник
Получила письмо от Эдди, он пишет, что у него все хорошо, и спрашивает, как дела у остальных. И еще я получила письмо от Томаса, где на одной странице есть приписочка от Анны. Анна пишет, что очень смеялась, представив Эдди в «Вайкики». Я не рассказывала, что он тут был, наверное, им миссис Геккомб написала. Она говорит, чтобы я не писала, если мне тут так весело, все равно они скоро вернутся и тогда послушают все новости.
Среда
Миссис Геккомб вдруг сказала, что очень за меня переживает. Я обрадовалась, когда Сесил позвал меня прогуляться по берегу.
Четверг
Миссис Геккомб сказала, она надеется, что не наговорила чего лишнего, сказала, что всю ночь глаз не могла сомкнуть. Я сказала: конечно, нет, не наговорила, ведь тут был Сесил. Я сказала: надеюсь, я ничего такого не сделала, а она ответила: нет, дело не в этом, просто она тут думала. Я спросила, о чем думала, и она сказала: думала, как ей надо было бы поступить. Я спросила, когда поступить, и она сказала: поступить вообще, она и сама не знала, когда и как ей нужно было поступить, то есть не знала, не наделала ли она чего-нибудь. Она сказала, что надеется, что я знаю, как она меня любит, и я сказала, что очень этому рада.
Пятница
Мимо некоторых мест до сих пор не могу спокойно пройти мимо, хоть мы и гуляли там всего-то два дня. Когда я выхожу на прогулку, то гуляю там, куда мы не ходили. Сегодня я стояла на мостике через канал, еще на одном мостике через канал, на котором мы с ним не стояли. Я наблюдала за двумя лебедями, они проплывали под мостом. Говорят, что сейчас лебеди вьют гнезда, но эти двое плыли, отвернувшись друг от друга. Сегодня нет дождя, но все равно пасмурно, в воздухе проглядывает чернота, хотя зелень кажется такой ярко-зеленой. Каждый новый день словно бы все больше и больше отделяет меня от того дня, когда я в последний раз видела Эдди, а день, когда я снова его увижу, как будто все не близится и не близится.
Суббота
С приезда Эдди прошло две недели. Моя последняя суббота здесь.
В три часа Дикки вернулся с обеда их хоккейного клуба. Говорит, что в этом году они с хоккеем закруглились. Я сидела на веранде и собирала головоломку, он спросил, отчего у меня было такое лицо, когда он вошел. Я сказала, что сегодня – моя последняя здесь суббота. Тогда он спросил, не хочу ли я прогуляться, пока он играет в гольф. Поэтому, когда приехала Клара, они усадили меня на заднее сиденье и мы поехали на поле для гольфа. Клара изо всех сил учится гольфу из-за Дикки, но Дикки все равно играет вроде как сам с собой. С поля виден лес, он начинается прямо через долину, но там, наверху, очень мило, очень много дрока. Дикки сказал, что после игры мы пойдем пить чай, поэтому мы пили чай в гольф-клубе. Там очень красиво, там огромный камин, а чай мы пили, сидя в эркере. Мне все очень понравилось. По-моему, из-за того, что я была с ними, Клара стала вести себя почти как жена Дикки и даже настояла на том, чтобы нам принесли еще варенья. Когда мы допили чай, Клара вытащила сумочку, но Дикки сказал: да ладно тебе, и заплатил за чай. Он плохо ведет себя с Кларой только перед Дафной.
Мы так долго там пробыли, что Клара воскликнула: господи боже, она опаздывает, к ним на ужин сегодня придет судья. Тогда Дикки сказал, пусть она тогда бежит сразу домой, и она убежала, а мы с ним пошли обратно. Он спросил, не грустно ли мне уезжать. Я ответила: грустно (это правда), и тогда он обернулся, посмотрел куда-то мне в макушку и сказал, что и им всем тоже. Сказал, что я стала им совсем как родная. Тогда я спросила, а Эдди ему тоже понравился? Он ответил: конечно, он забавный малый. Я сказала, что ужасно рада, что Эдди кажется ему забавным. Он сказал: ну, он, конечно, немного ловелас, да ведь? Я ответила, что Эдди на самом деле не ловелас, и он сказал: ну, сама понимаешь, у него все-таки ветер в голове. Я сказала: не очень понимаю, и он сказал, что, по его мнению, тут все дело в характере. Он сказал, что судит о людях по их характеру. Я сказала, что это очень правильно, потому что характеры у людей то и дело меняются, в зависимости от того, что с ними происходит. Он ответил: нет, я не права, это все, что происходит с людьми, зависит от их характеров. Я понимаю, что Дикки вроде бы все верно говорит, только мне так все равно не кажется. Мы как раз дошли до набережной, и закатное солнце било нам прямо в глаза. Я сказала: правда, море похоже на зеркало? – и он ответил: да, есть что-то. Я сказала, что мне нравится Клара, и он сказал: да, она ничего, только у нее ветер в голове. Я спросила, значит ли это, что Клара похожа на Эдди, и он ответил, что нет. И тут мы подошли к «Вайкики».
Воскресенье
Мое последнее воскресенье. Погода очень, очень хорошая, теплая. На каштанах появились листья, правда, пока совсем небольшие, и остальные деревья стоят как будто в оборках. После церкви нас с миссис Геккомб позвали в чей-то сад, взглянуть на гиацинты. Они все похожи на разноцветный фарфор. В саду миссис Геккомб сказала хозяйке: увы, в следующее воскресенье Порции с нами уже не будет. Я подумала, что в следующее воскресенье, возможно, увижусь с Эдди, но еще подумала: ой, вот бы остаться здесь. Скоро лето, и они тут будут делать столько всего, чего я еще не видела. В Лондоне я вообще не знаю, кто что делает, а когда кто-нибудь и делает что-нибудь, я даже посмотреть не могу. С тех пор как меня сюда привезли, случилось много обидного, но я бы все равно лучше осталась тут, чем возвращаться туда, где вообще непонятно, что будет дальше.
Когда мы шли из сада с гиацинтами, миссис Геккомб сказала, как же жаль, что я не успела покататься на лодке по каналу. Она говорит, что они летом там все катаются. Я спросила, катаются ли они на лодках по морю, и она ответила: нет, там все подряд катаются, а на канале потенистее будет. Она спросила, как насчет того, если она попросит Сесила прокатить нас с ней на лодке после обеда. И мы с ней завернули к Сесилу домой, его самого дома не было, но его мать сказала, что она, конечно, попросит его нас покатать.
Поэтому после обеда мы катались на лодке. Сесил сидел на веслах и даже показал мне, как править лодкой, а миссис Геккомб держала над нами зонтик. Зонтик у нее из сиреневого шелка, и я, когда не правила лодкой, ловила руками водоросли. Водоросли очень крепкие, за весла они тоже цеплялись. Так что, пока Сесил греб, мы почти не разговаривали, миссис Геккомб думала, а я смотрела в воду или на деревья. Солнце светило почти оглушительно. К нам подплыл лебедь, и миссис Геккомб сказала, что они сейчас как раз вьют гнезда и могут быть очень злыми, поэтому она сложила зонтик, чтобы им отбиваться, а Сесил сказал: так, похоже, надо сушить весла. Но лебедь не обратил на нас никакого внимания. Потом мы проплыли мимо гнезда, в котором сидела его подруга.
Остальные в это время играли где-то в теннис. Когда я только сюда приехала, миссис Геккомб была одета в шубу. А сейчас настоящее лето, хоть все вокруг пока бледно-зеленое. В это время года все очень быстро меняется, каждый день происходит что-то новое. Всю зиму не происходило совсем ничего.
Сегодня вечером миссис Геккомб поет ораторию. Дафна, Дикки, Клара, Ивлин, Уоллес, Чарли и Сесил играют внизу в рамми, потому что ее нет дома. Но меня миссис Геккомб отправила в постель пораньше, потому что во время прогулки по каналу у меня разболелась голова.
Понедельник
Миссис Геккомб очень устала после оратории, а Дафна с Дикки не любят, когда в понедельник хорошая погода. Пойду полежу на пляже.
Вторник
Я еще не получила письма, которое Эдди обещал мне написать, но это, наверное, потому что я скоро возвращаюсь. На этой неделе тут все новое, на этой неделе тут лето. Вся набережная пахнет горячим гудроном. Но, конечно, мне говорят, что это ненадолго.
Среда
Завтра я уезжаю. Сегодня мой последний день здесь, и поэтому миссис Геккомб и мать Сесила повезут меня смотреть на развалины. Мы возьмем с собой еду и поедем на автобусе.
Клара завтра подвезет меня до пересадочной станции, чтобы мне не пришлось пересаживаться с одного поезда на другой. Клара говорит, что она будет ужасно скучать. Сегодня мой последний вечер, и поэтому Дикки, Клара и Сесил поведут меня в Саутстон, на каток, чтобы я посмотрела, как они будут кататься.
Не могу сказать ничего о том, что я уезжаю. Даже в этом дневнике не могу ничего написать. Может, лучше тогда вообще ничего не говорить. Нужно постараться не говорить больше ничего Эдди, потому что когда я что-нибудь говорю, то всегда невпопад. Нам пора выходить, чтобы успеть на автобус до руин.
Четверг
Я вернулась, я в Лондоне. Они возвращаются только завтра.
Часть 3 Дьявол
1
Томас с Анной вернутся домой только в пятницу днем.
К их возвращению все готово – приезжайте, живите. Утром в пятницу номер два по Виндзор-террас был насквозь пронизан ослепительными солнечными иглами, которые жарко, безвидно носились над навощенными полами. Дом, безучастно глядевший на сияющее озеро, на зеленеющие каштаны, казался идеальной формой для житья, которую так редко заполняет жизнь. Тикали настроенные и подведенные часы, отсчитывая время в безупречной пустоте. Порция, тихонько открывая дверь за дверью, осматривая комнаты темными, все отражающими глазами, взглядывая на каждые часы, на каждый телефонный аппарат, пустоты не нарушала.
Генеральная уборка была сделана со всей тщательностью. Каждый вымытый и начищенный предмет округло стоял в незрячем воздухе. Мрамор сверкал, будто сахарные головы, краска сливочного цвета была нежнее сливок. Нашатырный спирт убрал с зеркал зимнюю патину, острый блеск отражений резал глаз – словно бы в зеркалах поселилась реальность. Лакированные шкафы горели каштановым светом. Везде, и наверху и внизу, пахло воском, из-за книг просачивался чистый, мыльный запах. Крахмальные, только что из прачечной, тюлевые занавески подрагивали на окнах, неохотно расступаясь, чтобы впустить в дом апрельский воздух с легким привкусом копоти. Да, уже, с каждым проносившимся по дому вздохом, в дом снова проникала грязь.
Отопление выключили. Вверху, на лестнице, стояла колонна затхлого воздуха, которая, стоило открыться окну или двери, принимала на себя трепет весны. Этим утром в задней части дома было еще бессолнечно и заметно холодно. В подвальном этаже было еще холоднее, там пахло надраенными полами, а свет проникал туда будто призрак. Городская темнота, темнота хлопотливая, собиралась в этой, работной, части дома. Целый месяц Порция не спускалась под землю.
– Господи, Матчетт, ты все везде отмыла!
– А, так вот, значит, где вы были.
– Да, я везде заглянула. Все очень чисто – впрочем, тут всегда чисто.
– Это вы здесь долго не были, вот и заметили. Знаю я эти дома на курортах – одна плесень да финтифлюшки.
– Знаешь, – сказала Порция, присаживаясь на стол Матчетт, – сегодня мне хочется, чтобы только мы с тобой тут жили.
– И не стыдно вам? Позвольте вам напомнить, что век бы вы не видали такого дома, если бы к нему не прилагались мистер и миссис Томас. И где бы вы тогда были, хочу я вас спросить? Нет, я готова к их приезду, и как раз им уже и пора вернуться. И не глядите на меня так – да что с вами такое? Мистер Томас уж точно огорчится, узнай он, что вам хотелось остаться там, на море.
– Но я ничего такого не говорила!
– Дело тут не только в том, что вы говорите.
– Матчетт, ты сразу такой шум поднимаешь, а я всего-то сказала, что…
– Ладно, ладно, ладно. – Матчетт постучала по зубам спицей, медленно, с удивлением оглядывая Порцию. – Вон оно как, – сказала она, – научили они вас там за себя стоять. Вас теперь и не узнаешь.
– Ты сердишься на меня, потому что я уезжала. Но я ведь не по своей воле уехала, меня отослали.
Сидя на столе в подвальной гостиной Матчетт, Порция вытянула ноги и посмотрела на пальцы ног, словно бы перемены, которые в ней разглядела Матчетт (она изменилась, правда?), начинались оттуда. Матчетт, сидя на стуле возле холодной газовой плиты, упершись ногами в перекладину другого стула, вязала носок; она расстегнула ремешки на туфлях, подъемы у нее заметно опухли. Пробило полдень, стрелки часов отметили такой важный час будто восклицательные знаки. Полдень – но все уже слишком готово, ничего не случится до самого вечера, когда на Викторию в клубах дыма прибудет послеобеденный поезд и набитое кожаными чемоданами такси доедет из юго-западного Лондона в северо-западный. Потому-то и случилось это феноменальное затишье. На кухне хихикали Филлис с кухаркой – верно, распивая чаи. А здесь только изредка поскрипывали два стула, подчиняясь солидному покою Матчетт.
По дому она прошлась, будто фурия. Она сжимала спицы (потому что не умела отдыхать, не тратя сил) обесцвеченными пальцами, сморщившимися, будто кожура на сухих яблоках, из-за бесконечного их пребывания в горячей воде, в соде, в мыле. Ногти у нее были белесые, бороздчатые, слоящиеся. Свет прокрался по закопченной альпийской горке, заглянул сквозь оконную решетку, но не отыскал ни капли цвета в Матчетт, и ее темно-синее платье впитало весь свет. Казалось, будто она встроена в этот полумрак, отгорожена от всего резкой белизной фартука. В ее волосах, остриженных в суровый шлем, посверкивали новые белые пряди, но в ее непроницаемом лице не было видно ни усталости, ни послабления – не позволяла самодисциплина. Впрочем, дело тут было не только в дисциплине: у Матчетт был вид человека, исполнившего свой августейший долг. Целый дом, без единого пятнышка, этаж за этажом возвышался над подвалом, и хоть она и сидела, склонив голову над вязанием, отчетливое осознание этого проглядывало сквозь ее опущенные веки.
Порция, посмотрев сквозь решетку на окне, сказала:
– Жалко, что не удалось помыть альпийскую горку.
– Ну, плющ мы пробрызгали, но надолго этого не хватит, да и коты вечно папоротник дерут.
– Я, конечно, знала, что у тебя много хлопот, но не думала, что столько, Матчетт!
– Не знаю, как это вы еще о чем-то успевали думать, когда у вас с этими вашими друзьями столько дел было. (Слова резкие, но сказаны они были без резкости; говоря их, Матчетт безостановочно вязала, и что-то умиротворяющее было в этом «щелк-щелк-щелк».) Не надо вам быть в двух местах сразу, не в вашем-то возрасте. Раз уж вы поехали на море, так будьте на море. А воображайте всякое, когда нужно будет воображать. В такую-то весну, как у нас теперь, с глаз долой – из сердца вон, да и будет с вас. Ах, самая нынче прекрасная весна для проветривания – будь я в Дорсете, у миссис Квейн, повытаскивала бы уже на улицу все матрасы.
– Но я думала о тебе. Разве ты обо мне не думала?
– Ну и когда, скажите на милость, мне было о вас думать? Останьтесь вы здесь, так путались бы у меня под ногами еще похуже мистера и миссис Томас, если б они не уехали. Нет, и вы не вздумайте мне рассказывать, будто сидели там с кислым видом: у вас там и общество было, и уж, как пить дать, много разных занятий. От вас-то, впрочем, рассказов не дождешься, вы все в себе держите. Но это вы всегда такая были.
– А ты меня и не спрашивала, ты еще была занята. Ты сейчас в первый раз меня слушаешь. И я даже не знаю, с чего начать.
– Ну и не торопитесь, у вас все лето впереди, – ответила Матчетт, взглядывая на часы. – Надо сказать, приехали-то вы от них румяненькая. Непохоже, чтоб вам от этой поездки было плохо. Да и перемены пошли на пользу, а то больно вы были тихая. Никогда я прежде не видела, чтобы в вашем возрасте девочки были такими тихими. Хотя миссис Геккомб, бедняжка, разве может кого научить говорить «нет»? Миссис Томас, она только поддакивает, ничего другого я от нее и не слышала. Но остальные ребята там, похоже, позадиристее будут. Чулок вам хватило?
– Да, спасибо. Только, прости, одна пара порвалась на коленках. Я бежала по набережной и шлепнулась с размаху.
– И с чего это вдруг вам вздумалось бегать, можно узнать?
– Ой, это все морской воздух.
– Морской, значит, воздух, вот как? – сказала Матчетт. – От него вы забегали.
Не переставая вязать, она слегка приподняла голову, но так, чтобы по-прежнему смотреть в пространство, не упираясь ни во что взглядом. Как разнесены в пространстве были две эти жизни – ее и Порции – в последние эти недели, и как по-прежнему далеки были они друг от друга. Никогда не знаешь, сколько времени уйдет на то, чтобы залечить рану, нанесенную разлукой. Неуклюже стащив ногу с перекладины стула, Матчетт попробовала подцепить ею укатившийся клубок розовой шерсти. Порция соскочила со стола, подняла клубок и протянула его Матчетт. Храбро спросила:
– Это ты себе на ночь носки вяжешь?
Матчетт еле заметно кивнула, сухо и очень неохотно. Никто не подозревал о том, что она спала, что она вообще ложилась спать – по ночам она просто исчезала. Порция поняла, что зашла слишком далеко, и быстро прибавила:
– Дафна вяжет. Она обычно вязала в библиотеке. Миссис Геккомб тоже умеет вязать, но чаще всего она расписывает абажуры.
– А вы чем занимались?
– А, я собирала головоломку.
– То еще развлечение.
– Но головоломка была новая, и я собирала ее, только когда мне больше было нечем заняться. Знаешь, как это бывает…
– Нет, не знаю, и ни о чем вас не спрашиваю, и никаких тайн разводить не люблю.
– Тут нет никаких тайн, просто кое-что я уже забыла.
– Ничего и не говорите, я вас ни о чем не спрашиваю. Что уж вы там делали, на отдыхе, то и делали. А теперь отдых кончился, можно все и позабыть… У вас на этом жакетике уже все локти залоснились. Говорила я миссис Томас, не ноский это материал. Вы бархатное платье надевали или не стоило мне его класть?
– Нет, я надевала бархатное платье. Я…
– А, так значит, они к ужину переодеваются?
– Нет, я надевала его на вечеринку. У нас были танцы.
– Надо было мне тогда кисейное ваше платье уложить. Но я боялась, помнется, да и от морского воздуха все складки бы пообвисли. Ну, оно и бархатное, наверное, подошло.
– Да, Матчетт, оно всем очень понравилось.
– Уж оно получше всего, к чему они там привыкли, да и покрой недурной.
– И знаешь, Матчетт, мне было очень весело.
Матчетт снова покосилась на часы, словно бы призывая время поторопиться, ради его же блага. Вид у нее сделался еще более отстраненный: казалось, будто мелькание спиц ее загипнотизировало, а еще – будто она, радуясь чему-то своему, неслышно, про себя, напевает какую-то мелодию. На реплику Порции она откликнулась только минуту спустя – вздернутым подбородком. Но к тому времени реплика эта уже увяла в подвальном полумраке, точь-в-точь как букетик лесных нарциссов, подарок какой-нибудь подруги, сурово воткнутый в стеклянную банку. Подарок, который Матчетт тоже, наверное, приняла стиснув зубы.
– Ты ведь рада, да? – уже не так уверенно спросила Порция.
– Ну и вопросы у вас.
– Наверное, все дело в морском воздухе.
– И мистеру Эдди, значит, морской воздух тоже пошел на пользу?
Не сумев увернуться от пущенного в нее вопроса, Порция заерзала на столе.
– А что Эдди? – сказала она. – Он и приезжал-то всего на два дня.
– Ну, так это ж целых два дня на море. Конечно, ему там было хорошо. По крайней мере, он сам так сказал.
– Когда сказал? Это ты о чем?
– Да вы погодите, не перебивайте. – Дернув за розовую шерстяную нитку натруженным пальцем, Матчетт задумчиво промычала еще парочку беззвучных нот. – Вчера в пять тридцать это было, наверное. Спускаюсь я вниз, уже в пальто и шляпе, собираюсь ехать встречать вас с поезда, и времени у меня как раз в обрез, и тут их высочество как давай названивать в телефон – аж стены затряслись. Я думаю, вдруг что-то важное, ну и сняла трубку. Ну а потом не знала, как от него и избавиться – он все болтал, болтал. Конечно, телефон в конторе мистера Томаса как раз для этого и нужен. Понятно, почему им пришлось провести три линии. «Прошу прощения, сэр, – говорю я, – но я тороплюсь, еду встречать поезд».
– А он знал, что это мой поезд?
– Он не спрашивал, а я не уточняла. «Еду встречать поезд», – говорю. Думаете, его это остановило? Подождут эти ваши поезда, тут ведь некоторым поговорить нужно. «Не буду вас задерживать», – говорит он, и перескочил себе на другое.
– Но на что он перескочил?
– Он как будто огорчился, что миссис Томас еще не вернулась и что вас тоже еще нет. «Боже, боже, – говорит он, – я, наверное, напутал с датами». Затем просил непременно передать миссис Томас, и вам тоже, что он завтра утром уедет из Лондона, то есть уже сегодня утром, и, может быть, позвонит после выходных. Затем он сказал, что мне, наверное, приятно будет узнать, что на море вы похорошели. «Я вас порадую, Матчетт, – сказал он, – у нее появился румянец». Я сказала ему спасибо и спросила, не нужно ли передать чего еще. Он попросил передать привет миссис Томас и вам тоже. Сказал, это все.
– И ты положила трубку?
– Нет, он. Скорее всего, пошел пить чай.
– Он не говорил, что позвонит попозже?
– Нет, все, что он хотел передать, он передал.
– А ты сказала, что я возвращаюсь?
– Нет, с чего бы? Он и не спрашивал.
– А когда, он думал, я вернусь?
– Ох, даже и не знаю.
– Куда же это он уезжает в пятницу утром?
– И этого я тоже не знаю. По делам, наверное, куда ж еще.
– Как-то это очень странно.
– Мне в этой конторе многое кажется странным. Однако не мне судить.
– Матчетт, и вот еще что: а он понял, что я в тот же вечер вернусь?
– Что он там понял или не понял, сказать не могу. Знаю только одно, болтал он без умолку.
– Да, с ним такое бывает. Но как ты думаешь?..
– Слушайте, я не думаю, право же, у меня на это и времени нет. Чего я не думаю, того не думаю – уж пора бы вам это понять. И скрывать ничего не скрываю. Ведь если бы не он, от вас бы я точно не узнала, что он приезжал к миссис Геккомб. Так, а теперь будьте-ка умницей, слезайте со стола, а я пока утюг включу. Мне тут еще кое-что погладить надо.
Порция сказала помертвевшим голосом:
– Ты же говорила, что у тебя все сделано.
– Сделано? Покажите мне хоть одно дело, которое сделано, – какое уж там все. Нет, я перестану работать только тогда, когда меня в гроб заколотят, а не потому, что у меня все будет сделано… Но вы мне вот чем можете помочь: будьте умницей, сбегайте в спальню миссис Томас и закройте там окно. Комната уже проветрилась, наверное, а уличной копоти с меня хватит. И потом не приставайте ко мне, дайте погладить в тишине. Прогулялись бы вы по парку. Там сейчас красиво.
Порция закрыла окна у Анны, мельком поглядевшись в ее зеркало-псише. За окнами слышно было, как воркуют голуби и как скользят по гладкой дороге автомобили. Сквозь свежевыстиранные тюлевые занавески виднелись освещенные солнцем деревья. Выходить на улицу Порции не особенно хотелось, ей было одиноко. Если уж и гулять в одиночестве, то хотя бы наедине с приятными мыслями. Как раз сейчас миссис Геккомб, тоже в одиночестве, возвращается в «Вайкики» после утреннего похода по магазинам… Еле волоча ноги, Порция спустилась в холл: здесь, на мраморной поверхности стола, Томаса и Анну дожидались две стопки писем. Порция внимательно их проглядела – уже в третий раз, как знать, не затесалось ли среди них что-нибудь «для мисс П. Квейн». Не затесалось – впрочем, как и до этого… Она снова проглядела письма, на этот раз просто из любопытства. Одни друзья Анны писали убористо, другие – с размахом. Какие из этих писем написаны в порыве чувств, а какие – часть тщательно продуманного плана? Чей-то почерк она могла угадать, этих людей она уже видела, они все ходили друг за другом. Вот, например, серый изящный конверт от Сент-Квентина. Неужели он еще что-то может прибавить ко всему им сказанному?
Томасу писали не много, но вот сложить письма Анны так, чтобы стопка не рухнула, стоило почти шедевральных усилий. Порция попыталась представить, каково это – вылезти из такси и увидеть собственное имя, написанное столько раз. Наверное, после этого твое имя значит – да, по-другому и быть не может – гораздо больше.
Анна театрально простонала:
– Ты только посмотри, сколько писем!
Сначала она даже разбирать их не стала, прочла одно-два сообщения в лежавшем возле телефона блокноте, взглянула на стоявшую на стуле золоченую коробку из цветочного магазина – на заваленном письмами столе для нее не нашлось места.
Она сказала Томасу:
– Кто-то прислал мне цветы.
Но тот уже ушел к себе в кабинет. Тогда Анна, улыбаясь Порции, любезно заметила:
– Все сразу и не посмотришь, верно ведь?.. Как замечательно ты выглядишь: загорела и даже почти пополнела. – Она окинула взглядом лестницу и сказала: – Да уж, у нас чисто. Ты вчера вечером вернулась, да?
– Да, вчера.
– И тебе там, конечно, страшно понравилось?
– Да, Анна, очень!
– Ты об этом писала, и мы надеялись, что это правда. Ты Матчетт видела?
– Да.
– А, ну да, конечно, я все забываю, что ты вчера приехала… Ну что, нужно осмотреться, – сказала Анна, собирая письма. – Как же странно я себя чувствую. Открой-ка, пожалуйста, цветы и скажи мне, от кого они.
– Коробка красивая. Наверное, и цветы красивые.
– Не сомневаюсь. Но мне интересно, от кого они.
Забрав письма, Анна пошла наверх – принимать ванну. Через пять минут в дверь ванной постучалась Порция. Анна еще не залезала в ванну, она выглянула из-за двери, выпустив наружу облачко ароматного пара.
– А, это ты, – сказала она. – Ну что?
– Это гвоздики.
– Какого цвета?
– Такого, очень ярко-розового.
– Господи… И от кого они?
– От майора Брутта. На карточке написано, что он желает ими поприветствовать твое возвращение.
– Этого следовало ожидать, – сказала Анна. – Он, наверное, целое состояние на них спустил и сидит без обеда, а я теперь тут с ума схожу. Лучше бы мы с ним вовсе не встречались, помочь мы ему не помогли, только голову вскружили. Забери цветы и покажи Томасу. Или отдай Матчетт, для ее комнаты – сойдут. Ужасно, я понимаю, но я чувствую себя как-то совсем невозможно… Можешь потом написать майору Брутту ответ? Скажи, что я легла спать. Уверена, ему будет гораздо приятнее, если ему напишешь ты. Кстати, как там Эдди? Я видела, что он звонил.
– Матчетт с ним говорила.
– О? А я думала – ты. Ладно, Порция, потом еще поговорим.
Анна захлопнула дверь и улеглась в ванну.
Порция отнесла гвоздики Томасу.
– Анна говорит, они не того цвета, – сказала она.
Томас, закинув ногу на ногу, снова сидел у себя в кресле, словно из него и не вылезал. В кабинет проникала только приглушенная копия дневного света, но Томас все равно прикрывал рукой глаза, будто бы загораживаясь от яркого солнца. Он равнодушно взглянул на гвоздики.
– А, значит, они не того цвета? – спросил он.
– Так Анна сказала.
– Я забыл, от кого они?
– От майора Брутта.
– Ну да, ну да. Как по-твоему, он нашел работу?
Он повнимательнее посмотрел на гвоздики, которые Порция держала как незадачливая невеста.
– Да их тут сотни, – сказал он. – Похоже, ему что-то подвернулось. Я очень на это надеюсь, мы не всем можем помочь… Ну, Порция, а ты как? Ты и вправду хорошо провела время?.. Прости, что я так сижу, у меня, кажется, начинает болеть голова… Тебе понравилось в Силе?
– Очень понравилось.
– Замечательно. Правда, я ужасно рад.
– Я писала, что мне понравилось, Томас.
– Анна не знала, правда ли тебе понравилось или нет. Наверное, там мило. Сам я там, конечно, никогда не был.
– Да, они мне сказали, что ты у них не был.
– Да. И жаль, что не был, правда. Ну, я рад снова тебя видеть. Все хорошо?
– Да, спасибо. Радуюсь весне.
– Да, замечательно, – сказал Томас. – Как по мне, правда, еще холодно… Прогуляемся с тобой по парку попозже?
– С удовольствием. Когда?
– Ну, давай попозже… Где там, ты говорила, Анна?
– Она принимает ванну. Она попросила меня написать ответ майору Брутту. Томас, можно я напишу его за твоим столом?
– Конечно-конечно.
С этими любезными словами Томас незаметно выскользнул из кабинета – Порция тем временем открывала бювар, чтобы написать майору Брутту. Томас налил себе выпить, взял бокал с собой наверх и по пути заглянул в гостиную. Ни единый предмет здесь еще не поменял своего точного, безучастного положения – Анна явно сюда пока не заходила. Он принес бокал в комнату Анны и уселся на широкой кровати, дожидаясь, когда жена выйдет из ванной. Он словно закаменел от тяжелых, смутных мыслей, – выйдя из ванной в распахнутом пеньюаре, с пачкой бугристых от пара писем, Анна так и подпрыгнула, увидев его.
Наигранным тоном она сказала:
– Как ты меня напугал!
– Хотел спросить, есть ли письма…
– Письма, разумеется, есть. Но совершенно ничего интересного. Впрочем, дорогой, вот они – все твои.
Она бросила письма на кровать рядом с ним, подошла к зеркалу и сняла с волос сеточку, защищавшую кудри от влаги. Ожесточенно глядя на свое отражение, она принялась обеими руками втирать в лицо косметическое молочко. Она, не глядя, нашаривала разные баночки и флакончики – все было на своих местах, и все движения были до того привычными, что на нее разом нахлынуло что-то такое – атмосфера ее лондонского туалетного столика. Не поворачиваясь к Томасу, который перебирал письма, она сказала:
– Ну вот мы и дома.
– Что ты сказала?
– Говорю, вот мы и дома.
Томас оглядел комнату, затем посмотрел на туалетный столик.
– Как быстро Матчетт разобрала чемоданы.
– Только несессер. После этого я выставила ее за дверь, велев прийти и разобрать остальные вещи попозже. У нее на лице было написано, как ей хочется мне что-нибудь сказать.
Томас отложил письма, ссутулился:
– Может, ей и вправду было что сказать.
– Ну, знаешь, Томас… выбрал ты время! Ты слышал, что я сказала? Что мы наконец дома.
– Да, слышал. И что я должен ответить?
– Хоть что-нибудь. Наша жизнь проходит без единого комментария.
– Тогда тебе нужен кто-то вроде трубадура.
Анна салфеткой вытерла молочко с пальцев, изящно завязала поясок пеньюара, подошла к Томасу и легонько отвесила ему недружелюбно-дружелюбную оплеуху.
– Ты прямо как какая-нибудь живая статуя, они изредка двигаются, но все равно только и делают, что сидят. А я люблю иметь хоть какое-то отношение ко всему происходящему. Мы дома, Томас, придумай, что сказать о доме… – Она снова шлепнула его по голове – полегче, но позлее.
– Помолчи, не толкай меня. У меня голова болит.
– Ой-ой! Прими ванну.
– Приму попозже. А пока, пожалуйста, не бей меня по голове… Зато вот Порция ведь нас встретила.
– Ах да, бедная крошка. Стояла в дверях, будто ангел. А мы вот были не в себе. Я так точно, да ведь?
– Да, не была, по-моему.
– А ты, что ли, был? Сразу рванул в кабинет. Ты, наверное, думаешь, а с чего бы тебе вести себя подобающим образом, когда я этого не делаю? Давай начистоту – а кто вообще ведет себя подобающим образом? Мы все сначала предъявляем друг другу требования, которым трудно соответствовать, а потом рвем себе сердца из-за этого несоответствия. Чтобы делать глупости, влюбляться не обязательно – по правде сказать, я думаю, что люди гораздо глупее, когда они не влюблены, потому что тогда им во всем мерещится невесть что. По крайней мере, это я по себе знаю. Майор Брутт прислал мне гвоздики, я чуть с ума не сошла. Ты их видел? Кошенилево-розовые!
– Я, кажется, никому никаких требований не предъявляю.
– Еще как предъявляешь – вот, например, сейчас, с этой твоей головной болью. А кроме того, ты измял мне все покрывало.
– Прости, – Томас поднялся, – я пойду вниз.
– Ну вот, очередные требования. А мне-то всего-навсего хочется переодеться, а разговаривать – не хочется, но не могу же я допустить, чтобы ты вот так ушел куда-то в ночь. И Матчетт еще только и ждет, как бы прошмыгнуть обратно, чтобы тут пошуршать и чем-нибудь меня побрызгать. Милый, я знаю, что от меня одни огорчения. В кабинете тебе точно будет повеселее.
– Там Порция, пишет ответ майору Брутту.
– И если ты туда спустишься, то придется у нее спросить: «Ну, Порция, как продвигается твое письмо к майору?»
– Зачем? Не вижу в этом никакой надобности.
– Ну, Порция будет глядеть на тебя до тех пор, пока ты не спросишь. Кстати, эти гвоздики от майора Брутта – как раз что-то такое, от чего Порция обычно приходит в восторг, – сказала Анна, усаживаясь за туалетный столик, чтобы натянуть шелковые чулки. – Да, мне часто кажется, что мы с тобой какие-то неправильные. Но, с другой стороны, а кто тогда правильный?
Поставив стакан на ковер, Томас храбро забрался с ногами на кровать и растянулся на безупречно ровном покрывале.
– По-моему, ванна не пошла тебе на пользу, – сказал он. – Или ты так все время разговариваешь? Мы так с тобой редко разговариваем, мы так редко бываем вместе.
– Я, наверное, устала, чувствую себя как-то совсем невозможно. Но, как я уже сказала, больше всего на свете я хочу переодеться.
– Ну так переодевайся. Ты ведь можешь просто переодеться, а я могу просто полежать. Не обязательно еще и разговаривать. Ты, конечно, чудовище, но с тобой я чувствую себя куда правильнее, чем с самыми правильными людьми – если они вообще бывают. А тебе непременно надо надевать эти жуткие замшевые зеленые туфли?
– Да, потому что остальные еще в чемоданах. Какое же жаркое сегодня солнце! – сказала Анна, задергивая занавеси за туалетным столиком. – Пока мы там были, Англия казалась мне серой и прохладной, а приехали мы в какое-то адское пекло.
– Думаю, погода еще изменится. Но тебе вообще мало что нравится, да ведь?
– Вообще ничего, – ответила Анна, расплывшись в своей славной, недоброй улыбке.
Она закончила одеваться в зашторенном полумраке, едва тронутом желто-розовым солнечным светом. Сквозь закрытые окна, сквозь крахмальные ситцевые складки доносился уличный шум. Анна бросила взгляд в сторону Томаса и сказала:
– Ты ведь понимаешь, что пачкаешь обувью мое покрывало?
– Отдадим в чистку.
– Тут вот какое дело, оно только что вернулось из чистки… Как тебе показалась Порция?
Томас, который только что закурил (для головной боли – хуже не придумаешь), ответил:
– Говорит, что радуется весне.
– С чего бы вдруг? Маленьким девочкам в ее возрасте до погоды нет дела. Кто-нибудь точно наговорил ей лишнего.
– Может, она вовсе и не радуется весне, а просто хотела сказать что-нибудь вежливое. Кстати, ей вполне могло и понравиться в Силе – а если так, мы могли бы забрать ее оттуда попозже.
– Ну нет, милый, если уж она живет с нами, значит, она живет с нами. Кроме того, в понедельник у нее начинаются занятия. Но если она радуется весне (а с твоих слов я не могу понять, радуется она или нет), то, стало быть, с ней что-то неладно, и тогда тебе нужно выяснить, что именно. Сам знаешь, со мной она говорить не станет. А если ее кто-то и огорчил, то это Эдди, больше некому.
Томас нагнулся, чтобы стряхнуть пепел в пустой бокал.
– Пора бы, кстати, положить этому конец, слишком далеко все зашло. Сам не знаю, почему мы раньше этого не сделали.
– Потому что там все было без изменений – месяцами одно и то же. Сразу видно, ты плохо знаешь Эдди. Чтобы кому-нибудь навредить, ему далеко заходить не нужно, он кого хочешь может когда угодно подвести. И потом, что именно я, по-твоему, должна была сказать или сделать? Другому человеку всего не скажешь, есть все-таки какие-то границы, а сделать – ну что тут сделаешь. И вообще, она твоя сестра. Можно было бы поговорить с Эдди, но он чуть что – и сразу на меня обижается. А с Порцией мы так друг друга стесняемся, а стеснительность приводит к грубости… Нет, наш малыш Эдди отнюдь не кровожадный лев.
– Да уж, не лев.
– Томас, не будь ты таким гадким.
Впрочем, радуясь тому, что она опять одета, Анна с наслаждением передернула плечами, будто птица, снова очутившаяся в своих приглаженных перышках. Она отыскала портсигар, закурила и уселась на кровать рядом с Томасом. Обернувшись к ней, он притянул ее голову к себе, на подушки.
– И все равно, – после поцелуя сказала Анна, усаживаясь и подкручивая пальцами гладкий локон на затылке, – по-моему, тебе надо слезть с моего покрывала.
Она подошла к туалетному столику и принялась закручивать крышки на своих баночках и флакончиках, пока Томас, тщательно и угрюмо, пытался разгладить складки на атласе.
– После чая, – сообщил он, – мы с Порцией хотим пройтись по парку.
– Пройдитесь. Почему бы и нет?
– Будь ты хотя бы вполовину так бессердечна, как притворяешься, с тобой было бы ужасно скучно.
После чая Томас и Порция прошмыгнули через две полосы автомобильного движения, благополучно перешли дорогу и оказались в парке. По мосту они перебрались на дальнюю сторону озера. Здесь вытянулись тюльпаны, которые вот-вот распустятся, еще серые и острые, но все в ослепительных прожилках будущего цвета – пунцового, алого, желтого. На берегу озера на траве люди сидели в шезлонгах, и позднее вечернее солнце стекало им на лица, – и эти люди, похожие на красноватые камни, заслоняли глаза, отворачивались или позволяли солнцу стучаться в их закрытые веки.
Вода ожила: свет сбегал с лопастей весел, пробивался сквозь разноцветные и белые паруса, которые, подрагивая, плыли мимо островов. Гребцы, согнувшись, разбивали отражения пейзажей. С узких, поросших лесом островков, куда запрещено было приставать, уже давно испарилась вся эфирность раннего утра, и теперь там, на границах их тайного существования, можно было разглядеть лебединые гнезда. Свет проникал в самое девственное сердце островов, серебристые ветви плакучих ив расступались только самую малость, позволяя приметить лишь отблеск света. Отражения деревьев и парусов раскрашивали воду, наделяя ее глубиной, и водоплавающие птицы пропарывали ее поверхность долгой рябью.
Люди, приближаясь друг к другу – возле озера или на узких тропках, – смело встречались взглядами, будто ожидая увидеть здесь только знакомых. Под пальто трепетали тонкие подолы женских платьев. Дети носились кругами или сговаривались о чем-то, тут же с криками ссорясь. Но ни один взрослый тем оживленным вечером не ускорял шаг – парк был полон лености и блужданий.
Томас и Порция повернулись одинаковыми профилями в ту сторону, откуда дул ветерок. Порция думала о том, до чего воздух здесь пахнет сушей. Томас, равнодушно глядя в бирюзовое небо над тоненькими желто-зелеными спичками деревьев, сказал, что погода, скорее всего, переменится.
– Только бы тюльпаны успели зацвести. Мне о них папа рассказывал.
– О тюльпанах? Как так? Когда он их видел?
– Когда проходил мимо вашего дома.
– Он проходил мимо нашего дома? Когда?
– Как-то раз, однажды. Сказал, что дом покрасили и что теперь он совсем как мраморный. Он очень радовался, что вы здесь живете.
Лицо Томаса медленно посуровело, отяжелело, словно бы все годы, прожитые его отцом в изгнании, навалились на него вдобавок к его собственным годам. Он взглянул на Порцию, на отцовские брови, которые у нее шли более изящной линией. По его лицу было понятно – он снова промолчит. На другом берегу озера за деревьями виднелись только верхние окна и балюстрада дома по Виндзор-террас, уже совсем не свежеокрашенная лепнина казалась поистершейся, непрочной.
– Мы красим дом раз в четыре года, – сказал он.
Когда они переходили дорогу, Порция, остановившись на полпути, вдруг поглядела на окно гостиной и замахала рукой.
– Осторожнее! – прикрикнул Томас и схватил ее за локоть – машина вильнула мимо них, словно огромная рыба. – Что такое?
– Там была Анна, наверху. Уже ушла.
– Если не будешь смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу, не буду отпускать тебя одну на улицу.
2
Увидев, что ее заметили в окне, что ей помахали, Анна инстинктивно отшатнулась. Она знала, каким глупым видится снаружи человек, выглядывающий из окна, – как будто бы он ждет чего-то, что никак не случится, как будто бы ему что-то нужно от внешнего мира. Лицу в окне, маячащему там безо всякой причины, недостает только пальца во рту, потому что в этом есть что-то решительно детское. А всякое неглупое лицо кажется пугающим – торчит белым пятном в темноте комнаты и чудится злым домашним духом. Вдруг Порция и Томас подумают, будто она за ними шпионит?
Кроме того, в руках у нее было письмо – и получила она его не сегодня. Как раз для того, чтобы избавиться от мыслей, вызванных этим письмом, она и выглянула в окно. Теперь же она снова уселась за свой секретер, который стоял в самом темном углу этой огромной, залитой светом комнаты, и потому за ним можно было писать разве что короткие записочки. В ячейках для бумаг она держала свой ежедневник и приходно-расходные книги, ящички под крышкой были куда полезнее, потому что запирались на ключ. Один из них был сейчас открыт, и оттуда выглядывали пачки писем; другие письма – сложенные в несколько раз, с заломами на бумаге, – лежали вперемешку со снятыми с них резинками, и от них пахло чем-то старым. Когда ключ Томаса заскрежетал в замке, входная дверь распахнулась и послышался бойкий голос Порции, Анна быстро смахнула все письма в ящик и, нагнувшись, заперла его. Но хоть она и успела все вовремя спрятать, эта маленькая победа оказалась совершенно ненужной: брат и сестра Квейны прошли прямиком в кабинет и в гостиную подниматься не стали.
Они не зашли к ней, хоть и знали, где она. Поглядев на лежащий в ладони ключ от секретера, Анна вдруг остро ощутила разлуку с письмами: одно одиночество теснило другое. Сразу после чая, когда эти двое ушли в парк, Анна отперла ящик, отчетливо понимая, что хочет сравнить фальшивость Пиджена с фальшивостью Эдди.
Бывает в чувствах такая пора, когда даже самое странное поведение кажется обоснованным. Она говорила правду – по крайней мере, о себе, – когда сказала Сент-Квентину, что никакой опыт ничего не значит до тех пор, пока не повторится снова. Теперь она понимала, что все в ее жизни постоянно повторялось – правда, когда дело доходило до любви, Анна, хоть и не слишком огорчаясь, все ломала голову, уж не закралась ли в эту формулу какая-то ошибка. Что-то тут не складывается, думала она. Иногда она спрашивала себя, уж не ошиблась ли она, и была бы почти рада ошибиться. Она-то думала, что раскаивается в собственной несдержанности, в своих дурацких выходках – но что, если все это время она была куда сдержаннее, чем ей самой казалось, что, если она лицемерила, что, если ее разоблачили? Ведь заканчивалось все всегда одинаково, но она никак не могла найти этому объяснения. Верно, люди знали какой-то способ понимать друг друга, о котором она даже не подозревала.
Я только и сказала Томасу, слезь с моего покрывала. А он берет и ведет ее гулять в парк.
Ум и легкость в общении, думала она, способны завести только в тупик. Она задумчиво положила ключ от ящика во внутренний карман сумочки и сумочку защелкнула. Каждый человек, которому, как Анне, доводилось с глубоким недоумением переживать легкую обиду, считает свое дело безнадежным. Вот что бывает, когда ведешь себя мило и беззаботно, когда заботишься о чужом реноме, когда не теряешь самообладания. Анна и сама не понимала, чего она так трясется над этим ключом, ведь никаких секретов в ящике не было – Томас обо всем знал. Правда, этих писем она ему не показывала, он знал, что произошло, но не знал, почему. А что, если она возьмет да и швырнет эти письма Порции со словами: «Смотри, дурочка, вот чем все заканчивается!»
Тут Анна закурила, уселась на желтом диване рядом со своей сумочкой и спросила себя, почему же она не питает особой любви к Порции. Я думать о ней спокойно не могу, а стоит ей войти в комнату, как я теряю всякое самообладание. Все, что она со мной делает, она делает неосознанно, – веди она себя так нарочно, мне бы не было так обидно. С ней я чувствую себя каким-то наглухо заевшим краном. Она доводит меня до какого-то невозможного состояния, когда даже Сент-Квентин начинает спрашивать, отчего это я так наигранно себя веду? Наши отношения с Томасом она свела к каким-то лихорадочным, колким шуткам. Если честно, мне только и остается, что быть с ними пожестче, что я честно и делаю. Сегодня днем, едва она заслышала наше такси, как ей непременно понадобилось выскочить на порог и выглядывать нас во все глаза. Я даже в окно собственного дома выглянуть не могу, чтобы на нее не наткнуться, – она останавливается посреди потока авто и машет мне рукой. Ее ведь и задавить могли, вот бы скандал вышел.
Впрочем, смерть – это у них семейное. Она ведь кто такая, если вдуматься? Результат незаконной связи, паники, жалкого обострения сексуальности у старика. Дитя, зачатое в комнатушке на Ноттинг-хилл-гейт, среди рассыпавшихся шпилек и картиночек с собачками. И при этом она все унаследовала, она расхаживает по дому, будто сама Чистопородность. Все стоят за нее горой, будто она какой-нибудь Молодой Претендент[36]. Уж мне ли не знать заговорщицки сжатый рот Матчетт? А Эдди повел себя просто чудовищно, ну правда же, ужасно глупо. Но что до этого – ладно, тут уж ей, как говорится, Бог поможет, а я не стану, с чего бы?
Нет, тут она никаких ответов не найдет, думала Анна, лежа на диване, закинув ноги на подлокотник, напряженно сложив руки за головой. Она спрашивала себя, о чем это брат с сестрой могут разговаривать в кабинете. Нечего ей все-таки везде вот так тыкаться. Не наше это дело – подносить Порции все ответы на блюдечке.
Подтянув к себе телефон, Анна набрала номер Сент-Квентина. Долго слушала гудки в трубке – Сент-Квентина, очевидно, не было дома.
В понедельник утром Томас вернулся в офис, а Порция вернулась в школу на Кэвендиш-сквер. Накрапывал, вздрагивал на деревьях легкий серый весенний дождик. Томас, любивший быть правым в мелочах, радовался тому, что предсказал перемену погоды. В первую неделю после того, как расцвели тюльпаны, на них не упало ни луча солнца, они стояли пунцовые, багряные, алые, мясисто-влажные, но их никто не видел. Нет, этот майский день был совсем не похож на тот майский день, когда старый мистер Квейн украдкой гулял в парке. До самых выходных Порция не видела Эдди, они встретились, когда она вернулась в субботу домой, – тот пил чай с Анной. Он, казалось, очень обрадовался, очень удивился встрече с ней, подскочил, разулыбался, схватил ее за руку и воскликнул, обращаясь к Анне:
– Надо же, как она отлично выглядит!
Он усадил ее на свое место, а сам примостился на подлокотнике кресла. Анна, почти не подав виду, позвонила, чтобы принесли еще чашку. Порция пришла не вовремя, ее не ждали, она сказала, что сегодня пойдет пить чай к Лилиан.
– А знаете, – не умолкал Эдди, – мы давным-давно все втроем не виделись.
Сент-Квентин в прошлую среду проявил куда больше энтузиазма. Порция встретила его, когда тот, торопливо и бесцельно, бродил по Вигмор-стрит: черный хомбург надвинут на лоб, руки с зажатыми в них перчатками заложены за спину. То и дело замедляя шаг, поворачиваясь всем телом, он с рассеянным вниманием взглядывал на роскошные вещи, выставленные в темных блестящих витринах. Впрочем, держался он не слишком-то естественно, и, приближаясь, Порция не совсем понимала, действительно ли Сент-Квентин ее не видел, или все-таки видел, но притворялся, что нет. Она замешкалась – может, перейти на другую сторону? – но потом зашагала ему навстречу, размахивая портфелем, будто легкая лодочка – навстречу штормовому ветру; причины остановиться она так и не придумала.
Что-то в витринном отражении привлекло Сент-Квентина, и он обернулся.
– О, приветствую, – быстро сказал он, – приветствую! Значит, ты тоже вернулась, славно, славно! Что делаешь?
– Возвращаюсь домой с занятий.
– Счастливица! А я вот ничем не занят. Убиваю время. Ты идешь через Мандевилль-плейс? Пройдемся по Мандевилль-плейс?
И они вместе свернули за угол. Порция перехватила портфель другой рукой, спросила:
– Как ваша новая книга?
Вместо ответа Сент-Квентин взглянул вверх, на окна домов.
– Давай говорить потише – тут одни лечебницы. Сама знаешь, больным бы только подслушивать… Ты хорошо провела время? – спросил он, понизив голос.
– Да, очень, – ответила она почти шепотом.
Ей виделись высокие белые койки с табличками, восковые цветы.
– Прости, никак не припомню, где ты была.
– В Силе. На море.
– Замечательно. Скучаешь теперь, наверное. Хотел бы и я куда-нибудь съездить. И, знаешь, поеду, наверное, у меня нет причин никуда не ехать, просто я в таком взвинченном состоянии. Расскажи-ка мне что-нибудь. Как твой дневник?
Лицо Порции полыхнуло перед ним, она метнула на него взгляд, какой бывает у пойманной, перепуганной птицы. Они замедлили шаг, пропуская человека, который, выскочив из такси с охапкой цветов, взбирался по неприветливым ступенькам лечебницы. Когда они пошли дальше, Сент-Квентин уже овладел собой, но Порция – неотрывным, застывшим взглядом – смотрела прямо перед собой, на вытянувшуюся пасмурным каньоном улицу, которая теперь, в приступе весеннего помрачения, казалась пугающей.
Он сказал:
– Это была просто догадка. Что-то мне подсказывает, что ты ведешь дневник. У тебя ведь точно есть мысли о жизни.
– Нет, я не слишком много думаю, – ответила она.
– Милая девочка, это как раз совсем необязательно. Но я уверен, что ты откликаешься на жизнь. И стоит на тебя взглянуть, как мне становится интересно – что это за отклики.
– Я не знаю. И вообще, как это – откликаться на жизнь?
– Ну, я бы мог объяснить, но надо ли? Но чувства-то у тебя есть, разумеется?
– Да. А у вас разве нет?
Сент-Квентин угрюмо закусил верхнюю губу, отчего его усы поникли.
– Нет, нечасто. То есть, по правде сказать, нет. Они не вызывают у меня особой радости. Так, но почему же я решил, что ты ведешь дневник? Ты знаешь, я вот смотрю на тебя и думаю, вряд ли ты поступишь так необдуманно.
– Если бы я вела дневник, это была бы страшная тайна. Что же тут необдуманного?
– Да просто записывать все, что случилось, – уже безумие.
– Но вы же целыми днями пишете книги, разве нет?
– Но я пишу о том, чего никогда не случалось – могло, конечно, но не случилось. И несмотря на то, что в моих книгах описываются вполне возможные чувства – даже, наверное, куда более возможные, чем люди готовы признать, потому что это их пугает, – но этих чувств, в общем-то, не существует. Так что, видишь ли, я с самого начала просто во все это играю. Но я никогда не напишу того, что произошло на самом деле. Забывчивость свойственна самой нашей природе, вот и не стоит об этом забывать. Память и так невыносима, но даже от нее многое ускользает. Память бы не расставалась с нами так просто, не будь она наполовину выдумкой, – мы помним только то, что нас устраивает. Нет, право же, эммм… Порция, поверь мне: если время от времени не глотать по ложке лжи, то непонятно вообще, как можно снести прошлое. Слава богу, что такая вещь, как голый факт, существует всего какую-нибудь долю секунды. Прошло десять минут, полчаса, и мы уже прилепили к нему какое-нибудь украшение. «Часы с тобой, моя любовь, нижу как нитку жемчуга…»[37] Но дневник (особенно если вести его регулярно) уж слишком недалеко ушел от голых фактов. Нужно все-таки на какое-то время затаиться и только потом уже глядеть в прошлое. Возьми любые воспоминания о былых днях, какие они все гладенькие… И кроме того, а вдруг его кто-то прочтет?
Порция запнулась, покрепче перехватила портфель. Она поглядела на довольно-таки акулий профиль Сент-Квентина, отвернулась, но промолчала, – молчала она так напряженно, что он снова повернулся и посмотрел на нее.
– Я бы держал его на замке, – сказал он. – И никому бы не доверял, ни на грош.
– Но я потеряла ключ.
– Потеряла? Послушай-ка, давай начистоту: мы разве не о гипотетическом дневнике говорим?
– У меня самый обычный дневник, – беспомощно сказала она.
Сент-Квентин закашлялся – с еле заметной жалостью.
– Прости, пожалуйста, – сказал он. – Я снова оказался чересчур умен. Но обычно для меня это ничем хорошим не заканчивается.
– Мне бы не хотелось, чтобы кто-то о нем знал. Это просто – мое.
– Нет, тут ты как раз ошибаешься. Дневник не сводится к одному человеку. Ты делаешь очень опасное дело. Ты все время цепляешь одно к другому, а это уже порочно.
– Не понимаю, как это?
– Ты нас пишешь, превращаешь нас во что-то новое. А это нечестно – мы ведь не следим за собой в твоем обществе. Например, теперь я знаю, что ты ведешь дневник, и мне всегда будет казаться, будто я – часть какого-то сюжета. Ты сгущаешь краски. Конечно, – по-доброму сказал Сент-Квентин, – пишешь ты, наверное, одни глупости, но в то же время позволяешь себе всякие вольности. Расставляешь нам ловушки. Отбираешь у нас всякую свободную волю.
– Я пишу о том, что случилось. Я ничего не выдумываю.
– Ты создаешь из событий конструкции. Ты очень опасная девочка.
– Никто не знает, что я делаю.
– О, поверь мне, мы это чувствуем. Видишь, как нам не по себе.
– Я же не знаю, каким вы были до этого.
– И мы тоже, до этого нас все устраивало. Но то, что ты скрытничаешь, нечестно. Божий соглядатай, и все такое…[38] И вот еще что обидно: натура у тебя любящая, но ты – любящая натура in vacuo[39]. Не злись на меня за эти слова. В конце концов, мы с тобой живем в разных местах, мы редко встречаемся и ты почти не имеешь ко мне никакого отношения. Но все-таки…
– Вы сейчас надо мной подшучиваете или раньше шутили? Что вы надо мной пошутили, я точно знаю. Сначала вы сказали, что уверены, будто я веду дневник, потом начали говорить, что этого не стоит делать, потом сделали вид, будто не знали, что у меня и вправду есть дневник, и назвали меня злобным соглядатаем, а теперь вот вы говорите, что я всех слишком люблю. Теперь-то я поняла, что вы знали о моем дневнике… Наверное, Анна его нашла и вам рассказала? Она его нашла?
Сент-Квентин покосился на Порцию:
– Добром для меня это не кончится.
– Нашла или нет?
– Лгать я, конечно, умею, да вот беда – не отличаюсь преданностью. Так что да, Анна его нашла. Что теперь начнется! Слушай, могу ли я рассчитывать на твое молчание? На мое, как видишь, рассчитывать нечего.
Сдвинув шляпку со лба, Порция повернулась и смело оглядела Сент-Квентина с ног до головы. Она не верила, что тот не умеет хранить молчание, ей казалось, что у него просто нет совести.
– Вы просите, – произнесла она, – не говорить Анне, что вы мне все рассказали?
– Мне бы очень этого не хотелось, – робко сказал Сент-Квентин. – Избегай скандалов и отныне получше приглядывай за своим письменным столиком.
– Она вам сказала, что у меня есть столик?
– Полагаю, он у тебя должен быть.
– А часто она…
– Насколько я знаю, нет. Да не волнуйся ты, умоляю. Просто спрячь свою книжечку куда-нибудь в другое место. По собственному опыту знаю, что все спрятанное нужно время от времени перепрятывать.
– Благодарю вас, – растерянно сказала Порция, – вы очень добры.
Больше она ничего не могла из себя выдавить, ноги неумолимо несли ее вперед. Разговор оборвался бездной – глупо было бы притворяться, что это не так. Как это бывает с людьми в состоянии шока, Порция не понимала, где находится – они были в самом центре Мэрилебона в толпе покупателей, – и бросала затравленные, нечеловеческие взгляды на проплывавшие мимо нее лица, на лица, смотревшие в ее сторону. Она знала, что Сент-Квентин идет рядом с ней только потому, что ей хотелось свернуть в какой-нибудь переулок и сбежать. Так, быстро, в этом ужасном сне, они шли какое-то время, пока Сент-Квентин вдруг не воскликнул:
– О, эти пробелы в людях!
– Что вы сказали?
– Ты не спросила меня, почему я так поступил. Ты даже себе этого вопроса не задала.
– Вы поступили по-доброму.
– Самые невероятные, самые несвойственные человеку поступки ни у кого не вызывают ни малейшего любопытства, даже у друзей. Можно всю натуру себе переломать, но если делать это тихо, никто и не заметит. И дело даже не в том, что мы нелюбопытны, мы просто-напросто не замечаем чужого существования. Даже ты, с твоей-то любящей натурой… Я сейчас в некотором роде предал Анну, я сделал то, чего она мне никогда не простит, а ты, Порция, даже не спрашиваешь, почему. Я осознанно и, как мне кажется, вполне бескорыстно положил начало тому, что может привести к ужасному разрыву. Мне такое совершенно не свойственно: я не порчу никому жизнь, у меня на это нет времени, мне это даже не очень интересно. Ты совсем меня не слушаешь, да?
– Простите, я…
– Конечно, ты расстроена. Мы с тобой, наверное, все равно что в разных концах света. Перестань думать о своем дневнике, об Анне и выслушай меня – и, Порция, хватит шарахаться от меня, как от сверла. Ты ведь хочешь хоть что-то понять о том, почему люди поступают так, а не иначе. Думаешь, мы гадкие…
– Нет, я…
– Нет, не все так просто. То, из-за чего мы тебе кажемся гадкими, всего лишь наш нехитрый способ выживания. Нам нужно жить, хотя ты, конечно, можешь и не видеть в этом необходимости. В конечном итоге мы можем и просчитаться. Но мы, однако, пытаемся быть куда любезнее и добрее, чем мы есть на самом деле. Дело в том, что нас не тянет друг к другу, то есть нас не тянет друг к другу по доброй воле. И это отсутствие goыt[40] заставляет нас вести себя с некоторой осмотрительностью. Мне очень даже нравится Анна, и поэтому я закрываю глаза на многие ее недостатки, и потому что я нравлюсь ей, она закрывает глаза на мои. Мы смеемся нашим с ней шуткам и бережем нашу с ней репутацию… Когда я выдал ее тебе, то нарушил общепринятые правила. Такое нечасто бывает. Только люди в состоянии затяжной истерики, как, например, твой друг Эдди, или люди, которым мнится, будто они наделены какой-то высшей властью – как, скорее всего, мнится все тому же Эдди, – могут постоянно нарушать все правила подряд. Последуй он вдруг какому-то правилу, и для него это станет событием, но когда он нарушает очередное правило, это уже даже неинтересно – по крайней мере, мне. Совершенно не понимаю, отчего он так увлечен Анной…
– И Анна им тоже увлечена?
– Это же очевидно, разве нет? Из этого можно сделать вывод, что она и впрямь очень традиционно мыслит. Он, конечно, тоже знает, как вскружить голову… Нет, что-то должно задеть меня за живое, чтобы я нарушил правила, чтобы сказал правду. Любовь, выпивка, злость – и весь мир вдруг летит к чертям, и ты оказываешься в фантастической вселенной. И все великолепие, вся невидаль этой вселенной, право же, не поддается описанию. Из человека ты превращаешься в исполина… Но я все равно не понимаю, почему это только что произошло со мной. Наверное, все дело в этой удушающей весне. Духовная, прямо скажем, погодка-то.
– Думаете, она и Эдди рассказала о моем дневнике?
– Деточка, только меня не спрашивай, о чем они там разговаривают… А почему мы здесь свернули?
– Я всегда тут хожу, через кладбище.
– Бесполезно что-либо объяснять – все равно это для тебя пустой звук. Когда-нибудь ты еще услышишь, каким важным я был человеком, вот тогда ты поломаешь голову, припоминая, о чем я там тебе говорил. Где ты будешь жить потом?
– Не знаю. У тетки.
– Нет, там ты обо мне не услышишь.
– Кажется, когда я уеду от Анны с Томасом, то поеду жить к тетке.
– Ну, вот у тетки обо всем и пожалеешь. Впрочем, нет, я к тебе несправедлив. Мне бы не надо так с тобой разговаривать, просто ты – вся как маленький камушек.
– Вы мне об этом уже говорили.
– Верно, верно. Тебе нравится ходить через кладбище? А почему тут посередине оркестровая площадка? И, раз уж мы почти дошли до дома, сделай что-нибудь с лицом.
– У меня нет пудреницы.
– Мне даже не жаль, что так вышло, рано или поздно это должно было случиться… Нет, я не о пудре говорил, а о твоем выражении лица. Если чему и стоит научиться, так это выносить людей, которые именно сейчас тебе невыносимы.
– Анны нет дома, ее кто-то пригласил к чаю.
– Если бы я не наговорил тебе столько всего, то позвал бы тебя выпить со мной чаю в какой-нибудь чайной. Впрочем, без четверти пять меня ждут в другом месте. Так что мне, кажется, пора. Ты, наверное, жалеешь, что мы встретились?
– Наверное, хорошо, что я обо всем узнала.
– Отнюдь нет, право же. Сказать по правде, я поступил с тобой так, как ни за что не поступил бы с собой. И – самое ужасное – мне от этого стало гораздо лучше. Что ж, до свидания, – сказал Сент-Квентин, снимая шляпу и останавливаясь на асфальтовой кладбищенской дорожке посреди надгробий и плакучих ив.
– До свидания, мистер Миллер. Благодарю вас.
– Я бы так не говорил.
Это было в среду. В субботу же Порция быстро выскользнула из кресла Эдди, куда он тут же с радостью уселся снова, и заняла свое привычное место на скамеечке возле огня. Дрова в камине потрескивали и бледно вспыхивали, окна обрамляли панорамы из промокших деревьев, в дождливом послеполуденном свете комната казалась вытянутой, нечеткой. Между Порцией и Анной тянулся натюрморт с чайным подносом. На коленках Порция удерживала тарелку, по которой ездило туда-сюда печенье с изюмом. Она грызла печенье и смотрела, как Анна пьет чай с Эдди, – как и раньше, когда она смотрела, как Анна пьет чай с другими своими близкими друзьями.
Но, что бы там ни происходило, с ее появлением в гостиной наступила неловкая пауза. И позволив ей эту паузу заметить, они, против ее воли, сделали ее своей сообщницей. Эдди, облокотившись на ушко кресла и подперев рукой голову, глядел в огонь. Глаза его следили за движущимися огоньками пламени. Лениво, чтобы потешить самого себя, он принялся делать губами «рыбку» – то выпячивая скругленную нижнюю губу, то снова ее втягивая. Анна вскрыла ногтем новую пачку сигарет и стала набивать ими свой черепаховый портсигар. Порция доела печенье, подошла к столу и взяла еще одно. На минутку оторвавшись от созерцания огня, Эдди одарил ее легкомысленной улыбкой.
– Когда мы с тобой пойдем гулять?
Вместо ответа Анна спросила:
– Хочешь еще чаю?
– Две недели назад, – вдруг сказала Порция, возвращаясь за чашкой, – я пила чай в гольф-клубе с Дикки Геккомбом и Кларой, это девушка, с которой он иногда играет в гольф.
Анна опустила подбородок, рассеянно улыбнулась и кивнула. Думая о чем-то своем, она спросила:
– Тебе было хорошо?
– Да, дрок уже зацвел.
– Да, в Силе, наверное, хорошо.
– В моей комнате была картинка с тобой.
– Фотография?
– Нет, картинка. Ты держишь котенка.
– Котенка? – удивилась Анна. – Какого еще котенка, Порция?
– Черного котенка.
Анна задумалась:
– Ах, тот черный котенок. Бедняжечка, он умер… Значит, я там маленькая?
– Да, у тебя длинные волосы.
– Рисунок пастелью. А, так это в комнате для гостей. А кто такая Клара? Расскажи мне о ней.
Порция не знала, с чего начать – и взглянула на Эдди. Он пришел в себя и совершенно непринужденно ответил:
– Клара? Положение Клары неопределенное. Ее нельзя было назвать частью компании. И в то же время мысли о ней меня преследуют – возможно, как раз поэтому. Она тратит кучу денег в надежде выйти замуж за Дикки – ну, Дикки Геккомба. Кроме того, ее сумочка что-то вроде мышиного гнезда, куда она ныряет в каждой непростой ситуации. Правда же, Порция? Мы сами это видели.
Анна сказала:
– Вот бы и мне так.
– Анна, дорогуша, тебе это совершенно незачем… В общем, в тот вечер в «Павильоне» Кларе из-за нас пришлось полезть в сумку. Когда мы все так гадко себя вели. Я-то, разумеется, хуже всех. Анна, все было правда ужасно: мы с Порцией очень мило прогулялись по лесу, а потом я все испортил, когда напился и стал буянить. В «Вайкики» я поначалу произвел очень хорошее впечатление, но потом, боюсь, все пошло насмарку.
Эдди игриво покосился на Порцию, затем повернулся к Анне и продолжил:
– Кларе действительно нелегко пришлось: она смотрела только на Дикки, а Дикки смотрел только на нашу Порцию.
Порция ошеломленно вскинулась:
– Нет, Эдди, ничего он не смотрел!
– Ну, какие-то ухаживания были – правда, односторонние, и Дикки не готов был заходить слишком далеко. Я слышал, как он дышал на тебя в кино. Он дышал так сильно, что надышал даже на меня.
– Эдди, – сказала Анна, – ты и вправду очень вульгарен. – Она отстраненно, холодно уставилась на свои ногти, но через минуту не выдержала и спросила: – Вы ходили в кино? Когда?
– В самый вечер моего приезда, – живо ответил Эдди. – Все шестеро. Вся компания. Должен заметить, что Дикки меня просто шокировал: он не только старый фашист, он еще и вести себя не умеет. На побережье люди и вправду особо не церемонятся.
– Бедненький, – сказала Анна. – Ну а ты что?
– Там было темно, поэтому я не мог выразить ему своего отношения. Кроме того, его сестра держала меня за руку. Они там все не промах – знаешь, Анна, когда ты в следующий раз решишь куда-нибудь отослать Порцию, будь повнимательнее с выбором места.
Этого ему говорить не стоило.
– Порция умеет себя вести, – ледяным тоном сказала Анна. – А от умения себя вести зависит куда больше, чем ты думаешь.
Взгляд, которым Анна окинула Порцию, был бы даже добрым, приложи она к тому хотя бы малейшие усилия. Эдди же она, с ядовитой нежностью, сказала:
– Ты хоть и умен, но совершенно не можешь ни о чем рассказать. Более того, ты так стараешься извлечь пользу из всего происходящего, что даже не замечаешь, что происходит.
– Ладно, тогда спроси Порцию, – надувшись, ответил Эдди.
Но Порция опустила глаза и промолчала.
– А вообще, – сказал Эдди, – я тут говорю через силу, потому что у меня нет ни малейшего настроения разговаривать. Но тут мне положено всех развлекать. Прости, что огорчил тебя своими словами, но я практически говорю сквозь сон.
– Так иди домой, если хочешь спать.
– Не понимаю, с чего это ты так обиделась, стоило речи зайти о сне, а ты ведь обиделась, Анна. В дождливый весенний денек, когда других занятий нет, да еще в такой тихой милой комнатке – это же самое естественное дело. Нам бы всем надо лечь и уснуть вместо болтовни.
– Порция не очень-то болтала, – сказала Анна, глянув в сторону камина.
Едва один этот звук слетел с губ Эдди, всего одно слово – и желание уснуть развернулось в Порции, будто веер. Она увидела, как струи дождя отражаются в стоявшей на подносе серебряной посуде. Она почувствовала, словно стирается из комнаты, становясь такой незаметной, какой она и была на самом деле для Анны с Эдди. Она пододвинулась поближе к камину, прислонилась щекой к его мраморному боку, сделав это почти бессознательно, будто бы она была одна где-то совсем в другом месте. Спрятавшись за закрытыми веками, она расслабилась, ожила. Коврик, присборившись на начищенном полу, ушел у нее из-под ног; гостиная со всей ее жестокостью уплывала, расползалась в клочья, медленно линяла, будто попавший в воду рисунок.
С самого их разговора с Сент-Квентином мысль о том, что ее предали, завладела ей, захватила ее – во сне и наяву, словно чувство вины, и поэтому она не могла набраться духу, чтобы смотреть людям в лицо, поэтому она боялась встречи с Эдди. Но стоило ей закрыть глаза, пока он был в одной с ней комнате, стоило ей ощутить щекой бесстрастный мрамор, как она словно бы провалилась в объятия неприкосновенности – неприкосновенности сна, анестезии, бесконечного одиночества, неприкосновенности ее путешествия через всю Швейцарию спустя два дня после смерти матери. Она видела деревья, которые видела, когда поезд вдруг безо всякой причины остановился; она, всеми своими нервами, видела деревья в парке, сразу близкие и далекие. Она слышала сильское море, а затем – молчаливые просторы берега.
В гостиной наступило молчание. Потом Анна сказала:
– Вот бы и мне так, вот бы и мне было шестнадцать.
Эдди сказал:
– Как она мило выглядит, правда?
Чуть позже он тихонько подошел к Порции и дотронулся до ее щеки, на что Анна, по-прежнему сидевшая в гостиной, ничего ему не сказала.
3
– Честное слово, Анна, все слишком далеко зашло! – кипятился внезапно позвонивший Эдди. – Мне только что звонила Порция, сказала, что ты читаешь ее дневник. А я и ответить ей толком ничего не мог – в конторе были люди.
– И ты сейчас звонишь с рабочего телефона?
– Да, но все ушли обедать.
– Представляешь, я знаю, что сейчас обеденное время. У меня в гостях майор Брутт и еще двое друзей. Ты нечеловечески бестактен.
– Откуда мне было знать? Я подумал, ты можешь счесть это важным.
– Могу.
– Они там с тобой?
– Ну разумеется.
– Тогда до свиданья. Bon appétit, – прибавил Эдди громким, обиженным голосом.
Он бросил трубку раньше Анны, которая после разговора вернулась к столу. Трое гостей, заслышав в ее голосе нотки, какие обычно проскальзывают в ссорах влюбленных, старались не коситься в ее сторону; все трое, впрочем, были довольно простодушны. Мистер и миссис Пеппингэм, из Шропшира, были в этот понедельник званы к обеду, потому что их сосед в Шропшире, по слухам, искал себе управляющего, и на это место, вероятно, мог подойти майор Брутт. Но чем дольше длился обед, тем понятнее становилось, что если майор и сумел произвести впечатление на Пеппингэмов, то только как весьма порядочный человек, которому отчего-то не суждено ни в чем преуспеть. Чертовское невезение, но ничего не поделаешь. Майор выказывал трогательную несговорчивость и решительно отказывался прыгать через обручи, которые время от времени подставляла ему Анна. Пеппингэмы явно считали, что, хоть майор и преуспел на войне, ему вообще-то повезло, что ему подвернулась война, на которой можно было преуспеть. Тщетно Анна пыталась разговорить майора, повторяя, что он выращивал каучук, что он был – ведь был же? – управляющим довольно большого поместья в Малайе и что, конечно, самое-то главное – да ведь? – он умел руководить людьми.
– Да-да, действительно, – дипломатично согласился мистер Пеппингэм.
Миссис Пеппингэм сказала:
– В нашу эпоху социальных перемен я подчас опасаюсь, что это уже утраченный навык, – это я об умении руководить людьми. А мне всегда кажется, что люди работают вдвое усерднее, когда им есть на кого равняться. – Моральная правота ярким румянцем поползла у нее по шее, и миссис Пеппингэм твердо прибавила: – Я совершенно уверена, так оно и есть.
Анна подумала, что в нынешнее время каждый разговор – это просто ужас, чужие убеждения то и дело всплывают на поверхность, заставляя людей краснеть. Уж было бы куда лучше, когда любые высказывания такого рода люди списывали бы на религию, а за столом о ней не говорили.
– Наверное, в провинции об этом больше задумываешься, – сказала она. – Это беда Лондона, тут никто не думает.
– Сударыня, дорогая моя, – сказал мистер Пеппингэм, – думают тут или не думают, но есть же вещи, которых нельзя не замечать. Умрут традиции, пропадет и чувство ответственности.
– Конечно, ведь, например, в конторе вашего супруга… – начала миссис Пеппингэм.
– Я не бываю у него в конторе. И я вовсе не думаю, что Томаса там боготворят, если вы об этом. Он бы, наверное, не знал, что с этим делать.
– Нет, я не о том, когда человека боготворят. Боюсь, это верный путь к диктатуре, правда ведь? Нет, я вот о чем, – сказала миссис Пеппингэм, с робкой, но непреклонной улыбкой теребя свое жемчужное ожерелье и снова заливаясь краской, – я говорю об инстинктивном чувстве уважения. Для людей, которые на нас работают, это очень много значит.
– По-вашему, это чувство можно внушить?
– Приходится, – с кислым видом ответила миссис Пеппингэм.
– Как жаль, что к этому нужно прикладывать какие-то усилия. Я бы куда охотнее просто платила людям и на этом ставила точку.
Сказать что-то еще о классовых различиях миссис Пеппингэм помешала Филлис, которая решительно принялась обносить гостей апельсиновым суфле. PAS AVANT LES DOMESTIQUES[41] – вот что могли бы выгравировать Пеппингэмы у себя в столовой на каминной полке, сразу под HONI SOIT QUI MAL Y PENSE[42]. Миссис Пеппингэм положила себе суфле и, взглянув на манжеты Филлис, умолкла. Анна, погрузив в суфле вилку и ложку с чистосердечной жадностью человека, знающего, что находится в собственном доме, где всего вдосталь, заметила:
– Кроме того, вы, кажется, говорили, будто это чувство инстинктивное. Чьи инстинкты вы имели в виду?
– Уважение – весьма распространенный человеческий инстинкт, – ответил мистер Пеппингэм, одним глазом следя за перемещением суфле.
– О да. Но вы думаете, так и есть до сих пор?
На какую-то долю секунды взгляды обоих Пеппингэмов встретились. У них одни и те же идеалы, думала Анна. А у нас с Томасом? Наверное, тоже, но какие? Хоть бы майор Брутт сказал что-нибудь или начал бы мне возражать, – Пеппингэмы, не ровен час, сочтут его коммунистом. У людей о моем доме сложилось какое-то неверное представление – Пеппингэмы явно пришли сюда в расчете на Интересную Беседу, потому что им кажется, что в Шропшире им этого недодают. Многого же они хотят у себя в провинции. Они и забыли, что майор Брутт пришел сюда в поисках работы, они, наверное, оскорбились, увидев, что кроме него никого нет. Позови я какого-нибудь писателя – на что они, наверное, и надеялись, – все было бы не так безнадежно, и, как знать, может, и Пеппингэмы бы повеселели, и майор Брутт на фоне писателя казался бы практичным человеком. Я думала, что моих beaux yeux[43] вполне хватит для того, чтобы Брутт с Пеппингэмами упали друг другу в объятия. Но эти Пеппингэмы отнюдь не чувствуют себя польщенными, не настолько они милы. В них нет ничего, кроме расчетливой жесткости, они думают, что я их использую. Что я бы, впрочем, и сделала, не будь они такими невозможными. Они презирают майора Брутта за то, что он лучше них, и за то, что он не преуспел там, где преуспели они. Ох, боже, боже, я ни за что им его не продам.
– А вы не одобряете моих убеждений, да ведь? – бросила она майору Брутту с призывной, лихорадочной улыбкой.
Он раскрошил кусок хлеба и теперь тихонько ел крошки.
– Да нет, я бы и не осмелился, наверное. Да еще все сразу. Я, конечно, никоим образом не сомневаюсь, что в ваших словах есть резон. – И с добротой глядя на нее своими честными серыми глазами, он прибавил: – Но мне потому и хочется где-нибудь наконец осесть, чтобы у меня появилось время подумать о собственных убеждениях. Когда сам толком не знаешь, что будет завтра, то и чувствуешь себя вечно не в своей тарелке, и часто, если я и соберусь о чем поразмыслить – времени-то у меня все-таки предостаточно, – то вскоре понимаю, что я не в форме, и поразмыслить ни о чем и не получается. А вот послушать, как другие что-то обсуждают, – это для меня праздник, но со своим мнением я уж соваться не смею.
– Что касается нашей очаровательной хозяйки, – сказал мистер Пеппингэм (которого уже сил не было терпеть), – то я не одобряю только одного: она так и не поведала нам, какие у нее убеждения.
Окончательно сдавшись, Анна ответила:
– Я бы и поведала, если б понимала, о чем мы говорим.
Благодушный мистер Пеппингэм с аппетитом принялся за сыр. Анне захотелось потянуться через весь стол, схватить майора Брутта за руку и сказать: «Плохо. Я снова вытянула вам пустой билет. Мне не удалось продать вас, и, уж будем честными, вы и сами не слишком-то старались продать себя. Плохо, плохо, плохо – и больше мы вам тут ничем не поможем. Возвращайтесь к тому, с чего начали: к объявлениям в “Таймс”, к надеждам, что однажды вам попадется кто-то, кому только что попался кто-то еще, и вот этот кто-то и подкинет вам работенку. Вам вот попались мы. Вас это, правда, не спасло. Что ж, старина, повезет в другой раз».
Je n’en peux plus[44].
По правде сказать, майор Брутт – и сегодня, когда он так кротко, заодно с кофе, проглотил новость, что ничего из этой шропширской истории не выйдет, и во время прочих своих, частых и простодушных, визитов – был для Квейнов постоянным, а точнее немым, укором, как и Порция. Он не так уж долго пробыл подле их семейного очага и был, в общем-то, не слишком уж и близок к нему, чтобы, вернувшись к себе в Кенсингтон, хоть раз осознать, что тепло этого очага лишь воображаемое. Квейны по-прежнему были центром и целью его несбывшихся желаний, и он, несомненно, думал о них, сидя в гостиной своего отеля или шагая по Кромвель-роуд. Несомненно, это за мысли о них он цеплялся, когда у него не выгорало очередное дельце, когда очередная затея оканчивалась пшиком, когда очередное его полное надежд письмо оставалось без ответа, когда очередной выход оказывался тупиком, когда он в очередной раз понимал, что деньги на исходе. И он давал Квейнам понять, что постоянно о них думает. Становятся ли люди добрее и счастливее, если кажутся кому-то добрыми и счастливыми? Только жалость, наверное, удерживала Анну от того, чтобы разочаровать майора до глубины души. Он был приложением к завершившейся истории с Робертом. Что толку, что толку жалеть о том, что они встретились, ведь этого, похоже, было не избежать. В каком-то смысле майор Брутт достался ей по наследству от Роберта. Или, как знать, может, он казался ей последней и обидной – обидной, потому что им всегда недоставало горечи, – шуткой Роберта, обидным напоминанием о ее слабостях, ради которого Роберт сумел подчинить себе даже судьбу?
Майор Брутт пересидел Пеппингэмов, лишив тем самым Анну возможности пропеть майору дифирамбы, оставшись с ними наедине, – сказать, что тому, кто наймет майора, неслыханно повезет, или повторить, что он награжден орденом «За выдающиеся заслуги». Готовясь попрощаться с Анной, майор встал и оглядел гостиную.
– Какие милые вы мне прислали гвоздики. Я попросила Порцию написать вам ответ, потому что сама очень устала и, кроме того, надеялась, что мы скоро увидимся. Сами знаете, как оно бывает, когда возвращаешься домой. И поэтому вдвойне приятно найти дома цветы.
Майор просиял.
– А, отлично, – сказал он. – Если вам от них стало повеселее…
Повинуясь какому-то смутному желанию встряхнуться, ожить, Анна спросила:
– Вы, наверное, не получали вестей от Пиджена – с нашей последней встречи?
– Забавно, кстати, что вы об этом спрашиваете…
– Забавно? – повторила Анна.
– Вестей-то я не получал – с этим, конечно, чертовски туго, когда нет постоянного адреса. Со временем люди попросту перестают тебе писать. Так-то, конечно, адрес у меня есть – адрес гостиницы, но на конверте он не выглядит очень уж постоянным. Люди думают, что ты уже оттуда уехал – по крайней мере, так было в моем случае. Но даже если б у меня и был постоянный адрес, от Пиджена я бы все равно не получал вестей. Он-то никогда писем не писал.
– Не писал, да… Но вы ведь начали о чем-то рассказывать?
– Ах да. Это и вправду очень забавно. Со мной вечно что-нибудь такое случается. Недели с две назад мы с Пидженом разминулись на каких-нибудь три минуты – буквально вот настолько. Надо же такому случиться – в смысле, я и не знал, что он в Англии, и разминулся с ним всего на полшага.
– Расскажите.
– Ну, мы с одним моим приятелем зашли в клуб – в клуб этого приятеля – и встретились с другим нашим приятелем, которого я, кстати, тоже сто лет не видел, а тот три минуты назад разговаривал с Пидженом. Разговаривал с Пидженом в этом самом клубе. «Ну и ну, – говорю я, – бывает же такое. А он еще здесь?» Но тот, другой наш приятель сказал, что нет. Что он уже ушел. Я спрашиваю, а в какую сторону он пошел, – думал, может, еще успею догнать, но приятель, конечно, и понятия не имел. Я решил, что это удивительнейшее совпадение, и подумал, что надо будет обязательно вам рассказать. Приди я тремя минутами раньше!.. В конце концов все дело случая. Наперед ничего не угадаешь. Вспомните, например, как я совершенно случайно встретил вас. В книге такая сцена вышла бы совершенно неправдоподобной.
– Да это и вправду вышло неправдоподобно. Со мной, например, таких вот внезапных встреч не случается.
Майор Брутт медленно просунул кулаки в карманы, слегка растерянно что-то обдумывая. Он сказал:
– Ну и вы, конечно же, в ту неделю были за границей.
– В какую неделю?
– Когда я разминулся с Пидженом.
– Ну да, я была за границей. А вы… вы больше ничего не знаете? Он еще в Лондоне или нет?
– Это я бы и сам хотел знать. Чертовская незадача. Он может быть где угодно. Но у того нашего приятеля вроде как сложилось впечатление, что Пиджен куда-то уезжает, что он, как мы говорили, «встал на крыло». Да и вообще он вечно куда-нибудь уезжает. Лондон он не слишком-то любит.
– Да, Лондон он не слишком-то любит.
– Но, знаете, хоть я и проклял все на свете из-за того, что мы с ним тогда разминулись, это все-таки лучше, чем совсем ничего. Появился один раз, появится и в другой.
– Да, надеюсь, что он снова где-нибудь появится… Да только не там, где буду я.
Анне обреченно пришлось признать, что она наконец-то это сказала. С безмерным спокойствием она взглянула на себя в зеркало. Тем временем майор Брутт, прислонившись к каминной полке, изучал стеклянную, похожую на лодку вазу с розами, аромат которых уже некоторое время не давал ему покоя. Он благоговейно вдавил самый кончик пальца в мягкость пунцовых лепестков, а затем, нагнувшись, старательно их понюхал. Этим театральным и для него несколько неестественным движением он дал понять, что знает: он оказался там, куда она, возможно, не хотела бы его пускать, – за закрытой дверью, в роли всеми позабытого посыльного, ждущего ответа, которого может и не быть. Замешательство, почтение, готовность печалиться или подставлять плечо читались в каждой линии его тела. Он был бы и рад сдвинуться с места, скажи она хоть слово. Не в его обычае было замечать цветы или хоть какие мелочи в обстановке, но теперь, раз уж он выказал розам столько внимания, ему пришлось вступить с ними в несколько натянутые отношения. Он снова потыкал в них пальцем и спросил:
– Цветы, наверное, из-за города?
– Да. А ваши прелестные гвоздики как раз накануне увяли.
А может быть, он не улавливает какого-то намека, может, Анна специально подвела все к тому, чтобы он мог без обиняков спросить: слушайте, что все-таки произошло? Куда все подевалось? Почему вы не миссис Пиджен? Ведь вы – по-прежнему вы, да и он вроде по-прежнему на себя похож. Вы оба ведь вполне устраивали вас обоих. Вы – по-прежнему вы, так что же с тех пор изменилось?
Он посмотрел на нее, но ситуация была такой щекотливой, что у него – чуть ли не впервые – забегали глаза. Он посмотрел на нее и обнаружил, что она на него не смотрит. Вместо этого она вытащила из сумочки носовой платок и высморкалась – быстро и деловито. Если Анна когда и выказывала нерешительность, то сейчас – пряча платок обратно в сумку. Она сказала:
– Я не была бы такой дрянью, если бы Пиджен не вбил мне это в голову.
– Дорогая моя девочка!..
– Ну да, так оно и есть, и все так считают. Даже этот отвратительный сопляк Эдди позвонил мне во время обеда, чтобы сообщить, как дурно я обращаюсь с Порцией.
– Боже правый!
– Вам ведь Эдди не нравится, да?
– Ну, у нас с ним мало общего. Но послушайте, я хочу сказать, что…
– Роберту до меня и дела не было, – с улыбкой прервала его Анна. – А вы не знали? Ему до меня не было никакого дела. Ничего, в общем-то, не случилась, я не разбила ему сердце. И при всех обстоятельствах – теперь-то вы понимаете, что это были за обстоятельства, – мы вряд ли могли пожениться.
Он пробормотал:
– Наверное, оно все и к лучшему.
– Разумеется, – снова улыбнулась Анна.
Он быстро отозвался:
– Разумеется. – И оглядел элегантную комнату.
– Но что-то я перескакиваю с одного на другое, – с величайшей непринужденностью продолжала она. – На самом деле, не так уж и важно, что там было в прошлом, я просто хочу, чтобы насчет нас с Робертом не оставалось никакого недопонимания. Нет, если я сегодня слегка взвинчена, так это из-за того, что совершенно посторонний юноша позвонил мне посреди обеда и сообщил, что Порция несчастна. А мне-то что делать? Сами знаете, какая она тихая; ей, наверное, совсем уже несладко пришлось, раз она взяла и пожаловалась чужому человеку. Эдди, правда, очень дотошный.
– С вашего позволения, – сказал майор Брутт, – это просто неслыханно, чудовищная наглость с его стороны. И это еще мягко сказано. Должен признать, сам я никогда…
– Этот юный негодяй всем дерзит, – сказала она, задумчиво барабаня по каминной полке. – Но я беспокоюсь за Порцию. Это так на нее не похоже. Майор Брутт, вы неплохо знаете нас как семью – как по-вашему, Порция счастлива?
– Конечно, не стоит забывать, что бедный ребенок только что потерял мать, а так у меня и в мыслях ничего другого не было. Мне казалось, что она у вас прижилась, как будто здесь и выросла. Для девочки-то жизнь у нее идеальная.
– Или вы просто очень хорошо обо всем думаете? Конечно, мы даем ей больше свободы, чем положено шестнадцатилетним девочкам, но нам казалось, что она уже для этого достаточно взрослая – она ведь заботилась о матери. Теперь я понимаю, что девочкам надо еще повзрослеть, прежде чем они самостоятельно смогут выбирать себе друзей – особенно среди юношей.
– Хотите сказать, что этот юнец был слишком назойлив?
– Похоже на то. Конечно, я-то во всем виню себя. Он у нас часто бывал – ему одиноко, и мы старались его подбодрить. Но в остальном, по-моему, Порции зимой жилось здесь очень счастливо. Она вроде как освоилась. Но вы сами знаете, потом она уехала к морю, и вот там-то, боюсь, все и пошло насмарку. Моя старая гувернантка – просто ангел, но от ее детей многого ждать не приходится, и они как раз могли чем-то огорчить Порцию. Она сама не своя, с тех пор как вернулась. Даже наша экономка это заметила. Порция уже не такая застенчивая, но и не такая порывистая. Нет, все-таки зря мы устроили эти каникулы, взяли и уехали, пока она у нас осваивалась. Слишком рано, очень глупо мы сдернули ее с места. Но Томас нуждался в отпуске, зимой ему на работе нелегко пришлось.
– Она такая славная малышка. Прелестная девчушка.
– А вот вы бы на моем месте, наверное, попросту взяли и послали Эдди к черту?
– Ну, наверное… Да, я бы так и сделал.
– И переговорили бы с Порцией?
– Ну, уж с этим вы точно справитесь.
– А знаете, майор Брутт, это ужасно глупо, но я очень застенчива.
– Я уверен, – пылко ответил он, – что она очень огорчится, если узнает, что огорчила вас. Я готов поклясться, у нее и в мыслях ничего подобного не было.
– Она даже не представляет, как Эдди умеет убалтывать людей. – В голосе Анны послышалась резкость, которую она больше не могла сдерживать. – Не задался у вас день, майор Брутт: сначала эти жуткие люди за обедом, а теперь еще и мои семейные неурядицы. Но мне стало легче от того, что вы думаете, что Порция счастлива. Скорее приходите к нам снова, и мы уж проведем время как-нибудь получше. Вы ведь скоро к нам снова придете?
– С преогромным удовольствием. Конечно, вы понимаете, насчет будущего особой определенности у меня пока нет. Что предложат, на то и соглашусь, а там уж одному богу известно, куда меня занесет.
– Но ведь не сразу, я надеюсь. В любом случае я очень рада, что вы не едете в Шропшир. И как нам с Томасом такое только в голову взбрело, теперь-то я понимаю, это совсем не то, что вам нужно. Ну, спасибо, что выслушали, вы были просто ангелом. Вредно, конечно, – заключила она, протягивая ему руку, – быть добрым другом эгоистке вроде меня.
И пока он сжимал ее руку, она все улыбалась, а потом и вовсе рассмеялась, глядя в окно, будто увидела что-то смешное в парке. На этом майор и откланялся. Анна же, не медля ни секунды, уселась за стол и набросала письмецо Эдди.
Дорогой Эдди,
Я, конечно, не могла этого сказать во время обеда, но на твоем месте я была бы поосмотрительнее с рабочим телефоном. Самому, наверное, сложно понять, когда переходишь черту, но в твоем случае, боюсь, эта черта уже давно пройдена. Я, кстати, слышала, что Томас с мистером Мерреттом собираются заняться всеми личными звонками с работы и на работу. Наверное, телефонистка наябедничала. И не надо думать, что Томас с мистером Мерреттом свирепствуют, для них это, похоже, дело принципа. Хоть ты и делаешь заметные успехи на работе, я бы на твоем месте все-таки вела себя поосторожнее, хотя бы неделю-другую. Это для твоего же блага, ты же знаешь, я хочу, чтобы ты преуспевал и дальше.
Что бы там ни рвались сообщить тебе твои друзья, я бы попросила их подождать до твоего возвращения домой. И друзьям я бы на твоем месте звонила бы из дома. Конечно, твои счета за телефон вырастут, но тут уж ничего не поделаешь.
Твоя Анна
Закончив писать, Анна взглянула на часы. Если она сейчас отошлет письмо почтой, Эдди получит его только завтра утром. Но если отправить письмо с посыльным, оно уже будет ждать Эдди, когда тот поздно вечером вернется домой. В такой час письма производят куда больше эффекта. Поэтому Анна отправила письмо с посыльным.
В этот же понедельник, в половине пятого пополудни, Лилиан и Порция выбрались из школы мисс Полли наверх, на Кэвендиш-сквер. Лилиан еще помедлила – мыла запястья, потому что от ее новых браслетов, хоть и шикарных, у нее на руках остались отметины. Поэтому в долгой веренице покидавших школу девочек они оказались последними. После тишины классной комнаты площадь словно дрожала от раскаленного звука, глянцевые окна высоких нестройных домов ослепительно блестели в лучах вечернего солнца. Деревья в центре площади сбрасывали с себя сквозняк, который, скользнув по мостовой, переворачивал их листья бледной изнанкой вверх. Выйдя с занятий, девочки очутились в неподатливом каменном мире, который нынешней весне растопить было не под силу, – впрочем, глядя на ветви в стальном солнечном свете, они почувствовали, что неприметная пока весна все-таки оставила здесь свой след.
Лилиан оглядела пышные косы, спадавшие ей на грудь.
– Куда ты сейчас? – спросила она Порцию.
– Я же говорила, я в шесть кое с кем встречаюсь.
– Вот я и спрашиваю, дурочка, до шести-то еще далеко. Ты пойдешь домой пить чай или что?
Порция ответила, очень нервно:
– Домой я не пойду.
– Тогда знаешь что, мы можем пойти в чайную. Чашечка чаю тебя точно успокоит.
– Это очень мило с твоей стороны, Лилиан, правда.
– Ну конечно, я же вижу, что ты расстроена. А я очень хорошо знаю, каково это.
– Только у меня всего шесть пенсов.
– Ничего, у меня три шиллинга. После всего, что мне пришлось пережить, – продолжила Лилиан, увлекая Порцию за собой, вниз по площади, – тебе вообще не стоит меня стесняться. И платок мой можешь оставить сегодня себе, вдруг он тебе понадобится, когда ты встретишься с этим своим кое-кем, только, пожалуйста, верни его завтра и смотри, чтобы его ненароком не постирали, у меня с ним связаны особые воспоминания.
– Ты очень добра.
– Я прямо есть не могу, когда расстроена, стоит мне съесть хоть кусочек, как меня сразу рвет. Я за обедом еще подумала: повезло тебе, что ты не такая, это все, конечно, привлекает внимание. Жаль, правда, что ты привлекла к себе внимание, когда звонила с телефона мисс Полли и тебя застукали. Знаешь, я бы на такое в жизни не решилась. Она, наверное, тебя чуть не растерзала?
– Она говорила со мной очень презрительно, – ответила Порция, и губы у нее снова задрожали. – Она еще с прошлого семестра думает, что я безнадежна, потому что тогда поймала меня с письмом. Намекает, что все дело в моем воспитании.
– Понимаешь, она как раз в том возрасте, когда женщины начинают чудить. А где, ты говорила, вы встречаетесь?
– Возле Стрэнда.
– Ага, совсем недалеко от конторы твоего брата, – сказала Лилиан, поглядев на Порцию огромными, близко посаженными темно-серыми студенистыми глазами. – Знаешь, Порция, ты будь поосторожнее: из-за одного ненадежного человека можно всю жизнь себе поломать.
– А разве можно вообще полюбить человека, если ему ни в чем нельзя довериться?
– Слушай, какой толк в том, чтобы быть лучшими подругами, если ты даже не хочешь мне сказать, что встречаешься с Эдди?
– Да, но я не из-за него расстроилась; я расстроилась, потому что кое-что случилось.
– Дома?
– Да.
– Ты о своей невестке? Мне она всегда казалась опасной женщиной, я просто сразу не стала тебе говорить. Слушай, не надо обо всем этом рассказывать посреди Риджент-стрит, на нас уже и так смотрят. Пойдем вон в ту Эй-би-си[45] напротив Политехнического[46], есть шанс, что нас там никто не узнает. Понадежнее, чем в «Фуллерс». И постарайся успокоиться, Порция.
Но, по правде сказать, это Лилиан приковывала к себе внимание, сурово глядя в лицо каждому прохожему. Порция шла рядом со своей похожей на богиню подругой, опустив голову, сражаясь с пронизывающим ветром. Когда они подошли к переходу, Лилиан сжала обнаженную ладонь Порции рукой в лайковой перчатке, животное, успокаивающее чувство добралось до самого локтя Порции, расслабило его. Она отпрянула, заметив свадебный ковер у выхода из церкви Всех Усопших на Лэнгхэм-плейс, – и, словно тонущий человек, наконец перестала дергаться в судорогах и всплыла, мертвой, назад, к солнцу. Она покачивалась между автобусами, в кильватере у Лилиан, с воздушной легкостью маленького трупа.
– Хоть у тебя и не испортился аппетит, – сказала Лилиан, опершись локтями на мраморную столешницу и стягивая перчатки – палец за пальцем (любой предмет одежды Лилиан всегда снимала с некоторой нарочитостью, всякий раз, когда она развязывала шарф или стаскивала с головы шляпку, разворачивалась небольшая драма), – хоть у тебя и не испортился аппетит, лично я не стала бы есть ничего жирного.
Она поймала взгляд официантки и заказала то, что ей казалось правильным.
– Видишь, в каком укромном месте я нашла нам столик, – сказала она. – Можешь смело говорить что угодно. Кстати, может, снимешь шляпку, вместо того чтобы постоянно сдвигать ее на макушку?
– Ох, Лилиан, мне и вправду почти нечего тебе рассказать.
– Не скромничай, моя дорогая, ты сама сказала, что против тебя сплели заговор.
– Я только имела в виду, что они смеялись надо мной.
– И почему же они над тобой смеялись?
– И обсуждали меня друг с другом.
– Что, и Эдди тоже?
Порция ответила уклончивым взглядом. Послушно, медленно она сняла простенькую шляпку, которую Анна сочла подходящей для ее лет, и примирительно положила на стол между ними.
– Пару дней назад, – сказала она, – в тот день, когда нам с тобой не удалось пойти домой вместе, я встретила мистера Сент-Квентина Миллера – по-моему, я тебе об этом не рассказывала? – и он почти что угостил меня чаем.
Лилиан с укоризной разливала чай.
– Зря ты, – сказала она, – постоянно вот так отвлекаешься. Ты обрадовалась, что чуть было не выпила чаю с Сент-Квентином только потому, что он писатель. Но ты ведь в него не влюблена, правда?
– Эдди тоже был писателем, раз уж на то пошло.
– Ну, вряд ли Сент-Квентин такой же гадкий, как Эдди, который смеялся над тобой вместе с твоей невесткой.
– Этого я не говорила! Не было такого!
– Тогда почему ты на нее злишься? Ты же сама сказала, что не хочешь идти домой.
– Она прочла мой дневник.
– О господи, Порция. Я и не знала, что ты…
– Я никому об этом не говорила.
– Темная ты лошадка, вот что. А как же она тогда узнала?
– Я никому не говорила.
– Честное слово? Никому?
– Ну… никому, кроме Эдди…
Лилиан пожала плечами, вскинула брови и подлила кипятку в чайник с таким выражением лица, которое Порция не осмелилась прочесть.
– Ну-у, – сказала она, – ну-у, господи, и чего ты еще хочешь? Вот и все, то есть все понятно! Вот я и говорю – это заговор.
– Я не о нем говорила. Заговор – не в этом смысле.
– Так, съешь-ка немного кекса, если можешь есть, надо есть. Иначе люди еще начнут на нас смотреть. Знаешь, мне кажется, ты не осилишь дорогу до Стрэнда. Если ты больше ничего не будешь, нам хватит денег на такси. Я поеду с тобой, Порция, мне совсем нетрудно, правда. Пусть видит, что у тебя есть друзья.
– Нет, он мой друг. Он всегда был мне другом.
– Я и подождать могу, – продолжала Лилиан, – если ты вдруг очень расстроишься.
– Это так мило с твоей стороны… Но лучше я пойду одна.
Печаль, безусловно, выбивает у человека почву из-под ног. Почти сразу оказывается, что рафинированное искусство молчания годится лишь для счастливых дней – или для тех дней, когда боль хотя бы выносима. Но стоит печали обрести полную власть, как чувство это становится мучительным, ядовитым, под его натиском гибнет любая гордость. Есть, правда, люди, которых тянет к местам, где произошло несчастье, которых больше всего на свете занимают смерти, рождения и болезни, и они бесцеремонно, едва учуяв что-то подобное, вмиг оказываются рядом, дыша тебе в спину с доброжелательностью могильщиков. Стоит завидеть этих стервятников в небе, и первое, что приходит в голову, – ты обречен. Но может статься, что это вовсе не стервятники, а вороны пророка Илии. С собой они приносят понимание того, что даже в самой уникальной скорби есть анестезирующая универсальность. С их помощью человеческая природа осознает свою грубоватую мудрость, свою деятельность, свою безошибочную находчивость и свою низость, пасть ниже которой уже невозможно. Несчастья принадлежат людям, и только дурацкая боязнь смерти, боязнь того, что свойственно всем нам без исключения, заставляет настаивать на том, что «горе лучше переживать в одиночестве». В обществах проще, наивнее и благороднее нашего страдалец становится общественным достоянием; место любой катастрофы вскоре перестает быть изолированной от всего воронкой. Истинным откликом на любое горе, откликом, который возвышает горе до поэтического уровня, оказываются не правильно подобранные слова, не безукоризненное тактичное молчание, но именно этот хор вульгарных, незваных друзей – друзей, не имеющих ни ума, ни вкуса.
Сказать по правде, нет такого утешителя, нет такого задушевного друга, которого, пусть даже бессознательно, не хотелось бы оттолкнуть. Внезапные срывы, водопады слез и слов, выплески частного, личного горя случаются сами по себе, как припадки, и в обстоятельствах, на которые по доброй воле никто не согласится. Утешители in extremis[47] – с их талантом оказываться в нужном месте в нужный момент, с их властью вызывать эти очистительные припадки – чаще всего, а то и всегда люди праздные, пустые, нездоровые или незрелые; люди, которые, почуяв пустоту, всеми силами стремятся туда влезть. В минуты счастья никому и в голову не придет делиться с этими людьми своей тайной весной, своей любовной гордостью, честолюбивыми замыслами, бодрящей надеждой, никто не станет делиться с ними изысканным удовольствием от жизни, с такими людьми попросту нельзя ничего обсудить. Но при этом их грубость, их назойливость, их бестактность уместны, когда всякая нежность нестерпима. Чем тоньше природа человека, чем выше уровень жизни, к которому он стремится, тем глубже он не просто утопает, а погружается в горе, – такие люди плачут вместе с жуликами и попрошайками, потому что с ними притупляется стыд за собственное несчастье.
И потому в тот невыносимый понедельник (через два дня после того, как Порция застала Эдди с Анной, и почти через неделю после откровений Сент-Квентина – предостаточно времени, чтобы это двойное предательство вымахало в полный рост, будто сросшееся с другим дерево) рядом с Порцией не могло оказаться никого лучше Лилиан. Драма с телефоном, приключившаяся перед самым обедом у мисс Полли, и стала той самой точкой, после которой в дело вмешалась Лилиан. Стоило плачущей в гардеробной Порции попасться ей на глаза, как Порция мигом перенеслась в зону субтропических чувств: нет никого добрее нарцисса, пока ты смотришь на жизнь его глазами. Быть понятой и обласканной Лилиан – все равно что рыдать в травянистом гроте, где теплый, сырой воздух и холодные касания ветвей папоротника успокаивают, расслабляют и полностью завладевают тобой. Величина всего меняется: теперь, когда поднимаешь мокрые глаза к небу, деревья кажутся не страшнее папоротника. И когда дело доходит до боли, вымышленные чувства не отличить от настоящих. Лилиан, с ее любовными арабесками и бессердечностью актрисы, смотрела на Порцию с мрачным состраданием – и хоть и отодвинула от нее блюдо с кексом, но зато принялась пересчитывать деньги, прикидывая, во сколько может обойтись такси.
– Ну, как знаешь, – сказала она. – Поезжай одна, раз уж тебе так хочется. Но не вздумай останавливать такси именно там, куда направляешься. Вдруг тебя потом будут шантажировать, кто знает.
– Мне всего-то надо добраться до Ковент-Гардена.
– Ну, дорогая моя, что же ты сразу не сказала?
4
Ковент-Гарден отнюдь не казался Эдди удобным местом для встречи, но придумать другое у него просто не было времени – не успел он сказать, что они могут найти место и получше, как Порция положила трубку. Хорошо хоть времени хватило отговорить ее от первоначальной затеи: она предложила встретиться в вестибюле у «Квейна и Мерретта». Одного этого – ведь она была такой послушной, тихой девочкой, приученной испытывать перед работой Томаса священный страх, – было достаточно, чтобы понять, в каком она отчаянии. Появилась бы там в расстроенных чувствах. Нет, такого нельзя было допустить.
В особенности такого нельзя было допустить на этой неделе. Нынешние отношения Эдди с фирмой «Квейн и Мерретт» (помимо неприятностей с телефонными звонками, о которых ему еще предстояло узнать от Анны) были и без того шаткими. Многих он вывел из себя, порхая по конторе, будто житель каких-нибудь теплых широт. Выходные у него часто затягивались. Кроме того, в отсутствие Томаса у Эдди создалось впечатление, что Мерретт легко подпадает под чужое обаяние, а потому он несколько переусердствовал с игривой наглостью: Эдди болтался по конторе без дела, более чем небрежно относился к сочинению текстов и вообще стал вести себя куда более жеманно и нахально, чем (как ему недавно намекнули) здесь было принято. На днях он получил три обескураживающих служебных записки за подписью Мерретта – и над ним нависла угроза разговора, который вряд ли пойдет по накатанному пути. А еще ведь была мерзкая сцена в баре неподалеку, когда до неприличного вульгарный юнец, нанятый мистером Мерреттом, с нескрываемым наслаждением предупредил Эдди, что даже любимчикам миссис Квейн тут далеко не все позволено. Хорошим тоном в таком случае было бы выбить в ответ говорящему все зубы, а все старания Эдди казаться одновременно уязвленным, взволнованным, кротким и невозмутимым успеха не возымели, да и непроизвольно вырвавшийся у него смешок не помог делу. Появись сейчас у них в вестибюле младшая сестренка мистера Квейна, и ему бы точно пришел конец.
После шести вечера в Ковент-Гардене, когда все торговые галереи уже закрылись, было совсем невесело. По фасадам домов, по зияющим пустым пространствам, будто в театре, чья обшарпанность проступает при свете дня, тени ползли неуклонной, холодной дымкой, словно в небе начался беспокойный прилив. То тут, то там обрывки бумаги вяло подергивались, даже не отрываясь от земли. От всего места веяло глухим запустением, словно нынешняя его безлюдность продлится вечно. Лондон полон таких пустынь, таких мгновений, когда ослепительный мираж человеческого существования внезапно рассеивается. Ковент-Гарден действовал на Эдди как валерьянка – он кружил по улице, будто кот.
Тут он увидел Порцию, поджидавшую его совсем не на том углу, на котором они, по его мнению, условились встретиться. Поворот ее головы, зябкая полоска кожи между короткими рукавами и короткими перчатками и то, как терпеливо она сжимала ручку портфельчика, – все это поразило его ровно туда, где полагалось быть его сердцу, но древко стрелы погнулось: увидев ее, он ощутил только легкую злость.
– Надо же, как далеко ты забралась от дома, – сказал он. – Ты мне льстишь, крошка.
– Я приехала на такси.
– Да? Слушай, что стряслось? По телефону казалось, что у тебя чуть ли не истерика, я даже не успел предложить место для встречи получше этого.
– Место как место, мне тут нравится.
– Ты так внезапно бросила трубку, я не знал, что и думать.
– Я звонила из кабинета мисс Полли, и она меня застукала. Нам не разрешают звонить оттуда, можно только попросить передать сообщение.
– И, конечно, она устроила тебе головомойку. Эх, юность, юность!
– Не такая уж я и юная.
– Скажем так, in statu pupillari[48]. Куда теперь?
– А разве нельзя просто пройтись?
– Хорошо, как скажешь. Но веселого в этом мало.
– Зачем же нам веселиться?
– Начало неутешительное, – сказал Эдди, прибавив шагу, так что она с трудом поспевала за ним. – Но вот что, крошка. Мне тебя ужасно жалко, но нельзя же так себя накручивать. Анна, конечно, поступила гнусно, но я же тебе говорил, чтобы ты не оставляла свой дневник где попало. Хорошо еще, что я взял с тебя слово не писать о нас. Ты ведь не писала, правда? – прибавил он, бросив в ее сторону быстрый взгляд.
Она выдохнула:
– Теперь я понимаю, почему ты просил этого не делать.
У Эдди по лицу пробежала заметная тень.
– На что это ты намекаешь? – спросил он.
– Не сердись, Эдди, пожалуйста, не сердись на меня… Эдди, это ты рассказал Анне о моем дневнике?
– Господи, да мне-то это зачем?
– Не знаю, в шутку. Вы ведь с ней все время перешучиваетесь.
– Знаешь что, славный мой несчастный ягненочек, раз уж тебе так интересно, скажу – нет, это не я ей рассказал… По правде говоря…
Она онемело уставилась на него.
– По правде говоря, – продолжил он, – это она мне о нем рассказала.
– Но это я тебе рассказала, Эдди.
– В общем, она первой мне сказала. Ей эта твоя тетрадка уже давно покоя не давала. Она ужасная проныра.
– Значит, когда я тебе сказала, ты уже обо всем знал.
– Да, знал. Но, правда, крошка, ты вечно делаешь из мухи слона, вот как с этим твоим дневником. Это, конечно, дело искреннее, и очаровательно умное, и вообще славное, как ты сама, но что в этом такого необычного? Почти все девочки ведут дневники.
– Тогда почему ты притворялся, будто это для тебя что-то значит?
– Мне нравилось, когда ты мне об этом рассказывала. Твоя откровенность меня всегда берет за душу.
– И все это время ты мне подыгрывал. А я, разумеется, кое-что там о тебе писала.
– Господи. – Эдди резко остановился. – А я-то думал, что могу тебе доверять.
– Почему ты стыдишься того, что был ко мне добр?
– Все-таки это только наше с тобой дело. Не хочу, чтобы Анна в это лезла.
– Выходит, до того, что она лезет и в остальную мою жизнь, тебе дела нет? Правда, этой остальной жизни у меня не так уж и много. Но мой дневник – это я. Как же я могла тебя оттуда вычеркнуть?
– Ну давай, продолжай, пусть я себя окончательно возненавижу… Кстати, а ты-то как узнала?
– Мне сказал Сент-Квентин.
– Тот еще прохвост.
– Почему? Он был очень добр.
– Скорее, просто устал от Анны. Она слишком долго носится с каждой своей шуткой… Ради бога, крошка, ну не плачь же ты здесь.
– Я плачу только потому, что у меня болят ноги.
– А что я говорил? Ходим тут кругами по этому чертову тротуару. Ну правда, умолкни… Нельзя тут плакать, неужели ты сама не понимаешь.
– Лилиан всегда думает, будто на нее все смотрят. Ты теперь прямо как Лилиан.
– Я поймаю такси.
Вместе с рыданием у нее вырвалось:
– У меня всего шесть пенсов. У тебя есть деньги?
Порция стояла будто каменная, пока Эдди ловил такси и говорил водителю адрес своей квартиры. Когда они сели в такси, и Генриетта-стрит за окном стала рывками отматываться назад, Эдди угрюмо обнял Порцию и с холодной, отчаянной настойчивостью вжался лицом в ее заведенные за ухо волосы.
– Не надо, – сказал он, – прошу тебя, крошка, не надо, и без того все плохо.
– Не могу, не могу, не могу.
– Ну ладно, плачь, если тебе так легче. Только не обвиняй меня во всех грехах.
– Ты рассказал ей о нашей прогулке в лесу.
– Я просто болтал, и все.
– Но в том лесу я тебя поцеловала.
– Я недостоин всего этого. Правда, крошка, я не создан для таких вещей. Нам с тобой нужен другой мир. Для чего мы с тобой только начинаем жить, если кругом почти не осталось ничего чистого? Как нам взрослеть, если мы ничего не унаследуем, если мы растем на черствых, испорченных хлебах? Нет, не смотри вокруг, лучше заройся в меня поглубже.
– Но тебе-то не нужно зарываться, ты-то как раз повсюду смотришь. Где мы сейчас?
– Возле станции «Лестер-сквер». Поворачиваем направо.
Порция извернулась, жадно вскинула голову и увидела, как холодный свет отражается в расширившихся зрачках Эдди. Высвободив руку, она прикрыла глаза ладонью и спросила:
– Но разве мы не можем ничего изменить?
– Нас слишком мало.
– Нет, на самом деле тебе этого не хочется. Как обычно, ты просто развлекаешься.
– Думаешь, мне весело?
– Это какое-то очень жуткое веселье. Ты не хочешь, чтобы я тебе мешала. Презирать тебе нравится больше, чем любить. Ты делаешь вид, будто боишься Анны, но ты боишься меня. – Эдди отвел ее ладонь от лица, сжал, но Порция продолжала: – Теперь ты ведешь себя не так, но все равно не разрешишь мне остаться с тобой.
– Как же ты можешь остаться со мной? Крошка, ты еще совсем ребенок.
– Ты так говоришь, потому что я сказала правду. Когда мы не вместе, с тобой творится что-то ужасное. Нет, отпусти меня, дай я сяду. Где мы теперь?
– Я хотел тебя поцеловать… На Гауэр-стрит.
Забившись в угол, Порция расправила на коленке измятую шляпку. Разглаживая бантик, она слегка отклонила голову и сказала:
– Не надо, не целуй меня сейчас.
– А почему бы не сейчас?
– Потому что я не хочу.
– Это потому, – спросил он, – что я однажды не поцеловал тебя, когда тебе этого хотелось?
Она с еле заметной неприступной улыбкой принялась надевать шляпку – так, словно бы все случилось давным-давно. Слезы, которые она, тихонько содрогаясь, проливала, – он чувствовал всхлипы, но не слышал их – лишь склеили ее ресницы, и все. Эдди заметил это, внимательно вглядываясь в ее лицо, пока она встревоженно, одним пальцем, поправляла шляпку.
– У тебя теперь вечно глаза на мокром месте, – сказал он. – Слушай, это правда ужасно… Мы почти приехали. Скажи, Порция, сколько у тебя есть времени? Когда тебя ждут дома?
– Неважно.
– Крошка, не дури – если ты не вернешься, кто-нибудь точно поднимет крик. Да и стоит ли вообще ко мне идти? Может, лучше я провожу тебя домой?
– Там не дом! Почему мне нельзя зайти? – Сжав руки в своих коротеньких, строгих перчатках, она отвернулась и глухо сказала: – Или ты кого-нибудь ждешь?
Такси остановилось.
– Ладно, ладно, уговорила, вылезай. Ты, похоже, романов начиталась.
Расплатиться с шофером и найти ключ от входной двери, сгрести письма с полочки в коридоре, а затем быстро и бесшумно провести Порцию наверх – все это отвлекало Эдди, пока он не распахнул дверь своей комнаты. Его нервное напряжение, и без того излишнее, дошло до предела: он был почти уверен, что застанет у себя какую-нибудь роковую фигуру, кто-нибудь будет стоять у окна или повернувшись спиной к камину. Сейчас ему чудилось, что его враги обрели сверхъестественную силу – могли пролезть в замочную скважину, просочиться сквозь тяжелую дубовую дверь. Сцена, которую устроила ему Порция, была вполне безобидной, но небеса уже готовы были на него обрушиться – и пока что потихоньку, будто чешуйки черной штукатурки, сыпались ему на голову. Однако в комнате никого не было. Здесь было промозгло и душно, пахло завтраком и вчерашними сигаретами. Он положил два письма (одно доставлено «с посыльным», без марки) на стоявший в середине комнаты столик, распахнул окно и присел на корточки, чтобы разжечь газовый камин.
Двигаясь как человек, переживший сильное нервное потрясение – дергаными, журавлиными шагами, – Порция все кружила и кружила по комнате, пристально вглядываясь в каждую деталь: два продавленных кресла, сероватое зеркало, диван, накрытый колючим темно-голубым покрывалом, подушки, небрежно втиснутые в темно-голубые наволочки, нагромождение иностранных книг, которые безо всякого почтения затолкали на купленные по случаю полки. Она уже здесь бывала, в гости к Эдди она приходила дважды. Но теперь она напоминала человека, который, позабыв, о чем он читал, или совершенно не поняв прочитанного, возвращается к началу книги и принимается читать ее заново.
Только более изощренный ум, опираясь на щедрый запас предыдущих знаний, мог по обстановке в комнате Эдди понять многое. Если эту комнату и обставляли хоть с какой-то любовью, то любовь эта была к бесприютности студенческого жилища – незрелый вкус, отсутствие самой осязаемости в интерьере, порожденное крупными, угловатыми предметами, казенными столами и шкафами. Просиженные кресла и бугристый диван свидетельствовали о том, что к комфорту здесь относились со всей строгостью. Все старания Эдди показать себя миру не заканчивались, когда он возвращался домой, потому что часто он возвращался туда не один, но, относясь к уюту столь небрежно, он делал вид, будто ни на кого не хочет производить впечатления. Если в одиночестве им и завладевали навязчивые мысли, превращая его жилище в призрачный край, когда шкафы и столы казались ему утесами или бездонными тусклыми прудами, у гостей Эдди (по крайней мере, у женщин) складывалось впечатление, что этот совершенно простой и старомодный парень живет здесь en pantoufles[49]. Невроз, разумеется, не оставлял следов на тусклых коричневых стенах и шероховатом дереве. Приглашение в эту душную комнатку можно было счесть знаком как доверия, так и наглости со стороны Эдди. Ну а если он еще и засовывал букетик цветов (как правило, не самых красивых) в свою единственную изящную вазу, то эта его снисходительность казалась даже трогательной. Впрочем, не одно это было трогательным: от ковра и сигаретного пепла, от спрятавшейся в книгах пыли и от простывшего чая веяло каким-то безнадежным смирением. Не все здесь было фальшивкой – Эдди и вправду нуждался в заботе. Эдди не был эстетом, он презирал все модные ухищрения и искренне верил, что для красивой жизни ему не хватает денег, которых у него никогда не будет. Он (с некоторой долей надменности) смирился с уродливой казенной мебелью и духотой. За это он получил право – и правом этим пользовался – глядеть на жилища своих друзей, на их элегантность, чистоту и оригинальность холодным, изумленным, отстраненным, ироничным взглядом. Будь у Эдди порядочно денег, он, наверное, жил бы в пышной красной галльской полутьме, подобно бонвиванам из романов Бурже: драпировки, хрустальные лампы, шаткие бронзовые статуэтки, зеркала, пианола, манящая кушетка и полусветские восковые цветы в жардиньерках. Как и у многих людей скромного происхождения, его чувство прекрасного отставало от времени на пару десятков лет и было окрашено в восхитительные, аморальные тона. Разумеется, многому в его редких мечтах о роскоши не находилось места – его животной подозрительности, его угрюмости, въевшейся в него и свойственной всему его классу принципиальности, вечным предчувствиям каких-то ужасных бед, из-за которых Эдди одним махом придется все бросить, – но ведь фантазия избирательна и привечает только желанную часть личности. Поэтому свои представления о прекрасном Эдди с радостью оставил при себе. В его нынешнем положении эта комната стала своего рода tour de force – и не только потому, что здесь приходилось жить (с этим Эдди ничего не мог поделать), но и потому, что такое жилье не просто сходило ему с рук, а еще и себя окупало. В его отношениях с чересчур привередливыми людьми эта комната становилась важной, ключевой даже точкой… В вазе стояли умирающие красные маргаритки, говорившие о том, что на прошлой неделе Эдди приглашал кого-то к себе на чай.
– Эдди, твои цветы завяли.
– Правда? Ну так выбрось их.
Вытащив маргаритки из вазы, Порция с невольным отвращением взглянула на их склизкие, подгнившие стебельки.
– Давно пора, – сказал Эдди. – Может, и вонь эта из-за них… В мусорную корзину, крошка, она вон там, под столом.
Он взял вазу и хотел было унести ее в уборную. Но тут по полу застучали капли, потому что Порция так и стояла, держа маргаритки. Она сказала:
– Эдди…
Тот дернулся.
– Ты не хочешь распечатать письмо от Анны?
– Господи! От нее пришло письмо?
– Ты его сам только что принес. Оно без марки.
Эдди, не выпуская вазы из рук, натужно хихикнул.
– Без марки? Ну надо же! Она, наверное, отправила его с посыльным. То-то мне показалось, что почерк похож на ее…
– Тебе ли не знать ее почерк, – холодно отозвалась Порция. Она положила маргаритки на стол, глядя, как с них на скатерть натекает вязкая лужица, и взяла письмо. – Тогда я его распечатаю.
– Не смей! Положи на место!
– Почему? С чего бы? Чего ты боишься?
– Помимо всего прочего, это письмо адресовано мне. Нечего тут вынюхивать!
– Ну давай, читай же. Чего ты испугался? Что это у вас там за секреты?
– Я не могу тебе рассказать, правда. Ты еще слишком юна.
– Эдди…
– Знаешь что, иди ты к черту, отвяжись от меня!
– И пойду, мне все равно. О чем вы с ней говорите?
– Ну, довольно часто мы говорим о тебе.
– Но вы и раньше с ней много разговаривали, задолго до того, как ты познакомился со мной, так ведь? До того, как ты сказал, что меня любишь, до всего вообще. Я помню, как спускалась или поднималась по лестнице и слышала из гостиной ваши голоса, когда мне до всего этого еще и дела не было. Вы с ней любовники?
– Ты сама не знаешь, что говоришь.
– Я знаю, что о нас с тобой этого сказать нельзя. Мне все равно, что ты там делал раньше, но становится невыносимо при одной мысли о том, что ты, наверное, скажешь сейчас.
– Тогда зачем спрашивать?
– Потому что я все еще надеюсь, что ты скажешь, что на самом деле все совсем по-другому.
– Ладно, мы с Анной любовники.
– О… правда?
– Ты мне не веришь?
– Откуда же мне знать правду.
– А мне показалось, ты не очень-то и удивлена. Зачем поднимать столько шума, если ты сама не знаешь, чего хочешь? И, кстати, мы с ней не любовники, она для этого слишком осторожна и слишком умна, и как по мне – в ней нет ни капли страсти. Она любит драмы посерьезнее.
– Тогда почему ты…
– Твоя беда в том, что ты с самого начала слишком уж старалась меня раскусить.
– Правда? Но ты же сам сказал, что мы любим друг друга.
– Раньше ты была куда мягче, куда милее. Да, раньше ты была – и я однажды так тебе и сказал – единственным человеком, которого я безо всяких усилий мог полюбить. Но в последнее время, после Сила, ты стала совсем другая.
– И Матчетт говорит то же самое… Эдди, ты не прикрутишь огонь?
– Что такое? Тебе нехорошо? Отчего тебе нехорошо? Давай-ка присядь тогда.
Он торопливо обежал вокруг стола, не спуская с нее сурового взгляда, будто подзуживая ее сдаться, провалиться с глаз долой. Надавил тяжелой ладонью ей на плечо, втолкнул в кресло. Эта его обостренная бесчувственность не была наигранной – он по прежней привычке уселся на подлокотник кресла, невозмутимо уставился куда-то Порции за спину и захихикал, словно во всем происходящем не было решительно ничего необычного.
– Если ты, крошка, хлопнешься тут в обморок, я из-за тебя потеряю работу.
Он снял с нее шляпку, положил на пол.
– Вот так-то лучше. Господи, как же жаль, что ты не куришь, – сказал он. – Не разжечь ли снова огонь? И отчего это ты готова хлопнуться в обморок?
– Ты сказал, что все кончено, – сказала Порция, глядя прямо ему в глаза.
Они смотрели друг на друга, не веря тому, что видят, пока Эдди не отвернулся и не спросил:
– Я поступил дурно?
– Откуда мне знать?
– Жаль, что ты не знаешь. – Хмурясь, знакомым жестом дергая себя за нижнюю губу, отчего эта беседа превратилась в призрачное отражение их прошлых, куда более радостных разговоров, Эдди сказал: – Потому что, видишь ли, сам я не знаю. Может, я вообще какое-то чудовище, а я, честно, понятия не имею… В том, что я говорю, кажется, никогда не было никакой нужды. Неужели моя жизнь и вправду так омерзительна и так страшна? Я не знаю, как это выяснить. Вот бы ты была чуть постарше и знала бы чуть побольше.
– Ты единственный, кого я…
– В этом-то вся загвоздка, об этом-то я и говорю. Ты не знаешь, чего от меня можно ждать.
Не сводя встревоженных глаз с его лица – глядя на него с таким отчаянным вниманием, будто пытаясь усвоить урок, она сказала:
– Но, Эдди, ведь всего случившегося никогда раньше не случалось. То есть мы с тобой самые первые люди, которые были нами.
– Но у других как-то получается понять, что к чему, – сама видишь. Все женщины, которых я знал, все, кроме тебя, Порция, вполне понимали, чего от меня ждать, и это вселяет в меня маленькую, но надежду. И плевать мне, насколько они заблуждались, так хоть как-то можно было жить. Но ты швыряешь мне в лицо обвинение за обвинением с тех самых пор, как ты спросила, почему я держал за руку эту потаскушку. Как по тебе, так каждая треклятая мелочь должна быть либо черной, либо белой, и все, ты уже готова отмахнуться от всего человека. Может, ты, конечно, и права, кто знает. Но это попросту невыносимо. Мне уже кажется, будто я схожу с ума. Я жил так, как жил, потому что по-другому жить не могу. Да, я понимаю, что ты от этого страдаешь, но откуда мне знать, что ты сама в этом не виновата, просто потому, что это ты так устроена? Или что ты, например, страдаешь не больше других, а просто поднимаешь больше шума? Одни и те же безнадежные суждения ты применяешь практически ко всему: я, например, говорю, что люблю тебя, а ты ждешь, что я буду тебе доброй мамочкой. Тебе еще чертовски повезло, что у меня самые невинные намерения. И я никогда тебя не обманывал, правда ведь?
– Ты обсуждал меня с Анной.
– Ну, это совсем другое. Тебе-то я всегда говорил правду, разве не так?
– Не знаю.
– Так говорил или нет? Не будь я так до безобразия наивен, разве удалось бы тебе довести меня до такого состояния? Любой другой на моем месте потрепал бы тебя за подбородочек, обвел бы вокруг пальца, а потом бы еще посмеялся над такой дурочкой, как ты.
– Ты тоже надо мной смеялся. Ты смеялся надо мной вместе с ними.
– Знаешь, когда я с Анной, ты и впрямь кажешься презабавной. Более того, я даже уверен, что ты кажешься презабавной всем, кроме меня. У тебя совершенно безумные принципы и безошибочное чутье безумца, которое помогает тебе отыскивать других таких же безумцев, людей, которые не понимают, на каком они свете. Ты, конечно, знаешь, что я не подлец, а я знаю, что ты не полоумная. Но, господи, надо же нам как-то выживать в этом мире!
– Ты сам говорил, что тебе это не нравится. Ты говорил, что так поступать – дурно.
– И вот что ты еще делаешь: цепляешься к каждому моему слову.
– Тогда почему ты сказал, что всегда говоришь только правду?
– Когда мне было с тобой спокойно, я говорил тебе правду. Теперь же…
– Теперь ты больше меня не любишь?
– Ты говоришь о любви, а сама толком не понимаешь, что это такое. Нам с тобой было так хорошо вместе, потому что мы друг друга понимали. Я и сейчас думаю, что ты прелесть, хоть у меня от тебя и мурашки по коже. Мне кажется, будто ты хочешь загнать меня в какую-то ловушку. Мне даже в голову не придет затащить тебя в постель, это абсурд, тут и думать нечего. И при этом я все равно позволяю тебе говорить совсем уж недопустимые вещи, которые ни один человек не имеет права говорить другому. И сам, наверное, тебе их говорю. Да?
– Я не понимаю, что значит недопустимые.
– Не понимаешь, это я и сам вижу. У тебя что-то не так с чувствами. В общем, я скоро от тебя с ума сойду.
Эдди, куривший одну сигарету за другой, вскочил и отошел от кресла. Он закинул окурок за камин, остановился, поглядел на пламя, а потом машинально присел на корточки и выкрутил огонь.
– И кстати, тебе давно пора домой, – сказал он. – Почти половина восьмого.
– Хочешь сказать, что тебе будет хорошо без меня?
– Хорошо! – воскликнул Эдди, воздев руки к потолку.
– Но ведь кому-то со мной хорошо… Майору Брутту со мной хорошо, Матчетт со мной хорошо, когда я от нее ничего не скрываю, миссис Геккомб со мной было очень даже хорошо, она сама сказала… Ты хочешь сказать, что теперь тебе кажется, что тебе без меня будет так же хорошо, как было со мной, когда я была не такая, как сейчас?
Эдди с закаменевшим лицом поднял позабытые увядшие маргаритки, переломил их стебельки пополам и засунул прямиком в корзину для бумаг. Он осмотрел комнату, словно пытаясь понять, что тут еще не на своем месте, затем его совершенно не изменившийся, совершенно нечеловеческий взгляд вернулся к Порции и остановился на ее фигурке.
– Сейчас мне уж точно так кажется, – ответил он.
Порция нагнулась за шляпкой. Только чириканье дурацких хромированных часов да безостановочно звонивший где-то внизу телефон нарушали тишину, пока Порция надевала шляпку. Ей пришлось отложить письмо Анны, которое она, сама того не сознавая, все это время держала в руках. Она встала, положила его на стол – и невидящие глаза Эдди тотчас же впились в него.
– Ой, – сказала она, – только у меня совсем нет денег. Одолжишь мне пять шиллингов?
– Тебе не нужно столько денег, чтобы добраться домой.
– И все-таки дай мне, пожалуйста, пять шиллингов. Я вышлю тебе их завтра почтовым переводом.
– Уж вышли, крошка, не забудь. Ты ведь можешь, наверное, достать денег у Томаса. А у меня их в обрез.
Натянув перчатки, она сунула пять шиллингов мелочью, которые он с неохотой отсчитал ей, в правую перчатку. Затем протянула ему руку с твердым бугорком на ладони.
– Что ж, до свидания, Эдди, – сказала она, не глядя на него.
Всем своим видом она напоминала человека, который засиделся в гостях и, понимая, что хозяйское терпение подходит к концу, не знает, как бы половчее распрощаться. Невыносимо застеснявшись самого общества Эдди, страстно желая оказаться где-нибудь подальше отсюда, Порция, опустив глаза, разглядывала ковер.
– Я тебя, разумеется, провожу. Не стоит тебе спускаться в одиночку – людишки здесь живут препаршивые.
Ее молчание словно говорило: «Что же еще они могут мне сделать?» Она ждала. Он положил все такую же тяжелую ладонь ей на плечо – так они и вышли за дверь, так и спустились на три пролета. Она замечала вещи, которых не видела, когда сюда поднималась: похожие на гребни волн завитушки на обоях в коридоре, ряды царапин на зеленовато-бурых панелях, уличную суету, видневшуюся из окошка на лестничном пролете, отпечатанное на машинке объявление для жильцов, которое висело на двери в ванную. Она ощущала безмолвное напряжение других людей, множества жизней за закрытыми дверями, о которых она даже не подозревала; разреженное дыхание многоквартирного дома – затхлое после стольких легких, запыленное после стольких ног – доносилось из чернеющей лестничной шахты, потому что внизу, перед выходом в коридор, не было окон.
В коридоре Эдди еще раз взглянул на полочку с письмами – не доставили ли следующую почту. Он резко распахнул входную дверь, сказал, что поймает для нее такси.
– Нет, нет, не надо, я и сама могу… До свидания, – снова сказала она, еще более застенчиво и виновато.
Не успел он ничего ответить – где-то в глубинах его физической памяти еще живо было ощущение ее ежащегося под его рукой плеча, – как она сбежала по ступенькам и помчалась по улице. Ее длинноногий, детский бег, неловкий (ведь дело происходило на улице) и одновременно самозабвенный, уносил ее вдаль с такой скоростью, что он разом и обрадовался, и ужаснулся. Она бежала, размахивая руками – в руках у нее ничего не было, и эта странность, ощущение, что чего-то недостает, не давали ему покоя, пока он возвращался к себе.
И там он, конечно, обнаружил, что она позабыла портфель со всеми своими учебниками. Эта мелочь – ну и как он, спрашивается, вернет его, не вызвав никаких пересудов, и похоже, у невезучей ученицы с Кэвендиш-сквер бед только прибавится – все-таки его беспокоила, и поэтому, чтобы отвлечься, он обратился к более неотложной и неприятной задачке – Анне. Эдди вытащил из буфета бутылки, смешал себе выпить и, издав развязный смешок, каким люди иногда себя подбадривают в минуты одиночества, разом осушил половину стакана, поставил его на стол и распечатал письмо.
И прочел записку Анны о рабочем телефоне.
5
Гостиница «Карачи» занимает два очень высоких, одновременно ветхих и вычурных на вид кенсингтонских здания, которые сколочены в одно, точнее, даже не сколочены, потому что конструкция такое вряд ли выдержит, а соединены арками в опорных точках. Под портиком – две гигантские входные двери: одна, застекленная, заперта наглухо, вторую ровно до полуночи можно открыть, нажав на круглую медную ручку. Название гостиницы – потускневшие золоченые буквы – свисало с крыши портика. Одну столовую объединили с коридором и превратили в салон, вторая так и осталась столовой, места там вполне хватает. Одна из гостиных на втором этаже по-прежнему остается гостиной. Общие комнаты большие и просторные, но какие-то обескровленные, внутри лишь обширная пустота, здесь и в помине нет благородно выстроенного пространства. Камины с рядками газовых рожков, кое-как отделанные двери, оголенные окна, живущие в пустынях стен, с наступлением темноты электрический свет под потолком умирает высоко в воздухе, не дотягиваясь до неулыбчивых кресел. Если, становясь гостиницами, эти здания мало что давали своим жильцам, то и теряли они тоже немногое: даже когда они были домами, никакой личной жизни не могло затеплиться в этих стенах и с ними слюбиться. Здесь жил класс, у которого с самого начала не было ни будущего, ни каких-либо доставшихся им с рождения привилегий, ни поблажек. Строители, должно быть, возводили эти дома, чтобы взять в кольцо туман, который, просочившись туда, так там и остался. Несварение, тягостные желания, чванство и цыпки – и только они – правили судьбами обитавших тут семей.
В гостинице «Карачи» все комнаты на верхних этажах, за исключением гостиной, поделены перегородками надвое, а то и натрое – дом превращен в лабиринт. Перегородки эти до того тонкие, что в здешних спальнях нельзя утаить ни любви, ни беседы. Скрипят половицы, скрипят кровати, ящики из шкафов выдвигаются яростными рывками, зеркала трюмо крутятся и целят прямиком в глаз. Больше всего уединения – и меньше всего воздуха – было в мансардах, которые до того малы, что их не удалось поделить. Одну из таких мансард и занимал майор Брутт.
На исходе понедельника (потому что это и был исход дня для всех, кроме гуляк и дельцов) в гостинице подавали ужин. Теперь постояльцы ужинали при дневном еще свете, а точнее – при его призрачном отражении от фасадов на другой стороне улицы. Несколько дней назад каждый столик украсился тремя лиловыми веточками душистого горошка. Этим вечером здесь было немноголюдно, люди, сидевшие по двое и по трое в разных углах столовой, говорили мало – может быть, на них давила гулкая мрачность огромной комнаты, а может – чувство, что есть им приходится у всех на виду. Один майор Брутт молчал с совершенной невозмутимостью, потому что, как и всегда, ужинал в одиночестве. Несколько семей, с которыми он было сошелся, как водится, уже уехали; эти, сегодняшние, почти все новоприбывшие. Иногда майор поглядывал в сторону других столиков, гадая, с кем он познакомится теперь. Он, с присущей ему скромностью, только начинал понимать, что в качестве одинокого мужчины вызывает некоторый интерес. Однако все равно смотрел только в свою тарелку или прямо перед собой, изо всех сил стараясь, чтобы воспоминания об обеде у Анны не вызвали у него разочарования ужином, – здесь ведь и впрямь недурно готовили. Он как раз доел ревеневое желе с заварным кремом, когда к нему подошла официантка и принялась бормотать у него над ухом.
Он сказал:
– Ничего не понимаю… Юная леди?
– Она спрашивает вас, сэр. Она ожидает вас в салоне.
– Но я не жду никаких юных леди.
– Она в салоне, сэр. Сказала, что подождет.
– То есть она уже там?
Официантка кивнула и смерила его несколько пренебрежительным взглядом. Ее хорошее мнение о майоре переменилось в одну минуту: она сразу решила, что он грубиян и себе на уме. Ничего не подозревающий майор Брутт тем временем ломал голову: может, это какая-то шутка, но кто же станет над ним шутить? Он был недостаточно весел для того, чтобы иметь весельчаков-друзей. Перед тем как выйти из-за стола, он, то ли заупрямившись, то ли застеснявшись, выпил еще стакан воды – от ревеня на зубах остается кислый привкус. Майор вытер рот, сложил салфетку и вышел из столовой тяжелым, осторожным шагом, чувствуя, как постояльцы, прервав свои вялые разговоры, провожают его хмурыми взглядами.
Салон, располагавшийся в другом крыле, отделялся от гостиничного коридора рядом обшарпанных колонн. Поначалу, в мутном осадке дневного света, майору показалось, что там никого нет. Обрадовавшись, что никто не видит, как он тут стоит и озирается, майор осмелился подступиться к беспорядочно расставленным креслам. В углу, за одним из кресел, он увидел Порцию, которая на случай, если появится кто-то другой, изготовилась забиться еще глубже. Майор воскликнул:
– Здравствуйте, здравствуйте!.. Но что же вы делаете здесь?
В ответ она лишь глядела на него, будто дикий зверек, который только-только понял – людей надо опасаться, глядела на него так, будто он загнал ее в угол. Да ей и было тут страшно, словно залетевшей в комнату птице – птице, и без того оглушенной ударами о зеркала и оконные стекла.
Он быстро пробрался через нагромождение кресел, говоря уже настойчивее, куда серьезнее, тише:
– Дорогое дитя, вы заблудились? Не знаете, как попасть домой?
– Нет. Я пришла.
– Что ж, я очень рад. Но отсюда до вашего дома довольно далеко. А на дворе ночь…
– О… Уже ночь?
– Хм, нет, я вот только что поужинал. Но ведь и вас, наверное, ждут к ужину.
– Я не знаю, который час.
Какое бы отчаяние ни скрывалось в ее прозвеневшем на весь салон голосе, вряд ли бесприютность могла прозвенеть в нем еще сильнее. Майор Брутт инстинктивно огляделся: носильщика на месте не было, новые постояльцы не заезжали, а остальные еще не вернулись с ужина – еще подадут сыр, а потом, как обычно, всех обнесут кофе. Он обогнул кресло, служившее ей баррикадой, а им обоим – границей двух разных, шатких миров. Он чувствовал, как Порция с настороженностью вконец отчаявшегося человека измеряет расстояние между ними, а затем она бросилась к нему – будто птица в очередное окно. Она прижала ладони к лацканам его пиджака, растопыренные пальцы впились в ткань. Она что-то неразборчиво говорила. Ухватив ее за холодные локти, он мягко, но настойчиво отстранил ее.
– Тихо, тихо, тихо… Ну-ка, что вы там сказали?
– Мне некуда идти.
– Чепуха, ну что вы, право… Вы лучше успокойтесь и скажите же мне, что стряслось. Вас что, кто-то напугал?
– Да.
– Плохо, плохо. Конечно, если вам не хочется, то и не рассказывайте. Посидите тут немножко, выпейте кофейку или чего еще, а потом я отвезу вас домой.
– Я туда не вернусь.
– Ну, будет…
– Нет, я ни за что туда не вернусь.
– Знаете-ка что, вы присядьте.
– Нет, нет. Мне все вечно только это и говорят. Я не хочу просто тут посидеть, я хочу остаться.
– Ну а я присяду. Смотрите-ка, уже сажусь. Я всегда за то, чтобы присесть.
Отпустив ее локти, он уселся, поймал Порцию за руку и поставил ее перед собой, будто провинившуюся ученицу.
– Послушайте, Порция, – сказал он, – я о вас самого наилучшего мнения. Я и не упомню, когда еще встречал человека, о котором бы я так хорошо думал. И потому не ведите себя будто капризный маленький ребенок, это совсем не в вашем характере, да и мне от этого только хуже. Выкиньте-ка на минутку ваши горести из головы и подумайте немного обо мне – я уверен, у вас это получится, потому что вы всегда были со мной очень милы, я и передать не могу, как это для меня важно. Но придя сюда, сказав мне, что сбежали из дому, вы поставили меня в весьма неловкое положение перед вашими родными – и моими добрыми друзьями. Когда живешь один, вот как я в последнее время, и не знаешь, куда девать время, когда чувствуешь себя немного не в своей тарелке, то такой вот дом, как у них, куда можно прийти в любое время и где тебя всегда тепло встретят, понимаете, это очень много значит. И видеть вас там, среди этой счастливой семьи, было изрядной частью моей радости. Но ведь и они тоже мне очень дороги. Вы ведь не лишите меня всего этого, правда, Порция?
– Я вас ничего не лишаю, – тихо, но безжалостно ответила она. – Анна над вами тоже смеется, – продолжила она, вскинув на него глаза. – По-моему, вы ничего не понимаете: Анна всегда смеялась над вами. Она говорит, что вы безнадежны. Она смеялась над вашими гвоздиками, потому что они были не того цвета, а потом отдала их мне. А Томасу вечно кажется, будто вам от него что-то нужно. И что бы вы ни сделали, даже когда, например, прислали мне головоломку, ему только сильнее так кажется, а она только громче смеется. Когда вы уходите, они вздыхают и закатывают глаза. Они относятся к вам так же, как и ко мне.
В коридоре послышались шаги, и майор инстинктивно вытянул шею, обернулся – постояльцы потянулись с ужина.
– Сядьте, сейчас же, – неожиданно резко велел он. – Не нужно, чтобы все эти люди на вас глазели.
Он пододвинул поближе еще одно кресло, она уселась, несколько потрясенная силой своих слов. Майор Брутт пристально наблюдал за тем, как четверо постояльцев занимают свои излюбленные места. Порция же наблюдала за майором: его глаза так и впились в этих людей; они не подозревают о том, что он сейчас услышал, и потому соседи по гостинице для него теперь воплощение нормальности. Бывают ситуации, когда успокаиваешься от одного только равнодушного вида – эти люди, по меньшей мере, невиновны хотя бы в одном преступлении. Когда дольше смотреть было уже нельзя, иначе пришлось бы встретиться взглядами, майор уставился в пол, на Порцию он даже не взглянул. Она остро ощущала молчание их и близость – разволновалась, встревожилась, что теперь на нее косятся куда чаще, чем днем, а потому сидела неподвижно, даже руками не шевелила.
Казалось, майору интересно разглядывать пол, он даже принялся поскребывать в затылке. Она едва слышно проговорила:
– Нет ли какого-то другого места?.. – Он слегка нахмурился. – Вы ведь снимаете тут комнату?
– И умею же я сесть в лужу.
– Может, поднимемся к вам? Или пойдем куда-то еще?
– И с чего это я взял, что им есть до меня дело… Что, что вы сказали?
– Все слушают, о чем мы говорим.
Но его по-прежнему это не заботило. Он посмотрел – с каким-то странным, угрюмым смирением, – как еще три человека прошли между колонн, уселись. Затем в коридоре, на лестнице показались пожилые дамы в полувечерних нарядах, завсегдатаи гостиной. Серые глаза майора Брутта наконец встретились с темными глазами Порции.
– Нет, больше нам пойти некуда.
Он выждал, пока на другом конце салона завязалась беседа. И произнес под прикрытием голосов:
– Просто говорите потише, и все. И думайте сначала, у вас нет права такое говорить.
Она прошептала:
– Но они относятся к вам, как ко мне.
– Вообще-то, – продолжал он, по-прежнему хмурясь, – это ничего не меняет… Ничего не меняет… ничего. Вы не имеете права доставлять им огорчения, неужели вы не понимаете, что поступаете дурно? Я сейчас же отвезу вас домой – сразу, немедля, pronto!
– О нет! – неожиданно властно ответила она. – Вы ведь не знаете, что произошло.
Они сидели, почти колено к колену, под прямым углом друг к другу, кресла их соприкасались. Неприятное положение, в котором оба оказались, ее настойчивое желание уберечь майора от ошибки – какое значение по сравнению с этим имели эти люди в гостиной и вообще весь мир? С безжалостностью богини она положила маленькую, уверенную руку на подлокотник его кресла. Он сказал уже заметно мягче:
– Дорогое дитя, что бы там ни случилось, вам лучше поехать домой и рассудить все на месте.
– Майор Брутт, даже если бы вы их ненавидели, вы не смогли бы придумать для меня худшего выхода. Это никогда не кончится. То есть рассуждения эти никогда не кончатся. А кроме того, Томас – мой брат. Я не могу вам тут всего рассказать… Вам нравится эта гостиница?
Майору потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться. Он задумчиво помычал, потом ответил:
– Меня все устраивает. А что?
– Если вы завтра отсюда уедете, будет все равно, что тут о вас подумают: можете сказать им, что я ваша племянница, что мне стало нехорошо и что мне нужно прилечь, тогда мы сможем поговорить в вашей комнате.
– Боюсь, так все-таки нельзя.
Но она его перебила:
– Ох, скорее же! Я сейчас расплачусь.
И вправду, ее огромные темные глаза уже теряли свою четкость, костяшками пальцев она надавила на губы, чтобы они не дрожали, другой кулак она прижала к животу, словно источник нестерпимой боли находился именно там. Чуть отодвинув руку ото рта, она пробормотала:
– Я целый день на людях… Мне нужно всего полчаса, всего двадцать минут… А потом, раз уж вы говорите, что я должна…
Он вскочил – задев столик, громыхнув пепельницей – и громко сказал:
– Давайте выпьем кофе.
Они прошли сквозь арку, ведущую в столовую, и оказались у другой лестницы – лифта в гостинице не было. Порция обогнала майора, метнулась наверх, будто кролик. Он шел за ней, ступая нарочито тяжело, насвистывая беззаботно, но слегка фальшиво, нашаривая в карманах ключи, минуя пальмы на лестничных клетках, – он шагал строго по прямой, как люди, которые ходят во сне, и как сам он ходил всегда. Ее день состоял из сплошных лестниц – и все равно, глаза Порции были все пугливее, все недоверчивее, когда она оборачивалась, а он жестами показывал: «Выше, выше!» К тому моменту, когда Порция добралась до мансарды, ей уже чудилось, что у этого дома вовсе нет края. В доме на Виндзор-террас на этаж под слуховыми окнами была упрятана телесная жизнь прислуги, это там Матчетт делала то, о чем все умалчивали, – спала. Под самой крышей майор поравнялся с Порцией; насвистывая еще громче, отпер дверь. Раньше она не видела, чтобы он двигался с подобной хозяйской уверенностью. Один миг – и вот она уже с сомнением глядит поверх примятого покрывала бурого атласа в окошко кукольного домика, затемненное снаружи балюстрадой.
– Тесновато, конечно, – сказал он. – Но они поэтому мне и цену снизили.
Заметив, с какой наигранной беспечностью, с какой осторожностью он держится, – майор вышел в коридор, постучался в другие комнаты, чтобы проверить, нет ли сейчас на этаже кого еще, – Порция, не говоря ни слова, уселась на краешек кровати и отвернулась к окну.
– Ну, вот мы и пришли, – сказал он с мрачной тревогой, только теперь в полной мере осознав, в каком они оказались положении.
Спинка его стула притиснулась к комоду, на лежащем перед ним коврике едва могли уместиться ноги.
– Так, – сказал майор, – продолжайте. С чего это вы сейчас надумали плакать?
– Везде столько людей, всегда – столько людей.
– Ну а сюда-то вы почему пришли? Вы сбежали-то – от чего?
– От них всех. От всего, что они делают…
Он строго прервал ее:
– Я думал, тут что особенное. Думал, случилось что-то.
– Случилось.
– Когда?
– Всегда, все время. Теперь-то я понимаю, что это никогда и не прекращалось. Они жестоко обошлись с отцом и мамой, но все, наверное, началось еще раньше. Матчетт говорит, что…
– Не стоит вам слушать, что там болтает прислуга.
– Почему? Если только она и знает, как все на самом деле. Они вовсе не считали, что мама с папой поступили дурно, они попросту презирали их, смеялись над ними. Мы трое были посмешищем, я это только теперь поняла. Я только теперь поняла, как отцу хотелось, чтобы у меня в жизни было свое место, потому что у него этого места не было, поэтому-то им и пришлось забрать меня к себе в Лондон. Надеюсь, он не узнает, что из этого вышло. Наверное, они с мамой даже и не знали, что над ними смеются, сами они огорчались из-за того, что однажды совершили нечто немыслимое (а их брак был поступком совершенно немыслимым), они верили, что у тех, кто таких немыслимых поступков не совершает, жизнь проста. Отец часто объяснял мне, что люди не живут так, как мы, он говорил, что жить так, как живем мы, – не принято, хоть мы и были вполне счастливы. Папа верил, что где-то там спокойно себе продолжается самая обычная жизнь – да, именно поэтому меня и отправили к Томасу и Анне. Но теперь-то я понимаю, что ничего она не продолжается, и если мы с ним снова встретимся, я скажу ему, что нет никакой обычной жизни.
– А вы не слишком молоды для таких суждений?
– Почему же? Я думала, что именно в молодости люди еще могут надеяться, что их жизнь окажется самой обычной. Она мне такой и казалась, когда я была на взморье, но потом приехал Эдди и все пошло наперекосяк, и тут я поняла, что даже Геккомбы в такую жизнь не верят. Ведь если бы они в нее верили, с чего бы им тогда так бояться Эдди? Эдди говорил, что это мы с ним не от мира сего, но еще он говорил, что это мы с ним все делаем правильно. Но сегодня он сказал, что мы сделали все не так, сказал, что у него от меня мурашки по коже и чтобы я уходила.
– Так вот в чем дело. Вы поссорились?
– Он рассказал мне обо всех моих ошибках – но я ведь не знала, как надо. Сказал, что я уж слишком стараюсь его раскусить. Я его все время спрашивала, почему он сделал то или это, понимаете, я ведь думала, мы хотим получше узнать друг друга.
– Жизнь никого не щадит, вот и вам, можно сказать, впервые попало. Кстати, деточка, не хотите ли носовой платок?
– У меня свой где-то был.
Механически, послушно она расстегнула пуговку на кармане, вытащила смятый носовой платок, поднесла к лицу, чтобы успокоить майора, а затем скомкала в руке, которой она то и дело вяло взмахивала.
– Как это – «впервые»? Такого ведь не может случиться снова.
– О, люди, знаете ли, обо всем забывают. И это тоже заживет.
– Нет. А это и значит – быть взрослым?
– Чепуха. Не время сейчас об этом говорить, да еще и попадет мне от вас, но без этого молодого человека вам будет куда как лучше. Знаю, знаю, не мое это дело – его распекать, но…
– Да ведь дело не в Эдди! – воскликнула Порция, с изумлением глядя на него. – А в том, что я его знала. Я знала Эдди и потому не так боялась всех остальных. Я и не думала, что все может быть так плохо. Была еще Матчетт, но после Эдди она ко мне охладела, я ей больше нравилась, когда мы с ней были только вдвоем. А теперь и она изменилась, и я. Мне вовсе не хотелось ее огорчать, но она всегда так злилась и хотела, чтобы и я злилась тоже. Но мы с Эдди совсем не были злыми, мы друг друга утешали. А теперь я вдруг узнаю, что все это время он был с ними заодно и они все знали об этом. И теперь, когда и я все узнала, я больше не могу вернуться туда, к ним.
– Нас обижают, такое случается, этого уж никак не избежать. Но, знаете, не нужно из-за этого развязывать войну. Такой девочке, как вы, Порция, такой хорошей девочке, не стоит загонять себя в безвыходное положение. Когда люди дурно с вами обходятся, вы лучше подумайте, не обошелся ли кто-нибудь дурно и с ними. Но вы еще очень молоды…
– Я не понимаю, при чем тут возраст.
Он, будто пристыженный школьник, заелозил на стуле, оглядел – угрюмо, тупо, растерянно – свои потертые гребни черного дерева, шкатулку для запонок, маникюрные ножницы, словно бы эти предметы, всюду путешествовавшие вместе с ним, служили доказательством того, что он сумел-таки справиться с жизнью, дойти до точки, после которой уже можно сказать: да это все, знаете ли, неважно. Несчастной Порции, лежавшей на его кровати, в его временной душной комнатке, казалось, нет нигде места, даже здесь. Порция – лишившаяся уютного дома, бывшего частью ее, а теперь лишившая и его собственных надежд и желаний, – казалась ему неприятной и жалкой, будто бродяжка, которая внушает опасения и отказывается от предлагаемой помощи, потому что предложение это вызвано страхом.
– А вы посмотрите на это вот с какой стороны… – начал было он, замолчал и все тем испортил. До него вдруг дошло, какая фикция – весь этот здравый смысл.
Впрочем, даже договори он фразу до конца, Порция его вряд ли бы услышала. Отвернувшись, она вцепилась в спинку кровати, уткнулась лбом в побелевшие костяшки пальцев. Так, скрючившись, она и застыла в этой позе – ноги свисали с кровати, будто отдельно от всего тела; с этими ее тонкими линиями, ее впадинками, ее забытьем она выглядела воплощением невызревшего горя. Какое счастье, что лишь немногим из нас дано прочувствовать мир до того, как мы полностью перейдем на его сторону. Детские фантазии, будто чешуйки, за которыми таится бутон, не только защищают, но и пестуют страшный крепнущий дух, защищают не только невинность от мира, но и мир от напора невинности.
Майор Брутт сказал:
– Выше нос, мы ведь с вами в одной лодке.
Она сообщила своим костяшкам:
– Я думала, что когда повзрослею, то именно Эдди будет тем человеком, за которого я выйду замуж. Я понимала, что к тому времени стану другой, иначе нельзя, но ведь совсем другой я вряд ли смогу стать. А он говорит, что угадал мои мысли и что как раз это ему и не нравится.
– Когда влюбляешься…
– А я была влюблена? Откуда вы знаете? Вы-то сами были влюблены?
– Было дело, – отозвался майор с самоуверенной бойкостью. – Вас-то это сейчас, может, и насмешит, да и я, впрочем – уж не знаю, почему – особым успехом не пользовался. Тогда, разумеется, это все омрачало. Но в конце-то концов, я ведь здесь, вот он. Скажете, нет? – спросил он, подавшись вперед, скрипнув плетеным стулом.
Порция покосилась на него, но тут же отвернулась и прижалась к костяшкам другой щекой.
– Да, вы-то здесь, – ответила она. – А он сегодня попросил меня уйти. Что же мне теперь делать, майор Брутт?
– Не хочу показаться грубым, но я не понимаю, отчего бы вам все-таки не вернуться домой. Что бы там ни случилось, жить-то где-то надо. Завтракать, обедать и так далее. Они ведь, в конце концов, ваши родственники. Кровь не водица…
– Нет. Про меня с Анной так не скажешь. Дома, дома теперь совсем нехорошо – мы с ней друг друга стыдимся. Понимаете, она прочла мой дневник и кое-что узнала. Ей прочитанное не понравилось, но она все равно посмеялась над ним вместе с Эдди, они смеются над нашими с ним отношениями.
Услышав это, майор Брутт покраснел и взглянул в окошко, под которым сидел. Обращаясь к балюстраде и темнеющему небу, он спросил:
– Выходит, они друг с другом очень близки?
– О, он не просто ее любовник, все гораздо хуже… А вы по-прежнему считаете себя другом Анны?
– Ну, нельзя забывать о том, что она все-таки была очень ко мне добра. Наверное, мне не хочется сейчас об этом говорить… Но, послушайте, раз уж вам казалось… раз уж вам кажется, будто дома не все ладно, тогда разве не стоит вам хотя бы поддержать брата?
– Он меня тоже стыдится, из-за нашего отца. И еще он все время боится, что я начну его жалеть. Стоит мне открыть рот, как он смотрит на меня так, будто хочет сказать: «Вот только этого не надо!» Нет, он вовсе не хочет, чтобы я его поддерживала. Вы его совсем не знаете… Вы, наверное, думаете, я все преувеличиваю.
– В настоящее время…
– Знаете, это время всегда будет настоящим… Я не поеду домой, майор Брутт.
Он практично осведомился:
– Чего же вы тогда хотите?
– Остаться здесь…
Она запнулась, словно почувствовав, что слишком рано сказала нечто важное, о чем стоило бы говорить с осторожностью. Сжав губы, она решительно вскочила с кровати и подошла к нему так, чтобы – пока он сидит, а она стоит – хотя бы немного над ним возвышаться. Она оглядела майора с ног до головы, будто хотела растеребить его, разбудить и не знала только, как бы его половчее ухватить. Она стояла, опустив руки, которые, впрочем, были столь напряжены, словно она в любой момент могла всплеснуть ими с неуклюжим отчаянием. Она не могла или не желала говорить с умоляющими интонациями в голосе, в своей бесполости она была способна лишь на суровые призывы, майору казалось, будто она о него бьется, как если бы в его ребра снаружи стучало второе сердце.
– Остаться здесь с вами, – сказала она. – Я ведь вам нравлюсь. Вы мне пишете, посылаете головоломки, говорите, что обо мне думаете. Анна говорит, что вы сентиментальный, но она так говорит обо всех, кто хоть что-то чувствует. Я могу что-нибудь для вас делать, мы можем жить в собственном доме, нам не нужно будет жить в гостинице. Скажите Томасу, что хотите меня оставить, и он деньги для меня будет пересылать вам. Я могу готовить, мама готовила, когда жила на Ноттинг-Хилл-Гейт. Вы ведь можете на мне жениться? Со мной вам было бы веселее. Я вам совсем не помешаю, и вдвоем нам будет не так одиноко. Почему у вас такое удивленное лицо, майор Брутт?
– Наверное, потому что я удивлен, – вот и все, что он смог сказать.
– Я сказала Эдди, что вам со мной хорошо.
– Господи. Да, но неужели вы не понимаете…
– А вы все-таки подумайте, пожалуйста, – спокойно попросила она. – Я подожду.
– Дорогая моя, тут и думать нечего.
– А я все-таки подожду.
– Вы дрожите, – рассеянно заметил он.
– Да, мне холодно.
Она потихоньку, с совершенно новым – деловитым и хозяйским – видом принялась устраиваться поудобнее в комнате: стащила с кровати покрывало, сбросила туфли, улеглась на кровать и уютно натянула покрывало до самого подбородка. Этими действиями она будто сразу и обосновалась здесь, и укрылась, и отстранилась от всего – в большей степени, разумеется, последнее. Будто больная, будто человек, решивший, что если не вставать, то и жить будет не надо, она разом словно бы переселилась в другой мир. Она равнодушно то закрывала глаза, то взглядывала на потолок, повторявший скат крыши.
– Наверное, – сказала она через несколько минут, – вы не знаете, что делать.
Майор Брутт ничего не ответил. Порция повертела головой, невозмутимо оглядела комнату, присмотрелась к вещам на умывальнике.
– Столько всяких губок и щеток, – сказала она. – Вы себе сами ботинки чистите?
– Да. С этим у меня очень строго. Им тут, в гостинице, не все под силу.
Она поглядела на рядки ботинок – каждый аккуратно натянут на колодку.
– Понятно, почему они такие славные, похожи на каштаны… И это я тоже могу делать.
– Не знаю отчего, но женщины почему-то с этим хуже справляются.
– Ну, готовить-то я умею, это точно. Мама рассказывала мне обо всех блюдах, которые она готовила. И я уже сказала, что нам с вами совершенно не обязательно вечно жить в гостиницах.
Смехотворное видение счастливой жизни, которым даже на миг невозможно соблазниться, нужно отгонять от себя поскорее. Не вызови у майора Брутта это видение никаких чувств, он продолжал бы говорить с Порцией мягко, испытывая к ней одну лишь жалость… Однако майор вскочил на ноги, и не просто вскочил, а еще и вернул на место стул, на котором сидел, решительно придвинув его к стене и показав тем самым, что разговор окончен. Но из-за того, сколько усилий он приложил, чтобы поставить эту, самую последнюю точку, его решительный поступок выглядел скорее грубым, чем жалким. Боясь, как бы не возникло расхолаживающей паузы, майор заходил по комнате – взял свои гребни, рассеянно, но ловко начал расчесывать волосы. Поэтому наблюдавшей за ним Порции вдруг приоткрылся доселе невиданный мир оставшегося наедине с самим собой мужчины, суровая вдумчивость, с которой он совершал свой туалет. Сам того не осознавая, он яснее ясного дал ей понять, что намерен всегда жить один. Сложив гребни вместе, он бросил их на стол с таким стуком, что оба – и майор, и Порция – вздрогнули.
– Не сомневаюсь, что вы будете готовить, – сказал он. – Я всеми руками за. Но еще нескоро и, боюсь, не для меня.
– Наверное, мне не стоило вас спрашивать, – сказала Порция не растерянно, а, скорее, задумчиво.
– Я весьма польщен, – признался он. – По правде сказать, вы здорово меня приободрили. Но вы слишком хорошо думаете обо мне и слишком мало о том, что я пытаюсь вам сказать. А я напоследок снова попрошу вас вот о чем: выкиньте вы это все из головы и поезжайте домой. – Он даже не осмеливался взглянуть в сторону кровати, с которой не доносилось ни единого звука. – Я не говорю, что это лучший выход, просто этот выход – единственный.
Порция сложила руки поверх покрывала – своего последнего укрытия, – крепко-накрепко прижав его к груди.
– Ничего хорошего из этого не выйдет, майор. Они даже не будут знать, что сказать.
– Что ж, а мы посмотрим, что они все-таки скажут. Почему бы не дать им такую возможность? – Майор помолчал, пожевал верхнюю губу под усами и прибавил: – Я, разумеется, поеду с вами.
– Но я же вижу, что вам этого не хочется. Почему?
– Не хочу появиться там вот так, ни с того ни с сего – да еще и с вами, после того, как они уже столько времени за вас волнуются. Нужно телефонировать… Кстати, – продолжил он, – они ведь могут и полицию вызвать, и пожарников.
– Ну, раз уж вы так настаиваете, то можете сказать, что я у вас. Но, прошу вас, ни в коем случае не говорите, что я к ним вернусь. Это уже будет зависеть…
– А, будет, вот как? И от чего же?
– От того, как они поступят.
– В общем, позвольте мне сообщить им, что с вами все в порядке.
Ничего не отвечая, она отвернулась и подложила ладонь под щеку. В своей отстраненности она словно перестала быть женщиной, превратившись в кого-то вроде ребенка из елизаветинской пьесы – детей там вечно кто-нибудь выводит на сцену и потом уводит, они почти ничего не говорят и их неминуемая трагическая судьба укладывается в одну реплику; само их существование, весь их взгляд на мир целиком пронизаны нереальностью. Но тело ее сейчас казалось предметом, который долго носило по волнам и на миг, по капризу течения, прибило к берегу, но вскоре он снова понесется, закрутится в безжалостном потоке. Майор взял ее шляпку и повесил на столбик в изножье кровати. Заметив это, она спросила:
– Вы ведь вернетесь, после того как им позвоните?
– А вы ведь будете умницей и меня дождетесь?
– Если вы вернетесь, дождусь.
– А я скажу им, что вы здесь.
– И расскажете, как они поступят.
Он еще раз оглядел сумеречную комнату с ее новой обитательницей, потом вышел, закрыл дверь, принялся спускаться к телефону – по-прежнему шагал как лунатик, только чуть быстрее, словно его подгонял дурной сон, от которого никак не очнуться. Спускаясь пролет за пролетом, он все видел ее лицо на подушке и точно сквозь сон осознавал, сколь неглубока оказалась его мудрость. Наши пристрастия – давайте назовем их так, – наши привязанности столь инстинктивны, что мы почти не подозреваем об их существовании; только когда ими поступаются или, хуже того, когда ими поступаемся мы, вот тогда мы в полной мере и осознаем всю их силу. Предательство это означает конец внутренней жизни, без которой повседневность обращается либо в жуть, либо в бессмыслицу. Где-то в глубине души вдруг напрочь исчезает таинственный пейзаж, казавшийся бескрайним, и чудится, что у тебя навсегда отобрали эту бескрайность, что нигде, ни на одной улице ты не уловишь и смутного воспоминания о нем.
Майор Брутт не обладал склонностью к красноречивым размышлениям, он попросту почувствовал, что все переменилось к худшему. Его крепость пала, отныне он не может ни мечтать о доме на Виндзор-террас, ни приходить туда. Он заставил себя думать о ближайших действиях, понадеялся, что Квейны мигом предложат решение, что смогут забрать Порцию, что ему не придется везти ее к ним. Но стоило ему втиснуться в вертикальный гробик телефонной будки, как все его колебания, надо ли ему телефонировать, развеялись, хотя они, наверное, посмеются над ним, они совершенно точно посмеются над ним – снова.
6
Сент-Квентин, которого так и тянуло на место преступления – а точнее, к его моральному источнику, – пил херес у Анны, когда поднялась тревога. До этой минуты Сент-Квентин пребывал в отличном расположении духа, с облегчением отмечая, что почти не чувствует за собой никакой вины. Ни о каких дневниках и речи не заходило.
Волнения начались на первом этаже номера второго по Виндзор-террас и вскоре добрались до его верха. Пока Сент-Квентин и Анна потягивали херес, Томас вернулся домой, неожиданно поинтересовался, где Порция, и получил ответ, что та еще не приходила. Он и думать об этом забыл, пока Матчетт, собственной персоной, не возникла в дверях кабинета и, сообщив, что Порции до сих пор нет, не спросила, что Томас в связи с этим намерен предпринять. Стоя в дверях, она пристально рассматривала его, в последнее время они почти не встречались лицом к лицу.
– Я хочу сказать, без двадцати восемь – время позднее.
– Наверное, у нее были планы на вечер, о которых она забыла нам сказать. Вы спрашивали миссис Квейн?
– Миссис Квейн принимает гостей, сэр.
– Знаю, – ответил Томас.
У него чуть было не сорвалось с языка: «А то чего я, по-вашему, тут сижу?» Но он сказал только:
– Это не повод не спрашивать миссис Квейн. Скорее всего, она знает, где мисс Порция.
Матчетт смотрела на него совершенно бестрепетно, Томас хмурился, разглядывая авторучку.
– Ладно, – сказал он, – в любом случае лучше спросить у нее.
– Разве что вы пожелаете сами, сэр…
Повинуясь этому принуждению, Томас выбрался из-за стола. Матчетт явно что-то подозревала – впрочем, Матчетт всегда что-то подозревает. Если так смотреть на жизнь, то повод для беспокойства всегда найдется. Томас поднялся на второй этаж, но пока одолевал лестницу, успел проникнуться невысказанными подозрениями Матчетт, а потому резко распахнул дверь гостиной и застыл на пороге с таким видом, что Анна и Сент-Квентин тут же занервничали.
– Порции до сих пор нет дома. Я полагаю, мы знаем, где она?
Сент-Квентин вскочил, взял бокал Анны и налил ей хересу. Так ему удалось какое-то время не поворачиваться к Квейнам лицом, он подлил хересу себе, а заодно налил выпить и Томасу. Затем прошелся по комнате, остановился у окна и принялся наблюдать за людьми, как ни в чем не бывало катавшимися по озеру на лодках. Если что-то плохое и могло случиться, то уже давно случилось бы, убеждал он себя, поэтому вряд ли что-то случилось сейчас. С тех пор как он распрощался с Порцией на кладбище, сказав ей все то, что он ей сказал, прошло пять дней. Однако – и это приходилось признать – неизвестно, сколько времени ей могло понадобиться, чтобы как-то отреагировать. Ведь изначальному потрясению, как это часто бывает, нужно дозреть. Настроение у Сент-Квентина резко испортилось – он снова оказался заодно с родственниками этого ребенка, ему сделалось тошно, захотелось немедленно уйти. Он услышал, как Томас соглашается с изрядно растерявшейся Анной, что, пожалуй, стоит позвонить домой Лилиан.
Но мать Лилиан сообщила, что дочери нет дома, она проводит вечер с отцом и совершенно точно без Порции.
– Боже, – сказала мать Лилиан с еле заметным самодовольством, – мне так жаль. Вы там, наверное, места себе не находите.
Анна сразу же повесила трубку.
Томас заговорил – сначала сдержанно, но постепенно все больше и больше распаляясь:
– Знаешь, Анна, только мы можем допустить, чтобы девочка ее возраста одна разгуливала по Лондону.
– Ой, милый, брось, – сказала Анна, – не буди в себе высшее общество. Девочки ее возраста работают машинистками.
– Но она не машинистка, да и вряд ли вообще чему-нибудь тут выучится. Почему Матчетт не может забирать ее по вечерам?
– Для этого мы недостаточно роскошно живем, Матчетт и без того есть чем заняться. Если уж Порция тут чему и выучится, так это самостоятельности.
– Да-да, это все замечательно – с теоретической точки зрения. Но пока она этому учится, ее, например, может сбить автомобиль.
– Порция очень осторожна, она всегда так пугается, переходя дорогу.
– Откуда ты знаешь, какая она, когда никого нет рядом? Я вот только на днях буквально выдернул ее из-под колес авто – прямо возле нашего дома.
– Она просто заметила меня, только и всего. – В голосе Анны зазвучали резкие, испуганные нотки. – И что теперь – обзванивать больницы?
– А почему бы тебе, – невозмутимо спросил Томас, – сначала не позвонить Эдди?
– Потому что его, во-первых, никогда нет дома. А во-вторых, с чего бы мне ему звонить?
– Например, потому что ты часто ему звонишь. Эдди, конечно, не самого большого ума, но вдруг у него есть какие-то соображения.
Томас взял бокал, наполненный для него Сент-Квентином, и осушил его. Затем произнес:
– В конце концов, они ведь с Порцией не разлей вода.
– Ради бога, давайте все перепробуем, – отозвалась Анна идеально гладким, ледяным тоном.
Она набрала номер Эдди, подождала. И оказалась права: Эдди не было дома. Анна повесила трубку и сказала:
– Одна польза от этих телефонов!
– С кем еще она дружит?
– Больше мне на ум никто не приходит. – Анна нахмурилась.
Вытащив из сумочки гребень, она провела им по волосам – и этим беззаботным жестом только расписалась в фальшивости своего безразличия.
– Ей нужны друзья, – сказала она. – Но разве мы можем ей с этим помочь?
Она обвела комнату взглядом.
– Сент-Квентин, если бы тебя здесь не было, я бы тебе позвонила.
– Боюсь, что от меня было бы мало толку, даже если бы меня здесь не было… Прости, я и не знаю даже, что посоветовать.
– А ты постарайся. В конце концов, ты ведь у нас писатель. Что люди делают в таких случаях? Впрочем, знаешь, Томас, еще даже восьми нет – время не самое позднее.
– Для нее – позднее, – безжалостно ответил Томас. – Особенно когда человеку больше некуда пойти.
– Ну, она могла пойти в кино…
Но Томас, голос которого сделался совсем официальным – непреклонным, жестким, напряженным, отклонил это предложение, даже не раздумывая.
– Послушай, Анна, ничего не случилось? Может, она из-за чего-нибудь расстроилась?
И сразу стало ясно, что есть такое, о чем его собеседники не желают говорить, – по их лицам, разом сделавшимися пустыми. Атмосфера тотчас накалилась – будто в зале суда. Томас покосился на Сент-Квентина, гадая, а он-то тут при чем. Но когда он перевел взгляд на Анну, то вдруг разглядел – за ее равнодушной полуулыбкой и опущенными веками, – что Анна считает себя одинокой в этом своем умолчании. Глубокая, очень личная вина отделила ее от Сент-Квентина – она даже не заметила, как забегали у Сент-Квентина глаза, не заметила, что и он почему-то всполошился. Углядев раскол среди оппонентов, Томас осмелел и, едва Анна успела договорить: «Кстати, утром я ее не видела», Томас продолжил:
– Потому что тогда, может быть, Порция просто не хочет возвращаться домой. С людьми такое случается.
– С тобой-то конечно, – согласилась Анна. – Но Порция почти до неприличного предупредительна. Впрочем, никогда не угадаешь, как человек может себя повести.
Сент-Квентин, поставив бокал на стол, участливо вмешался в разговор:
– Выходит, ты ее толком и не знаешь?
Не обращая на него внимания, Анна продолжила:
– Так значит, Томас, ты считаешь, что она просто проверяет нас на прочность?
– У всех нас есть свои чувства, – ответил он, как-то странно глядя на Анну.
– А может, Порция не слишком приспособлена к домашней жизни? – вопросил Сент-Квентин.
– То есть вы оба хотите сказать, – ответила Анна из своего уголка на диване – прелестная картинка, ни единой эмоции, – что я плохо отношусь к Порции? Как мало нужно для того, чтобы все вылезло наружу. Нет-нет, Сент-Квентин, все в порядке, мы вовсе не ссоримся.
– Анна, дорогая моя, ссорьтесь на здоровье. Дело лишь в том, что от меня, похоже, тут не много толку. А если от меня нет толку, может, мне лучше уйти? Если я сумею потом чем-нибудь помочь, то обязательно вернусь. А так, пойду домой и буду сидеть у телефона.
– Боже! – язвительно воскликнула Анна. – Да ведь ничего ужасного еще не случилось! И не случится еще как минимум полчаса. А между тем уже восемь и нужно решить, будем ли мы ужинать. Или мы не хотим ужинать? Право же, я сама не знаю, что делать, ведь с нами такое в первый раз.
Ни Сент-Квентин, ни Томас, похоже, не знали, как поступить, поэтому Анна позвонила кухарке по внутреннему телефону.
– Подавайте ужин, – сказала она. – Мы не будем ждать мисс Порцию, она немного задержится…
– Мне кажется, это правильно, – прибавила она, повесив трубку. – Никаких полумер тут быть не может. Или мы ужинаем, или звоним в полицию… Сент-Квентин, самое лучшее, что ты можешь сделать, это остаться и поддержать нас – разумеется, если у тебя нет других планов на вечер.
– Мои планы тут ни при чем, – ответил искренне растерявшийся Сент-Квентин. – Дело в том, смогу ли я что-то для вас сделать.
– Дело в том, что ты старинный друг семьи.
Вечер стал еще мрачнее, еще пасмурнее. Из-за облачного неба скоропалительные сумерки казались стальными, а деревья в парке – будто сделанными из металла. Анна решила, что ужинать они будут при свечах, но на улице еще не совсем стемнело, и поэтому занавесей не задергивали. Огромная охапка аквилегий на столе походила на театральный реквизит – на нечто неживое; за окном люди по-прежнему катались на лодках по озеру. Филлис обносила едой Томаса, Анну, Сент-Квентина – на часы никто не смотрел. Сразу после того, как подали утку, в гостиной зазвонил телефон. Под его перезвон они обменялись взглядами.
– Я подойду, – сказала Анна и не двинулась с места.
Томас сказал:
– Нет, наверное, лучше я.
– Давайте я, если вам не хочется, – сказал Сент-Квентин.
– Нет, чушь какая, – сказала Анна. – Почему это я не могу подойти к телефону? Может, это вообще по другому поводу.
Сент-Квентин старательно жевал, не поднимая глаз от тарелки. Анна перехватила трубку поудобнее.
– Алло? – сказала она. – Алло?.. О, здравствуйте, майор Брутт…
– Итак, он говорит, что она там, – сказала Анна, вернувшись за стол.
– Это я понял, но где – там? – спросил Томас. – Что он сказал, где она?
– У него в гостинице, – безо всякого выражения ответила Анна. – Но сам понимаешь, это такая гостиница, где он живет.
Она подставила бокал, чтобы ей подлили вина, затем сказала:
– Ну вот, похоже, и все?
– Похоже, – ответил Томас, глядя в окно.
Сент-Квентин спросил:
– А он сказал, что она там делает?
– Она там просто находится. Взяла и зашла.
– Так, и что теперь? – спросил Томас. – Я так понимаю, он привезет ее домой?
– Нет, – удивленно ответила Анна. – Этого он не предлагал. Он…
– Так чего он тогда звонил?
– Узнать, что мы будем делать.
– И ты ответила?..
– Ты сам слышал… Я сказала, что перезвоню.
– И скажешь… Погоди, а что мы будем делать?
– Если бы я знала, я бы ему сказала, правда ведь, дорогой Томас?
– Так и велела бы везти ее домой. Можно подумать, у старикана других дел по горло. Нальем ему выпить, придумаем что-нибудь. Или пусть просто посадит ее в такси. Нет ничего проще.
– Нет, все не так просто.
– Это еще почему? Что там за сложности? О чем он там, черт побери, разливался по телефону?
Анна допила вино, затем сказала:
– Все было бы проще, если б ты понимал, о чем я говорю.
Томас взял салфетку, вытер рот, покосился на Сент-Квентина и спросил:
– Ты хочешь сказать, что она не собирается домой?
– Похоже, именно сейчас ей этого не слишком хочется.
– Как это – сейчас? То есть она приедет попозже?
– Она хочет знать, поступим ли мы правильно.
Томас молчал. Он нахмурился, выглянул в окно, побарабанил большими пальцами по краям тарелки.
– Ты хочешь сказать, что-то случилось, ты это имеешь в виду?
– Майор Брутт именно такого мнения.
– Черт бы его побрал, – сказал Томас. – Не совал бы нос не в свое дело. Что случилось, Анна? Ты хоть что-то знаешь?
– Вообще-то да, знаю. Она думает, что я прочла ее дневник.
– Она ведет дневник?
– Ну да. И я тоже.
– Да? И ты тоже? – спросил Томас.
Сам, похоже, того не сознавая, он вновь принялся барабанить пальцами по тарелке.
– Милый, тебе обязательно так стучать? Все бокалы трясутся… Тут, кстати, нет ничего странного, мне такое вполне свойственно. Ее дневник очень хорош – она нас всех вывела на чистую воду. Разве я могла не дочитать роман обо всех нас? Не скажу, что он изменил мою жизнь, но у меня возникли самые неприятные чувства, оттого что я узнала, каково это – жить, ну или по меньшей мере о том, каково это – быть мной.
– Все равно не пойму, почему она из-за этого так вспылила? Гостиница у него где-то в Кенсингтоне, верно? И при чем тут вообще Брутт? Он-то откуда взялся?
– Он посылал ей головоломки.
– А это уже что-то, – сказал Сент-Квентин. – Как по мне, это вполне может сойти за знак внимания.
– У меня все повадки горничной, – продолжала Анна, – а свободного времени куда больше, чем у горничной. И все-таки, хотела бы я знать, откуда она узнала, что я прочла ее дневник. Я положила его на место, я не оставила отпечатков, я бы заметила, обвяжи она его ниткой. Матчетт не могла ей об этом сказать, потому что я берусь за него, только когда Матчетт нет дома… Вот что меня удивляет. Я и правда хотела бы это знать.
– Правда? – спросил Сент-Квенин. – Ну, это как раз просто – я ей сказал.
Он окинул Анну довольно критическим взглядом, словно она только что сказала нечто отменно сомнительное. Наступившее молчание, в котором глубокое безразличие Томаса проступило особенно отчетливо, подчеркнула вплывшая в комнату Филлис – она убрала тарелки и подала клубничный десерт. Сент-Квентин, оставшийся один на один с собственными словами, сидел, спокойно улыбаясь и опустив глаза.
– Кстати, Филлис, – сказала Анна, – передайте Матчетт, что звонила мисс Порция. Она задержалась, но вскоре приедет домой.
– Хорошо, мадам. Сказать кухарке, чтобы та оставила ей горячий ужин?
– Нет, – ответила Анна, – она уже поужинала.
Когда Филлис ушла, Анна взяла ложку, оглядела клубнику и только затем спросила:
– Ты сказал? Вот как, Сент-Квентин?
– И ты, наверное, хочешь знать, почему?
– Нет, этого я точно не хочу знать.
– Ты совсем как Порция – ей это тоже было неинтересно. Она, конечно, пережила потрясение, и, хотя мне очень хотелось рассказать ей о себе, у нее не было желания меня слушать. Я так и сказал Порции тогда, в Мэрилебоне, – как же мы закрыты друг от друга… Но мне бы хотелось знать вот что – откуда ты узнала, что она знает?
– Да, кстати, – внезапно ожил Томас, – откуда ты знаешь, что она знает?
– Теперь мне понятно, – сказала Анна, слегка повысив голос, – что бы там ни сделали другие – выдали тайну, сбежали к майору Брутту, – во всем, с самого начала, буду виновата одна я. Ну что же, слушай, Сент-Квентин, слушай, Томас: Порция мне об этом ничего не говорила. Это не в ее характере. Нет, она просто позвонила Эдди, а тот позвонил мне и пожаловался, какая я злюка. Это случилось сегодня. Когда ты сказал ей, Сент-Квентин?
– В прошлую среду. Я это хорошо помню, потому что…
– …ну и вот. Наверняка с прошлой среды случилось что-то еще, что и вызвало этот срыв. В субботу мне показалось, что у нее какой-то странный вид. Она пришла к чаю и застала здесь Эдди. Наверное, что-то у них там не заладилось, когда они были на море. Может, у Эдди не выдержали нервы.
– Да, он очень чувствительный, – сказал Сент-Квентин. – Не против, если я закурю? – Он закурил, дал прикурить Анне и прибавил: – Терпеть не могу Эдди.
– Да, и я тоже, – сказал Томас.
– Томас! Впервые слышу!
Томас, по лицу которого было видно, что на душе у него заметно полегчало, сказал:
– Да, он тот еще крысеныш. И работает в последнее время спустя рукава. Мерретт хочет его уволить.
– Ты не можешь так поступить, Томас! Он же умрет с голоду. Почему Эдди должен голодать только из-за того, что он тебе не нравится?
– А с чего бы ему хорошо питаться только потому, что он нравится тебе? Как по мне, это один и тот же принцип – и никуда не годный. Людям получше Эдди приходится куда хуже.
– А кроме того, Эдди вряд ли умрет с голоду. – мягко заметил Сент-Квентин, – Он будет кормиться здесь.
– Нет, Томас, ты не можешь так поступить, – взволнованно повторила Анна, теребя жемчужное ожерелье. – Если он обленился, просто устрой ему хорошую выволочку. Но ты не можешь вот так взять и его уволить. Он просто осел, но больше он ни в чем не провинился.
– Мы не можем себе позволить ослов по пять фунтов в неделю. Когда ты попросила подыскать ему местечко, то все уши мне прожужжала о том, какой он гений, и, должен признать, таким он и был – первую неделю. Почему ты сказала, что он гений, если сейчас говоришь, что он осел, а если он такой осел, то почему он вечно у нас отирается?
Анна смотрела только на Сент-Квентина, но не на Томаса. Оставив жемчуга в покое, съела ложку десерта, затем сказала:
– Потому что он за ней бегает?
– И по-твоему, это хорошо?
– Откуда мне знать? Она ведь все-таки твоя сестра. Это ты хотел, чтобы она жила с нами. Нет, Сент-Квентин, все в порядке, мы не ссоримся… Томас, если тебе это не нравилось, почему ты сразу об этом не сказал? По-моему, мы об этом уже говорили.
– Мне казалось, что она вроде бы понимала, что к чему.
– То есть ты не хотел в это вмешиваться, но надеялся, что вмешаюсь я.
– Слушай, а что это ты такое говорила, мол, у них там что-то не заладилось на море? Он-то что там забыл? Почему ему не сиделось в Лондоне? У этой старой дуры Геккомб там что, дом свиданий?
Анна побелела.
– Как ты смеешь такое говорить?! Она была моей гувернанткой.
– Помню, помню, – ответил Томас. – Но, кажется, дуэньи из нее не получилось?
Анна молчала, смотрела на цветы, озаренные огоньками свечей. Затем попросила у Сент-Квентина еще сигарету, которой тот снабдил ее с самой что ни на есть ненавязчивой быстротой. После этого Анна пришла в себя и сказала очень ровным тоном:
– Боюсь, Томас, я не совсем тебя понимаю. Выходит, ты не доверяешь Порции? А ведь тебе, наверное, положено знать, можем ли мы доверять ей или нет. Ты знал ее отца, а я – почти нет. Мне и в голову не приходило за ней шпионить.
– Да, ты всего лишь прочла ее дневник.
Сент-Квентин, сидевший спиной к окну, обернулся и посмотрел на улицу.
– Уже порядком стемнело, – сообщил он.
– Сент-Квентин хочет сказать, что хотел бы поскорее покинуть нас.
– На самом деле, Анна, я хочу сказать совсем другое – ты ведь пообещала майору Брутту, что позвонишь.
– Да, а он ведь там ждет, верно? Да и Порция, наверное, тоже.
– Ладно, – сказал Томас, откинувшись на спинку стула, – и что мы им скажем?
– Не стоило нам отклоняться от темы.
– Да мы, в общем-то, и не теряли ее из виду.
– Нужно ему что-то ответить. А то он решит, что мы совсем спятили.
– У него и так предостаточно причин, – сказал Томас, – чтобы решить, что мы совсем спятили. Ты говоришь, она вернется домой, если мы поступим правильно?
– А мы знаем, как поступить правильно?
– Именно это мы сейчас и выясняем.
– Мы об этом точно узнаем, если поступим неправильно. Все просто: Порция тогда просто останется у майора Брутта. Ох, упаси меня боже, – вздохнула Анна, – еще раз обидеть подростка! Но дело ведь не только во мне – вы ведь понимаете, что мы все в этом увязли. Нам кажется, будто мы знаем, что мы натворили, но мы не знаем, что же такого мы натворили. Чего она от нас ждала и чего ждет сейчас? Нам нужно ведь не только понять, как бы так доставить ее домой нынче вечером, нам нужно понять, как нам всем троим потом всем вместе жить… Да, вот это задачка. И задала нам ее она.
– Нет, она просто обратила на нее наше внимание. Это большая разница. У нее есть своя точка зрения.
– Да, как и у всех нас. Это другим людям мы можем казаться бесполезными, но только не самим себе. Но если принимать в расчет чувства каждого, можно с ума сойти. Поэтому о чужих чувствах лучше не думать.
– Боюсь, – ответил Сент-Квентин, – в этом случае нам придется о них подумать. Если тебе, конечно, хочется, чтобы она вернулась домой. Этот ее «правильный поступок» – своего рода моральный абсолют, а они существуют только на уровне чувств. И вот эти двое сидят где-то в Кенсингтоне и ждут. Вам и вправду нужно что-то решить – и довольно скоро.
– Хорошо, даже если на миг допустить, что нам интересны чужие чувства, – как вообще узнать, что чувствует другой человек?
– Ну, право, – ответил Сент-Квентин, – мы еще не в самом безвыходном положении. Я писатель, ты, Анна, читала ее дневник, Томас – ее брат, должны же они быть в чем-то похожи. Радости в этом мало, но нужно признать: у нас есть все возможности для того, чтобы понять ее точку зрения, или скорее – посмотреть на все с ее точки зрения… Я могу продолжать, Анна?
– Да, прошу тебя. Но нам и вправду нужно что-то решить. Томас, что ты делаешь?
– Задергиваю занавески. Прохожие заглядывают в окна… А что, мы не будем пить кофе?
– Сент-Квентин, тогда подожди, пока принесут кофе.
Принесли кофе. Сент-Квентин, усевшись так, что чашка кофе оказалась у него между локтями, медленно потирал лоб. Наконец он сказал:
– Мне кажется, ты ей завидуешь.
– А она об этом знает? Если нет, то мы не сможем назвать это ее точкой зрения.
– Нет, она и сама не понимает, что ей выпало удовольствие обладать всем, чего недостает тебе. Сама она, кстати, никакого удовольствия от этого может и не испытывать. Ей страстно хочется, чтобы ее любили…
– Вот уж чему я больше никогда не позавидую…
– Она страстно надеется на то, что каждый новый путь – это путь, который ее куда-нибудь да приведет. Что уж она надеется там найти, мы вряд ли узнаем. И вот она ходит кругами вокруг вас с Томасом, подмечает то, чего нет, и записывает все себе в дневник – на память. В каком-то смысле ей, конечно, здорово не повезло. Будь вы совсем приятными людьми, живи вы где-нибудь за городом…
– А что, у тебя есть доказательства, – спросил Томас, впервые вмешавшись в разговор, – что совсем приятные люди действительно существуют?
– Положим, существуют, и, положим, вы – как раз из таких. Тогда вам до Порции бы и дела не было – вы не обращали бы на нее столько внимания. А так, вы оба относитесь к ней до неестественного серьезно, можно подумать, будто у нее в руках – разгадка какого-то преступления… Вот, например, твоя мать, Томас, наверное, была из таких приятных людей, которые живут за городом.
– Как, впрочем, и мой отец, пока не влюбился. О приятных, милых людях я, Сент-Квентин, могу сказать только одно – их ничем не проймешь. Но только до определенного предела. Да, я представляю, о каких людях ты говоришь, но ты писатель, да еще и всю жизнь прожил в городе… По моему опыту, каждого из них можно вывести из себя. И я уверен, что такая дотошная девочка, как Порция, очень скоро поймет, как это сделать. Поэтому никто не может себе позволить, чтобы такой дотошный ребенок постоянно находился где-то под боком. – Томас налил себе бренди и продолжил: – Как знать, живи мы там, где Порцию можно было бы усадить на велосипед, может, нам и удалось бы подольше делать вид, что все идет своим чередом. Но даже в этом случае, она что – так и будет вечно кататься на велосипеде? Рано или поздно она все равно заметит, что дела обстоят не лучшим образом. Мы с Анной живем как умеем, и вполне вероятно, наш образ жизни при близком рассмотрении не выдержит никакой критики. Взять хотя бы вот этот наш разговор, который мне кажется образчиком дурного вкуса. Будь мы приятными, милыми провинциальными жителями, Сент-Квентин, мы бы и секунды не смогли тебя вытерпеть. Более того, мы сторонились бы любых тесных знакомств и, конечно, были бы правы. И конечно, тогда нам бы жилось гораздо веселее. Но в итоге неизвестно, было бы от этого лучше Порции. Она наверняка стала бы крайне скрытной.
– Она и стала, – сказала Анна. – И бросилась на шею Эдди.
– Хорошо, а ты-то сама что делала в ее возрасте?
– Почему нужно вечно об этом вспоминать?
– А почему именно это сразу приходит на ум?.. Нет, Порция растет в мире, где все перевернуто с ног на голову, понятно, почему этот гаденыш Эдди привиделся ей нормальным человеком, не хуже других. Если бы мы с тобой, Анна, не пренебрегли своими обязательствами, она, может быть, и не стала…
– Стала бы, стала. Ей с самого начала хотелось его пожалеть.
– Жертва, – сказал Сент-Квентин. – Она видит жертву. Ей кажется, что весь мир на него ополчился. Она и не ведает, что человек способен сам себе нанести вред – как, например, мальчик, который ломает руку, чтобы не ходить в школу, а потом сваливает все на какого-нибудь громилу-хулигана, или как мужчина, который сам себя привязывает к стулу в спальне, лишь бы не вступать в схватку с грабителем, – о, в глазах Порции он будет Прометеем. Есть в отчаянии что-то показное, и только очень трезвый ум может распознать в нем грандиозную форму трусости. Чтобы закатывать истерики на публике, нужна дерзость, а дерзости нашему Эдди не занимать. Но чтобы их не закатывать, нужно мужество, а вот мужества ему как раз недостает. В противном случае он давно бы перестал быть у Анны на содержании. Но нет, он продолжит выть на Луну до тех пор, пока его хоть кто-нибудь будет слушать, а Порция готова слушать каждого, кто воет на Луну.
– Ты, наверное, полностью прав. Но все-таки какой же ты жестокий. Разве на одной жестокости далеко уедешь?
– Судя по всему, нет, – ответил Сент-Квентин. – Видишь, куда она завела нас троих. Прожженные циники, а решить толком ничего не можем. Чистое сердцем дитя уложило нас сегодня на лопатки одной левой. И посмотри, сколько удовольствия она получает от всего этого – она обитает в мире героев. Кто мы такие, чтобы считать этих героев фальшивками? Если весь мир и вправду театр, должны же кому-то достаться и главные роли. А она всего-то и хочет – очутиться на сцене. И она ведь права, пробуясь на главную роль, пусть до нее и не дотягивает, потому что лучше – ну, тут, конечно, можно поспорить – провалиться с треском, чем оказаться тем приглаженным человечком, который более-менее пристойно отыграл до конца. Впрочем, покажите мне хотя бы одного приглаженного человечка, у которого на душе не скребут кошки. Я уверен, у каждого из нас внутри, под тремя замками, сидит безумный великан – это мы во весь рост, которых не покажешь другим людям, – и только его толчки и удары, что мы изредка слышим друг в друге, и спасают наши беседы от непроходимой банальности. Порция же слышит их постоянно, более того – она только их и слышит. Стоит ли удивляться тому, что у нее почти всегда такой вид, будто она не от мира сего?
– Наверное, не стоит. Но как же нам вернуть ее домой?
Сент-Квентин сказал:
– А как бы себя чувствовал Томас, будь он собственной сестрой?
– Я бы чувствовал себя тут как в бедламе. Мне хотелось бы отсюда сбежать и никогда сюда не возвращаться. Правда, я бы еще благодарил Бога за то, что родился женщиной и мне нет нужды отстаивать свою правоту по-мужски.
– Да, – ответила Анна, – но это все потому, что ты считаешь, будто быть мужчиной – непосильное бремя. Ты изо всех сил стараешься не получать от жизни никакого удовольствия. Даже если бы тебе повезло и ты родился бы не мужчиной, а Порцией, ты и тогда нашел бы, чем испортить себе настроение. Но Сент-Квентин не совсем это имеет в виду. Речь вот о чем: как нам поступить, чтобы ты – окажись ты сейчас на месте Порции – от нас бы не отвернулся?
– Как-нибудь очень просто. Как-нибудь без лишнего шума.
– Но, дорогой мой Томас, в наших с ней отношениях никогда не было ничего простого. Мы с самого начала действовали методом проб и ошибок.
– Ладно, я бы, наверное, хотел, чтобы за мной приехал человек, который не примется читать мне великосветских нотаций. Пусть сердится, пожалуйста, сколько угодно – но никаких проповедей.
Томас замолчал и строго взглянул на Анну.
– Порция почти всегда добирается домой сама, – сказал он. – Но во всех остальных случаях – кто ее обычно забирает?
– Матчетт.
– Матчетт? – спросил Сент-Квентин. – Это ведь ваша горничная? У них хорошие отношения?
– Да, очень хорошие. Я знаю, что они вместе пьют чай, если меня нет дома, а еще – когда они думают, что меня рядом нет, – желают друг дружке спокойной ночи. Их беседы этим не ограничиваются, конечно, но я понятия не имею, о чем они говорят. А нет, впрочем, имею – они говорят о прошлом.
– О прошлом? – спросил Томас. – Это как? Почему?
– Они говорят об их великом общем прошлом – о твоем отце, естественно.
– Почему ты так считаешь?
– Потому что они с ней не разлей вода. Их, бывает, не отличишь друг от друга. Какая еще тема – кроме любви, разумеется, – вызывает в людях такую одержимость? Такие разговоры всегда идут по нарастающей. Это транс, это порок, это своего рода отдельный мир. Порция, может, и стала оттуда в последнее время сбегать – из-за Эдди. Но Матчетт эту тему ни за что не оставит, это, если не считать мебели, ее raison d’кtre[50]. И уж тем более она не оставит ее теперь, когда Порция живет с нами. Понимаешь, приезд Порции стал своего рода венцом всему.
– Венцом, надо же. Это правда? Все так и было? Знай я об этом, сразу бы уволил Матчетт.
– Ты прекрасно знаешь, что Матчетт прилагается к мебели. Нет уж, тебе по наследству достался целый мешок с котами. Матчетт боготворит твоего отца. Так почему бы Порции не узнать о своем отце от человека, который и его считает человеком, а не просто несчастным оскандалившимся стариком?
– А вот этого можно было и не говорить.
– А я раньше никогда этого и не говорила… Да, Сент-Квентин, в основном она общается с Матчетт.
– Матчетт… Это такая женщина в огромном каменном фартуке, которая, стоит мне пройти мимо, вжимается в стену, будто кариатида? Я вечно ее вижу на лестнице…
– Да, она вечно ходит вверх-вниз… Почему бы и не Матчетт, кстати?
– То есть мы перешли от «почему» к «почему бы не»? Ну а ты, Анна, что бы чувствовала?
– Будь я Порцией? Я бы презирала весь наш тесный кружок, всех этих людей, которые и себе жизнь испортили, и мне жить не дают. Я бы скучала – ох, как бы я скучала в этом нашем тайном обществе на пустом месте, где все то и дело друг другу подмигивают. Мне бы ни за что не хотелось знать, что все имеют в виду. И хотелось бы, чтобы кто-нибудь уже свистнул и все это прекратилось. Я бы хотела, чтобы меня заметили. Я бы презирала всех женатых, которые вечно ломают комедию. Я бы презирала всех неженатых, которые вечно осторожничают и обижаются. Я бы безумно, безумно хотела, чтобы ко мне относились с искренним чувством, и в то же время хотела бы, чтобы меня оставили в покое. Хотела бы, чтобы меня спрашивали о том, как я себя чувствую, и очень, очень хотела бы, чтобы меня принимали такой, какая я есть…
– Это что-то новенькое, Анна. Сколько тут дневникового, а сколько твоего?
Анна осеклась. Она сказала:
– Ты же спросил – будь я на месте Порции. Разумеется, это невозможно, мы с ней даже нельзя сказать, что одного пола. Нам с ней, может, и захочется начать все с чистого листа, но, боюсь, на это надежды мало. Я вечно буду ее обижать, а она вечно будет меня во всем винить… Ну что ж, Томас, значит, решено – посылаем Матчетт? Право же, надо было сразу об этом подумать и не перетряхивать все грязное белье.
– Решено – мы пошлем за ней Матчетт. Верно ведь, Сент-Квентин?
– О, разумеется…
Мы Матчетт пошлем за ней, Пошлем за ней, за ней, Пошлем Матчетт за ней В этот сумрачный…
– Сент-Квентин, ради бога!..
– Прости, Анна. Я что-то совсем не в себе. Очень рад, что все устроилось.
– Нужно еще все как следует обдумать. Что мы скажем Матчетт? И кто позвонит майору Брутту?
– Никто, – быстро отозвался Томас. – Будь что будет. Мы не тратим время на разговоры, мы делаем то, что нужно.
Анна поглядела на Томаса, ее лоб медленно разгладился.
– Ну хорошо, – сказала она. – Тогда я скажу ей, чтоб сходила за шляпой.
Матчетт сказала:
– Да, мадам.
Она не сдвинулась с места, пока Анна не вернулась в столовую. Затем, грузно ступая, стала подниматься по пустынной лестнице – на втором пролете она уже развязывала фартук. Она остановилась, отворила дверь в комнату Порции и быстро огляделась в полумраке. Одеяло на кровати было откинуто, ночная сорочка лежала поверх него, но сама комната, казалось, никого не ждала. Пустая комната принимает такой вид ближе к ночи – словно бы здесь в одиночестве умер день. Матчетт, одной рукой придерживая завязки фартука за спиной, включила электрокамин. Распрямившись, она выглянула в окно: под небом стройно торчали металлически-зеленые верхушки деревьев, парк был еще открыт. Затем Матчетт отправилась дальше, наверх, в свою комнату, которой, кроме нее, никто не видел.
Когда она спустилась – в шляпе и темном пальто, с черными замшевыми перчатками в руках, зажав под мышкой сумочку из мягкой кожи, – Томас уже ждал ее в холле, придерживая открытую дверь. Он беспокойно выглядывал ее на лестнице. На улице ждало такси с включенным счетчиком – оно стояло вплотную к ступеням, поэтому казалось, будто что-то тикает в холле.
– Такси за вами приехало, – сказал Томас.
– Благодарю, сэр.
– Давайте-ка я дам вам денег.
– Моих вполне хватит.
– Ну хорошо. Тогда садитесь.
Матчетт уселась в такси, захлопнула за собой дверцу. Она разогнула спину, бесстрастно глянула в одно окно, в другое, а затем расправила перчатки и принялась их натягивать. Сквозь стекло она видела, как Томас дает какие-то указания таксисту, затем такси всхрапнуло, завелось и загромыхало по улице.
Матчетт не только застегнула перчатки, но и разгладила их так, что не осталось ни единой морщинки. Это занимало ее до самой середины Бейкер-стрит. Но вдруг она дернулась, будто ее ударило током, замерла и, сцепив руки, сказала вслух:
– Хотя, если подумать…
Она взволнованно поглядела сквозь стекло на затылок водителя. Затем, поставив сумочку на сиденье, подалась вперед и попыталась сдвинуть стеклянную перегородку, но перчатки только скользили по ней.
Водитель пару раз дернул головой. Но светофор был против него – он притормозил у обочины, сдвинул перегородку и услужливо высунулся к Матчетт:
– Мэм?
– Послушайте, а вы знаете, куда ехать?
– Куда он сказал, так ведь?
– Ну, если знаете, то знаете. Меня только потом не спрашивайте. Это не мое дело. Это вы должны знать, как ехать.
– Эй, ладно вам, – обиделся водитель, – это не я к вам полез с расспросами.
– И слышать ничего не хочу, молодой человек. У вас своя забота – знать, как доехать туда, куда вам сказал джентльмен.
– Ха, так вот что вы хотите узнать? Так бы прямо и спросили.
– О нет, я ничего не хочу знать. Я только хотела убедиться, что вы все знаете.
– Ясно, бабуля, – сказал таксист. – Ну тогда придется уж вам рискнуть. Прямо не жизнь, а приключение.
Матчетт, не говоря ни слова, отодвинулась. Закрыть перегородку она даже не пыталась: загорелся зеленый, и такси рвануло вперед. Она снова поставила сумочку на колени, сложила на ней руки и дальше всю дорогу так и сидела – как изваяние. Она даже на часы не глядела, потому что решительно ничего не могла поделать со временем. Проехав по огромной мишурной пустоши Оксфорд-стрит, они срезали путь, свернув в Мэйфер. На поворотах, когда такси заносило, Матчетт вытягивала руку и неловко пыталась удержать равновесие.
Дух Матчетт потряхивало в теле Матчетт – чередой грубых рывков, точно так же, как тело Матчетт потряхивало в такси. Если время от времени она о чем-то и думала, то думала словами.
Ну уж не знаю.
Миссис Томас, конечно, и в голову не пришло сказать, а я-то и не подумала спросить. И что это на меня нашло? А мистер Томас, когда сажал меня в такси, только и спросил, нужно ли мне дать денег. Нет, и мистер Томас ничего не сказал, подумал, наверное, что миссис Томас уж все точно скажет. И вот ведь, понимаешь, оставь я дверцу открытой, я б услышала, что он ему сказал. Но я взяла и закрыла дверцу. Что на меня нашло? Я и не подумала, что надо бы понять, что он там ему сказал. Не буду его спрашивать больше, он мне вон как надерзил. Никогда их не знаешь, этих таксистов. Неприятный они класс.
Ох, да, дела странные. Ну ладно, я так скажу, за всем не уследишь. А еще в такой спешке. Гостиница, вот и все, что она сказала, гостиница, мол. Но эти гостиницы, они повсюду. Только и остается, что волноваться, – ох, как я зла на себя, что не спросила. Как я узнаю, что это то самое место? Он ведь где угодно меня может высадить, знает ведь, что я не узнаю, потому что ничего не знаю. Не надо было ему говорить, что я не знаю. Вот и попала впросак… Это не с нашей стоянки водитель.
И что я скажу, если они мне объявят: нет-нет, никакого майора Брутта тут нет, или: нет-нет, таких мы и знать не знаем. И что я тогда скажу: ну уж, будет вам, меня уведомили, что это то самое место, мне велели тут ждать? Возьмут и выставят меня на улицу без разговоров, а адреса-то я не знаю. И ведь любой швейцаришка может меня высмеять. Возьмет и заявит, да и надерзит еще: ах, да вы, мол, адресом ошиблись.
Они мало того что должны были сообщить мне адрес, еще и записать все следовало.
Это все миссис Томас, это она вдруг заспешила. Совсем меня из колеи выбила. Раз уж она так торопилась, отчего не послала меня раньше? Когда Филлис спустилась и сказала: ну все, она позвонила, но приедет поздно, – я только и ждала, чтоб побежать за шляпой. Филлис сказала, они там все разговаривают. Сегодня засиделись, – вот что она сказала, – наверное, все из-за этого мистера Миллера.
Поменьше бы говорили, да побыстрее бы все решали. В жизни не видела, чтобы миссис Томас так торопилась. Она и не знала, как бы договорить побыстрее. Как будто ей вовсе-то и просить меня не хотелось. Ну мне-то что, я к ее приказам привычная. Возьмите такси туда и обратно, сказала она, такси мы уже вызвали. Она все посматривала на меня, но как будто бы и не смотрела. И при этом говорила так, будто просит меня какой-то фокус ей показать. А потом, как она убежала-то обратно в столовую, да и дверь еще захлопнула. Они все там были.
А, это Гайд-парк?.. Ну уж не знаю.
Я-то помню, что когда пошла за шляпкой, то сказала себе: так-так, чего-то она не договаривает. Я только об этом и думала, пока надевала шляпку. Потом я спустилась, увидела мистера Томаса и еще подумала: так, что-то мне нужно у него спросить. И что мне стоило услышать, что он там говорит таксисту. Но меня это все выбило из колеи, а еще ведь надо перчатки надеть, в этакой-то спешке. Пока мне это в голову пришло, мы уже до Бейкер-стрит доехали. И тут я себе и говорю: так, мы едем… и тут-то я и осеклась. Ох, мне прямо не по себе стало. Так-то вот с маху и оглоушило.
Подумать только, вот так вот взять и поехать. Подумать только – поехать куда-то, я даже не знаю куда. Подумать только, поехать вот так, в один миг. Подумать только, поехать куда-то, не зная даже адреса.
Ну, уж он-то знает, я думаю. С чего бы мне сомневаться, что он не знает. Но подумать только – чтобы я и зависела от милости такого вот, как он. Ох, и что же они не подумали мне сказать, хоть бы кто-то один подумал. Надо было им об этом подумать. Забывчивость – это одно. Но это вот, это неправильно.
Попала я впросак. Господи, да мне и сказать-то в ответ нечего.
Это все они. Вот почему они совсем другие, вот поэтому. Совсем они не такие, как мистер Квейн. Не как мистер Квейн. Он всегда обо всем думал. Он тебе и выскажет, конечно, но потом еще и объяснит, почему. Он тебя в такое положение никогда не поставит, тем более с таксистом. Не даст тебе попасть впросак. Ох, он был человек честный и все делал по-честному. Люди куда похуже, чем он, на него пальцами показывали.
Да, а о вас он бы что решил – это ж надо, разгуливать по Лондону в такое время? Нет, это вы плохо сделали, взяли и всю меня перетревожили. Что сказал бы ваш отец, хотела бы я знать? Начнем с того, что вы и словом не обмолвились, что не вернетесь к чаю. А я для вас такой чай приготовила, да еще и горячим его держала. И только в половине шестого я подумала: ну, значит, ладно! Она у этой Лилиан, подумала я, но надо было предупредить. Я, значит, ждала вас к шести. Нет, ну вы меня перетревожили. Я смотрела на часы и глазам своим не верила. Слышу, открылась парадная дверь, но это всего-навсего мистер Томас.
Смотрела на часы и не верила своим глазам. Право, на вас это совсем не похоже. На вас, какой вы были. И что это на вас нашло? Ох, вы в последнее время только и делаете, что глупите. Сначала одно, потом другое. Прячете всякую ерунду у себя под подушкой – я бы уже тогда все вам могла сказать. Что ничем хорошим это для вас не кончится. Вы совсем не такая, какая прежде были. Тут уж если не Эдди, так значит это все эти Геккомбы, да еще один, другой и третий на этом вашем море. Не надо было вам ездить к морю, это после него вы начали глупить. Я вам столько всего рассказала, могли бы мозгами пораскинуть. Ничего хорошего нет в этих тайнах – взять хотя бы вашего отца. И не стоило вам ехать в гостиницу к джентльмену.
Станция «Южный Кенсингтон»… Ну уж не знаю.
Так, а поужинали-то вы хоть хорошо? Сытно? В таких местах ничего не знаешь наперед, тут уж люди крутятся, как умеют. А этот майор Брутт такой же простофиля – тоже ничего не знает. Все он и эти его головоломки. Впрочем… Нет, я вот о чем: вы что-то загулялись, мы сейчас же едем домой, вы меня всю перетревожили. Пора бы вам заканчивать с вашими глупостями. Ведите себя тихо и попомните мое слово. Я у вас в комнате камин разожгла, у вас там теперь уютно, и я вам печений припасла, какие вы любите. Все с вами будет хорошо, если вы снова станете, какой были.
Ничего я вас не отчитываю. Все, уже закончила. Я что хотела, то и сказала. Не хнычьте и не глупите. Поедемте домой с Матчетт, ну-ка, будьте умницей.
Господи, а гостиницы-то тут какие! Прямо иголки в сене.
Так, и что это он удумал? А, мы, значит, останавливаемся. Ну уж я не знаю.
Водитель, свернув к обочине, дерзко глянул на Матчетт сквозь перегородку. Он затормозил, вяло обогнул авто, чтобы открыть дверцу, но Матчетт уже вышла из такси и стояла, задрав голову. Над ней, унылым безвкусным утесом, возвышалась гостиница, увенчанная бледными лучами почти исчезнувшего солнца.
– Вот он, мэм, – сказал водитель, – наш маленький сюрприз.
Матчетт с суровым достоинством расправила плечи и прочла: «Гостиница Карачи». Она холодно прошлась взглядом от портика до стеклянной двери, от тускло-желтой медной дверной ручки к крутым, зашарканным ступеням. Не оборачиваясь, сказала:
– Ну, если вы привезли меня не туда, то и не надейтесь, что я вам заплачу. Можете сразу ехать обратно, а уж с джентльменом я поговорю.
– А мне-то откуда знать, что вы обратно выйдете?
– Если я не выйду обратно вместе с юной леди, то только потому, что вы привезли меня не туда.
Матчетт обеими руками поправила шляпу, покрепче ухватила сумку и вскарабкалась по ступенькам. Отсюда серая дорога виделась ей сплошными отзвуками и промельками: редкое такси, редкий автобус. Вечер отражался в темных окнах, делая их призрачными, освещенные гостиные выглядели блеклыми и пустыми. В салоне «Гостиницы Карачи» кто-то неуверенно наигрывал на пианино.
И в то же время в раскинувшемся лиловом полумраке улицы таился намек на грядущее лето – лето, которое только накалит все до предела жарой и ослепительным светом. В садах на окраинах Лондона, когда все остальное исчезнет в полутьме, загорятся розы. Усталость, но и какая-то радость распахнет сердца, потому что лето – это пик и полнота жизни. Даже пыль уже пахла крепко. В этот преждевременный облачный вечер небо было теплым, а здания будто росли на глазах. Пальцы на клавишах замерли, попали в верную ноту, отыскали дорогу к аккорду.
Сквозь стеклянную дверь Матчетт увидела огни, стулья, колонны, но ни одного мальчишки-посыльного, никого. Она подумала: «Ну и местечко!» Безо всякого звонка – место-то публичное, она без колебаний повернула медную дверную ручку.
Примечания
1
Приставка Ap или Ab перед валлийским именем означала «сын такого-то / из рода такого-то», в данном случае – «из рода Оуэна». – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Tauchnitz – немецкое издательство, основанное во второй половине XIX века. Издавали англоязычную литературу, которую распространяли за пределами Великобритании – преимущественно для англичан, которые жили за границей.
(обратно)3
Очень коротко, «ежиком» (фр.).
(обратно)4
Angelus Domini (лат. «Ангел Господень») – католическая молитва.
(обратно)5
Старинное гадание: необходимо было, не отрывая ножа, срезать как можно больше кожуры с яблока, а затем получившуюся длинную спираль швырнуть за плечо. В упавшей кожуре старались разглядеть букву – инициал будущего жениха.
(обратно)6
Родерик Хэллоуэлл «Сэнди» Макферсон (1897–1975) – британский театральный органист, с 1928 по 1938 год играл в престижном лондонском кинотеатре «Эмпайр» во время киносеансов. Впоследствии стал ведущим музыкантом на Би-би-си.
(обратно)7
Parlez-Moi d’Amour («Поговори со мной о любви», фр.) – песня Жана Ленуара, написанная в 1930 г. и сразу ставшая очень популярной во Франции, Британии и Америке.
(обратно)8
Напиток, который был популярен в Англии во второй половине XIX – начале XX века. На полстакана молока добавляли полстакана сельтерской воды из сифона.
(обратно)9
Она же Леди из Шалота, или Элейна из Астолата, героиня артурианских легенд, к образу которой часто обращались художники-прерафаэлиты, изображавшие ее с двумя перекинутыми на грудь полурасплетенными косами.
(обратно)10
Популярный сорт мыла.
(обратно)11
Сибас (фр.).
(обратно)12
Подземная тюрьма в виде ямы.
(обратно)13
Гора на севере Уэльса.
(обратно)14
Украшение для каминов и столов, которое было особенно популярным в викторианскую эпоху, представляет собой гибрид широкого подсвечника и вазы на высокой ножке; бывает хрустальным, золоченым, эмалевым, но обязательно с подвесками из хрусталя или дорогого стекла. Основное предназначение – улавливать и красиво отражать свет.
(обратно)15
Eno – шипучее, растворимое желудочное лекарство, изобретенное в 1850-х годах. Известно также как «Фруктовые соли». Содержит пищевую соду, лимонную кислоту и гидротартрат натрия. В поздневикторианской и эдвардианской культуре своего рода лекарство от всех болезней.
(обратно)16
Непрошеный, назойливый (фр.).
(обратно)17
«Сид», трагедия П. Корнеля.
(обратно)18
Скорее всего, к ужину подали bacon and egg pie – пирог из слоеного теста, в который, кроме бекона (ветчины) и яиц, обычно кладут еще овощи и иногда сыр.
(обратно)19
Вязальщица (фр.) – название женщин, которые во время Французской революции 1793 года присутствовали на заседаниях Конвента, казнях и в общественных собраниях, как правило, с вязанием в руках.
(обратно)20
Башни мартелло (названы в честь крошечной генуэзской башни на мысе Мартелла на Корсике) – круглые и приземистые каменные укрепления, которые в начале XIX века построили в Британии и ее колониях на побережьях, чтобы противостоять возможному вторжению войск Наполеона.
(обратно)21
«Утехи и дни» Марселя Пруста.
(обратно)22
Монета в два шиллинга.
(обратно)23
Свершившийся факт (фр.).
(обратно)24
Дафна работает не в общественной библиотеке, а в частной «библиотеке по подписке», которая называется по имени богатого мецената Льюиса Эгертона Смута, на чьи средства она была основана, а за пользование книгами взымается определенная плата. Такие библиотеки Смут и его жена устроили во многих городах Англии.
(обратно)25
Героиня баллады Альфреда Теннисона волшебница Шалот заточена в замке, на нее наложено проклятье, и она прядет не покладая рук, а мир видит лишь в зеркале – там по оживленной дороге мимо нее идут и едут люди.
(обратно)26
Dismal Desmond – мягкая игрушка в виде длинной пятнистой собаки очень унылого вида, которая появилась в Британии примерно в 1926 году. Создатели Десмонда позже придумали веселую версию игрушки, но она не прижилась.
(обратно)27
Примитивное приспособление (попросту доска с вырезом и на приступке), помогающее легко снимать обувь.
(обратно)28
Здесь: ну а чего вы хотите? (фр.)
(обратно)29
Непринужденно (фр.).
(обратно)30
«Радио Люксембург» – радиовещательная компания, которая была расположена в Люксембурге, но вещала на Британию и Ирландию на английском языке, чтобы обойти монополию на радиовещание, которая была только у Би-би-си. «Радио Люксембург» слушали по всей Британии – там было много развлекательных передач и легкой, веселой музыки.
(обратно)31
Беллетристика, здесь еще в изначальном смысле: «прекрасно, изящно написанные книги», шедевры стиля.
(обратно)32
Недоверием (фр.).
(обратно)33
Легенда, придуманная в 1930-х годах компанией «Хорликс», производителем растворимых горячих напитков. Представители компании в своей рекламе уверяли, что постоянное чувство усталости связано с так называемым «ночным истощением» – утомлением организма за ночь, которого легко можно избежать, если на ночь выпивать кружку горячего молочного напитка от «Хорликс».
(обратно)34
Популярный английский киноактер (1891–1958), его образ в чуть сдвинутой набок шляпе с загнутыми полями стал каноническим.
(обратно)35
Названия коктейлей: «бронкс» – из апельсинового сока, двух видов вермута и джина, «сайдкар» – из коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока.
(обратно)36
Карл Эдуард Стюарт (1720–1788) – якобитский претендент на английский и шотландский престолы, предводитель шотландского восстания против англичан.
(обратно)37
Слова из популярной в начале ХХ века песни My Rosary на стихи поэта Роберта Камерона Роджерса (1898).
(обратно)38
У. Шекспир, «Король Лир», действие 5, сцена 3: «Поймем тогда мы тайну всех вещей, / Как Божьи соглядатаи» (пер. М. Кузмина).
(обратно)39
В пустоте (лат.).
(обратно)40
Вкус (фр.).
(обратно)41
Только не при слугах (фр.).
(обратно)42
Да устыдится всякий, кто подумает об этом плохо (фр.) – девиз ордена Подвязки.
(обратно)43
Красивых глаз (фр.).
(обратно)44
Я больше не могу (фр.).
(обратно)45
ABC (The Aerated Bread Company) – популярная сеть лондонских чайных, где можно было купить хлеб, выпечку и выпить чаю прямо на месте. В 1930-х годах в Лондоне насчитывалось около 200 чайных ABC.
(обратно)46
Королевский политехнический институт, сегодня носит имя Вестминстерского университета.
(обратно)47
Здесь: на краю, в несчастье (лат.).
(обратно)48
«Тебе еще многому нужно научиться», досл.: в фазе ученичества, под опекой (лат.). В английских учебных заведениях так называли студентов младших курсов, еще не получивших степень мастера.
(обратно)49
По-домашнему, по-простому (фр.).
(обратно)50
Смысл жизни (фр.).
(обратно)



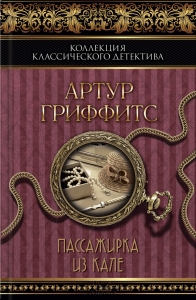
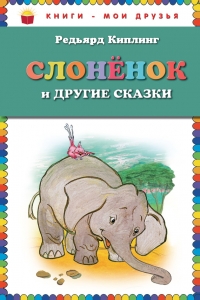




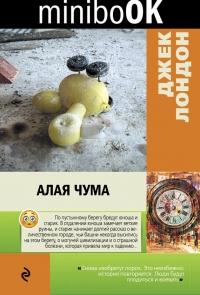



Комментарии к книге «Смерть сердца», Элизабет Боуэн
Всего 0 комментариев