Мэри-Элизабет Брэддон Преступление капитана Артура
Глава I Через восемь лет
Заходящее осеннее солнце золотило массивные стволы дрока, которые венчали вершину одного из косогоров Суссекского графства.
Издали доносился глухой рокот морских волн, смешивающийся с жалобным стоном сентябрьского ветра. По узкой тропинке, проложенной по вершине косогора, ходила взад и вперед молодая женщина в трауре, не сводя глаз с пылающего небосклона и блестевшего красноватым светом моря. Между кустами бегал мальчик лет семи, останавливаясь по временам, чтобы сорвать желтые цветы, которые через пять минут уже топтал ногами. В долине поднимался дым из труб нескольких хижин, оживляя этот суровый ландшафт. А на извилистой дороге, ведущей к горе, виднелся небольшой фаэтон, запряженный парой лошадей и ожидавший прогуливающихся на вершине особ. Экипаж стоял тут около часа, груму уже надоело ходить вокруг него и прислушиваться к полету куропаток да к раздававшимся изредка в лесу выстрелам какого-нибудь охотника.
– Когда ты поедешь домой, мама? – спросил ребенок, подбегая к матери.
– Скоро.
– Я так устал…
– Мой Руперт!
С этим восклицанием молодая женщина нежно положила руку на плечо мальчика, но все же не отводила глаз от стороны, где солнце исчезало за морем.
– Дитя мое, доктор Персон говорит, что тебе нужно больше движения; я потому и привела тебя сюда… Побегай еще, мой милый… побегай.
– Я не люблю бегать… Давай, мама, играть в лошадки.
Мать глубоко вздохнула и, стянув шаль покрепче вокруг талии, приготовилась исполнить просьбу ребенка. Она была высокая, изящная и поразительно хорошенькая. Действительно, большие ясные голубые глаза ее были прекрасны, хотя им и недоставало выразительности; маленький тонкий нос, рот, который далеко не свидетельствовал о силе характера, и длинные светло-русые волосы составляли привлекательное целое. Можно сказать, что это лицо скорее шло бы кукле, чем живой женщине. Она еще сильнее стянула шаль, завязала концы ее и, дав их в руки сыну, начала бегать по косогору, между тем как мальчик поощрял ее слабым, визгливым голосом. Он называл это игрой в лошадки.
Она бегала очень медленно, чтобы не утомить ребенка. Вскоре, однако, у нее захватило дыхание; она вдруг остановилась и прижала маленькие, обтянутые перчатками руки к сильно бьющемуся сердцу. Мальчик продолжал дергать концы шали.
Перед ней, на тропинке, очутился мужчина. Последние лучи угасающего солнца освещали его смуглое бледное лицо и отражались в его карих глазах, а громадная тень ложилась от него по холму.
– Капитан Вальдзингам! – воскликнула молодая женщина с легким оттенком ужаса в голосе.
– Леди Лисль, – проговорил новоприбывший, снимая шляпу.
Осенний ветер растрепал волосы капитана и отбросил их на его низкий лоб. Он был красив, но его мрачная красота имела какой-то своеобразный характер: черты его были правильны, но резки, а карие глаза его казались совершенно черными от оттенявших их густых и темных ресниц. Он был высокого роста, широкоплечий и сильный. В одной руке он держал трость с золотым набалдашником, на которую опирался. Встреча эта, очевидно, не удивила его, и во всей его особе не выражалось ничего, кроме легкого оживления.
После минутного молчания он проговорил:
– Я прочел в одном журнале, что он умер.
Леди Лисль кинула на него полуудивленный, полуиспуганный взгляд и пробормотала:
– Я думала, что вы находитесь в Индии.
– Да, но я же прочел о его смерти в журнале. Я пил пиво в одном из калькуттских клубов, в обществе нескольких товарищей. Один из них подал мне какой-то английский журнал, и я, хотя редко читаю журналы, начал пробегать этот номер глазами. Таким-то образом я прочел, между прочим, известие о смерти сэра Режинальда Лисля, владельца Лисльвуд-Парка в графстве Суссекс, двадцати девяти лет от роду… Ну, на другой день Дольгуз поднял паруса – и я уехал.
– Так вы меня лю…
– Я всегда любил вас… а теперь люблю еще более прежнего.
Он схватил маленькую ручку леди Лисль и прижал ее к губам. Мальчик снова начал дергать шаль матери и спросил громко:
– Кто этот господин, мама, и почему он целует твою руку?… Почему он любит тебя?… Ведь это не мой бедный папа.
Капитан Вальдзингам взял мальчика за подбородок и, повернув его бледное, болезненное личико к свету, внимательно посмотрел на него:
– Вы похожи на вашу маму и лицом и характером, сэр Руперт Лисль, – произнес он. – Мы будем поэтому хорошими друзьями, и я буду играть с вами в лошадки.
– Тогда я буду любить вас, – ответил ребенок.
– Вы удивились при виде меня, леди Лисль? – обратился капитан к молодой женщине. – А между тем что же может быть естественнее моего прихода?… Я прочел, что сэр Режинальд умер, и отправился на другой же день в Англию. Прибыв в Довер, я узнал по справкам, что вы все еще живете в Лисльвуде, и поехал к вам, не заглянув даже в Лондон. В замке мне сообщили, что вы поехали кататься на ваших пони… Ну, я и пошел прямо сюда.
– Почему же именно сюда?
– Ах, вы не догадываетесь?… Потому что мы расстались на этом косогоре, в сентябре же, восемь лет тому назад… Я думал, что вы иногда посещаете эту местность.
– Не будете ли вы жить с нами в замке?
– Нет, я остановился в гостинице «Золотой лев», но буду приходить ежедневно в парк. Если же я остановлюсь у вас, то вы можете сделаться предметом сплетен.
– Вы правы…
Она так редко задавала себе вопросы и так привыкла жить чужим умом, что ее постоянно нужно было наталкивать даже на самые простые мысли.
– Я видел на дороге ваш экипаж и узнал ливрею дома Лисль, – продолжал Вальдзингам. – Не подвезете ли вы меня?
– Подвезем… Если хотите быть у нас, то заметьте, что мы обедаем в семь часов. Теперь, должно быть, уже более, но я почти всегда заставляю ждать себя… Идем, Руперт.
Она взяла мальчика за руку, и все трое стали спускаться с горы.
– Вы говорили, что рады видеть меня, – сказал он вдруг, ударяя тростью по деревьям, – но между тем в вас вовсе не заметно радости.
– Вы так испугали меня!.. Вам бы следовало предупредить меня письменно о вашем приезде… Я ведь не особенно сильна.
– Это верно, – перебил капитан со странной, почти презрительной улыбкой. – Вы никогда не имели сил… Ни для борьбы, ни для страданий… Простите меня, леди Лисль; одному небу известно – скрывается ли причина этого недостатка в вашей душе или же в вашем организме… Я даже спрашивал себя несколько раз: есть ли у вас душа?
– Вы жестоки по-прежнему, Артур, – проговорила она.
Большие голубые глаза ее наполнились слезами.
– Скажите вашему сыну, чтобы он шел один к экипажу, а вы пройдете немного со мной.
Леди Лисль исполнила это желание, и мальчик бросился бежать к фаэтону, на козлы которого и поместился рядом с грумом.
– Клерибелль, – начал капитан с увлечением, – знаете ли вы, что в продолжение тех многих лет, проведенных вдали от вас, в Индии, я часто молил Бога послать нам эту встречу? Это была грешная мольба, не так ли?… Она была равносильна просьбе о смерти человека, который никогда не делал мне зла… А все-таки эта мольба услышана… Может быть, к моему несчастью… Это была мольба страстно любящего человека, сумасшедшего, отчаянного, ослепленного… Так молятся разве одни язычники. Сколько раз говорил я самому себе: «Если я даже встречу ее на улице нищей или лежащей на больничной койке, покинутой и презираемой всем светом, то я и тогда женюсь на ней… Женюсь, где бы и как бы ни нашел ее – и это так же верно, как то, что свет нисходит с неба…» В течение восьми лет повторял я эту молитву и этот обет; Бог внял моей мольбе – и я снова здесь.
– Сэр Режинальд был для меня добрым мужем, – ответила леди Лисль на это страстное признание. – И я старалась исполнять мой долг относительно его.
– Да, да, Клерибелль, я верю этому. Вы также исполняли вашу обязанность относительно вашей тетки и ваших опекунов… Безжалостно разбивая мое сердце, тому назад восемь лет, и изменяя данному мне слову, чтобы сделаться женой сэра Режинальда Лисля.
– Меня так мучили тогда… Говорили мне столько ужасных вещей…
– Ну да – вам говорили, что я влюблен в ваше богатство, не так ли? Говорили, что бедный индийский офицер добивается руки дочери-сироты богатого негоцианта единственно ради миллионов, оставленных ей ее отцом… Вот что называли вам, и вы, вы, зная меня как нельзя лучше, зная искренность моей любви к вам, могли верить этому, Клерибелль!
– Я боялась полагаться на свое собственное суждение.
– Да, леди Лисль, это было важной ошибкой в вашей жизни.
Он взял опять ее нежные руки своими сильными и, держа их на некотором расстоянии от себя, долго смотрел на нее с любовью.
– Великие боги! – проговорил он. – Как может человек основывать всю свою надежду на такой слабой, достойной сожаления былинке! Чему же тут удивляться, что все здание рухнуло?… Бедная моя Клерибелль! Такое вы хорошенькое существо, но ломкое и бездушное… Скорее можно положиться на силу этих гиацинтов, чем на вашу нежность и ваше постоянство.
– О, как вы жестоки, Артур!
– Вы находите?… Помните вы еще тот сентябрь восемь лет тому назад? Кто был тогда жестоким, Клерибелль? Мы находились здесь же… О, как живо представлялась мне иногда вся эта печальная сцена и как тоскливо сжималось мое сердце при этом воспоминании!.. Да, ужасны, почти невыносимы были эти нравственные пытки!.. Каждую ночь в течение многих лет видел я во сне этот косогор… Я даже слышал шелест вашего шелкового платья, цеплявшегося за кусты; чувствовал легкое прикосновение вашей маленькой ручки к моей руке; видел ваши слезы… В ушах моих звучали опять ваши отчаянные, раздирающие душу слова, которые вам так же тяжело было произносить, как мне – их слушать. Я прижимал вас к сердцу, как и при прощании, а после этого я просыпался, чтобы смотреть на звезды сквозь крышу шатра и слушать завывание голодных шакалов.
– Я тоже страдала много… Я страдала не менее вас, – сказала Клерибелль прерывающимся голосом.
– Нет, Клерибелль, сильно ошибаются те, которые думают, что женщина страдает так же, как мужчина; она страдает, если можно так выразиться, про себя, только нечасто сильное горе действует на нее благодетельным образом, изменяет ее иногда к лучшему. С мужчиною же бывает не то: видя свои надежды разрушенными, потеряв цель жизни, он поворачивается спиной к несчастью и начинает искать себе развлечений в обществе… Я не стану объяснять вам, леди Лисль, какое широкое значение имеет слово «развлечение»; я хочу единственно сказать вам, что восемь лет тому назад я был достоин вас, но сегодня я уже недостоин.
– Следовательно, вы не любите меня больше? – спросила она.
– Люблю, Клерибелль, люблю; сердце мое никогда не было в силах полюбить другую. Я встречал женщин прекраснее вас и более достойных быть любимыми, но в своем безумии – и к моему несчастью – я не мог забыть вас, не мог разлюбить… Я проклинал вас за вашу бесхарактерность, презирал за измену, но в продолжение восьми лет, полных горя, труда и отчаяния, я ежедневно должен был признаваться самому себе, что все еще люблю вас. Скажите: не заслуживаю ли я хоть какого-нибудь вознаграждения? Вы теперь вполне самостоятельны; тетка ваша, которая имела такое сильное влияние на вас, давно уже умерла. Опекуны ваши не имеют больше над вами никаких прав, Клерибелль. Спрашиваю вас теперь, когда вы свободны, я – на том же месте, где вы оставили меня восемь лет тому назад, в таком отчаянии: хотите ли вы исполнить обеты вашей молодости?
Леди Лисль молчала несколько минут, а потом прошептала, утирая слезы, катившиеся по лицу ее с самого начала этого разговора:
– Да, Артур, если это может составить ваше счастье.
Она произнесла эти слова скорее под влиянием какого-то страха, чем под влиянием чувства. Артур обнял ее, прижал к себе и поцеловал в лоб, а затем довел молча до экипажа.
– Мама, мама! – закричал ребенок своим слабым голосом. – Я заждался тебя. Я очень голоден, и уже становится темно, а Брук устал рассказывать мне сказки.
– Потому что вы слышали их уже много раз, сэр Руперт, – заметил почтительно грум.
– Так Брук рассказывает вам сказки, сэр Руперт? – спросил весело капитан. – Вероятно, он рассказывал о Джеке, убийце великанов, и Мальчике-с-пальчика? Я думаю, будет недурно, если я расскажу вам какую-нибудь индийскую сказочку.
– В таком случае я буду вас любить и желать, чтобы вы сделались моим новым папой.
– Садитесь, сэр Руперт, – сказал Брук. – Теперь восемь часов, а вам пора кушать.
Легкий фаэтон быстро покатился по дороге и достиг через полчаса решетки Лисльвуд-Парка, одного из самых больших и красивых поместий Суссекского графства.
Маленький баронет был в восхищении от своего нового знакомого и удерживал возле себя капитана до девяти часов, прося его рассказывать ему сказки. Но как только часы пробили девять, в гостиной появилась важная, чопорная гувернантка и уговорила, хотя и с величайшим трудом, сэра Руперта следовать за ней в его комнату.
– Вы балуете своего сына, – заметил капитан, когда мальчик ушел.
– Что же делать? Мне некого больше любить.
– Он очень миленький мальчик, но слаб телосложением.
– Да, он не из особенно здоровых. Это одна из причин, почему я позволяю ему делать почти все, что он захочет. Доктора утверждают, что не следует противоречить ему, так как он чрезвычайно впечатлителен.
– Умен ли он?
– О нет, я не думаю, чтобы он обладал ясным умом, – ответила леди Лисль после некоторого колебания, – он учится очень мало. Господин Мэйсом, пастор, приходит ежедневно сюда и дает ему двухчасовой урок, я опасаюсь, что он находит его слишком ленивым.
– Жалуется ли он когда на него?
– Да, жаловался несколько раз, – проговорила леди Лисль задумчиво.
– Это ничего не значит, Клерибелль; Руперт будет богат и не имеет нужды сделаться ученым. Это только нам, беднякам, осужденным на вечную борьбу за существование в этом мире, необходимо развивать свой ум.
Капитан произнес эти слова с горькой улыбкой и, встав со своего места, подошел к камину и, облокотясь на него, устремил глаза на огонь. Пламя озарило фантастическим светом его смуглое лицо, засверкало в его грустных черных глазах и резко обозначило строгие очертания его красивого рта, полузакрытого усами, которые он то и дело разглаживал рукой. Леди Лисль, сидевшая по другую сторону камина за маленьким столиком, на котором стояла лампа под абажуром, пристально смотрела на него.
– Вы изменились, капитан, – сказала она наконец.
Он ответил не сразу, но пожал плечами и подталкивал концом сапога уголья. Потом после короткой паузы он произнес спокойно:
– Так вы находите, что я изменился?… И очень изменился!.. Удивительно ли это после того, как я провел восемь лет в Индии? После того, как я восемь лет пил эль и водку… Восемь лет упражнялся на бильярде, играл в кости, в экарте, в различного рода азартные игры, в крикет… Делал набеги на неприятеля, охотился на вепрей и тигров, ссорился, заводил любовные интриги, сражался, должал!.. О леди Лисль! Мне кажется, что уж лучше не пересчитывать все свои деяния: они могли бы не прийтись вам по вкусу.
– Артур, – сказала Клерибелль, рассеянно вертя свои длинные золотистые локоны вокруг бледненьких пальчиков. – Знаете ли, что вы сделались настоящим медведем?
– Медведем! – повторил капитан насмешливо. – А! Только эту-то перемену видите вы во мне после восьми лет разлуки? Обращение мое уж не такое вежливое; голос мой звучит резче; я начинаю говорить дерзости и смеюсь прямо в глаза людям. Я стал нервно-раздражительным и имею теперь несносный характер… То есть я не стараюсь показать его хорошим, как делают люди благовоспитанные. Я обедаю в пальто и в цветной жилетке и явился к женщине, изменившей восемь лет тому назад данному мне слову и которую я не видел с тех пор, в шесть часов пополудни. Не застав ее дома, я отправляюсь вслед за ней, нахожу ее в пустынной местности – и предлагаю ей выйти за меня замуж, между тем как еще не истек год ее траура… Одним словом, леди Лисль, употребляя ваше же выражение, – я сделался медведем: вы правы.
При последних словах он взглянул в зеркало, висевшее над камином, и, быстро откинув назад свои черные волосы, долго смотрел на себя с задумчивой улыбкой. Леди Лисль не сводила с него полного недоумения взора, но не сказала ни слова. Его влияние на нее было, очевидно, громадное, и в ее обращении с ним проглядывала робость, которая, вероятно, возникала из сознания его силы и своей собственной слабости.
– Леди Лисль, – продолжал он, – я уже не кажусь вам больше таким, каким был в сентябре, тому назад восемь лет? А если я скажу вам, что с тех пор стал во всех отношениях другим человеком?
– Артур!
– Взгляните на меня в зеркало… Идите сюда, Клерибелль, станьте рядом со мною, и будем изучать вместе мое лицо. В нем нет особенных примет: две-три едва заметные морщинки под глазами, несколько резких линий вокруг рта и сильная смуглость, произведенная индийским солнцем… Великие боги! Как мало отражает лицо внутреннее состояние человека, и каким иссохшим, старым, безобразным казалось бы мое, если бы на нем остались следы всех пережитых мною душевных бурь! Посмотрите, какая у меня между тем красивая маска, и удивляйтесь, как искусно умеет человек, эта величайшая из всех загадок, скрываться за нею!
– Артур, я отказываюсь слушать вас, если вы будете продолжать в этом же тоне.
– Ах да, я говорю медвежьим языком, не так ли?… Я должен бы лежать у ваших ног и обрисовывать вам самыми радужными красками картину моего восьмилетнего пребывания в Индии: как я из любви к вам никогда не пил двойного эля; как по той же причине не прикасался ни к игральным костям, ни к картам и как избегал общества женщин, чтобы мечтать о вашем хорошеньком личике. Это звучало бы приятно в ваших ушах, не так ли?… Нет, Клерибелль, я не говорю вам всего этого. Я медведь, как вы сказали, и поэтому скажу вам одну истину. Выслушайте же меня! Я ненавижу вас столько же, сколько люблю, – и сердце мое буквально раздирается этими двумя противоположными страстями, я еще не уяснил себе, которая из них привела меня сегодня к вам.
– Артур, сердце мое разрывается, слушая вас, – сказала Клерибелль, когда он отвернулся и закрыл лицо руками. – Артур, я обещала сделать все, что будет в моих силах, чтобы вознаградить вас за прошлое… Я обещала это, да? – повторила она, стараясь поднять его голову своими маленькими руками.
– Да, да, вы добры, Клерибелль, и вы обещали даже сделаться моей женою… О моя возлюбленная, моя мучительница, моя дорогая и жестокая Клерибелль!.. Пусть это ужасное прошлое забудется раз и навсегда, и да не падет ни малейшей тени от него на эту прелестную головку!
Клерибелль, – начал он снова, – вы обещали быть моей женою: не раскаиваетесь ли вы теперь в этом обещании? Не страх ли принудил вас сдаться на мою мольбу? Обдумайте это, моя дорогая, пока еще не поздно; скажите одно слово, и я оставлю сегодня же вечером этот дом, а через два дня буду снова на пути в Индию… Одно слово, Клерибелль, и вы будете избавлены от меня навеки.
Она подняла на него полные слез глаза и, положив свои нежные пальчики в его широкую руку, проговорила чуть слышно:
– Никогда… Никогда не любила я никого, кроме вас… Я поступила очень дурно, изменяя данному вам слову и выходя за сэра Режинальда Лисля; но я была слишком слаба, чтобы противиться воле моих родных… Как часто сидела я с мужем против этого камина и думала о вас, так что и эта комната и лицо мужа исчезали для меня… Я видела вас раненым на поле битвы или спящим в каком-нибудь мрачном, непроходимом лесу… Видела вас одиноким, покинутым, больным, умирающим; но, слава богу, вы здоровы и невредимы, вы возвращены мне снова… И вы все еще любите меня!
– Люблю и буду всегда любить… Это ведь пункт моего помешательства, Клерибелль… Так вы выйдете за меня, что бы ни случилось, по Божьей воле, дурного или хорошего?
– Да!..
Она задрожала, взглянув опять на его мрачное лицо, и с ужасом повторила медленно его последние слова: «дурного или хорошего».
Глава II Взгляд на прошлое
Почтенные жители Лисльвуда, в Суссексе, вероятно, помнят еще, как какой-то капитан Вальдзингам, служивший в индийской армии, приехал погостить к сэру Режинальду восемь лет тому назад. Быть может, в их памяти еще сохранились его свежее лицо, изящные манеры и воинственная осанка; не забыли они, конечно, и бряцание его шпор, когда он проходил по длинной, дурно вымощенной улице деревни; свист хлыстика, который он вертел так грациозно в руках, и лоск его прекрасных черных усов (капитан служил в кавалерии); добрую его улыбку, с которой он обращался к детям, приближавшимся к нему, чтобы полюбоваться на блестящего офицера, и его звонкий голос, когда он останавливался перед «Золотым львом», ожидая прибытия лондонского дилижанса, или когда заходил к кузнецу или ветеринару, чтобы посоветоваться насчет своей охотничьей лошади.
– Это очень благородный и любезный джентльмен, великодушный и откровенный, – говорили о нем жители Лисльвуда.
Помнят они также, как он до безумия, отчаянно влюбился в мисс Клерибелль Мертон, сироту и наследницу одного богатого негоцианта великой Индии, жившую под опекой своей тетки, старой девы, сестры экс-ректора прихода. Эти добрые люди помнят об этой любви, потому что капитан Артур Вальдзингам, который вовсе не принадлежал к числу скрытных людей, имел по крайней мере двадцать поверенных и угрожал тысячу раз застрелиться или утопиться, если любовь его будет отвергнута. Мартин, его слуга – превосходный малый, – сказал однажды служанке «Золотого льва», что он спрятал пистолеты своего господина и очень жалеет, что не может сделать того же с рекою. Капитан Вальдзингам показал себя чуть-чуть неосторожным и нескромным в своей любви к прекрасной наследнице со светло-русыми волосами, с детскими манерами и полнейшим отсутствием энергии и характера. Капитан клялся, угрожал и протестовал, когда его обвиняли в том, что он ухаживает за нею только ради ее богатства, и просил отдать ее за него без всяких денег и основать на ее миллионы богадельню. Весь Лисльвуд знал повесть этой любви, чрезвычайно интересовался ею и сочувствовал страданиям капитана. Каждое тайное свидание, происходившее на широкой равнине или на косогорах, которые окружали село, было известно всем и каждому. Каждый вечер, когда он проходил мимо сада тетки, чтобы видеть слабый свет лампы, пробивавшийся сквозь оконные занавески, каждое письмо, доставленное украдкой горничными, гинея, которую кузнец расколол пополам по просьбе капитана и половинками которой поделились влюбленные, бурные сцены между капитаном и опекуном мисс Клерибелль – все это было предметом общих толков и пересудов во всех домах в Лисльвуде. Толковали об этом молодые женщины, которые находили прекрасного капитана слишком завидным обожателем для этой «глупой, взбалмошной мисс» – с такой непочтительностью отзывались они о мисс Мертон; толковали и старые женщины, которые утверждали положительно, что капитан добивается единственно денег; присоединялись к этим толкам также холостяки с седыми головами, называвшие капитана сумасшедшим за его бурную и откровенную любовь. Одним словом, весь Лисльвуд обсуждал со всех сторон увлечение Вальдзингама и разбирал и его самого до мельчайших подробностей.
Я думаю, что единственная особа, остававшаяся безусловно спокойной в это время, была молодая героиня этой сентиментальной драмы. Клерибелль Мертон не делала никаких признаний и не искала поверенных. Никто и никогда не слышал, чтобы она сделала сцену или упала без чувств к ногам своей неумолимой опекунши или совершила бы опрометчивый шаг, отвечая на страстные послания своего обожателя. Действительно, она выходила на свидания на отдельные косогоры, но все были уверены, что с ее стороны эти свидания имели самый безгрешный характер, и объясняли их тем, что капитан бродил вокруг ее дома, видел ее выходившей оттуда и следовал за нею. Словом, о мисс Мертон упоминалось редко. Красивая, бледная, с длинными золотистыми локонами, которые окружали как бы ореолом ее грациозную наклоненную головку, она приковывала к себе каждое воскресенье, в церкви, внимание всего Лисльвуда, но никто никогда не замечал, чтобы ее лицо вспыхивало или бледнело под жгучими взглядами Артура Вальдзингама, который грыз с досады переплет своего молитвенника. Он мог стоять во все время пения псалмов, опираясь на находящуюся перед ним деревянную решетку, и упорно смотреть на Клерибелль со свирепым видом, небритый, с тусклым неподвижным взором, мог выбегать из церкви в самой середине проповеди ректора, скрипя сапогами и звеня шпорами по каменным плитам храма, мог беспокоить сколько хотел находящихся в церкви, мог всем этим шумом привлекать внимание воспитанников, так что они нередко восклицали: «Негодный Вальдзингам». Но чтобы он ни делал, ему не удавалось нарушить постоянное спокойствие мисс Мертон. По окончании проповеди, когда ректор благословлял присутствующих, а народ начинал расходиться из церкви, мисс Клерибелль выходила на кладбище и также спокойно проходила мимо капитана, сидевшего на какой-нибудь могиле и смотревшего на нее в мрачном отчаянии. Едва она нечаянно задевала его своим шелковым платьем, он начинал трепетать всем телом, она как будто не замечала этого, и в ее холодных голубых глазах не выражалось ни удивления, ни волнения, ни смущения, ни досады, ни любви, ни даже сожаления.
– Вы считаете меня сумасшедшим, потому что я люблю до безумия восковую куклу? – воскликнул капитан однажды вечером в Лисльвуд-Парке, когда он выпил больше обыкновенного и баронет с другими товарищами начал смеяться над его страстью. – Я знаю не хуже вас, что это глупость, простительная только школьнику, но тем не менее эти бредни могут довести меня до могилы.
Однако как бы много общего ни имела мисс Мертон, как утверждали ее враги, с теми прекрасными произведениями искусства с голубыми глазами и золотистыми волосами, которые можно видеть в игрушечных магазинах, но все же она была богатой наследницей и вдобавок еще прелестной женщиной; вследствие этого ли обстоятельства или по причине говора, вызванного бешеной страстью капитана, – а через шесть недель по приезде индийского офицера в Лисльвуд она, как говорится, вошла в моду; и будь она безобразнее семи смертных грехов, то и это не помешало бы ей выйти теперь замуж и за самого богатого, если бы была бедна. Будь она хоть индианкой, некрасивой и горбатой, – но, войдя уже в моду, она должна была сделаться предметом восторга, удивления, искательств и поклонения. Чудесная перемена произошла вдруг, и люди, которые прежде едва замечали ее, стали сходить с ума от желания жениться на ней, то есть не на ней собственно, а на ее известности; им просто хотелось отражать лучи этой яркой планеты, попировать на чужом пиру.
Итак, мисс Клерибелль Мертон сделалась центром внимания всего Лисльвуда, и через два месяца после прибытия капитана сэр Режинальд предложил ей руку – единственно из-за удовольствия отбить ее у другого; предложение это было принято девушкой благодаря подстрекательствам тетки. В это-то время и разыгралась ужасная сцена на вершине косогора, носившего название Бишер-Рида. Не дождавшись капитана к обеду, из замка послали Мартина, его слугу, искать его, и тот, направившись инстинктивно к косогору, нашел своего господина распростертым на мокрой траве, в состоянии совершенного оцепенения. После этого Вальдзингам хотел вызвать на дуэль сэра Режинальда, вышла отчаянная ссора между соперниками, которая кончилась, однако, только отъездом капитана. Он оставил замок, желая баронету быть счастливым со своей бездушной невестой, затем поскакал как сумасшедший по улицам села и отправился в Индиа-Гуз просить, чтобы его послали куда-нибудь, где враги его отечества из жалости поспешили бы его убить.
В Лисльвуде спрашивали себя: была ли мисс Клерибелль Мертон огорчена тем, что ее принудили отвергнуть своего «сумасбродного» обожателя? Но, по обыкновению, лицо молодой девушки не выдало ее тайны: оно было прекрасно, но вполне безмятежно. Она вышла за сэра Режинальда без любви, сделала это так же бесстрастно, как брала уроки музыки, не имея слуха, и училась рисованию, не обладая эстетическим вкусом. Все, что ей предписывали делать, то она исполняла. Она вышла бы за капитана по его приказанию, так как не была в состоянии противиться силе, если бы не поддержало ее противодействие тетки, которая вследствие долгой привычки имела над ней неограниченную власть. Она зависела вполне от тех, которые руководили ею, смотрела их глазами, думала их умом и употребляла в разговоре только их выражения. Капитан мог быть совершенно искренним в своей любви и честным, но если тетке мисс Клерибелль было угодно выставить его обманщиком, то и сама мисс начинала тотчас же сомневаться в нем. Она говорила ему своим тихим, нежным голосом тысячу несправедливостей, которые были исключительно повторением слов ее опекунши. Ее можно было сравнить с кораблем без руля и якоря, отданным на произвол изменчивого ветра; не успел еще капитан с доверенным ему полком достигнуть Мальты, отправляясь в Индию, как крестьянские дети уже усыпали цветами путь, по которому должны были идти из церкви к замку сэр Режинальд и леди Лисль.
Прошло без малого восемь лет с того прекрасного октябрьского утра, в которое Клерибелль Мертон сделалась женой молодого баронета, и сэр Режинальд Мальвин Бернард Лисль сделался главным предметом любопытства в другой церемонии в той же сельской церкви. Эта церемония происходила без всякого блеска и шума, потому что смертные останки молодого человека покоились в гробу, обитом черным сукном, украшенным серебряными гербами и рельефными начальными буквами его имени, под тяжелым бархатным покровом, который несли благороднейшие джентльмены Лисльвуда. Затем появился новый надгробный памятник из дорогого мрамора возле испещренных стихами статуй кавалера Мармэдюка Лисль, почетного камергера ее величества королевы Елизаветы, и Марты, его супруги, в коленопреклоненной друг против друга позе. Этот новый памятник свидетельствовал, что под ним, рядом с прахом его высокородных предков возле алтаря, погребено тело последнего баронета Режинальда Мальвина Бернарда, сына Оскара. Сэр Режинальд умер от наследственной болезни, которая свела в преждевременную могилу большинство членов рода Лисль. В продолжение трех поколений умирал глава этого дома по достижении тридцатилетнего возраста и оставлял одного только сына наследником своих титулов и богатства. Если бы сэр Режинальд умер бездетным, то баронство наследовал бы один дальний родственник его, любитель музыки и живописи, живший в Неаполе; но сэр Режинальд последовал примеру отца и деда, оставив после себя шестилетнего сына, бледного и нежного, сильно похожего на мать и в нравственном и в физическом отношениях. Сэр Режинальд и леди Лисль не были несчастными супругами. Сэр Режинальд был любитель спорта, лошадей, собак, стрельбы в цель, поездок – одним словом, всех тех развлечений, которым так охотно отдаются джентльмены, имеющие много денег и никакого дела. У него была ферма, и он начал применять на ней новые системы земледелия, что потребовало громадных расходов и не дало ему ничего в результате; но эти попытки занимали его, и он заставлял молодую жену ходить с ним через вспаханные поля и сенокосы в дождь и в жестокий зной, чтобы видеть его опыты, против чего она и не протестовала.
У него происходили конские скачки, и весь Лисльвуд оживлялся присутствием прекрасных беговых лошадей и жокеев; однако и это удовольствие, как и все другие, приелось баронету. В одно прекрасное утро в столбцах «Бель-лейфа» появилось объявление о продаже «беговых лошадей сэра Режинальда Лисля, включая Клерибелль, одерживавшую постоянные победы на всех скачках». Со временем ему надоело и прочее: все потеряло цену в пресыщенных глазах. Клерибелль, как мы видели, была тиха, мягка, хотя и не нежна. Она сопровождала скучающего мужа, когда ему вздумалось путешествовать для рассеяния, и пила воды в Спа по его просьбе, пробегала с ним картинные галереи, наполненные произведениями фламандской и итальянской школы, – не умея отличить одну от другой и принимая Тициана за Тениера или Сальватора Розу за Рубенса. Если бы он предложил ей взойти на Монблан, она храбро взобралась бы до самой вершины, хотя бы это могло стоить ей жизни. Это рабское послушание, сопровождавшееся спокойной улыбкой, нельзя было назвать прирожденной кротостью: в нем скорее выражалась полная апатия ко всему окружающему – все было для нее легче сопротивления. Она слушала баронета, когда он говорил, читала ему вслух по летним вечерам описания боксов, помещавшиеся в «Бель-лейфе», не понимая ни единого слова из того, что читала. Она садилась в его фаэтон, запряженный парою пони, чтобы ехать на какую-нибудь скачку, хотя она не была в состоянии отличить победившую лошадь от прочих и едва помнила названия своих лошадей. Когда сэр Режинальд начал хворать, она ухаживала за ним с величайшей заботливостью; если он начинал сердиться на нее, она переносила без возражений вспышку; если же он был печален, она всегда старалась успокоить его, а когда он скончался, то горевала о нем тоже по-своему. Она покинула Лисльвуд сейчас же после похорон и уехала на воды, находившиеся где-то в Суссексе, сопровождаемая только сыном и горничной. Обширный, великолепный замок с его прекрасными комнатами, в которые недавно вошла мрачная смерть, наводил на нее какой-то странный ужас, и вид темных аллей влиял на ее нервы. Тетка ее умерла вскоре после ее замужества, у нее не осталось ни родных, ни друзей. Вследствие этого она страстно привязалась к единственному сыну и посвятила ему всецело свою жизнь. Вспоминала ли она о прекрасном капитане с тех пор, как сделалась свободной? Это могло случиться, и нет ничего странного, если причина грусти ее заключалась в сознании, что она так терзала этого человека восемь лет назад. Ей не было известно, жив ли он или умер, и она не имела ни малейшей возможности узнать о его участи. Сэр Режинальд не произносил никогда больше имени своего экс-приятеля со времени их ссоры. Она не смела даже думать о Вальдзингаме: по ее мнению, было нечестно думать о другом человеке, когда муж так недавно похоронен и серебряные украшения его гроба не успели еще потускнеть в сыром склепе. Она начала путешествовать с сыном, показывая ребенку громадные, мрачные соборы, которые она посещала иногда вместе со своим отцом. Она повезла его в Антверпен, Кельн, Брюссель, Мюнхен, а после шестимесячного путешествия возвратилась в Лисльвуд. На другой день своего возвращения она снова увидела Артура Вальдзингама на том самом месте, где оставила его восемь лет назад.
Глава III Новый владелец Лисльвуд-парка
Прошло полгода со времени приезда индийского офицера, и вершины дубов прекрасного Лисльвудского парка гнутся с треском под напором сильного мартовского ветра. Лисльвуд – громадное и великолепное поместье: на далекое расстояние тянутся принадлежащие ему земли, составляющие вместе с ним собственность молодого баронета. За обнаженными холмами, покрывающими окрестности, виднеются довольно порядочные фермы, плата с которых сэру Руперту Лислю производится после сенокоса или жатвы, стрижки овец или убоя свиней. Можете пройти целые мили по тернистым проселочным дорогам или по гладкой большой дороге, миновать целые леса низкорослой сосны и множество разбросанных между холмами деревень – вы все еще будете на землях сэра Руперта. Спросите, где хотите: кто владелец этой дороги, осененной орешником и шиповником, этих сочных лугов, виднеющихся там за изгородями, или этих красивых коттеджей, – спросите, кого хотите, и вам непременно ответят: «Это собственность сэра Руперта Лисля». Если вы останавливаетесь в какой-нибудь деревенской гостинице и поднимаете глаза на грубую вывеску, качающуюся над входом, то прочтете: «Герб Лисля», или «Корона баронета», или же: «Гостиница сэра Руперта Лисля». Если во время прогулки по окрестностям Лисльвуда вы увидите какого-нибудь фермера, надсматривающего за работниками, стоя на стоге сена или в дверях житницы, – то знайте, что это один из ленников сэра Руперта. Имя Лисль такое же древнее и знаменитое в Суссексе, как Гастингская битва, потому что Оскар – один из лордов Лисль, который помог победить Гарольда, короля англосаксов. Дарованные грамоты и титулы семилетнего баронета могли бы покрыть собою самую длинную аллею Лисльвуд-Парка, если бы развернуть их во всю ее длину. Церковь Лисльвуда была наполнена памятниками и трофеями этого старинного рода; знамена, отбитые у неприятеля при Кресси, Гарфлор и Флоддене, висели лоскутьями на портретах кавалеров и воинов, прах которых покоился под плитами церкви. В ризнице этой церкви, бывшей некогда часовней Лисль, почтенный ректор постоянно задевал стихарем за памятники превосходнейшей скульптуры. Куда вы тут ни взглянете – повсюду взор ваш встречает знатное имя Лисль: оно виднеется на всех стенах, покрытых надписями на исковерканном латинском наречии; оно красуется золотыми литерами и на органе, пожертвованном дедом настоящего баронета, и написано старыми письменами над папертью, где по завещанию шестого баронета ежедневно происходила раздача хлеба неимущим поселянам Вуда.
Налюбовавшись всеми этими памятниками древней фамилии, этими материальными доказательствами знатности и богатства рода Лисль, было как-то странно видеть в единственном владельце этого громадного поместья бледного, болезненного мальчика, машинально игравшего в саду. Неужели вождь норманнских стрелков, могучий гонитель саксонцев, герои Кресси и Флоддена, все благородные роялисты, сражавшиеся под знаменем Руперта дю Рин, храбрые джентльмены, одержавшие победу над надменным сыном Луси Ветера в Местон-Муре, – все эти гордые, неустрашимые люди оставили после себя только этого слабого ребенка с золотистыми волосами, чтобы наследовать их славу и богатство? Казалось, что тяжесть громадного наследства должна бы раздавить такое слабосильное и нежное создание, у него даже не было никаких близких родственников, с которыми он мог бы поделиться избытком. Все, что принадлежало матери, должно было перейти со временем к нему. Отдаленный от света и людей, изнывавших в бесконечной борьбе, он, казалось, тяготился своей баснословно роскошной обстановкой.
Итак, мартовский ветер гнул обнаженные ветви дубов Лисльвуд-Парка, а леди Лисль, ныне миссис Артур Вальдзингам, ожидали с континента, куда она отправилась после своей свадьбы с индийским офицером. Второй брак Клерибелль был обставлен не так, как первый. Холодное, пасмурное утро неприветливо встретило крестьянских детей, еще раз выстроившихся в ряд вдоль по дороге, которая вела в церковь, и на этот раз путь невесты не был усыпан цветами, потому что зима стояла необыкновенно холодная, и в лисльвудских садах нельзя было отыскать ни одного подснежника. В это февральское утро ледяной ветер раздувал шелковое платье новобрачной и ерошил черные волосы новобрачного. Зубы ректора так и стучали во время совершаемого им обряда. Проливной дождь барабанил в окна и заглушал монотонный голос ректора, а рука новобрачной так дрожала в холодной, сырой ризнице, что она едва могла владеть пером, чтобы вписать свое имя в метрическую книгу.
На этой свадьбе не присутствовало никаких посторонних: нотариус леди Лисль оставил ее, а из соседей никто не был приглашен. Экипаж леди Лисль ожидал у ворот кладбища, чтобы отвести новобрачных на станцию железной дороги, находившуюся в нескольких милях от Лисльвуда, откуда они отправлялись в Довер, где намерены были сесть на какой-нибудь пароход, который доставил бы их на материк. Леди Клерибелль как будто совестилась, что выходит теперь замуж за своего первого обожателя, который был некогда отвергнут ею. Казалось, что она желает видеть брачную церемонию скорее оконченной, чтобы бежать из Лисльвуда, где ее все знали. Она кинулась на холодные плиты ризницы и нежно прижала к себе маленького баронета. Она первый раз в жизни выказала публично свой сердечный порыв, и такая чувствительность удивила присутствующих.
– Не поступила ли я дурно относительно тебя, мой Руперт? – воскликнула она. – Не неприятен ли тебе этот брак?
Капитан стоял в это время, отвернувшись от матери и сына, и смотрел каким-то неопределенным взглядом в окно ризницы, за которым дрожащие от стужи дети ожидали новобрачную.
– Готовы ли вы, леди Лисль? – спросил он наконец.
Она не отвечала, но отослала от себя сына и жадно следила за ним взором, когда он выходил из ризницы в сопровождении своей гувернантки. Услышав стук уехавшего экипажа, который отвозил сэра Руперта в Лисльвуд, она, взяв капитана под руку, простилась с ректором и вышла тоже из церкви. Крестьянские дети заметили ее бледное лицо, полные слез глаза и светло-русые волосы, промокшие под дождем и растрепанные ветром; заметили они и то, что лицо капитана было еще бледнее и рука его дрожала, когда он отпирал ворота кладбища.
Шесть недель, назначенные на брачную поездку, протекли, и новобрачных ждали с часу на час; во всех комнатах замка пылал яркий огонь.
Весь замок был вновь отделан к свадьбе сэра Режинальда с богатой мисс Клерибелль. Старинные дубовые панели времен одного из первых Генрихов были снова отполированы и украшены позолотой и разноцветными гербами. Перед овальным зеркалом в дорогих резных рамах красовались консоли из золота, серебра, бронзы, черного дерева и стали. В громадной библиотеке, вся мебель которой была из Вуда с золотыми украшениями, были проделаны окна со сводами. Рамы всех фамильных портретов, висевших по бокам двух великолепных лестниц, которые шли с двух сторон передней и соединялись на широкой площадке, откуда шли вокруг всего замка две галереи, были тоже покрыты новой позолотой, и сама живопись была обновлена. Парадная гостиная убрана в новейшем вкусе: со светло-желтыми стенами, серебристыми карнизами и белой шелковой драпировкой, отделанной бахромой самого нежного розового цвета. Пол покрывался ковром, по белому фону которого были искусно разбросаны букеты полурасцветших роз. Кресла и диваны были из какого-то белого дерева, которое блестело как слоновая кость; их можно было привести в движение легким прикосновением руки – и они скользили по ковру, не оставляя ни малейшего следа.
Эта гостиная сообщалась с другой, которая была меньших размеров и обита зеленой материей. Из нее вел потайной ход в комнаты леди Лисль, которые отделялись от прочих длинными коридорами. Столовая хотя и была меблирована согласно требованию времени, но скульптурные произведения в ней были древние. Драпировка ее была зеленая бархатная, турецкий ковер – тоже зеленый. Стены украшены, как лестницы и галереи, картинами итальянских знаменитостей и фамильными портретами.
В каминах пылал яркий огонь, в серебряных и хрустальных люстрах были зажжены – в честь предполагаемого возвращения новобрачных – все свечи. Белое как снег белье, серебряная посуда и огромные позолоченные судки, стоявшие на буфете в столовой, роскошная спальня с драпировкой из лилового бархата на белой атласной подкладке, уборная, в которой зеркала и фарфоровые безделушки были неимоверной цены и которая защищалась двойными рамами от сырости, пушистые аксминстерские ковры, превосходно выдержанная прислуга, говорившая тихо, ходившая всегда осторожно, ловкая и приличная, дорогие вина, стоявшие в серебряных жбанах, утонченнейшая кухня, которой заведовал искусный француз, – все это богатство, весь этот блеск и комфорт, вся эта баснословная роскошь развернулись теперь, чтобы польстить всем пяти чувствам индийского офицера, который бросил к черту свой капитанский чин (немногие могли объяснить – почему).
Взглянем еще раз ближе на красивого воина, сидящего за столом против своей жены: он не кажется счастливым посреди этой роскоши. Он держит в руках хрупкий и прозрачный бокал, не замечая даже, что вино его льется потихоньку на стол. Он выпил большое количество мадеры или мозельского вина, но этот благородный напиток не развязал ему язык и не прояснил лица. Он сильно изменился с тех пор, как приходил в лисльвудскую церковь, чтобы преследовать своим упорным взглядом Клерибелль Мертон. Кажется, будто эта сильная, гордая, великодушная и беззаботная натура истлела под лучами тропического солнца.
Клерибелль же почти вовсе не изменилась. Красота ее еще не потеряла первоначальной свежести. Голубые глаза ее остались так же ясны, она кажется только немного посолиднее, и тяжелое платье ее с отделкою из кружев шуршит как-то внушительно, когда она проходит по освещенным комнатам.
– Клерибелль, – начинает капитан, оставшись вдвоем с ней пред камином гостиной. – Ваше богатство и величие производят на меня крайне тяжелое впечатление.
– Капитан Вальдзингам!
– О да, вы, разумеется, не поняли меня. Браки по расчету так приняты, что я не имею права жаловаться, если и на меня смотрят как на человека, женившегося единственно ради денег, как это делается людьми, превосходящими меня во всех отношениях… А все же, Клерибелль, я страшно тягощусь этим великолепием. Я задыхаюсь в этих раззолоченных комнатах… Я жалею о вольном, казарменном житье, о моей грубой трубке, о моем денщике, перед которым я мог произносить проклятия, чего я не могу, конечно, допустить перед вашими слугами, одетыми в ливрею лорда Лисля. Я скучаю о картах, за которыми я сидел до тех пор, пока звезды не меркли над крышами Калькутты. Необходимы мне и игральные кости, и все то, чего нет в этой золотой клетке. В этом доме я научился некогда страдать, и если б он не был переделан ко дню вашего первого брака, то я мог бы указать вам кресло, которое я схватил, чтобы ударить им сэра Режинальда в тот день, когда он одержал победу надо мной.
– И вы ударили его? – спросила миссис Вальдзингам с любопытством пансионерки.
– Нет, мужчины никогда не дерутся в полной посетителями гостиной… Найдется непременно кто-нибудь, который скажет: «Вальдзингам, не будьте же смешным!», или: «Лисль, что вы задумали?…» Нет, нас разняли, как разнимают двоих детей, дерущихся на улице, а на следующее утро я послал ему вызов.
Ей доставляло какое-то детское удовольствие слушать подробности этой ссоры. Но капитан не мог дотрагиваться до своих старых ран, не чувствуя в них боли.
– Что, если б дух сэра Режинальда мог видеть меня сидящим у этого камина, Клерибелль?
Она с тайным ужасом взглянула на дверь, как будто видела ее отворяющейся под рукой ее первого мужа.
– Артур, вы были одно время очень дружны с Режинальдом… Вы будете добры к его сыну, не так ли? Вы сделаете это для меня? Богатство может привлечь к нему ложных друзей и дурных руководителей. Близких родных нет у него. Самый близкий к нему тот, кто будет его прямым наследником, если он умрет бездетным… Я, может быть, не доживу до его совершеннолетия… Он слабого здоровья и, как все говорят, не имеет способностей. Вы вольны сделаться ему другом или врагом. Вы будете, конечно, его другом, Артур?
– Да, это так же верно, как то, что я еще надеюсь пользоваться вашей любовью, Клерибелль! Я ни добр, ни умен, но исполню свою обязанность относительно вашего сына, сэра Руперта Лисля.
Глава IV У решетки парка
Несмотря на то что капитан Вальдзингам, бывший в Восточной Индии, серьезно не чувствовал себя счастливым в новой обстановке, все же в Лисльвуде было много завистников, которые почти ненавидели его за «необыкновенное счастье», выпавшее на его долю. Он обращал очень мало внимания на этих почтенных людей и на их образ мыслей. Погруженный в свои безотрадные думы, он не интересовался общественным мнением и прогуливался с ньюфаундлендской собакой по большой аллее сада, над которой ветви дубов образовали свод. Он несколько раз останавливался у железной решетки, которая отделяла парк от проезжей дороги, и смотрел через нее куда-то вдаль. В это время в глазах его было то же грустное, тоскливое выражение, которое, по словам поэтов, замечается у орла, лишенного свободы, или у льва, заключенного в клетку.
Знает ли он, что в эту минуту, когда он стоит, заложив руки за спину, у решетки парка своего пасынка, на него устремлены глаза завистников и что, если б одно желание могло бы убивать, он тут же упал бы бездыханным на землю?
У окна готической сторожки, направо от решетки, стоит мужчина лет тридцати. Как и капитан, он мрачен и уныл, лицо его с резкими чертами загорело от солнца, он высок, плечист и силен, но осанка его какая-то вялая, апатичная. Глубокие морщины окружают его впалые глаза и придают злое выражение крепко сжатому рту. Подобно капитану, он тоже курит на утреннем воздухе, но не так, как тот, смотрит сквозь струйки дыма, которые поднимаются из его длинной трубки, а взглядом, полным ненависти, зависти, злости и сдержанного бешенства, – взглядом тигрицы, выжидающей удобного момента, чтобы накинуться на свою добычу. Имя его – Жильберт Арнольд. Десять лет тому назад он был самым отчаянным браконьером во всем Суссексе. Ныне же он благодаря исправительной тюрьме преобразился, то есть сделался ленивым и угрюмым и живет за счет своей жены, молодой трудолюбивой женщины, которая исполняет должность сторожа главного входа.
Много тяжелых минут пережила Рахиль Арнольд с того дня, когда она семь лет тому назад надела соломенную шляпку с белыми лентами, чтобы идти в лисльвудскую церковь под венец с браконьером: избранник ее оказался в конце концов человеком дурным, которому маска раскаяния и религиозности давала возможность вести праздную жизнь. Ему нетрудно было поднимать к небу свои желтоватые глаза, когда усердный ректор заходил в сторожку, чтобы навестить своего протеже, нетрудно было читать брошюрки душеполезного содержания, и Жильберт Арнольд очень любил читать их, так как в них обыкновенно громят богатых, прекрасных, счастливых, могучих – одним словом, всех тех, кого он ненавидел ненавистью, граничившей с полнейшим сумасшествием. Нетрудно провести добрых, простодушных пасторов, которые так горячо желают спасения наших душ, что готовы видеть в исполнении одних обрядов искреннее стремление к добру. Да, очень нетрудно делать все это и быть в то же время завистливым и недовольным, ленивым и требовательным, дурным мужем и негодным отцом, внутренне ропщущим на свое положение и желающим всякого зла людям, пользующимся различными преимуществами перед ним. Легко, к слову сказать, казаться мирным жителям Лисльвуда превосходным человеком и быть на самом деле ужасным негодяем. У него был только один сын, болезненный и развивающийся не по летам ребенок, которому пошел недавно восьмой год. У мальчика были совершенно светлые волосы, бледное лицо, как и у его матери. Ребенок не был вовсе похож на своего отца.
– Вот он, Рахиль! – сказал Жильберт, смотря на капитана.
– Кто? – спросила та, занятая у печки.
– Наш новый… господин… Мне кажется, что его нужно называть «Капитан – неизвестно какой».
– Капитана Вальдзингама?
– Да. Капитана Вальдзингама… Это какое-то удивительное имя, как будто взятое из какой-нибудь комедии или одного из тех романов, которые леди читает постоянно, хотя ректор называет их безнравственными… Мошенник и бродяга!.. Я ни за что на свете не поклонюсь ему, и пусть он знает это.
– О Жильберт! – прошептала боязливо жена его.
Как и все давно служащие у господ, Рахиль принадлежала к партии консерваторов, но она так привыкла к грубому тону мужа, что не придавала особого значения его разглагольствованиям.
– «О Жильберт!» – повторил он, передразнивая жену. – Да, я недаром называю его мошенником: какое он имел право прийти сюда, чтобы разжиреть на добре покойного сэра Режинальда? Какое этот негодяй имел право, приехав сюда без гроша, втереться в милость этой идиотки, которую ты называешь своей госпожой? По какому, наконец, праву величает себя такой нищий бездельник владельцем Лисльвуда?… Мне было очень тяжело валяться в ногах сэра Режинальда, а перед этим я никогда не унижусь… Да вы, верно, хотите, чтобы я сделал это… Не правда ли, что так? – сказал он, обращаясь к затылку капитана, который между тем докурил сигару и пошел в глубь аллеи. – Содержать его собаку стоит вдвое дороже, чем прокормить моего сына, – продолжал Жильберт, когда Вальдзингам исчез уже из глаз. – Взгляни на него, – продолжал он, указывая на мальчика, сидевшего за сосновым столом и опорожнявшего чашку с молоком и черным хлебом. – Этот суп не лучше того, который дается волку каждое утро к завтраку, это я видел не раз собственными глазами.
– Но господа добры и приветливы к нам.
– О боже! Знаю это, они дают нам то, что дурно для прислуги, а слишком хорошо для выкормки свиней. Они даже дали тебе пять шиллингов, чтобы купить обувь Джиму. А к Рождеству дарят нам бутылку вина, этого прекрасного вина, которое превращает всю нашу кровь в огонь и делает нас добрыми, пока мы его пьем! Но что же это доказывает?… Он может пить это вино каждый день, может и купаться в нем, если захочет, и кормить свою собаку серебром… Видишь баронета в бархатном камзоле, садящегося на пони? Это чистокровный пони, который стоит больше денег, чем ты когда-либо клала в банк, если даже мы тратились только на самое необходимое!.. А теперь полюбуйся на моего сына, в голубой холстинковой блузе и башмаках, подбитых гвоздями; между тем я очень хорошо знаю, кто из этих двоих более искусен в различного рода упражнениях.
– Да, наш Джимми умненький мальчик, – сказала мать, с любовью глядя на сына. – Но ему надо быть добрым и послушным и не мучить поросят и кур, потому что это очень гадко.
– Черт тебя побери! – воскликнул браконьер. – Я вовсе не желаю сделать из него бабу! Пусть мучает поросят сколько ему угодно. Я делал то же самое, когда был в его летах!
Жильберт Арнольд, который проводил целые дни за трубкой, заложив руки в свою бархатную жилетку, далеко не походил на человека, следовать примеру которого было бы полезно. Может быть, эта самая мысль мелькнула в голове его жены, когда она, вздыхая, принялась снова за дело. Он любил видеть ее работавшей до изнеможения и часто упрекал ее в лени, между тем как стоял сам за дверью, следя за всем, что происходит в сторожке. Но случалось и так, что он горько смеялся над ее прилежанием и, указывая трубкой, которая, мимоходом сказать, была почти постоянно в его руках, на замок, спрашивал, не думает ли она заработать себе на постройку такого же дома?
Предрасположение Жильберта Арнольда к ненависти, зависти и злобе было сильнее, чем у других людей, равных ему по состоянию. Он презирал индийского офицера, но он презирал также и сэра Режинальда, хотя последний и подарил его жене готическую сторожку, давая ей очень хорошую еженедельную плату, да, кроме того, простил Жильберту множество проступков, содеянных им в Лисльвуде. Он ненавидел белокурого мальчика, который проезжал мимо него на своем чистокровном пони, завидовал его прекрасному замку, убранство которого стоило так дорого; ему хотелось бы сорвать баронета с седла и втоптать его в грязь. Он стоял в лунные ночи на крыльце, смотря на замок, желая, чтобы это величественное здание было вдруг объято пламенем и превратилось бы в безобразную груду дымящихся обломков.
– Горят же другие дома, а этот никогда не сгорит! – бормотал он со злостью.
Одно время свирепствовала в Лисльвуде оспа – и Жильберт находился в необыкновенно розовом настроении духа. Но страшная гостья ушла, не постучавшись своей страшной рукой в ворота Лисльвуд-Парка.
– У других умирает их единственный ребенок, а этот все живет! – рассуждал Жильберт.
Но хотя баронет и избежал благодаря неутомимым заботам нянек и докторов различных опасностей, угрожающих детям, он был тем не менее не особенно крепок. Он был слишком мал ростом, чрезвычайно вял и учился с трудом. Телесные упражнения не нравились ему, к книгам и картинкам он тоже не чувствовал никакого влечения. Он сидел по целым дням в своей комнате, не делая ничего, и его заставляли только насильно сесть на пони. Он был не больше семилетнего сына Жильберта и гораздо слабее его. Он не был ни привязчив, ни нежен и довольно равнодушно относился к своей матери, которая его боготворила. Казалось, что он симпатизировал преимущественно сыну Жильберта. Он останавливал своего пони перед калиткой, когда Джеймс Арнольд играл в саду, и задавал ему сотни детских вопросов, между тем как Жильберт, скрывшись в тени за дверью, смотрел на детей своими кошачьими глазами.
Замечательно, что Жильберт всегда избегал дневного света. Даже в своих четырех стенах он как будто бы прятался от врага. Быть может, это было в нем результатом прошедшего, когда он в течение долгих часов скрывался в кустах или лежал во рву. Он шел по своему дому тихо и осторожно, будто ожидая, что вот-вот выскочит из-за угла какой-нибудь лесничий или констебль. Он не занимался ни своим домом, ни своей наружностью: он носил несколько лет подряд одну и ту же бархатную жилетку, на которой болталась стеклянная пуговица, пестрый шерстяной галстук, повязанный под воротником открытой сорочки, старые широкие панталоны, подаренные ему покойным баронетом, и худые, стоптанные сапоги. Капитан Вальдзингам заметил его, наконец, во время своих утренних прогулок стоящим постоянно в дверях сторожки и стал кланяться ему, на что Жильберт отвечал только каким-то ворчанием, которое должно было отнять у капитана охоту к разговору.
Однако Вальдзингам заинтересовался мало-помалу этим человеком: его угрюмый вид и нелюдимость возбудили в нем желание узнать его прошлое, так что он начал наводить о нем справки.
– Раскаявшийся браконьер, – повторил он задумчиво, когда один из лакеев сообщил ему биографию Жильберта Арнольда, – старая осторожная дичь, ленивец, ханжа, живущий трудами жены, которая слишком добра к нему… Да, я с первого взгляда считал его таким!
С этих пор грубый сторож сделался предметом особенного внимания капитана. Он стал заговаривать с ним, хотя едва мог добиться от него слова и видно было, что Жильберт крайне недоволен его настойчивостью. Капитан расспрашивал его о его прежнем образе жизни, о том, не был ли он счастливее, когда занимался ремеслом браконьера и сидел в тюрьме. Но Жильберт был слишком лицемерен, чтобы отвечать на эти вопросы откровенно, поэтому он уверял, что искренне раскаивается в своем прошлом заблуждении. При этом он приводил множество цитат из религиозно-нравственных брошюрок, которые давал ему читать ректор.
Все это не охладило живого интереса, который почувствовал капитан к экс-браконьеру: он редко подходил к решетке парка, чтобы не поговорить с Жильбертом. Казалось, что глаза сторожа, сверкавшие в темноте из-за косяка двери, имели какое-то особенное, магнетическое влияние на капитана, – вроде того, которое производит взгляд кошки на маленькую птичку.
– Это один из тех людей, при встрече с которыми ночью в глухом месте хорошо иметь с собою здоровую палку и хороший пластырь, – пробормотал капитан однажды, после новой беседы с Жильбертом Арнольдом. – Он делал много предосудительного в молодости и теперь ненавидит себя так же, как ненавидит других за то, что они не похожи на него. Это низкий, лицемерный, подлый трус. Я убежден в этом, а между тем мне приятно видеть его и говорить с ним.
Глава V Майор Гранвиль Варней и миссис Гранвиль Варней
Аллеи Лисльвуд-Парка покрылись густой листвой. Прошло полгода с тех пор, как Артур Вальдзингам женился на женщине, которую он любил так давно. Они завтракают в библиотеке за маленьким столом, придвинутым к окну с разноцветными стеклами, по милости которых снежно-белая скатерть и кисейный пеньюар миссис Вальдзингам кажутся окрашенными всеми цветами радуги. Вся комната была залита мягким солнечным светом, и голубые глаза сэра Руперта Лисля невольно щурились от него. На столе стояли корзины из севрского фарфора, наполненные сочными виноградными кистями, скрывавшимися под широкими листьями; паштет из голубей, окруженный красивой бордюркой из белой бумаги; банки с консервами и медом и серебряный чайный прибор превосходной работы. В открытое окно врывался аромат тысяч роз. Шум каскада, падавшего в озеро, жужжание пчел, пение птичек, жалобное мычание проходящих мимо парка коров и мурлыканье ангорской кошки, лежавшей на широком подоконнике, – все это смешивалось в одно, составляя картину домашнего довольства.
– Клерибелль, – сказал капитан, – я не думаю, чтобы в продолжение всего лета был день прекраснее этого. Я хочу взять вас с собою на прогулку. Я возьму и вас, сэр Руперт. Ведь вы пойдете с нами гулять, баронет?
Капитан любил титуловать своего пасынка. Этот титул казался как будто несовместимым с бледным, худым мальчиком, которому он принадлежал и весьма нравился.
– Хотите, баронет, – продолжал капитан, – проехаться к косогорам, а оттуда – до тех хорошеньких деревень на Лондонской дороге, где дети прибегут смотреть на ваш фаэтон, ваших прекрасных лошадей и ливрейных лакеев, – хотите, баронет?
– Да, если вы этого желаете, папа.
– А вам, Клерибелль, угодно ли совершить подобную прогулку?
– Если вы желаете, Артур, – ответила она, очищая персик и не поднимая глаз.
В это время вошел лакей и положил утренние газеты перед капитаном.
– А! Вот «Times» и «Morningpost»! Да хранит небо наши железные дороги, которые доставляют нам лондонские новости в десять часов утра… Вот и «Gazette de Bryghten».
Капитан развернул прежде всего эту газету, так как Лисльвуд-Парк отстоял от Брайтона всего в двадцати милях.
– Лансы, двоюродные братья моего отца, ежегодно проводят этот месяц в Брайтоне, – сказала миссис Вальдзингам. – Посмотрите, Артур, не встретите ли в газете их имя?
– Где же его искать?
– В списке прибывших. Во всех газетах есть такого рода список. Они останавливаются в гостинице «Корабль».
– Хорошо, посмотрим.
Неужели августовское солнце так сильно подействовало на капитана, что он вдруг потерял способность продолжать чтение и зашатался, когда поднялся, чтобы опереться об окно? Неужели летний ветерок вырвал газету из рук капитана или эти сильные руки задрожали, как лист перед осенней бурей? Что это означало?… Что сталось с Вальдзингамом?
– Артур! Вам нездоровится?… Вы страшно побледнели! – вскрикнула Клерибелль.
Капитан смял газету и, откидывая со лба волосы, проговорил самым естественным тоном:
– Вы спрашивали о Лансах? Их имя не упоминается здесь.
– Но что же заставило вас вскочить так внезапно, Артур?
– О, ничего!.. Мне просто сделалось дурно. У меня закружилась голова от жары.
– Как вы меня испугали, капитан Вальдзингам! Я подумала, что вы потеряли рассудок!
– Дорогая Клерибелль, я и сам готов думать это по временам.
– Так дайте мне газету. Может быть, я найду в ней что-нибудь о Лансах.
Он подал ей газету и уселся снова в кресло и начал рассматривать арабески обоев.
Клерибелль внимательно просмотрела список новоприбывших в Брайтон.
– Нет, – сказала она. – Они еще не прибыли. В гостинице «Корабль» остановился только какой-то майор Гранвиль с женой. Это очень хорошенькое имя, не так ли, Артур?
– Какое? – спросил он рассеянно, не оборачиваясь к жене.
– Гранвиль Варней.
– О да! Не правда ли, что это миленькое имя?… Майор служил в индийской армии.
– Вы знаете его?
– Очень хорошо, он служил в одном полку со мной… Я прикажу заложить лошадей. Наденьте вашу шляпку, Клерибелль. Я повезу вас в Меркем-Вуд. Во время прогулки я сделаю вам одно предложение.
– Предложение?
– Да… Или, вернее выразиться: я хочу испросить у вас одну милость… Идите же и наденьте вашу шляпку, как доброе и послушное дитя, которым вы всегда были. А вы, Руперт, ступайте за вашей фуражкой, я же пойду в конюшню.
Он вышел из библиотеки самоуверенной походкой кавалерийского офицера, но в передней он потребовал стакан воды и выпил его залпом. Слуга, подавший ему воду, был просто поражен его расстроенным видом.
– Не подать ли вам немного водки, сэр? – спросил он с беспокойством.
– Да, Ричард. Я пойду за буфет, и вы мне подадите там рюмочку вина.
Сидя перед столом, уставленным всевозможной серебряной и хрустальной посудой, капитан Вальдзингам упал в обморок, беспомощно откинув свою бледную голову на плечо эконома. Употребили все силы, чтобы разжать ему рот и влить несколько капель французской водки, и уже пошли было за миссис Вальдзингам, когда капитан открыл глаза и проговорил:
– Ради бога, не говорите ни слова вашей госпоже о том, что случилось со мной!.. У меня часто бывали подобные припадки в Индии. Мы, военные, ведем чрезвычайно беспокойную жизнь, вследствие чего делаемся слабыми и нервными, как капризные женщины.
Он вышел из буфетной, не дожидаясь ответа, и, вернувшись в библиотеку, поднял газету с пола.
– Майор Гранвиль Варней и миссис Гранвиль Варней, – пробормотал он, – находятся отсюда всего в двадцати милях. Они услышат обо мне – и приедут сюда дразнить меня, унижать, свести меня с ума и сгубить окончательно… Они напомнят мне про адский договор, заключенный со мной, будут требовать исполнения этого договора… Безумный я, безумный!.. Я должен был предвидеть, что мне не убежать от ужасного прошлого. Я имею много общего с тем старым браконьером, который вечно прячется, но все не в состоянии скрыться от глаз людей, – говорил капитан, расхаживая порывисто по комнате. – Какое клеймо на нас обоих! – продолжал он, смеясь. – И как нас легко узнать!.. Да, этот человек служит мне вместо зеркала!.. Я похож на него: курю по целым дням, шатаюсь и скрываюсь… Однако не могу ли я сбить их с дороги посредством какой-нибудь искусной комбинации?… Клянусь небом, это возможно, если оно захочет содействовать мне в этом!
Он еще не успел произнести этих слов, как вошла Клерибелль, ведя за руку сына. Лицо ее улыбалось под соломенной шляпкой. На плечах была прозрачная накидка с кружевной отделкой.
– Клерибелль, – начал капитан, когда они уселись в фаэтон, на запятках которого стояли два грума, – вы сегодня так очаровательны, что я не могу считать вас способной отказать мне в милости, которой я хочу просить у вас.
– Ну, так высказывайте же вашу просьбу, Артур, – ответила она весело.
– Мне бы хотелось провести с вами эту осень за границей, – сказал он, смотря на нее с беспокойством.
– За границей?… Хорошо!.. В Париже?
– Дальше Парижа.
– Дальше Парижа?!. В Италии?… В Германии?
– Нет, ни в одной из этих стран… Я хочу заставить вас предпринять настоящее художническое путешествие, Клерибелль, хотя я и не артист… Я хочу увести вас в пустыню, довести до Геркулесовых столбов. Согласны вы на это?
– Но туда же не ездит, как кажется, никто, – заметила она.
– А зачем женам ехать туда, где все бывают, Клерибелль? Нам нет необходимости отправиться в Баден, чтобы видеть лондонских лавочников, разоряющихся за рулеткой, или в Неаполь, или Флоренцию, чтобы слушать болтовню туристов с «путеводителем Муррая» в руках. Нет, Клерибелль, я хочу похитить вас у общества… Хотите ли следовать за мной?… Если вы любили меня когда-нибудь, то скажите «да», – добавил он с какой-то ненормальной энергией. – Скажите же «да», моя возлюбленная, и дайте мне возможность бежать с вами из этой проклятой страны!
Мы уже говорили, что Клерибелль как будто боялась капитана, и потому она ответила согласием на это предложение, как исполнила его просьбу – поехать к косогору, без всякого протеста.
– Да, Артур, – произнесла она. – Я отправляюсь с вами… А все же мне кажется, что вы слегка помешаны.
– Я уже говорил вам, что в этом нечего сомневаться. Но вы кроткое, доброе, прелестное создание и сделали меня счастливейшим из смертных. Закурите мне сигару, и вы увидите, как ловко я обогну этот угол дороги, чтобы въехать в чащу леса.
Богатая вдова баронета была самой покорной женой бедному офицеру: она позволяла ему курить в своей парадной гостиной, сама закуривала ему сигары во время дороги. Если бы она была в состоянии любить еще кого-нибудь, кроме своего сына, то она полюбила бы от души этого красивого, увлекающегося, безумного офицера, который некогда ухаживал за ней так смело, но она боялась его припадков меланхолии и иногда подолгу изучала изменяющееся выражение его мрачного лица, когда он сидел погруженный в размышления и теребя усы.
На этот раз капитан был в хорошем расположении духа. Въехал в лес, все вышли из экипажа, и один из грумов понес корзину, наполненную цыплятами, абрикосами и двумя бутылками рейнского вина.
Клерибелль и Руперт были в восхищении от этого маленького пикника. Капитан сам расставлял все на скатерти, разостланной по густой траве под старым деревом. Затем он уселся верхом на одном из толстых, узловатых корней и, куря сигару, с улыбкой на губах любовался женой и мальчиком.
– Как вы прелестны, моя Клерибелль! – сказал он. – Сэр Руперт, украсьте волосы вашей матери дубовыми листьями. Нет, нет, не так! Сделайте гирлянду, баронет… Моя белокурая возлюбленная, вас можно принять за доброго гения этой местности!.. Какой же я счастливец, Клерибелль, обладая женой с волосами, напоминающими цветом янтарь моих трубок, и согласную ехать со мной на поиски Геркулесовых столбов!.. Вы купили меня, миссис Вальдзингам, точно так, как вас купил сэр Режинальд Лисль. Это своего рода закон возмездия, как выражаются наши соседи. Вы платите за мое платье, мои сигары, за вино, которое я пью, платите и лакею, услугами которого я пользуюсь… На вас же будут лежать расходы путешествия, которое я предпринимаю, чтобы избегнуть своих воображаемых демонов.
Был уже седьмой час, когда поехали обратно в замок. Рахиль Арнольд отворила ворота парка, между тем как ее белокурый мальчик, цеплявшийся за складки ее платья, пристально смотрел на другого мальчика, тоже белокурого, который сидел на фаэтоне между мистером и миссис Вальдзингам. Жильберт стоял, облокотившись на решетку своего садика, и курил свою грязную глиняную трубку. Он едва пошевельнулся, чтобы снять свою изорванную шапку, когда экипаж проехал мимо. Он был, по обыкновению, непричесан, небрит, неопрятен и мигал усиленно кошачьими глазами. Тень его ложилась прямо под копыта лошадей, бежавших крупной рысью.
Капитан с женой обсуждали проект путешествия весь вечер. Решено было ехать как можно скорее, так как нетерпению капитана не было границ. Он готов был ехать хоть сейчас же. Они брали с собой сэра Руперта и двоих слуг. Чтобы не терять лишнего времени, хотели ехать в Лондон на курьерском поезде. Нужно было покинуть Англию немедленно, а закупить все необходимое к дороге предполагалось во Франции, через которую им приходилось ехать.
– Каким красивым кажется мне сегодня наш дом, Артур! – сказала миссис Вальдзингам, когда муж высадил ее из фаэтона и они вошли в переднюю, уставленную экзотическими цветами. – Я бы желала, чтобы вы свыклись с английской жизнью.
– Я этого и хотел, Клерибелль… Да, дом очень хорош. И меня можно считать за второго Каина, если я способен бежать из этого рая.
Они еще не вышли из передней, когда лакей подал им серебряный поднос, на котором лежали две визитные карточки: мужская и женская.
– Что это? – спросил капитан рассеянно. – Положите их в корзинку для визитных карточек, миссис Вальдзингам.
– Но эти господа здесь, капитан. Они желали дождаться вашего возвращения и теперь рассматривают картины в столовой.
– Картины!
Капитан снял шляпу и вытер лоб носовым платком.
– Что это за люди, Клерибелль? – спросил он жену, которая рассматривала карточки.
– Это поистине странное совпадение, Артур! Это те самые, имена которых мы прочитали в списке новоприбывших в Брайтон, – ваши индийские друзья: майор Варней с женой.
В это мгновение дверь столовой отворилась, и из нее показалось смеющееся лицо.
– А вот он и есть, милый наш товарищ! – воскликнул этот человек веселым тоном. – Наконец-то я опять нашел вас, старую лисицу!.. Видите, Артур, я отыскал вас!.. Что, старый друг?… Что, старая, хитрая лисица?!. Что, дорогой товарищ, что?
При этих словах майор Гранвиль разразился самым веселым неудержимым хохотом. Он кинулся к своему «дорогому товарищу», к «старой лисице» и несколько раз крепко пожал ему обе руки. Нельзя было сомневаться, что это свидание доставляло ему величайшую радость. В порыве этой радости он как безумный повторял все одни и те же фразы. Это был высокий и сильный мужчина со свежим, румяным лицом. Голубые глаза его, которые то закрывались, то снова открывались, имели почти ослепительный блеск. У него были чрезвычайно белые и блестящие зубы, розовые губы и прекрасный цвет лица; каштанового цвета усы и густые волосы, обрамлявшие его лоб, были с золотым оттенком. Общее впечатление, производимое его лицом, было, если можно так выразиться, ослепительное: на него нельзя было долго смотреть, как и на солнце. Он был в широком, домашнем костюме, который шел ему, на нем было пальто с бархатными отворотами, жилет лимонного цвета; галстук был повязан как можно небрежнее, на часовой цепочке красовалось множество брелоков, а руки были покрыты перстнями. Он сверкал и блистал с головы до ног, и казалось, что он распространяет вокруг себя какое-то сияние.
«Старая лисица», бледная и угрюмая, оказала ему очень холодный прием и представила его миссис Вальдзингам. Майор был в восхищении.
– А я и не слышал, что этот старый повеса женился, – сказал он. – Верите ли, сударыня: этот дорогой Артур скрыл это радостное событие от своих калькуттских друзей! От друзей, которые любят его так искренне и имеют тысячу причин рассчитывать на его взаимность. Я узнал о его браке только случайно – сегодня утром, в брайтонской гостинице «Корабль». Рассказать вам, Артур, как это случилось? Миссис Варней вздумалось прокатиться, я начал было уверять ее, что в окрестностях Брайтона нет ничего такого достопримечательного, чего бы мы уже не видели; но миссис Варней настояла-таки на своем, и я спросил слугу гостиницы, есть ли поблизости какой-нибудь замок, который стоило бы осмотреть. Слуга назвал Лисльвуд-Парк. «Хорошо. Что это за Лисльвуд-Парк?» – «Резиденция сэра Руперта Лисля». – «Хорошо. Мы отправимся взглянуть на сэра Руперта Лисля…» Нам и в голову не приходило, что сэр Руперт Лисль был еще очень молодым джентльменом, бегающим в бархатной курточке. Прекрасно, явившись сюда, мы просим показать нам замок, нам отвечают, что его не показывают никому. «Что? Никому?» – воскликнули мы печально. «Никому! – повторяют ваши слуги. – Капитан Вальдзингам имеет на это особые причины…» Капитан Вальдзингам!.. Представьте себе мое удивление, когда я услышал это имя, дорогой друг! Ведь во время вашего пребывания в Калькутте вы и не думали быть владельцем Лисльвуд-Парка, как помнится. Представьте себе мою радость, мое счастье при известии о счастье моего друга!.. Ну, дай еще раз руку, старая лисица!
– Не разыгрывайте роль сумасшедшего, майор, – ответил сухо капитан на эти излияния.
– И он даже не осведомляется о бедной Аде, которая зевает перед картиной Рубенса – собственностью сэра Руперта Лисля, которая висит над камином той комнаты, – продолжал майор, указывая на дверь гостиной. – Нужно вам заметить, что эта картина (будь сказано между нами и вопреки моему уважению к баронету, который еще слишком молод, чтобы быть хорошим знатоком) – ни более ни менее как копия!.. Да, Артур, да, дорогой друг, это – просто копия. И мне кажется, что я знаю писавшего ее, внука жида, антверпенского жида, миссис Вальдзингам, жида, но – гения. Рубенсовский колорит наследственен в этом семействе, и каждый торговец картинами может тотчас же указать вам работу одного из его членов.
Капитан грустно опустил глаза на свои запыленные сапоги, между тем как майор осматривался с лучезарной улыбкой, как будто ожидал услышать что-либо очень приятное.
– Артур, – заговорил снова мистер Гранвиль, разглаживая усы своей красивой, сверкающей драгоценными камнями рукой. – Вы принимаете меня как какого-нибудь швейцара… И неужели вы не спросите меня об Аде?
– Ах да! – ответил капитан. – Как здоровье миссис Варней?
– Миссис Варней! – повторил майор тоном глубочайшего упрека. – Дорогая миссис Вальдзингам, верите ли, что в продолжение двух лет эти милые дети постоянно называли друг друга Артуром и Адой?… Но пойдемте же, гадкий капитан, пойдем взглянуть на вашего старого друга… Миссис Вальдзингам, моя жена будет очарована вами, а вы будете очарованы моей женой. Вы обе молоды, обе прекрасны в высшей степени, – добавил он с поклоном. – Одна из вас такая живая, другая – тихая и спокойная… Ада! – позвал он, возвысив голос.
– Что, дорогой?
Эти два слова были произнесены таким чудным голосом, который проникал прямо в душу и затрагивал в ней самые глубины.
Вскоре и его обладательница явилась в дверях. Клерибелль она показалась ослепительно красивой. Но не столь простодушный наблюдатель заметил бы что-то хищное в классически отточенных чертах ее лица.
– Однако, Артур, извольте-ка представить друг другу наших дам, – смеясь, произнес майор.
Смуглое лицо капитана омрачилось больше обыкновенного.
– Это едва ли необходимо, – ответил он. – Мы с женой отправимся завтра на материк… Пойдемте, Клерибелль, пойдемте, баронет.
Он взял мальчика за руку и направился к библиотеке, повернувшись решительно спиной к майору и его прекрасной жене. Миссис Вальдзингам смотрела на него с недоумением. Она часто видела его резким и странным, но ни разу еще не видела таким невежливым и грубым. Майор между тем ничуть не смутился: он тихо засмеялся про себя и, прежде чем капитан Вальдзингам успел выйти из передней, запел своим прекрасным тенором первый куплет одной из арий Мора:
– «Не уходи, настал твой час!»
Артур Вальдзингам внезапно остановился, будто увидел перед собой дуло пистолета.
– Опомнитесь лучше, дорогой товарищ, – проговорил майор, закончив куплет великолепнейшей руладой. – Опомнитесь, мой друг, и познакомьте миссис Вальдзингам с миссис Варней. Познакомьте их, Артур, и измените ваше намерение отправиться на континент. По моему мнению, это самое благоразумное, что вы можете сделать.
Капитан отрекомендовал друг другу обеих женщин. Клерибелль, очевидно, почувствовала живейшую симпатию к прекрасной гостье.
– Не пригласите ли вы своих друзей к обеду, Артур? – спросила она мужа на ухо.
Он не дал ей на это ответа, а только сказал:
– Проводите миссис Варней в гостиную, Клерибелль. А вы, майор, пойдемте на террасу, выкурить сигару.
– Хоть дюжину сигар, мой дорогой, потому что мне нужно сказать вам весьма многое.
Мужчины пробыли на террасе до тех пор, пока колокол не позвал их к обеду. Дамы, сидевшие у одного из окон гостиной, заметили, что они вели очень оживленную беседу. Майор говорил с воодушевлением и сопровождал свои слова сильной жестикуляцией, между тем как капитан ходил взад и вперед, повесив голову и заложив руки в карманы. Замечательно, что чем более майор оживлялся, чем больше размахивал руками и смеялся, тем с большим ожесточением курил его собеседник и делался все угрюмее и угрюмее. Казалось, что он испепелит всю сигару в несколько приемов. Когда колокол замолк, капитан Вальдзингам вошел в гостиную в сопровождении своего друга.
– Клерибелль, – сказал он. – Майор уговорил меня отложить наше путешествие до тех пор, пока он с женой не будет в состоянии присоединиться к нам. Вместе с тем он обещал сделать нам удовольствие, проведя с нами неделю или две.
– Этот милый Артур так настойчиво предлагал мне гостеприимство, Ада, что я волей-неволей, не зная, насколько это согласуется с вашими желаниями и также с желаниями и миссис Вальдзингам, – которая, вероятно, находит эти индийские знакомства крайне неприятными, – решился остаться здесь на несколько дней… Но я приехал сюда в своем экипаже – это вам не помешает, Артур?
– Нет. В конюшнях есть свободное место. Вы имеете с собой, конечно, и кучера?
– Да, прекрасного малого. Он будет настоящим кладом для ваших людей.
– Майор и миссис Варней займут голубые комнаты. Клерибелль, потрудитесь отдать приказания Персону.
– Хорошо, Артур. Я сделаю это немедленно. Я очень счастлива, что вы согласились остаться с нами, – добавила миссис Вальдзингам, обращаясь к Аде Варней.
– Вы уже полюбили ее? – сказал майор. – Я предвидел это – она любима всем светом.
Когда они выходили из гостиной, майор остановился в дверях и, окинув быстрым взглядом комнату, из окон которой видны были обширные сады, леса и озера, проговорил:
– Так это-то и есть Лисльвуд-Парк!.. Артур Вальдзингам, вы лисица более хитрая, чем ваш ментор!..
Глава VI Опутан
За столом майор Гранвиль Варней был еще любезнее, веселее и разговорчивее. Он сидел рядом с Клерибелль Вальдзингам, и спокойная, терпеливая владетельница Лисльвуд-Парка слушала с величайшим вниманием несмолкаемую болтовню белокурого офицера. Он рассказывал ей сотни анекдотов из индийской жизни – анекдотов таких живых, остроумных и увлекательных, таких же блестящих и лучезарных, как наружность самого собеседника.
Подобно всем тихим и не особенно глубокомысленным людям, Клерибелль легко увлекалась веселостью других. Она слушала с удовольствием и удивлялась всему, что ей говорил этот веселый военный, который рассказывал в одно и то же время о страшной битве, происходившей в Пенджабе, и о комичной сцене, разыгравшейся во время одного обеда в Калькутте. Она вздыхала и смотрела то на очаровательного майора, то на молчаливого капитана, повесившего голову и бессознательно рассматривавшего вырезанный на вилке вензель Лисля.
«О, если б Артур был одарен таким веселым характером!» – думала Клерибелль.
Миссис Варней разговаривала мало. Вероятно, она слышала истории майора уже не раз. Капитан и не старался вступать в беседу со своей прекрасной соседкой, а откинулся с рассеянным и смущенным видом на спинку кресла, оставляя даже нетронутым свой стакан с вином.
После обеда, когда дамы сидели в гостиной и майор занимал миссис Вальдзингам топографическим описанием Сите-де-Пале», капитан вышел из открытого окна на террасу, спустился в парк и пошел по большой аллее, ведущей к решетке. Солнце садилось за тучами, и последние багровые лучи его медленно исчезали за деревьями. Было душно, и в воздухе царствовала полнейшая тишина, которая всегда предшествует грозе. Крупные капли дождя начали тяжело падать на листья дубов и на непокрытую голову капитана, который шел опустив глаза в землю, не замечая, что происходит вокруг него.
– Здесь находишься в таком же уединении, как в лесу, – пробормотал он наконец, оглянувшись и увидев себя в самой чаще парка.
Пройдя еще немного, он дошел до большой группы буков, толстые ветви которых сплетались над ним непроницаемой сетью. По временам он смотрел на освещенные окна замка, которые отражались на спокойной поверхности озера. Обернувшись же в настоящую минуту, он заметил, что вид замка скрыт от него великолепными столетними деревьями.
– Я теперь на полдороге между замком и решеткой, – сказал он. – Сюда может зайти только браконьер или человек, желающий лишить себя жизни.
Он сел на нижний толстый сук дерева и вынул из кармана что-то, завернутое в батистовый платок. Было уже слишком темно, чтобы осмотреть этот предмет, и он тщательно ощупывал его рукой, причем послышался металлический звук. Вслед за этим над плечом капитана промелькнуло что-то белое, и занимавший его предмет был выхвачен из его рук. Он вскочил, обернулся и схватил за горло стоявшего позади Гранвиля Варнея.
– Отдайте мне его! – проговорил он с бешенством.
– Ни за что, – ответил хладнокровно майор. – Есть ли у вас другой?
– Вам-то какое дело?
– Упорное дитя! Я спрашиваю просто, есть ли при вас другой запасной пистолет? – сказал майор мягко.
– Нет, тысячу раз нет!
– Это великолепно, мой бесценный Артур!.. Теперь сядем на сук – он заменит козетку – и станем говорить без всяких глупых выходок.
Капитан сел напротив майора, не говоря ни слова.
– Но мы прежде всего вынем заряд из этой опасной игрушки, – продолжал майор, кладя пулю в карман и высыпая порох. – Затем закурим по сигаретке и потом уже поговорим о делах.
Он подал Артуру Вальдзингаму портсигар и спичечницу. Свет спичек озарил обоих собеседников: лицо капитана было бледнее смерти, майор, наоборот, был спокоен и весел.
– Ну-с, – начал он протяжно, – что же это означает?
– Что вы подразумеваете? – проворчал капитан.
– Понятно – пистолет-то… Сумасшедший… Ребенок! Неужели вы думали, что я не угадал ваше намерение? Вы думали, что я не замечаю ничего и не читал на вашем лице во время обеда? Я даже слышал, как стукнул ваш пистолет о кресло, когда вы встали, чтобы отворить дамам дверь. Когда вы вышли из гостиной, я понял, что вы хотите делать, – и через пять минут последовал за вами…
Майор положил пистолет в карман, громко рассмеялся и выпустил несколько клубов дыма. Капитан Вальдзингам сидел грустный и унылый, прислонившись к стволу дерева и едва затягиваясь сигарою.
– Посмотрим, Артур, сделал ли я что-нибудь особенно дурное… Я бы мог начать эту беседу упреками в вашей неблагодарности, но я ненавижу упреки и оставлю их в стороне, а займусь вашей глупостью: Артур, вы делаете себя посмешищем!
Капитан молчал, и майор продолжал после короткой паузы:
– Вы дурак, Артур, если даже не спрашиваете, почему я назвал вас посмешищем. Но это не беда – я ставлю вопрос, чтобы ответить на него самому. Я ставлю себя на ваше место, Артур Вальдзингам, и спрашиваю себя: чем же я, Артур, оказался смешным?… Сперва вы, милый друг, сделали ужасную, но весьма часто встречающуюся на свете ошибку, – подумав, что можно пользоваться услугами человека, превосходящего вас умом, бросив его, когда не будете больше нуждаться в его помощи.
Снова один шум дождя был ответом майору Гранвилю Варнею.
– Несколько лет тому назад, Артур, вы находились в таком затруднении, из которого вы едва ли выпутались бы без содействия преданного друга.
– Это верно, – произнес наконец капитан.
– Милый друг, если вы только перестанете дуться, то мы снова сделаемся прежними приятелями… Итак, друг помог вам выйти из очень плачевного положения; вследствие этого между ним и вами установились, разумеется, самые искренние отношения. В Калькутте нас даже прозвали Дамоном и Пифиасом… Нас связывало нечто более дружбы. То был таинственный, священный союз, который мог быть разорван только нашей смертью. Не правду ли я говорю, Артур?
– Если вы хотите этим сказать, что мы были полезны один другому, то я отвечу «да», – произнес капитан.
– Но теперь вы не скажете этого, равнодушный Артур!.. Ну, хорошо. Мы были полезны друг другу, в высшей степени полезны, и мы могли бы провести таким образом много счастливых лет. И вот в одно прекрасное утро капитан Артур Вальдзингам покидает службу в индийской армии так же спокойно, как покидает какой-нибудь кафе-ресторан, – вместо того, чтобы посоветоваться со своим другом, который уговорил бы его спокойно подождать, пока кто-либо из офицеров не согласится купить его капитанский патент.
– Быть может, вы желали, чтобы он спокойно ждал, чтобы ему дали отставку, не так ли, майор? – спросил капитан насмешливо.
– Артур, вы сумасшедший!.. Итак, вместо того чтобы испросить совета более опытного человека, бедный мальчик оставляет службу и спешит в Англию, забыв о всех оказанных ему услугах, неблагодарный, скрытный!.. Вот и все, что мог узнать о нем друг его, вернувшись из экскурсии в горы, когда тот уже уехал.
– Да… Вы лишились своего орудия, майор.
– Я лишился своего орудия, Артур? Как это вы можете выражаться так неделикатно? – проговорил майор с притворным негодованием. – Нет, я лишился своего друга, своего ученика, своего товарища, своего Дамона!.. Я поручил одному знакомому навести о вас справки в Англии. Вас видели высадившимся в Довере, но с тех пор не встречали вас больше. Словом, мне не оставалось ничего больше, как сидеть у моря и ждать погоды. «Хитрая лисица выскользнула из моих рук, – сказал я себе. – Самое лучшее теперь – ожидать своей очереди, и не будь я Гранвиль Варней, если я не поймаю ее снова!»
С этими словами он тихо положил свои женственные руки на плечо капитана. Как ни легко было это прикосновение, но Артур Вальдзингам согнулся под ним, как согнулся бы под тяжестью сотни пудов.
– «Я снова поймаю ее», говорил я себе, – продолжал майор. – «Пусть скрывается себе – где и как хочет, а я все же поймаю ее!..» Ну, я и сделал, как сказал.
Он разразился торжествующим смехом, тихо потирая себе руки, и, не смотря в темноту, устремил на капитана свои сверкающие голубые глаза.
– Я получил отпуск и уехал из Индии, – продолжал он скороговоркой и оживляясь все больше и больше. – Я обегал все игорные дома в Лондоне, рыскал по всем тавернам. Я справлялся повсюду и у всех без разбора – и наконец-то после многих поисков, тысячи неудач и неприятностей я узнаю сегодня утром в Брайтоне, в гостинице «Корабль», что некий капитан Вальдзингам женился на богатой вдове сэра Режинальда Лисля, баронета, и проживает в Лисльвуд-Парке.
– Значит, я обязан вашему посещению не случаю? – спросил капитан.
– Разумеется, дорогой Артур, неужели вы воображаете, что я был бы таким человеком, каким вы меня видите, если бы я предоставил себя только на волю судьбы? Нет, я хорошо знал, куда и зачем я иду, – пусть это будет вам известно. Я явился сюда, чтобы настоять на исполнении всех статей нашего договора, чтобы ввиду заключенного нами раньше условия заставить вас поделиться барышами и чтобы заявить свои долголетние права. Какова бы ни была цифра богатства вашей жены, которое может принадлежать вам, я требую половину этой суммы. Сколько бы вы ни отняли владений и власти у вашего пасынка – половина и того и другого должна быть моей. Я хочу, чтобы вы поделились со мной и вашим комфортом, вашей роскошью, вашим блеском… Теперь, дорогой Артур, вернемся в замок… Идите же, Артур Вальдзингам и компания! Помните, что ваш старый союзник идет за вами, так как ему нравится оставаться в тени.
Когда собеседники удалились, кто-то осторожно раздвинул ветви возле того дерева, где они только что сидели, и направился тихо к решетке парка.
Бледный и трепещущий Артур Вальдзингам прошел аллею, затем миновал мост и цветники. Он шел и смотрел как приговоренный к смерти, которого уже возводят на эшафот, между тем как блестящий майор, слегка опиравшийся на его плечо, походил на палача. Даже в грациозной позе его руки было что-то, напоминающее полицейского чиновника, схватывающего свою жертву, – нечто, говорившее яснее слов майора:
«Ты пойман, Артур Вальдзингам, пойман!»
Глава VII Подпольная работа
Майор Гранвиль Варней поместился в Лисльвуд-Парке совершенно беспрепятственно. Он послал в Брайтон за своим багажом, который и был привезен его камердинером – жидом Соломоном. Существовали в Калькутте злые языки, которые утверждали, что этот черноглазый жид не всегда был слугой майора, а режиссировал прежде в каком-то провинциальном театре, на подмостках которого прекрасная сестра его играла первые роли в английских драмах. Эти злые язычки увлекались иногда до того, что уверяли, будто эта самая сестра Соломона была ныне не кто иная, как очаровательная миссис Варней, в которую майор во время своего отпуска в Англию влюбился до безумия, увидев ее играющей на сцене ее брата, и женился на ней без всяких проволочек. Как бы то ни было, но нельзя не сознаться, что миссис Варней была женщина в высшей степени изящная, красивая, увлекательная. Она обладала великолепнейшим контральто и замечательным музыкальным дарованием, которое так превосходило обыкновенные таланты, что она заслуживала названия гения. Если толстый камердинер-жид был ее братом, то нельзя сказать, чтобы она выказывала особенную нежность к этому родственнику: она проходила мимо него с гордо опущенными глазами, как будто он был даже недостоин, чтобы она замечала его присутствие.
После двух-трех дней пребывания майора в замке угрюмость и задумчивость Вальдзингама начали постепенно исчезать. Большую часть дня они проводили за бильярдом, а половину ночи – за экарте. Дамы иногда приходили в бильярдную, чтобы следить за их игрой. Майор смеялся и болтал, выделывая различные эволюции кием, и рассыпался в комплиментах присутствующим дамам, пока шары катились по зеленому сукну. Артур же Вальдзингам, напротив того, играл с каким-то лихорадочным вниманием. Он как будто никогда не уставал и не скучал за бильярдом и оставлял его с сожалением. Во время игры в экарте капитан постоянно настаивал на ее продолжении и удерживал своего друга за маленьким столом еще долго после ухода дам. Кто бы увидел этих двоих мужчин, наклонившихся над картами, тот бы сказал, что майор играл только из прихоти или из снисхождения к другу, между тем как у капитана игра была глубоко укоренившейся страстью.
Пока все это происходило в замке, Жильберт Арнольд, сторож, курил, по обыкновению, свою трубку за дверью и взглядом ненависти и зависти смотрел на гостей замка и на их людей.
– Итак, у капитана «неизвестно какого», который явился «неизвестно откуда», гостит один из его друзей? – сказал он однажды жене, несколько дней спустя по приезде майора. – Он, вероятно, думает, что мой сын ляжет на землю, чтобы доставить ему удовольствие пройти по нему. Эти господа всегда ждут подобного. Но мы не сделаем этого, не правда ли, Джим? – добавил он, обращаясь к сыну, который качался на калитке садика.
– Чего мы не сделаем, отец?
– Мы не ляжем на землю, чтобы богачи топтали нас своими блестящими сапогами, ведь так, Джим?
– Нет, отец, по доброй воле мы не сделаем этого, – ответил мальчик, взглянув лукаво на нахмуренное лицо отца.
Жильберт расхохотался:
– Ты весь в меня, мой сын, – настоящая поросль старого дуба… К черту унижения твоей матери при малейшем знаке благоволения наших господ и признательности к ним, если они бросают нам крошки со своего стола!
– Отец! – воскликнул мальчик. – Вот капитан, барин с усами и сэр Руперт! Они идут к решетке.
– А! Быть может, ты получишь монету в шесть пенсов, если подойдешь к ним. Бери их деньги, но не принимай унижений, Джим. Это тебе мой совет.
Мальчик кивнул головой и, спрыгнув с калитки, побежал в аллею.
– Артур, – сказал майор, приближаясь к решетке. – Известно ли вам что-нибудь относительно старого браконьера, который служит у вас?
– Ничего, кроме того, что он в свое время был страшным негодяем, теперь он прилежно читает книги душеполезного содержания, которые дает ему господин Мэйсом, и бывает каждое воскресенье в церкви.
– Хорошо! – сказал майор. – Он был прежде отъявленным плутом, а теперь стал ханжить и лицемерить… Вот, Артур, человек, которого мне необходимо изучить. Изучить только – вы понимаете? Можете вы дать мне несколько сведений о его прошлом?
– Я думаю, что он провел год или два вне Суссекса и сидел в остроге, в Гемпшире, вследствие каких-то недоразумений с нашими лесничими. По своему возвращению он женился на Рахили Дэвсон, дочери сторожа, а с тех пор только и делает, что бродит вокруг своего дома, вот как вы сейчас видите.
– Да, вот и он! – проговорил майор весело. – Глаза у него зеленовато-желтые, настоящие кошачьи глаза, которые меняют свои цвета на солнце. Походка тоже кошачья – тихая, крадущаяся. Он, верно, отличается и кошачьей хитростью. Артур Вальдзингам, я изучу этого человека!
В это время разговаривающие подошли к решетке.
– Здравствуй, Арнольд! – сказал капитан.
Арнольд нехотя кивнул головой и так же нехотя снял свою засаленную фуражку. Маленький баронет, одетый в бархатный камзол, смотрел на Джима, одетого в плисовые панталоны, холостинковую блузу и толстые башмаки с гвоздями.
– Черт возьми! – воскликнул майор. – Эти дети кажутся ровесниками.
– Мой мальчик на один год моложе сэра Руперта, – проворчал Жильберт Арнольд.
– Годом моложе! Молодец же он для своих лет, мой друг! Они, должно быть, одинакового роста. Посмотрим… Баронет, сойдите с вашего пони и покажите, кто из вас больше: вы или маленький Арнольд.
Баронет спрыгнул на землю, и майор поставил мальчиков спиной к спине. Сэр Руперт снял свою шляпу, причем оказалось, что его голова на одном уровне с головой Джима.
– Нет ни малейшей разницы между ними, – сказал майор Варней. – Волосы их тоже совершенно одинакового цвета.
Майор говорил правду: длинные кудри баронета и коротко остриженные волосы Джеймса имели один и тот же оттенок. Оба мальчика были с голубыми глазами, бледными лицами и тонкими чертами.
– Если бы мой приятель Арнольд одевал бы своего сына, как одевают сэра Руперта, то этих детей можно было бы назвать близнецами, – заметил майор. – Баронет, позвольте мальчику сесть на минуту на вашего пони. Нам хочется посмотреть, как он будет держать себя.
Майор посадил мальчика на пони, но Джеймс Арнольд наследовал только завистливый характер отца, но не его отвагу. Когда майор погнал пони, мальчик побледнел и закричал.
– Что?! – сказал майор, снимая его с седла. – Да он дрожит всем телом… Неужели он робок?
– Да, он немного труслив, – ответил отец.
– Труслив! – повторил майор. – Труслив! Этого никак нельзя было ожидать! Сэр Руперт нежен, как молодая девушка, но держит себя на пони не хуже взрослого и столько же боится перескочить через плетень, как и я. Не так ли, баронет? – обратился он к сэру Руперту, который снова сел в седло.
– Да, майор, Джеймс Арнольд трус, он кричит, когда дотронешься до него. Я не люблю трусливых!
– Тише, баронет! Джентльмену не следует так говорить: смелость и робость зависят от физических причин. Этот мальчик не может противиться боязни, – продолжал майор, положив руку на голову Джеймса. – Он очень нервный, и человек с сильной волей может сделать из него все, что только захочет. Я уверен, что мог бы заставить его следовать за мной, как собаку, и угадывать мои сокровенные мысли… Берегите вашего сына, Арнольд, иначе он на днях еще доставит вам хлопот.
– Благодарю, сударь, – ответил сторож угрюмо. – Я ничего не опасаюсь.
– А, понимаю! Вы не любите, чтобы вмешивались в ваши дела. Ничего, мой милый, мы научимся со временем понимать друг друга как нельзя лучше, – произнес майор, потирая руки и поглядывая с лукавой усмешкой на сердитого сторожа.
Жильберт Арнольд начал усиленно мигать под этим пристальным и сверкающим взглядом.
– До свидания, мой друг, – добавил майор. – Я еще приду когда-нибудь поболтать с вами… Идем, баронет! Идем, Артур, мой неоцененный! Отправимся в путь.
При последних словах Гранвиля Варнея ворота парка заскрипели на железных петлях и захлопнулись за гуляющими. Жильберт Арнольд покинул свой любимый пост и проводил их пристальным взглядом.
– Будь проклят этот человек! – проговорил он злобно. – Мне хотелось бы знать, кто он такой, если решается обращаться с людьми как с неодушевленными предметами… Черт бы побрал этого дерзкого гордеца!
Вечером майор просидел очень долго за туалетом. Казалось, что он никогда не кончит приглаживать свои волосы и расчесывать усы. Наконец он остановился, держа в руках две гребенки из слоновой кости, и взглянул задумчиво на своего камердинера, который стоял пред ним, держа в руках жилет.
– Соломон, вы ведете слишком спокойную жизнь в этом скучном замке, – заговорил майор. – Надеюсь, что ваш мозг не отупел от этого бездействия.
– Надеюсь, что нет, господин майор. В особенности, если…
– В особенности, если я найду нужным привести его в действие, так, что ли, Соломон?… Я понимаю вас, вы славный малый, Соломон, и я надеюсь, что буду скоро иметь возможность удвоить вам жалованье. Теперь возьмите записную книжку и слушайте меня.
Соломон, все еще держа в руках жилет майора, вынул из кармана книжку, карандаш и приготовился писать. Листки памятной книжки были испещрены различными заметками.
– Живет возле решетки парка, – начал майор, – браконьер, которого зовут Жильбертом Арнольдом. Пишите: Жильберт Арнольд, браконьер.
Соломон написал.
– Он сидел в винчестерском остроге за драку с лесниками, – продолжал Гранвиль. – Запишите: винчестерский острог.
Соломон записал то, что ему было приказано.
– Теперь закройте книгу и выслушайте меня!
Майор положил гребенки и уселся в кресло, а Соломон приготовился внимательно слушать своего господина.
– Этот браконьер сидел в винчестерском остроге за нарушение законов охоты в здешней местности. Он был заключен два раза в ливисском остроге за какие-то другие преступления. Но он совершил такое преступление, за которое никогда не был наказан.
– Из чего вы вывели это заключение, господин майор?
– Из всей наружности этого человека: из его мигающих глаз, которые избегают моего взгляда, из его нерешительной походки и всех его приемов. Каждое утро, вставая с постели, он говорит себе: «Я могу быть арестованным сегодня вечером». Когда он садится к зеркалу, чтобы выбриться, он бросает через несколько минут бритву и думает: «Может быть, я к вечеру буду щеголять в арестантском платье…» Соломон, этот человек совершенно точно давно уже совершил какое-то преступление и сумел до сих пор хоронить все концы. Он живет в вечном страхе. Быть может, он в настоящее время считает себя в безопасности, но боязнь у него вошла в привычку. О Соломон! Какое счастье иметь чистую совесть и жить вне опасения, что придется в один прекрасный день надеть безобразный арестантский костюм!
Майор громко рассмеялся при этой утешительной мысли.
– Ну, Соломон, вы, должно быть, уже догадываетесь, о чем я хочу просить вас. Вам нужно уйти отсюда завтра утром; я скажу вам, где и как вы можете навести нужные справки. Я рассчитываю на вашу скромность и говорю вам прямо: узнайте тайны прошлой жизни Жильберта Арнольда и сообщите их мне. Теперь дайте жилет.
Майор окончил туалет и отослал камердинера. Отворилась дверь – и на пороге ее показалась миссис Варней, одетая в белое платье, с живыми цветами в волосах.
– Ваш туалет сегодня очарователен, кумир моего сердца! – проговорил нежно майор. – Эти цветы придают вам вид полнейшей непорочности… Скажите, Ада Варней, желали бы вы быть владетельницей Лисльвуд-Парка?
– Перестаньте говорить глупости, и пойдемте лучше вниз, – ответила молодая женщина. – Я думала, что вы сегодня не окончите своего туалета.
– Ада, необходимые приготовления, чтобы подкопать этот дом, отнимают немало времени. Впрочем, мне кажется, что скоро можно будет заняться устройством мины, не так ли? Но вы не беспокойтесь, моя дорогая: дело ведется систематически. Альфред Соломон получил от меня инструкции. Остается еще сделать многое, но мы все-таки достигнем цели с чистой совестью и не опасаясь ни тюрьмы, ни наказания – как в начале, так и в конце.
Глава VIII Бишер-Рид
Прошло пять недель со времени приезда майора Гранвиля Варнея с женой в Лисльвуд-Парк, и настал день их отъезда. Они хотели провести еще неделю или две в Брайтоне, прежде чем отправиться в Лондон, где располагали пробыть до истечения срока отпуска майора. Они хотели ехать в своем экипаже, на своих лошадях и со своим кучером, а Соломон должен был занять место на запятках. Майор и миссис Варней стояли на террасе в обществе своих хозяев, пока чемоданы укладывались на верх экипажа под наблюдением опытного Соломона.
– Артур, – сказал майор, – не идет ли большая дорога мимо косогора, который вы называете Бишер-Ридом?
– Да, мимо одного из косогоров, но не Бишер-Ридского, который находится в другой стороне.
– Не пройтись ли нам с вами туда, пока Соломон укладывает багаж? Времени еще хватит… Ада подождет меня на дороге; я увижу приближение экипажа с горы… Мне надо сказать этому милому Артуру несколько слов на прощание.
Майор простился с миссис Вальдзингам, накинул на плечи толстый плед и сказал жене, где ей следует ждать его.
В это мгновение из конюшен выехал на своем чистокровном пони сэр Руперт Лисль.
– Папа, можно мне поехать с вами? – спросил он.
Капитан Вальдзингам заколебался и взглянул вопросительно на своего приятеля.
– Конечно, можете, сэр Руперт, – сказал майор.
Дойдя до сторожа, майор остановился и опустил в руку сторожа золотую монету.
– Здравствуйте и прощайте, мои друзья, – проговорил он. – Послушайтесь моего совета и берегите вашего сына, если не хотите быть поставленным в затруднительное положение на этих же днях.
– Хорошо-с, сэр, – ответил сторож с хитрой улыбкой.
Ворота еще раз с визгом захлопнулись за молодым владельцем Лисльвуд-Парка. Как бы молод он ни был, но если бы он мог предвидеть, что его ожидает за решеткой, то этот резкий звук показался бы ему похоронным звоном его беспечной жизни.
Нужно было идти около часа, чтобы достигнуть по неровной дороге того косогора, на котором капитан Вальдзингам встретил леди Лисль в день своего возвращения из Индии. Взойдя на вершину, мужчины оглянулись. Майор повернулся в сторону сэра Руперта и мигнул капитану.
– Руперт, поезжайте галопом на ту сторону косогора: мне надо поговорить с майором! – произнес Вальдзингам.
Мальчик кивнул головой и, махая хлыстом, поскакал, куда ему указал отчим, так что он оставался на виду, но не мог ничего слышать из разговора друзей.
– В чем дело? – спросил капитан, воткнув свою трость в землю и тяжело опираясь на нее.
Он приготовился, очевидно, к продолжительной беседе.
Майор расстегнул свое широкое пальто и начал играть золотыми брелоками часов. Белые зубы его, усы и бакенбарды так и сияли на солнце.
– В чем дело? – повторил капитан с нетерпением. – Для чего вы притащили меня на косогор? Что вам нужно сказать мне, чего вы не могли сказать мне вчера вечером?
– Вы не догадываетесь? – спросил майор с любезной улыбкой.
– Ну, понятно, что нет.
– Ну да, вы не хотите догадываться, лисица! Вы боитесь принять на себя инициативу в щекотливом вопросе, но я беру ее на себя. Милый друг, мне нужно еще денег.
– О! Вы опять за старое, но я вам повторю только то, что сказал вам еще вчера вечером: у меня нет больше денег, и я не имею никакой возможности достать их в скором времени. Я и так уже довольно пообобрал жену и не буду просить у нее ни одного шиллинга.
– Эти слова доказывают, что вы страшно упрямы! – проговорил майор.
Он вынул из кармана пальто маленький пакет аккуратно сложенных писем, исписанных тонким женским почерком и связанных голубой шелковой ленточкой.
– Взгляните-ка на эти письма, – сказал он иронически. – Не прочесть ли их вам? Вы, может быть, забыли уже их содержание?
Капитан отвернулся, пробормотав проклятие.
Майор перебирал невозмутимо письма, пробегал их глазами, насвистывая что-то и останавливаясь, когда ему встречалась интересная фраза. Капитан Вальдзингам смотрел на него пристальным, но полным грусти взглядом.
– Артур, бесценный друг, если у меня к концу этого месяца не будете пяти тысяч фунтов стерлингов, то миссис Вальдзингам получит эти письма первого октября. Как они ни забавны, но я все-таки думаю, что она не поймет заключающихся в них шуток, а примет содержание их за чистую монету. Вы любите ее, Артур, положим, как слепой, так как глупость ее бросается в глаза, но ведь бывают люди, которым очень нравится и вареная курица.
– Майор Варней! – воскликнул с угрозой Вальдзингам.
– Пустая голова! Получу ли я пять тысяч фунтов стерлингов или придется мне переслать эти письма белокурой красавице? Решайте поскорее, мой друг. Мне кажется, что скоро пойдет проливной дождь!
– Я уже сказал вам, что не могу достать этой громадной суммы. Что же касается писем, то они совершенно не пугают меня: вы слишком умны, чтобы свернуть шею курице, которая несет вам золотые яйца. Тайна моего прошлого, которой вы пользуетесь как способом к наживе, потеряет всю силу, когда она откроется. Не дурак же вы, чтобы выпустить ее добровольно из рук.
Майор закусил губу, и на лице его мелькнуло выражение глубокого смущения. Показалось на мгновение, что он выдаст себя, но он тотчас поправился и ответил со смехом:
– Вы хитрая лисица, и вас не проведешь!.. Да, вы, конечно, правы: я вовсе не намерен разглашать вашу тайну, не желаю несчастья бедненькой леди Лисль, или миссис Вальдзингам, или как бы ее вообще ни называли! Я не добиваюсь, чтобы вас выгнали из Лисльвуд-Парка или послали в какую-нибудь отдаленную колонию, где могли б иметь дерзость заставить вас трепать паклю или разбивать камни. Нет, милый мой Артур, я только хочу исключительно уладить дело к лучшему и способствовать нашему всеобщему спокойствию. Поверите вы мне, если я скажу вам, что я измыслил средство достигнуть этой цели.
– Может быть! – отвечал небрежно Вальдзингам.
– Хорошо. Теперь выслушайте! Я не из тех несчастных, для которых наличные деньги есть необходимое условие существования. Видите вы там, на дороге, мой экипаж, моих лошадей, моего кучера и моего камердинера? Понятно же, что я не могу содержать все это своим майорским жалованьем. С другой стороны, я не имею нужды, как вы и сами знаете, в десяти фунтах стерлингов. Мне лучше получить пятьдесят тысяч в десять лет, чем сегодня – пять тысяч… Артур Вальдзингам, который теперь год этому мальчугану?
И с этими словами он указал рукой на сэра Руперта Лисля.
– Какое отношение имеют его лета к нашему разговору? – спросил капитан.
– Это лишний вопрос! Вы только ответьте: который ему год?
– Ему в июле месяце исполнится семь лет.
– Семь лет – великолепно! Что скажете, Артур, если я разорву этот пакетик с письмами на тысячу кусков, да и, кроме того, не буду брать у вас ни одного пенса в течение четырнадцати лет?
Капитан посмотрел на него с удивлением.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил он с нетерпением.
Майор взял его под руку и, наклонясь к нему, шепнул ему на ухо несколько слов, которые заставили капитана побледнеть от испуга. Настала пауза, в продолжение которой майор не сводил взгляда с Артура Вальдзингама.
– Хотите ли вы сделать это или хотите, чтобы я сам это выполнил? – спросил он его вслух.
– Бездельник! – загремел капитан Вальдзингам. – Я не сделаю этого, если б даже я мог откупиться такой ценой от галер!
– Дитя! Не горячитесь! – сказал тихо майор. – «Нет, если б я даже мог откупиться от галер!» – повторил он с презрением. – Есть люди выше вас, которые бы сделали это за двадцать фунтов стерлингов… Что же это такое? – ни более ни менее как простой фокус. «Милостивые государи и милостивые государыни, видите этот шиллинг? Вот я кладу его под этот стакан… Ток-ток – и нет его!.. Ток-ток – вот он опять!» Говоря это, фокусник показывает публике запропавший шиллинг, а она воображает, что видит перед собой что-то необыкновенное, а между тем, Артур, он показал ей не тот же самый шиллинг, но – другой, точно такой, как первый… Капитан Вальдзингам, угодно вам загородить нам дорогу к счастью или вы соглашаетесь помочь мне в этом фокусе?
– Нет… Повторяю вам.
– А что, если я сделаю это помимо вас?
– Тогда я донесу об этом преступлении, что бы потом ни случилось!
– Да вы неисправимы!.. Это ваше последнее решение, Артур?
– Да! – сказал Вальдзингам.
– Великолепно! – произнес майор, пожимая плечами. – Если так, делать нечего… Помните же, – добавил он, ударяя пальцами по бумагам, которые держал в другой руке, – что вам уже не должно ожидать от меня ни малейшей пощады! Когда человек не хочет соблюдать своих собственных выгод, пусть он не воображает, чтобы умные люди захотели страдать по милости его слепоты и безумия… Позовите вашего пасынка: я прощусь с ним и потом отправлюсь в путь. Бедная Ада, вероятно, заждалась меня.
Капитан подозвал сэра Руперта, который прискакал в один миг к косогору.
– Сэр Руперт, – сказал майор, – я хочу проститься с вами, потому что сейчас оставляю Бишер-Рид… A propos, вспоминаю, что поселяне что-то много толкуют об этом косогоре, но до сих пор я не мог узнать, откуда произошло название Бишер-Рид. Объясните мне это на прощание, Артур!
– Отстаньте! – произнес сердито капитан. – Для чего вам нужна история Бишер-Рида?!
– Не будьте же невежливым, мой дорогой Артур, а расскажите мне, о чем я вас прошу.
Они стояли на вершине самого высокого косогора этой местности, усеянной неровностями, а перед ними находился почти отвесный утес.
– Косогор этот назван Бишер-Ридом потому, что лет пятьдесят назад какому-то капитану Бишеру, знаменитому спортсмену, вздумалось из-за пари перескочить через него верхом на чистокровной лошади, – сказал Артур Вальдзингам.
– И что же, он убился? – спросил майор Варней.
– Нет, но зато его лошадь погибла при скачке.
Майор расхохотался.
– Бедняжка! – произнес он. – Он поплатился лошадью! И никто не последовал потом его примеру?
– Должно быть, что никто!
Сэр Руперт Лисль прислушивался с напряженным вниманием к этому разговору.
– Я хочу подняться туда, – сказал он, указывая на крутизну.
Капитан отошел в сторону и кинулся на пожелтевшую траву.
– Что за идея, баронет! – возразил майор. – У вас не хватит смелости, – добавил он, смеясь. – Вы можете не быть таким жалким трусом, каким оказался Джеймс Арнольд, но все-таки едва ли вы настолько отважны, чтобы переехать галопом Бишер-Рид. Клянусь честью, что это вполне невероятно!
Упорство было наследственной чертой в доме Лисль и часто заставляло членов этой семьи совершать такие ненормальные подвиги, на которые не отважился бы самый храбрый из храбрых. Подобная настойчивость в исполнении задуманного приводит часто к более блестящим результатам, чем дерзкая отвага. Сэр Руперт был настоящим Лислем, по своему апатичному, вялому, но упрямому характеру.
Майор смеялся, и его лицо, обращенное к солнцу, имело крайне вызывающее выражение.
– Нет, нет, мой маленький баронет, – продолжал он. – У вас не хватит смелости отважиться на это. К тому же вы умны и можете понять, что это невозможно.
Бледные щеки мальчика запылали от гнева.
– А! Это невозможно! – воскликнул он своим слабым, но резким голосом. – А! Это невозможно?
Он повернул своего пони и проехал раз по одному из бугров. Затем изо всех сил стегнул пони хлыстом, перескочил через перила и начал подниматься потом на крутизну. Майор различил издали, что мальчик побледнел, пока пони поднимался наверх. Капитан, очнувшись от топота лошади, вскочил и бросился к краю косогора в то самое время, когда баронет мчался по опасному спуску, который вел к оврагу.
– Он спустится, не получив ни малейшей контузии, – проговорил майор.
– Демон! – воскликнул с ужасом капитан Вальдзингам. – Это твоя проделка!
Пони уже достиг подножий косогора, а ребенок качался взад и вперед в седле, стараясь всеми силами удержаться на лошади; но вследствие стремительности последнего скачка животное упало, смяв под собою всадника. Глазам, наблюдавшим сверху за пони и мальчиком, представилась только бесформенная масса, которая шевелилась еще несколько мгновений, а затем сделалась внезапно неподвижною.
– Скорее ко мне, сюда! – воскликнул капитан, сбегая по тропинке, служившей пешеходам.
Он добежал до места падения баронета.
Майор последовал за ним и первый опустился на колени возле пони и мальчика. Сэр Руперт был распростерт под лошадью, которая встала, как только майор распутал ее поводья.
Сэр Руперт Лисль лежал без всякого движения. Несколько капель крови на лбу были единственными признаками полученного ушиба.
– Слава богу! – сказал капитан с облегчением. – Он отделался одним только страхом.
Майор Гранвиль расстегнул жилетку мальчика и положил руку на его сердце. Он вдруг побледнел, и его белокурые усы и бакенбарды как будто потеряли привычный свой блеск.
– Он умер от сотрясения мозга, – проговорил он торжественно.
– Демон! – воскликнул снова капитан Вальдзингам, стиснув горло майора. – Ты – убийца его!
Майор, все еще бледный, освободился от стиснувшей его руки и произнес спокойно:
– Артур, будьте благоразумны и выслушайте меня. Я так же невиновен в случившемся, как и вы сами. Когда я давеча предложил вам комбинацию, которая могла бы упрочить за нами богатство, то сказал, что мальчику не будет причинено ни малейшего вреда. Я говорил именно то, что думал, но вы взбесили меня своей глупостью и мне захотелось немного подразнить вашего пасынка. То, что случилось, произошло без моего содействия. Это было одной из тех игр случая, которых нельзя предвидеть или предотвратить. То, что сделалось, – сделано, и мы с вами не в силах переделать его! Но мы можем, – он понизил голос почти до шепота, – извлечь пользу из случая! Позволяете ли вы мне поступать так, как укажут мой ум и мой рассудок?
– Да, – сказал капитан, закрывая руками свое помертвевшее от ужаса лицо. – Я поклялся быть покровителем этого ребенка – и вот как я сдержал данную мной клятву!
Майор снял свой плед и разостлал его бережно на траву. Затем, подняв безжизненное тело баронета, он положил его на плед и покрыл его спокойное, посиневшее лицо батистовым платком.
– Артур, – сказал он, – оставайтесь здесь и наблюдайте, чтобы никто не догадался об этой катастрофе. Я вернусь очень скоро.
Он взял под уздцы пони и повел его через овраг в поле, находившееся вблизи, не обращая внимания на свои лакированные сапоги. Доведя лошадь до стоячего пруда – за милю от места катастрофы и в шести милях от Лисльвуд-Парка, он погнал ее, стегая своим галстуком, в середину воды и накинул ей на шею поводья. Она погрузилась в воду по грудь и, выскочив на противоположный грязный берег, пустилась во весь опор через вспаханную землю по направлению к сосновому лесу. Майор следил за ней глазами, пока она не скрылась совсем из вида, а потом поспешил обратно к Вальдзингаму и телу баронета. Он нашел капитана сидящим возле трупа своего пасынка.
– Я думал, что вы никогда не вернетесь, – промолвил капитан, когда майор приблизился.
– Проходил ли здесь кто-нибудь?
– Никто не проходил.
– Хорошо. А теперь отправляйтесь прямо к матери этого несчастного ребенка и скажите ей просто, что мальчик заблудился. Больше вам ничего не нужно говорить: помните, что пони найдет дорогу в Лисльвуд.
Он взял тело баронета на руки и пошел было с ним к ожидавшему его экипажу, но отказался тотчас же от этого намерения.
– Артур, – сказал он быстро. – Бегите к экипажу и прикажите кучеру подъехать сюда.
Капитан повиновался, и через несколько минут послышался стук приближающейся кареты.
Миссис Варней выглядывала из окна экипажа. Она была прекрасна в своей изящной шляпке.
– Что случилось? – спросила она с живейшим любопытством.
– Отворите дверцу, Соломон! – приказал майор.
– Вы можете сесть спиной к лошадям, Ада? – спросил он, когда Соломон отворил дверцу и опустил подножку.
– Для чего это нужно? – спросила миссис Варней с озадаченным видом.
Майор не отвечал, но, взяв за руку Аду, заставил ее выйти из экипажа и положил мертвого мальчика на подушки кареты. Он увидел в экипаже великолепную шкуру леопарда, в которую были закутаны ноги миссис Варней, схватил ее поспешно и накинул на труп.
– Что случилось с ребенком? – спросила миссис Варней. – Уж не ранен ли он?
– Да, он ранен опасно. Я везу его в Брайтон, чтобы пригласить к нему сведущих докторов… Садитесь скорее, Ада. Затворите дверцу, Соломон!
Майор с женой сели на заднюю скамейку, спиной к лошадям. Капитан положил руку на дверцы экипажа.
– Что вы хотите сделать с ребенком? – спросил он майора.
Варней улыбнулся в первый раз после только что разыгравшейся драмы.
– Вы знаете или угадываете это сами, мой друг, – ответил он уклончиво.
Экипаж укатил, и Вальдзингам остался бледный и озадаченный на пустынной дороге.
– Клерибелль, – прошептал он, смотря пристально вслед удаляющейся карете. – Ваша измена мне, которой вы разбили мое существование, падает, очевидно, теперь на вашу голову! Да поможет вам Бог, бедная женщина, а я уже не в силах отвести этот удар.
Глава IX Майор Варней делает первый ход
Полчаса спустя по возвращении в Лисльвуд-Парк капитана Вальдзингама, принесшего жене грустную весть, весь округ уже узнал, что сэр Руперт Лисль исчез неизвестно куда. Лошади Лисльвуд-Парка были тотчас оседланы, и все слуги разосланы по ближайшим окрестностям: они поскакали по всем направлениям и расспрашивали всех встречных поселян, обыскали все аллеи, поля и косогоры, прилегавшие к Бишер-Риду, но не могли узнать положительно ничего о мальчике, ехавшем на сером в яблоках пони.
Клерибелль Вальдзингам металась как безумная. Она сама хотела отправиться на поиски и убежала бы, если бы муж не удержал ее. В пароксизме отчаяния она обвиняла его в этом несчастье и осыпала его тяжелыми упреками.
– Где мой сын? – воскликнула она со слезами и рыданиями. – Я доверила его вам… Вы поклялись покровительствовать ему! Что вы сделали с ним?… Вы должны бы скорее решиться умереть, чем прийти ко мне с вестью о гибели Руперта.
Эта женщина, обыкновенно такая холодная и бесчувственная, была уже не похожа на саму себя: она в припадке горя бегала по роскошным комнатам замка, повторяя бездумно имя своего сына. Капитан не решался подавать ей надежду. Он вышел и пошел прямо к воротам замка, ожидая возвращения разосланных гонцов. Он увидел Жильберта Арнольда, стоявшего, по обыкновению, на пороге сторожки. Джеймс сидел в это время на садовой калитке. Капитан Вальдзингам вздрогнул, когда увидел белокурые волосы и болезненное лицо мальчика, как будто перед ним явилось привидение. Он подумал невольно о неподвижном трупе, завернутом майором в толстый шотландский плед, он подумал о длинных золотистых кудрях, которых рука матери уже не будет касаться.
– Почему вы не отправились на поиски сэра Руперта вместе с другими слугами? – спросил он у Жильберта.
– Потому, что и без меня их отправилось много, – ответил грубо сторож. – Мне довольно смотреть за собственным сыном! Он может пропасть, быть украденным или убитым, – добавил он насмешливо.
Индийский офицер рванулся из ворот, чтобы кинуться на сторожа, но мальчик принялся кричать изо всех сил.
– Замолчи, жалкий трус! – взревел его отец. – Капитан, я надеюсь, не ударит меня.
Капитан заметил, что сторож был пьян. Жильберт опустил руку в карман и начал побрякивать золотой монетой, которую недавно получил от майора. Капитан устремил на него наблюдательный взгляд.
«Не выучил ли он заданного урока? – подумал Вальдзингам. – Знает ли он ту роль, которую ему придется разыграть в этом ужасном деле?»
Наступила уже ночь, когда слуги явились и объявили прямо о неудаче поисков. Незадолго до них пони вернулся в Лисльвуд весь в пыли и в грязи. Нечего было сомневаться, что мальчик утонул, но где и каким образом?
Клерибелль Вальдзингам не предложила ни одного из этих вопросов, потому что она упала без чувств, когда узнала о возвращении пони. С первыми лучами рассвета приступили к исследованию всех прудов и ручьев в соседстве Лисльвуд-Парка; но все старания оставались бесплодными. День прошел, настал вечер, а тело сэра Руперта не было найдено. Были тотчас прибиты длинные объявления по стенам Лисльвуд-Парка, по мильным столбам большой дороги и по всем деревням, гласившие громадными буквами, что будет выдано пятьсот фунтов тому, кто отыщет хоть тело сэра Руперта Лисля.
Все пруды и ручьи были снова исследованы, но безуспешно. Где мог утонуть мальчик? Предлагая друг другу этот вопрос, все переглядывались с явным недоумением. Между людьми, собиравшимися в кабаках и трактирах, шел разговор о маленьком хорошеньком баронете, исчезнувшем таким неестественным образом. Он вышел из парка в сопровождении своего отчима и друга последнего; всех троих потом видели на большой дороге; капитан вел под уздцы пони сэра Руперта – а с этой минуты никто уже не видел более баронета. Рассказ Вальдзингама об исчезновении мальчика был довольно правдоподобным: он, капитан, пошел с Бишер-Рида провожать майора до его экипажа, баронет в это время ездил по косогору. Вернувшись же туда через четверть часа, он напрасно искал и кликал баронета. Нельзя было предположить, чтобы Вальдзингам имел причины нанести вред пропавшему ребенку, – тем более что Лисльвуд должен был перейти в посторонние руки. Факт исчезновения сэра Руперта Лисля остался между тем нерешенной загадкой. Если б он был похищен каким-нибудь бродягой, то вор завладел бы, несомненно, и лошадью. Баронет утонул: это предположение было вернее других.
В пяти милях от Лисльвуда была долина, по которой протекала небольшая река. Мальчик мог поскакать с косогора туда и погиб, вероятно, желая переправиться на другой ее берег. Что же могло увлечь его так далеко от места, на котором оставили его капитан и майор? Детский каприз, конечно, своеволие баловня! Реку тоже исследовали совершенно напрасно: тело ребенка было унесено течением в море, и несчастная леди Лисль не увидит останков единственного сына, любимого с такой безрассудной нежностью!
В прекрасном замке Лисльвуд воцарилась печаль. Беспредельное отчаяние Клерибелль Вальдзингам уступило со временем место глубокой грусти, которая, однако, высказывалась ясно во всей ее особе: малейший след румянца исчез с ее лица, а глаза потеряли свой прежний, чудный блеск. Никто и никогда не видел ее плачущей, а тем менее смеющейся; ничто не занимало, не трогало ее, она стала настолько равнодушна ко всему, что если б загорелся ее собственный замок, она едва ли заметила бы нависшую опасность и не вышла бы из дома без чужих побуждений. Она почти безвыходно сидела в своей комнате и не принимала никого, кроме мужа да горничной. Да и сам капитан входил к ней очень редко; он каждое утро уезжал куда-то верхом и возвращался вечером, чтобы пообедать и затем просидеть в библиотеке за сигарой до полуночи. Слуги шепотом говорили друг другу, что он начал пить больше, чем бы следовало, и что исчезновение пасынка подействовало самым печальным образом на его настроение. Артур Вальдзингам казался не особенно веселым уже после возвращения из Индии в Лисльвуд, но со времени катастрофы он стал еще угрюмее. Сэр Ланцелот Лисль, живший во Флоренции, умолял письменно вдову своего родственника оставаться во владении замком и Лисльвуд-Парком. Он добавлял, что нотариус его устроит все дело, так как он сам не согласен покидать итальянские горы для бесплодных равнин Суссекса. Таким образом, миссис Вальдзингам могла спокойно жить в Лисльвуд-Парке до конца своих дней, делая этим большое одолжение баронету.
Клерибелль успокоилась, по возможности, после своей потери только тогда, когда густой снег покрыл аллеи парка и опушил ветви дубов. Все матери деревни проливали искренние слезы при виде грусти своей госпожи, которую они знали еще задолго до ее первого брака. Бедные поселяне вспоминали, сколько раз они завидовали ей, когда она проезжала мимо них в своем блестящем экипаже, разодетая в шелк и бархат и гордящаяся своим хорошеньким сыном, сидевшим рядом с нею; а многие ли из них пожелали бы теперь поменяться с нею участью? Они дрожали, слушая рассказы болтливой прислуги замка о том, как тихо стало в роскошных залах, как грустил капитан, сидя один, ночью, перед камином за стаканом вина, и как тоскует барыня на своей половине, разъединившись со светом, в котором была прежде так весела и счастлива, и призывая смерть, чтобы соединиться скорее с погибшим сыном. Рахиль Арнольд сочувствовала более всех других несчастной Клерибелль.
Однажды, сидя в январский вечер перед своим камином, она решилась даже высказать свое сочувствие мужу.
– Что это еще значит? – проворчал Жильберт Арнольд, кидая на нее угрожающий взгляд из-под густых бровей. – Что ты мне порешь дичь?
– Я говорю, что думаю о несчастной миледи, я ходила сейчас наверх к нашему Джеймсу, а когда я вижу его спокойным и довольным в его чистой кроватке, то вспоминаю невольно бедного сэра Руперта.
– Эти дети были чрезвычайно похожи друг на друга, – проговорил задумчиво Жильберт, устремляя глаза на пылавший огонь и выбивая трубку о железо решетки. – Господи боже мой! Все толкуют о благородном происхождении и о всем, связанном с ним… Да мой мальчик на вид не хуже сэра Руперта, а, пожалуй, еще и красивее его.
– Когда я была еще девушкой, – заметила Рахиль, – многие говорили, что я напоминаю Клерибелль Мертон.
Жильберт Арнольд не принадлежал к числу любезных мужей: он несколько секунд смотрел в лицо Рахиль, скорчил потом гримасу и громко рассмеялся.
– А! Так ты в самом деле похожа на нее! – воскликнул он насмешливо. – Я-то, по крайней мере, этого не заметил, и если ты когда-нибудь походила на барыню, то теперь не походишь, могу тебя уверить.
Он набил снова трубку и закурил ее. Затем, протянув ноги, обутые в грубые сапоги, на решетку камина, принялся курить с видимым наслаждением.
– Я потеряла всю свою красоту за работой, Жильберт, – заметила жена его.
– Если она была! – проворчал издевательски муж.
– У меня были такие же белокурые волосы и такие же ясные голубые глаза.
– Ну да! – проговорил язвительно Арнольд. – Но твои волосы совершенно бесцветны, а глаза твои тусклы, будто ты сварила их, чтобы сделать их красивее, но это предприятие не удалось тебе. А если б не это, ты была бы вполне похожа на миледи, – добавил он, смеясь.
– Несчастная миледи! Мне очень жаль ее, – прошептала Рахиль.
– А! Это очень мило! – сказал Жильберт Арнольд, вынимая трубку изо рта и стуча кулаком по небольшому столику, стоявшему вблизи него. – Я не желаю слышать ни хныканий, ни вздохов, ни даже сожалений о положении леди. У нее прекрасный дом, прелестный экипаж, роскошные наряды, спит она на перине, ест и пьет хорошо и может тратить денег сколько душе угодно… Ведь это справедливо? Ну, так пусть же довольствуется тем, что есть у нее!.. Она ни разу в жизни не пробовала каши, которой угощают добрых людей в остроге, не ела никогда отвешенного хлеба… И она не испытывала, каково пролежать под забором зимой, шесть или семь часов, кажущихся веками, чтобы подстрелить зайчика, которого продашь на следующее утро за какой-нибудь шиллинг… Она не боится уйти за шесть миль от своего дома и быть арестованной и даже обвиненной в тяжелом преступлении, которого не думала никогда совершать. Пусть же она не ропщет! Если сын ее утонул, то с судьбой не заспоришь! Другим тоже случалось переносить несчастья, и не ее одну постиг подобный случай. Ей живется так сладко, что даже не мешает проглотить каплю горечи.
В сторожку в это время ворвался резкий ветер, и вслед за тем послышалось хлопанье в ладоши.
– Что же это такое? – воскликнул Жильберт Арнольд, вскакивая стремительно и обращая свои зеленовато-желтые и хитрые глаза, в которых замечалось теперь выражение тревоги, на дверь, находившуюся у него за спиной.
На пороге стоял мужчина чрезвычайно высокого роста, закутанный в широкий плащ, и в кашне самых ярких цветов. Шляпа его была надвинута на брови, а его кашне доходило до носа, так что изо всего лица был виден только этот выдающийся нос, похожий на клюв птицы. Жильберт Арнольд дрожал как будто в лихорадке. Он судорожно стиснул руками спинку стула – она переломилась, и он отшвырнул ее далеко от себя, произнеся проклятие.
– Что нужно?… Да и кто вы? – спросил он, озираясь украдкой на лестницу, которая шла вверх, как будто он хотел ускользнуть этим ходом от незваного посетителя.
Незнакомец рассмеялся тем звонким и беззаботным смехом, который уже не раз поражал слух Арнольда. Затем он скинул шляпу, стряхнул с себя снег и запер плотно дверь. Сбросив плащ, он присел спокойно к огню, провел рукой по светлым блестящим волосам и разгладил усы. Браконьер неуклюже, но с оттенком почтительности поклонился ему.
– Майор… – начал он нерешительным голосом.
– Вы совершенно правы: я Гранвиль Варней. Судя по впечатлению, которое произвело на вас мое появление, вы, мой достойный друг, вероятно, нечасто видите посторонних?
Жильберт Арнольд побагровел и взглянул на часы, висевшие в углу.
– Но… Уже немного поздно, – прошептал он чуть слышно.
– Я не спорю, что поздно: теперь, вероятно, половина двенадцатого. Я выехал из Лондона на курьерском поезде в девять часов. Нужно заметить, что я прибыл сюда с единственной целью – поговорить немного с вами, Арнольд. Опоздал же я так именно потому, что станция далеко, а я вздумал вдобавок дойти до вас пешком, чтобы не возбуждать никаких праздных толков… Но перейдемте к делу. Вы, конечно, предвидели, что я явлюсь сюда?
Сторож потирал рукой свой подбородок и не решался, видимо, ответить на вопрос.
– Почему же? – спросил он чрезвычайно уклончиво.
– Ну да. Вы ожидали увидеться со мной! Я это твердо знаю!
Рахиль Арнольд, сильно заинтересованная этой беседой, смотрела поочередно то на мужа, то на майора Варнея.
– Ступай спать, Рахиль, – сказал Жильберт Арнольд. – Нам вовсе не желательно, чтобы ты нас подслушивала.
– Не будьте же так грубы с вашей доброй женой! – заметил майор со снисходительной улыбкой. – Добрейший ваш Арнольд хочет просто сказать, – обратился он очень деликатно к Рахили, – что нам необходимо потолковать по-дружески, а вам ввиду такого позднего часа не худо отдохнуть… Он превосходный малый, но часто выражается чрезвычайно резко… Итак, спокойной ночи, добрая миссис Арнольд.
Майор сделал своей украшенной перстнями, красивой рукой такое движение, которое доказывало его желание вытолкнуть Рахиль Арнольд из комнаты. Она пошла наверх и легла на постель одетой.
Дверь, ведущая на лестницу, осталась отворенной: майор Варней затворил ее лично и затем сел опять против Жильберта Арнольда.
– Возьмите и набейте себе другую трубку, – сказал он, указывая на разбитую прежнюю, выпавшую из рук взволнованного сторожа.
Арнольд вынул из шкафа, стоявшего поблизости, другую, тоже грубую и глиняную, трубку, между тем как майор закуривал сигару. Он выкурил ее почти до половины, не говоря ни слова, потом взглянул на сторожа, смотревшего на него с лихорадочной жадностью, и сказал очень вежливо:
– Вы сильно испугались, когда я появился внезапно перед вами. Не думали ли вы, что… вас накрыли сыщики?
Жильберт Арнольд смотрел на веселого, смеющегося, цветущего майора будто на привидение.
– Заглянем в ваше прошлое! Вы здесь более семи лет. Вы находились прежде в винчестерском остроге, а еще раньше этого в Севаноаке, в Кентском графстве…
Вторая трубка выпала из рук бедного сторожа и разбилась на части.
– Вот еще один пенни пропал без всякой пользы, – заметил вскользь майор. – Мой достойнейший друг, вы слишком впечатлительны!
– В Севаноаке, я не был там, никто не мог слышать даже моего имени, – пробормотал Жильберт, смотря на догоравшие сосновые дрова и избегая встретиться с голубыми, проницательными глазами посетителя.
– Вы выразились верно: там действительно не было никакого Арнольда, мой превосходный друг, – сказал Гранвиль Варней. – Но на свете ведь множество всевозможнейших имен. Нельзя ли нам на время оставить вас в покое и повести разговор прямо о Джозефе Бирде?
Сторож упал на стул, словно раненный пулей. Он отер своей жесткой загорелой ладонью холодный пот, покрывавший его угрюмый лоб.
– Вам все равно, я думаю, что я напоминаю вам о Джозефе Бирде? Мой друг, я не люблю причинять неприятности, но не могу продолжать и беседу, не затронув в ней Бирда.
Он вынул из кармана записную книжку, отыскал между брелоками микроскопический карандаш, приготовился писать и произнес решительно:
– Так как я убежден, мой дорогой Арнольд, что вы чрезвычайно способный человек, то стану говорить с вами с полнейшей откровенностью. Если б я не имел основания думать, что вы можете быть мне полезным в свою очередь, то не пришел бы к вам. Если б я считал вас за жалкого глупца, я бы вами воспользовался без вашего ведома. Но я вижу, что вы далеко не дурак, и потому уверен, что выиграю многое, посвятив вас вполне в тайны моей политики… Жильберт Арнольд, с тех пор как я живу на этом свете, я себе не позволил ни одного поступка, который был бы против закона!
Майор откинул голову и разразился тихим самодовольным смехом, как будто он сказал меткую остроту.
– Да, – продолжал он снова, – я служу офицером в индийской армии и живу исключительно своим майорским жалованьем. Никто не оставлял мне ни одного пенса, я не делал долгов, я никогда не действовал несогласно с законом, не рисковал надеть арестантский костюм, но я знаю зато преступления других вернее сыскной полиции. Вы спросите, быть может, зачем я собираю такого рода сведения? А я отвечу вам, что я делаю это из пристрастия к искусству. Когда я имею нужду в содействии человека, то не угрожаю ему, не подкупаю его, а стараюсь узнать историю его жизни. Вы сделались мне нужны, и я в силу того же благородного правила разведал ваше прошлое!
За стулом майора стояло ружье, и глаза Жильберта направились невольно на грозное оружие. Хотя взгляд этот был невыразимо быстр, майор поймал его и, повернув свой стул, стал внимательнее наблюдать за Жильбертом Арнольдом.
– Не думайте об этом, мой превосходный друг, – сказал он благодушно. – Подождите немного и вы сами увидите, что меня привел к вам наш общий интерес… Вернемся тем не менее снова к Джозефу Бирду! Тому назад лет десять или одиннадцать вы были настоящим удалым молодцом, но, к несчастью, вас знали хорошо в этой местности, а именно под прозвищем Жиля-браконьера, и вследствие этого вас принудили силой уехать из Суссекса, дав вам предварительно ознакомиться с ливисским острогом.
– За убитого зайца и за пару фазанов, – заметил ему Жильберт, как будто в извинение.
– Нет, ничуть не за зайца и за пару фазанов! В народе поговаривали, что вы будто бы рискнули разрядить ружье в сторожа, который захватил вас с поличным! Все это, вероятно, чистая клевета, вымысел людей… После почти двухмесячного пребывания в Ливисе Жильберт исчез внезапно, и владельцы окрестностей поздравили друг друга с этим крупным событием. До сих пор дело шло восхитительным образом! Теперь оно начнет касаться Джозефа Бирда!
– Я не могу понять, о ком вы говорите, – сказал злобно Жильберт, окинув снова взглядом ружье, стоявшее направо от майора.
– Как вы интересуетесь этим ружьем, мой друг!.. Посвятите мне хоть пять минут внимания, чтобы убедиться в безосновательности ваших подозрений. В окрестности Севеноака, в Кентском графстве, есть несколько превосходных лесов, из которых один сделался местопребыванием браконьера. Осенью тысяча восемьсот тридцать пятого года дичь начала исчезать из этого леса с такой быстротой, которая возбудила справедливое негодование владельца и его сторожей. Один из последних, человек смелый и предприимчивый, шести футов роста, сказал своему господину, что надеется поймать виновника. «Я знаю его, – добавил он. – Это трусливая собака с именем Джозеф Бирд. Его видели продающим дичь в Севаноаке. Я простил бы ему, если б он употреблял ружье, как другие: тогда бы скорее можно было изловить его. А он незаметно подкрадывается, хватает дичь почти из-под вашего носа – и ускользает от вас. Но я все-таки уже имею его в виду и заставлю его поплатиться за все наши убытки!» Быть может, эти слова достигли ушей Джозефа Бирда, потому что через неделю нашли сторожа лежащим в лесу с простреленной головой. Пошли по следам, отпечатавшимся на почве, местами обагренным кровью. Хирург одной из окрестных деревень заявил, что на рассвете приходил к нему какой-то человек с просьбой перевязать ему ногу, пораненную пулей, и что такая рана могла, во всяком случае, оставить хромоту или вообще другой неизгладимый след. Этот человек был Джозеф Бирд.
Жена сборщика пошлин видела его утром, он перескочил через шлагбаум и просил извозчика, ехавшего в Лондон, взять его с собой. После обеда преступление сделалось известным всей окрестности, но с этих пор полиции не пришлось ни разу встретить Джозефа Бирда. Я сильно опасаюсь, что если бы он не скрылся, то попал бы в тюрьму! – заключил насмешливо Гранвиль.
Жильберт Арнольд был близок к обмороку. Майор – вероятно, с великодушным намерением предупредить его падение – схватил его за правую ногу и, быстро обнажив ее, поднес к ней свечку.
– Черт возьми! – воскликнул он. – Вот эта рана тоже от выстрела и удивительно похожа на рану Джозефа Бирда. Я думаю, что вы на совесть хорошо владеете этой ногой, мой добрый Арнольд.
«Добрый» Арнольд с глухим рычанием прикрыл ногу.
– Мне кажется, мой достойный друг, – продолжал, вставая, майор, – что мы начинаем понимать друг друга. Если бы я не нуждался в вас, то не примчался бы сюда с курьерским поездом, чтобы рассказать вам историю Джозефа Бирда. Вот вам билет в десять фунтов стерлингов, который поможет вам переселиться в Лондон вместе с женой и сыном. Распустите здесь слух, что едете в Америку. Вот еще адрес дома, в котором вы должны будете остановиться в Лондоне, где и будете ждать от меня дальнейших инструкций… Вы получите их или лично от меня, или через моего слугу, Соломона. Примите к сведению, что я умываю руки: у меня совесть чиста, и я не сделал во всю свою жизнь ни одного злодейства. Если вас завтра привлекут в суд в качестве свидетеля против моей особы, вы можете сказать только, что я приезжал к вам с целью порассказать кое-что о Джозефе Бирде: присяжные назовут меня, конечно, эксцентричным – и больше ничего… Подайте мне одеться.
Майор накинул плащ, надвинул на глаза шляпу и вышел из сторожки.
– Да будь ты проклят! – пробормотал сторож, обращаясь к силуэту удаляющегося офицера. – И как мог он разузнать все эти тайны прошлого? Быть обличенным после десяти лет… Десяти долгих, мучительных лет! Сделаться твоим лакеем… Превратиться в рогожу, о которую ты будешь вытирать ноги… О, будь ты проклят! Будь проклят!
Он бросился стремительно к ружью, снял его и вышел в засыпанную снегом аллею.
– Мне хотелось бы последовать за ним? – шептал он. – Да, я желал бы этого… Но если я сделаю это, то едва ли вывернусь опять из беды.
Глава X Посол майора
Действуя согласно приказанию майора, Жильберт Арнольд сказал своей жене через несколько дней после посещения Гранвиля Варнея, что ему начинает надоедать жизнь в «этом гнезде» и что он намерен отправиться в Америку, где он будет не хуже других людей и где ничто не будет напоминать ему ежеминутно о грехах его молодости.
– Да, – сказал Жильберт после длинной беседы со своей женой, которая проливала горькие слезы при мысли, что ей нужно расстаться с доброй госпожой и с родной стороной, чтобы подвергаться опасностям путешествия в Америку в сопровождении мужа, который не был ни добрым, ни внимательным к ней. – Твои слезы и крики не приведут ни к чему. Нравится ли тебе, нет ли, но мы едем в Нью-Йорк через три недели, считая с этого дня. Советую тебе надеть шляпку и идти к миледи, чтобы заявить ей, что ты оставляешь ее… Пусть найдет других, которые согласились бы заменить нас в этом гнезде и быть истоптанными блестящими сапогами ее милого капитана.
Жильберт Арнольд любил повторять эту фразу, как будто он действительно подвергался когда-нибудь подобным унижениям.
Итак, Рахиль не плакала, или если и плакала, то украдкой от мужа, который, сидя с трубкой, следил за всеми сборами к дальнему путешествию. Она бледнела, думая о том, что ее ждет, но несчастная женщина так боялась Жильберта, что не посмела бы ослушаться его, если б ему вздумалось предложить ей повеситься. Три недели протекли незаметно. Рахиль простилась со своей госпожой, и затем Жильберт Арнольд отправился с ней, сыном и багажом на станцию железной дороги. Поезд прибыл в Лондон с наступлением ночи. Выйдя на дебаркадер, Жильберт увидел человека, лицо которого было ему знакомо, – это был еврей Соломон, камердинер майора.
– Вы очень исполнительны, – сказал Соломон, приблизившись к Арнольду. – Возьмите свой багаж, велите уложить его в нанятый для вас кеб и вернитесь сюда. Я дам вам адрес дома, в котором вам придется поселиться на время.
– Вы лучше проводили бы нас, – заметил ему Арнольд. – Мы здесь точно в лесу, и мне было бы приятно иметь возле себя человека, которому известен этот город.
Соломон посмотрел пристально и насмешливо на говорившего, который вовсе не был похож на джентльмена в своем матросском платье, полосатом кашне, шапке из кролика и со свертком под мышкой.
«Мы вас преобразим, – думал слуга майора, – и вы скоро поймете всю суть нашей науки. Вы пока обладаете только доброй волей, а еще уступаете нам во многих отношениях, но вы освоитесь с переменой положения в самом недалеком времени!»
Жильберт Арнольд свалил багаж в кеб, усадил сына и жену и вернулся к еврею.
– Ну? – спросил он отрывисто.
– Ну что?… Лорд Честерфилд? – передразнил слуга.
– Отправляемся. Я спешу, потому что мне нужно освежиться немного.
– Вам надо освежиться – хорошо! Вот вам адрес. Отдайте кучеру и, когда вы доедете, дайте ему полкроны, а если он будет недоволен подачкой, то захлопните перед ним дверь… Я буду у вас в десять часов, – добавил Соломон, приметив, что Арнольд как будто бы колеблется. – Поезжайте же с богом!
С последними словами фактотум майора отвернулся от сторожа и поспешил уйти.
– Идем! – решил Арнольд. – Вот странный образец орудий майора, и я готов быть проклятым, если я пойму цель моего повелителя, но я, во всяком случае, ничего не теряю, повинуясь его распоряжениям. Наше коммерческое общество предпринимает что-то новое, и время покажет, хорошо ли оно или худо.
Кеб доставил Жильберта с его семейством в обозначенный на адресе дом, на одной из глухих улиц, по ту сторону Ватерлоо-Рида. Они вышли из кеба и были встречены бледной женщиной в черном кружевном чепчике, которая ввела их в чисто меблированную квартиру, будто бы нанятую, по словам хозяйки, для одного семейства из Йоркшира, по фамилии Грин.
Так как фамилия Арнольда была не Грин и он приехал вовсе не из Йоркшира, то Рахиль хотела было заметить, что тут существует какая-то ошибка, но Жильберт остановил ее вовремя взглядом и сказал, что все в порядке и он будет весьма обязан хозяйке, если она даст ему пива и легкую закуску.
Хозяйка принесла пива и бараньих котлет, облитых жидким соусом, которые Жильберт принялся уплетать с громадным аппетитом, предоставив жене и сыну всего один кусок. Утолив голод, Арнольд закурил трубку, между тем как Рахиль с мальчиком доедали и допивали остатки его ужина. Затем он посоветовал им лечь немедленно спать, так как он ожидал приезда Соломона и не желал, конечно, чтобы его стесняли в беседе с ним. Рахиль молча взяла за руку сына и повела его в спальню, находившуюся в верхнем этаже, а Жильберт продолжал пить и курить, пока не пробило десять часов. В это время послышались два удара у входа на парадную лестницу. Жильберт спустился вниз и впустил посетителя: это был Соломон.
– Надеюсь, что у вас разведен огонь, – проговорил последний, входя прямо в гостиную. – На дворе такой холод, что я продрог насквозь.
Еврей успел усвоить большую часть изящных привычек и приемов своего господина: он пододвинул кресло, в котором только что сидел Жильберт Арнольд, к небольшому камину, развалился небрежно и протянул ноги на крепкую решетку.
– Теперь слушайте! – начал он. – Как мой господин, так и я придерживаемся благоразумного правила – не говорить ни одного лишнего слова. По-моему, если вы не будете внимательны, то не поймете меня правильно… Очень может быть, что будут нуждаться в вас… Или скорее – в вашей жене, а пожалуй, и в вашем сыне… Дело не в этом, но пославший меня желает, чтобы вы остались здесь, пока он найдет нужным. Вы не должны задавать никому вопросов и не отвечать на чужие расспросы. Еженедельно вы будете получать по почте на имя Джона Грина (так вы будете называться впредь до новых распоряжений) тридцать шиллингов от Альфреда Соломона. Больше этой суммы вы не могли бы добыть трудом и потому вам придется довольствоваться ею. Со временем вы, вероятно, получите более и в один прекрасный день можете очутиться в положении богача. Если кто-нибудь спросит вас, кто вы такой, то назовите себя башмачником, плотником или кем бы то ни было, но на всякий случай – ремесленником без занятия. Предложат вам вопрос, чем же вы живете, – отвечайте, что у вас есть брат, человек богатый, который посылает вам еженедельное содержание. До сих пор все очень обыкновенно. Между тем ваше спокойствие будет зависеть от двух условий, если не считать того, что вы никогда не должны забывать Джозефа Бирда. Первое условие: заботьтесь побольше о вашем сыне, берегите его так, как если бы берегли ребенка королевской крови, если он был бы доверен вам. Если бы с ним могло случиться несчастье, то оно неизбежно отразится на вас. Второе условие: молчание. Если до ушей моих или моего господина когда-нибудь дойдет, что вы произносили его имя или мое, то вы услышите о Джозефе Бирде… Ну-с, пока до свидания… Посветите же мне и отоприте дверь!
Соломон произнес свою речь так поспешно, что изумленный сторож был буквально не в состоянии перебить его хотя бы одним вопросом. Он не успел еще опомниться, как слуга майора повернул уже за угол и исчез в Ватерлоо-Риде.
«Тридцать шиллингов еженедельно, – думал Жильберт, – это немного скуповато со стороны такого богатого человека, каков майор Гранвиль Варней, но так как он может, если захочет, извести меня на виселицу, то я поневоле должен довольствоваться всем, что ему угодно будет предложить мне… Черт побери его!..»
После этого сильного и любимого им восклицания Арнольд лег в постель, но не мог заснуть. Он прислушивался всю ночь к стуку экипажей, проезжавших по Ватерлоо-Риду, и когда он впадал на минуту в дремоту, то ему слышалось пение жаворонка в севаноакском лесу и представлялось бледное, окровавленное лицо убитого им человека.
Глава XI Смерть капитана
Четырнадцать лет прошло со для исчезновения маленького баронета, а Клерибелль Вальдзингам с мужем все еще владели Лисльвуд-Парком. Нотариус сэра Ланцелота, переехавший в Лисльвуд, собирал доходы с имения и посылал их во Флоренцию, банкиру баронета. Поселянам казалось, что род Лисля исчез, потому что представитель его никогда не бывал в наследственных владениях. Да, прошло четырнадцать лет, и никакой перемены не произошло в семействе Вальдзингама, если не считать того, что рождение другого сына утешило немного бедную Клерибелль. Спустя четыре месяца после смерти сэра Руперта доктора пошли сообщить капитану, сидевшему по-прежнему бледным и озабоченным перед ярким огнем все в той же библиотеке, что у него родился сын, с карими глазками. Вскоре замок и парк огласились веселым, несмолкавшим смехом и оживились звуками серебристого, свежего голоска, раздававшегося с утра до ночи. Мальчик своим прямым, смелым, живым характером напоминал собой капитана, когда последний прибыл в первый раз в Лисльвуд-Парк, чтобы влюбиться безумно в Клерибелль Мертон. Артур Вальдзингам привязался от души к своему сыну. Он беспрестанно занимался его игрушками, пони, ружьем и лодкой, в которой катал его по озеру парка. Ему никогда не надоедало слушать его болтовню и скакать с ним по бесплодным равнинам. Когда же мальчика отдали в Итон, то отец горевал более матери.
– Что, если с ним случится что-нибудь, Клерибелль? – говорил он жене.
Эти слова возбуждали такой ужас в душе пугливой Клерибелль, что она порывалась посылать в Итон нарочного, если б муж не удерживал ее от этого намерения.
– Он находится в руках Провидения, Клерибелль, – успокаивал он. – Я не мог возвратить вам потерянного сына, хоть я его любил, чему свидетель Бог!
Молодой мистер Вальдзингам расположил к себе все начальство Итона своими способностями, дарованиями, своей откровенностью и великодушной натурой, а капитан с женой жили одни в Лисльвуде. Мальчик пробыл в Итоне ровно два года и посещал родителей лишь во время вакаций, которых капитан ожидал всегда с лихорадочным и детским нетерпением. Капитан Вальдзингам стал сильно меняться: он сделался дороднее, его черные волосы начали седеть, стан заметно согнулся, и, чего прежде не было, Вальдзингам с каждым днем стал более и более опираться на трость с золотым набалдашником. Ему еще не было и сорока пяти, а он уже казался почти что стариком, между тем как белокурая, прелестная жена его почти не постарела со дня второго брака. Майор Варней с женой были уже давно в Индии, Артур Вальдзингам получал редко сведения о своем «милом друге» с золотистыми бакенбардами. Сторожка приняла более приветливый вид, как только мрачная фигура браконьера исчезла из Лисльвуда. Теперь в ней поселился маленький человек с румяным лицом. Возле калитки же, где прежде обыкновенно сидел бледный Джеймс Арнольд, толпилась полудюжина резвых и розовых малюток.
В один июньский день капитан с женой расположились в парадной гостиной. Он курил, между тем как взгляд его рассеянно бродил по обширному парку и цветникам, видневшимся из окна. Миссис Вальдзингам сидела около него на диване с вышиванием в руках. Он докурил сигару и, глубоко вздохнув, обратился к жене.
– Клерибелль, – сказал он, – бросьте вашу работу и скажите мне: сколько лет мы женаты?
– Уже четырнадцать лет.
– Четырнадцать лет! Если б ваш сын, сэр Руперт, был здоров и невредим, то пришлось бы отпраздновать его совершеннолетие в настоящем году.
– Да, в будущем месяце, так как он родился третьего июля.
– Третьего июля, а сегодня четвертое июня: таким образом, он сделался бы совершеннолетним через двадцать девять дней.
Миссис Вальдзингам вздохнула в свою очередь и бросила работу.
– Мне не следовало бы возбуждать в тебе эти воспоминания… Я огорчил тебя, но сегодня я чувствую странное побуждение заговорить об этом… Кинуть взгляд на все прошлое, которое было громадным заблуждением, от начала до конца… Я думаю поневоле, сколько энергии затрачено напрасно, сколько сил израсходовано на сущие безделицы… Сколько я перенес и горя и стыда…
– Артур!.. Артур!.. – воскликнула тоскливо Клерибелль.
– Клерибелль, мы живем вместе уже пятнадцатый год, и в течение этого длинного периода вы даже не спросили меня, что омрачило так мою душу и жизнь! Вы не полюбопытствовали узнать скорбную тайну, под влиянием которой я стал необщительным, невнимательным мужем, недовольным, скучающим, несчастным человеком!
– Я не смела расспрашивать вас об этом, Артур!
– Бедняжка! – произнес он. – Оно, впрочем, и лучше!.. Пусть я лучше умру со своей печальной тайной… Ведь вы похороните меня в лисльвудском склепе, не так ли, Клерибелль?… Вы прикрепите к алтарю мраморную дощечку, на которой будет красоваться надпись, что я был лучшим из мужей и превосходнейшим из людей… Вы сделаете все это для меня, мой белокурый друг?
– Артур, как вы решаетесь говорить таким образом?
– Я говорю так вследствие полного убеждения, что я не доживу до пятидесяти. Сегодня оно стало несравненно сильнее!
– Артур!.. – проговорила с упреком Клерибелль.
На лице ее выразилась сильнейшая тоска, она встала с дивана и приблизилась к мужу.
– Сядьте опять на место, Клерибелль, – сказал ей капитан. – Если шум, раздающийся у меня в голове, если мрачные тени, которые так часто застилают глаза мои, и спазмы, сжимающие грудь мою, если эти симптомы, которые особенно усилились сегодня, не обманывают меня, то я скоро умру! Будьте доброй матерью моему сыну, Клерибелль, и вспоминайте иногда обо мне, когда меня не станет.
– Вы жестоки, Артур! Вы страдали, замечали все эти симптомы и не посоветовались ни разу с докторами. Вы знаете, однако, как вы дороги мне!
– Правда ли это, Клерибелль? Неужели я мог быть для вас тяжелым бременем, скучным, несносным мужем, бездною, поглотившей ваше земное счастье, и лишним человеком?… Клерибелль, рассказать ли вам историю одного молодого военного, служившего со мной… Эта история имеет много общего с моей собственной… Она очень печальна, но глубоко правдива. Хотите ее выслушать?
– Да! – сказала она.
Комната находилась отчасти в полумраке, но лицо капитана освещалось лучами заходящего солнца. Он не смотрел на жену, печальные глаза его приковались к картине необъятного неба, задернутого дымкой облаков.
– Подобно мне, Клерибелль, этот человек был сиротой, младшим сыном фамилии, известной в Соммерсете. У него не осталось никого, кроме дяди, брата его отца, который воображал, что устроил его карьеру, поместив его в армию. Затем он отправился в Индию веселым, беззаботным, небогатым, конечно, но честным человеком. Говорили, что он сражался, как храбрец. Он скоро получил офицерские эполеты и возвратился в Англию. Здесь он влюбился в девушку, которая, доведя его до безумия безмолвным поощрением, изменила данному ему в конце концов слову, – с таким же бессердечием, как вы сделали это со мной, Клерибелль!.. Простите за сравнение!.. Уныние и отчаяние овладели душой его, но он не размозжил голову о камни, а оставил изменницу с намерением отомстить ей. На обратной дороге к своему посту в Индию ему пришлось остановиться дня на два в Саутгемптоне, потому что корабль не был готов к отплытию. Он встретился с товарищами, как и он, беззаботными, молодыми людьми, и начал пить вместе с ними до одурения, чтобы заглушить свои нравственные страдания. Вечером вся компания отправилась в театр. Он мне часто рассказывал все, что он испытывал в тот вечер, Клерибелль. Был одиннадцатый час, когда он вошел в пыльный, почти пустой партер. Занавес был опущен, и офицеру казалось, что изображенные на нем фигуры движутся как живые, а звуки оркестра резали ему слух. В ложах сидели разряженные женщины, улыбавшиеся блестящим офицерам, хохотавшим без умолку. Мой знакомый прислонился головой к спинке кресла и сейчас же заснул. Когда он пробудился, сцена была открыта и публика оглушительно аплодировала. Он посмотрел на сцену, освещенную несколькими коптящими кенкетами, и увидел посреди грязной и грубой декорации прелестное создание. Не хочу утомлять вас, милая Клерибелль, подробным описанием красоты этой женщины. Достаточно сказать, что она обладала той чарующей прелестью, влияние которой почти неотразимо, которая способна ослепить всех и каждого. На ней был мужской эксцентричный костюм, плащ из бархата и атласа, отделанный блестящей золотой каймой, щегольские полусапожки из желтого сафьяна, берет с развевающимися разноцветными перьями. Все позы ее были грациозны и изящны, и ни один художник не сумел бы, конечно, изобразить их прелесть. Так как на сцене шел какой-то водевиль, то ей приходилось петь довольно часто. У нее был прекрасный голос. И когда сослуживец мой вышел из театра, то он был отуманен, ослеплен, очарован!
Возвратившись в гостиницу, он написал ей страстное, безумное письмо. Ему удалось утром проскользнуть за кулисы, и красавица показалась ему при дневном освещении еще вдвое прекраснее, так как выражение ее пленительного лица было более скромно… Клерибелль, моя милая, мне даже совестно досказать вам всю эту скандальную историю!.. Скажу вам одним словом: эта женщина была настоящей сиреной, которая сводила с ума своих поклонников своей обворожительной и дивной красотой. Молодой офицер был настолько влюблен, что он не замечал ничего вне ее. Нужно еще заметить, что корабль должен был отплыть через два дня, а за день до отъезда ослепленный товарищ мой бросился на колени перед сиреной и умолял ее обвенчаться с ним на следующее утро, чтобы отправиться вместе в Индию… Имейте в виду, Клерибелль, что любовь была ни при чем в этой безумной выходке: как он ни был очарован красотой актрисы, но в этом случае им руководило более всего желание отомстить обманувшей его. Он помчался немедленно в Лондон, достал разрешение на брак, вернулся в Саутгемптон и повенчался утром. При выходе из церкви с молодой женой он встретил одного пожилого полковника, с которым был знаком прежде в Калькутте. Увидев новобрачную, полковник стал расспрашивать подробно офицера и заставил его рассказать ему все. Затем, утащив его прямо к себе на квартиру, он счел прямой обязанностью раскрыть ему глаза… Товарищ мой узнал, какова была женщина, которой он поклялся перед алтарем в любви и полном уважении. Полковник доказал ему, сколько горя, позора навлечет на него этот безумный брак. Молодой человек дал ему тут же клятву бросить свою жену. Он собрал все свои банковские билеты, присовокупил к ним ценные золотые часы и многие другие драгоценные вещи, написал несколько строчек, исполненных презрения, свернул все это вместе и, передав письмо и посылку полковнику, отплыл на корабле. Во время путешествия он находился в страшном смущении и волнении. Через несколько лет он встретился с женой – она была уже подругой другого. Он не давал заметить, что он связан с ней неразрывными узами… Позднее он совершил беззаконное дело, которое и предало его во власть очень дурного, хитрого человека.
Да… Но Богу известно, что искушение было неотразимо сильно… Женщина, изменившая когда-то данной клятве, сделалась вдруг вдовой… А он не переставал любить ее безумно, даже при совершении рокового союза. Он отправился в Англию и женился на ней, несмотря на то, что был перед законом уже мужем другой и должен был предвидеть последствия такого рискованного шага… По милости презренного, который хотел высосать его кровь капля за каплей, каждое мгновение его жизни было отравлено угрызениями совести, каждая улыбка любимой им женщины была для него горьким упреком в его безумных действиях… Клерибелль, Клерибелль! Скажите, ради бога, могли бы вы простить такого человека?… Нашли бы вы в себе настолько сострадания, чтоб пожалеть о нем? Были бы вы в состоянии сказать ему: «Умри с миром, и мир твоим костям на могиле! Я помню и знаю, как ты любил меня, и прощаю тебя во имя этой пламенной, неизменной любви!..» Сказали бы вы это или нет, Клерибелль?
Миссис Вальдзингам, бледная, подошла к капитану и, взяв его голову обеими руками, притянула ее и прижала к груди.
– Артур, – прошептала она с ненормальным спокойствием. – Я прощаю тебя… Ведь ты рассказал мне собственную историю. Я прощаю тебя, жалею о тебе и люблю тебя так же горячо и сердечно!
Она взглянула кротко в лицо своему мужу и заметила на нем выражение безысходной тоски.
– Клерибелль… Руперт!.. – произнес он с усилием. – Ребенок жив… Майор… Разведайте… Спросите!..
Он хотел сказать еще что-то, но произнес какие-то непонятные слова и упал грузно на пол, пока жена его звала на помощь слуг.
Слуги, прибежавшие на крик миссис Вальдзингам, нашли капитана распростертым на ковре. Его сжатые губы были покрыты пеной. Его отнесли в спальню, а грум во весь опор поскакал за врачом. Капитан потерял способность говорить. Проведя еще сутки в бессознательном состоянии, он скончался спокойно на руках Клерибелль. Из Лондона приехали два знаменитых доктора, но они не могли сделать больше того, что сделал лисльвудский незнаменитый доктор. Артуру Вальдзингаму предсказывали часто, что ему суждено умереть от удара, и это предсказание исполнилось.
Глава XII * * *
В это самое лето некто Джозеф Слогуд поучал каждое воскресенье прихожан, собиравшихся в небольшой часовне, выстроенной в отдаленном углу Ольд-Кент-Рида. Эта часовня служила прежде мастерской одному архитектору; затем она последовательно служила помещением летнего театра, затем для стрельбы в цель, для продажи посуды, пока ее владелец не потерял терпения. Он принялся усердно за ее перестройку, начал пилить, рубить и не давать себе положительно отдыха, пока из-под его рук не вышла часовня, которую он оштукатурил и назвал «Литль-Бела».
Но прежде чем обустраивать часовню и украшать ее кафедрой в виде рамки, прежде чем разделить ее на маленькие четырехугольники, расставив симметрично дубовые скамейки, строитель позаботился найти такое общество, на карманы которого он мог вполне рассчитывать: надо же было брать с приходящих хоть что-нибудь за их право сидеть на жестких скамейках, и тем вознаградить его за труды. После зрелых размышлений он пришел к убеждению, что важнее всего отыскать проповедника, чтобы привлечь к себе публику. Поиски его не замедлили увенчаться успехом: три недели спустя по устройстве часовни жившие поблизости граждане были разбужены мощным голосом, раздававшимся с полированной кафедры. Любопытство принудило их послушать проповедника. Некоторые ушли, недовольные его «поучением», не дослушав до конца. Некоторые осмелились даже заговорить, что слова проповедника отзываются резкостью, несогласной с духом смирения и любви.
Но, с другой стороны, несколько человек из местного купечества провозгласили проповедника великим человеком, лучезарным светилом.
В окрестностях «Литль-Бела» начали ходить самые разнообразные слухи относительно места, где владелец часовни отыскал проповедника. Одни утверждали, что он нашел его в торговом заведении, другие – что он встретил его исполняющим трудную обязанность статиста, третьи – что он встретил его в оживленной беседе с двумя-тремя товарищами и был поражен его громким басом. Но, что бы ни говорили, вскоре все убедились, что мистер Джозеф Слогуд стоит прочно на месте и пошлины, взимаемые с прихожан за скамейки, так и сыплются в сундуки хозяина часовни.
Прошло две недели со времени смерти капитана Вальдзингама, когда мистер Слогуд произнес в одно жаркое знойное воскресенье длинное поучение. Отличаясь привычной резкой нетерпимостью, он сыпал обвинения на головы торговцев и на кокетливые праздничные наряды присутствующих женщин. Он громил своих слушателей, противоречил часто самому себе, но говорил с энергией. Он был высокого роста, широкоплечий, немного сутулый, с бледным, смуглым лицом, черными бровями, очень светлыми волосами и зеленовато-желтыми глазами, которые менялись на солнце, как у кошки. Читатель, вероятно, узнает его тотчас по кошачьим глазам. Он, впрочем, изменился: он одет поприличнее, в опрятное белье; но руки его грязны, как в то былое время, когда он курил трубку у лисльвудской сторожки. Манеры его тоже стали менее грубы, но все же сохранили свою прежнюю резкость. Это было заметно, когда он в конце проповеди услышал шум открывшейся неожиданно двери и увидел вошедшую новую личность. Собрание повернулось, взглянув на смельчака, дерзнувшего войти в подобную минуту; прибывший оставался возле самого входа, как будто ожидая окончания поучения мистера Слогуда. Свет падал на него и позволял увидеть совершенно отчетливо его светло-русые волосы, блеск золотой цепочки со множеством брелоков, костюм светлого цвета и лаковые сапоги. Он стал старше и полнее, но не потерял ни былой изысканности, ни своей привлекательности, симпатичной наружности.
Мистер Слогуд оборвал поучение, разъяснив его последние шестнадцать пунктов менее чем в шестнадцати фразах, – и удалился с кафедры. Он подошел к владельцу светло-русых усов, стоявшему в дверях, и с почтительным видом последовал за ним к выходу из часовни.
– Вот вы как развлекаетесь, мистер… – обратился к нему изящный господин.
– Слогуд, милостивый государь! – договорил оратор.
– Слогуд – хорошо. Новое имя и новое занятие. Вы, очевидно, недаром всё читали в Лисльвуде книги духовно-нравственного содержания. Ваше поучение было донельзя интересно… Дорого ли вам платят?
– Довольно мало, милостивый государь, но в соединении с тем небольшим вспомоществованием, которое…
– Вы получаете от вашего брата, не так ли, мистер Слогуд? Будьте же так добры, припомните, что я не знаю относительно ваших расходов и доходов: получаете ли вы тридцать тысяч фунтов стерлингов или тридцать шиллингов – все это меня буквально не касается.
– Вы довольно суровы ко всем людям вообще, господин майор, – проворчал Слогуд, смотря в проницательные голубые глаза, устремленные на него во время беседы.
– Я суров к людям, мой добрый Слогуд, – повторил майор. – Да ведь мне нет до вас ни малейшего дела!.. Я отрицаю явно даже знакомство с вами. Если вы завтра сядете на скамью для свидетелей, что вы, например, можете рассказать обо мне? Ничего, мистер Джозеф… то есть, мистер Слогуд… Я еще никогда не изменял принципам. Все мои связи с прошлым ограничиваются следующим вопросом, который я, заметьте, задаю себе мысленно: «Что может показать этот человек относительно меня, если он попадет на свидетельскую скамью? Ничего! Ну, так мне и нечего бояться!» Теперь, достойный друг, мне бы очень хотелось видеть вашего сына. Мой камердинер Соломон уверяет меня, что он прелестный мальчик. Идемте же к нему!
– Вы хотите… – произнес нерешительно мистер Слогуд и взглянул с очевидной тревогой на майора.
– Да, хочу его видеть… Не придавайте же великого значения самым простым словам!.. Повторяю вам только: покажите мне сына!
Мистер Слогуд поклонился и, войдя в маленький домик, стоявший в переулке, в конце которого находилась часовня, ввел майора в гостиную. Белокурая женщина с истомленным лицом готовила чай на столе у окна.
– Он наверху, майор, – сказал мистер Слогуд. – Я держу его в совершенном удалении от света, согласно приказаниям, полученным от вас.
– Не моим приказаниям. Прошу вас помнить это, я ни при чем в секвестре вашего сына.
Мистер Слогуд смолчал, но кошачьи глаза его сверкнули на майора ненавистью.
У окна перед столиком сидел молодой человек. Он держал в руках какую-то газету, но смотрел машинально через нее на двор, где веселились дети. На столе валялись окурки папирос и груда объявлений, порванных и засаленных. На камине лежала колода карт, коробка с домино, несколько поизмятых театральных афиш и пара лайковых перчаток, бывшая прежде белой. Молодой человек даже не шевельнулся при входе мистера Слогуда и только произнес с заметной досадой:
– Это вы? Так как вы пришли сюда, то, конечно, позволите мне выйти из этой клетки, где просто задыхаешься от пыли и жары!
Мистер Слогуд хотел сказать что-то в ответ, но майор предупредил его.
– Милый молодой друг мой, – сказал он торопливо, – с вами здесь обращаются чрезвычайно дурно.
«Милый молодой друг» вскочил проворно с места. Его бледное, болезненное лицо немного оживилось.
– Наконец-то вы явились! – воскликнул с явной радостью молодой человек. – Мне уже опротивело сидеть в этой тюрьме!.. Мне страшно опостылели и все эти уловки, и вся эта таинственность… Кто я или что я? Что за разница между мной и другими людьми?
Щеки его покрылись болезненным румянцем, зрачки расширились, и бледные, тонкие губы нервно подергивались. Майор Варней смотрел на него улыбаясь и думал про себя: «Соломон – человек глубоко проницательный… Альфред Соломон – великий человек!»
– Ну что же? – продолжал юноша. – Неужели вы не можете объяснить, наконец, кто я и что скрывается под этой таинственностью?
– Садитесь, милый мой! – сказал мягко майор.
Молодой человек уселся рядом с ним. Мистер Слогуд, стоявший неподвижно на месте, смотрел на них, по-видимому, с полным недоумением.
– Вы спрашиваете меня, – начал майор Варней, взяв дружелюбно руки молодого затворника, – вы спрашиваете, кто вы, что вы и что все это значит? Милое дитя, эти вопросы чрезвычайно важны, и я еще не в состоянии ответить вам на них. Но ведь я всеми силами добиваюсь возможности скорее удовлетворить ваше любопытство. Солнце блеснет не скоро, но заря занимается! Да, молодой мой друг, мне действительно кажется, что она занимается!
– К черту вашу зарю, – проговорил с досадой молодой человек. – Зачем вы не даете мне прямого объяснения? Почему не хотят ответить мне решительно на все вопросы?… Если я спрошу этого, – продолжал он, указывая на мистера Слогуда, – да, если я спрошу его, о чем бы только ни было, что я тогда узнаю?… К чему играть словами, к чему ваши увертки, к чему мистификация? Когда мне иной раз вздумается спросить у этого жида, который является к нам довольно часто (а я люблю его; это хороший малый), то и он отвечает точно так же уклончиво. Вы все сговорились держать меня во мраке полнейшего неведения… Все! – повторил он с бешенством.
Майор нежно поглаживал его бледную руку.
– Исключая меня, исключая меня, дорогое дитя, – успокаивал он, – я никогда не принимал участия ни в каком заговоре. Разве это возможно? Если не ошибаюсь, мы напали на след прямого заговорщика, и я употреблю зависящие средства, чтобы уличить его.
Слогуд сделал движение, как будто бы хотел сказать что-то в ответ, но майор устремил на него блестящие глаза, и с таким выражением, что слова так и замерли у него на губах.
– Посмотрите на этого человека, мой друг! – продолжал майор, указывая на Слогуда. – Вообразите себе, что он совершил некогда такое преступление, которое не только отразилось губительно на вашей бедной молодости, но помрачило счастье еще одной особы, для которой вы были чрезвычайно дороги. Представьте далее, что я из сострадания к упомянутой особе решился раскрыть заговор, невинной жертвой которого вы стали.
В продолжение этого монолога майор не выпускал руки бледного юноши, не сводил глубокого и пристального взгляда с мистера Слогуда. Когда же Гранвиль Варней окончил свою речь, Слогуд воскликнул запальчиво:
– Замолчите! Это недоразумение подлежит разъяснению!
Майор в ту же минуту охладил его вспышку выразительным жестом, причем его красиво очерченные губы прошептали чуть слышно имя Джозефа Бирда. Мистер Слогуд ушел в другой конец комнаты и, присев на кровать, принялся читать Библию. Молодой человек наблюдал за всем этим с лихорадочным нетерпением. Схватив руку Варнея, он воскликнул порывисто:
– Какой же это заговор!.. Что это?… Расскажите!.. Да отвечайте же мне!
– Нет, дитя, вы должны вооружиться терпением, – сказал ему майор. – Доверьтесь мне вполне! Я ваш друг и спаситель. Да, от меня зависит доставить вам и имя, и большое богатство, и, что больше всего, я могу возвратить вам даже и ласки матери… Мы сделаем все, что только нам по силам, чтобы открыть эту тайну. Если даже окажется надобность подкупить этого человека – мы подкупим его! Мы не будем скупиться. Мы далеки от мысли корить кого бы то ни было. Мы хотим исключительно узнать голую правду. Но для этого нужно непременно терпение… Верите ли вы мне, дорогое дитя?
– Да! – сказал с увлечением молодой человек.
– Вы признаете меня за друга, за благодетеля, без которого вы могли бы умереть в этой ужасной комнате? При помощи которого вы можете вернуться к своим близким родным, добиться своих прав и своего богатства?
– Каких прав и богатства?
– О, не все ли равно!.. Верите ли вы мне?
– Верю, верю, конечно!
– Хорошо. А теперь до скорого свидания! Ждите меня на днях… Ну-с, мистер Слогуд, проводите меня!
Молодой человек схватил руку майора и поднес ее почтительно к губам. Мистер Слогуд последовал за своим посетителем, но, спустившись по лестнице, он спросил его грубо:
– Что это означает?… Я вовсе не желаю, чтобы мной могли пользоваться таким нахальным образом! Что это за проделки и странные шутки?
– Это такие шутки, которые способны окончиться для вас чрезвычайно худо, если вы будете вмешиваться в чужие дела. Если же вы будете следовать советам господина Соломона и помнить его уроки, они тогда послужат только для вашей выгоды… Вами не хотят пользоваться, – продолжал майор с величайшим презрением, – хотя вы, разумеется, не больше как орудие. Вы с самого начала были только орудием, жалким, слепым орудием, тупоумным, невежественным, неспособным помочь и самому себе, а не только другим! Делайте, что вам велено, без всяких рассуждений. Попробуете вмешаться в дела умных людей – и вы тотчас услышите кое-что о Джозефе Бирде. Прощайте, мистер Слогуд!
Глава XIII Объявление
На четвертый день после своего посещения Слогуда майор сидел с женой за завтраком. Щеки миссис Варней значительно поблекли со времени ее последнего отъезда из Лисльвуда, но прекрасные волосы ее лежат еще роскошными волнами на плечах. Она чем-то расстроена и ничего не ест, а довольствуется тем, что быстро разрушает превосходный паштет. На лице ее выражается в эту минуту почти дикая радость, а сверкающий ножик, которым управляет ее нервно дрожащая элегантная ручка, сильно напоминает собою кинжал. Быть может, миссис Варней замечает сама такое обстоятельство, потому что она начала следить с особенным вниманием за движением стали и вдруг проговорила:
– Как досадно, что я не имею возможности убить кого-нибудь перед началом завтрака! Это бы возбудило, конечно, аппетит сильнее рейнвейна… Гранвиль Варней, мне страшно опротивел подобный образ жизни… Я бы желала снова превратиться в актрису, жить опять в Саутгемптоне. Мне бы хотелось снова вызывать восторг в тупоумной, полупьяной толпе, хотелось бы вернуть свою светлую молодость и…
– Невинность, конечно! – договорил майор, крутя свои усы и кладя в стакан сахар.
– Повторяю вам, что мне опротивела жизнь, которую я веду теперь. Мне надоела эта вечная борьба, для того чтобы слыть богатыми людьми, прибегая для этого к всевозможным проделкам!.. Мы начинаем стариться, пора остепениться и довольствоваться тем, что у нас есть в действительности.
– Это разумно, Ада, вы выражаетесь, как мудрец и философ, и скоро мы действительно начнем другую жизнь.
– Гранвиль, не забывайте, что у вас нет решительно ничего, кроме жалованья.
– Да, в данную минуту, но через месяц будет уже совсем иное. Мне надоела служба, и я не возвращусь больше в Индию, Ада! Я хочу удалиться куда-нибудь в деревню, чтобы провести там с вами, кумир моей души, остаток своих дней… Да, великое счастье не признавать себя виновным в низких действиях! Спокоен только тот, кто никогда не сделал ни малейшего зла!.. Знаешь ли, что мы можем рассчитывать на гостеприимство сэра Руперта Лисля?
Черные глаза миссис Варней обратились к нему с глубоким изумлением.
– Сэра… Руперта? – произнесла она.
– Лисля, – добавил майор. – Этот молодой человек, выстрадавший так много, должен благодарить меня за то, что я возвратил ему и имя и богатство… Несчастный милый мальчик! Он был жертвой самой недостойной интриги.
– Но, не хотите же вы…
– Допустить его оставаться вдали от нежной матери, без имени и звания – нет, Ада, не хочу!.. – произнес майор, крутя свои усы с видом негодования и благородной гордости.
– Я бы желала, Варней, чтобы вы перестали разыгрывать комедию, – заметила она с заметным нетерпением.
– Разыгрывать комедию? Разве я это делаю? Ведь у меня на совести не лежит преступление, которое я должен бы скрывать перед вами, милая… Я узнал, что один молодой человек был с самого детства жертвой чужой подлости, – и что же я предпринимаю? Я немедленно же стараюсь разузнать все подробности этого преступления. Когда я окончу эту задачу, то выведу все на свежую воду. Нечего говорить вам, что этот милый мальчик будет питать ко мне вечную благодарность. Ну а я, разумеется, постараюсь извлечь всевозможные выгоды из подобного чувства.
– Но люди не всегда бывают благодарны! – сказала миссис Варней.
– Действительно, но все помнят чужую преданность. Вообще неблагодарность развита в человечестве. Но от сэра Руперта Лисля я жду только хорошего.
– И вы воображаете, что он лучше других? – спросила миссис Варней с презрительной улыбкой.
– Повторяю вам, Ада, что не жду от него ничего, кроме добра, и не скажу вам более ни единого слова… Он может быть и лучшим и худшим из людей, я не боюсь его ни в том, ни в другом случае. А если он окажется действительно чудовищем, то я тогда, пожалуй, буду его бояться еще гораздо менее!
– Послушайте, Варней, я, право, не имею никакого желания разгадывать загадки.
– Милая моя, да у вас едва ли хватит ума на такую работу. Вы, кажется, вообще никогда не ломали свою очаровательно красивую головку над разрешением этих таинственных загадок. Вы созданы единственно для того, чтобы блистать чудной прелестью, петь и еще тратить деньги. Ну, вы это исполнили: вы были хороши, израсходовали много песен и напевали деньги… Виноват! Я ошибся: вы пели много песен и потратили много денег в течение вашей жизни. Вы, одним словом, исполнили свое предназначение, и вам стремиться не к чему… Вот где таится творчество, – заключил майор, ударив себя по лбу серебряной ложечкой.
Красивая собеседница его пожала нетерпеливо плечами и взяла «Times», который уже был прочитан майором.
– Просмотрите список рожденных, умерших и соединившихся браком и сообщите мне…
– А! что же это такое! – воскликнула миссис Варней, когда взгляд ее упал на одно объявление, помещенное в начале газеты.
– Прочитайте вслух, Ада, и я вам разъясню, что вам угодно знать.
– «Если эти строчки дойдут до сведения майора Гранвиля Варнея, Г. Е. И. К. С. или кого-либо другого, знающего настоящее местопребывание этого джентльмена, то просят пожаловать немедленно к господам Сельбурн и Сельбурн, стряпчим в Гроз-Ин-Плас…» Что же это такое, Гранвиль?
– Показать вам, как я намерен ответить на это? – спросил майор.
– Да.
Гранвиль Варней встал и, усевшись к прекрасному дубовому бюро, написал быстро несколько строчек. Затем он передал их жене, между тем как он сам надписывал конверт.
Ответ его был следующий:
«14, Кенсингтон-Гор, 30 июня 18…
Миссис Вальдзингам!
Вспомнив, что господа Сельбурн и Сельбурн в Гроз-Ине были поверенными вашего семейства, мне пришло в голову, что объявление, помещенное в сегодняшнем номере „Times”, исходит от вас. Если моя догадка верна, если я могу быть вам полезным тем или другим путем, то распоряжайтесь мною, как вам будет угодно. В противном случае прошу извинить меня за беспокойство. Я чувствую такую непреодолимую антипатию к адвокатам, что скорее решусь подвергнуться вашему неудовольствию, чем войти в сношения с подобными людьми.
Честь имею быть вашим, милостивая государыня, покорнейшим слугою.
Гранвиль Варней».– Почему вы думаете, что это объявление сделано миссис Вальдзингам? – спросила миссис Варней, возвращая мужу письмо.
– Потому что я ждал этого ежедневно со смерти Вальдзингама. Я твердо убежден, что он перед кончиной открыл своей жене крайне важную тайну. Если он сделал это, то я очень доволен, именно потому, что миссис Вальдзингам будет принуждена обратиться ко мне, а я уж подготовился к разговору с нею. Если же он умер, не сказав ей ни слова, то мне необходимо принять уже на себя инициативу в деле и обратить на себя внимание миссис Вальдзингам. Вот это объявление, которого я ждал с великим нетерпением, убеждает меня, что мой бедный Артур не унес с собой тайну в глубокую могилу. Этот дорогой друг не мог поступить иначе: он был верен себе, а мне очень полезен. О Ада, жизнь моя! К чему грешить самим, когда знаешь, что можешь извлечь без труда пользу из чужих прегрешений?!
Майору не пришлось томиться ожиданием ответа на письмо. На другой же день утром после его отсылки перед квартирой майора остановился экипаж, и через несколько минут Соломон, камердинер и фактотум Гранвиля, подал своему господину визитную карточку Клерибелль Вальдзингам.
Майор приказал слуге ввести посетительницу в библиотеку: это была небольшая комнатка, выходившая окнами в сад, в котором красовался бассейн с золотыми рыбками. Прежде чем выйти к миссис Вальдзингам, майор вынул из кармана маленькое зеркальце и начал машинально расчесывать усы.
«Следовало бы побриться, – подумал он невольно. – А между тем усы белокурого цвета придают лицу чрезвычайно кроткий и добродушный вид».
Он нашел миссис Вальдзингам стоявшей у окна и смотревшей выжидающе на дверь. Она была бледна, но казалась спокойной, как и прежде.
– Миссис Вальдзингам, – проговорил майор, подавая ей руки. – Так это действительно вы напечатали объявление в «Times» и пожаловали теперь ко мне, чтобы воспользоваться моими услугами? Это очень похвально с вашей стороны. Я приехал из Индии еще очень недавно и всего день назад узнал, что мой несчастный и незабвенный друг…
Но миссис Вальдзингам, не имея уже сил скрывать свое волнение, перебила майора:
– Майор Варней! – воскликнула она. – Я приехала к вам по серьезному делу. Я разыскала бы вас еще гораздо раньше, но горе и печаль, вызванные потерей…
Она слегка замялась, и на бледных щеках ее внезапно выступил яркий румянец.
– Смерть капитана Вальдзингама отняла у меня даже способность думать, – продолжала она. – Советники мои сильно протестовали против моего личного переговора с вами… Они не понимают моего положения! Но я рискнула всем под влиянием предложить вам вопрос. Вы могли быть в прошедшем моим злейшим врагом; вы могли им остаться… Но моя голова не в силах выносить тех тяжелых сомнений, которые осаждали ее в последние три месяца!.. Майор Варней, умоляю вас именем вашей матери ответить на вопрос мой с полной откровенностью!
Она кинулась на колени и с мольбой протянула к нему свои нежные руки.
– Скажите, ради бога… Мой сын… сэр Руперт Лисль… жив ли он или умер?
Майор так широко раскрыл глаза, что нужно было опасаться, как бы они не остались навсегда в подобном положении. Он с участием поднялся и посадил на кресло взволнованную женщину.
– Успокойтесь, сударыня! – сказал он ей приветливо. – Вы ставите меня в большое затруднение… Чем вызвана подобная несбыточная мысль?
– Нет, эта мысль не бред расстроенного мозга! – ответила она. – Капитан Вальдзингам хотел открыть мне тайну за несколько минут до удара, который свалил его в могилу!
– Хотел?… – спросил тревожно и поспешно майор.
– Да, но он, к сожалению, мог только произнести несколько странных слов, которых тем не менее было вполне достаточно для того, чтобы понять, что мой сын еще жив и что вам, майор, известна эта тайна.
– Сударыня, потрудитесь подумать, насколько все это невероятно. Я жил в Индии со времени исчезновения вашего сына, я вернулся сюда только месяц назад… Можно предположить, что мозг моего бедного друга был не совсем в порядке, так как нет ни малейшего повода думать, чтобы ваш сын был спасен! Какие причины могли бы побудить капитана Вальдзингама скрывать это от вас, если б сэр Руперт был на самом деле жив? Да и что мог он выиграть, участвуя в таком ужасном преступлении?
– Ничего, ничего! Его благосостояние должно было погибнуть вместе с моим ребенком, – сказала Клерибелль.
– Ну, так что же могло заставить и его, и кого бы то ни было держать в тайне существование вашего сына?… Многоуважаемая миссис Вальдзингам, все это очень странно и просто непонятно!.. Я едва осмеливаюсь высказать вам, насколько ваш вопрос озадачил меня!
Майор проговорил последние слова с очевидным смущением, которое проглядывало отчасти в его взгляде, устремленном на гостью.
– Вы едва осмеливаетесь высказать мне… О, объясните мне, что значит эта фраза! – сказала Клерибелль. – Я глубоко уверена, что вам известно то, чего вы не хотите сообщить мне теперь.
– Нет, нет, – ответил он, начиная ходить взад и вперед по комнате, как будто погрузившись в глубокое раздумье. – Все это так несбыточно и так невероятно и, по правде сказать, настолько невозможно…
– Сжальтесь, скажите мне, – перебила она. – Примите во внимание, что если вам известна участь моего сына, если вы поможете мне возвратить ему имя и богатство его, то половина этого громадного богатства перейдет в ваши руки.
Майор сделал движение, похожее на то, которое он сделал бы, если бы кто-нибудь ударил его в лоб. Он выпрямился и, обратив глаза на миссис Вальдзингам, проговорил величественно:
– Милостивая государыня, искренне советую вам никогда не пытаться подкупать офицера нашей индийской армии. Советую вам тоже не обещать богатств, составляющих собственность вашего сына. Если только он жив, то будет, как вы знаете сами, скоро совершеннолетним и, верно, не захочет уступить своих прав.
– Простите меня, майор, я – безумная женщина!.. Простите и скажите мне все то, что вам известно о моем бедном Руперте!
Майор не дал ответа, а продолжал ходить, как и прежде, по комнате, все еще погруженный в глубокое раздумье.
– Скажите, миссис Вальдзингам, есть ли у вас портрет сэра Руперта Лисля? – спросил он неожиданно.
Она распахнула шаль и, сняв с шеи золотую цепочку с медальоном, подала ее молча и покорно майору. В медальоне заключался миниатюрный портрет сэра Руперта Лисля на слоновой кости, писанный незадолго до страшной катастрофы.
Майор долго рассматривал его и даже подошел к ближайшему окну, чтобы видеть его лучше.
– Сударыня, – начал он с очевидным волнением, – видит бог, как мне страшно произнести даже слово, которое могло бы вовлечь вас в заблуждение при настоящем случае… Но я невольно думаю, что ваш сын еще жив! – добавил он с энергией.
Грустное лицо миссис Вальдзингам покрылось страшной бледностью, и она без чувств упала на ковер.
Глава XIV Майор разыгрывает роль филантропа
– Это не особенно-то хорошо, – пробормотал майор, видя, что посетительница потеряла сознание. – Бедняжка!.. И все это результаты любви к болезненному, бледному, ничтожному созданию… Кто бы мог вообразить, что существуют люди, умеющие чувствовать так живо и глубоко?… Сказать ли это Аде? Нет, это может вызвать дурные результаты! Бог весть, чего не нарассказал ей тупоумный Артур!
Он позвонил, и Соломон явился немедленно в дверях.
– Пришлите сюда горничную миссис Варней с холодной водой и всеми вам известными при обмороках средствами, – сказал ему майор. – Миссис Вальдзингам дурно!
Запах солей привел миссис Вальдзингам в чувство, и ее усадили заботливо в кресло, которое придвинули к открытому окну. Она оглянулась с видом недоумения, но при виде майора вспомнила происшедшее. Подобно всем спокойным или бесстрастным людям, она великолепно владела собой.
– Благодарю, мне лучше, – проговорила она. – Не беспокойтесь больше, – обратилась она к Соломону и горничной. – Итак, майор Варней, я готова опять продолжать разговор и не буду больше прерывать вас таким неприятным сюрпризом.
Слуги тотчас ушли, и майор со своей гостьей остались с глазу на глаз. Он стал за ее креслом, она тихо взяла его руки в свои и смотрела в глаза его с живейшим интересом.
– Будьте же так добры и объясните мне значение ваших слов! – воскликнула она. – Вы не стали б, конечно, даже произносить их, если б не имели намерения раскрыть мне их сокровенный смысл.
Майор придвинул стул и уселся с ней рядом.
– Это святая истина! – ответил он серьезно. – Я во всю свою жизнь не сказал необдуманно ни одного слова, если вы обещаете выслушать меня совершенно спокойно, то убедитесь сами, что и на этот раз я не изменяю тоже этому благодатному и разумному правилу! Итак, вы обещаете выслушать все спокойно?
– Даю вам в этом слово!
Она не отрывала от него жадных глаз. Его взгляд был так ясен и так чистосердечен, что смотреть так способен лишь тот, кто имеет чистую совесть и не боится самых проницательных глаз.
– Я сейчас сказал вам… не забудьте, однако, вашего обещания, что я имею основание думать, что ваш сын еще жив, – начал он осторожно. – Но человечеству свойственно ошибаться. И все мы заблуждаемся так грубо и так часто, что я прошу вперед не слишком увлекаться моими предположениями.
– Умоляю вас выразиться немного пояснее! – сказала миссис Вальдзингам почти нетерпеливо.
– Это тоже мое душевное желание… Итак, я говорил, что я предполагаю, что ваш сын еще жив. Я должен, однако, сообщить вам, на каком шатком основании зиждется подобная… догадка.
– На шатком основании? – повторила с глубокой тревогой Клерибелль.
– Да, миссис Вальдзингам, это очень естественно… Я вообще обладаю счастливой способностью хранить в памяти лица… Плохо было бы дезертиру, которого судьба привела бы случайно к майору Гранвилю! Я бы сейчас узнал малейшую черту его, каждый взгляд его глаз, если б он пробыл в полку моем не больше пяти дней, а исчез бы потом на целых десять лет. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как я не видел сэра Руперта Лисля. Если он только жив, то должен быть уже взрослым… Но, несмотря на это, я почти убежден, что я видел его три недели тому назад!
– Майор Варней!..
– Не забудьте вашего обещания… Тому назад недели три я с женой был приглашен в «Олимпийский театр». Наша ложа была в первом разряде, так что партер был весь перед нами. В первом ряду кресел сидел какой-то молодой человек, который с таким живым интересом следил за игрой актеров, что невольно обратил на себя внимание жены. Она указала мне на него… Я не верю в привидения, миссис Вальдзингам, но в этот вечер мне действительно показалось, что я вижу дух вашего сына, сэра Руперта Лисля!
Майор остановился.
– Правда ли это? Может ли это быть?! – воскликнула с волнением Клерибелль Вальдзингам.
– Слушайте меня дальше, потом судите меня… Так как я отрицаю всякие привидения, то сказал сам себе: я никогда не видел еще такого сходства! Оно так поразительно, что я чувствую даже существенную надобность узнать, кто этот бледный, красивый, симпатичный молодой человек. Он резко отличается от других своих сверстников, и я должен узнать о нем во что бы то ни стало! У меня есть весьма способный камердинер, Альфред Соломон, которого вы видели. Он был тогда в театре и ждал нас в партере. Я знаком приказал ему подойти к нашей ложе и указал ему на молодого человека. «О сэр, я узнаю его везде, по его сходству…» – воскликнул Соломон. «По какому?» – спросил я. – «Он похож замечательно на сэра Руперта Лисля». – «Хорошо, Соломон, – ответил я ему, так как я постоянно общаюсь с прислугой чрезвычайно гуманно. – Это странное сходство побуждает меня узнать, кто этот милый молодой человек. Последуйте за ним вплоть до его квартиры, достойный Соломон, и постарайтесь собрать о нем подробнейшие сведения…»
– И… что же он узнал?
– Вы, миссис Вальдзингам, не можете представить себе, каков мой Соломон! Он последовал тихо за этим незнакомцем до отдаленной улицы, в соседстве Ольд-Кент-Рида, и ему удалось узнать в конце концов, что имя его – Слогуд. Отец его методический проповедник и живет на своей настоящей квартире уже несколько лет. Все это как будто не предвещало много хорошего. Но все же я задумал познакомиться с этим молодым человеком.
– И были у него?
– Да, на другой же день. Я видел и отца его, методического проповедника Джозефа Слогуда… Ну и что же вы думаете: кого я узнал в нем?
– Я не могу придумать, – сказала Клерибелль.
– Прежнего слугу в Лисльвуд-Парке, сторожа, раскаявшегося браконьера, которого звали, насколько могу вспомнить, Жильбертом…
– Арнольдом?
– Да, Жильбертом Арнольдом, – продолжал майор Варней. – Одно это дало мне повод предположить, что между сэром Рупертом и так странно похожим с ним молодым человеком, виденным мною в театре, могло быть нечто общее… Скажите, миссис Вальдзингам, не припомните ли вы, чтобы между вашим сыном и сыном браконьера существовало сходство?… Помните или нет?
Предлагая вопрос, майор Варней взглянул в лицо Клерибелль.
– Не могу вам сказать, чтобы я когда-либо замечала его, – ответила она с некоторой надменностью. – Многие говорили об этом сходстве Руперта с мальчишкой Арнольда, но я не находила, чтобы мой красивый сын был похож на несчастного, оборванного Джеймса.
– Вы самый компетентный судья в подобном случае!.. Мистер Джозеф Слогуд, или Жильберт Арнольд, или как там вообще его ни называли, не казался особенно обрадованным, когда увидел меня. Он скрывает свое настоящее имя – а это подозрительно! Он очень испугался и даже обозлился, когда я намекнул ему на прежнюю его обязанность в Лисльвуде, и начал отрицать тождественность Слогуда с браконьером Арнольдом. Когда я попросил его показать мне сына, он стал было увертываться, лгать и в конце концов отказал мне в просьбе. Тут-то я основательно заподозрил его – и поставил ему отличную ловушку: я оставил его, но добился свидания с молодым человеком… Несчастное создание! Бедный, жалкий ребенок! Кто бы он ни был в сущности, кем бы он ни казался, но он, во всяком случае, не сын Жильберта Арнольда.
– О, умоляю вас, говорите яснее!
– Я не могу сказать ничего яснее этого! – возразил ей Варней. – Я только в состоянии повторить еще раз: я думаю, что этот молодой человек, живущий у Жильберта, бывшего браконьера, мнимого методического священника, – не родной сын его. Полагаю, что он происходит от лиц, занимавших высокое положение в свете, и сделался жертвой какого-нибудь замысла, в котором играл роль этот Жильберт Арнольд… Вот, миссис Вальдзингам, все, что я знаю сам! Я не могу сказать вам ничего, кроме этого, пока вы сами лично не взглянете на этого симпатичного юношу!
– О, ведите меня к нему безотлагательно! Такая неизвестность тяжелее самой смерти!
– Да, но вы тем не менее должны иметь терпение… Должны владеть собою! В подобных обстоятельствах нельзя себе дозволить действовать слишком быстро: один неверный шаг может погубить все дело. Осторожность становится для нас почти обязанностью. Примите еще к сведению, что ведь нам придется бороться с хитрецом и страшным лицемером. Нельзя приступать к делу до вашего свидания с молодым человеком. Я вполне полагаюсь на ваш непогрешимый материнский инстинкт. Всмотритесь зорко в юношу, поговорите с ним, изучите каждую черту его лица, каждый взгляд его глаз, и если после этого вы скажете решительно: «Гранвиль Варней, это мой сын, сэр Руперт Лисль!» – то я переверну тогда небо и землю, чтобы достигнуть возможности доказать это свету и помочь вам вернуть права вашему сыну! До тех пор нам, конечно, нечего делать: нашей исходной точкой будет минута, в которую вы, миссис, разрешите вопрос. Придется удалить куда-нибудь Арнольда, чтобы вы могли увидеться с молодым человеком. Это может устроить мой слуга Соломон; если вам угодно, то сегодня же вечером. Если я ошибаюсь и напрасно заставил вас страдать и волноваться, то простите мне невольную вину. В случае же, если последние слова моего друга указали вам прямо существование тайны и вам при моей помощи удастся разгадать ее…
– То я… буду вам глубоко благодарна! Мой сын будет вам сыном. Все наше состояние будет вместе и вашим, так же как и наш дом.
– Достаточно, достаточно, – перебил майор весело. – Миссис Вальдзингам, я попросил бы вас отдохнуть и прилечь на несколько часов. Я пришлю вам что-нибудь прохладительное и немного мадеры, которая совершила столько же переездов, сколько сделал их я. Прошу вас убедительно подкрепить свои силы: не забудьте, что вечером вам предстоит принять решение, от которого будут вполне зависеть последующие действия! Прощайте же, миссис Вальдзингам, до наступления сумерек!
Майор взял руки Клерибелль и сжал их с дружелюбием. Он принял самый кроткий и внушительный вид, а его золотистые шелковистые волосы, блестевшие на солнце, придавали его красивому лицу еще более прелести.
Глава XV Жильберта Арнольда принуждают говорить
Достойный камердинер майора, Соломон, весьма ловко заставил мнимого проповедника удалиться из дома, и даже на довольно продолжительный срок. Начало уж смеркаться, когда миссис Вальдзингам с майором поехали в его темно-коричневом и щегольском купе в Ольд-Кент-Рид. Майор Варней приказал кучеру остановиться на углу переулка, в конце которого виднелась известная часовня.
– А теперь, миссис Вальдзингам, – сказал Гранвиль, – пожалуйте мне руку, мы дойдем пешком до квартиры Слогуда. Я отослал купе несколько в сторону, опасаясь, что ваш прежний сторож может вернуться, пока мы у него, и узнать всю суть дела.
Но Клерибелль, казалось, не слушала Варнея. Она шла машинально и вдруг, остановившись, положила руку на плечо майора и спросила со странной, почти дикой решимостью:
– Майор Варней, скажите! Молодой человек, которого я увижу сейчас, – сын ли мой или нет?…
Луна уже взошла, и матовый свет ее озарял бледное лицо красивого Варнея, так что он был теперь еще интереснее, чем днем. Он кинул на свою спутницу проницательный взгляд и ответил ей с чувством собственного достоинства:
– Миссис Вальдзингам, вы – женщина одинокая, беспомощная и к тому же вдова дорогого мне друга. Верьте, что я не способен обмануть вас сознательно, и потому отвечу вам: я думаю, что это ваш сын, сэр Руперт Лисль!
Она вздохнула с видимым облегчением и быстро пошла вперед.
– Мы дошли, наконец! – объявил ей майор, остановившись у садовой калитки и дергая звонок.
На звон прибежал Соломон.
– Ну что же: все в порядке? – спросил его майор, когда слуга открыл торопливо калитку.
– Да, он отправился в гости в Гемпстедт. Я принес ему записку от председателя общества, в которой его просят произнести речь собранию. Он вернется не раньше как через два часа, так как еще не сразу найдет и место сходки.
– Хорошо, Соломон… Разве этого человека нельзя назвать сокровищем? – обратился он весело к дрожавшей Клерибелль.
Она не ответила, глаза ее были устремлены на дверь незнакомого дома, в котором она думала найти своего сына.
– Не угодно ли вам последовать за мною? – сказал мягко майор.
Он вошел в коридор и направился к лестнице. Но прежде чем взойти на нее, он обернулся к Соломону и спросил, подмигнув ему многозначительно:
– Куда же делась женщина?
– Она ушла в деревню, повидаться со знакомыми, – ответил Соломон. – Ее там очень любят и отпускают не скоро.
– Это великолепно, бесценный Соломон!
Майор и миссис Вальдзингам стали подниматься по лестнице, сопровождаемые Соломоном, который остановился на маленькой площадке, пока посетители входили тихо в комнату.
Молодой человек с бледным лицом спал на кровати, положив руку под голову. Белокурые волосы свешивались на низкий, довольно узкий лоб. Платье, хотя поношенное, было, в сущности, самого изящного покроя. Руки спавшего были бледны и нежны. Комната слабо освещалась нагоревшей свечой, которая стояла на столе у окна. Майор указал молча рукой на юношу. Миссис Вальдзингам испустила слабый, радостный крик и, преклонив колени перед самой постелью, поцеловала спящего в лоб, что заставило его тотчас проснуться и взглянуть с изумлением. Теперь было удобно разглядеть, что лицо его было очень красиво, с тонкими, правильными чертами, хотя оно не свидетельствовало о большом уме.
– Несчастное дитя! – проговорил майор. – Вспомните все, что я говорил вам недавно, и соберитесь с силами!
– Да, да! – воскликнул пылко молодой человек. – Я знаю… Вы моя мать, – обратился он к Клерибелль, – вы пришли, чтобы вырвать меня из ужасной темницы… Из рук этого гнусного, низкого человека… Ведь вы хотите этого?
Он говорил с лихорадочным нетерпением и соскочил с постели, как будто бы хотел оставить эту комнату тотчас же. Соломон, стоявший на пороге двери, ухватил его за руку и сказал торопливо:
– Не спешите же так!.. Успокойтесь немного!
– Ну-с, миссис Вальдзингам, что: я прав или нет? – спросил майор Варней, обратясь к Клерибелль.
– Да, – сказала она с непроизвольным вздохом. – Вы, верно, не ошиблись. Но дорогой мой сын ужасно изменился. Это грустная перемена.
– Как же не измениться, когда он в продолжение четырнадцати лет не видел забот матери и сидел в заключении, как настоящий узник! – заметил ей майор.
– Сын мой… Мой бедный Руперт… Подойди же ко мне! – проговорила Клерибелль, раскрыв объятия.
Молодой человек обвил шею матери обеими руками и, прислонясь к плечу ее, горько зарыдал.
– Я не желаю больше изнывать в этом доме… Я не могу здесь жить! – повторил он настойчиво.
– Мы увезем тебя отсюда, мой Руперт.
И миссис Вальдзингам пошла было к дверям, но майор не замедлил остановить ее.
– Дорогая миссис Вальдзингам! – начал он. – Великие боги!.. Сознаете ли вы, что вы затеваете?… Вы хотите увести с собой человека, которого считают сыном наших служителей. Вы, вероятно, думаете отправиться с ним в суд и заявить, что это ваш сын, сэр Руперт Лисль, который считался давным-давно умершим… Ради бога, обдумайте, что вы предпринимаете! Я прошу вас во имя нашего незабвенного Артура Вальдзингама: будем действовать рассудительно… Не угодно ли сесть?
Он подвел ее к стулу, она послушно села.
– Прежде всего, миссис Вальдзингам, – продолжал майор, – прежде чем приступить к нашим дальнейшим действиям, нам необходимо ваше официальное заявление, что вы признаете в этом молодом человеке вашего сына, сэра Руперта Лисля.
– Я признаю его!
– Хорошо! Итак, вы высказываете – в присутствии Соломона, этого юноши и третьего свидетеля в лице майора Варнея – свое убеждение, что он действительно ваш сын и что вы не введены в заблуждение сходством, которое могло существовать между сыном Арнольда и вашим сыном Рупертом.
– Я никогда и прежде не замечала сходства между ними! – сказала Клерибелль.
– Прекрасно! Таким образом, мы можем сказать смело, что мы открыли заговор, который имел целью скрыть существование вашего сына как от вас самих, так и от всего света. Для чего было сделано это странное дело? Кем задумано и исполнено? Это раскроет следствие. Теперь мы знаем только, что Жильберт Арнольд был участником заговора и что нужно принудить его объяснить эту тайну… Соломон, вы содействовали успеху наших поисков до нынешнего вечера, вы лучше знаете характер Арнольда и знаете, конечно, возможно ли заставить его высказаться сегодня?
Задавая еврею этот вопрос, он сделал ему знак: глаза барина и слуги выполняли успешно роль телеграфного аппарата.
– Сомневаюсь в возможности принудить его к этому, – ответил Соломон.
– Хорошо! – проговорил майор, посмотрев на часы. – Теперь четверть одиннадцатого; он вернется, по всей вероятности, не ранее получаса. Отправляйтесь в ближайшее полицейское бюро и возьмите оттуда двух агентов. Если мы поместим этих господ в соседнюю комнату, то нам, может быть, и удастся развязать язык нашему другу.
Соломон удалился с почтительным поклоном, а Клерибелль и Варней стали ждать возвращения бывшего браконьера. Молодой человек ходил из угла в угол, останавливаясь по временам, чтобы задать какой-нибудь вопрос.
Через полчаса Соломон вернулся в сопровождении двоих мужчин с осанистыми лицами, в приличных штатских платьях; они вошли в гостиную. Десять минут спустя возвратился Арнольд. Войдя в дом, он прошел прямо в комнату, где его ожидали с пламенным нетерпением. Клерибелль, уступая просьбам майора, закрылась густой вуалью, так что лица ее нельзя было увидеть. При виде майора Жильберт изумился до такой степени, что отскочил назад.
– А! Мой достойный друг! – воскликнул офицер. – Я и не сомневался, что мое присутствие способно удивить вас. Подождите немного – и вы удивитесь еще больше… Сударыня, потрудитесь приподнять вашу вуаль, а я пока сниму нагар с этой свечи… Ну-с, теперь Джозеф Слогуд, или Жильберт Арнольд, называвшийся еще иначе, скажите мне, пожалуйста, узнаете ли вы эту благородную леди?
– Меня зовут, во-первых, не Жильбертом Арнольдом, а во-вторых, я не знаю ни вас, ни этой дамы, – возразил браконьер.
– Да это, полно, так ли?!. Вы очень хорошо знаете нас обоих. Знаете также этого бедного молодого человека, которого осмелились выдавать до сих пор за собственного сына! Да, Жильберт Арнольд, вы знаете его лучше, чем все другие! Бросьтесь же перед ним смиренно на колени, просите и молите его, пока не убедите его простить вас за прошедшее! Не говорите только, что вы его не знаете, ибо как же вам не знать сэра Руперта Лисля.
Браконьер сел на стул и закрыл лицо дрожавшими руками.
– А! В вас еще осталась хоть искра стыда! – проговорил майор надменно и презрительно. – Четырнадцать лет скрывали вы свой грех, но теперь все открылось, и если вы надеетесь заслужить прощение этой леди, а также и ее сына, который очень скоро будет совершеннолетним, то вам лучше всего рассказать честно правду. Какая была цель этого злого умысла?… Кто был его зачинщиком?… Одни ли вы действовали или вам помогали другие соучастники? Отвечайте по совести!
– Не стану я ничего отвечать! – заревел браконьер, схватив стул в обе руки с очевидным намерением швырнуть его в Варнея. – Не хочу отвечать! Я ведь не грязь, которую можно топтать ногами! Я не ваш крестный, чтобы слушаться вас, чтобы вы заставили меня болтать, как попугая, или ползать перед вами, как ползает собака.
Он сильно стукнул стулом, затем сел на него и заплакал внезапно горючими слезами.
– Этот человек или просто помешанный, или он выпил лишнего! – сказал майор Варней, обратясь к Клерибелль.
Он подошел к Жильберту и, наклонясь над ним, шепнул ему поспешно:
– Трус! Если ты не заговоришь, то попадешь на виселицу! Выбирай же скорее между тем и другим. Внизу уже сидят двое полицейских сыщика, и мне стоит пройти несколько ступенек, чтобы предать тебя.
Жильберт Арнольд моментально осушил свои слезы, он поднял бодро голову и начал вытирать лицо своими грязными и жесткими руками.
– Я действительно выпил, – произнес он, смягчая и понижая голос, – но вы слишком жестоки к нам, бедным, темным людям… Ведь и у нас есть чувства, и мы можем вспылить, когда нас обижают, не разобравши дела!.. Я готов говорить, если это так нужно… Я выскажу вам все.
Он положил свои скрещенные руки на спинку стула, оперся на них подбородком и устремил на майора свои зеленовато-желтые глаза.
– Имели ли вы сообщников в этом преступном деле? – спросил его Гранвиль.
– Нет! – отвечал Арнольд.
Он сказал это нехотя, как ленивый ребенок отвечает учителю.
– И вы были одни с самого начала?
– С начала до конца.
– Капитан Вальдзингам знал что-нибудь об этом?
– Ничего положительно!
– Какая была у вас на это цель?
– Заменить сэра Руперта моим собственным сыном.
– А что же сталось с вашим сыном?
Жильберт Арнольд замялся и сказал потом грустно:
– Он скончался, бедняжка!
– Скончался?… И план ваш не удался благодаря только его внезапной смерти?
– Да, – отвечал Арнольд.
– Но кто же внушил вам мысль об их подлоге?
– Какую мысль?
– Подменить сэра Руперта вашим собственным сыном?
– Все говорили о замечательном сходстве этих детей, уверяли, что мой сын был ничуть не хуже баронета… И мне показалось несправедливым, чтобы один наслаждался всеми благами жизни, между тем как другой должен был жить в нужде! Мне пришло тогда в голову поставить своего сына на место сэра Руперта, если только представится к тому удобный случай, чтобы узнать, не выйдет ли из него настоящего баронета.
– Ну и случай представился?
– Да, в тот день, когда лошадь сбросила сэра Руперта в Лисльвудской долине. Я ехал тогда мимо холмов на телеге, в которой отвозил сено на рынок. Увидев ребенка лежащим на земле в совершенном беспамятстве, я повез его к себе, где и скрывал его в течение двух дней. Он бредил все время и не узнавал положительно никого. Затем мне удалось перевезти его в Лондон и поместить в больницу. Месяца через два-три он поправился, и тогда я переселился в Лондон со всем моим семейством.
– И что же вы намерены были сделать с обоими детьми? – допрашивал майор.
– Я хотел дождаться, пока они вырастут и миледи успеет забыть своего сына; тогда я мог, конечно, прийти и сказать ей, что встретил баронета на лондонских улицах и думаю, что он был уведен цыганами. Ну, понятное дело, что я бы научил своего сына Джеймса поддакивать моим словам, – и он сделался бы знатным, богатым человеком.
– Но ведь сын же ваш умер?…
– Да, он схватил горячку через одиннадцать месяцев после этого случая с сэром Рупертом Лислем и умер от нее… Это все, что вам было угодно знать об этом?
– Да, все, мистер Арнольд. Мы выслушали вашу исповедь, и вам только придется повторить ее перед нотариусами сэра Руперта Лисля, да еще джентльменом, который называется сэром Ланцелотом Лислем. Мне кажется, что вам было бы очень недурно оставаться на время под домашним арестом, пока ваша исповедь не будет засвидетельствована официальным образом. Что же касается до миссис Вальдзингам и до Руперта Лисля, то я не сомневаюсь, что они наградят вас за вашу откровенность и не станут преследовать вас за ваше преступление… А теперь, миссис Вальдзингам, я пошлю Соломона за моим экипажем, и мы можем, конечно, совершенно спокойно распроститься с Арнольдом и взять безотлагательно сэра Руперта Лисля.
Глава XVI Утверждение прав наследства
Преступление, в котором сознался чистосердечный Жильберт Арнольд, не было доведено до сведения правосудия, а сэр Ланцелот Лисль не сделал ни малейшей попытки для того, чтобы оспаривать притязания молодого человека, который внезапно воскрес из мертвых, чтобы потребовать от него наследие своих предков. Стряпчие сэра Ланцелота слушали с видом недоверия показания Арнольда, пока не убедились, что это показание подтверждается свидетельством миссис Вальдзингам, которая, руководясь материнским инстинктом, не могла обмануться и обмануть других. Кроме того, слова прежнего сторожа были еще доказаны непреложными фактами. Доктора больницы святого Георгия припомнили, что к ним был действительно привезен четырнадцать лет назад мальчик лет шести, который находился три месяца между жизнью и смертью вследствие воспаления мозга, вызванного, по словам человека, привезшего ребенка в лечебницу, его падением с лошади. Никто не мог припомнить костюма и наружности этого человека, поместившего мальчика в больницу, но зато одна из сиделок, сведенная во время очной ставки с Жильбертом Арнольдом, узнала его тотчас же. Она говорила, что помнит и лицо его, и его грубый голос, и странные манеры. Она еще запомнила, что этот человек обращался с ребенком чрезвычайно дурно, почему и назвала его тогда в глаза животным; что ребенок не раз говорил ей о матери и каком-то парке, название которого она давно забыла, и называл себя маленьким баронетом. Сиделка в заключение сообщила еще, что человек, увезший мальчика из больницы, предупредил ее не придавать значения болтовне мальчугана, так как он был всегда очень странным ребенком, и что она действительно не стала обращать никакого внимания на все его рассказы. Клерибелль горько плакала, слушая показания этой свидетельницы в комитете исследования, собравшемся в конторе публичного нотариуса. Она припомнила мучительные дни и бессонные ночи, пережитые ею по мнимой смерти сына, между тем как он, Руперт, в это самое время лежал на жесткой койке под присмотром сиделок, которые не слушали его жалобы и просьбы и не верили им.
Для окончательного удостоверения Жильберт Арнольд показал платье, бывшее на сэре Руперте Лисле в самый день катастрофы. Мать узнала его хорошенький камзол, перепачканный кровью, изорванную шляпу с поломанным пером; она узнала также и волосы ребенка, остриженные неумелой рукой грубого сторожа и сохранившиеся в листе толстой бумаги. Все эти доказательства, представленные сэру Ланцелоту Лислю, убедили его вполне в тождестве его родственника с сыном экс-браконьера. Он заявил при этом, что он уже старик, не имеет детей, которым мог бы оставить обширные владения, и потому доволен, что они переходят в руки прямого наследника. Если бы сэра Руперта нашли несколько позже, добавил Ланцелот, то имя Лисль могло бы угаснуть навсегда. В конце концов он даже предложил возвратить все доходы, полученные им за четырнадцать лет, но сэр Руперт немедленно написал своему двоюродному дяде под диктовку Варнея вежливое письмо, в котором отказывался от этого возврата. Таким образом, были расчищены все пути к возвращению сэра Руперта Лисля, который был так долго лишен всех своих прав. Простодушные селяне радовались при мысли, что увидят опять своего господина, и радость Клерибелль не ведала пределов, когда бедная мать вступила в Лисльвуд-Парк рука об руку с сыном. Колокола гудели, и дети были собраны, как в день первого брака Клерибелль Мертон, а посреди всей этой оживленной толпы и под знойными лучами июньского солнца скакал майор Варней на белоснежной лошади рядом с сэром Рупертом Лислем, восстановлению прав которого он так много способствовал. Прекрасное лицо его отличалось привычной симпатичной улыбкой; он был все так же строен, так же красив и ловок! Соскочив с белой лошади перед подъездом замка, он помог сэру Руперту выйти из экипажа. Все слуги собрались и выстроились в ряд, чтобы приветствовать возвращение своего господина. Их глаза приковались с непритворным восторгом к молодому наследнику, который входил снова в замок своих отцов в сопровождении матери и майора Варнея.
– Он мало изменился! – говорили они. – Он только подрос и стал еще красивее!
Баронет смутился при этом неожиданно восторженном приеме, и его взгляд, казалось, упрашивал майора научить его, как держать себя в подобную минуту.
Опытный наблюдатель заметил бы немедленно, что молодой наследник обращался к майору в малейших затруднениях. Он опирался на руку Гранвиля Варнея и смотрел с любопытством на картины, висевшие по стенам коридора, на портрет своего покойного отца, украшавший столовую, на громадный зал, где проводил в детстве целые дни. Совершенно естественно, что сэр Руперт, проведя четырнадцать лет только в обществе Арнольда, вел себя за столом не совсем прилично – он стеснялся присутствия слуг, подававших кушанья, удивлялся при виде бокалов для шампанского, выпил много рейнвейна и очень оживился под влиянием этого прекрасного напитка. Все это огорчало невольно его мать. Понятно, что майор то и дело шептал ему что-то весьма внушительное и толкал его локтем или хмурился по тому или другому поводу. Майор с женой были приглашены и Рупертом, и миссис Вальдзингам присутствовать при праздновании совершеннолетия баронета, которое должно было происходить через несколько дней после его возвращения, и провести затем всю осень в Лисльвуд-Парке.
Клерибелль надеялась, что останется наедине с сыном после обеда. Выходя из столовой в сопровождении миссис Варней, она шепотом просила сына оставить поскорее бутылки и прийти к ней в гостиную. Но, несмотря на это, майор и баронет остались за столом до сумерек, и Клерибелль увидела с замиранием сердца, что молодой наследник «хватил уже через край». Она даже дала понять это майору, на что он ей ответил с добродушной улыбкой:
– Дорогая миссис Вальдзингам, вы ведь знаете сами, что баронет упорен, как все Лисли вообще. Он любит портвейн, называет эту смесь красных чернил и уксуса превосходным вином и не терпит бордоского… Бедняжка!.. Мы не должны дивиться, что воспитанник этого браконьера предпочитает портвейн тонким дорогим винам… Несчастное дитя! Нам придется употребить несколько месяцев на его исправление!
Клерибелль призадумалась.
– Руперт переменился! – прошептала она. – Да простит мне Господь, но в некоторые минуты я чувствую себя не совсем признательной за то, что милосердие Его возвратило мне сына… Мне кажется, что в нем недостает чего-то, от чего я могла бы сознавать свое счастье.
– Уважаемая миссис Вальдзингам, вам не следует быть слишком строгой. Припомните, с какими неразвитыми личностями пришлось жить сэру Руперту, – и не теряйте мужества!
На другое утро приехал из Итона второй сын миссис Вальдзингам, чтобы «засвидетельствовать свое уважение» владельцу Лисльвуда. Между этими двумя братьями существовал очень резкий контраст. Молодой Артур Вальдзингам был высок, худощав, строен, со свежим лицом, и, хотя ему не было и пятнадцати лет, он был одного роста с молодым баронетом. Руперт сидел с майором, когда приехал Вальдзингам. Можно предположить, что он встретил прибывшего с распростертыми объятиями и словами любви – по внушению Гранвиля. Молодой Вальдзингам принял эти приветствия с полнейшим безразличием. Смерть отца отразилась печально на Артуре. Вид дома, где он жил так хорошо и счастливо, и равнин, по которым он катался с отцом, возбуждал в его сердце беспредельную грусть. Он не чувствовал к брату никакого влечения.
– Если сказать по совести, – говорил он однажды старому камердинеру, – мне не нравится брат: он уж слишком отдался в руки этому белокурому господину Варнею! Всякий должен, по-моему, быть себе господином – знать сам, чего он хочет, и не обращаться каждый раз за советом из-за сущей безделицы.
Трудно даже представить себе, до какой сильной степени майор Варней внушал антипатию сыну Артура Вальдзингама! Все усилия Гранвиля не могли победить этой антипатии. Сколько изящный джентльмен не рассказывал о своей жизни в Индии, причем постоянно упоминая имя Артура Вальдзингама, сколько ни распространялся он о дружбе между ними, молодой человек слушал его с холодностью, совершенно несвойственной его пылкой натуре.
– Я его ненавижу! – воскликнул он запальчиво, когда мать упрекнула его в невнимании к майору. – Я ненавижу этот нежный, медовый голос, вкрадчивые манеры и даже белокурые золотистые волосы. Человек с таким голосом и с такими приемами не способен быть честным и добрым человеком. Я его ненавижу также за влияние, которое он приобрел, к несчастью, над моим тупоумным, бесхарактерным братом.
– Артур! – произнесла с упреком Клерибелль.
– Мама! Я, право, не хочу говорить с порицанием о вашем старшем сыне, но послушайтесь моего разумного совета – избавьтесь от Варнея!
– Мне стараться избавиться от майора Варнея? Дорогой мой Артур, да разве ты забыл, что я обязана ему возвращением сына… Разве не он раскрыл ужасный умысел против Руперта? Да я и не придумаю, чем могу доказать ему мою признательность.
Молодой человек только пожал плечами.
– Будь по-вашему, матушка, – ответил он спокойно. – А я на вашем месте поступил бы с ним иначе: я дал бы ему несколько тысяч фунтов стерлингов за такую услугу и потом вытолкал бы его бесцеремонно в шею!
– Как тебе пришло в голову, чтобы он согласился принять от меня деньги?
– От вас, милая матушка, он и не примет их! Ему уже известно, что он получит вдвое или втрое от Руперта, который, между нами будет сказано, ни более ни менее как игрушка Варнея.
К великому удовольствию Артура Вальдзингама, майор Гранвиль был принужден оставить Лисльвуд-Парк на несколько дней по серьезному делу. Он предложил свои услуги в переговорах с Жильбертом Арнольдом, вызываясь дать ему от имени баронета известную сумму и отправить его немедленно в Америку.
– Не очень-то приятно, – говорил майор сэру Руперту Лислю, – вознаграждать этого человека за низкое предательство, но нужно принять к сведению, что если бы он не сознался во всем, то вы и до сих пор бы продолжали жить взаперти в Ольд-Кент-Риде. Надо сделать хоть что-нибудь для этого нахала.
Миссис Вальдзингам соглашалась с мнением майора, что надо дать Арнольду несколько сотен фунтов, но сэр Руперт оспаривал эту необходимость.
– Я ненавижу этого человека, – объявил баронет, – он не был никогда внимателен ко мне, никогда не давал мне денег на расходы – и я не дам ему ни одного пенни.
– Дорогой сэр Руперт, – возразил майор, – не забудьте, что вы в настоящее время представитель известного в Англии рода, а не безвестный мальчик без родных и друзей и потому должны слушаться советов старших и опытных людей! Я говорю, что следует заплатить непременно этому человеку!
Когда майор Варней говорил баронету о том, что должно сделать, то был вперед уверен в послушании сэра Руперта. Но с Клерибелль было совершенно иначе; когда она старалась склонить своего сына поступить так, как следует, то он всегда отказывался принять ее совет, упирая на то, что он уже не ребенок и что вследствие этого он может обойтись и без руководителей и не желает быть пришитым к юбке матери. Ему доставалось и так уже довольно от «противной» миссис Арнольд, которая ворчала с утра до поздней ночи, добавлял баронет.
Майор Варней, конечно, настоял на своем и уехал из Лисльвуда, взяв с собой шестьсот фунтов для Жильберта Арнольда. По прибытии в Лондон он отправился прямо к банкиру баронета, где и разменял чек на мелкие билеты. Затем он нанял кеб и поехал к Слогуду, которого застал сидящим перед окном со своей неизменной закоптелой трубкой. Увидев майора, подходившего к саду, браконьер сдвинул брови, но все же бросил трубку и пошел отпереть калитку посетителю.
– Ну, – начал он насмешливо, – я должен быть в восторге от вашего приезда! Мне приходило в голову, что мне нечего ждать уже больше от вас, так как вы не нуждаетесь уже в моей особе!
– Вы очень проницательны, почтеннейший Арнольд, и вывели довольно верное заключение, – ответил майор Варней, присев на подоконник и обрывая листики иссохшей герани.
– О, так я не ошибся?… Так я таки действительно уже не нужен вам! – сказал злобно Арнольд, сверкая на майора кошачьими глазами.
– Да, теперь, слава богу, я не нуждаюсь больше в ваших услугах! – сознался майор.
Арнольд сжал кулаки и, казалось, хотел кинуться на своего изящного посетителя. Майор заметил это и рассмеялся так, что вся кровь бросилась в голову бывшего браконьера. Видеть это ужасное, но сдерживаемое бешенство доставляло майору такое же удовольствие, какое он испытывал, когда дразнил концом своей изящной тросточки львов и тигров в зверинце.
– Добрейший мой Арнольд, – сказал он наконец, – вы совершенно правы: вы были для меня превосходным орудием, служили мне отлично, а теперь вы не нужны мне больше. Будь я менее великодушен, то наши отношения прекратились бы тотчас же! Ваша тайна, которую мне удалось узнать, вполне гарантирует меня от всех ваших попыток сделать мне неприятное тем или другим способом, и затем между нами могло бы быть все кончено. Но я хочу, заметьте, поступить с вами иначе. Когда мастеровой не нуждается в инструментах, то он кладет их в сторону. Вот я и прошу вас, достойный мой Арнольд, отправиться в Америку, а за час до отъезда вашего и Рахили я вручу вам наличными триста фунтов стерлингов!
– Как, только триста фунтов? Этого очень мало! Мне бы следовало больше! – проворчал злобно Жильберт.
– Вам следовало больше? – переспросил майор.
– Но… это же… вы знаете…
– Уважаемый мистер Арнольд, прошу вас убедительно отбросить навсегда все глупые идеи. Вспомните свою исповедь, которая подписана, засвидетельствована и сохраняется нотариусом сэра Руперта Лисля. Не забывайте этого и будьте благодарны за все то, что сэр Руперт счел нужным выдать вам.
– Я разыгрывал роль пошлого дурака – с начала до конца… Это бесчеловечно! – бормотал Жильберт Арнольд.
– Неужели бесчеловечно?! – передразнил майор. – Но на что же вы надеялись?
– Извольте, я отвечу вам на этот вопрос. Я вовсе не рассчитывал, чтобы вы могли отделаться от меня такой суммой, не ожидал, конечно, что меня заставят выселяться из Англии, как любого бродягу, я не думал, что мне загородят дорогу и доступ к нему и помешают испросить у него, что мне будет угодно!
Майор пожал плечами и снова рассмеялся.
– Так идите к нему, – сказал он, указывая браконьеру на дверь. – Идите же к нему – я не мешаю вам. Путь свободен для вас так же, как и для меня. Ступайте же просить его… Но, несчастный мой друг, вы уйдете ни с чем. Имейте в виду, что он послал вам деньги, подчинясь единственно моему красноречию. Да, Арнольд, да, мой милый! Молодой человек вышколен превосходно и помнит свой урок.
Ровно через два дня после этой беседы майор Варней помчался на курьерском поезде в Ливерпуль, отправив туда в омнибусе и Жильберта с женой. Приехав в этот город, майор велел отвезти себя по адресу в гостиницу, в которой Жильберт должен был дожидаться его. Он нашел браконьера за бутылкой пива в маленьком грязном зале.
– Ну, – сказал майор Варней, – корабль должен отчалить отсюда через час, а я желал бы видеть вас на его палубе. Позвоните и прикажите подать сюда перо, чернил и бумаги.
Арнольд повиновался, и немного спустя мальчик принес все требуемое и чернильницу, содержавшую в себе какую-то смесь, состоявшую преимущественно из пыли и мух. Майор окунул в чернильницу перо и подал его Арнольду.
– Напишите расписку в том, что вы получили от сэра Руперта Лисля, баронета, шестьсот фунтов стерлингов через майора Варнея, – сказал он. – Пишите же скорее!
Лицо браконьера прояснилось при этих благодатных словах.
– Вы, наконец, одумались и порешили дать мне вдвое больше назначенного? – произнес он с улыбкой.
– Это не ваше дело, одумался ли я! Пишите же расписку, нам нельзя терять времени.
Жильберт положил локти на стол, приблизил нос к бумаге и начал кое-как царапать под диктовку спешившего майора. Когда он дописал, то майор позвонил слуге и Жильберт Арнольд должен был подписаться в присутствии слуги, который потом тоже подписал расписку как свидетель.
– А теперь приведите нам поскорее кеб, – приказал Варней. – А вы, Арнольд, идите и скажите своей жене, что мы ждем ее.
– Она прилегла немного отдохнуть, так как сильно устала, – сказал ему Жильберт. – Она не способна сопровождать мужчину, – добавил он угрюмо, удаляясь из зала.
Через полчаса майор уже находился с Жильбертом и женой его на палубе корабля, который отправлялся из Англии в Нью-Йорк.
– Вы, однако же, не дали мне шестисот фунтов стерлингов, – заметил тихо Жильберт, наклонившись к майору.
– Шестисот фунтов стерлингов? – воскликнул с глубочайшим изумлением майор.
– Да, конечно, шестисот, я вручил вам расписку в получении этой суммы, которая была отдана баронетом для передачи мне!.. Вы это сами знаете.
– Добрейший мой Арнольд, я знаю только то, что минут через десять вы будете плыть преспокойно в Америку, в прелестную страну, из которой советую больше не возвращаться. Знаю я еще то, что у меня в кармане есть несколько билетов в сто фунтов, один в пятьдесят, да еще один в десять. Возьмите их себе, если только хотите. Больше вы не получите ни от владельца Лисльвуд-Парка, ни от майора Гранвиля.
В ту самую минуту, как майор Варней с грациозным движением подал портфель Арнольду, провожавших попросили спуститься с корабля. Майор в одно мгновение очутился у лестницы.
– А когда выйдут деньги, что же тогда мне делать? – вскричал Жильберт, схватив майора за рукав.
– Что вам делать тогда? – переспросил Варней. – Можете воровать, разбойничать, умереть, жить в остроге… Мне нет дела до вас!
Нельзя выразить бешенства, которое внезапно овладело Жильбертом. Он ринулся вперед со сжатыми кулаками и бросился бы на майора, если бы рослый матрос не удержал его.
– Слушайте! – воскликнул Жильберт, свесившись через борт и устремив свои кошачьи глаза на красавца Варнея. – Вы надули меня, истоптали ногами, смеялись надо мной с начала до конца… Берегитесь, майор! Вы жестоко поплатитесь, если мне суждено вернуться из Америки!.. Я попаду на виселицу, но отомщу вам за все! Еще раз – берегитесь!
Глава XVII Соломон путешествует
В конце осени Соломон оставил Лисльвуд-Парк, где он занимал довольно комфортабельную комнату во втором этаже и получал ежедневно бутылку портвейна. Он уезжал к одному из своих племянников, который находился у него под опекой.
– Он не богат, – говорил Соломон об этом племяннике самой красивой горничной, – но имеет столько, чтобы жить не беспокоя никого из родных. А это много значит, так как он щепетилен.
Перед отъездом нежный дядя провел целый час с глазу на глаз с майором.
Племянник его находился в пансионе, в одном из городков Йоркшира. В городке находилась только одна церковь с громадной колокольней и с небольшим кладбищем, по которому бегали и резвились детишки. За его главной улицей шли чистые аллеи, окаймленные старыми громадными дубами; местами из аллей можно было видеть за группой деревьев красивые дома. Соломон направился к этой стороне города, когда вышел со станции железной дороги. Красное кирпичное здание, перед которым он остановился, было выстроено четырехугольником с двумя рядами высоких узких окон. Оно отделялось от улицы стеной, в которой находилось двое прекрасных ворот. Соломон был впущен немедленно прибежавшей на его звонок служанкой, которой он назвал себя не Соломоном, а Саундерсом. Кроме последнего обстоятельства было замечательно еще и то, что он был одет с головы до ног в черное, повязан белым галстуком и придавал себе вид духовной особы. Служанка ввела его в маленькую хорошенькую гостиную, выходившую в громадный сад. Соломон подошел прямо к окну и, окинув быстрым взглядом цветочные клумбы и лужайки, устремил все свое внимание на молодого человека, лежавшего в тени, на диване, с книгой в руках.
Молодой человек так углубился в чтение, что даже не заметил, что за ним наблюдают. Он был чрезвычайно нежного телосложения, а из-под соломенной шляпы его выбивались светло-каштановые, глянцевые волосы.
Минуты через две в гостиную вошел директор пансиона и обменялся с Соломоном крепким рукопожатием. Это был высокий, полный, белокурый и пожилой мужчина, видимо добрый, но пустой человек и вдобавок педант.
– Я даже и не спрашиваю, в каком он состоянии, – сказал Соломон, указывая на окно, – мне кажется отчасти, что в нем не совершилось никакой перемены.
– Да, – ответил директор, – он мало изменился. Светила науки – а в нашем городке в них таки не чувствуется недостатка, – извините, что я в качестве гражданина заявляю вам прямо, что у нас весьма много даровитых людей, – светила науки сходятся с вами во мнениях относительно этого молодого человека. Он почти вовсе не изменился. Мы рассчитывали на время, но оно не оправдало наших надежд… Не угодно ли вам выпить стакан мадеры, мистер Саундерс?
Соломон не обратил даже внимания на радушное предложение директора.
– Ну а душевное состояние его? – спросил он, продолжая начатый разговор.
– Оно весьма недурно, жаловаться нельзя. Он все возится с книгами и собакой, изучает ботанику. Мы стараемся выполнять его скромные прихоти – у него нет иных. Этот юноша пользуется всеобщей любовью за свой мягкий характер.
– Мне, как дяде, приятно слышать подобный отзыв! – заметил Соломон.
– Особенно такому заботливому дяде, как вы, мистер Саундерс.
Соломон взял бесстрастно из своего бумажника несколько фунтов стерлингов и вручил их директору.
– Вот взнос за целый год, – заявил он ему. – Теперь же мне хотелось бы поговорить с племянником. Затем я отправлюсь в гостиницу обедать, а завтра рано утром возвращусь снова в Лондон.
– Все ваши посещения чрезвычайно коротки, – сказал ему директор, несколько призадумавшись.
Он раздумывал, можно ли рассчитывать наверно на согласие Саундерса обедать у него.
– Обстоятельства обязывают меня возвратиться домой как можно скорее, – ответил Соломон, указывая на галстук, как будто на свидетеля справедливости сказанного. – Ну что же, могу я повидаться с племянником?
Директор пансиона проводил его в сад. Молодой человек продолжал читать, но при шуме шагов поднял невольно голову.
– Это вы, дядя Джордж! – произнес он, увидев внезапно Соломона.
– Милый Ричард, я приехал, чтобы взглянуть на вас, – сказал Соломон, взяв исхудалую руку молодого человека. – Да он все такой же… Довольны ли вы, Джордж, вашим образом жизни?
– Очень доволен, дядя. С нами все обращаются чрезвычайно мягко, и мы чувствуем себя совершенно счастливыми.
– И вы не желали бы покинуть этот дом?
– Ни за что, милый дядя!
Соломон не рискнул возражать против этого, но несколько минут не сводил глаз со спокойного лица своего родственника и подумал при этом:
«Боже, какая разница существует между этим и тем молодым человеком!»
Глава XVIII Владелец Лисльвуда влюбляется
Очень естественно, что когда человек с таким благородным именем, а в особенности с таким богатством, как сэр Руперт Лисль, становится совершеннолетним, то даже самые бедные и приниженные люди ломают себе голову над вопросом, как бы извлечь из этого великого события какую-нибудь выгоду.
«Молодой человек двадцати одного года, красивый, богатый, да еще баронет!» – повторяли без устали все молодые женщины на двадцать миль в окружности, когда сэр Руперт проезжал мимо них на своей чудной лошади. «Хочет ли он жениться? На кого падет выбор богатого владельца?» – спрашивали все девушки, когда уже поутихли бесчисленные толки об истории Руперта. В конце же октября распространилась и произвела страшную тревогу весть, что баронет влюбился без ума в одну из дочерей полковника Мармедюка, жившего в Бокаже, близ Лисльвуда.
Полковник Мармедюк был человек лет пятидесяти, очень бедный, но вместе с тем чрезвычайно гордый. Вид его был суровый, волосы и бакенбарды с сильной проседью, застегивался он всегда глухо. Торговцы, с которыми он имел дело, называли его ужасным человеком и говорили, что он из-за полутора фунтов бараньих котлет делает больше шуму, чем управляющий замка, покупавший мясо пудами. Он был крайне взыскателен относительно всех своих пятерых дочерей и наказывал их неумолимым образом за малейший проступок. Рассказывали даже, что он бил палкой старшую, уже взрослую девушку. Бокаже было очень непривлекательным местом: большой неуклюжий красный дом был окружен высокими и мрачными стенами.
На долю дочерей сурового полковника, оставшихся без матери, не выпадало светлых и счастливых минут. Они не знали в жизни ничего, кроме бедности, а гордость их отца не позволяла им принимать участие в удовольствиях, которые нередко предоставлял Лисльвуд-Парк. Он не желал, чтобы дочери его бывали на балах, потому что они не могли приехать на них в собственном экипаже. Некоторые соседи предлагали возить их с собой кое-куда, но полковник бледнел при одной только мысли обязываться им или кому бы то ни было.
– Нет. Им нечего надеть, кроме старых кисейных платьев, и поэтому им нужно остаться дома, – отвечал он угрюмо. – Да девушкам вообще и не следует рыскать!
Таким образом, девушкам предоставлялось только вязать и читать путешествия, биографии и автобиографии, которые имелись в лисльвудском кабинете для чтения. Лаура, старшая из сестер, которой было под тридцать, пела для развлечения баллады Теннисона.
Хотя четыре старших сестры были между собой чрезвычайно похожи как в физическом, так и в нравственном отношении, зато младшая, мисс Оливия, разнилась резко с ними. У сестер ее были, как у покойной их матери, белокурые волосы и далеко не выразительные лица; Оливия же была брюнетка с восхитительными и умными глазами, большими и сверкавшими, когда она сердилась, невыносимым блеском. Она была стройна и высокого роста, ее воля была гораздо непреклоннее воли полковника, и когда ее сестры дрожали перед ним и его громким голосом, мисс Оливия смело подходила к нему и просила его усмирить свою вспыльчивость.
Полковник краснел, щипал свои усы и бормотал себе что-то под нос, но не возражал ни слова мисс Оливии, которая была его любимой дочерью.
– У меня никогда не было сыновей, – говорил он однажды старому сослуживцу, – хотя я желал иметь их, чтобы поддержать древнее, благородное имя Мармедюков; но зато у меня есть моя дочь Оливия, а она стоит сына… Черт возьми! Вы бы только послушали ее, как она говорит со мною! Это единственное существо, которого я боялся в моей жизни! Клянусь честью, что я иногда просто трепещу перед нею.
Мисс Оливия Мармедюк ездила великолепно верхом. В Бокаже не было лошадей, и потому трудно понять, каким образом могла она выучиться этому искусству. Рассказывали, что когда она была еще маленькой девочкой, то имела обыкновение ездить на молодых жеребятах, пасшихся на равнинах, что было, разумеется, не совсем легко.
Когда же ей исполнилось девятнадцать лет и приличие уже не позволяло больше разъезжать на недрессированных жеребятах, она отдала лисльвудскому портному перешить старую зеленую амазонку, оставшуюся после матери, и заменила жеребенка серой лошадью, на которой и стала разъезжать ежедневно по лесам и полям. Во время одной из своих прогулок она встретилась с сэром Рупертом Лислем, о котором слышала уже несколько раз. Полковник как-то был с визитом у него, Руперт пригласил его с семейством на обед, но получил отказ, так что он не видел дочерей Мармедюка и они его тоже. Вернувшись домой, Оливия подробно рассказала о встрече с молодым человеком.
– Он въезжал на косогор, папа, – говорила она, – так осторожно, как будто переправлялся через натянутую веревку. Увидев меня, он так испугался, как будто перед ним явилось привидение. Собака моя, Бокс, бросилась к его лошади, так как у нее белые ноги, а она терпеть не может лошадей этой масти. Верите ли вы, папа, баронет побледнел. «Лошадь моя пуглива, мисс, – начал он… (Я терпеть не могу людей, которые называют меня мисс!) – Потрудитесь удержать вашу собаку». Он имел такой глупый и перепуганный вид, что я расхохоталась, но он закричал снова: «Черт возьми, отзовите же проклятую собаку?!» (Дочери полковника Мармедюка выслушивали такие выражения от одного отца.) Я выпрямилась, смело взглянула баронету в лицо, позвала Бокса таким голосом, которого сэр Руперт никогда не забудет, и потом галопом спустилась с холма. Выехав на дорогу, я оглянулась: баронет не двигался с места и со сдвинутой на затылок шляпой смотрел на меня как будто бы помешанный.
– Быть может, его поразила ваша красота, Оливия, – заметила старшая сестра, – и вы напрасно не воспользовались удобным случаем. Отчего бы вам не постараться выйти замуж за сэра Руперта? В графстве нет жениха выгоднее его!
Мисс Лаура любила дразнить сестру замужеством, так как ее собственные шансы на успех в этом отношении уменьшались заметно.
– Выйти за него замуж?! – воскликнула молодая девушка. – Да если б я только захотела этого, то я в одну неделю забрала бы его в руки. Я бы заставила его плясать под свою дудку, как тот лисльвудский фокусник, у которого еще есть волшебный фонарь, заставляет плясать своих марионеток.
Молодая девушка сделала своими маленькими белыми ручками движение, будто дергает проволочки картонных танцоров.
– Выйти замуж за этого маленького простака! – повторила она. – Пусть лучше сделает это Лаура, если у нее хватит на это храбрости, хотя волосы ее стали довольно жидки и она приближается к… – Мисс Оливия докончила свою фразу притворным старческим кашлем.
– Благодарю, Оливия! – ответила ей Лаура. – Предоставляю его вам. Я не настолько умна и – благодаря Богу – тщеславна, чтобы желать завлечь… – мисс Лаура налегла на последнее слово, – баронета, у которого столько десятков тысяч годового дохода. Предоставляю вам выполнить эту задачу, Оливия. Я же с удовольствием приеду к вам в Лисльвуд, если вы будете настолько снисходительны, чтобы пригласить меня… А так как я только бедная родственница, то вы поместите меня в одну из маленьких комнат второго этажа.
Полковник, сидевший с газетой в руках, посматривал украдкой на своих дочерей и смеялся над колкостями, которыми они обменивались.
– Ты совершенно права, Оливия, дочь моя, – сказал он, – если б ты жила в прошлом столетии, то могла бы выйти замуж даже за какого-нибудь владетельного князя. Нет в мире такого человека, который был бы в силах противостоять тебе, когда тебе придет в голову очаровать его!
Оливия подошла и начала разглаживать седые и блестящие волосы старика.
– Если я когда-либо выйду за богатого человека, то я сделаю это только для вас, папа, – сказала она, бросая на своих сестер взгляд, говоривший ясно: для вас же я не сделаю ни единого шага!
Не было ни малейшего основания предположить, чтобы сэр Руперт имел намерение, заимствуя выражение майора, бороться против обольстительной Оливии Мармедюк, так как он на следующее же утро приехал в Бокаже, чтобы извиниться за вчерашнее невежливое поведение. Он пожаловал очень рано, чуть ли не во время завтрака, который только что был убран из столовой, в которую слуга и провел баронета.
– Я знаю, что явился слишком не вовремя, так что застал вас всех еще в утренних костюмах, как мне было предсказано, – начал сэр Руперт. – Мне тоже говорили, что я должен явиться сюда не раньше часа; но у меня не хватило терпения подождать. Я бы даже приехал к вам еще вчера вечером, если бы меня не удержали мои домашние.
Произнося эту странную речь, баронет краснел все больше и больше, повертывался на стуле и играл нервно хлыстиком с золотым украшением. На нем был изящный и щегольской костюм при большом изобилии драгоценных вещей, и от него несло «букетом Жокей-клуба».
Мисс Оливия засмеялась ему прямо в лицо.
– Нам совершенно безразлично, что вы застали нас в утренних платьях, сэр Руперт, – сказала она, – но все же он сделал очень хорошо, предупредив вас.
Баронет покраснел еще сильнее прежнего.
– Я говорил вам, собственно, о майоре Гранвиле, – произнес он со смущением, – разве вы его знаете?
– Нет, не имею чести, но я вполне уверена, что он милая личность.
Оливия отошла преспокойно к окну, предоставив отцу и сестрам занимать лорда Лисля.
– Гранвиль Варней? – сказал полковник Мармедюк. – Я видел его в замке. Он говорил тогда, если не ошибаюсь, что служил где-то в Индии.
Сэр Руперт, не сводивший глаз с прекрасной Оливии, стоявшей у окна, не слышал, как казалось, что говорил полковник.
– Как вы думаете: она сердится на меня? – спросил он неожиданно.
– Она?… – проговорил с изумлением старик.
– Да, она, мисс Оливия… хотел я сказать; я знаю, что я был вчера крайне невежлив… но моя лошадь, черт бы ее побрал, такая пугливая! И я с большим трудом удержался в седле. Я рассказал об этом событии майору. Он ответил на это, что я выказал себя непростительно грубым… и потому-то я приехал извиниться. Я надеюсь, что мисс не будет помнить зла… Зато я никогда не забуду взгляда, который она бросила при этом на меня: он пронизал меня насквозь, как будто пуля… Простите ли вы мне, мисс? – обратился сэр Руперт с умоляющим видом к неподвижной Оливии.
– Отчего же и нет? – ответила она. – Прощать вовсе не трудно. Я вполне понимаю, что вы, верно, привыкли произносить проклятия: в этом нет ничего удивительного… Но я-то не имею подобной привычки, а когда наш папа иногда проговаривается, то я прошу его быть вперед осторожней!
– Мне кажется, что мисс может распоряжаться, кем ей только захочется, полковник Мармедюк! – заметил Руперт Лисль, играя своим хлыстиком. – Едва ли кто откажется повиноваться ей.
Оливия будто не замечала присутствия сэра Руперта. Зато он положительно не спускал с нее глаз и только кое-как отвечал на вопросы сурового полковника. Он вскоре догадался, что пора удалиться. Пожав руку полковнику и старшим дочерям, он приблизился к мисс Оливии – и удостоился коснуться ее пальцев, которые произвели на него такое действие, как горячие уголья.
– Прощаете ли вы мне? – спросил он ее снова.
– Ну, конечно, ведь я же сказала вам это! – ответила она с движением нетерпения.
Эти немногие слова осчастливили баронета. Он ушел, опрокинув нечаянно один из соломенных стульев, и через несколько минут послышался топот удалявшейся лошади.
– Ах, Оливия, ты была уж слишком нелюбезна с сэром Рупертом Лислем, – заметил ей полковник. – Положим, что он несколько неловок в обращении, но этому виною обстоятельства прошлого.
Мисс Оливия не обратила ни малейшего внимания на это замечание.
– В каких комнатах будете вы жить, папа, когда переедете ко мне, в Лисльвуд-Парк? – спросила она, немного помолчав. – Когда мы были в замке, несколько лет назад, и управляющий показывал нам комнаты отца сэра Руперта Лисля, мне особенно понравилась дубовая комната на южной стороне. Из нее легко можно пройти в парк – через лестницу или подземный ход. Это хороший замок с различными затеями для героев романа.
– А есть ли надежда, что вы сделаетесь обладательницей этого замка? – спросила колко Лаура.
– Есть, – ответила ей невозмутимо девушка. – Пусть это не смущает вас; как только я сделаюсь леди Лисль, то позабочусь тотчас же найти вам жениха!
Глава XIX Принят
После своего первого посещения полковника с семейством сэр Руперт приказал послать в Бокаже дичь, фрукты и цветы; последние предназначались преимущественно для мисс Оливии Мармедюк и сопровождались письмом, написанным хотя неровным почерком, но более изящным слогом, чем можно было ждать от владельца Лисльвуда.
– Я думаю, что это диктовал ему джентльмен, который отсоветовал ему приехать слишком рано, чтобы застать нас в утреннем, слишком халатном виде! – заметила Оливия, рассматривая герб, вытиснутый на атласной бумаге. – Видите вы эту окровавленную руку, Лаура, – продолжала она, – и девиз, написанный на древнефранцузском языке: «Лисль оберегает, что Лисль приобретает»… Кто бы мог подумать, что этот тупоумный происходит от этого знаменитого рода? Я воображала, что Лисль из Лисльвуда должен быть высок, строен, надменен и суров. Папа тысячу раз больше похож на баронета!
– Род Мармедюков древен, как и род Лисль, Оливия; они отказались от пэрства, предложенного им Карлом Первым.
– Это было очень глупо с их стороны. Мне бы очень хотелось быть графиней! Слова «леди Оливия» звучали бы недурно.
Через три дня баронет приехал в Бокаже в сопровождении своей матери и майора. Он не дал матери покоя, пока она не согласилась ехать к полковнику Мармедюку, чтобы пригласить его вместе с дочерьми в замок.
– Уверяю тебя, милый мой Руперт, – говорила мать, – что молодые девушки не бывают нигде!
– Что за нужда? Они будут, конечно, у меня… должны быть у меня! – воскликнул баронет. – Ведь я самый богатый человек во всем Суссексе, и было бы весьма странно, если бы они не приняли моего приглашения! Нет, они, верно, будут!
– Руперт, не будь же странным! – заметила ему на это Клерибелль.
– Во мне нет и тени странности… Мне нравится полковник.
– Вам нравится полковник? – сказал майор со смехом. – Я готов скорее верить, что вам нравится кто-нибудь из его дочерей.
– Нет, ни одна не нравится, – отвечал ему Руперт, заметно покраснев. – И отчего же мне не интересоваться исключительно старым служакой? Я люблю полковника и хочу, чтобы он был у меня с дочерьми. Если я захочу, то они и останутся у меня навсегда!..
– То есть если они захотят здесь остаться! – сказал с неподражаемым хладнокровием майор.
– Кажется, я сам знаю, как нужно выражаться! – произнес раздражительно молодой человек.
– Без всякого сомнения, сэр Руперт, но вам не следовало бы забывать, что джентльмену неприлично возвышать голос, даже в своей гостиной, когда он обращается с разговором к гостям.
– К гостям? – повторил баронет с насмешливой улыбкой. – Вы здесь уже так давно, что было бы нелепо считать вас только гостем, а не членом семейства.
– Руперт, – вмешалась Клерибелль, – неужели ты забыл?…
– О нет, я помню все! – ответил баронет. – Как не помнить, когда люди напоминают вам почти ежеминутно все об одном и том же! Даже банкир мой может засвидетельствовать вам, что мои воспоминания поддерживаются ежедневно материальными средствами… Впрочем, все это вздор; вы можете, майор, оставаться здесь сколько угодно, есть и пить что вам вздумается и тянуть с меня столько, сколько только возможно; но я прошу не мешать мне делать, что и как я хочу… Повторяю опять: я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь вмешивался в мои распоряжения!
Баронет быстро вышел, захлопнув с шумом дверь. Он впервые возмутился против власти майора.
Приехав в Бокаже, Гранвиль Варней догадался немедленно, которая из всех молодых девушек так обворожила сэра Руперта Лисля. Старшие сестры были заняты бесконечным вязанием, между тем как Оливия сидела у камина, апатично перелистывая какую-то книгу. Майору удалось подсесть к ней, что, по-видимому, было не по душе юному баронету, сидевшему с матерью. Однако майор, несмотря на все свое пылкое красноречие, не успел приковать внимания мисс Оливии; она отвечала, смотря ему прямо в глаза так, что он ретировался с внутренним содроганием.
– Что за странная девушка – младшая дочь полковника! – сказал он сразу Руперту. – Ее было бы можно назвать Семирамидой в изношенном платье.
– Я не знаю никакой Семирамиды, – ответил баронет с явным неудовольствием, – и могу вас уверить, что у мисс Оливии будут великолепнейшие и все новые платья.
– Безумный! Я надеюсь, что вы не влюблены в наружность мисс Оливии!.. Не поверю, чтобы вас пленила эта девушка с таким смуглым лицом и черными глазами! Старшая Мармедюк несравненно красивее и грациознее ее.
– Старшая – просто пень, тогда как мисс Оливия – самое восхитительное создание во всем мире! – возразил баронет.
Но хотя мисс Оливия старалась всеми силами оттолкнуть от себя угождения майора, он сумел приобрести симпатию полковника, который, между прочим, разговорился с ним о войне, о порядках в Пенджабе и о его войсках. Кончилось тем, что он пригласил Гранвиля к семейному обеду на следующий день. Баронет слышал это и сказал не стесняясь:
– Так и я в таком случае приеду к вам, полковник, если только позволите. Я хоть не приглашен, но мне кажется, однако, что, где принят радушно майор Варней, там найдется, конечно, место и для меня… Вам не следует делать лишних приготовлений! Обращайтесь со мной без всяких церемоний, как будто бы с родным!
Полковник покраснел.
– Старый воин обязан не только жить как джентльмен, но и быть всегда готовым принять у себя джентльмена! – проговорил он с видом собственного достоинства.
– Да, это верно, папа, – подтвердила Оливия, – а так как к нам пожалует владелец Лисльвуд-Парка, то не лучше ли будет послать в Брайтон, в гостиницу «Корабль», за двумя поварами и несколькими официантами Мэри одной не справиться!
Баронет мог понять, что над ним насмехаются.
– Быть может, будет лучше, если я не приеду к вам? – сказал он, призадумавшись.
– За что же вы хотите лишить нас этой участи? Весь Лисльвуд говорит о принце суссекском и милостивых посещениях его светлости.
– Ну-с, что же вы теперь скажете об этой дерзкой девушке? – спросил майор Варней сэра Руперта Лисля по возвращении в замок.
– Я вовсе не нахожу ее дерзкой девушкой, – пробормотал сэр Руперт.
– Серьезно? Черт возьми! Да, ей можно простить безобразные выходки именно потому, что вы сами ведете себя просто непозволительно.
На другой день, в четыре часа, полковнику доложили о прибытии майора и баронета, которые и были приняты в гостиной – небольшой, дурно меблированной и холодной комнате с тремя окнами, выходившими на большую дорогу. Ковер был полинялый, овальное зеркало успело потускнеть, шелковая обивка мебели заметно поистерлась.
Окруженная этой невзрачной обстановкой, Оливия Мармедюк казалась восхитительней, чем была накануне. На ней было простое кисейное платье лилового цвета, украшенное несколькими бантами из шелковых лент. Она на этот раз обошлась с майором довольно дружелюбно, разговорилась с ним и играла с ним в шахматы, к величайшему неудовольствию сэра Руперта Лисля, которому пришлось довольствоваться тем, что он мог сидеть и любоваться ею. Майор удивился, когда победа в шахматах осталась за противницей. После она сыграла несколько полек на маленьком пианино и пропела две или три тирольские песни. Баронет слушал ее почти с благоговением, как райского певца и, когда сестры ее начали в свою очередь играть и петь итальянские арии, он круто отвернулся от молодых певиц, и начал говорить с предметом своей страсти. Казалось, что своенравная молодая девушка задумала вскружить голову майору так же, как и баронету. Она шутила с ним, смеялась его остротам, подтрунивала над сэром Рупертом, играла и пела ему так хорошо, что он должен был быть железным, чтобы противостоять ее очарованию. Что касается сэра Руперта, то он восхищался Оливией, даже когда она издевалась над ним. Он следовал за ней неотступно как тень и жаждал, очевидно, возможности сказать ей что-то весьма серьезное; но все его усилия потерпели фиаско, потому что майор отвлекал постоянно внимание молодой девушки, как только баронет готовился сказать ей новую любезность. К концу вечера Руперт Лисль потерял все надежды остаться одному со своей обворожительницей и покорился нехотя своей печальной участи. Он был крайне угрюм на обратном пути, а когда он вошел по приезде в переднюю, то спросил у майора отрывисто и резко:
– Ну-с, какою нашли вы сегодня Оливию?
– Такою же, как вчера. Не спорю, что она довольно недурна и отчасти эффектна при ярком освещении, но скажу тем не менее, что она очень ловкая, искусная кокетка, хитрая, самолюбивая и бездушная интриганка… да сжалится Господь над тем, кто на ней женится!.. Нет, она мне не нравится.
– В таком случае вы чертовски нахальный лицемер! – воскликнул с бешенством баронет. – Пусть повесят меня, если вы не ухаживали за ней в продолжение всего вечера.
– Я постоянно ухаживаю за всеми кокетками, мой милый Руперт, – ответил майор.
Сэр Руперт был счастливее на следующий день, встретив во время своей утренней прогулки мисс Оливию, которая шла куда-то в сопровождении Бокса. Он пожелал ей доброго утра и, взяв лошадь за повод, пошел рядом с девушкой, не говоря ни слова.
– Ну, – начала, наконец, молодая девушка, – так как вы, очевидно, не находите слов для беседы со мною, то я не понимаю, для чего вам идти еще дальше со мною, тем более, – добавила она с насмешливой улыбкой, – что вашей белой лошади страшно хочется у вас вырваться и ускакать галопом.
– Я, право, не забочусь ни о глупейшей лошади и ни о ком на свете, кроме одной особы, – ответил баронет. – Я самый состоятельный человек во всем графстве, но это не мешает мне быть и самым несчастным… и никто не может дать мне земное счастье, исключая… – Он вдруг остановился и страшно покраснел.
– Исключая кого?… Докончите же фразу, – приказала мисс Оливия.
– Кроме вас… Решитесь ли вы выйти за меня замуж?… Вы бы сделались самой знатной и богатой женщиной… если бы сделали это! Подумайте об этом! У вас будет столько денег, сколько бы ни понадобилось вам или даже вашему достойному отцу… Вы стали бы леди Лисль, владелицей моего прекрасного поместья и самого роскошного из всех замков в Суссексе… Согласны ли вы на это?… Скажете вы мне «да»?
Лицо Оливии сделалось на несколько мгновений так мрачно и серьезно, каким еще ни разу не видел его Руперт.
– Да, вы, видимо, не принадлежите к числу сентиментальных, – отвечала она, – вы не требуете от меня ни любви, ни верности, ни покорности, а просите меня исключительно о согласии венчаться с вами… Ну, если это так, я, пожалуй, готова отвечать вам теперь же…
– Что вы вполне согласны на мое предложение! – воскликнул с увлечением молодой человек, прижав страстно к губам ее белую ручку.
– Почему бы и нет, – отвечала она.
Глава XX Майор находит своего ученика своевольным
Сэр Руперт вернулся в замок с таким лучезарным лицом, что дети останавливались по дороге, следя за ним взглядом, пока он не скрывался из вида, несясь во весь опор. Он всегда ездил шагом, и сторож изумился, когда Руперт промчался как вихрь вдоль по аллее. Он соскочил с коня перед парадной лестницей и, сильно разгорячившись от бешеной езды, снял торопливо шляпу и стал ею обмахиваться, всходя по ступенькам. Он прошел в оранжерею и увидел там майора, который сидел спокойно на ивовом кресле, покуривая трубку с янтарным мундштуком.
– Не горит ли уж, полно, Чичестерский собор, дорогой мой Руперт? – спросил он иронически. – И вы не прискакали ли за пожарной трубой? Она стоит на мызе, если не ошибаюсь, а ключи от сарая у садовника Джека. Можете обратиться к нему, если хотите! Он выдаст вам ключи.
Майор засмеялся и в то же время пристально посмотрел на баронета.
– Берегите ваше красноречие для тех, которые могут достойно оценить его, – ответил ему с сердцем молодой человек. – Чичестерский собор может сгореть до основания, да и вы вместе с ним: меня это не тронет.
– Вы – олицетворенная признательность, мой дорогой Руперт, – пробормотал майор.
– Пусть сгорит хоть весь Чичестер – мне-то какое дело? – продолжал баронет. – Я ведь самый счастливый человек во всем Суссексе: у меня будет самая красивая жена!
– Как? Самая… красивая… жена? – повторил за ним Варней.
Майор останавливался после каждого слова и потом раскрыл глаза, как будто растерялся совсем от изумления. Сэру Руперту сделалось, наконец, уже неловко под этим странным взглядом.
– Не смотрите так на меня! – проговорил он с яростью. – Я не чудовище, не сиамский близнец, не свинья с женской рожицей… вы не платили шиллинга, чтобы увидеть меня?… Вот что я вам скажу – мне не нравится способ обращения со мной, и я долго не вынесу подобного давления… Я вовсе не хочу, чтобы меня тиранили именно потому, что я не получил того образования, какое бы мне следовало получить при моем знатном происхождении… не хочу больше слушаться ничьих приказаний, не хочу быть осматриваемым, как редкий зверь в зверинце, каким-нибудь майором без копейки в кармане, которому угодно было поселиться у нас… слышите ли вы это? Я не могу терпеть дальнейших унижений!
Дрожащий голос Руперта возвысился до крика, исполненного бешенства. Майор пустил спокойно несколько клубов дыма и тогда только обратил внимание на Лисля и на его слова.
– Опомнитесь, сэр Руперт, – произнес он спокойно. – Вот уж второй раз как вы оскорбляете меня у себя в доме. Так как вы последний, кому я мог бы простить обиду, то я пользуюсь случаем, чтобы сделать вам кое-какие увещания, которые, наверно, произведут на вас желаемое действие. Прежде всего прошу вас вернуться к предмету, о котором вы только что сейчас упомянули. Вы говорили о какой-то женщине – о самой красивой женщине во всем Суссексе; не угодно ли вам объяснить, что вы хотели этим сказать?
– Что я хотел сказать! – воскликнул баронет. – Я хотел заявить вам, что я предложил руку мисс Оливии Мармедюк, которая приняла мое предложение и будет леди Лисль по прошествии месяца; слышали?… Она будет обвенчана со мной!
– Вы поступили слишком опрометчиво, милый Руперт, – заметил майор с загадочной улыбкой, – если б вы не поспешили, а сперва посоветовались с вашим опытным другом, то избавили бы девушку от разных затруднений… Ну, это не беда; дети во многих случаях остаются детьми; вы сделали ошибку, и мы поговорим еще с вами сегодня.
Сэр Руперт не стал слушать и вышел из оранжереи, стукнув стеклянной дверью. В передней подбежала к нему маленькая собачка, которую он с гневом оттолкнул ногой; собачка завизжала, чем заставила Клерибелль выглянуть из гостиной.
– Я прошу вас очистить мой замок от собак, – сказал баронет матери, – в нем будет через месяц новая госпожа!
– Что ты хочешь сказать? – спросила мать.
– Что я хочу жениться по прошествии месяца! Вы смотрите с таким глубоким удивлением, что можно бы подумать, будто я не имею права выбрать жену.
– Да, ты мог бы действительно поступать рассудительнее, – ответила она.
– А! Ну да, я бы должен был испросить предварительного согласия у вас, у майора Варнея да еще у Артура, вашего любимца. Я скажу вам одно: вы хотите забрать меня положительно в руки, но я вам не поддамся! И хочу поступать вполне самостоятельно!
Миссис Вальдзингам отвернулась, не промолвив ни слова, и вернулась в гостиную. С некоторых пор между нею и ее старшим сыном установились какие-то натянутые отношения, которые с каждым днем удаляли их больше и больше друг от друга. Клерибелль горько плакала, потеряв его, но со дня возвращения его ей пришлось страдать несравненно сильнее, замечая, что он далеко не достоин ее ласки и любви. Четырнадцать лет, проведенные им в обществе мрачного браконьера, так изменили первоначально мягкий характер ребенка, что мать приходила в ужас по мере того, как она узнавала его ближе и ближе. Она старалась видимо скрыть свое охлаждение, но Руперт замечал, что происходит с ней. Гнев его не прошел, и после сцены с матерью весь этот день он ходил мрачный, как туча, несмотря на сознание, что мисс Оливия Мармедюк будет его женой. Недалекому уму его казалось, что глубокое спокойствие майора доказывает трусость, и он вывел из этого, что может поступать с ним, как только ему вздумается. В продолжение дня баронет искал случая задеть и оскорбить хоть чем-нибудь майора; он хвастался своим богатством и сильно издевался над бедностью других; после обеда Руперт стал расхваливать свои вина и спрашивал Варнея: пил ли он хоть когда-нибудь подобное бордоское во время своего пребывания в Бенгалии? Ободренный уступчивостью и кротостью майора, он делался все более заносчивым и дерзким. Когда же миссис Вальдзингам упрекнула его за его неумение обращаться с гостями, он громко рассмеялся и ответил на это, что майор готов вынести всякие принижения, чтобы не упустить из рук все им захваченное, и вообще слишком любит богатство и комфорт, чтобы гневаться за дерзости.
– Заставьте вашу жену спеть что-нибудь, майор, – сказал он ему вечером, – пусть хоть она доставит нам развлечение от скуки, если уж вы не можете сделать этого сами!
– Принц желает послушать ваше пение, Ада! – шепнул майор жене. – Возьмите скорее ноты и сядьте за пианино.
Миссис Варней послушно пересела к пианино и стала смотреть в ноты.
– Спросите его светлость, что вам следует спеть! – заметил ей майор.
– О, какую-нибудь швейцарскую песню, – ответил сэр Руперт. – Что-нибудь веселое, с хорошеньким припевом, вроде тра-ля-ля-ля!.. Оливия, виноват – будущая леди Лисль, поет тоже нередко швейцарские песни; и едва ли кто может петь их так, как она.
– Миссис Варней не может, без сомнения, сравниться с будущей леди Лисль, многие твердят, что она обладает очень приятным голосом, и она, разумеется, употребит все силы для того, чтобы успеть угодить вашей светлости.
Ада пела последовательно балладу за балладой своим чудным контральто. Когда баронету надоело уже слушать ее, он вежливо заметил ей, что она теперь может прекратить свое пение. Она встала и села на прежнее место, не получив решительно и слова благодарности за все свои усилия угодить сэру Руперту.
Артур Вальдзингам, который сидел с книгой около своей матери, привстал со своего кресла и произнес торжественно:
– Благодарю вас от души за ваше восхитительное пение, миссис Варней. Брат мой сделал бы то же, если б он только был истинным джентльменом, а так как, к сожалению, это не так, то я выполняю за него этот долг.
Молодой Вальдзингам краснел от обращения сэра Руперта с гостями и высказал бы раньше свое неудовольствие, если б не презирал прекрасного майора за его равнодушие к дерзостям баронета. Руперт взглянул на брата и хотел, очевидно, возразить ему что-то, но потом передумал. Ему пришлось войти как-то раз в бой с Артуром, и с тех пор он заметно стал относиться к брату с особенным почтением. Миссис Вальдзингам поблагодарила Артура нежным взглядом.
– Твой отец был всегда истинным джентльменом, Артур Вальдзингам, – сказала Клерибелль, – я это сознаю, хотя я имела основание не быть им совершенно довольной. Я думаю, что ты похож на него.
Спокойствие изящного майора было поразительно в этот вечер. Он сидел в кресле перед камином и, казалось, вовсе не обращал внимания на происходящее вокруг него. Но когда баронет встал в половине одиннадцатого с дивана, на котором он было задремал, и подошел к столу, чтобы зажечь свечу, майор тоже встал с места.
– Вы сегодня прескучные, так что я лягу спать, – сказал баронет. – Ну-с, чего же вы ждете? – обратился он к майору. – Почему не зажигаете вашу свечу?
– Потому что я ухожу не в свою комнату, а в вашу, сэр Руперт.
Голос майора звучал так странно, что баронет невольно взглянул на него и сильно побледнел, встретясь с его глазами.
– Я не могу больше лишать себя спокойствия и сна для того, чтобы выслушивать ваши нелепости, – проговорил Руперт живо. – Можете подождать и сообщить мне завтра всю эту ерунду!
– Я не намерен ждать ни одного часа, я сказал еще утром, что хочу объясниться с вами сегодня вечером. Потрудитесь идти, – произнес майор Варней, отворив дверь гостиной.
Сэр Руперт колебался, но потом, испугавшись грозного выражения голубых глаз майора, взял свечу и пошел послушно в свою комнату. Майор пошел за ним и, войдя в его спальню, запер тотчас дверь и положил вдобавок ключ от нее в карман. Это была великолепная комната с резными дубовыми карнизами, панелями и потолком. Одна часть панели, та, которая скрывала выход на потайную лестницу, отличалась особенной резьбой и украшалась медальоном, представлявшим игумена в полном облачении. Оконные и кроватные занавески были из фиолетового бархата на белой атласной подкладке. Громадная комната имела мрачный вид, тем более что освещалась в настоящую минуту только одной свечой, принесенной баронетом. Сэр Руперт видел сам, что майор спрятал ключ.
– С чего это вы вздумали запирать дверь на ключ? – спросил он у него.
– Потому что желаю, чтобы наша беседа была без перерыва.
Голубые глаза майора смотрели необыкновенно строго, постоянно улыбавшийся рот его был ненормально сжат; все его добродушие, вся снисходительность и любезность сменились выражением непреклонной решительности. Баронет взглянул украдкой на туалетный столик, где находился сафьяновый футляр с двумя острыми бритвами.
– Поставьте свечу на место, сэр Руперт, и потрудитесь сесть; я вас не задержу! – сказал Варней.
– Надеюсь, – отвечал молодой человек, стараясь казаться совершенно спокойным, – предупреждаю вас, что я скоро засну, если вы засидитесь.
Он притворился сонным и стал громко зевать.
– Не думаю, чтобы вы пожелали заснуть, как только я начну говорить, сэр Руперт.
– Так говорите же и скажите… в чем дело?
– Сэр Руперт Лисль, – начал майор, не сводя с него глаз, – когда люди не хотят видеть, в чем заключается их собственный интерес, не хотят узнавать тех, которым обязаны всем, не хотят сознавать, что последние могут разрушить ими созданное, – то этих господ нельзя назвать иначе, как людьми без ума, нельзя обращаться с ними как с людьми, находящимися в полном рассудке. Помните это, сэр Руперт Лисль! Были люди несравненно умнее и хитрее вас, которые кончали свое жалкое существование в доме умалишенных… Вам угодно было оскорбить меня несколько раз в продолжение дня, а мне было угодно не обращать внимания на ваше поведение – не потому, конечно, как вы воображаете, чтобы я не мог заставить вас раскаяться в ваших словах, но оттого, что не был расположен к расправе! Я не хочу, чтобы кто бы то ни было мог сказать обо мне, что он видел меня вышедшим из себя, как бы ни вызывали мое негодование. Если я и недобр, то имею взамен уживчивый характер. А подобных людей всегда считают добрыми. У них всегда, любезная открытая улыбка, всегда веселый смех; они добродушно смотрят на своего ближнего, между тем как готовят ему верную гибель. Если б я был вынужден убить человека, то я сделал бы это с полнейшим хладнокровием. Я отвечаю на оскорбление не грубыми словами, а искусными действиями. Когда меня оскорбляет мужчина, я могу улыбнуться и простить его; если он оказывает мне сопротивление, я способен простить его все с той же улыбкой. Потрудитесь запомнить это тверже, сэр Руперт, и не подвергайте меня дальнейшим оскорблениям.
Молодой человек придвинул свое кресло поближе к огню. Ему хотелось уверить майора, что он дрожит от головы до ног единственно от холода.
– Никто и не думал оскорблять вас, майор, – сказал он. – Вероятно, вы сочли за обиду какую-нибудь невинную шутку. Вы слишком умны, чтобы видеть в пустой шутке намерение обидеть. Что ж касается моих чувств, то вы не сомневайтесь, что я считаю вас наставником и другом; я не такой безумец, чтобы не сознавать, что вы мне возвратили богатство и права и я обязан вам всем тем, что я имею… Ну, чего же вам больше?
Он протянул майору холодную руку с улыбкой примирения.
– Достаточно ли этого? – повторил он опять.
– Нет еще, – возразил хладнокровно Варней. – Кто-то упомянул сегодня о женитьбе. Вы говорили то, что думали, сэр Руперт?
– Без всякого сомнения!
– В таком случае вы должны отказаться от этой несбыточной идеи…
– Отказаться, сказали вы?
– Да! – отвечал майор. – Я не хочу, чтобы вы женились на Оливии!
– Однако же, мне кажется, что вы, право, заходите уже слишком далеко… Я вам уже говорил, что все, что я имею, вполне к вашим услугам. Вы можете пользоваться моим домом, моим банкиром, но вам вовсе нет дела до женщины, которую я приближу к себе в качестве леди Лисль! Это уже чересчур неуместная шутка.
– Вы увидите, что я, право, далек от всякой шутки; выслушайте меня! Если между вами и мисс Оливией существует малейшее обязательство, то оно должно быть сейчас же уничтожено.
– Этому не бывать! – воскликнул сэр Руперт. – Я не откажусь от Оливии Мармедюк ни для вас, ни для кого на свете! Через месяц, считая с настоящего дня, она будет женой моей, истинной леди Лисль!
– Сумасшедший! – сказал преспокойно Варней. – Никакой леди Лисль не будет в этом доме, пока я существую; никогда не будет наследника, который отстранил бы меня от вашего богатства, которого вы без моего содействия никогда бы не имели; никакой женщине не придется расточать миллионы, которые находились бы теперь еще в чужих руках, если б не мой ум и не моя способность улаживать дела! Вы хотите жениться?! Вы хотите ввести сюда женщину, которая стала бы управлять этим домом?! Вы хотите превратить какую-то мисс Оливию Мармедюк в леди Лисль! Вы – которому бы пришлось прозябать в мастерской или сидеть в остроге, если б я не явился к вам внезапно на выручку?!. Да сжалится над вами милосердное небо, когда вы заставите меня употребить против вас средства, которые я употреблял в течение почти четырнадцати лет на ваше обеспечение!
– Я вас не понимаю, – проговорил сердито молодой человек с той странной настойчивостью, которой он старался скрыть недостаток мужества. – Я знаю только то, что сдержу свое слово, чего бы это ни стоило, и что Оливия Мармедюк будет моей женой.
– Не быть ей леди Лисль! – возразил майор, отпирая дверь спальной. – Спокойной ночи, храбрый владелец Лисльвуд-Парка!.. Вы уже избрали путь – теперь очередь за мной!.. Замечаю, что вы не поняли меня, и потому пришлю к вам лучше Соломона, который даст вам более понятные советы.
Сэр Руперт поспешил раздеться и улечься. Он спал около часа, когда был вдруг разбужен Альфредом Соломоном, стоявшим перед ним со свечой в руках. Молодой человек жаловал Соломона гораздо больше, чем самого майора, и присутствие еврея не стесняло его.
– Что тебе, Соломон? – спросил он еврея.
– О, ничего особенного! Мой господин велел мне передать вам кое-что.
– Говори же скорее: я сильно хочу спать.
– Вы помните, сэр Руперт, поговорку, что стены имеют тоже уши, – отвечал слуга, озираясь, – а так как я должен сообщить вам слова майора по секрету, то буду говорить, разумеется, шепотом.
Соломон нагнулся к подушке баронета и шепнул ему на ухо несколько слов.
Сэр Руперт рассмеялся так, что одеяло чуть было не слетело с кровати.
– И это все? – спросил он. – Это все, что майор поручил передать мне?… Скажи ему в ответ, поклонясь от меня, что я знал это прежде и женюсь через месяц на Оливии Мармедюк.
Глава XXI Сэр Руперт обручен
Борьба между умом и хитростью окончилась победой последней. После описанного нами в последней главе разговора сэр Руперт Лисль выказал себя самостоятельным господином в своем доме. Он не стал больше обращаться за советами к майору, и последний, очевидно, потерял над ним всякую власть. Тот, кто хоть раз шел наперекор баронету, казался ему потом уже врагом. Он стал избегать майора и проводил почти все время в том, что ездил в Бокаже и обратно в Лисльвуд. Оливия Мармедюк ничуть не изменила обращения с ним; она принимала его все так же равнодушно, как и в первый раз; смеялась над его неловкостью, нелепыми разговорами и попытками любезничать с ней. Несмотря на все это, а может быть и вследствие этого, он с каждым днем привязывался к ней все сильней и сильней. Он начал следовать за ней, как собака, и почти при каждом посещении привозил ей какую-нибудь драгоценную вещь. Он как-то заявил, что потребует от банкира хранившиеся у него фамильные бриллианты, но Клерибелль отказалась брать их до свадьбы сына.
– Успеем еще взять их! – заметила она. – Может быть, этот брак еще не состоится!
– Ничто не в состоянии помешать мне жениться, за исключением смерти! – воскликнул баронет с большим воодушевлением.
Только раз упрекнул он Оливию Мармедюк за ее обращение.
– Вы обходитесь со мной буквально как с собакой, – заметил он обидчиво, – вы просто издеваетесь над моей любовью! Я, право, не могу даже верить, Оливия, чтобы вы чувствовали ко мне хоть тень расположения.
Он обедал в Бокаже и сидел в это время с Оливией у пианино, между тем как полковник со старшими дочерьми помещались поодаль, у камина.
– Серьезно? – проговорила равнодушно Оливия, вертя вокруг руки бриллиантовый браслет, подаренный ей Рупертом. – Я вам и не советую верить этому чувству. Вы не могли забыть, как вы предложили мне вашу руку и сердце. «Хотите ли вы, мисс, сделаться леди Лисль?…» – «Да, хочу, сэр Руперт». Вот и все то, что было сказано мной и вами! Могу уверить вас, что я и от природы далеко не мечтательница!
– В этом я положительно даже не сомневаюсь. Мне сдается, что я сделался женихом потому исключительно, что я сэр Руперт Лисль, владелец Лисльвуд-Парка.
– Я тоже это думаю! Но не будем касаться этого обстоятельства. Не думайте, пожалуйста, чтобы в душе моей было намерение надуть вас!.. Вы совершенно правы: я выхожу за вас потому, что вы баронет и вдобавок богаты! Не будь, конечно, этого, я бы и не подумала выходить за вас замуж… Меня, кажется, нельзя упрекнуть в большой скрытности? А если вам не нравится такая откровенность, пожмем друг другу руки и простимся навеки. Я не желаю лучшего.
И она протянула ему нежную руку, на которой сверкали его бриллианты. Вероятно, блеск их кинулся ей в глаза, потому что она заметила шутливо:
– Я, конечно, верну вам все ваши подарки, когда мы распростимся; пусть же вас не удерживают истраченные деньги.
– Я готов вам отдать все свое состояние, до последнего пенни, – сказал он с увлечением. – Больно видеть, что вы ничем не отвечаете на мою беспредельную, искреннюю любовь; но я женюсь на вас, хотя и знаю теперь, что вам нужно единственно только мое богатство… не могу жить без вас!
Немного позднее, когда Оливия и баронет играли за маленьким столом в триктрак, старшая из сестер, бывшая где-то в гостях, вошла в гостиную. Полковник дремал в кресле, Люси и Джен, вторая и третья сестры, сидели за работой.
– Хорошо ли вы провели вечер, Лаура? – спросила ее Джен.
– Нет, напротив того… Но я узнала новость у ректора, которую хочу сообщить вам и прочим!
Она очень насмешливо взглянула на Оливию.
– Если у вас есть новость, говорите скорее, – сказала Оливия, притворно зевая и кончая игру. – Сэр Руперт, я выиграла у вас ровно пять партий… Ну, Лаура, мы ждем, – добавила она, обращаясь к сестре.
Она была замечательно хороша при блеске огня; шея и руки ее были покрыты драгоценными подарками баронета, и старшая сестра смотрела на нее с завистью и ненавистью и была бы готова убить ее на месте. Полковник пробудился при шуме голосов и, оглянувшись быстро, остановил свой взгляд на своей младшей дочери.
– Папа, вы помните Вальтера Ремордена, последнего викария мистера Мильварда? – спросила Лаура.
– Разумеется, помню. Он уехал отсюда тому назад три года, получив пасторат в окрестностях Чичестера. Вальтер Реморден был истинным другом бедных… Он славный человек, и мы были с ним дружны. Мне бы очень хотелось видеть его опять!
Лаура следила пристально за выражением лица своей младшей сестры, которое сделалось вдруг чрезвычайно серьезно.
– Ну, папа, – продолжала она, – бедный Вальтер Реморден должен был против воли покинуть свою паству по слабости здоровья, как это объяснила мне нынче миссис Мильвард. Он ведь родился в Лисльвуде и считает, конечно, воздух родных полей полезным для себя, а потому-то и находится опять у миссис Мильвард, которая была настолько снисходительна, что сама предложила ему гостеприимство.
– Что?! – воскликнул полковник. – Вальтер Реморден в пасторате?
– Да, со вчерашнего дня. Говорят, что он очень и очень изменился… Однако я боюсь наскучить сэру Руперту своими рассуждениями о несчастном викарии… Ну, Оливия, все толкуют о будущей леди Лисль и засыпали меня поздравлениями с блистательной будущностью, предстоящей тебе!
С тех пор как имя Вальтера Ремордена было произнесено старшей мисс Мармедюк, Оливия не шевельнулась и не сказала ни слова; теперь же она встала и со странным, нервным смехом быстро вышла из комнаты.
Полковник поспешил пойти следом за ней.
– Оливия, что с тобой, моя милая дочь! – спросил он ее громко. – Что такое случилось?
– А я знаю, что с ней, – сказал баронет, – ее смутило имя этого человека, о котором шла речь. Я видел, как она изменилась в лице, когда вы только начали упоминать о нем, – обратился он к Лауре. – Советую ему беречься моей мести! Я убью его, кто бы он ни был, если б он вздумал стать между ею и мной!
Полковник с Оливией вернулись через несколько минут. Старик вел свою дочь; глаза ее горели лихорадочным блеском. Жених не осмеливался заговорить с ней первый, но не сводил с нее глаз.
– Прощайте, Оливия, – сказал он, наконец встав и распростившись с остальными присутствующими. – Вы высказали мне сегодня очень ясно, что вы меня не любите; высказали еще и кое-что другое; я вам очень обязан.
Она кинула на него взгляд, полный презрения.
– Вспомните, что ведь я предоставила вам решить так или иначе, – ответила она. – Я готова узнать завтра ваше решение.
На другой день сэр Руперт по приезде в Бокаже попросил позволения поговорить с невестой. Он умолял ее назначить день венчания как можно поскорее и получил согласие.
– Если вы еще намерены жениться на мне, то свадьба может быть, когда вы захотите, – ответила невеста.
– Намерен ли я?! Оливия!.. – воскликнул он с упреком.
– Вы слышали и видели настолько, что могли легко перемениться, и если это так, то будьте откровенны и не скрывайте этого… Но помните, что вы должны пенять на одного себя, если союз наш будет не из числа счастливых!
Когда баронет повторил, что намерение его непоколебимо, Оливия заявила, что не считает нужным откладывать день свадьбы дальше определенного им заранее срока. Одна из ее теток, старая и богатая, прислала ей сто фунтов, узнав, что она делает блистательную партию. В Бокаже то и дело начали появляться модистки, белошвейки, но Оливию не могли заставить примерять наряды.
– Ах, как вы надоели мне с уборами и с лентами! – говорила она с нетерпением. – Вы знаете, что я не обращала прежде внимания на наряды, а теперь я и вовсе не забочусь о них! Нельзя ли избавить меня от этой дребедени?…
– Нечего сказать, Оливия, у будущей леди Лисль прелестный характер, – заметила Лаура. – Мне жаль бедного баронета!
– Жалейте его, Лаура! – ответила Оливия, пристально посмотрев на сестру. – Жалейте сэра Руперта от всего сердца; он нуждается в сожалении!
Глава XXII Лучше всего избавиться от предмета первой любви
Баронет подарил своей невесте чистокровную, великолепную лошадь, которая была нарочно выдрессирована для нее знаменитым берейтором. Замечательно было то обстоятельство, что молодая девушка, прежде ежедневно скакавшая по холмам и лугам на простой крестьянской лошади, почти вовсе не пользовалась этим прекрасным подарком сэра Руперта. Она вдруг почувствовала величайшее отвращение к прогулкам и отговаривалась то головной болью, то опасениями простудиться на ноябрьском воздухе, когда сэр Руперт предлагал ей проехаться верхом. Сестер она избегала по возможности и давала им только односложные ответы; с отцом была серьезна и тиха, а с баронетом сдержанна, равнодушна, грустна. От внимания молодого человека не ускользали все эти подробности.
– Вы бледны, точно мертвая, – сказал он раз невесте, – глаза ваши ввалились, я даже опасаюсь, что вы очень больны! А болезнь ведет к смерти!.. О Оливия, вы должны быть моей женой и вы будете ею!..
Он схватил страстно руки ее и сжал их в своих; казалось, что им вдруг овладела боязнь потерять свою милую, прелестную невесту.
– Оливия, – продолжал он, – почему вы больше никуда не выходите? А Лаура говорит, что вы теперь проводите целый день в своей комнате. Что же могу я сделать, чтобы доставить вам минуту удовольствия?… Я истрачу за раз половину богатства, если вы захотите… Что мне делать? Скажите!
– Ничего положительно, – ответила она, – но оставьте меня хоть на время одну. Сознаю, что я очень нелюбезна, сэр Руперт, быть может, даже зла… но я теперь выдерживаю борьбу сама с собой. Оставьте же меня, и я сделаюсь снова такой, какой была!
– Не понимаю вас, однако тем не менее даю слово исполнить даже это желание, если вы обещаете быть моей женой!
Оливия села у ног отца, опять дремавшего перед камином, а сестры ее сидели у окна, пользуясь последними лучами зимнего солнца. Через несколько минут Оливия встала и ушла, но вернулась почти тотчас же, надев шляпу и шаль.
– Куда же вы идете? – спросила ее Лаура с глубоким изумлением.
– В Лисльвудский пасторат, к миссис Мильвард, – ответила Оливия спокойно.
– Это довольно странно – делать визиты в такое позднее время; вы придете туда не ранее как к ночи. Не лучше ли вам будет идти туда уже в качестве леди Лисль? Ведь Вальтер Реморден отправится не раньше как по прошествии праздников.
– Вы, Лаура, злы и желчны, как все старые девы! – воскликнула Оливия. – Сердце моей собаки вдвое добрее вашего… Я хочу идти в пасторат именно теперь, когда весь Лисльвуд-Парк следит зорко за мной! Можете говорить и думать обо мне, что вам только угодно. Прощайте!
Молодая девушка вышла нетвердыми шагами из гостиной и с силой захлопнула за собой дверь.
Что могу я сказать о своей героине? Признаюсь, что эта далеко не совершенная, а исполненная недостатков девушка, – что скажу я о ней? Она не отличается хорошим характером; она вспыльчива и своевольна, но, с другой стороны, в ней много откровенности и великодушия. Не проходило и получаса после какой-нибудь стычки с сестрами, из которой она обыкновенно выходила победительницей, как она отыскивала побежденных и умоляла их о прощении с такой покорностью, с таким искренним раскаянием, что те уже поневоле должны были мириться. Отца она любила до такой степени, что просто ревновала его; но хоть эта привязанность радовала его, она отстраняла изъявления любви со стороны его остальных дочерей, так как Оливия страшно сердилась на сестер, когда они ухаживали за угрюмым полковником.
Когда она, выйдя из дома, пошла по направлению к деревне Лисльвуд, ее вдруг охватило холодом и туманом. Бокс следовал за ней и начал потом прыгать вокруг своей хозяйки, пачкая ее платье грязными лапами. Оливия нагнулась и обвила руками шею животного.
– Бокс!.. Верный, славный Бокс!.. Я вспоминаю день, когда он наклонился, чтобы приласкать тебя, чтобы поцеловать твою умную морду.
Она прижала губы к косматой голове его, как будто промелькнувшее в уме воспоминание придало ее Боксу еще больше цены.
– Какая же я глупая! – сказала она, продолжая свой путь. – Какая я безумная или, вернее, слабая! Что подумают обо мне после этого посещения? Сколько дурных последствий будет оно иметь для меня и других!.. Как будто обстоятельства сложились и без этого не довольно печально!.. Но нельзя сделать иначе… Это должно быть так!
Пройдя Лисльвуд и кладбище, Оливия очутилась у ворот пастората; тут она остановилась и прислонилась к высокой стене, которая отделяла кладбище от огорода мистера Мильварда.
«Мне хочется вернуться, – подумала она. – Прогулка уменьшила, рассеяла тоску мою, да и, кроме того, я была здесь, вблизи признака огня; следовательно, он не сидит дома и вовсе не так болен, как говорила Лаура… Он, вероятно, в гостиной, – продолжала она, заглядывая в большое освещенное окно. – Нет, я вернусь домой».
Она очень решительно повернула назад, но в это же мгновение подошла к пасторату одна из служанок ректора, знавшая мисс Оливию. Она сейчас узнала в ней младшую дочь полковника, потому что за ней бежал косматый Бокс, известный всему Лисльвуду точно так же, как все семейство Мармедюков.
– Мисс Оливия Мармедюк… – воскликнула служанка. – Я сначала не знала, кто стоит у ворот, но увидела Бокса и тотчас догадалась. Вы уже были у нас?
– Нет, – сказала Оливия, покраснев под вуалью.
– Так вы идете к ней, мисс? Хозяйка вспоминала о вас не дальше как вчера и говорила, что хотела бы очень увидеться с вами. А мистер Реморден… вы ведь помните его, мисс? Он был так дружен с вами, да и отец ваш, кажется, принимал его ласково… ну, он гостит у хозяина… Ах! если б вы знали, как он переменился! Но вы идете? – повторила служанка.
– Да, иду! – отвечала отрывисто Оливия.
Служанка провела ее через калитку, через огород и хорошенький садик. Ряды обнаженных деревьев промелькнули перед глазами молодой девушки, как тени; она не успела еще даже опомниться, как уже очутилась в гостиной миссис Мильвард, в присутствии трех лиц: ректора, который писал что-то за столом, жены его, работавшей возле камина, и молодого человека, лежавшего на диване по другую сторону камина. Это был Вальтер Реморден, экс-викарий лисльвудский.
– Милая моя, вы очень хорошо сделали, что пришли, – сказала миссис Мильвард, пожимая руку Оливии, – я уже думала, что вы позабыли нас всех, а между тем вас не могло удержать от свидания с нами даже такое позднее время… Ваша шаль вся измокла, я прикажу Сусанне высушить ее, так как вы, конечно, не откажетесь напиться с нами чаю.
Оливия молча позволила снять с себя шаль. Она еще не сказала ни слова с тех пор, как вошла в гостиную, и не подняла даже вуаль; она даже не ответила на искренние приветствия ректора и больного и только перевертывала машинально перчатки. Бокс вошел вслед за ней в гостиную и стоял посредине коврика, оглядываясь.
Вальтеру Ремордену было около тридцати. Несмотря на болезнь, он был несравненно красивее баронета; лицо у него было смуглое, загорелое; на широкий и низкий лоб падали черные как смоль кудрявые волосы, а большие серые глаза были в высшей степени выразительны; когда вошла Оливия, Вальтер читал газету, в которую он снова углубился всецело, закрыв ею лицо, тотчас после обмена несколькими фразами с нежданной посетительницей.
Миссис Мильвард обрадовалась случаю поболтать с мисс Оливией. Она заставила ее снять шляпу, и викарий опустил на минуту газету – «Брайтонский герольд» или «Суссекский Меркурий», – чтобы взглянуть на бледное лицо невесты лорда Лисля; молодая девушка отвечала спокойно на вопросы хозяйки. Она разговорилась даже о сэре Руперте и приготовлениях к свадьбе; но она никак не могла отделаться от убеждения, что голос ее звучал чрезвычайно странно и ее обращение должно казаться всем таким же неестественным, каким казалось ей. Спустя много лет она еще помнила вид, который имела в тот осенний вечер маленькая гостиная, позу Вальтера на диване, его черные волосы, видневшиеся из-за газеты, бывшей в его руках, ярко-красные занавески, пылающий камин; ландшафты, висевшие на стенах пастората, стук чашек и шипение большого самовара – все эти ничего не значащие мелочи, составлявшие обстановку тяжелой для нее сцены, запечатлелись в памяти ее неизгладимым образом.
После чаю мистер Мильвард ушел в ризницу, где происходило маленькое собрание, а миссис Мильвард взялась снова за работу и приготовилась продолжать беседу с Оливией. Мисс Мармедюк заявила сначала, что пробудет у нее не более получаса, а между тем сдавалась на просьбы хозяйки пробыть еще немного! Это не доставляло ей и тени удовольствия, однако ей было трудно уйти из уютной, освещенной гостиной.
– Ну, дорогая моя, – начала миссис Мильвард с торжествующим видом после ухода мужа, – теперь вам уж придется остаться до возвращения мистера Мильварда, потому что он должен проводить вас домой.
– Папа пришлет за мной, когда он увидит, что я не возвращаюсь, – проговорила машинально Оливия.
Вальтер Реморден оставил газету и мало-помалу вмешался в разговор. Через какое-то время миссис Мильвард вышла в кухню к кому-то пришедшему к ней с просьбой о помощи. Оставшись наедине с викарием, Оливия начала ласкать собаку, положившую голову к ней на колени.
– Когда вы возвращаетесь в Чичестер, мистер Реморден? – спросила она вдруг.
– Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь туда! – отвечал он спокойно. – Мне предлагают пасторат в Бельминстере, который предоставляет мне во многих отношениях вдвое больше удобств!
Сомнительно, чтобы Оливия расслышала слова его; она продолжала теребить уши Бокса, задумчиво смотрела на огонь и вдруг проговорила:
– Вальтер Реморден! Вы должны презирать меня в настоящее время!
Он так великолепно владел своими чувствами, что всякий посторонний счел бы его, конечно, неспособным к волнению; но лицо его изменилось при вопросе Оливии, и он произнес, с умоляющим жестом протянув свои бледные, исхудалые руки:
– Умоляю вас именем всего, что для вас свято, не вспоминайте о прошлом, ни даже одним словом. Я боролся с собой… я горячо молился, чтобы Бог послал мне силу перенести все страдания; вы не должны дотрагиваться до заживших уже ран… да – до заживших! – повторил он с каким-то невольным увлечением. – Я живу теперь единственно для того, чтобы исполнить обязанности свои в качестве служителя церкви, но я не молю Бога возвратить мне здоровье. Да простит Он мне за то, что у меня проявилось желание переселиться из этого дома прямо в могилу!
Молодая девушка не отрывала глаз от огня.
– Я очень рада слышать, что ваши раны зажили, – сказала она, сопровождая свои слова каким-то странным смехом, – это, по крайней мере, избавляет меня от упреков в измене… в измене по расчету, которую способна совершить только женщина с громадным честолюбием и думающая только о личных интересах. Должно быть, что меня соблазнило богатство сэра Руперта в соединении с его громадным титулом, – продолжала Оливия, – оно поразило меня своим резким контрастом с нашей нищетой, да еще в такой степени, что я даже забыла обещание, данное вам тому назад два года. Я выстрадала многое, но я довольна тем, что вздумала прийти сюда сегодня вечером; я теперь успокоилась!.. В моем уме сложилось от чтения романов странное убеждение, что разбить жизнь и сердце честного человека дело весьма не трудное!
Оливия не успела досказать свою мысль, как отворилась дверь и в гостиную вошел Руперт Лисль. Он бросился в кресло, не снимая шляпы и не обращая внимания на присутствие Вальтера.
– Я был в Бокаже, мисс Мармедюк, – сказал он тоном плохо скрытого бешенства. – И Лаура сообщила мне, что вы пошли сюда; так как я нахожу неприличным для будущей леди Лисль и жены моей бегать ночью по улицам, то и приехал за вами.
– Мне не пришлось бы ходить ночью одной по улицам, сэр Руперт, – возразила Оливия, сверкнув гневно глазами. – Все живущие в этом доме знают не хуже вашего, что прилично для мисс Оливии Мармедюк, которая ни в чем не уступает будущей леди Лисль… Снимите вашу шляпу, сэр Руперт, – добавила она повелительно, – и позвольте мне представить вас мистеру Ремордену, другу нашего дома!
Каковы бы ни были подозрения, зародившиеся в голове баронета, как сильна ни была его ревность – смелость Оливии успокоила его сразу. Он ответил на поклон Ремордена небрежным поклоном и решился даже пробормотать сквозь зубы, что он очень рад познакомиться с ним; но Вальтер, к сожалению, не обратил внимания на эту снисходительность.
– Я желаю, чтобы вы возвратились домой, – обратился сэр Руперт снова к своей невесте. – Мне без вас жизнь не в жизнь. Я обедал сегодня в замке, но после мне стало так скучно и грустно, что я велел оседлать свою рыжую лошадь и поскакал в Бокаже. На дворе сильный дождь, но я позаботился приготовить для вас карету от гостиницы «Куронн»… Идем, идем, Оливия!
– Дайте только проститься с миссис Мильвард, сэр Руперт, – отвечала она.
Лорд Лисль вышел отдать приказания кучеру.
Вальтер с большим трудом поднялся с дивана и встал подле молодой девушки, опираясь рукой на мраморный камин.
– Оливия, скажите, этот брак решен бесповоротно? – произнес он с волнением.
– Вполне бесповоротно! – ответила она.
– Вы не можете взять обратно обещание, данное опрометчиво этому человеку?
– Не могу и не сделаю.
– Да поможет вам Бог в таком случае, бедная! Я не смею уговаривать вас сделать то, что вы сами считаете бесчестным, хотя бы это могло устроить ваше счастье… Жаль, что я не увидел этого человека раньше, когда вы еще не давали ему вашего слова. Я бы стал тогда молить вас на коленях отвергнуть предложение. Я знал, что вы не любите его и что вас ослепил блеск его положения, но я, по крайней мере, не сомневался в том, что лорд Лисль – джентльмен!
Миссис Мильвард и сэр Руперт вернулись в гостиную прежде, нежели Оливия успела возразить на это заявление. Десять минут спустя она уже молча сидела в карете, а баронет скакал рядом с нею верхом на своей рыжей лошади. Молодая девушка нервно вздрагивала, смотря сквозь опущенные стекла на мрачную фигуру молчаливого всадника.
«Мне кажется, как будто меня везут в тюрьму, а это – мой тюремщик», – подумала она.
Глава XXIII Свадьба Оливии
В последний день ноября длинный ряд карет тянулся от стен кладбища до улицы Лисльвуда, ожидая аристократов, собравшихся в церкви, чтобы присутствовать при бракосочетании сэра Руперта Лисля с мисс Оливией Мармедюк. Баронет выразил желание, чтобы свадьба была как возможно роскошнее. Он хотел, чтобы весь Суссекс мог видеть, что он женится на первой красавице этого графства, и разослал повсюду приглашения на празднество. Свадебный пир был приготовлен в Лисльвуде, а не в Бокаже, по настоянию сэра Руперта, смотревшего на всех с видимым недоверием.
– Я, право, не думаю, чтобы в вашем тесном доме могла бы поместиться и половина публики, которая должна присутствовать на свадьбе.
Итак, мисс Оливия Мармедюк пошла к алтарю в сопровождении целой толпы роскошно разодетых женщин и изящных мужчин. На этот раз церковь казалась настоящей выставкой великолепнейших шелковых материй, кружев, белых перьев, превосходных искусственных цветов со сверкавшей бриллиантовой росой, золотых флаконов с духами и множеством других предметов роскоши. У воспитанников и поселян, наполнявших углы, разбегались глаза от созерцания этого богатства и чудес; нужно добавить, кстати, что они разошлись не совсем-то довольные свадебной церемонией.
Сторож лисльвудской церкви, с огромной жилеткой на, выказал себя нелюбезным относительно крестьян, сгонял их со скамеек, заставлял их прятаться в углах и за колоннами и, казалось, считал совершенно излишним существование их в этот памятный день.
– Ну, уж если б я знал, что вы будете все совать сюда носы, то я, разумеется, распорядился бы иначе, – говорил он каждому входившему крестьянину. Всеми чтимый епископ, родственник Лисля, приехал в Лисльвуд-Парк из восточной части Англии, чтобы совершить брачный обряд. Этот достойный муж был поражен манерами и вообще обращением своего молодого и богатого родственника; щеки Руперта Лисля были покрыты бледностью, а кончик его носа покраснел от мороза. Едва ли наружность баронета производила когда-либо более невыгодное впечатление, чем в настоящую торжественную минуту. Платье не шло ему, а цветок, продетый в петлицу его фрака, потерял свою свежесть и быстро осыпался. Сэр Руперт уронил еще вдобавок шляпу посредине церкви, и она покатилась, что вызвало улыбку на лицах представителей гордой аристократии и шушуканье в массе деревенского люда, подавленное грозными взглядами сторожа. Рука баронета, которую он подал Оливии Мармедюк, была холодна и дрожала как лист.
Но невеста, напротив, была очаровательна. Лисльвуд давно признал мисс Оливию Мармедюк красавицей, хотя и редко видел ее иначе, как одетую в зеленую амазонку, соломенную шляпку и большую поношенную шаль. Теперь же, в подвенечном наряде, с венком из померанцевых цветов и лилий, окутанная, как облаком, вуалью из драгоценных кружев, она напоминала собой королеву, и ее встретили восклицания восторга, когда она вошла в церковь в сопровождении отца.
Миссис Вальдзингам, все еще красивая, несмотря на свои сорок лет, была одета в серое атласное платье, а на миссис Варней было чудное платье янтарного цвета, которое сверкало на солнце, будто золото. Она даже затмила красотой невесту, и многие спрашивали: кто эта восхитительная женщина?
Казалось, что майор теперь вполне сочувствовал браку, против которого он восставал вначале. Он присутствовал в церкви и был в очень хорошем расположении духа. Быть может, последнему обстоятельству способствовало свидание, которое он имел накануне венчания с молодым баронетом. Свидание это имело серьезный характер: оно кончилось тем, что Соломон был призван в качестве свидетеля при составлении какого-то акта, написанного майором и подписанного сэром Рупертом Лислем. Таким образом, был водворен мир в Лисльвуд-Парке, и епископ совершал теперь торжественный обряд над Оливией Мармедюк и над молодым владельцем Лисльвуда, холодная и влажная рука которого все еще продолжала дрожать в руке невесты. По окончании церемонии ряд экипажей потянулся к замку, где должен был начаться пышный свадебный пир с неизбежной обстановкой разных интриг и сплетен. Едва ли во всей этой суетливой толпе можно было найти несколько человек, подумавших о будущем молодой, уехавшей в три часа, при звоне колоколов, в Фелькстон, откуда она была намерена отправиться на континент.
Полковник Мармедюк с четырьмя дочерьми остался обедать в замке, в обществе Клерибелль, ее младшего сына, майора и миссис Варней. Этот маленький кружок провел время довольно хорошо; Клерибелль сделалась веселее обыкновенного с минуты отъезда сэра Руперта, да и майор был в особенно хорошем настроении духа. Дочери полковника обводили изумленными взглядами роскошные залы Лисльвуда, который сделался теперь, безусловно со всем, к нему принадлежащим, собственностью их младшей сестры.
– Как хороша была леди Лисль под венцом! – заметил майор Варней.
Клерибелль слегка вздрогнула, услышав это имя, которое она носила сама в дни былые, а все сестры Оливии задрожали от зависти: «Леди Лисль! Да, она в самом деле сделалась леди Лисль!»
Накануне свадьбы Вальтер Реморден оставил свое тихое родное село, которое он любил так сильно, не потому, чтобы оно само по себе имело какую-нибудь особенную привлекательность, а вследствие связанных с ним дорогих воспоминаний. Он поехал в Лондон с курьерским поездом и полюбовался еще раз бесконечными равнинами. Они показались ему прекрасными, даже и под холодным, серым осенним небом, и он мысленно говорил себе, что лучше Суссекса нет графства в целой Англии.
«Я отъехал не больше двадцати миль от места своего рождения, а уже сожалею, что покинул его, – размышлял Реморден. – Как трудно удаляться от всего дорогого! Но я никак не мог оставаться в Лисльвуде, где меня ожидали постоянные встречи с леди Оливией Лисль!»
Вальтер Реморден принял пасторат в Йоркшире с целью избежать встреч с любимой им женщиной. Мистеру Мильварду был тоже обещан другой приход, и Реморден мог бы последовать за ним, так как епископ епархии хорошо знал молодого человека; но Провидению угодно было, чтобы он поселился в глухом провинциальном городке Бельминстер, куда он и прибыл вечером дня венчания Оливии Мармедюк.
Читатель не забыл, конечно, что Бельминстер и есть тот самый городок, который посетил мистер Соломон летом этого же года. Ничто не изменилось со времени посещения этого джентльмена. На станции железной дороги были все тот же начальник, тот же носильщик, тот же кассир, те же книги и журналы на полках и чуть ли не те же самые пирожки и бутылки с содовой водой в буфете. Невзрачная карета, запряженная одной лошадью, которая когда-то взяла приз в одном беге вокруг этого города, доставила Вальтера со всем его багажом в гостиницу, в которой появление путешественника вызвало в одно время и радость и смущение. Несколько местных торговцев собирались каждый вечер в зале этой гостиницы, чтобы потолковать за стаканом пива о достоинствах и недостатках выборных Бельминстера. Иногда приезжал какой-нибудь приказчик, желавший предложить свой товар, заключавшийся в предметах ежедневного потребления, закусывал в гостинице – и уезжал обратно. Но джентльмен, который оставался дня на два, был, безусловно, редкостью, и ему оказывался всевозможный почет. Вальтера повели по широкой лестнице в комнату, где для него уже был разведен огонек и находились зеркало, картина, представлявшая церковь и изображение лошади, выигравшей когда-то большой золотой кубок. Хозяйка гостиницы, угадавшая по виду чемодана, что видит мистера Ремордена, назначенного быть викарием Бельминстера, подняла тотчас штору и указала ему на церковь, находившуюся прямо напротив окна, по ту сторону рынка.
– Собор находится на другом конце города, – сказала она. – Ваша церковь, основанная во имя святого Клемента, славится своей красивой постройкой и построена, кажется, еще раньше собора.
Молодой человек машинально взглянул на действительно древнюю и красивую церковь. Ему трудно было заинтересоваться своими новыми обязанностями, но все же он много расспрашивал о бедных жителях города, пока хозяйка накрывала на стол и подавала ужин, которого было бы достаточно для двенадцати человек: он состоял из хлеба, яичницы с ветчиной, цыплят, маленьких паштетов, пирожного, сыра и консервов. Все это хозяйка называла закуской. Из ее разговора Реморден заключил, что ему предстоит много дела в Бельминстере и положительно не останется времени на бесплодные сожаления и тоскливые воспоминания о невозвратном прошлом.
«Самое прекрасное в этой вере, которую реформация подвергла известным изменениям, – рассуждал Вальтер Реморден, оставшись один в комнате, – есть, бесспорно, то чистое и то святое чувство полного отречения от своих личных выгод, которое католицизм вменяет в обязанность всем служителям церкви. Да, на самом деле, вправе ли человек, посвятивший себя и свою душу Богу, допустить над собой влияние земных желаний и страстей? Он и в свете и в келье обязан думать только об исполнении долга!»
Не следует забывать, что Вальтер Реморден легко мог укрепиться в таких убеждениях со времени измены Оливии Мармедюк, разбившей навсегда его душу и будущность.
Глава XXIV К сэру Руперту является старый друг
Сэр Руперт и леди Лисль пробыли на континенте шесть месяцев. Они посетили Флоренцию, Рим и Неаполь; посетив Берлин, Дрезден и рейнские берега, они отправились в Париж, откуда вернулись в Англию в середине июня. Каштановые деревья уже были в полном цвету, когда миссис Вальдзингам, полковник и его дочери вышли на парадную лестницу замка, чтобы встретить баронета с молодой женой. Старик горел желанием обнять скорее дочь; но сестры Оливии торопились узнать, как она себя держит и насколько она счастлива со своим мужем. Из писем ее нельзя было узнать ничего ясного, так как все они были крайне сухи и коротки. Она еще и раньше не любила писать, а со дня своего брака отказалась, по-видимому, от всяких излияний. Сэр Руперт выскочил из фаэтона, которым правил сам, и, бросив вожжи груму, направился к конюшням, сделав общий поклон всем стоявшим на лестнице.
– Руперт, куда же ты? – крикнула миссис Вальдзингам, между тем как полковник поспешил высадить Оливию из фаэтона.
– Я иду на конюшню, чтобы выкурить трубочку, – ответил баронет. – Я сидел так долго в проклятом вагоне, что чувствую потребность пройтись на свежем воздухе.
Сэр Руперт, очевидно, вынес немного пользы из своих путешествий. Политура не пристает к грубому дереву, а требует, чтобы известная поверхность была хоть несколько приспособлена к принятию ее, – так и на угрюмого, невосприимчивого сэра Руперта не произвели впечатления ни величественные картины природы, ни бесподобные произведения, ни ясное небо Италии и классически прекрасные лица ее жителей – ничего из того, что так облагораживает понятия и вкусы. Он вернулся на родину более резким и неприятным, чем был, находясь в Англии; одет он был неряшливо, чего нельзя было сказать прежде о нем, так как майор всегда выбирал для него предметы туалета. Его верхнее платье было куплено в одном месте, шляпа – в другом, жилет, шпоры и галстук – в третьем или в четвертом. На груди блестело множество драгоценных камней; все магазины улицы de-la Paix и Palais-Royal'a были перерыты сверху до низу, чтобы доставить баронету необходимое количество изумрудов, рубинов, опалов, аметистов, яхонтов и бирюзы. Все пальцы его рук были покрыты перстнями; часовая цепочка изогнулась под тяжестью навешанных на нее печатей и брелоков.
– Пусть знают, что я в силах купить все, что у них есть хорошего, – говорил он, когда воображал, что ему оказывают слишком мало почета в том или другом городе.
Он кричал и разражался проклятиями на родном языке, разговаривая с хозяевами гостиниц; в особенности же злился он, примечая, что его не понимают: он начинал вопить, что принудит понять его распоряжения! Несмотря на презрение ко всем немецким винам, он пил их в изобилии, так что изъездил Австрию, Пруссию и Бельгию в бессознательном состоянии. Он зевал перед замечательнейшими картинами, говорил громко в церкви, звеня бесцеремонно своими золотыми сверкающими шпорами. Даже курьер, который сопровождал его, пожимал плечами и предоставил его на произвол судьбы.
– Для леди Лисль, – сказал он, – я готов сделать все, но для этого чучела…
Он кончил свою фразу энергичными проклятиями и, садясь в омнибус, сказал во всеуслышание:
– Я умываю руки, чтобы с ним ни случилось: он чуднее и несноснее всех прочих англичан!
Курьер так и уехал, оставив баронета проверять счет гостиницы и болтать разный вздор со слугами ресторана.
Мы действительно пользуемся за границей тем преимуществом, что всякого чересчур неприятного человека считают представителем нашей английской нации. Молодая же леди никогда не выказывала ни чувства удивления, ни досады, ни грусти; презрение ее к мужу было настолько сильным, что она притворялась, будто не слышит и не видит его. Когда ему подчас приходила фантазия идти наперекор желаниям жены, она тоже не жаловалась, но упорно настаивала на принятом решении. Так как сэр Руперт был и физически тоже послабее ее, то она и таскала его на осмотр всевозможных картинных галерей до тех пор, пока он не падал от усталости. Леди Лисль вызывала общее восхищение, а это обстоятельство было очень приятно пустому и тщеславному сэру Руперту Лислю.
– Не жалейте моих денег, дорогая Оливия, – сказал он ей однажды. – Бросайте их в окно, если это вам нравится! Этого добра вдоволь у моего банкира. Докажите этим чопорным иностранцам, что жена богатого английского баронета стоит по крайней мере шестерых герцогинь, которые имеют не больше четырехсот или пятисот фунтов годового дохода и питаются только морковью и капустой.
Но поездка окончилась, и леди Лисль вступила в замок своего мужа – в качестве его новой, полновластной хозяйки. Клерибелль приготовилась удалиться из Лисльвуда, как только новобрачные возвратятся домой. На другой день приезда леди Лисль натолкнулась случайно на свекровь, одетую в дорогу и в сопровождении горничной.
– Что вы хотите делать? – воскликнула Оливия. – Чьи это чемоданы?… Миссис Вальдзингам, неужели вы хотите уехать?
– Да, я шла проститься с вами, леди Лисль, – ответила холодно Клерибелль. – В течение вашего медового месяца я оставалась в замке моего сына только как гостья. Я отправляюсь в Брайтон, где наняла себе квартиру. Сэр Руперт потрудился высказать мне как можно яснее, что нам нельзя жить вместе, хотя я сознавала это гораздо раньше.
Леди Оливия, слушавшая ее с глубоким изумлением, схватила Клерибелль неожиданно за руку и потащила ее за собой в библиотеку.
– Ну, миссис Вальдзингам, – начала она, усадив ее в кресло возле окна, – объясните же мне хорошенько суть дела! Сэр Руперт оскорбил вас?… О, я не сомневаюсь, что он очень способен оскорбить свою мать, – добавила она в ответ на движение Клерибелль, которая, краснея против воли за сына, старалась скрыть лицо от глаз своей невестки. – Дорогая миссис Вальдзингам, – продолжала Оливия. – Знаю, что я имею меньше всех право высказывать вам подобные горькие истины. Каким бы ни был сын ваш, я не должна, конечно, говорить о нем дурно! Я этого не делала и никогда не сделаю. Я не особенно стесняюсь в выражениях с ним, но не позволяю себе высказывать другим моих мнений о нем… Милая миссис Вальдзингам, я умоляю вас не уезжать из дома только потому, что я вошла в него! Хотя я и не принадлежу к числу очень общительных и приятных людей, но тем не менее у меня не явится желания огорчить вас и мысленно. Если только вы можете сочувствовать созданию, которое не знало никогда ласки матери, то сжальтесь надо мною! Сестры мои и прежде не любили меня! Они теперь завидуют моему положению… Да помоги мне Бог!.. Сжальтесь надо мною и любите меня, если вы в состоянии выполнить мою просьбу!.. Позвольте мне считать и называть вас матерью, которой я не знала!
Обворожительная леди Лисль опустила свою прекрасную головку на плечо Клерибелль и горько зарыдала.
Это короткое свидание имело громадное влияние на обоюдные отношения этих двух женщин. Миссис Вальдзингам осталась в Лисльвуде, но отказалась наотрез жить в замке, а выкупила дом и земли, принадлежавшие когда-то ее тетке, мисс Мертон, которые находились в чужих руках со дня бракосочетания Клерибелль с сэром Режинальдом Лислем.
Все окрестные жители не замедлили убедиться, что Оливия Лисль тратит щедрой рукой доходы баронета. Она пригласила в замок столько гостей, что все мансарды и чердаки были переполнены лакеями и горничными. Она стала вести самую веселую и шумную жизнь; давала сельские праздники в парке, причем главная аллея иллюминировалась бесчисленным множеством разноцветных фонарей; сама управляла постройкой новых конюшен с прекрасными соломенными крышами и наполнила их охотничьими лошадьми. За замком устроили манеж, в котором она ежедневно ездила верхом, перескакивала через воображаемые препятствия и выделывала всевозможные маневры на лошади. Давно уже забытая коллекция мячиков была приведена в надлежащий порядок, и поселяне часто видели на дворе группу игроков в мяч, во главе которой находилась миледи. Все это делалось без участия сэра Руперта. Он подписывал чеки под диктовку жены – один взгляд ее черных великолепных глаз уничтожал в зародыше все его возражения. Безумная любовь, которая заставила его спешить так перед свадьбой, давно уже остыла. Она принадлежала безраздельно ему, и этого сознания было вполне достаточно для его самолюбия. Хотя леди Оливия и держала его, очевидно, в руках, но он видел в ней только часть своего богатства, которой он мог распоряжаться так же, как он распоряжался лошадьми и собаками. Он боялся последних не менее Оливии, но он купил их всех: жена, собаки, лошади сделались его собственностью. Желания баронета не заходили далее.
Лето прошло в увеселениях всевозможных родов, от которых лорд Лисль был вполне устранен. Майор, жена его и Соломон, бывшие летом в отсутствии, возвратились осенью в Лисльвуд. Ловкий индийский офицер хорошо знал, чем мог понравиться леди Лисль, и последняя, никогда не совещавшаяся с мужем, стала принимать советы майора с удовольствием. В таком-то положении были дела, когда настал конец осени и вместе с тем и первого года брачной жизни Оливии и когда одно происшествие вызвало первую ссору между женой и мужем.
В один ноябрьский вечер Оливия возвращалась с прогулки в равнинах и, подъезжая к замку, заметила какую-то женщину, сидевшую на маленькой скамейке, стоявшей за решеткой парка, прямо против сторожки, которую некогда занимал Жильберт Арнольд с женой. Эта женщина была мала ростом, худа и очень бедно одета; возле нее лежал небольшой узелок. Она подняла голову, когда сторож отворил ворота, чтобы пропустить Оливию, и умоляющее выражение ее лица до того поразило леди Лисль, что она остановила лошадь, чтобы поговорить с бледной незнакомкой.
– Что с вами, милая? – спросила она.
Владелица замка делала много добра, но была тем не менее довольно осмотрительна: ложь и притворство не достигали цели в применении к ней. Она пристально всматривалась в незнакомку, которая встала со скамейки, – но не нашла в этом бледном, изможденном лице ничего, что могло бы возбудить подозрения.
– Что вам угодно от меня, милая? – повторила она.
Она любила, чтобы ей объясняли прямо, без всяких околичностей, чего от нее хотели.
– Миледи, – начала незнакомка, запинаясь под пристальным взглядом Оливии. – Вы ведь леди Лисль?… Не правда ли, вы его жена, миледи?
– Да – я жена сэра Руперта Лисля. Но к чему эти вопросы? – проговорила Оливия довольно сухо.
– О миледи, говорят, что вы очень добры и милостивы к бедным людям… позвольте же мне взглянуть на моего… виновата… на сэра Руперта, хотела я сказать. Больше я ничего не прошу.
– Но вам уже сказано раз навсегда, что сэр Руперт не желает вас видеть, – подхватил сторож, следивший за этим разговором. – Ей сказано это, миледи. Она пришла часа два тому назад и просила позволения повидаться с сэром Рупертом; я ей объяснил, что это невозможно. Тогда она решилась подождать здесь выхода сэра Руперта, хотя я и говорил, что он едва ли выйдет куда-нибудь, так как холодный воздух вреден ему. Потом она настойчиво начала просить, нельзя ли переслать ему оторванный от старого конверта лоскуток бумаги, на котором она написала карандашом свое имя. Долго она просила, вопила и плакала, пока я, наконец, не исполнил ее каприза, отослав своего сына с клочком бумаги в замок. И что же вышло из этого? Мой сын вернулся и рассказал мне, что камердинер посоветовал ему никогда больше не брать на себя подобных поручений. Дело в том, что сэр Руперт, взглянув на посланный ему клочок бумаги, затрепетал от гнева и произнес проклятие, а затем сказал, что если он еще раз увидит это имя, если еще будут надоедать ему подобными глупостями, то он заставит назойливых просителей ознакомиться с тюрьмой.
– А! Он это сказал?! – воскликнула незнакомка, падая на скамейку с выражением отчаяния. – Он решился сказать такие бессердечные, ужасные слова… Господи! Боже мой!
Леди Лисль соскочила в ту же минуту с лошади и бросила поводья провожавшему ее груму.
– Ведите лошадь в стойло, а я поведу эту женщину к себе, – сказала она.
– Ну, уж это не дело! Беспокоить сэра Руперта с его слабым здоровьем разговором с бродягами! Ведь их немало в графстве! – дерзнул заметить сторож.
– Молчать! – крикнула леди и сказала потом, обращаясь к незнакомке: – Идите со мною и расскажите мне, чего вы добиваетесь. Кто вы и что вам нужно от сэра Руперта Лисля?
– Вам, вероятно, приходилось слышать мое имя, миледи: я знала сэра Руперта еще в дни его детства и делала все, что можно было сделать при моей страшной бедности, чтобы ему жилось у меня попривольнее. Затем явились люди, которые стали между мной и им… Подчинившись их влиянию, он уехал, не обратив на меня никакого внимания, не взяв меня с собой, как мне, конечно, следовало ожидать от него…
Женщина рыдала и немного спустя добавила вполголоса:
– Все мои усилия уберечь его от дурного не имели успеха… Но я никак не думала, чтобы он был способен обращаться со мной так бесчеловечно.
– Но боже мой! – воскликнула леди Оливия Лисль, терпение которой истощалось при виде этих жалоб и слез. – Скажите же, наконец, кто вы и что имели общего с моим мужем?
– Я жена Жильберта Арнольда, миледи, – этого сторожа, о котором вы, должно быть, слышали раньше.
– Я действительно слышала эту крайне запутанную, печальную историю, – проговорила сухо и холодно Оливия. – Это была бесчестная, ужасная проделка, и мне кажется, что ваш муж должен считать себя счастливым человеком, избежав наказания за свое преступление.
– Я не была участницей этого преступления, миледи… Бог знает, как я сильно противилась поступку, который мог сгубить и того, кто был настоящим зачинщиком, и меня, неповинную.
– Верно ли вы говорите? – спросила леди Лисль.
– Так же верно, как то, что солнце светит на небе! Если б я не была невиновна во всем, то я бы не осмелилась явиться на глаза сэру Руперту Лислю.
– Я готова вам верить, – сказала Оливия, – но скажите же скорее, что заставило вас прийти сюда, в Лисльвуд? Если я не ошибаюсь, то вы в прошлом году отправились в Америку, то есть вы и ваш муж!
– Да, миледи. Мой муж и сейчас еще там, насколько мне известно!.. Он никогда не обращался со мной как следует, но в Нью-Йорке он стал обращаться уже вполне бесчеловечно. Мы жили там недолго, когда он вдруг ушел, под предлогом купить клочок земли для постройки и взяв с собой все, что мы только имели, за исключением нескольких фунтов, которых, по его словам, было вполне достаточно, чтобы прокормить меня до его возвращения. Он не вернулся более, и я с тех пор не слышала уже о нем, миледи. Несколько добрых людей узнали о моем печальном положении и доставили мне место, я начала отказывать себе в необходимом и стала копить деньги на возвращение в Англию. Я надеялась, что сэр Руперт примет во мне участие и даст мне возможность прожить остаток дней моих беззаботно и мирно… Я не очень стара: мисс Клерибелль Мертон, то есть миссис Вальдзингам, и я родились в одно время… Но меня состарило раньше времени горе… И он мог обойтись со мной подобным образом! – добавила Рахиль как будто про себя.
Они дошли до замка, леди Лисль начала всходить быстро по лестнице.
– Идите за мною следом, – сказала она мягко своей усталой спутнице.
Пройдя переднюю и узкий коридорчик, она вошла в бильярдную.
Сэр Руперт стоял у самого бильярда и вынимал шары, он даже не заметил прихода жены. В зале было еще несколько джентльменов, между которыми находился майор, принявший на себя обязанности маркера.
– Итак, я запишу еще двадцать на вас, мой дорогой Руперт, – сказал майор Варней. – Вы отличный игрок!
– Вы совершенно напрасно подсмеиваетесь, – ответил сэр Руперт, все еще наклоняясь над лузой бильярда. – Не один я играю ошибочно и дурно, и вы не из числа искусных игроков.
– Сэр Руперт Лисль, – сказала в это время Оливия своим спокойным, ровным голосом.
Баронет поднял голову и взглянул на жену; он в это же мгновение увидел страшно бледное лицо Рахили Арнольд, стоявшей за Оливией, и сильно побледнел.
– Зачем это вы вводите ко мне в дом всяких нищих? – спросил он с содроганием. – Неужели я должен принимать всех бродяг, которым придет в голову просить у меня денег?… Как вы смеете приводить этот сброд, леди Лисль? Спрашиваю опять: как это вы осмелились на подобную выходку? Я перенес немало всевозможных капризов, тратил довольно денег на все ваши прихоти, но подобных вещей я не хочу сносить.
Лицо Руперта Лисля внезапно побагровело, и на лбу его выступил каплями пот.
– Когда же вы оставите меня в покое, леди Лисль? – продолжал баронет. – Не тот, так другой является ко мне: давай денег сюда, бросай деньги туда!.. На что же мне богатство, если я не могу пользоваться им сам? На что мне этот дом, если мне не дают и уснуть в нем спокойно?… Чего еще хотят и теперь от меня?
Рахиль Арнольд кинулась перед ним на колени и со страстным движением схватила и прижала его руку к губам.
– От вас хотят единственно одного сожаления, – ответила она, видя, что баронет порывается отнять руку. – Я прошу исключительно одного сожаления, во имя той любви, которую я оказывала вам в годы вашего детства! Сжальтесь надо мной!
Продолжая стоять все еще на коленях и судорожно сжимая руку сэра Руперта Лисля, она с мольбой взглянула ему прямо в глаза. Не помня себя от досады и бешенства, баронет вдруг ударил ее свободной рукой так сильно по лицу, что у нее тотчас брызнула кровь из верхней губы. Она упала навзничь, испустив глухой крик.
Леди Лисль, смирив мужа взглядом, полным презрения, поспешила поднять и посадить несчастную. Все свидетели этой сцены быстро переглянулись, и по залу пронесся ропот негодования. Майор подошел к Лислю и в то самое мгновение, когда Рахиль упала, схватил его за горло и притиснул к стене.
– Негодяй! – крикнул он. – Низкий трусишка, не имеющий капли человеческих чувств!.. Клянусь, что если б я знал вас так, как знаю теперь, то не сделал бы шага, чтобы освободить вас из конуры, в которой вы провели всю молодость… Пусть бы вы сгнили там! Я не думаю, чтобы в Ньюгэте нашелся хоть один презренный человек, способный сделать то, что вы решились сделать!.. Я ненавижу вас, я презираю вас, но что больнее всего – ненавижу себя – за то, что я дерзнул вытащить вас из тины!
Никому из присутствующих не удавалось видеть майора в таком гневе: высокий и сильный, он казался гигантом в сравнении с баронетом, прижатым к стене и мысленно желавшим провалиться сквозь землю, чтобы только не видеть сверкавших негодованием глаз майора Варнея.
– Я не хотел ей сделать никакого вреда, – проговорил он слабо и дрожа всеми членами, – зачем же она вывела меня на эту сцену? Я вовсе не хочу, чтобы всякие бродяги приходили сюда целовать мои руки и выставлять меня в самой нелепой роли в глазах моих гостей. Зачем, черт возьми, притащила ее сюда леди Оливия?… Она, наверно, сделала это просто нарочно, чтобы мучить меня… Если этой женщине нужно пять фунтов стерлингов, то я дам их охотно, только бы она оставила меня совершенно в покое… В ней никто не нуждается, и потому ей незачем у меня оставаться… Да будь проклято это бледное, противное лицо!
– Она должна остаться здесь столько, сколько ей вздумается, – возразил майор. – Она останется, чтобы доказать вам, что вы человек с самой черной душой. Знак, который вы сделали на ее лице, не изгладится никогда, она пойдет с ним в гроб… Вы знаете, что я не из числа чувствительных, но все же я помню свою мать, потому что любил ее, пока люди и свет не научили меня заботиться единственно о своих интересах! Я никогда не подымал руки на женщину вообще, а тем менее на женщину, имевшую такое значение в моем прошлом.
– Но вы не знаете еще всего, майор Варней, – сказала леди Лисль, посадившая при помощи других Рахиль Арнольд на кресло. – Вам, верно, еще не известно, что несчастная женщина не принимала ровно никакого участия в заговоре своего мужа против сэра Руперта, она была его единственной защитницей в то время, когда он не имел во всем свете ни единого друга. Мы сейчас видели, чем он отплатил за подобную преданность.
– Молчите! – крикнул баронет с ужасным озлоблением.
Майор в эту минуту выпустил из рук Лисля, и он стал поправлять бант своего галстука.
– Что же касается вас, Оливия, – продолжал он, – то прошу вас оставить меня совершенно в покое и не вмешиваться в мои дела… Вам легко толковать о любви и о преданности, вам, такой эгоистке! И вы, конечно, преданы, но не моей особе, но моему богатству, и, кроме этой преданности, от вас нечего ждать!
Оливия гордо выпрямилась и прошла мимо мужа, не удостоив его ни одним словом; но, подойдя к двери, она остановилась и сказала со спокойной и холодной решимостью:
– Я до минуты смерти не позабуду вашего бесчестного поступка, вашей низости, Руперт Лисль, и не прощу себе, что я могла забыть уважение к себе настолько, чтобы сделаться женой человека, достойного всеобщего и полного презрения!
Она ушла, не дав ему возможности ответить. Когда дверь затворилась и гости поспешили выйти на свежий воздух, Руперт бросился в кресло и заплакал навзрыд.
– Она неумолима! – говорил он отрывисто. – Какой же я несчастный! Мне лучше умереть… Лучше быть бы собакой!.. Хотелось бы уйти куда глаза глядят, только бы не быть здесь!.. О, если б я мог залететь далеко-далеко от Лисльвуда!
Оливия прислала экономку позаботиться о Рахили. Несчастная женщина была отнесена в отдаленную комнату, где горничная раздела ее и осталась при ней до прибытия доктора.
Обед в замке был скучный: Оливия отправилась к отцу, баронет обедал в своей комнате, а майор должен был исполнять роль хозяина. Сколько он ни шутил для того, чтобы изгладить неприятное впечатление, произведенное на всех сценой в бильярдной, – разговор не вязался: над присутствующими нависла мрачная туча. Не всякому приятно пользоваться роскошными обедами человека, достойного презрения, и за столом сэра Руперта не было никого, кто бы не предпочел разделить кусок сала с суссекским крестьянином пированию в Лисльвуде.
– Я с ужасом присутствовал при этой возмутительно отвратительной сцене, – сказал один старик одному из своих соседей за столом, – так как я видел в ней доказательство принижения наших древних фамилий. Лисли, милостивый государь, считались самыми благородными людьми в Суссекском графстве в течение сотен лет. Могу уверить вас, что поведение этого низкого человека оскорбило меня за все наше почтенное английское дворянство!
Глава XXV Бельминстер
Вальтер Реморден нашел себе довольно много дел в Бельминстере. Несмотря на то что картинки мод, выставленные в окне мисс Фэг, портнихи на Большой улице, устарели на полтора года, а для Бельминстера были еще совершенно новы; несмотря на то что этот маленький городок отстал во многих отношениях на целое столетие от больших городов, – он в некоторых пунктах не уступал даже самому промышленному городу Англии.
Жители Бельминстера были вполне предоставлены произволу своих дурных наклонностей, и темные улицы городка оглашались каждую ночь шумом и криком бесчинствующих граждан. Последний ректор церкви Святой Марии был ленивый старик, который делал иногда в своих проповедях прямые намеки на тот или другой проступок прихожан, чем вызывал их смех, но так как с наступлением праздника Рождества он жертвовал приходу огромное количество прекрасного вина и множество припасов, то все его любили, и, когда он скончался, все население города проводило его с почетом на кладбище. Все были опечалены! Но это обстоятельство не помешало им устроить после похорон разгульную пирушку и громадный скандал.
Новый же ректор оказался другим человеком. Сын бедного фермера, он начал свое поприще с пастората в маленьком селе Линкольнширского графства, с пятьюдесятью фунтами стерлингов гонорара, и понемногу обратил на себя благосклонное внимание йоркского архиепископа – непритворным смирением и самоотречением; все любили его, но вместе с тем – боялись. Такой-то человек и был нужен Бельминстеру. Голос его звучал мужеством и энергией, когда он обличал пороки прихожан, и он вообще старался исправить их понятия; грех не пугал его: он вступал с ним в борьбу и побеждал его. Он не переходил на ту сторону улицы, когда встречался с женщиной дурного поведения: он ее останавливал и спрашивал у нее, зачем ведет она постыдный образ жизни и намерена ли она продолжать его в будущем, не делая попытки свернуть на прямой путь. Он всегда приноравливал свое слово к понятиям тех, с кем он говорил: он их не озадачивал громкими фразами, но убеждал их ясными и логичными доводами.
– Я такой же работник, как и все вы, друзья! – говорил он кирпичнику, который отличался вечной ленью и пьянством. – Вы пренебрегаете трудом и надоедаете своими частыми просьбами о помощи, имея между тем возможность зарабатывать тридцать шиллингов в неделю. Вы заленились, начали пить и потеряли место. Поверьте, что и я выпил бы с удовольствием бутылку портера и провел бы потом весь вечер за газетой, но я не даю воли подобному желанию. Поэтому и вы не должны предаваться искушениям лени, а если не опомнитесь, то вам, в конце концов, придется умереть прямо голодной смертью.
В девяти случаях из десяти увещания ректора приносили плоды; ленивец ободрялся и принимался снова отыскивать работу.
Мистер Гевард никогда не пытался действовать на людей какими-нибудь увертками, которые редко достигают цели; никогда он не говорил несчастным жителям сырых подвалов, куда не было ни малейшего доступа воздуха, что они жили бы гораздо лучше, если б вели себя хорошо, но старался вбить им в голову, что им не следует свыкаться с грязью, а должно открывать окна, мыть и чистить свое жилище – и тогда они будут чувствовать себя довольными, по мере возможности. Он сам помогал им наводить чистоту и порядок, и когда это было сделано, когда, например, старшая дочь, проводившая целые дни на улице, была помещена в исправительное заведение, устроенное вблизи Бельминстера некоторыми добрыми людьми с ректором во главе, когда старший сын, тоже имевший привычку бездельничать, был определен на плавильный завод, где давали мальчикам по пяти шиллингов в неделю, – тогда только ректор начинал учить этих людей добру и находил в них полную готовность к исправлению.
Мистеру Геварду стоило немалого труда проложить себе путь к доверию прихожан. Они в самом начале презирали его, потом стали бояться, а затем полюбили его искренне и сердечно. В таком-то положении и находились дела, когда ректор приобрел себе отличного помощника в лице Вальтера Ремордена.
У мистера Геварда была дочь девятнадцати лет, горячо им любимая и любившая его, со своей стороны, с безграничной преданностью. Миссис Гевард была очень простая женщина, проводившая время за своим вышиванием и вечно возмущавшаяся глубокой испорченностью бельминстерского общества. Управление домом, раздача милостыни, кройка и шитье платья для бедных – все это было предоставлено Бланш, которая была поверенной отца и помогала ему во всех его делах. Отец с дочерью прогуливались по вечерам в саду, разговаривая о происшествиях дня, между тем как миссис Гевард смотрела на них из окна гостиной и недоумевала, о чем они могли так долго говорить. Бланш не была обыкновенной девушкой: она училась очень многому под руководством отца – говорила на шести новейших языках, знала хорошо историю и не затруднилась бы написать превосходную проповедь.
Молодые девушки раскрывали с удивлением глаза, когда Бланш признавалась им без всякого смущения, что не училась музыке и не умеет вышить ни одного листка. Ее нельзя было назвать вполне красавицей, но бледное лицо ее дышало такой искренней, сердечной добротой, таким светлым умом, что человек со вкусом предпочел бы ее блистательной красавице.
Ее длинные волосы каштанового цвета падали в беспорядке на прекрасные плечи. Бланш одевалась просто, так как не посещала никого, кроме бедных. Раз, впрочем, ей пришлось быть на каком-то балу в черном шелковом платье с длинными рукавами; бельминстерские кумушки заметили, что в волосах ее не было положительно ни одного цветка; но волосы эти были так густы и роскошны, платье ее так ловко обхватывало стройный стан ее, что она привлекла всеобщее внимание. Она разговаривала со своими кавалерами, но еще того более со стариками, стоявшими в стороне от танцующих, с девушками, со старушками, и, несмотря на это, все ее полюбили, и она вернулась в свой тихий пасторат с приятными воспоминаниями о вечере, что ей не помешало на следующее утро проснуться в шесть часов и отправиться тотчас же в народное училище исполнять принятую на себя обязанность преподавательницы.
Бланш Гевард и Вальтер Реморден сделались в короткое время хорошими друзьями. Она была в восхищении от нового викария; она не могла знать причину его грусти, но она ясно видела, что он исполняет свою обязанность чуть ли не с большим рвением, чем сам мистер Гевард, и делает добро от искреннего сердца.
– У мистера Ремордена есть что-то на душе, папа, – заметила она в одно утро отцу, – не знаете ли вы причину его грусти?
– Нет, Бланш, у него нет родных; содержание он получает достаточное, здоровье его тоже в отличном состоянии!
– Ну, оно не отличное, но довольно хорошее, – перебила она, – он ведь только что оправился после тяжкой болезни, когда прибыл сюда.
– Тебе известно все, что творится на свете! – заметил ей отец с добродушной насмешкой.
– Он мне сам рассказал об этом обстоятельстве, как вы знаете, папа! – ответила молодая девушка, смотря в глаза отцу. – Он мне очень понравился, я считаю его хорошим человеком! Но я знаю, что он несчастен, как немногие, а это тяжело.
– Он, верно, признавался тебе в своем несчастье?
– О нет, папа! Напротив, он старается постоянно казаться веселым, а такое усилие, конечно, нелегко.
– Ты замечаешь это, а я не замечаю… Неужели, шалунья, ты думаешь, что я стану ломать голову над причиной вздохов Вальтера Ремордена? Я знаю только, что он лучший викарий на свете, что он добросовестно исполняет свой долг и делает добро везде, где только может.
– Мне кажется, что он был несчастлив в любви, – заметила Бланш и тут же покраснела, хотя и не была из числа слабонервных или сентиментальных. Но ректор, очевидно, этого не заметил: он даже не взглянул во все время на Бланш.
Настала годовщина брака Оливии Лисль и приезда в Бельминстер Вальтера Ремордена. Дружба его и Бланш росла и укреплялась с каждым днем все сильнее, принимая характер старинного товарищества, так как в суждениях девушки было много мужского. Не было ничего, о чем бы он не мог разговориться с нею: если она и уступала ему в политике, богословии, политической экономии, литературе и метафизике, то была, по крайней мере, восхитительной неофиткой, прямой, не жеманной, не хвастливой, жаждущей постоянно пополнять свои знания. Никто никогда не осмеливался польстить Бланш, всякая лесть казалась ей глубоким оскорблением. У нее почти не было обожателей, потому что мужчины немного побаивались ее, хотя и уважали ее за доброту и недюжинные способности.
В один декабрьский вечер Вальтер Реморден сидел в столовой в доме ректора, разговаривая с Бланш и ее матерью; впрочем, миссис Гевард почти не принимала участия в разговоре, заметив, что ее юные собеседники обогнали ее в понятиях и сведениях. Ректор ушел после обеда в свой кабинет, чтобы просмотреть бумаги и расчеты новой народной школы. В эту минуту Бланш смотрела с наслаждением на груду новых книг, принесенных ей Вальтером, и радовалась случаю провести вечер в приятной, задушевной беседе. Но ей не пришлось наслаждаться ею долго: ректор скоро пришел и начал рассуждать о посетителе, которого он только отпустил.
– Я вообще не умею давать советы, Бланш, – обратился он к дочери, – но вы с Реморденом, может быть, надоумите меня, как и чем мне помочь горю мистера Дантона, директора первоклассного пансиона в Бельминстере; он сегодня приходил посоветоваться со мною на счет одного представившегося ему затруднения.
– А какого рода это затруднение, папа? – спросила его Бланш.
– Дело в том, моя милая, что в числе учеников мистера Дантона находится уж двенадцатый год один молодой человек по фамилии Саундерс, который был помещен к нему в десятилетнем возрасте; так как он, по закону, теперь совершеннолетний, то ему уж пора оставить пансион, но тут-то и является большое затруднение. Кажется, что он привезен мистеру Дантону своим дядей, Саундерсом, назвавшим себя ректором какой-то англиканской церкви и сказавшим ему, что этот мальчик – сын его родного брата, умершего в Западной Индии, где ребенок и вынес желтую лихорадку, затмившую на время его слабый рассудок; он оправился после, но память, разумеется, не вернулась к нему, вследствие чего Саундерс-дядя порешил отвезти его немедленно в Бельминстер, надеясь, что заботливый уход и свежий воздух восстановят его умственные способности. В течение десяти лет плата мистеру Дантону вносилась аккуратно: Саундерс-дядя приезжал каждые полгода повидаться с племянником и отдать за него условленную сумму; но прошел с лишком год с тех пор, как мистер Дантон не получает платы и не имеет даже никаких известий о Саундерсе-старшем.
– А у мистера Дантона разве нет его адреса? – спросил Вальтер у ректора.
– Нет, Саундерс просил Дантона адресовать все письма на имя адвоката, живущего в Грэ-Зин-сквер. Он писал много раз этому человеку, но получил в ответ, что Саундерс, вероятно, переселился в Индию – но в какую, не знает.
– Но Дантон мог узнать это по списку духовенства!
– О! В списке несколько Саундерсов; Дантон писал каждому из них, и все они ответили, что ничего не знают.
– Ну а этот брошенный молодой человек не может разве дать никаких указаний?
– Никаких, которые помогли бы Дантону разрешить затруднение. Он буквально не помнит ничего, касающееся поры его детства, исключая той, что был опасно болен и потом начал жить со своим «дядей Джорджем», как он называет этого Саундерса, на берегу моря. Он уверяет, что провел у моря два или три года, но где собственно и в какой обстановке, он это позабыл.
– Но помнит ли он время своей страшной болезни?
– Без сомнения, нет; впрочем, он всегда делается задумчивым и странным, когда его расспрашивают об этой эпохе. Нужно еще заметить, что он довольно нервен и слабого здоровья.
– Умственные способности его еще сильно расстроены? – спросил ректора Вальтер.
– О нет, мистер Дантон уверяет, напротив, что он очень умен.
– Милый папа! – воскликнула неожиданно Бланш. – Мне пришла на ум мысль…
– Я так и предугадывал, что ты выручишь нас из этих затруднений! – перебил ее ректор.
– Когда будет устроено ваше новое народное училище, то вам понадобится учитель для мальчиков. Я думаю, что вам было бы очень приятно видеть на этом месте молодого человека, у которого нет нелепых предрассудков и отсталых понятий. Отчего бы вам не взять этого бедняка? Вы могли бы внушить ему собственные принципы и сделать из него образцового преподавателя.
– Ты права, Бланш, и я приму этот совет!
Если росла трава перед папертью церкви, то она не могла не зеленеть под ногами бельминстерского ректора.
На следующее утро, имея много дел, он послал своего молодого викария к мистеру Дантону, чтобы познакомиться с Ричардом Саундерсом.
– Имейте в виду, что я полагаюсь в этом деле на вас, – сказал мистер Гевард, – вы убедитесь в пять минут, годится ли молодой человек на должность преподавателя или наоборот, и мы в последнем случае придумаем другое!
Викарий нашел Саундерса сидящим перед дверью приемной. Директор пансиона ничуть не переменил своего обращения с молодым человеком с тех пор, как перестал получать за него условленную плату. Он от души привязался к нему и желал ему счастья.
– Очень грустно, – сказал он мистеру Ремордену, введя его в приемную, – видеть молодого, впечатлительного, симпатичного человека, брошенного без всякой опоры и без средств.
Вальтеру Ремордену понравился Ричард со своим бледным, замечательно нежным лицом и откинутыми назад русыми волосами.
– Вот и мистер Реморден, Ричард, – проговорил директор, – проповеди которого вы слушали всегда с глубоким наслаждением.
Молодой человек поднял голову, отложил книгу, которую читал, и встал, чтобы поклониться молодому викарию, краснея, точно девушка.
– Я оставлю вас наедине с Ричардом, – сказал мистер Дантон, обратясь к посетителю. – Мистер Реморден желает поговорить с вами, дитя мое! – пояснил он воспитаннику.
Викарий приступил спокойно к разговору, но Саундерс отвечал только полусловами, перелистывая книгу, которую взял снова, и Вальтер Реморден заметил, что его трепетавшие руки ослепительно белы и нежны, как у женщины.
«Что же это за личность? – подумал викарий. – Молодой человек слишком женоподобен, и я подозреваю, что ум его далеко не из самых блестящих».
Но вскоре Вальтер Реморден убедился в противном. Молодой человек оживился и сделался даже красноречивым. Он говорил о многом, и в суждениях его проглядывал чрезвычайно здравый, хотя и действительно неблистательный ум. Когда викарий высказал цель своего прихода, молодой человек объявил, что готов принять на себя всякую тяжелую обязанность, чтобы не обременять своего уважаемого и доброго директора.
– Я так многим обязан ему, – сказал он между прочим, – что едва ли найду когда-нибудь возможность заплатить за все то, что он для меня делал. Он заменил мне близких и родную семью и вылечил меня от самообольщений…
– Каких? – перебил Вальтер.
– Таких, от которых я страдал еще после переезда в Бельминстер… Прошу вас не расспрашивать меня об этом обстоятельстве! Я теперь вполне вылечился… да – совершенно вылечился.
Он проговорил последние слова с лихорадочной энергией, но овладел собою и продолжал спокойно:
– Расскажите же мне о вашей новой школе. Мне кажется, что если я вообще способен принести пользу, то принесу ее только в звании учителя. Я полюбил науку.
На другое утро Ричард пришел в ректорский дом. Мистер Гевард встретил его совершенно по-дружески и поручил его заботливости Бланш.
– Моя дочь объяснит вам все, что вам нужно знать, – сказал он Ричарду. – Она мой секретарь, и мой первый помощник, и любимица моя, – добавил он вполголоса, когда вошедшая молодая девушка, откинув назад свои чудные кудри, подставила отцу свой белый, чистый лоб.
Ричард страшно сконфузился, когда его представили мисс Бланш Гевард. Он редко видел женщин и просто испугался, очутившись во власти такой молодой девушки.
Как с нею говорить? Однако Бланш успела успокоить его. Пригласив его сесть, она начала объяснять ему планы новых народных школ, распространилась о значении их, привела статистические данные – и в конце концов заставила его увлечься разговором и забыть о ее присутствии. Впрочем, он, должно быть, не совсем-то забыл об этом обстоятельстве, так как успел заметить, что у нее прекрасные и умные глаза, густые каштановые волосы, что она высока, стройна, грациозна и обладает прелестно округленными формами. Он вспомнил, что видел ее сидящей в церкви Святой Марии на скамейке ректора и подумал тогда еще, что она, вероятно, симпатичная личность.
«Она, право, премилая, – решил он, когда Бланш ушла переодеться. – Какое у нее славное обращение, в ней вовсе нет жеманства! Как естественно выражается ее желание быть полезной всем и каждому!»
Бланш возвратилась прежде, чем Ричард кончил мысленный монолог, хотя он и сознавал, что следует сказать что-нибудь миссис Гевард, занятой своим вечным прилежным вышиванием.
– Я хочу пригласить вас с собою в училище, – сказала ему Бланш, надевшая шаль и простенькую шляпу с широкими полями. – Я покажу вам дом, который для вас строится, где вы будете жить и где будут прислуживать вам старуха или мальчик. Вы, конечно, не можете справиться сами с кухней?
– Вы хотите сказать, что я не сумею готовить себе кушанье? – спросил Ричард, краснея. – Это, пожалуй, верно!
– Жаль! – отвечала Бланш. – В таком случае вам придется нанять себе кухарку; а ведь было бы лучше, если б вы могли обойтись без нее!
Новое училище стояло в маленькой долине, на полумильном расстоянии от города. Бланш и Ричард шли рядом по мокрой траве. Дочь ректора обращалась со своим спутником без натяжки, как с младшим, хотя он был ее старше почти что на три года.
– Вы уж давно в Бельминстере? – спросила она мягко.
– Да, уже двенадцать лет.
– А где же вы были прежде?
– Я жил на морском берегу, в каком-то тихом месте, вдвое меньше Бельминстера. Помню, что там было очень мало домов и много высоких скал, теснившихся вокруг бурного моря.
– Но вы же должны помнить название местечка?
– Нет. Я, кажется, даже и не слышал его. Оно, вероятно, далеко отсюда, так как меня везли от него до Бельминстера ровно целые сутки. Я там не видел никого, кроме навещавшего меня кое-когда моего дяди Джорджа да еще старой женщины по имени Мэгвей, служившей мне в болезни.
– Так вы были больны?
– Да, но не постоянно: у меня только часто болела голова.
– Но скажите, пожалуйста, – расспрашивала Бланш, – вы приехали в Бельминстер в десятилетнем возрасте, на морском берегу вы провели не менее как два или три года, – следовательно, вас привезли туда семи- или, быть может, восьмилетним ребенком. Неужели вы не помните, что было с вами раньше?
– О нет… о нет!.. – воскликнул молодой человек с выражением ужаса, который в нем заметил и Вальтер Реморден, когда он предложил ему подобный же вопрос. – Я ничего не помню из эпохи моего раннего детства… это только фантазии, только глупые бредни, и больше ничего!
– А какого же рода были эти фантазии, мистер Саундерс? – спросила его Бланш, любопытство которой было возбуждено до высочайшей степени странностями Ричарда.
– О, не расспрашивайте меня о них! – сказал он. – Я поклялся не говорить об этом никому!
– Вы поклялись?… Кому же?
– Дяде Джорджу. Он уверил меня, что я могу избегнуть сумасшествия единственно тогда, когда я перестану вспоминать эти бредни. По его словам, мозг мой был отуманен дикими и странными идеями и от меня зависело полное излечение или вечное сумасшествие. Он объяснил мне это ровно за день до нашего переезда в Бельминстер. Я понял слова дяди, хотя был еще ребенком. Он заставил меня повторить за ним клятву – не вспоминать фантазий, засевших в мою голову.
– А теперь, когда вы стали уже взрослым, вам все еще кажется, что ваш дядя был прав, назвав ваши идеи нелепыми иллюзиями?
– Я поклялся не говорить о них… Умоляю вас не расспрашивать меня больше!
– Еще одно слово. Вы, конечно, помните ваших друзей, родных – отца, мать… вероятно.
– Мать!.. О!.. Сжальтесь, мисс Бланш!.. Умоляю вас именем Бога не говорить о матери!
Молодой человек замахал вдруг руками и упал на землю.
Бланш встала на колени и старалась заботливо приподнять его голову. Но он прятал упрямо свое лицо в траву и восклицал, рыдая судорожно и отрывисто:
– Моя бедная… добрая, нежная мать!.. Она существовала только… в моей фантазии и была сновидением… как и все остальное?!.
Глава XXVI Бред
Рахиль Арнольд страдала очень долго от раны, нанесенной ей кулаком баронета. Усталость, лишения, волнения, дурное обращение и вечные заботы истощили последние силы этой несчастной, и она находилась несколько недель между жизнью и смертью в одной из верхних комнат Лисльвудского замка. Леди Лисль приказала делать все то, что нужно для ее излечения, и окружила ее заботливым уходом. Но доктор сомневался, и даже очень долго, в ее выздоровлении.
– Она очень слабого телосложения, миледи, – сказал он леди Лисль, – силы ее надорваны тяжелой работой. Я уверен, что эта бедная женщина вынесла много горя. Я помню ее, когда она еще жила со своим мужем в сторожке, а сын ее, который был похож на сэра Руперта, постоянно играл возле решетки парка.
– Он умер от горячки! – заметила Оливия.
– Верю, верю, дорогая леди Лисль, он был такой же тщедушный, как и его мать. Меня ничуть не удивляет известие об этом! Пойду теперь к больной… Бедняжка ослабела и телом и душой, все это повлияло и на ее рассудок.
Сэр Руперт не протестовал против пребывания Рахили Арнольд в замке. Казалось, что он даже отчасти беспокоился о ее состоянии. Он ежедневно осведомлялся о ней – со свойственной ему осторожностью – и, очевидно, интересовался ответом на свой вопрос.
– Лучше ли ей? – говорил он обыкновенно. – Не бредит ли она? Отвечайте скорее!
– Нет, – отвечали люди.
– Спокойна ли она? – продолжал баронет.
– Совершенно спокойна; она в полном сознании.
– О чем же говорит она?
– Что касается этого, то она так слаба, что ей говорить трудно и почти невозможно.
Эти ответы удовлетворяли его; но на следующее утро он снова предлагал такие же вопросы, с той же осторожностью и с тем же дурно скрытым, но живым любопытством. Между тем ничто не могло убедить его, сколько он ни беспокоился об ее положении, войти в ее комнату, хотя она каждый день посылала к нему с мольбой прийти к ней на несколько минут, чтобы она могла хоть взглянуть на него, подержать его руку, вспомнить те дни, в которые она держала его, маленьким, болезненным ребенком, у себя на коленях, и вместе испросить прощение за то, что она решилась прибыть в Лисльвуд в настоящее время, когда он находится на вершине богатства и земного блаженства! Эти мольбы могли бы смягчить холодный камень, но не Руперта Лисля!
Ему вовсе не хочется скучать у постели больной, оправдывался он. Почем знать, может быть, болезнь-то заразна? Он даже убежден, что она заразна, – какая-нибудь злокачественная, опасная горячка, схваченная на корабле. Было бы чересчур странно, если б баронету и первому богачу во всем графстве пришлось умереть от горячки, привившейся к нему от ничтожной служанки! Она должна, конечно, благодарить Создателя, что попала к таким гуманным господам! Пусть довольствуется этим непредвиденным счастьем!
Другого рода утешений не дождалась Рахиль от сэра Руперта Лисля!
Майор Варней, полневший по мере того, как время проводило едва заметный след по его волосам, не дерзая, однако, превращать их в седые, майор, говорю я, взял снова верх в Лисльвуде.
После сцены в бильярдной он принял скипетр власти с таким невозмутимым, величавым спокойствием, как будто никогда не выпускал его из рук, и уже навсегда. Баронет занял свое прежнее положение в доме и возвратился к прежним привычкам; может быть, он надеялся найти себе союзника в лице своей жены, но Оливия держала себя от него в стороне, так что он был совершенно один, почему и не мог сладить с майором. Он по-прежнему взглядывал сначала на майора перед тем, как сказать какое-нибудь слово; он по-прежнему следовал за ним, как верная собака, только что провинившаяся и только что подвергнувшаяся наказанию хозяина; баронет жил, по-видимому, только по приказанию Гранвиля Варнея и для того, чтобы слепо исполнять его волю. Раз он заговорил со своим ментором о больной.
– Что мне делать? – начал он своим резким голосом. – Она надоедает мне своими послами, посредством которых добивается свидания со мной, моего прощения и бог знает чего еще. Я вовсе не нуждаюсь в объяснениях с нею, как это вам известно.
– Да, – ответил майор. – Я прихожу в восторг, смотря на вашу руку и на ваше кольцо со сверкающим сапфиром. Вы дали за него двадцать наполеонов в Париже, на улице де-ля-Пэ; этим же сапфиром рассекли вы губу Рахили Арнольд… Да, я вполне уверен, что вы не нуждаетесь в объяснениях с ней… с вашей прежней служанкой!
– Мне кажется, что вам бы не мешало отчасти придерживать язык, – прошептал злобно Руперт. – Вы извлекли себе из этого неприятного случая блистательные выгоды!
– Я извлекаю выгоду буквально из всего, дорогой баронет (баронет со времени Джеймса Первого, помните это, мой милый, и кавалер с незапамятных времен – род Лисль очень древний и очень знатный род!). Я извлекаю выгоду из чего только можно, – повторил он, бросаясь на мягкий диван. – На жизненном рынке нет, бесспорно, товара дороже ума. Я на нем торговец и употребляю все свои силы, чтобы получить наивозможно высокую цену за свой ценный товар, то есть разумный мозг. Я стараюсь недаром, – добавил майор Варней, вытаскивая из кармана превосходный фуляр и начиная чистить им свои длинные ногти с розоватым оттенком.
– Ну так поймите же, – ответил баронет, – что я не могу помириться с присутствием у меня этой женщины, я попросил бы вас пойти к ней и сказать, чтобы она держала себя немного поскромнее; она живет в комфорте, а если же она будет глупить еще вперед, то дождется того, что я просто велю вытолкать ее в шею! Поняли вы меня?
– Еще бы! Вы хотите, чтобы я передал это Рахили Арнольд?
– Конечно, слово в слово! – подтвердил баронет.
– Это поручение не из слишком приятных, дорогой мой Руперт.
– А мне-то какое дело?! Приятно ли оно, неприятно ли вам, – во всяком случае, вы можете выполнить его в точности. Вы пользуетесь мною и должны мне оказывать кой-какие услуги.
Баронет старался придать своему лицу загадочное выражение, хотя он сознавал, что это бесполезно и что ему никогда не провести майора.
– Обо всем, чем я пользуюсь от вас в данное время и чем угодно будет мне пользоваться впереди, – вам толковать не стоит, – проговорил Варней, смотря на баронета. – Не забудьте, – сказал он, – что я пользуюсь кое-чем благодаря случайности, сделавшей вас рабом моим, как будто бы вы куплены мною в Южной Америке за несколько долларов, сделавшей вас собакой, как будто я купил вас за известную цену у торговца собаками и держу на цепи вместе с другими в псарне… Не забывайте этого!
Сказав это, майор расстегнул свой жилет и показал кушак, сжимавший его талию, к которому был прикреплен порт-папье с крепким стальным замочком.
– Видите ли вы это? – произнес он торжественно. – Этот пояс противодействует развитию дородности, которой я подвергся, к большому сожалению; сверх того он надежен!
Сэр Руперт Лисль вцепился в свои жидкие волосы, желая вырвать их; но он был чересчур изнежен и труслив, чтобы нанести себе вред или сильную боль.
– Да… да… – воскликнул он, ворочаясь на стуле, – вы держите меня очень крепко в руках… Черт возьми! Будьте прокляты!
– А! Дорогой мой Руперт! Как у вас много сходства с тем милым человеком, под кровлей которого вы провели годы благословенной молодости: вы так же вялы в действиях, так же скоры в ругательствах и в проклятиях людям! – заметил майор Варней с приветливой улыбкой.
– Вял в действиях, майор? – проговорил баронет.
– Да! – повторил Гранвиль.
В то самое время, когда звук голосов майора и сэра Руперта раздается под сводами Лисльвудского замка, между тем как густые темные облака окутывают вершины суссекских косогоров, какой-то незнакомец прокладывает себе дорогу в одном из американских лесов сквозь переплетшиеся лианы, иссохшие ветви сломленных гигантских деревьев и колючие кустарники, которые цепляются за него и рвут его платье при каждом его шаге, как будто бы они находят удовольствие колоть и мучить странника. Как он ни утомлен, но все же идет вперед по высокой траве, опутывающей ноги, – идет, проклиная терновники, царапающие ему лицо и руки и превращающие его платье в лохмотья; проклиная мрачные тени и жгучее солнце, место, в которое стремится, и людей, которых он встретит в этом месте; проклиная себя и весь подлунный мир. Он идет с угрюмым лицом и неподвижным взором к заветной цели, указанной ему мщением; желание достигнуть поскорее этой цели придает его истомленному телу новые силы, помогает ему перенести все трудности.
С веселой и сияющей улыбкой, приглаживая усики, направляется майор Варней по длинным коридорам к комнате Рахили Арнольд. От него, как и прежде, как будто бы исходит какое-то сияние, озаряющее даже темные уголки, так что слуги, встречавшие его на узкой лестнице, по которой он всходил на верхний этаж, против воли прищуриваются. Вся фигура его сверкала, а брелоки часовой цепочки гармонично звякали, ударяясь друг о друга. Тихими шагами вошел Варней к больной.
Эта комната, находившаяся в одной из отдаленнейших частей замка, была низка, с потолком из дубовых бревен и косоугольным окном, полузаслоненным выступом крыши. У стены, противоположной окну, стояла старинная кровать под балдахином, на которой лежала больная. Бледное лицо ее было повернуто к дверям, и широко открытые голубые глаза ее выражали испуг и сильную тревогу. Доктор сидел в кресле у ее изголовья и задумчиво смотрел на свою пациентку, между тем как глаза толстой сиделки блуждали бессознательно по деревьям парка.
– Ей немного похуже сегодня, – сказал доктор, – и по всей вероятности, у нее начнется бред.
Сиделка, углубившись в созерцание деревьев, не расслышала фразы. Доктор вынул часы и взял руку больной. Но через несколько минут он с недовольным видом поднял темные брови, как будто убедился в бесплодности усилий отвратить пароксизм, и закрыл часы, издавшие чуть слышный, металлический звук.
– Единственный сын!.. Злой… бессердечный… дурной… неблагодарный… и легко сказать: единственный сын!.. Единственный! – простонала больная.
– Это невыносимо! – заметила сиделка, терпение которой, видимо, истощилось. – Она бредила всю ночь, и я не могла спать из-за ее единственного сына! Хоть кастрюли и овощи надоели мне сильно, а это втрое хуже… Ах ты, царь мой небесный!
Нужно заметить к слову, что дородная девушка дебютировала в подвальном этаже замка в качестве помощницы кухарки, а из этого малопочетного звания была обращена в сиделку у постели Рахили Арнольд.
– Единственный сын! – повторяла Рахиль, смотря пристальным взглядом на открытую дверь. – Злодей!.. Бесчеловечный!.. А единственный сын!..
Майор в это мгновение явился на пороге. Он был так высок, так плечист и так статен, что наполнял собой всю амбразуру двери.
Доктор молча сидел в весьма небрежной позе, растягивая пальцы своих черных перчаток; сиделка зевала, прикрывая рот грубыми красными руками; на окне пела птичка, в камине трещал огонь, а в котле, стоявшем на тагане, закипала вода. Никто не заметил присутствия майора, исключая больной: испустив слабый крик и собрав все силы, она соскочила с постели и, бросившись на изумленного своего посетителя, схватила его за ворот; казалось, что она, слабая женщина, хочет вступить в борьбу с этим высоким и сильным человеком.
– А, это вы?! – воскликнула она с безумным взглядом. – Вы первый злодей в мире!.. Зачем вы пришли ко мне?… Для чего вы показываете опять ваше насмешливое, фальшивое лицо… Вы не должны являться мне никогда на глаза, если вы не хотите, чтобы я убила вас!
– Я это предугадывал, – сказал спокойно доктор, – я предвидел возможность этого пароксизма, так как давно заметил, что голова ее не в нормальном порядке.
Сиделка оттащила больную от майора и уложила ее снова в постель; несчастная и не думала сопротивляться ей. Волосы ее растрепались и висели, скрывая наполовину бледное, безумное лицо.
Майор отстранил доктора и занял его место так спокойно, как будто он считал себя другом или родным больной.
– Добрейшая миссис Арнольд, милая миссис Арнольд!.. – произнес он нежно. – Вы не должны тревожиться!
– О, этот страшный голос! – воскликнула больная, заметавшись тоскливо на пуховых подушках. – Этот проклятый голос, который говорил мне так много страшных слов…
– Слушайте, моя дорогая, – перебил ее Варней, – вам не следует говорить о голосах и ломать вашу бедную, усталую головушку под наплывом различных болезненных фантазий; а нужно постараться успокоиться и терпеливо выслушать слова ваших друзей! Я пришел с поручением от сэра Руперта Лисля.
– Сэра Руперта Лисля… сэра Руперта Лисля! – повторяла Рахиль, продолжая метаться. – Единственный сын… он единственный сын!
– Ну, не может ли это надоесть хоть кому! – воскликнула сиделка, обратившись к майору. – Ведь это утомительно!.. Такою она была и во всю эту ночь – скучной, как арифметика.
Быть может, Рахиль Арнольд расслышала последние слова своей сиделки и вдруг перенеслась под влиянием горячки в то далекое время, когда она, с другими молодыми девушками, училась тоже в школе, потому что она начала вдруг высчитывать диким и резким голосом:
– Семью пять – тридцать пять, семью пять… Руперт Лисль… я кладу семь… кладу сэра Руперта Лисля… я носила его… я носила его, хотя руки мои нередко уставали… ведь он же был моим единственным дитятею… единственным дитятею!..
– Ах! Бедняжка, бедняжка! – проговорил майор со вздохом сострадания. – Это грустное зрелище!.. Доктор Люмкинс, мне бы очень хотелось побеседовать с вами хоть несколько минут у меня в кабинете! Эта сцена невольно взволновала меня… Эта молодая девушка – сиделка миссис Арнольд? – спросил он, зорко всматриваясь в помощницу кухарки. – Она была сиделкою ее во все время болезни?
– Да, – ответила девушка, – никто не помогал мне в уходе за больной, но я стала бояться с тех пор, как она спятила совершенно с ума.
– А! Вам не помогали, – пробормотал майор. – Никто не помогал?… Ну, это превосходно!
Майор Варней проговорил эту фразу с рассеянным видом. Он взглянул внимательно на сиделку, на доктора и потом на больную, которая лежала теперь в полном изнеможении, отвернувшись к стене.
– Теперь, доктор Люмкинс, – сказал он после короткой паузы, – потрудитесь пройтись со мною в мою комнату, я задержу вас там только на пять минут.
Майор занимал хорошенькую комнату в самой лучшей части замка, куда и провел доктора; четверть часа спустя доктор вышел оттуда, проникнутый сознанием собственного достоинства.
– Я увижу сегодня мистера Моррисона, майор Варней, – сказал он, обмениваясь с ним рукопожатием, – я думаю, что достать подобное свидетельство не составит труда.
Глава XXVII Сказано втайне
Бетси Джен, экс-помощнице кухарки, нелегко было справляться с больной после визита гуманного майора; Рахиль Арнольд бредила, и с каждой минутой все более и более; она произносила бессвязные фразы, в которых имя Руперта играло везде роль. И чего только не слетало с ее горячих губ! Сиделка поминутно обкладывала голову ее холодными компрессами, но они не оказывали желаемого действия. Бетси Джен махнула, наконец, рукой; усевшись как можно удобнее на табуретке перед камином и прислонившись головой к медной его решетке, она начала пробегать интересный роман «Рудольф с красной рукой».
Она, должно быть, не напрасно жаловалась доктору Люмкинсу, что не смыкала глаз в предыдущую ночь, так как начала путаться в нумерации страниц и перескакивала с 17-й к 20-й. В конце концов она запуталась до такой степени, что даже стала сомневаться в тождественности Рудольфа; она заснула над самой интересной страницей, и ей приснилось, что герой с красной рукой лежит на постели под балдахином и говорит о сэре Руперте Лисле.
– Леди Лисль! – послышалось ей вскоре затем. – Леди Лисль!.. Позовите поскорее леди Лисль!..
Рудольф с красной рукой начал в эту минуту так шуметь и буянить, что разбудил сиделку, конечно, на мгновение: она вздрогнула и переменила положение головы, переместив ее с решетки на колени.
В это время больная приподнялась с подушек и смотрела на дверь.
– Леди Лисль! Позовите скорее леди Лисль, – повторяла она.
Бетси снова раскрыла заспанные глаза, но все же не была и теперь в состоянии обратить внимание на возгласы больной.
– Отыщите ее! – продолжала Рахиль. – Приведите ее, чтобы я могла сказать ей кое-что перед смертью… Приведите ее, чтобы я могла спасти свою грешную душу… Слышите? Приведите ее сюда немедленно!..
Но девушка сидела неподвижно на месте. Рахиль Арнольд кидала на нее взгляды, полные бешенства, и, схватив вдруг нож, лежавший на тарелке, закричала пронзительно:
– Ступайте же за ней, или я вас убью!
Бетси Джен вскочила со страшным криком испуга, бросилась вниз по лестнице, а оттуда в парадные комнаты дома.
Великолепный замок сделался с некоторых пор чрезвычайно скучным. Сэр Руперт уезжал то в Лондон, то в Брайтон, где играл на бильярде в гостинице «Лисльвуд», в которой останавливался когда-то Вальдзингам; то пребывал в Чичестере, одним словом, появлялся везде, кроме своего дома. Он чувствовал себя в нем как-то не по себе и блуждал по роскошным залам Лисльвуда с видом совершенно постороннего человека, а не владельца их. Его страшил отчасти даже вид старых слуг, отцы которых жили и умерли на службе знатному роду Лислей. Оливия, со своей стороны, проводила большую часть времени в Бокаже, или верхом на лошади, или же в своей комнате. Таким образом, весь замок был к услугам мистера и миссис Варней. Слуги получали приказания от одного майора. Начали поговаривать обо всех этих странностях, добавляя при этом, что Оливия Лисль на ножах со своим мужем, что баронет сделался пьяницей и развратником и его разорение неизбежно помимо всех стараний Варнея.
Случилось так, что леди Лисль была дома в описываемый нами вечер. Она сидела одна в зале, у окна, смотря на шедший в то время дождь, когда дверь внезапно отворилась и в комнату влетела какая-то фигура. Это была сиделка, пробежавшая без оглядки от мансарды до залы.
– В чем дело? Что вам нужно? – спросила леди Лисль.
– О миледи, простите! – ответила ей Бетси. – Бедная больная, миссис Арнольд, миледи, умоляла меня пойти сюда за вами… Она схватила нож и сказала с угрозой, что убьет меня, если я не пойду… О миледи, идите!
– Рахиль Арнольд желает увидеться со мною?
– Да, да, с вами, миледи; она целый день бредила, говоря, что ей нужно очистить свою душу… О миледи, идите…
– Иду, иду, – ответила поспешно леди Лисль. – Бедная женщина!.. Я не могу понять, что ей от меня нужно, но все-таки пойду!
Оливия последовала сейчас же за сиделкой и, войдя тихо в комнату, села с покойным видом у постели Рахили.
– Вот я привела к вам, наконец, миледи, – сказала Бетси Джен. – Не все бы согласились исполнять ваши требования!
– Леди Лисль!.. Леди Лисль!.. – повторяла больная, не приметив Оливию.
– Да, леди Лисль пришла. Если вы недовольны, так вам уж после этого ничем не угодишь.
Рахиль приподнялась на локтях и взглянула на леди.
– Нет, нет, это не та! – закричала она. – Приведите другую! Эта слишком мрачна, и черные глаза ее горят, как будто уголья… я боюсь ее!.. Нет, мне нужна другая!.. Мне нужна та, которая во время моей молодости была со мною похожа! О Господи, спаси и помилуй меня!
– Она говорит о матери моей! – прошептала Оливия, называвшая матерью Клерибелль Вальдзингам.
– Я говорю о той, у которой печальное и бледное лицо и белокурые волосы… о той, что вышла замуж за Режинальда Лисля… которая имела до безумия любимого, единственного сына!.. Бедная леди Лисль!.. Мне нужно ее видеть!
– Вы не можете увидать ее, так как ее нет в Лисльвуде, – ответила Оливия, – но если только вам необходимо сказать ей что-нибудь особенно серьезное, то вы ее увидите через день или два.
– Особенно серьезное? – повторила Рахиль. – Дело идет буквально о жизни или смерти… о спасении души моей… Разве я в состоянии умереть с такой тяжестью на сердце и на совести?
– Но если вы хотите облегчить вашу совесть, то не можете ли сделать это теперь? – заметила Оливия. – Все касающееся миссис Вальдзингам касается меня. Зачем вы не хотите ввериться моей честности?
– Нет! – воскликнула больная. – Вы ведь мне не простите. Ведь вы – его жена… и с вами поступили еще хуже, чем с нею… да, несравненно хуже. Она сможет простить мне, потому что она была моей госпожой, да и знала меня, когда я еще была девушкой, молодой и счастливой… Она простит меня за то, что я хранила эту гнусную тайну, но вы, вы не простите!
– Вы сильно ошибаетесь! Расскажите мне все, и я даю вам слово, что я прощу вам все!
– Вы даете мне слово?! – воскликнула Рахиль. – Но ведь вы же не знаете… вы не знаете сами, что вы мне обещаете… Повторяю вам, что вы не в состоянии простить мою вину. Вы такая надменная… я слышала, что вы древнего рода… Нет, от вас нельзя ждать сердечного прощения!
– Да я же прощу вас, – уверяла Оливия, встревоженная сильно выходками больной. – О, скажите мне все! – добавила она, схватив руку Рахили.
– Так сядьте же и спрячьтесь за кроватную занавеску, чтобы я могла представить себе, что говорю с другой… но сперва отошлите отсюда эту девушку!
– Вы можете идти, – обратилась Оливия к обманувшейся в своих ожиданиях девушке, любопытство которой было возбуждено предыдущей сценой. – Вы можете отправиться, и советую вам не подслушивать нас!.. Сойдите вниз по лестнице так, чтобы я могла слышать, как вы по ней пойдете!
Бетси Джен удалилась, а леди Лисль приготовилась выслушать исповедь, спрятав свое прекрасное лицо в тень занавесок, отчего оно сделалось мрачнее обыкновенного.
Какова бы ни была тайна, выведанная под влиянием горячечного бреда, изливавшаяся в сбивчивых и отрывочных фразах, – она произвела страшное впечатление на безмолвную слушательницу: она вышла из спальной Рахили Арнольд с мертвенно-бледным, почти окаменевшим от ужаса лицом и начала спускаться машинально по лестнице, шатаясь и останавливаясь, чтобы провести рукой по холодному лбу и прошептать с испугом и с жгучей тоской:
– Возможна ли такая глубокая испорченность? Неужели все это не сон, а роковая действительность?
Глава XXVIII Сила против права
Остаток вечера леди Лисль провела одна в своей гостиной, привалившись к кушетке, стоявшей у камина; она о чем-то думала, устремив на огонь блестящие глаза. Позолоченные часы, стоявшие на столике, били уже много раз, а Оливия Лисль не отрывалась от своих грустных дум.
Майор с баронетом уехали в Чичестер еще до обеда, и их ждали только к ночи. Оливия очень редко интересовалась действиями своего мужа, но на этот раз она осведомилась, куда он отправился и когда возвратится. Прекрасные часы со звоном пробили одиннадцать, двенадцать, час, полчаса второго, три четверти второго – Оливия терпеливо и со спокойным лицом ждала возвращения запоздавшего мужа. С последним ударом трех четвертей второго послышался стук подъезжавшего экипажа, который вскоре стих под окнами гостиной.
«Это правит майор, – подумала Оливия, – а тот презренный трус боится править ночью».
В передней раздались голоса сэра Руперта и майора Варнея. Первый говорил очень громко, но довольно невнятно и мог только с трудом отворить дверь гостиной. Сильно пошатываясь, дошел он до дивана, бросился на него и разразился оглушительным смехом.
– А ведь мы провели сегодня славный вечер?… Что скажешь, старый друг? – обратился он к майору, откинув назад голову и повернув к нему обрюзглое лицо, вполовину закрытое нависшими на лоб жидкими волосами.
– Дорогой мой Руперт, разве вы не видите леди Лисль? – проговорил майор тоном упрека.
– Как?! Она здесь?! – воскликнул молодой человек. – Нет, я ее не вижу и не нуждаюсь видеть… Будь она проклята!.. Очень мне нужно видеть это бледное лицо с надменными глазами и мрачным выражением!.. Я научу ее, как со мною обходиться! Я покажу ей, кто я! И будь я проклят Богом, если я ей поддамся!
Гордясь своим нахальством, этот презренный трус сжал грозно кулаки и взглянул на жену с торжествующим видом.
Леди Лисль встала с места и, выпрямив свой стройный, величественный стан, подошла смело к мужу.
– Предположим, что я знаю, кто вы такой, – сказала она сухо.
Майор стоял в дверях, снимая свои палевые красивые перчатки; при возгласе Оливии он прикрыл быстро дверь и прислонился к ней.
– Предположите же, что я знаю, кто вы, – проговорила Оливия. – Предположите, кстати, что я, к величайшему личному стыду и унижению, знаю не только вас, но и все ваше прошлое!
Ноздри и верхняя губа ее дрожали от волнения, да и все тело ее трепетало так сильно, что она была вынуждена опереться на стол.
– Драгоценнейшая леди Лисль, – начал майор Варней с каким-то напряженным выражением лица, – я положительно не ожидал от вас подобной вспышки; нельзя было подумать, чтобы вы, с вашим умом, были способны вызвать такое объяснение.
– Я говорю вам прямо, – сказала леди Лисль громким и ясным голосом, – что мне вполне известен этот подлый обман, известна и та роль, которую играли и вы, майор Варней… Но взгляните сюда! – закричала она, задыхаясь от гнева. – Взгляните же на этого бессмысленного пьяницу, который стоит нравственно ниже всякой собаки! О боже, боже праведный!.. Как я была глупа, если могла позволить себе пойти с ним под венец.
Она нервно рассмеялась и взглянула на мужа с безграничным презрением.
Майор спокойно вытащил ключ из замка, опустил его в карман и подошел к Оливии.
– Леди Лисль, – сказал он, стараясь схватить ее руки, – выслушайте меня.
Она с отвращением отняла свои руки.
– Леди Лисль! – повторила она с живым негодованием. – Как вы смеете, лицемер, как вы смеете называть меня и теперь ложным именем, которое не принадлежало мне ни на единый час, ни на одну минуту?!. О, глупая я женщина! – воскликнула она с тоской, заменившей минутную запальчивость. – Как могла я забыться до того, чтобы продать свою душу за роскошь и титул, чтобы пожертвовать честным и благородным сердцем, и для кого, вдобавок?!. Для того, кто присвоил себе чужое имя и чванится чужим, украденным богатством!
Сэр Руперт Лисль смотрел испуганно на жену. Откинув с влажных глаз растрепанные волосы, он вышел как-то сразу из своего оцепенения и сделался по-прежнему задорным и нахальным.
– Она, вероятно, говорила сегодня с этой дьявольской женщиной, что лежит наверху, – обернулся он к майору, – и та сказала ей…
– Она сказала мне положительно все, – перебила Оливия. – Ваша мать сообщила мне очень верные сведения о том, кого считают сэром Рупертом Лислем.
Майор пожал плечами и насмешливо улыбнулся.
– Я повторяю вам еще раз, леди Лисль, – сказал он ей спокойно, – что вы последняя особа, от которой я мог бы ожидать таких слов. Сядем, – добавил он, подвигая ей кресло, – и постараемся обсудить хладнокровно, что это означает.
Оливия была так слаба и расстроена, что была не в состоянии отклонить предложение и опустилась в кресло.
– Итак, постараемся разобрать это дело, – продолжал майор. – Вы имели неосторожность увлечься желанием навестить несчастную больную!
– Да, – ответила она глухо.
– Ну и эта несчастная, которая уже несколько дней страдает, очевидно, потерей рассудка – что известно, конечно, не мне одному, – рассказала вам свои галлюцинации.
– Я инстинктивно чувствую, что она сообщила мне только голую истину! – возразила Оливия, не спуская с майора своих блестящих глаз. – Верьте, что я от души желала бы быть убежденной в противном!
– А! Вы чувствуете, что она говорила вам правду! – пробормотал майор. – Позвольте же спросить: чем она доказала вам правдивость своих слов?
– Ничем осязательным.
– Ничем осязательным? – переспросил майор с лучезарной улыбкой. – Так она не дала вам никаких доказательств?… Нет? – воскликнул он вдруг, возвысив слегка голос. – О, я знаю, что нет!.. Она, конечно, говорила вам, что у нее есть сын, которого какая-то знатная дама вдруг признала за собственного!.. Ну, одним словом, она рассказала такую неслыханную басню, какую не придумать и любому писателю.
– Она мне сообщила, какое участие принимали вы в этой адской проделке: вы начали ее и вы же довели ее искусно до конца, если не непосредственно, то с помощью орудия.
– Дорогая леди Лисль, – начал снова майор, нисколько не смущавшийся обвинениями Оливии, – я обращаюсь к вашему уму или рассудку: пусть он один руководит в этом случае вами – и тогда мы скорее сговоримся друг с другом! Неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы избрать в поверенные эту Рахиль Арнольд, если б когда-либо задумал подобную интригу? Неужели я доверился бы этой слабой, вечно болезненной и полоумной женщине, которой бы могла не сегодня, так завтра прийти мысль изменить мне? Ну возможно ли это? Правдоподобно ли это?… Великие боги, неужели я способен сделать такую глупость?!
– Она говорила очень несвязно; но все же я могу понять из ее слов, что она подслушала какой-то разговор между вами и ее мужем, – заметила Оливия.
– Леди Лисль, мне досадно, что вы так встревожились – и вдобавок напрасно, – сказал майор торжественно. – Вы слушали просто бред помешанной женщины, галлюцинации которой нетрудно объяснить, если только припомнить, что у нее был сын одних лет с сэром Рупертом, и вдобавок похожий с ним. Не допускайте же, чтобы такая особа могла влиять на вас, да еще в такой степени, чтобы вы даже решились сказать вашему мужу, что он вовсе не тот, кем он был и останется, – и обвинять меня в подлоге и обмане. Предположим, что ваш собственный интерес потребовал бы, чтобы мы добились доказательств от Рахили Арнольд – чего быть не может, потому что вы сделались бы предметом насмешек всего графства, как женщина, продавшая себя за титул и богатства и открывшая после, что она вышла замуж за нищего бродягу… но если б, говорю я, потребовались факты, какое же доказательство представили бы вы?
Оливия молчала.
– Вы теперь говорите, что ваш муж самозванец, подложный баронет, а настоящий Лисль живет где-то вдали… смею спросить вас где?
– Я этого не знаю!
– Я это предугадывал! – проговорил майор. – Это не в вашей власти!
– Пожалуй, что и так! – подтвердила Оливия.
– Прекрасно! А могу я спросить у вас еще, когда миссис Арнольд видела сэра Руперта?
– Лет пятнадцать назад, когда его взяли из больницы домой.
– Пятнадцать лет назад, – повторил майор, – это целая вечность, дорогая леди Лисль!.. Но мы, к счастью, можем опровергнуть это неосновательное обвинение Рахили Арнольд, признанной пользующим ее доктором безусловно помешанною, и письменным показанием ее мужа, Жильберта Арнольда, подписанным им в присутствии нотариуса баронета.
– Да поможет мне небо! – воскликнула Оливия, сложив тоскливо руки. – Но я чувствую инстинктивно, что эта женщина сообщила мне правду.
– Ваш инстинкт будет вам весьма плохой поддержкой перед лицом закона, милая леди Лисль, – возразил майор. – Мы вас не боимся… не так ли, милый Руперт? Мы не боимся также и Рахили Арнольд. На свете существует только одна особа, которой сэр Руперт должен слегка бояться, а эта особа – майор Гранвиль Варней.
При последних словах майор слегка ударил рукой по жилету в том месте, где лежал известный порт-папье, и стальная цепочка, посредством которой он был прикреплен к поясу, издала легкий звон.
– Да поможет мне Бог и научит меня, как поступить в моем несчастном положении, – сказала леди Лисль.
– Я советую вам лучше оставить все как есть, чем начинать вполне бесполезный скандал, который только сделает вас предметом сострадания – в качестве честолюбивой женщины, обманутой сыном бродяги-браконьера; это будет еще ужаснее «Лионской дамы».
С тоской и отчаянием ушла Оливия в свою комнату, чтобы обдумать все происшествия этого дня.
Утром другого дня леди Лисль увидела, проходя через переднюю, двух человек, прохаживавшихся перед главным подъездом.
– Кого вы ожидаете? – спросила она одного из них, здорового, широкоплечего малого, шея которого была обмотана красным бумажным платком.
– Мы ожидаем одну особу, которую должны перевезти в приют, но она долго не идет.
– Приют?… Какой приют? – изумилась Оливия.
– Приют для умалишенных.
Прежде чем леди Лисль могла предложить еще один вопрос, в переднюю вошла Рахиль Арнольд, поддерживаемая сиделкой и еще другой женщиной с грубым выражением лица, присланной из дома умалишенных, чтобы перевезти больную. Несчастная Рахиль была бледна, как мертвая, и дрожала всем телом.
– О миледи… миледи! – воскликнула она. – Не позволяйте им увезти меня от вас, я ведь не сумасшедшая… право, не сумасшедшая! То, что я вам сказала, – безусловно правдиво до единого слова!
– Это доказывает, леди Лисль, – раздался вдруг голос майора, появившегося в дверях библиотеки, – что пора запереть в четырех стенах людей, которые сделались жертвами галлюцинаций; иначе они могут оказать очень вредное влияние на других – даже развитых личностей, так что эти последние сойдут в конце концов, как и они, с ума. Не позабудьте, леди, что самый громкий титул не заграждает входа в дом умалишенных!
Женщина с грубым лицом и один из незнакомцев потащили Рахиль. Но, дойдя до порога, Рахиль остановилась и, протянув свою исхудалую руку, воскликнула торжественно:
– Призываю проклятие на весь этот дом и на живущих в нем!
Глава XXIX Бедный Ричард
Снег давно уже растаял на улицах Бельминстера. Крокусы в саду мистера Геварда заменились великолепными нарциссами и душистыми жонкилями; скромные фиалочки прятались в тени кустов, а Бланш Гевард проводила все свое время за исполнением принятых ею обязанностей. Прекрасный викарий был все так же печален и ревностен к делу; добродушный ректор по-прежнему боролся с грехами и недостатками своей паствы, между тем как Ричард Саундерс занимал должность директора новоустроенной народной школы. В один прекрасный майский день он сидел посреди своих беспокойных учеников, терпеливо объясняя им какой-то урок. Как он ни неутомим, как ни любим учениками, но посторонний наблюдатель понял бы с первого же взгляда, что он неуместен в этом простом училище. Голубые глаза его выражают смесь страдания, но вместе и добродушия; в манерах его проглядывает что-то нервное, ненормальное, свидетельствующее, что дух его стремится к высшей деятельности. Но что бы он ни думал и ни чувствовал – он превосходно выполняет свой долг, и дети преданы ему от всей души, что доказывается ими различными способами. Они приносят ему прекрасные букеты из своих садов – встают еще до зари, чтобы украсить классную этими же букетами; они идут за несколько миль, чтобы достать ему книгу, в которой он нуждается, так как им известно, что он много занимается науками, они смотрят на него удивленными взорами и разинув рот, когда он сидит, наклонившись над каким-нибудь толстым томом, взятым им у какого-нибудь из окрестных пасторов.
В его маленькой гостиной стоит этажерка, нагруженная книгами, купленными им на карманные деньги, когда ежегодные взносы за него дяди давали ему полную возможность удовлетворять свое влечение к науке.
В этот день он как-то особенно молчалив и серьезен; он почти вовсе не разговаривает с учениками, отсылая их домой, так что старшие из них уходят с унылым видом и говорят друг другу, что с учителем, наверное, случилось что-нибудь неприятное. Оставшись наедине с собою, Ричард погрузился всецело в размышления. Глаза его устремлены на открытое окно, в которое ему видна идущая вдоль красивого плетня тропинка, по которой Бланш вела его осенью в народное училище.
«Придет ли она? – спрашивает он себя. – Она обещала принести мне последнее издание Квэтерлея, как только принесет его из библиотеки. Она так добра и так неутомима, что непременно сдержит данное обещание! О да, я убежден, что она его сдержит!»
Эта мысль, очевидно, успокоила Ричарда. Он взял с полки книгу и начал читать ее, посматривая все-таки изредка на тропинку.
«Если она принесет мне „Обозрение”, не докажет ли это, что она интересуется мною? Впрочем, она сделает то же самое для беднейшего жителя Бельминстера, если только у него есть охота к чтению. В ней так мало общего с другими девушками, что нужно быть бессмысленным и отчаянным фатом, чтобы видеть в ее действиях признаки предпочтения».
Он снова опечалился и встал, чтобы пройтись несколько раз по комнате.
Ричард не был красавцем, но в лице его было что-то нежное, симпатичное, делавшее его в самом деле привлекательным. Он одевался просто, но выглядел джентльменом. Пока он ходил из угла в угол по комнате, у окна показалось хорошенькое личико, и нежный голосок произнес очень весело:
– А! Ричард, как вы нетерпеливы! Вы ходите тут с видом голодного льва, ожидающего обеда; а ведь я опоздала немного с «Обозрением». Мне очень досадно, что я вынуждена назвать эту книгу чрезвычайно скучной: я не могла прочесть больше шести страниц… Можно ли войти к вам?
– Да, если вам угодно! – ответил с легким трепетом молодой человек.
– Благодарю, – сказала с ясной улыбкой Бланш, – я имею к вам множество поручений от моего отца да и, кроме того, хочу сказать вам многое! Итак, я зайду к вам на целых полчаса.
Молодой человек бросился открыть дверь, и девушка, войдя в классную, села прямо на кафедру. В течение четверти часа она говорила о разных разностях, давала поручения, просила собрать сведения относительно родителей его учеников и т. д. Но Ричард хранил глубокое молчание. Опершись на подоконник, он перебирал своей нежной рукой часовую цепочку. Бланш заметила его рассеянность и проговорила, наконец, с нетерпением:
– Но, Ричард Саундерс, да вы вовсе не слушаете. Я уверена, что вы не слышали ни слова из всего мною сказанного.
– Это верно, мисс Гевард! – отвечал он ей с внезапным увлечением. – Я прислушиваюсь только к вашему голосу… который кажется мне мелодичнее музыки и туманит мне голову.
– Ричард! – сказала Бланш укоризненным тоном.
– Да, да, – отвечал он с горькой улыбкой, – говорите, что я совершенно забылся, что ваша доброта сделала меня дерзким. Идите к отцу, Бланш, и скажите ему, что он принял участие в недостойном его, так как человек, осыпанный его благодеяниями, благодарит его только тем, что осмелился полюбить его дочь.
– Ричард!.. Ричард!.. – воскликнула она с безотчетной тоской.
– И вы не упрекаете меня за дерзость, мисс Гевард?
– Нет, Ричард. Что же дерзкого в том, что вы мне сказали? Разве вы мне не равны по понятиям и чувствам, так же, как, вероятно, и по рождению вашему?
– Как?! – воскликнул Ричард – бледное лицо его озарилось лучом надежды и блаженства. – Обдумали ли вы то, что сейчас сказали?… Вероятно ли это?… Неужели вы выслушаете меня и мою искреннюю, задушевную исповедь?
– Нет, – сказала она спокойно и решительно. – О Ричард, Ричард! Зачем такая мысль забрела в вашу голову? Зачем не удовольствовались вы одной только наукой, которая давала вам столько светлых минут?… Да знаете ли вы, как тяжело любить… и любить безнадежно?… Вы еще не испытывали, каково думать вечно о том, который вас никогда и не вспомнит?… О Ричард, вы дитя, и я говорю с вами, как стала бы, конечно, говорить с младшим братом: советую же вам выкинуть эту мысль из вашей головы.
Она проговорила эти слова с необыкновенным воодушевлением; серые глаза ее разгорелись, и лицо покрылось пылающим румянцем.
– Так, значит, нет надежды?… Нет никакой надежды! Говорите же, Бланш!.. Вспомните, что вы сами называли меня только сейчас ребенком; настоящее мое положение – положение временное: я готовлюсь в коллегию… Я сделаюсь ректором… И буду равен вам, а тогда… Тогда, Бланш, можно ли мне надеяться?
– Нет, Ричард, никогда!
Тихая грусть, отразившаяся на ее лице, лучше всяких слов могла доказать, даже самому упрямому влюбленному, что дело его проиграно. Ричард Саундерс отвернулся. В это время в дверях показался внезапно бельминстерский викарий.
– Могу ли я войти? – спросил спокойно Вальтер и тут же, не дожидаясь ответа на свой вопрос, переступил порог. – Добрый вечер, мисс Гевард! Ричард, как вы себя чувствуете?
Положив руку на плечо молодого человека, он заметил, что все тело его судорожно вздрагивает.
– Что это, Ричард?!. Ричард, да что же с вами? – произнес он тревожно.
– Вы были так добры ко мне, мистер Вальтер Реморден! Я доверился вам, как старшему брату, – ответил ему мягко молодой человек. – Вы знаете давно, как я люблю ее… Простит ли она мне, что я сказал вам то, что сказал сейчас ей?
– Да… По всей вероятности! – ответил Реморден.
– Она запретила мне дожидаться взаимности как в настоящем, так и в будущем… Да хранит ее небо! Даже ангел не мог бы ответить мне иначе, но она тем не менее разбила мое сердце!
Викарий не мог видеть лица молодой девушки: она закрыла его дрожащими руками.
– Вы оба очень милые, но наивные дети! – сказал ласково Вальтер. – Не слишком ли опрометчиво подобное решение? Вы мне кажетесь созданными нарочно друг для друга, и я ожидал совсем иной развязки… Мисс Гевард, дайте руку… Как она холодна, эта бедная, маленькая, деликатная ручка!.. Сядем сюда, к окну; я расскажу вам повесть любви, конец которой чрезвычайно грустен, но которая может послужить вам уроком.
Глава XXX Рассказ викария
– Всеми признано, – начал Реморден, сев спиной к окну, так что лицо его оставалось в тени, – что нелегко живется человеку, сделавшемуся игрушкой безнадежной любви, а в особенности обманутому любимой им женщиной. Как бы то ни было, но признаюсь вам, что я сам нахожусь в числе людей, обманутых таким плачевным образом.
Бланш вздрогнула, услышав это признание, но ни она, ни Ричард не возвысили голоса.
– До этого вечера я никогда не упоминал об этой неблагодарной, – продолжал Вальтер Реморден. – Я нес покорно крест, стараясь исполнять добросовестно долг; но когда я увидел этого бедного молодого человека оплакивающим свою надежду и свои разбитые мечты, я подумал, что утешу его лучше всего, если расскажу ему, как были уничтожены и надежды другого, оставив по себе одно только отчаяние.
Бланш пристально смотрела на лицо Ремордена, но голова Ричарда опустилась к конторке, за которой он писал обыкновенно.
– Несколько лет назад, – продолжал Реморден, – я привязался к девушке, которую считал образцом совершенства; теперь я уже знаю, что и она была не чужда недостатков. Помню ее высокомерие, презрение, с которым она отзывалась о слабостях других, ее честолюбивые блестящие мечты, которые шли бы гораздо больше предприимчивому мужчине. Но помимо этого она обладала таким благородным, смелым сердцем, таким ясным умом, отвергавшим все низкое и грязное, что я еще теперь считаю ее выше большинства наших женщин. Только Богу известно, как я ее любил! Я знал, что и она любила меня… В особенности ясно выказала она мне глубину своей любви за несколько недель до венчания с другим!
– Она любила вас и вышла за другого?! – воскликнула Бланш.
– Да. Мы были друзьями почти с самого детства; ее отец был чрезвычайно расположен ко мне, и под его-то кровлей я провел все счастливые минуты моей жизни. Ей только что исполнилось семнадцать лет, когда мне пришлось выехать на время из пастората; мы расстались без клятв, но между нами было заранее условлено, что мы обвенчаемся по моем возвращении; я верил в ее честность, я был так убежден в искренности ее любви, что мне положительно не могла прийти мысль связать ее торжественным, клятвенным обещанием. Разве я мог подумать, что она в состоянии желать разбить мне душу? Я смотрел на нее как на второе я!
Я пробыл в отсутствии три года, – продолжал викарий. – Мы и не переписывались в это долгое время, потому что отцу ее не было ею сказано ни единого слова; но я получал сведения о ней через людей, которые виделись часто с нею. В течение этого трехлетнего отсутствия я чувствовал себя совершенно счастливым. Если я верил ей, то понятно, что я считал свою женитьбу едва ли не вполне свершившимся фактом. Быть может, Богу было угодно наказать меня за то, что я осмелился себе создать кумира из земного создания! Моя любовь, быть может, была тяжким грехом. Я был страшно наказан!
Вальтер остановился, как будто обессиленный невыносимой тяжестью этих воспоминаний. Никто не прерывал его; переломив себя, Реморден продолжал:
– Я работал неутомимо – сколько из чувства долга, столько и из желания удостоиться повышения и сделать ей угодное; я постоянно ходил всюду пешком, не желая расходовать небольшие сбережения на экипаж и лошадь и думая о том, как бы лучше обставить дом к блаженному дню предстоящего брака. Я не выдержал этого тяжелого труда и заболел опасно от истощения сил. Во время моей долгой, мучительной болезни, когда я лежал унылый и печальный у честного крестьянина, заботливо ухаживавшего все время за мной, я узнал случайно, что она обручилась с богатым человеком, имение которого граничило со скромным домом ее отца.
Голос викария прервался от волнения. Бланш подошла к нему и протянула ему свою бледную руку.
– Вы сочувствуете моему положению, Бланш, – сказал кротко викарий. – Я знаю хорошо, что вы простили мне мои грустные взгляды, мою необщительность, мое равнодушие ко всем молодым девушкам, даже вполне достойным любви и уважения! Удар был страшен, и он ошеломил меня на некоторое время; когда я опомнился, то долго сомневался в достоверности слуха, спрашивая себя: может ли быть, чтобы женщина, так горячо любимая, решилась променять мою любовь на золото?
– Но у ней не было сердца! – воскликнула мисс Гевард.
– Остановитесь, Бланш! Не судите ее! Мне больно это слышать, Господь знает, что я давно простил ей, бедной, разбившей добровольно свою светлую молодость! Как только я оправился и встал, меня охватило сильное нетерпение ехать; я чувствовал, что должен во что бы то ни стало лично удостовериться в справедливости сказанного. Превосходная жена ректора моей родной деревни приютила меня у себя с большой радостью, больного и разбитого физически и нравственно, – и я очутился в двухмильном расстоянии от той, с которой думал соединиться вечно неразрывными узами!
– И вы ее увидели? – спросила его Бланш.
– Да, один только раз. Но короткого свидания было вполне достаточно, чтобы убедить меня, что ее заставляет вступить в брак честолюбие… Что чувства ее вовсе не изменились, но она не могла побороть искушения громадного богатства. Бедняжка! Она выросла и жила всегда в бедности, а что может быть хуже для девушки известного, знаменитого рода и гордой по природе, как томления бедности? В то время я, конечно, не сознавал еще этой печальной истины, но понял ее позже… Я увидел тогда не только ее, но даже и ее суженого.
– А он… – начала Бланш.
– О, Бланш, не спрашивайте лучше об этом человеке! Только при виде его я и почувствовал вполне горечь ее измены. Чем внимательнее я всматривался в это грубое, наглое, безмозглое создание, которому она отдавала себя, тем более ужасался. Это был человек очень знатный, но, боже мой! Я даже сомневаюсь, чтобы во всех его поместьях и владениях был хоть один человек с такой антипатичной и пошлой наружностью и с такими манерами, которыми отличался этот знатный богач!
– Но он все-таки джентльмен? – спросила мисс Гевард.
– По рождению – да; он, впрочем, находился во время своей молодости в исключительных обстоятельствах, которые и могут послужить извинением его грубому обращению и полной неразвитости. Сердце мое буквально обливалось кровью, когда я в него всматривался и рассуждал, что счастье любимой мною женщины зависит от такого жалкого существа; с этих пор я и не слышал о ней уже ничего, так как я избегал упоминать о ней в моих письмах к знакомым, да и знавшие мои чувства или, по крайней мере, угадавшие их не желали, естественно, расстраивать меня. Господь ведает, что с ней сталось? А я не могу вспомнить о ней без жгучей боли, потому что я лично не доверил бы добровольно даже собаку сэру Руперту Лислю!
В продолжение всего рассказа Ремордена Ричард не поднимал головы от конторки, но при имени баронета он поднялся стремительно, бледный как смерть.
– Сэр Руперт Лисль?! – сказал он. – Неужели вы такой же сумасшедший, как я? Я не произносил и даже не слышал этого имени в течение длинных двенадцати лет.
– Что вы хотите этим сказать, Ричард? – спросила его Бланш, опасаясь невольно за его здравый смысл.
– Я хочу сказать, что я был болен в детстве жестокой горячкой, которая расстроила отчасти мой рассудок… И что исходной точкой моего помешательства была глупая мысль, что я – сэр Руперт Лисль!
Глава XXXI В дороге
В один жаркий июльский день шел по тропинке в двадцати милях от Ливерпуля по направлению к Лондону какой-то человек. Надетая на нем блуза была изорвана донельзя; толстые башмаки почти уже развалились, а войлочная шляпа его перенесла, как видно, столько бурь и невзгод, что потеряла первобытную форму; к палке был привешен небольшой узелок; путешественник, должно быть, подвергался различным превратностям судьбы. Если бы не английские проклятия, то и дело слетавшие у него с языка, вы приняли бы его за уроженца юга – до такой сильной степени загорел он. Хотя вокруг него не было ни души, он шел как-то несмело, стараясь держаться поблизости плетней, как будто опасаясь встретиться неожиданно лицом к лицу с каким-нибудь беспощадным врагом. Физиономия этого путника была не из числа приятных, и я верю, читатель, что если бы он вдруг очутился перед вами в какой-нибудь пустынной и отдаленной местности, то вы непременно стали бы опасаться за часы и цепочку, если не за себя! Сама дорога, избранная этим странным субъектом, не внушала доверия, так как она была очень удобна для различных разбойничьих засад. В конце этой дороги находился пригорок с громадным дубом, на котором в доброе старое время был повешен ни один злодей, продолжавший по смерти наводить на окрестность точно такой же ужас, какой он наводил во время своей жизни; вследствие этих казней пригорок и поныне сохранил еще мрачное название Жиббет-Гилля.[1]
Возле этого-то холма бросился утомленный путник на землю, не переставая произносить проклятия, с помощью которых он нарушал однообразие пустынного пути. Вытащив из узла обглоданную кость, несколько кусков хлеба и складной нож огромного размера, он принялся закусывать. Когда кость была очищена так тщательно, что самая голодная и жадная собака не тронула бы ее, он спрятал нож в карман, лег на спину и начал набивать закоптелую трубку, которая была заткнута за отделку его шляпы.
– Остается пройти еще две сотни миль до места назначения, – пробормотал он хриплым и неприятным голосом. – Я устал и голоден, ноги мои изранены, и в кармане осталось не более трех шиллингов, а в таком положении нелегко, разумеется, пройти две сотни миль.
За этими словами полился бесконечный поток грубых ругательств; потом усталый путник закурил свою трубку и принялся сердито выпускать клубы дыма, как будто бы он злился на табак и старался покончить с ним скорее. Таким образом он докурил свою трубку в несколько приемов, а так как запас благодатного зелья принуждал к экономии, то он засунул трубку снова за ленту шляпы – и решил соснуть. Через некоторое время он был разбужен лаем, раздавшимся над ним. Открыв глаза и проворчав одно из ругательств, он слегка приподнялся и увидел огромного роста цыгана, сидевшего верхом на здоровом осле и всматривавшегося пристально в лицо странника.
– Эй, товарищ! – крикнул цыган. – Позавидуешь вам, как вы сладко храпите.
– Отзовите вашу проклятую собаку! – заревел неожиданно разбуженный путник. – Или иначе я раскрою ей башку.
Но он был настолько утомлен, что гнев истощил последние его силы, и он снова свалился на густую траву, в полнейшей невозможности прибить даже собаку.
– Ваше пробуждение было чертовски неприятно, товарищ, – продолжал цыган, болтая ногами по бокам осла. – К сожалению, вы не сильны, так как, вероятно, устали от дороги.
– Да, я устал и зол, – ответил незнакомец. – Зачем вы разбудили меня? Ведь я не спал уже целых четырнадцать часов. Я чувствую себя совершенно довольным, когда я крепко сплю, потому что я вижу преприятные сны!
– Снится ли вам, что вы кушаете? – спросил цыган шутливо.
– О нет, – проворчал путник. – Мне снится кое-что гораздо привлекательнее – несмотря на то, что и еда имеет для меня свою прелесть, несмотря и на то, что я недавно ел такую говядину, какой ни один джентльмен не даст своей собаке… Да, мне снится кое-что поприятнее еды, питья, денег, любви, приятнее даже жизни – мне снится, что я мщу за себя заклятому и страшному врагу.
Он увлекся настолько, что снова приподнялся и с силой ударил своей палкой о землю.
– О черт! – воскликнул цыган. – Вы страшный человек, и я бы не желал оскорбить вас и словом.
– Я советую всем оскорбившим меня беречься моей мести! – сказал угрюмый путник.
– У вас весьма болезненный и изнуренный вид, – заметил ему цыган, смотря ему в лицо.
– Да, я, конечно, болен, – ответил он сурово. – Но я был больнее и могу захворать еще вдвое сильнее, а все же я иду упорно к своей цели. У меня на дороге открылась лихорадка, которая продержала меня целые сутки на куче тряпья, да еще в таком месте, где, кажется, собака не захотела бы лечь, но я все-таки иду упорно к моей цели. Я страдаю ревматизмом, так что стал чисто остовом, а все-таки, как видите, я стойко иду к цели!.. И пусть я охромею и ослепну навек, если я не дойду теперь, когда цель так близко от меня!
При последних словах голос его осекся, и он сильно закашлялся.
– Замечу вам, товарищ, что вы чересчур слабы, чтобы продолжать ваш путь сегодня, – проговорил цыган. – Все наши тут, вблизи, и я смею уверить вас, что они с удовольствием дадут вам приют на ночь, если я попрошу и если вы удержите свой язык за зубами.
Бродяга принял нехотя предложение цыгана, и последний помог ему усесться на осла.
– Вы не можете идти, – сказал он ему, – между тем как я достаточно силен и очень рад пройтись.
Цыганский табор находился за поворотом дороги, в одной миле от Жиббет-Гилля. Это было славное, тенистое местечко, окруженное ольхами и осинами; посредине виднелось небольшое озеро, на одном берегу которого красовалась группа буков. На траве под кустами лежало двое или трое мужчин, лениво покуривая и плетя рогожи; под навесом дремала свора собак, а на скамейке сидела какая-то женщина, чистившая картофель. Другая, помоложе и покрасивее первой, спала на земле, положив себе под голову поношенный платок. За исключением спящей, все приподняли голову при появлении цыгана и угрюмого всадника.
– Эй, Абрагам, кого это ты притащил сюда? – спросил один из мужчин.
– Человека, которого я нашел у Жиббет-Гилля. Вы сделаете, право, очень доброе дело, накормив его и дав ему ночлег… Хотите сделать это?
– Положим, что мы сами не утопаем в роскоши, но живем по пословице чем богаты, тем и рады… Не будите Британию! Бедняжка заснула, а ведь это случается с нею довольно редко.
Бродяга удивился, услышав, с каким чувством отзываются о спящей. Она была красива, но лицо ее выражало беспредельную грусть. Ее бледные губы были судорожно сжаты, а под ее глазами ясно обозначились синие круги и морщины.
– Вы можете помочь немножко товарищам, пока поспеет суп, – сказал один из цыган, обратясь к незнакомцу. – Кстати, как вас зовут?
Путник переминался с миной человека, не знающего, как ответить на вопрос.
– Джон Андреус, – ответил он сверх обычая вежливо.
– Джон Андреус… Хорошо… А чем же вы живете, господин Андреус?
– То тем, то другим способом, я ничего не делал в последние три месяца… я умираю скорее от голода, чем от работы, но все же я приближаюсь к своей заветной цели.
Он сказал это больше про одного себя, тусклые глаза его засверкали диким огнем, как будто в его груди сидел злобный гений, подталкивающий его и дававший ему силу все одолеть. Он сел и начал плести с цыганами рогожи, пальцы его действовали крайне неловко, но он старался, видимо, освоиться скорее с непривычной работой – а это соответствовало желаниям цыган. Через некоторое время женщина, чистившая перед тем картофель, сняла с огня, пылавшего вблизи навеса, котел с вкусной похлебкой, вынула из кошелки глиняный кувшин с пивом и затем объявила, что ужин готов.
Лицо Джона Андреуса прояснилось, когда он почувствовал приятный запах супа. Молодая же женщина, спавшая весь вечер, проснулась при стуке ложек о миски.
– Ну, Британия, – сказал тот, которого цыгане называли Абрагамом, – подойди сюда, дочь моя; ты хорошо спала и можешь теперь поесть.
– Мне не хочется есть, – ответила она с заметным утомлением. – Вы все добры ко мне… Но я не хочу есть, и я только хочу идти опять туда…
Она указала сверкающими глазами на пылающий небосклон; ее тонкие губы были судорожно сжаты и бесцветны, как прежде, во время ее сна.
– Я только и желаю, чтобы сойти туда вниз, – повторила она.
Цыгане переглянулись: как ни были неясны слова молодой женщины, но они хорошо поняли их значение. Она съела с усилием только кусочек хлеба, между тем как мужчины делали честь похлебке, а Джон уплетал все, что попадалось под руку.
– Ну, товарищ, – сказал ему самый старый цыган, закуривая трубку, – какие у нас планы на завтрашнее утро?
– Продолжать свой путь, – ответил Джон Андреус.
– Пешком?
– Ну да, пешком.
– Так нельзя ли вам идти вместе с нами? Вы можете, конечно, быть полезным тем или другим способом… Я не думаю, чтобы вы придерживались определенных занятий и трудов.
– Нет, боже ты мой, нет! – проговорил Андреус с печальной гримасой.
– Так почему бы вам и не остаться с нами?
– Потому, собственно, что для меня существует только одна дорога, по которой вы, вероятно, не можете идти.
– Отчего же и нет! – сказал цыган, подумав. – Мы идем всегда тихо, а если и спешим отправиться отсюда, то единственно для того, чтобы исполнить желание этой несчастной девушки, которая стремится дойти скорее куда-то, по ту сторону Лондона.
– И я тоже иду по ту сторону Лондона, – заметил Джон Андреус.
– Мы все отправляемся теперь в Суссекс, на Чильтонские скачки; мы были там во время прошлого листопада, но с нами случилось там несчастье, омрачившее мозг этой бедной девушки.
– В какой части Суссекса? – перебил Джон Андреус с нетерпеливым жестом. – Бог с нею, с этой девушкой!.. В какой части Суссекса происходило это?
– Чильтонская долина находится на небольшом расстоянии от Чичестера.
Стало уже темно, так что разговаривавшие видели друг друга только при свете спичек, которыми они закуривали трубки. Джон Андреус сохранял глубокое молчание, а затем сказал тихо:
– Решено: я остаюсь с вами, товарищи!
После этого все обменялись с ним крепким рукопожатием, цыгане – дружелюбно и совершенно искренне, Джон Андреус – недоверчиво, со свойственной ему робостью, как будто завладевший его душой демон запрещал ему всякое сближение с людьми.
После его внезапно озарила какая-то мысль, и он сказал:
– Зачем идет ваша молодая спутница в Чильтонскую долину?
– Чтобы посетить могилу своей родной сестры, похороненной там, – ответил Абрагам.
Молодая девушка услышала последние слова, хотя и не прислушивалась к общему разговору.
– Это была красивая и прелестная девушка, – прошептала она, – ей не было и восемнадцати лет… И она была доброе, кроткое существо. Сюзанна!.. Моя бедная, дорогая сестра!
Последние слова окончились глухим, болезненным рыданием.
– Почему она так горюет о сестре? – спросил тихо Андреус.
– Это длинная история, – ответил Абрагам, – но я, может быть, расскажу ее когда-нибудь впоследствии. Это такая драма, которую не следует рассказывать чужим.
Молодая женщина окинула присутствующих гневным, блестящим взором и сказала запальчиво:
– Ее можно рассказывать даже целому свету!.. Эту низкую, грязную, ужасную историю! Ее можно рассказывать и под открытым небом! Но вы ведь доведете меня? – добавила она умоляющим тоном. – Вы клялись, Абрагам, что сделаете это!
– Я сдержу свое слово, доведу тебя, дитя.
– И поставите меня с ним лицом к лицу? Не так ли?
– Ну да, лицом к лицу.
– Да наградит вас небо за вашу доброту! – ответила она.
Дав снова волю горю, девушка упала с рыданием на траву.
– Она, как мне кажется, немного того? – спросил Джон Андреус, указывая на лоб.
– Да, это почти так, – отвечал Абрагам. – У нее такое горе, которое могло бы свести с ума даже самого умного человека… Бедняжка!.. Я хочу жениться на ней, и мне тяжело видеть ее в подобном состоянии.
Мужчины разделили между собой все пиво, и, когда загорелись на небе звезды, они стали болтливее и откровеннее друг с другом. Джон Андреус, казалось, забыл своего демона и тоже оживился по примеру всех других. Время от времени он прерывал беседу, чтобы повторить цыганам:
– Я остаюсь, друзья мои, да, я остаюсь с вами!
Глава XXXII Почему цыгане сильно недолюбливали сэра Руперта Лисля
Долина, в которой устраиваются Чильтонские бега, отстоит в трех милях от города. Это сборное место всех бродяг и цыган, но обыкновенно оно посещается очень мало, разве только какой-нибудь фермер, идущий с рынка, свернет несколько в сторону, чтобы сократить свой путь, и проедет, таким образом, вблизи от косогора, на вершине которого возвышается обмазанный известкой шалаш, которому наивные местные поселяне дали название «Большая Биржа».
Скачки проходят в начале августа. Со второго числа начинают наполняться приезжими разные шалаши и палатки, которые так низки, что в них можно лежать, но никак не стоять, для чего в них навалены целые груды папоротника и других растений; лошади и ослы бродят вокруг них, общипывая жесткую и сухую траву. Первыми посетителями, занявшими палатку, были цыгане, приютившие в таборе Джона Андреуса. Они прибыли ночью, выбрали самый отдаленный шалаш и выказывали свое присутствие лишь легкой струей дыма, подымающегося над пылающим костром.
– У нас здесь найдется много друзей, – сказал Абрагам, когда все расположились поудобнее, – но мы в них не нуждаемся. Для этой бедной девушки будет отчасти лучше, если мы останемся совершенно одни.
«Бедная девушка» была та, которую называли Британией. Раза два Джон Андреус украдкой старался, против своего обыкновения, вступить с ней в разговор; но он натолкнулся на крепкую преграду безысходного горя, отделявшую ее от общения с людьми. Я даже подозреваю, что молодая цыганка чувствовала инстинктивно, что личность Андреуса ей не совсем чужда. Она говорила с ним, хотя и односложно, отвечая только на заданные вопросы, но она не смотрела никогда на него, и никогда лицо ее не изменяло вечного своего выражения глубокой неподвижности, не проявляло чувства ни в присутствии друзей, ни в присутствии врагов. Когда ей предлагали пищу или питье, она ела столько, чтобы не умереть. Спала она тоже только в тех случаях, когда истомленное тело ее настойчиво требовало отдыха, и легкий сон ее был всегда беспокоен и полон движения.
Прибыв на место скачек, Джон Андреус спросил еще раз о причине грусти Британии.
– Вы обещали рассказать мне это, познакомившись со мной ближе, – сказал он Абрагаму, – теперь мы уже давно вместе, и я надеюсь, что вы сдержите слово.
– Я расскажу вам все, – ответил Абрагам. – Иногда мне и хочется рассказать эту драму; зато в другое время я даже нахожу, что разглашать ее – значит мстить наполовину оскорбившему нас… Да, я расскажу вам все, как было, Андреус.
Собеседники курили, лежа на земле на некотором расстоянии от прочих товарищей. Теперь же Абрагам встал и повел Андреуса по длинной аллее к какому-то барьеру, на который и сел, приглашая своего спутника сесть с ним рядом. Джон послушался и принялся закуривать трубку, чтобы выслушать внимательнее историю цыгана.
– Британия замечательно красивая девушка, – начал Абрагам. – Она была еще лучше до ночи, ознаменованной ужасным происшествием… Которое не позабыто нами… Бог Всевидящий знает, что оно не забыто!.. Оно-то и согнало с ее лица румянец, а из глаз прежний блеск… Да, она была раньше настоящей красавицей!
– Верю этому, – проговорил с нетерпением Андреус. – Продолжайте, пожалуйста!
– Она не похожа уже больше на ту, которая была потеряна для нас, – продолжал цыган с пламенным оживлением, – не похожа настолько же, насколько не похожи полевые цветы на чудные цветы, растущие в теплицах. В ней так же мало сходства с убитой сестрой, как необъятна разница между тем фонарем, горящим в отдалении, и этой звездой, сверкающей над нами… Бедняжка… Мое бедное убитое дитя.
– Вы сказали, убитое? – переспросил Андреус.
– Видите ли, товарищ: есть убийцы, которые никогда не употребляют ножей или вообще других смертоносных орудий и не попадают на скамью подсудимых… Есть убийцы, убивающие не тело, а – душу: такому-то убийству подверглась и она!
– Я не могу понять, куда клонится ваша речь, – перебил Джон Андреус. – Мне хотелось бы, чтобы вы выражались яснее и не отходили бы от главного предмета.
– Я и хочу придерживаться сущности дела, но только при условии не торопить меня… Есть слова поострее ножа или кинжала, каждый слог их жжет губы… Но я перехожу к изложению дела. Недалеко отсюда живет прекрасный джентльмен: если только богатство и роскошь могут сделать человека прекрасным, то я верно назвал его; а если зло и низость составляют неотъемлемое качество негодяя, то он есть негодяй! Ну, да как бы то ни было, но он один из сильных людей этого графства. В прошлом году он присутствовал на бегах, правил сам четвернею, а в его экипаже сидела молодая и красивая дама. Он лил рекою шампанское и держал пари за каждую лошадь, конкурировавшую на приз.
Джон Андреус внимательно прислушивался к каждому слову цыгана, и когда тот смолк, чтобы перевести дыхание, то он сказал ему с видимым нетерпением:
– Продолжайте, товарищ, продолжайте, прошу вас!
– Продолжаю, – ответил угрюмо Абрагам. – С нами была в то время Сусанна – родная и единственная сестра Британии. Она подходила ко всем экипажам и выручила к вечеру довольно много денег. Его жена подозвала ее, как прочие, к себе, дала ей золотой за ее ворожбу и долго говорила с ней доверчиво и дружелюбно. Он тоже обратил на нее, очевидно, внимание – не открыто, как прочие, говорившие ей вслух, что она восхитительна! Нет, он поступал иначе, подходил к ней украдкой, и один из товарищей слышал даже, как он говорил вполголоса, что если она захочет, то он подарит ей великолепный дом и щегольской экипаж. Она отошла с живым негодованием, но он ее преследовал – и в этот день и после, так что она старалась оставаться на виду его прекрасной спутницы, при которой, конечно, он не смел приставать к ней. По окончании бегов оказалось, что мы заработали больше, чем ожидали. У всех нас была общая касса, и сестры отдавали нам сполна свою выручку, превосходившую нашу общую вдвое; таким образом, мы могли спокойно отдохнуть два-три дня, чтобы приготовиться в далекое странствие… Поверите ли вы, что в продолжение этих трех дней негодяй каждый вечер бродил вокруг палаток, пытаясь поговорить с Сусанной.
– И она ничего не сказала ему? – пробормотал Джон Андреус.
– Нет! – воскликнул цыган. – Да и что же могла сказать ему бедняжка? Другая, разумеется, была бы в восхищении, что за ней увивается молодой джентльмен, не могла бы отказаться принять подарки, какие не виделись ни разу ей и во сне; не одна дочь фермера пустила бы тотчас в ход все женское кокетство, чтобы только удержать его возле себя; тщеславилась бы им перед своими подругами, гордилась бы своим влиянием над ним, хотя бы, в конце концов, осталась ни при чем. Но цыганки честнее, чем думают о них! Бедная девушка!.. Я будто сейчас вижу ее, как она к нам вбежала после свидания с ним. Глаза ее горели, а лицо было бледно, и беленькие зубы стучали от волнения. «Я уверена, что мы более не увидим его, – заявила она. – Он едва ли решится прийти после того, что я ему сказала!» О, если б он действительно не приходил бы больше, то она и теперь была бы, быть может, с нами! Мы все без исключения остались в дураках, потому что поверили, что он уже не покажется нам больше на глаза, убедившись в полнейшей своей неудаче!
– Вы, конечно, ошиблись?
– Да, мы страшно ошиблись! – ответил Абрагам, сжимая кулаки. – Мы не знали, на что способен негодяй без сердца и без чести! Накануне отъезда Сусанна попросила ей дать несколько шиллингов из нашей общей кассы, чтобы купить себе ленту. Мы не могли, конечно, отказать ей в просьбе, так как ее выручка была побольше нашей. Итак, она взяла около пяти шиллингов и ушла в три часа пополудни в Чильтон. Британия и я обещали выйти ей позднее навстречу – бог весть, почему нам пришла эта мысль; я думаю, что так уж было предназначено. Стоял жестокий зной, и воздух был удушлив. Я заснул, и меня разбудила Британия, которая сказала с глубокой тревогой, что назначенный час возвращения Сусанны уже давно прошел, а ее не видать. Сон меня отуманил, и я не обратил никакого внимания на слова Британии, а только отвечал, что сейчас же пойду, конечно, вместе с нею и мы, наверное, встретим немедленно Сусанну. Вам знакома дорога отсюда до Чильтона, товарищ, так что мне нечего говорить, что по ней мало ходят и с одной стороны ее тянется ров. Наступила уже ночь, когда мы с Британией вышли из шалаша. Не встречая Сусанну, мы дошли до Чильтона, где нам тотчас сказали, что она давно сделала все нужные покупки и три часа назад отправилась спокойно по дороге в табор. Видите ли, товарищ, когда вам предстоит тяжелое несчастье, то все чувства и нервы напряжены донельзя, и в такие минуты достаточно толчка, чтобы навести на истину. Я сейчас же смекнул, что с девушкой случилось что-нибудь нехорошее. Я не говорил Британии ни слова, да и она молчала, но я видел отлично, что она беспокоится не меньше меня и что сердце ее предчувствует беду. Совершенно стемнело, и я на всякий случай потребовал фонарь, хотя мы дошли бы и без него до табора. Британия поняла, зачем я взял фонарь. Когда мы вышли из города, я замедлил шаги, чтобы поговорить с ней. Она шла со мною рядом, но была молчалива и бледна, как мертвец. «Британия, – сказал я, – пойдем прямо вдоль рва! Сусанна могла сильно устать и прилечь где-нибудь». Я почти задыхался от сильного волнения, тяжелые предчувствия теснились в моей душе, и к довершению горечи этого положения я знал, что и Британия разделяет со мною эти мысли и чувства, хотя и не высказывает мне своих опасений. Вы знаете, товарищ, что этот ров идет по одной стороне дороги из Чильтона, другая же граничит с обширной равниной; я держал фонарь на уровне поверхности воды, наполняющей ров, и наблюдал с глубоким, напряженным вниманием. А Британия смотрела через мое плечо.
– Что же дальше? – спросил Андреус, увидев, что цыган снова остановился.
– Дальше – мы увидели почти то, чего ждали. Как раз на полдороге, в самом пустынном месте, мы нашли безжизненное тело Сусанны, лежавшее в воде. На траве возле рва были видны следы мужских и женских ног, а на дороге – следы лошадиных копыт. Трава была помята; это указывало, что тут происходила жестокая борьба; поблизости валялся сломанный хлыст. Я сохранил этот сломанный хлыст, потому что на ручке стояло его имя. Отчаяние Британии не имело границ; она тотчас же хотела отправиться к злодею, хотя до него было вовсе не близко, и прямо перед всеми обвинить его в убийстве Сусанны. Но я убедил ее, что это бесполезно, и послал ее за одним из товарищей, чтобы довезти покойницу до нашей палатки, где мы и положили ее на постель, как будто бы она умерла, окруженная всеми своими близкими.
На другое утро я отправился к нему со сломанным хлыстом. Я встретил его прогуливающимся с одним из его приятелей, который казался вдвое старше его. Когда я повел речь об этой страшной драме и показал им хлыст, они расхохотались, а старший из них сказал еще вдобавок, что я придумал басню, для того чтобы выманить себе побольше денег. Перед моими глазами был еще труп несчастной Сусанны, и когда я услышал наглое уверение, что я бесстыдный лжец и что я поднял хлыст там, где он был потерян, а именно на бегах, то я вышел из себя, бросился на младшего и чуть было не задушил его. Мне хотелось не выпустить его живым из рук, я был тогда готов разнести его на части; но сила была на их стороне; меня потащили тотчас же в магистрат, там меня обвинили в оскорблении джентльмена и посадили в чильтонский острог… Но я увижусь с ним и в скором времени заставлю его помнить меня до гроба!
– Вы не сказали имени этого джентльмена, – заметил Джон Андреус.
– О, ведь дело не в имени! – возразил Абрагам.
– Но я желаю знать его, – проговорил бродяга каким-то странным тоном. – Если же вы не желаете назвать мне его сами, то я, я назову вам этого человека.
– Вы?! – воскликнул цыган. – Как вы можете знать…
– Имя его – Руперт Лисль, – перебил Андреус. – Живет он в замке Лисльвуд, миль за десять отсюда. Тот, которого вы видели с ним, полный, рослый мужчина, носит желтый жилет, золотые цепи, а усы, прикрывающие его проклятый рот, золотистого цвета! Это Гранвиль Варней… Земля не создавала еще подобного злодея, – добавил Джон Андреус, голос которого возвышался при каждом слове все более и более и перешел, наконец, в яростный крик. – Будь он проклят! – воскликнул он, потрясая рукою с угрожающим видом.
– Объясните, товарищ, что же это все значит? – спросил Абрагам, гнев которого был ничто по сравнению с бешенством, овладевшим Андреусом.
– Это значит, что мы с вами стали родными братьями с настоящей минуты, а Британия – мне сестрою, потому что у нас одна общая цель… А что касается до того, – продолжал Джон Андреус как будто про себя, – если эта молодая собака попадется мне под руку, хоть даже сегодня же, я размозжу ей череп так же, как и тому. Богу известно, что я никогда не чувствовал к нему особой любви. Пусть он не воображает, чтобы во мне проявилось сострадание к нему!
Когда собеседники вернулись в палатку, Джон Андреус подошел прямо к Британии и поцеловал ее в лоб. Я уже говорила, что в нем не было решительно ничего привлекательного, и потому молодая цыганка, несмотря на свое полубессознательное состояние, откинулась назад с видимым отвращением.
– Он тоже против него, – сказал Абрагам. – Он даже готов убить его, если он не обманывает.
– Это правда? – спросила цыганка, встрепенувшись и подойдя к Андреусу. – В таком случае поцелуйте меня… Поцелуйте же – и будем друзьями.
Глава XXXIII Чильтонские бега
Всем приехавшим в Чильтон на бега было легко и весело в утро шестого августа по случаю наставшей чудной погоды. Солнце ярко светило, и небо голубело над Чильтонской долиной. Недовольные люди, завидовавшие общей радости, старались всех уверить, что такая погода чересчур хороша, чтобы продолжаться долго, и что надо ждать бури. Жадные же к удовольствиям отрицали, конечно, дурные предсказания; они спрашивали себя: неужели такое яркое солнце и спокойное небо предвещают несчастье?
Положим, что на дороге, ведущей к Чильтонской долине, было немало пыли, но разве дорога из Эпсома в Лондон не представляла такого же неудобства как для победителей, так и для побежденных? Итак, суссекские фермеры весело проезжали на своих тильбюри в густых облаках пыли, поднимавшейся под копытами их бойких лошадей, а жены их вполне примирились с мыслью испортить свои хорошенькие шляпки, купленные нарочно по случаю бегов.
Бега начались в час пополудни, а в пять минут второго, когда был только что поднят номер выигравшей лошади и державшие пари фермеры отдавали и принимали деньги в середине круга, подкатил экипаж сэра Руперта Лисля. Майор Варней правил лошадьми, а рядом с ним на козлах сидел баронет, из окна экипажа выглядывало прекрасное, всегда высокомерное лицо леди Оливии. Она не упускала случая показать себя многочисленной публике, как будто говоря этим: «Вы уверяете, что я несчастна замужем? Говорите еще, что я продала себя за богатство, которое не может составить мое счастье, и за титул, который покрывает меня позором и бесславием; смотрите же на меня и любуйтесь, как я поддерживаю собственное достоинство, хотя мой муж топчет в грязь древнее имя Лислей!»
С Оливией сидели две ее сестры. Их бледные лица и бесцветные волосы подчеркивали смуглую и блестящую красоту леди Лисль: они существовали как будто для того, чтобы делать ее несравненно заметнее, и сознавали это и потому ненавидели ее от чистого сердца. Их угловатые манеры и пансионерское общение придавали больше цены ее грации и смелости. Быть может, им служило утешением думать, что сестра их несчастна, несмотря на свои преимущества перед ними. Они видели лихорадочный блеск ее глаз, блуждающих с предмета на предмет, нервное подергивание губ и вечное желание быть в обществе, чтобы только не оставаться наедине с собою и со своими мыслями. Мужчины окружили ее экипаж, как только она оказалась перед кругом, так как она смеялась и была разговорчивее других чопорных дам. Жены фермеров, которые заботились о домашнем хозяйстве, уступали ей тоже в полнейшей беззаботности и беспечной болтливости. На бегах, между прочим, присутствовало и несколько драгун, которые разъезжали взад и вперед, отыскивая кого-нибудь, кто бы мог их представить прекрасной леди Лисль и задаваясь вопросом: действительно ли тот молодой человек, который сидел рядом с блистательным Варнеем, отставным майором индийской армии, – сэр Руперт Лисль?
Тут было множество цыган и цыганок; смуглые лица, выглядывавшие из-под голубых или желтых платков, толпились вокруг роскошных экипажей.
Там и сям появлялись смуглые цыганята, которых наделяли то куском пирожного, то мелкой монетой, то стаканом шампанского, которое было легче достать на Чильтонских бегах, нежели глоток воды.
Абрагам с товарищами тоже ходил посреди зрителей, предлагая подержать лошадь, почистить платье джентльменов и другого рода услуги за шесть пенсов. Странно было то обстоятельство, что Джон Андреус положительно отказался присоединиться к ним и показываться на бегах.
– У меня есть причины, почему я отказываюсь, – пояснил он цыганам, – и поверьте мне на слово, что они основательны. Я буду плести рогожи, сколько бы их ни заказали, но не выйду из шатра, пока будут продолжаться бега.
Он сдержал слово и спал большую часть дня в палатке. Британия, не отстававшая от своих соплеменников, была страшно бледна. На ней была сильно измятая шляпка, украшенная искусственными цветами, кружевами и лентами. Казалось, какая-то таинственная сила удерживает ее около экипажа Руперта Лисля, так что когда она уходила к другим по обязанности своего ремесла, то только на самое непродолжительное время. Оливия узнала ее, наконец, и подозвала знаком к себе.
– Вы были здесь в прошлом году? – спросила леди Лисль.
– Да, миледи, была.
– Вы, кажется, больны?
– Да, миледи… Но я, скорее, больна душою, нежели телом. Силы мои слабеют с каждым днем все заметнее; их уносит злой бич лихорадки да горя… И я сама узнала страшную перемену, происшедшую со мною, только сегодня утром, когда стала надевать платье, которого не трогала ровно двенадцать месяцев.
– Бедняжка!.. Это грустно!.. Но где же ваша сестра, эта хорошенькая девушка, которая была так похожа на вас?
– Она была гораздо красивее меня, – заметила цыганка.
– Да, она действительно была очаровательна. Я еще никогда не встречала такого милого личика… Вы помните ее, Лаура? – обратилась Оливия к своей старшей сестре. – Почему же ее нет в нынешнем году с вами? – продолжала она расспрашивать Британию.
– Потому, что ее нет больше на свете, – ответила цыганка, стиснув зубы, между тем как лицо ее покрылось смертельной бледностью.
– Она умерла?!
– Да, она утонула во рву, находящемся недалеко отсюда.
Загадочное выражение лица молодой девушки и многозначительная интонация ее голоса внушили леди Лисль непроизвольный ужас.
– Сама ли она утонула во рву? – спросила она, тоже изменившись в лице.
– Нет, не сама, миледи.
– Нет?… Так кто же это сделал?… Как же это случилось?… Расскажите мне все.
– Богу известно, кем совершено это преступление, да и мы знаем имя преступника; но свет, разумеется, не узнает его, потому что свет лицемерен и лжив, – и люди не хотят слышать о преступлениях, если они задуманы и совершены богатым джентльменом.
– Мне грустно узнать это, – проговорила Оливия, опуская золотой в руку молодой девушки. – Я не могу выразить, как я огорчена этим известием.
Она сказала это вполне чистосердечно и сделалась внезапно серьезна и задумчива. После этого сестры направили лорнеты на личность баронета и смеялись над ним, видя как он держал пари непременно за самую ненадежную лошадь, руководствуясь личным суждением.
– Бедная девушка! – вскрикнула леди Лисль, обратясь снова к сестрам. – Она была еще полна жизни и силы и вдобавок прекрасна!.. И подверглась она такой печальной участи по милости какого-нибудь низкого человека! Боже праведный! Да, земля, кажется, населена одними негодяями!
Немного позднее, когда шли приготовления к последнему бегу, Британия снова приблизилась к экипажу баронета, который стоял возле дверей, опираясь на них. Он не разговаривал с женой и даже не смотрел на нее: он едва ли осмеливался дышать в ее присутствии, но стоял возле нее, чтобы доказать восхищающейся ею толпе, что она – его собственность.
Он побледнел при виде молодой цыганки, которой не замечал ни разу на бегах вплоть до этой минуты. Последний остаток его мужества исчез, потому что майор Варней ушел к брайтонским офицерам, среди которых имел много знакомых.
– Не угодно ли вам узнать вашу судьбу, прекрасный джентльмен? – спросила Британия, глядя пристально ему в лицо.
– Нет, – ответил сэр Руперт.
– Как, даже и в том случае, когда цыганка может сообщить вам кое-что интересное? – настаивала Британия. – Когда она может сказать вам не только одно будущее, но и все, что было прежде с вами?… О сэр! «Прошедшее – преступление, виселица – впереди. Для честных наступает день, для убийцы же – ночь».
– Что это такое?! – воскликнул Руперт в бешенстве.
– Отрывок из стихов, прекрасный джентльмен. Ведь мы знаем понемногу все… Позвольте же предсказать вашу судьбу, милорд!
– Да нет же! Я сказал вам, что не желаю слушать! Неужели я должен повторять вам сто раз одну и ту же песнь? Вы, конечно, хотите выманить деньги и наговорите разных глупостей, на которые одни дураки обращают внимание… Возьмите же и идите.
Он вынул золотой и подал его ей. Цыганка отскочила движением тигрицы – золотой покатился, и она с омерзением плюнула на него.
– Вот как я принимаю дары подобных вам! – воскликнула она.
Толпа с изумлением смотрела на всю эту загадочную сцену: Британия была буквально вне себя, баронет то краснел, то бледнел от неловкости своего положения, но леди Лисль смотрела на все с ледяным равнодушием.
– Куртис, – сказал лорд груму, возившему корзины с различными припасами, – ступайте приведите сейчас же полисмена, чтобы арестовать эту наглую женщину.
Грум кинулся поспешно в другой конец арены, где стоял полисмен. Но цыганка стояла неподвижно на месте; она даже не слышала приказаний сэра Руперта.
– Что вы хотите сделать, сэр Руперт Лисль? – спросила Оливия.
– Я хочу приказать взять под арест цыганку.
– На каком основании?
– На том основании, что она без причины оскорбила меня, – ответил он с запинкою, меняясь в лице.
– Я знаю эту девушку, я знала ее сестру, – произнесла Оливия совершенно спокойно. – Я выслушала недавно рассказ об убийстве бедняжки… Вы не прикажете арестовать эту женщину, сэр Руперт.
– Почему? – спросил он.
– А потому, что я этого не хочу, и еще потому, что мне вполне известно, какое участие вы принимали в этом возмутительном деле.
– Так пусть она уходит, – перебил сэр Руперт. – Куртис, скажите полисмену, что он больше не нужен. У леди Лисль такое нежное сердце, что ей приятнее видеть оскорбленного мужа, чем за него вступиться… Убирайтесь отсюда! – обратился он грубо и нахально к цыганке. – И чтобы я никогда не слышал ни о вас, ни о вашей сестре, ни о ком бы то ни было из ваших нищих спутников! Поняли вы меня?
– Слышу и понимаю, – ответила Британия, – слышали и другие!
Она было ушла, но возвратилась снова и прошептала тихо на ухо баронету:
– Неужели вы, лорд Лисль, не боитесь умерших? Когда вы остаетесь одни во мраке ночи, не смотрит ли на вас из тени драпировок вокруг вашей кровати бледное, неподвижное и грозное лицо? Я вижу его часто при ярком свете дня и во мраке темной ночи, и если этот образ наводит на меня невыразимый ужас, то он должен положительно леденить вашу кровь!
Глава XXXIV Под сиянием луны
Майор и офицеры подружились и сблизились до такой степени под влиянием шампанского, бургундского и прочих выпитых вместе вин, что, когда скачки кончились, когда во всех тавернах и местных ресторанах заблестели огни и послышались звуки веселой бальной музыки, когда тяжеловесные суссекские фермеры перебывали все на весах Жокей-клуба, заплатив каждый по пенни за это удовольствие, и даже место скачек было приведено старанием полисменов в надлежащий порядок, общество офицеров не хотело расстаться со своим новым знакомым.
– Мы уже заказали к восьми часам обед у «Короля Георга», – объявили ему все эти джентльмены. – Почему бы вам, майор, не отобедать с нами? Вы доедете до Чильтона вместе с нами в карете, а там вы можете найти кабриолет для возвращения в Лисльвуд.
– Я был бы не прочь воспользоваться любезным приглашением, – отвечал им Варней, – но молодой мой спутник…
– Так возьмите с собой сэра Руперта Лисля, – перебил его с живостью молодой капитан, – превосходный малый, возьмите сэра Руперта! Хотя он не совсем приятный собеседник, но мы втянем его как-нибудь в разговор!
Капитан и майор подошли рука об руку к карете баронета с предложением отправиться вместе с ними в Чильтон. Сэр Руперт был еще чрезвычайно бледен вследствие неожиданного столкновения с цыганкой; он поспешил воспользоваться любезным предложением.
– Я еду с удовольствием, – заметил он майору, – это меня развеет! В Лисльвуде можно, право, задохнуться от скуки: он мрачен, как кладбище!
Леди Оливия Лисль отправилась домой вместе со своими сестрами, а майор и сэр Руперт поспешили усесться в офицерский фургон; капитан Гинтер правил, беседуя с майором, который предпочел занять место на козлах.
– Нам нельзя не вернуться сегодня же в Брайтон, – сказал капитан Гинтер, – мы обязаны быть на утреннем параде. Это очень досадно: не правда ли, майор?
Майор расхохотался.
– Служебные обязанности индийских офицеров так сложны и так трудны, – ответил он на это, – что я даже не в силах сочувствовать таким мелочным неприятностям вашей завидной службы!
– Она была завидной, но теперь мы работаем не менее других! – возразил капитан.
Веселая компания приехала в Чильтон при наступлении сумерек; столовая в гостинице, где ее ждали к обеду, была залита светом, и стол был сервирован роскошно и эффектно; хозяин, очень видный и приличный мужчина, вышел встретить гостей. Обед начался тотчас же; завязалась живая, веселая беседа, послышались возгласы, восклицания, смех. Сэр Руперт пил шампанское в громадном изобилии и сделался не в меру развязен и болтлив; его неприятный хохот увеличивал шум веселого обеда.
За десертом один из старых офицеров пошутил добродушно над капитаном Гинтером или, вернее сказать, над богатством его – его отец имел мастерскую в Вест-Энде и нажил капитал, – капитан и не думал обижаться на шутку, так как за нею не крылось никакой задней мысли, но Руперт Лисль рискнул под влиянием хмеля пошутить в свою очередь над капитаном Гинтером и над его отцом, и пошутить по-своему: глупо, грубо, бестактно! Он не успел сказать нескольких слов, как глаза его встретились с глазами Варнея. Пристальный взгляд майора сверкал такой угрозой, что баронет остался с полуоткрытым ртом и не окончил фразы.
Но сэр Руперт забыл через несколько минут об этом поражении: он пил и становился все глупее и бурливее, он сумел в такой степени надоесть офицерам, что майор Варней, потерявший терпение, схватил его за шиворот и оттащил без всяких объяснений в одну из дальних комнат.
– Ложитесь и проспитесь! – сказал он с омерзением. – Вы неуместны в обществе порядочных людей, вы так же неразвиты, как ваши воспитатели. Погреба Лисльвуд-Парка завалены шампанским, а вы не в состоянии выпить двух, трех бутылок, чтобы не опьянеть отвратительным образом. Лежите же и спите!
Немногие, конечно, из числа джентльменов, фамилии которых имеют привилегию стоять в золотой книге и владения которых обширны и известны, как владения Лислей, допустили бы подобное обращение с собою, но владелец Лисльвуда исполнил без протеста приказание майора, как будто бы Варней был настоящим наследником знаменитого рода, а он его слугою.
Приятное расположение общества увеличилось еще более от поступка майора.
Офицеры собрались у открытых окон, закурили сигары и любовались чильтонским рынком, освещенным луной. Улица была пуста.
Только одинокий полисмен прохаживался по другой ее стороне, прислушиваясь к шуму в гостинице и мысленно радуясь множеству полукрон, которые достанутся ему, несомненно, сегодня. Был уже час ночи, когда последняя бутылка шампанского свалила одного из офицеров с ног и лошади забили с нетерпением копытами у подъезда гостиницы.
– Нам предстоит порядочная прогулка до Брайтона, – сказал капитан Гинтер. – Не лучше ли будет отправиться равниной, чтобы к четырем часам приехать с шумом в «Лев»?
Хозяин гостиницы «Король Георг» раздобыл маленький догарт, приличный и запряженный весьма прыткой лошадкой, чтобы отвести майора и сэра Руперта в Лисльвуд.
– Отпустите ей вожжи, – объяснял он майору, – отпустите ей вожжи, дайте ей свободу, и она довезет вас до Лисльвуда так скоро, что вы едва успеете опомниться, где вы.
Чтобы разбудить хотя бы на время баронета, пришлось его трясти и кричать ему в уши. Проснувшись наконец, он стал сильно браниться и назойливо спрашивать, где он теперь находится. Майор Варней счел лишним напрасно терять время и, взяв его за ворот, свел его с крутой лестницы и уложил в догарт.
Затем последовали долгие рукопожатия между майором и кавалерийскими офицерами; поднялся шум и крики, когда молодые люди рассаживались в экипаж; только молодой корнет, на которого вино подействовало слишком сильно, не принимал участия во всеобщей суете.
Полисмен перешел улицу, чтобы сделать замечание насчет этого шума, нарушавшего спокойствие Чильтона, но, получив несколько ожидаемых полукрон, он вдруг сделался глух и не сказал ни слова, когда один из офицеров взял флейту и экипаж удалился под звуки веселого галопа «Почтовый рожок», который офицер исполнял во всю силу своих здоровых легких.
Майор Гранвиль Варней был вообще очень бдителен, и когда услышал грохот дрожек по улице и веселые голоса молодежи, которые покрывали собою шум колес, то почувствовал нечто вроде грусти и скуки при мысли, что он должен ехать в Лисльвуд один.
«Я мог бы ехать в Брайтон вместе со всей компанией, – подумал он со вздохом, – мог бы заночевать в гостинице „Корабль”. Но что сделал бы я с этим презренным пьяницей, с этим пошлым глупцом?»
Майор подобрал вожжи…
Вскоре он уже ехал по дороге к Лисльвуду.
«Это довольно скучная дорога, даже и днем, – продолжал рассуждать майор, – ее пересекают беспрестанно проселочные дороги. – Я надеюсь, лошадь не собьется с нее!»
Сэр Руперт заснул и при каждом сотрясении экипажа тяжело ударялся головой о майора.
– Я начинаю тяготиться этим болваном, – проворчал сквозь зубы индийский офицер. – Нет ничего приятного дрессировать такое нелепое животное. Кошелек набит у меня довольно туго, я могу прожить не нуждаясь ни в чем, и, кроме того, у меня есть кое-что, чем я могу держать этого дурака в полном повиновении. Я приведу свои дела немедленно в порядок и уеду с женой куда-нибудь из Англии. Мы можем поселиться во Флоренции и прожить там до смерти. Мы оба постарели и обленились!
Майор не был пьяницей, и, кроме того, он был одним из тех людей, которым их железные нервы и сильное сложение позволяют пить много и без всяких последствий.
Несколько стаканов вина, которые он выпил в гостинице, только возбудили силу и деятельность его рассудка. Он ехал, предаваясь серьезным, но никак не неприятным мыслям. Если у Гранвиля Варнея была когда-то совесть, то он отогнал этого неприятного ментора так давно от себя, что не помнил времени, когда голос его надоедал ему своими увещаниями.
«Красота или, скорее, порядок моей жизни, – говорил майор, – нормальный результат моего добросовестного изучения закона. Человек со дня рождения подчиняется его власти. Если он плутует в игре – закон карает шулера; если он залезает добровольно в долги – его берут в опеку в исполнение закона; если он пожелает жениться второй раз и при живой жене – закон гласит: «нельзя!» Если кто задолжал, а его кредитор внезапно умирает, то закон должен знать, как это случилось».
Развлекая себя этими размышлениями, майор ехал по пустынной дороге, освещенной луною, а его товарищ покачивался в маленьком экипаже справа налево и спал глубоким сном.
Во всем графстве Суссекс нет подобия неприятной дороги, как известный промежуток между двумя местечками. Это не что иное, как длинный косогор с крутыми поворотами, совершенно избитое колесами пространство; с одной стороны тянутся кусты тощего вереска, с другой – голый откос. Возница, менее опытный, чем майор Варней, подвергся бы опасности, проезжая по этой трудной дороге при бледном лунном свете, но он привык к опасностям и поднимался легкой поступью на крутой косогор, ведя под уздцы лошадь. На вершине его темнел густой кустарник, который вырос здесь с тех пор, как проложили эту невыносимую и сложную дорогу.
Майору показалось, что он видит за ним силуэт человека, и он не ошибся. Когда он уже поднялся на вершину пригорка, стоящий человек вышел к нему навстречу и схватил узду лошади.
– Сэр, можете ли вы дать место в экипаже мне и моему товарищу? – спросил он преспокойно.
– Нет, – ответил майор, – мне надо проехать еще десять миль, а лошадь утомилась.
– Но мне, кажется, сэр, что вы, право, могли бы отвечать повежливее. Я вас остановил не без пользы для вас, вы разве не знаете, что у вас совершенно оборвалась постромка?
– Нет! – ответил майор.
– Слезьте и посмотрите.
Незнакомый был прав. Майор поспешил выйти и осмотреть постромку.
– Какая досада! – проворчал он угрюмо. – Нет ли у вас веревки?
– Ни дюйма, но внизу есть, кажется, жилище, и очень может быть, что вы найдете там все, что вам будет нужно.
– Хорошо. Сэр Руперт, вылезайте скорее.
Но баронет молчал; он соскользнул с сиденья и сидел на корточках на ковре экипажа.
– Подождите, – сказал майору незнакомец. – Вас не знают в деревне, и вам, может, придется стучаться до зари, прежде чем вам откроют, но меня знают там и сделают, конечно, все, что я попрошу. Я сведу лошадь вниз, разбужу крестьян и починю постромку, а вы здесь подождите моего возвращения.
При других обстоятельствах майор бы заподозрил, чтó побуждает незнакомца быть таким обязательным, но он сильно устал, ему хотелось спать, и притом он был очень рад, что ему не придется сводить лошадь с пригорка. Он принял предложение и, напомнив неизвестному быть осторожным с лошадью, обещал ему полкроны за труды.
Майор Варней остался один на косогоре. Он стоял, обернувшись спиной к кустам, и смотрел на песок. Через некоторое время он взглянул на часы: лунный свет позволял рассмотреть превосходно положение стрелок.
Было четверть четвертого.
«Мы не потеряли времени, – подумал он невольно. – Мы будем в Лисльвуде в четыре часа».
Он достал портсигар и закурил сигару. Он вдыхал дым, и красный огонек выделялся во мраке. Он ощутил вдруг скорое горячее дыхание. Он живо обернулся и встретился лицом к лицу с широкоплечим человеком, одетым в крестьянскую блузу.
– Кто вы и что вам нужно? – процедил майор, не вынимая сигары из рта.
Человек не ответил.
Внезапное появление подобного субъекта в уединенном месте в это позднее время, его мрачное молчание – все это потрясло бы до глубины души человека трусоватого, но безграничная храбрость майора только увеличивалась при опасности.
– Кто вы? – закричал он, бросив сигару и схватившись рукой за свою массивную золотую цепочку. – Кто же вы?… Отвечайте, или я сброшу вас в эту темную яму!
– Берегитесь, чтобы я не бросил вас туда, – отвечал ему хриплый, неблагозвучный голос, который был давно уже знаком майору. – Мне не нужно ваших часов! – продолжал бродяга презрительно. – Я мог бы их взять уже много лет назад, но не нынче… Не нынче… Мне нужны одни вы – ваша душа и тело! Ваше тучное тело и ваша беспощадная и низкая душа! Ну, начнем скорее! Дело идет о жизни кого-нибудь из нас!
Незнакомец схватил майора своей грубой и жилистой рукой, но майор в свою очередь умудрился схватить его за ворот его блузы.
Обхватив друг друга, оба они боролись на узкой дороге, покачиваясь часто из стороны в сторону, то привлекая друг друга к краю пропасти, то отталкивая друг друга от нее. Во время борьбы майор был хладнокровен и боролся с предусмотрительностью опытного борца, он был настороже и пользовался всеми ошибками противника.
Незнакомец, напротив, ободрял себя криками и изрыгал проклятия на искусство майора. Это был дикий зверь, и он был тем ужаснее, что владел даром слова.
– Я вам говорил, – рычал он, задыхаясь, – я ведь вам говорил, чтобы вы береглись, если я вернусь когда-нибудь на родину… Я вас предупреждал и говорил вам правду… А теперь я вернулся!.. Чтобы вернуться, я шел, я страдал, голодал… Я пришел, чтобы покончить со своей несчастной жизнью! Я пришел, чтобы убить вас… И конечно, убью!
Эти слова звучали пронзительно, как крик среди тишины ночи.
Ни вблизи, ни вдали не было ни души, чтобы услышать крики и разнять боровшихся.
– Все те деньги, которые вы добыли интригами, не спасли бы вам жизни, – говорил с озлоблением противник майора. – Все ваши драгоценности не избавили бы вас от моего удара. Я вас ненавижу!.. Как я вас ненавижу!.. Я пришел вас убить, понимаете вы?
Майор не отвечал, но его деликатные и красивые руки сжимали со страшной силой шею злого противника, и его голубые прекрасные глаза светились диким блеском. Молчание его усиливало злобу и ярость незнакомца.
– Вы знаете меня, – восклицал он отрывисто. – Вы знаете меня и знаете причины моей глубокой ненависти! Я вас ненавижу: вы пользовались мной, чтобы достигнуть цели. Я был вашим орудием, и вы стали потом смеяться надо мной, когда достигли цели. Вы проведали тайну моей несчастной молодости и грозили мне ею. Вы узнали, что я застрелил человека около Севаноака, человека, которого я тоже ненавидел, но ненавидел его во сто раз меньше, чем вас! Слышите ли меня?
– Конечно, – отвечал хладнокровно майор.
Искусство и отвага одержали верх: индийский офицер свалил Жильберта Арнольда на дорогу и уперся коленом в его мощную грудь. Но браконьер, впрочем, приготовился ко всему. В ту самую минуту, когда Варней нагнулся, Арнольду удалось вытащить из кармана широких панталон маленький пистолет. Прежде нежели майор мог заметить движение, он уже успел взвести ржавый курок и выстрелил в лицо своего победителя. Индийский офицер, пораженный насмерть, свалился на убийцу и испустил дыхание. Жильберт Арнольд освободился из-под грузного трупа и начал быстро рыться в карманах майора. Он взял его часы, портмоне, наполненный банковскими билетами: майор был очень счастлив в своих пари на скачках!
Затем браконьер с криками дикой радости поволок свою жертву к краю песочной ямы, проводя за собой длинный кровавый след, и бросил тело в пропасть.
В это время цыган, сводивший лошадь под гору, был уже далеко от места происшествия. Он свел экипаж до ската с пригорка, затем погнал лошадь галопом. Лошадь разгорячилась и бешеным галопом понесла экипаж.
– Сегодняшняя ночь, вероятно, последняя в жизни Руперта Лисля, – прошептал Абрагам, прислушиваясь к шуму катившихся колес. – Эта месть, разумеется, не равна преступлению: она слишком слаба. Но все же честнее отомстить хоть как-нибудь убийце, чем пощадить его!
Глава XXXV Где сводятся счеты
Селение Лисльвуд было взволновано известием о несчастье, постигшем владельца Лисльвуд-Парка.
Рано утром, на другой день бегов, несколько пахарей, отправляясь на работу, нашли сэра Руперта Лисля, разбитого, изуродованного, окровавленного, на мало посещаемой дороге, которая идет от Чильтона к Лисльвуду. Обломки догарта валялись на земле; оси были поломаны, одно колесо разбито, а сбруя вся в кусках.
Рабочие взяли на соседнем поле носилки, и, положив на них бесчувственного баронета, отнесли его за три мили в селение Унтергиль, стоящее на полдороге от Лисльвуда, затем они снесли его к доктору.
Они застали деревенского эскулапа за завтраком. Увидев положение больного, он тотчас же встал из-за стола. Боязливая и любопытная толпа крестьян заняла окно и дверь маленькой приемной, где по указанию доктора положили сэра Руперта Лисля на стол.
Одна нога была совершенно раздроблена, правая рука тоже, а плечо было вывихнуто.
Осматривая все эти повреждения, врач сильно призадумался.
– Люди, которые привели джентльмена, знают ли его имя? – спросил он.
– Нет, они знают только то, что они сказали. Они нашли его на дороге, около разбитого экипажа.
– Это неприятный случай, – сказал доктор, – он в чрезвычайно опасном положении.
Доктор мог бы сказать, что больной безнадежен.
Во время этих расспросов сэр Руперт находился в полнейшем бессознании.
В кармане его жилета нашли маленький порт-папье, эмалированный и вышитый жемчугом. По его карточке узнали его имя и звание.
Унтергильский врач был молодой человек, который не имел счастья лечить влиятельную личность; его практика состояла из богатых фермеров и удалившихся от дел торговцев. При мысли, что ему придется лечить настоящего баронета, он побледнел почти так же, как и его больной.
– Теперь извольте растворить настежь окна и двери, – сказал он. – Да уходите отсюда: при таком стечении народа невозможно дышать. Ступайте по местам и дайте сэру Руперту время прийти в себя.
– Сэру Руперту! Так это был лорд Лисль из Лисльвуд-Парка, который лежал бесчувственным, безжизненным, покрытым пылью, в окровавленной одежде на столе в кабинете мистера Дэвсона?
Эта новость не могла побудить присутствующих уйти поскорее: они направились было к выходу, но потом тихонько повернули назад. Положение сэра Руперта не предвещало, чтобы он мог прийти скоро в сознание. Подносили к его ноздрям нашатырный спирт; натирали виски уксусом, вспрыскивали его холодной водой, и когда он, наконец, открыл налившиеся кровью глаза, то только для того, чтобы бессознательно осмотреться вокруг и затем закрыть их.
После совещания молодой доктор решился послать в лучшую гостиницу за лошадьми и экипажем, чтобы отвести баронета в Лисльвуд.
Полдюжины крестьян отправилась исполнять это поручение, между тем как прочие оставались, чтобы узнать то, что будет дальше с сэром Рупертом. Эти добрые люди, кажется, воображали, что мистер Дэвсон вправит разбитые члены баронета в какие-нибудь полчаса и вернет ему прежнее здоровье.
Громадный, тяжелый старинный экипаж, запряженный белой лошадью, с шумом и треском подъехал по неровной мостовой и остановился перед домом доктора.
Баронета положили на матрац, на котором и понесли его бережно в экипаж, где матрац прикрепили замысловатым способом к изъеденным молью каретным подушкам. Доктор, запасшийся микстурами, примочками и бутылкой спирта, поместился возле больного, отдав старому кучеру нужные приказания.
Доктор хотел сдать баронета на руки его жене и друзьям.
Оливия Лисль завтракала в библиотеке возле готического окна. Но она была не одна: миссис Варней лежала на кушетке, с другой стороны окна, и зевала над каким-то журналом. Нельзя сказать, чтобы эти две женщины были очень дружны, но они никогда не ссорились друг с другом. Ада Варней смотрела апатично на все, кроме роскошных платьев, деликатесных обедов, щегольских экипажей да красивого замка! Получив все это, она жила всегда в миру со своей судьбой и сделалась самой любезной женщиной в мире. Лисльвуд осуществил все желания Ады. Она сознавала, что майор играет почти главную роль в замке, и потому считала себя равноправной с Оливией.
Ни та ни другая не беспокоились относительно долгого отсутствия баронета и его друга. Оливия вообще не интересовалась мужем, Ада, наоборот, питала такое неограниченное доверие к блестящему майору, что не стала бы тревожиться, если бы он запропал даже на целый месяц: ее, разумеется, утешила бы мысль, что ее муж имеет разумные причины на это.
Итак, дамы сидели за завтраком. Леди Лисль, печальная и ревнивая, смотрела бессознательно в сад, между тем как миссис Варней, тоже подсевшая к столу, то обсасывала голубиное крылышко, то трудилась над кусочком поджаренного хлеба, то очищала абрикос или уничтожала большую гвернесейскую грушу, разрезанную на четыре части; вообще она с истинным эпикурейством не пренебрегала ни одним лакомством.
– Знаете ли, леди Лисль, – начала Ада, некоторое время наблюдавшая за Оливией, полузакрыв свои прекрасные, с продолговатым разрезом глаза. – Знаете ли, что я иногда нахожу в вас много сходства с одним человеком, умершим в этом доме?
– Вы говорите о капитане Вальдзингаме?
– Да, о бедном Артуре Вальдзингаме, который женился на вашей хорошенькой белокурой свекрови и кончил свое земное поприще в этой роскошной темнице. На вашем лице выражается что-то, сто раз мною замеченное в лице капитана, – это выражение человека, испытавшего что-то ужасное.
– Да, я испытала вполне это ужасное, – ответила Оливия, сдвинув черные брови. – Это вам известно так же, как мне самой, я только удивляюсь, что побудило вас говорить об этом.
Миссис Гранвиль Варней взглянула на потолок с кротким видом голубки.
– Дорогая леди Лисль, умоляю вас не забывать, что я положительно ничего не знаю, – возразила она. – Каковы бы ни были тайны моего мужа, они остаются тайнами и для меня, так как я слишком глупа, чтобы он доверил их мне.
Она пожала плечами, скорчив веселую гримаску, и вышла из библиотеки, напевая живую баркаролу.
Через полчаса Оливия приказала седлать свою лошадь, на которой потом отправилась в поле.
Отъехав немного, она встретила на дороге тяжелый экипаж, медленно катившийся по направлению к Лисльвуду, но она так задумалась, что не обратила на него никакого внимания.
Пробило пять часов, когда она вернулась. Жена сторожа встретила ее взглядом, полным участия: ей страх как хотелось сообщить своей госпоже о случившейся катастрофе. Сторож вышел к воротам с трубкой во рту, а возле самой решетки стояло несколько крестьян, которые явились для того, чтобы узнать подробности события и разнести их по Лисльвуду.
Оливия заметила, что все эти люди сгорают желанием сказать ей что-то важное.
– Что случилось? – спросила она, обратясь к жене сторожа. – Зачем пришли сюда эти крестьяне?
Этого было достаточно, чтобы развязать язык, просившийся на волю.
– О миледи! – воскликнула она. – Бедный сэр Руперт… Несчастный джентльмен!.. Но не поддавайтесь горю, миледи, вооружитесь мужеством!.. Он может, разумеется, прийти в себя, миледи… При нем находится теперь лондонский доктор, и он делает все, что от него зависит… Не тревожьтесь, миледи!
Но леди Лисль казалась далеко не в отчаянии. Только лицо ее побледнело более обыкновенного и черные глаза открылись широко. Один из наиболее услужливых крестьян поднес ей было стакан воды с выражением искреннего сожаления к ней, но она вырвала стакан из его рук и бросила на землю, так что он разбился тотчас вдребезги.
– Разве произошло что-нибудь с вашим господином? – обратилась она опять к жене сторожа, причем голос ее оставался по-прежнему ровен и звучен.
– О миледи, от вас следовало бы скрыть все это… Вы не…
– Случилось ли с ним что-нибудь?… Так отвечайте же! Намерены ли вы ответить или нет?
– О миледи, сэр Руперт упал из экипажа… И жизнь его в опасности… Но вы не…
Но прежде нежели женщина успела кончить фразу, Оливия хлестнула свою лошадь и поскакала к замку.
Оставшиеся переглянулись, когда леди Лисль исчезла между деревьями аллей.
– Как странно приняла она это известие! – пробормотала жена сторожа. – Она просто рассердилась, но не думала огорчаться. Я бы на ее месте подняла такой крик, что меня было бы слышно за милю от сторожки.
Муж ее утвердительно кивнул головой: он помнил, что она во всех из ряда вон выходящих случаях начинала обыкновенно вопить изо всех сил.
– Не все поступают одинаково в одинаковых обстоятельствах, – заметил он внушительно. – Но все говорят, что сэр Руперт и миледи не могли называться счастливыми супругами, – добавил он шепотом.
Леди Лисль прошла прямо в комнату, находившуюся рядом со спальней мужа. Два доктора с серьезными, торжественными лицами совещались в амбразуре, окна между тем как мистер Дэвсон, доктор унтергильский, держался от них на почтительном расстоянии и беспрестанно потирал себе руки.
Управляющий сэра Руперта вытребовал телеграммой из Лондона и Брайтона известных докторов. Доктор Дэвсон совсем стушевался перед этими знаменитостями, которые угрюмо посматривали на него сквозь очки и недоверчиво покашливали, когда он излагал, какого рода помощь он оказал баронету.
Бледная и спокойная, с развевающимися по плечам черными, густыми волосами, явилась леди Лисль перед светилами науки.
– Я слышала, что сэр Руперт подвергся опасности, – произнесла она спокойно. – Не потрудитесь ли вы, господа, объяснить мне, что, собственно, случилось с ним?
– Леди, – ответил торжественно один из докторов, – будьте уверены, что наука употребит все силы, чтобы спасти сэра Руперта. Если можно спасти его, то мы сделаем это.
– Но вы предполагаете, что это трудно сделать?
Доктора ожидали слез и криков, и хладнокровие леди Лисль поставило их в тупик.
– Да, миледи, это довольно трудно… – ответили они.
При этих словах, которые были произнесены таким тоном, что их можно было счесть за смертный приговор баронету, Оливия побледнела еще сильнее и поднесла руку ко лбу, как будто бы желая привести в порядок мысли.
Мистер Дэвсон, вообразивший, что ответ знаменитостей расшевелил бесчувственную леди Оливию, пододвинул ей кресло.
– Она, однако, не упадет в обморок, – шепнул брайтонский доктор, покраснев невольно за свою догадливость.
– Господа, я уверена, что вы отнесетесь внимательно к больному, – сказала леди Лисль. – Пусть будут использованы все средства для спасения! Если вам угодно созвать консилиум, то умоляю вас пригласить самых опытных докторов с континента. Следует принять быстро все возможные меры, и затем предоставить решение Провидению и ждать его с покорностью.
Леди Лисль вела себя при настоящем случае так резко не похоже на всех жен и всех женщин, что доктора переглянулись с глубоким изумлением.
Оливия опустилась в кресло, стоявшее у стола, и закрыла лицо руками.
Она молила Бога не допустить ее радоваться несчастью владельца Лисльвуд-Парка.
Глава XXXVI Цель достигнута
Один и тот же вопрос повторялся всеми жителями Лисльвуда, а именно: куда делся майор Гранвиль Варней?
Баронет и майор оставили вместе бега, а между тем нашли только одного Лисля на дороге, ведущей из Чильтона в Лисльвуд. Если леди Лисль оставалась спокойной в эту тяжелую минуту, то с миссис Адой Варней было совсем не то. Она бегала как безумная по обширному замку и вопила, что муж ее, несомненно, убит, иначе он, конечно, был бы при баронете. Слугам, которые ходили в свою очередь с испуганными лицами, удавалось с трудом успокоить ее, говоря, что майор мог остаться в Чильтоне или уехать в Брайтон, между тем как сэр Руперт отправился домой… да и мало ли что могло его заставить отложить возвращение?
– Отстаньте, бога ради! – отвечала она. – Он убит, это верно, а иначе бы он вернулся с баронетом… Умоляю вас именем Бога осмотреть всю дорогу от Лисльвуда до Чильтона!
Грумы и конюхи отправились в сумерки на поиски майора, точно так, как несколько лет назад другие слуги замка отправлялись на поиски исчезнувшего Руперта.
Майор был отыскан около полуночи. Осматривая дорогу, люди дошли до ямы, находившейся от нее немного в стороне, и глазам их представилось страшное зрелище. В наполнявшей ее мутной, затхлой воде, покрасневшей от крови, лежал Гранвиль Варней, посинелый и мертвый, с открытыми глазами. Его повезли в замок и положили на ту роскошную постель, на которой, бывало, в течение стольких лет он засыпал приятным и благотворным сном.
Пораженная ужасом и убитая горем, миссис Ада Варней просидела всю ночь и следующий день подле останков мужа, рыдая неутешно и не спуская глаз с неподвижного трупа. Известие об этой ужасной катастрофе облетело все графство и вызвало везде оживленные толки; объявления, прибитые на фонарных столбах, возвестили награду в двести фунтов стерлингов тому, кому удастся направить правосудие на следы злоумышленников, совершивших убийство.
Члены местной администрации принялись энергично за розыски преступников и являлись в Лисльвуд по нескольку раз в день, а сыщики вступали в разговоры с прислугой, которая была, не прочь рассказать все, что знала об этом для нее интересном событии.
При осмотре убитого на нем нашли кушак с приделанным к нему маленьким порт-папье, который был раскрыт в присутствии властей.
Он содержал в себе пол-листика бумаги; это было какое-то странное показание, написанное рукой майора, подписанное Джеймсом Арнольдом, Рупертом Лислем тоже и засвидетельствованное Альфредом Соломоном.
Вот его копия:
«Я, Джеймс Арнольд, иначе – сэр Руперт Лисль, признаюсь, что я согласился по подстрекательству моего отца Жильберта Арнольда, находящегося теперь в Америке (насколько мне известно), играть роль сэра Руперта Лисля из Лисльвуда в Суссекском графстве и что посредством этого обмана я вступил во владение всем имуществом означенного сэра Руперта Лисля, хотя знал, что он жив и живет до сих пор еще в Йоркском графстве.
Писано 10 октября 18…Джеймс Арнольд, назвавшийся Рупертом Лислем.Засвидетельствовал: Альфред Соломон».Альфред Соломон признал свою подпись, и удивленные представители правосудия предложили ему сказать то, что он знает об этом документе.
– Я знаю только следующее, – отвечал слуга, глаза которого опухли от непритворных слез, так как он был сердечно привязан и предан своему господину, – мой господин узнал совершенно случайно, что этот молодой человек – самозванец, и хотел заявить об этом правосудию, чтобы восстановить права законного наследника, но потом он подумал, что еще неизвестно, как суд взглянет на дело и как трудно представить на это доказательства! Да к тому же законный наследник не показывался, и господин решил оставить все как есть – из чувства сожаления к бедной молодой женщине, на которой женился этот подложный лорд.
– Майор был, таким образом, соучастником преступления, – сказал один из судей. – Он скрывал то, что знал о преступном подлоге, и смотрел равнодушно, как чужой человек пользовался правами настоящего лорда Лисля. Это было нечестно, даже очень нечестно!
– Он умер, – произнес угрюмо Соломон, – и если вы хотите судить его поступки и обвинять его, говорите не при мне: я служил ему около девятнадцати лет, и он был для меня хорошим господином.
После этого замечания Соломон повернулся на каблуках и вышел, предоставив представителям правосудия поступать как им вздумается.
Между тем Джеймс Арнольд – подложный Руперт Лисль – все еще оставался в бессознательном состоянии, хотя светила науки прилагали все силы для того, чтобы добиться желанных результатов, а мистер Дэвсон почтительно наблюдал издали за всеми их приемами: сельский доктор не мог решиться добровольно уехать от больного, которого судьба привела к нему в дом в поддержку его скромной, малодоходной практике.
Ни в комнате больного, ни в других частях замка не знали ничего о серьезных открытиях, сделанных неожиданно судьями, запершимися в спальне майора Варнея.
В это же время были сделаны в свою очередь серьезные открытия на другом конце графства. Какой-то человек сомнительной наружности пытался разменять билет в сто фунтов стерлингов в трактире одного из сел, расположенных вблизи морского берега. Хозяину трактира, который находился под свежим впечатлением насильственной кончины несчастного Варнея, взволновавшей все графство, удалось задержать этого человека и уведомить об этом лисльвудскую полицию. Телеграмма его полетела со станции на станцию – и часа через три в трактир вошел какой-то пожилой джентльмен и прошел прямо в зал, где Жильберт Арнольд коротал день за трубкой и бутылкой пива. Пожилой джентльмен арестовал уже шесть подозрительных индивидуумов: отчего же не сделать того же и с седьмым в надежде открыть след настоящих преступников? Таким образом, Жильберт Арнольд очутился опять в ливисской тюрьме. При нем нашли при обыске золотые часы с цепочкой Варнея и несколько билетов – между двойных подошв его тяжелой обуви; он относился, видимо, с глубоким равнодушием к ожидающей его участи. Тюремщики делали с ним все, что им было угодно, не встречая решительно никакого протеста; он смотрел на них молча своими желтоватыми кошачьими глазами, горевшими каким-то ненормальным огнем.
Узник соседней камеры слышал в ночное время, как Арнольд разговаривал постоянно сам с собою.
– Я для этого только вернулся из Америки, – говорил арестант, – я обещал отомстить и сдержал свое слово… пусть повесят меня, если это способно доставить удовольствие, а я готов на все: я сдержал свое слово.
Он повторял эти слова с какой-то дикой радостью, потирая свои мозолистые руки. На утренней заре ему вдруг представилось бледное, искаженное лицо Гранвиля Варнея, смотревшее с угрозой на своего убийцу, но браконьер не отступил перед грозным видением, как сделал бы другой. Он, напротив того, бравировал им:
– Я вижу вас, – сказал он, – вижу ваши лукавые голубые глаза, коварную улыбку, ваш хитрый лживый рот и лисьи бакенбарды. Я сдержал свое слово – и вы мне поплатились за ваши злодеяния. Мы в расчете, майор!
Через три дня после ареста Жильберта Арнольда подложный Руперт Лисль скончался, признав подлинность документа, найденного при убитом Варнее.
– Да, – произнес он слабым, прерывающимся голосом, – эта подпись моя, но весь этот подлог был придуман не мною. Один майор Варней управлял этим делом с начала до конца.
Старший из докторов принял на себя труд сообщить леди Оливии Лисль о смерти ее мужа.
Она спокойно выслушала весть об его кончине, но минуту спустя – в первый раз в жизни – упала без чувств. Послали за полковником, который поспешил прибыть в Лисльвудский замок.
– Я жестоко наказана за свое честолюбие! – говорила Оливия. – Роковой этот брак принес мне в результате позор и унижение. Возьмите меня, папа, домой в мирный Бокаже, если я еще вправе вернуться к прежней жизни.
Пока все эти происшествия следовали один за другим, Клерибелль Вальдзингам находилась в Гастингсе. Один из представителей правосудия в Лисльвуде, старый друг ее дома, приехал рассказать ей обо всем происшедшем и начал обсуждать, как вернуть настоящего наследника Лисльвуда, если он еще жив.
Первым делом их было – поместить тотчас в «Times» такую публикацию:
«Сэр Руперт Лисль. Просят всех, находящихся в состоянии дать какие-либо сведения относительно этого джентльмена, пожаловать к мистеру Вильмору, нотариусу в Лисльвуде, в Суссексе».
Через два дня в Лисльвуд явился Реморден.
Нотариусу Вильмору пришлось выслушать странную, но тяжелую повесть, рассказанную с пылким, сердечным красноречием бельминстерским викарием и отчасти уже известную нашим читателям; справедливость ее была подтверждена тут же Ричардом Саундерсом, молодым человеком, воспитывавшимся в Бельминстере и заявившим прямо, что он – сэр Руперт Лисль. Он рассказал про случай, происшедший с ним в дни детства в Бишер-Риде, от которого он опомнился в больнице, где провел, вероятно, несколько месяцев; он описал, как был увезен из больницы человеком, который навязался ему в дяди, но которого он помнил отлично в качестве слуги очень высокого, видного господина с красивыми усами; он рассказал еще о маленькой деревне на морском берегу, в которой он прожил, быть может, два-три года в обществе старой Мэгвей, – и как дядя Джордж, или, вернее, Соломон, старался убедить его, что все воспоминания из поры его детства – нелепые бредни расстроенного мозга. Слуге было приказано сходить за Соломоном, чтобы заставить его подтвердить справедливость сказанного Саундерсом, но этот дальновидный и достойный субъект удалился из замка, пока собрание судей ломало себе головы над мудреным вопросом, как поступить с ним в этом затруднительном случае. Взамен его, однако, нашлись другие люди, доказавшие фактами истину слов Ричарда. Во-первых, миссис Вальдзингам: материнский инстинкт ее сказал ей безошибочно при взгляде на Ричарда, что это ее сын! Ее сердце забилось таким живым восторгом, такой искренней радостью, каких она далеко не чувствовала в нем, когда в былое время прижимала к груди наглого самозванца Джеймса Арнольда. О радости же сына, увидевшего мать, бесполезно рассказывать.
– Я вспоминал о вас как о чудном видении, – воскликнул он, обняв обеими руками тонкий стан Клерибелль, – я помню, что у вас были длинные локоны, которыми я часто играл так же, как вашей золотой цепочкой. В моей памяти сохранились моя детская комната и портрет отца… я все твердил о нем, а меня называли за это сумасшедшим.
Но самое веское подтверждение рассказа было дано суду Жильбертом Арнольдом, обвинявшимся в убийстве Гранвиля Варнея. Когда суд уличил его в совершенном злодействе, он сознался во всем. Он рассказал, как он был принужден майором выдавать своего сына за Руперта Лисля и как майору Варнею удалось после сделаться полновластным хозяином замка Лисльвуда и его подложного владельца, забрав в руки Джеймса; одним словом, Арнольд разоблачил всю суть этой ловкой интриги.
По окончании следствия Клерибелль Вальдзингам возвратилась в Лисльвуд, из которого выехала во избежание всяких дальнейших столкновений с его бывшим владельцем. Она уж не застала в нем миссис Ады Варней, которая отправилась давно на континент, оставив в Лисльвуд-Парке письмо на имя Клерибелль и маленький пакет, тщательно запечатанный и обвязанный ленточкой. Письмо было написано мелким и сжатым почерком на двух листах бумаги, и когда миссис Вальдзингам начала его читать, то бледное лицо ее стало еще бледнее; рука ее дрожала, когда она сломала именную печать миссис Ады Варней на маленьком пакете.
В нем была пачка писем, писанных мужским почерком; это были письма Артура Вальдзингама к той, на которой он женился в Саутгемптоне и которую бросил тотчас после венчания. Письма еще доказывали, что он впоследствии развелся с нею формально и что майор Варней перевенчался с нею, дав Вальдзингаму слово никогда не рассказывать о ее первом браке.
Клерибелль разгадала по прочтении писем тайну власти Варнея над жизнью Вальдзингама. Положив их в пакетик, она бросила их в пылающий камин и стояла задумчиво, пока пылкие уверения Артура Вальдзингама в любви к Аде Варней не превратились в пепел.
Клерибелль подавила томительное чувство, овладевшее ею, и пошла к своему старшему сыну.
Сэр Руперт Лисль стоял в это время в столовой и смотрел с тихой грустью на портрет своего умершего отца.
– Руперт! – сказала Клерибелль, положив на плечо его свою бледную руку. – Ты ведь будешь любить меня? Я вынесла в прошедшем так много испытаний! Но я стану надеяться, что ты и Артур заставите меня позабыть длинный ряд страданий и волнений.
Необходимо ли продолжать наш роман? Не излишне ли будет описывать то мрачное и туманное утро, когда Жильберт Арнольд был выведен жандармами из ливисской тюрьмы и взошел твердой поступью на грозный эшафот, воздвигнутый на площади, чтобы получить возмездие за свои преступления и поплатиться жизнью за жизнь Гранвиля Варнея и убитого лесного сторожа?
Прошел год после только что описанных событий, и в церкви Лисльвуд-Парка была страшная давка: пастор соединял с особенной торжественностью две юные четы, еще раз проявил свою власть, удерживая натиск окрестных поселян и делая внушения строптивым и назойливым.
Венчание совершалось без особенной пышности: дети были, положим, одеты все по-праздничному, и дорога была усыпана цветами; в Лисльвуд-Парке был выставлен для местных крестьян целый жареный бык, и эль лился рекой, но при обряде не было ни гордой аристократии, ни ряда экипажей за церковной оградой – в церкви стояли только две счастливые пары в присутствии близких, испытанных друзей.
Сперва вышла из церкви Бланш Гевард, опираясь на руку мужа – сэра Руперта Лисля и улыбаясь детям, бросавшим ей цветы, а за ней Вальтер Реморден вел свою молодую, прелестную жену – бывшую леди Лисль. Полковник Мармедюк отдал ему Оливию с такой твердой уверенностью в ее будущем счастье, какой он не испытывал при первой ее свадьбе, которая была тем не менее отпразднована с чисто царской роскошью.
Добрый лисльвудский ректор перешел в другой, отдаленный приход, а Лисльвудское ректорство, окруженное тенистыми садами, перешло к Ремордену, который поселился в нем со своей молодой женой.
Бедные жители Лисльвуда благословляли день прибытия к ним Бланш в качестве леди Лисль.
В Лисльвуде и в ректорстве водворилось то тихое, благодатное счастье, которое дается весьма немногим избранным.
Миссис Гранвиль Варней кончила жизнь в Париже, оставив препорядочный, солидный капитал, скопленный в Лисльвуд-Парке стараниями майора.
Рахиль Арнольд была по общему желанию привезена из дома, где она изнывала среди умалишенных, и поместилась снова в хорошенькой сторожке у ворот Лисльвуд-Парка, где так часто играли в давно прошедшее время ее сын и сэр Руперт, а теперь раздавались звонкие голоса детей нового сторожа.
Примечания
1
Gibbet – виселица, hill – косогор.
(обратно)

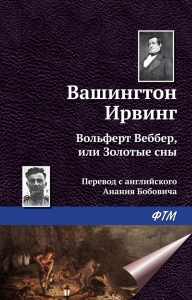

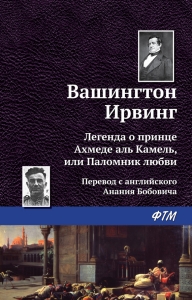
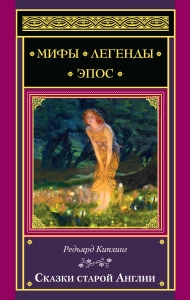

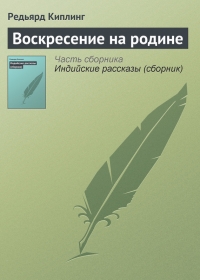






Комментарии к книге «Преступление капитана Артура», Мэри Элизабет Брэддон
Всего 0 комментариев