Андре Жид Подземелья Ватикана; Фальшивомонетчики
Andre Gide
LES CAVES DU VATICAN
LES FAUX-MONNAYEURS
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.
© Editions Gallimard, Paris, 1914, 1925
© Перевод. Н. Зубков, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
***
Лауреат Нобелевской премии по литературе Андре Жид – один из величайших французских писателей XX века, предтеча авторов экзистенциалистской школы, тонкий психолог и блистательный мастер стилизации.
Его произведения, варьирующиеся от классического для французской прозы психологического реализма до философской параболы, и сейчас поражают удивительной жанровой и стилистической многогранностью.
Подземелья Ватикана
Жаку Копо
Кювервиль, 19 августа 1913 г.
Я с радостью надписываю Ваше имя на первой странице этой книги. Она была Вашей всегда – во всяком случае, с того времени, как стала обретать форму. Припоминаете ли Вы день, когда Вам я рассказывал о ней? Это было в Кювервиле такого-то года; дул сильный ветер, и мы шли в Этрета смотреть на прилив. Ваш любезный интерес к моему рассказу сильно ободрял меня все время, пока я его писал.
Первый замысел этой книги возник еще раньше. Вы напомнили мне: я Вам о ней говорил на другой день после того, как Вы возвратились из путешествия в Данию.
Сколько же лет-то прошло?..
Я знаю: в наши времена поспешной работы и недоношенных родов трудно мне будет кого-либо убедить, что я мог столь долго вынашивать в голове книгу, пока не решился ею разродиться.
Почему эту книгу назвал я «потешной повестью»? Почему три предыдущих – «рассказами»? Чтоб показать, что они, собственно говоря, не «романы».
Впрочем, это не важно: пускай за романы их примут, лишь бы только потом не пеняли мне, что я нарушил «законы жанра» – не указывали, к примеру, на неясности и беспорядок.
Рассказы, повести… Мне кажется, до сей поры я писал книги лишь иронические (или критические, коли Вам так больше по нраву), и эта из них, очевидно, последняя.
Я стою на том, что недостаток произведений нашего времени – их скороспелое появление, поспешность художника, не успевающего их выносить. Но не дай Аполлон мне судиться с эпохой! Кто недоволен – пускай кривится. Я говорю все это лишь для того, чтоб предуведомить тех, которым в «Подземельях» будет угодно видеть какое-то уклоненье, отреченье от прежнего, кто станет чертить кривую моего пути, выявлять эволюцию…
Меня же заботят вопросы лишь ремесла, и я стремлюсь только быть хорошим мастеровым.
Книга первая АНТИМ АРМАН-ДЮБУА
Что до меня, то я свой выбор сделал: я выступаю за социальный атеизм. Именно такой атеизм я полтора десятилетия развивал в ряде своих работ…
Жорж Палант.Философская хроника «Меркюр де Франс».Декабрь 1912 г.
I
Лета 1890-го, при понтификате Льва XIII, слава доктора X., специалиста по лечению болезней ревматического происхождения, разнесшись, призвала в Рим Антима Армана-Дюбуа, франкмасона.
– Что же это? – восклицал Жюльюс де Барайуль, свояк его. – Вы затем отправляетесь в Рим, чтоб исцелить свое тело? Если бы только вы смогли там познать, кольми паче больна душа ваша!
На что отвечал Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием:
– Бедный друг мой, посмотрите же на мои плечи.
Барайуль, человек благодушный, невольно переводил взгляд на плечи родственника; они подрагивали, будто вздымаясь от смеха утробного, неудержимого, и, верно, велика была жалость зреть, как это пространное, полупараличное тело в таких глумливых движениях исходит остатками мускульных сил своих. Что ж! Каждый на своем они стояли прочно, и красноречие Барайуля ничего изменить не могло. Может, изменит время? Таинственное действие места святого? Не скрывая безмерного разочарованья, Жюльюс отвечал лишь одно:
– Антим, вы меня весьма огорчаете. (Плечи тотчас же прекращали пляску, ибо Антим свояка любил.) Если бы только через три года, когда я приеду к вам на торжества юбилея, – если бы только я мог обрести вас тогда в покаянии!
Вероника, нужно сказать, сопровождала супруга совсем с иными намереньями: она была столь же набожна, как и сестра ее Маргарита, как и Жюльюс, и долгое пребывание в Риме отвечало одному из самых ее сокровенных желаний; она обставляла мелкими привычками благочестия свою монотонную, разочарованную жизнь и, неплодна будучи, окружала свой идеал тем попечением, какого не требовалось от нее для детей. Увы! Она уже не имела надежды привести к Богу своего Антима. Она давно знала, сколь упрям может быть этот огромный мозг, как заперт в своем отрицании. Аббат Флонс ей так и говорил: «Нет непреклонней решений, сударыня, чем дурные решения. Теперь надейтесь только на чудо».
И даже огорчаться она уже перестала. С первых же дней, как супруги устроились в Риме, каждый из них сам для себя устроил свою одинокую жизнь: Вероника – в хозяйственных хлопотах и церковных обрядах, Антим – в научных трудах. Жили рядом друг с другом и против друг друга, друг с другом мирясь, повернувшись друг к другу спиной. Этому благодаря воцарилось меж ними какого-то рода согласие, витало над ними какого-то рода полублаженство, и каждый из них, поддерживая другого, в том находил скромное применение собственной своей добродетели.
Как и в большинстве итальянских жилищ, в их квартире, нанятой через агентство, неожиданные удобства сочетались с приметными недостатками. Она занимала весь бельэтаж палаццо Форджетти на виа ин Лючина; в ней была очень хорошая терраса, где Вероника сразу решила разводить аспидистры, столь плохо растущие в парижских квартирах, – но, чтобы попасть на террасу, непременно было нужно пройти через оранжерею, которую Антим сразу сделал своей лабораторией. Договорились, что он разрешает проход с такого-то по такой-то час.
Вероника отворяла бесшумно дверь и пробегала затем торопливо, глаза опустив долу, как молодой монах проходит мимо бесстыдных картинок на стенах, ибо ей было противно видеть, как в самом дальнем углу, возвышаясь над креслом с прислоненным к нему костылем, огромная спина Антима склонялась над неизвестно каким недобрым делом. Антим, со своей стороны, старался никак не подать вида, что слышит ее. Но как только она проходила назад, тяжело поднимался с сиденья, ковылял до двери и, полон злобы, губы поджав, властным движением пальца толкал дверную задвижку – щелк!
Скоро затем наступало время, когда через другую дверь Беппо – парнишка на побегушках – приходил спросить, какие будут распоряжения.
Уличного оборванца лет двенадцати или тринадцати, без родителей и без крова, Антим приметил через несколько дней после приезда в Рим. Беппо сидел против гостиницы на виа Бокка ди Леоне, где супруги остановились на первое время, и пытался привлечь вниманье прохожих цикадой, жившей у него на пучке травы в коробочке из камыша. Антим дал парнишке за насекомое десять сольдо и, зная по-итальянски лишь пару слов, кое-как объяснил, что завтра переезжает в квартиру на виа ин Лючина, и тогда ему понадобится несколько крыс. Все, что плавает, ползает, бегает и летает, служило ему материалом: он работал с плотью живой.
Прирожденный добытчик, Беппо достал бы ему и орла или волчицу Капитолийскую. Ему нравилась такая работа: он всегда любил что-нибудь стибрить. Платили ему десять сольдо в день; помогал он и по хозяйству. Вероника сначала смотрела на него косо, но, увидев раз, как мальчишка перекрестился, проходя мимо Мадонны на северном углу их дома, она простила ему лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, растопку; носил он даже корзинку, когда провожал Веронику на рынок по вторникам и по пятницам: в эти дни у горничной Каролины, приехавшей вместе с супругами из Парижа, было слишком много хлопот в самом доме.
Вероника не нравилась Беппо, но в ученого мальчик прямо влюбился. Вскоре тот уже не спускался, мучась, во двор забрать доставленных жертв, а позволял парнишке самому являться в лабораторию. Туда проходили прямо с террасы, на которую со двора вела потайная лестница. Чуть сильней начинало биться сердце Антима в его нерушимом уединенье, когда он слышал негромкий стук босых пяточек по камням. В окно Антим не глядел: от работы его не отрывало ничто.
В застекленную дверь мальчик не стучался, а скребся; Антим, не отвечая, продолжал сидеть, сгорбленный, за столом, и тогда Беппо ступал на четыре шажка и ясным голоском ронял «permesso?»[1], наполнявшее всю комнату лазурью. По голосу приняли бы его за ангела, был же он подручным палача. Он клал на стол мешок – что за новую жертву в нем приносил он? Часто Антим, чересчур поглощенный работой, мешок открывал не сразу, а лишь мельком глядел на него; вздрагивал холст – там могла сидеть и крыса, и мышь; лягушка, воробышек – Молоху все было впрок. Иногда Беппо не приносил ничего и все равно приходил: он знал, что Арман-Дюбуа ждет его и с пустыми руками; и когда мальчик молча склонялся рядом с ученым над каким-нибудь жутким опытом – желал бы я быть уверен, что физиолог не наслаждался тщеславной радостью мнимого бога, видя, как вперяется взгляд ребенка то, с ужасом, в бедную живность, то, с восхищеньем, – в него самого!
Чтобы в дальнейшем напасть на самого человека, Антим Арман-Дюбуа пока что хотел лишь просто свести к «тропизмам» всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы! Не успели изобрести это слово, как никакого другого уже и не понимали; целый разряд психологов теперь признавал лишь «тропизмы». Тропизмы! Какой нежданный свет воссиял из этих звуков! Было ясно, что организм уступает тому же влечению, что и подсолнечник, когда лишенное воли растение поворачивается лицом к солнцу (что легко сводится к простым законам физики и термохимии). Отныне мир сей получал утешительный дар успокоения. В самых нежданных движениях существа стало возможным просто признать безусловное послушание движителю.
Чтобы достичь своей цели, чтобы от укрощенной живности добиться признания в простоте поведения, Антим Арман-Дюбуа изобрел сложную систему коробочек с коридорами, лесенками, лабиринтами, отсеками, где в одних лежала еда, в других ничего или какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами разного цвета и формы – дьявольский инструмент, вскоре прогремевший в Германии и под именем Vexierkasten[2] ставший на службу новой психофизиологической школе, сделавшей новый шаг на путях безбожия. А чтобы действовать на то или иное чувство, тот или иной отдел мозга животного раздельно, он тех ослеплял, иных оглушал, кастрировал, декортикировал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы сочли бы необходимым, но без которого тварь могла обойтись для Антимовых целей познания.
Его «Сообщение об условных рефлексах» перевернуло Упсальский университет; начались жесточайшие дискуссии, в которых принял участие весь цвет иностранной науки. Но в уме Антима уже взметались новые вопросы – и он, предоставив споры коллегам, повел изыскания на иных путях, надеясь выбить Бога из самых потаенных укреплений.
Ему не довольно было признать grosso modo[3], что всякая жизненная активность приводит к износу, что животное тратит силы уже одним применением мускулов. Всякий раз он спрашивал: сколько потрачено? А когда изнуренный предмет его опытов желал свои силы восстановить, Антим его не кормил, но взвешивал. Дополнительные условия чересчур усложнили бы эксперимент, а был он таков: шесть крыс, голодающих и связанных, подвергались ежедневному взвешиванию – две слепых, две кривых и две зрячих; зрению двух последних непрестанно мешала маленькая механическая мельничка. В каком отношении находилась потеря их веса после пяти дней голодовки? С торжеством добавлял Антим Арман-Дюбуа каждый день, ровно в полдень, новые цифры в заведенные для того специально таблички.
II
Юбилей начинался уже совсем скоро. Супруги Арман-Дюбуа ожидали Барайулей со дня на день. Утром пришла телеграмма с известием, что приедут они под вечер, и Антим вышел из дома купить себе галстук.
Выходил Антим редко – как можно реже: ему было трудно двигаться; Вероника все для него с удовольствием покупала, а шили у портных на заказ, приглашая на дом снять мерку. За модой Антим следить уже перестал, но хотя галстук ему был нужен самый простой (скромная ленточка черного шелка), он желал его выбрать сам. В дорогу он купил и в гостинице носил манишку из кармелитского сатина, однако она постоянно выбивалась из-под жилета, который Антим привык глубоко расстегивать; сменивший ее кремовый шейный платок Маргарита де Барайуль, несомненно, найдет неряшливым. Напрасно он изменил маленьким черным ленточкам, которые носил обыкновенно в Париже, и совсем зря не сохранил ни одной для образца. А здесь какой ему предложат фасон? Он не мог решиться, не обойдя несколько магазинов на Корсо и виа деи Кондотти. Бант был бы излишней вольностью для пятидесятилетнего человека; нет, конечно, – пойдет лишь лента с прямым узлом, черная, совершенно матовая…
Обедали только в час дня. К полудню Антим вернулся с покупкой – он успел к взвешиванию крыс.
Щеголем Антим вовсе не был, но испытал потребность примерить свой галстук, а потом уже сесть за работу. Осколок зеркала, служивший некогда для того, чтоб вызывать тропизмы, лежал на столе; Антим приставил его к клетке и склонился над собственным отражением.
Он носил до сих пор еще не поредевшие волосы бобриком – некогда рыжие, теперь же того неясного серовато-желтого цвета, какой появляется у старых вещей позолоченного серебра; над глазами его, серее и холоднее зимнего неба, брови торчали густыми кустами; бакенбарды, маленькие, коротко стриженные, были все еще рыжеватого цвета, как и неухоженные усы. Антим провел рукой по впалым щекам, по широкому квадратному подбородку.
– Ничего, ничего, – пробормотал он, – побреюсь потом.
Он достал галстук из пакета, положил перед собой, вытащил булавку с камеей, снял платок. Его тяжелый затылок был окружен полувысоким воротничком, спереди открытым; кончики его Антим опускал. Здесь, при всем моем желании говорить только о самом главном, я не могу умолчать о шишке на шее Антима Армана-Дюбуа. Ибо что я могу требовать от своего пера, кроме точности и строгости, пока не приобрету умения надежно различать второстепенное и существенное? И кто может утверждать, что эта шишка не сыграла никакой роли, не имела никакого веса в том, что Антим именовал своей «свободной» мыслью? Ишиас свой он бы, пожалуй, Богу еще простил, но вот этой пошлости простить не мог.
Шишка у него появилась, он не знал отчего, вскоре после женитьбы: сначала только чуть правей и ниже левого уха, там, где начинают расти волосы, – какой-то безобидный узелок; он рос, но Антим еще долго мог скрывать его под густой шевелюрой, начесывая кудри на шею; даже Вероника не замечала его, пока однажды ночью, лаская мужа, рукой на него не наткнулась и не вскрикнула:
– Ой, что это там у тебя?
И опухоль, словно утратив причину скрываться после разоблачения, уже через несколько месяцев сравнялась величиной сначала с перепелиным яйцом, потом с цесаркиным, потом с куриным, и такой оставалась, а волосы вокруг между тем редели и выставляли ее напоказ. В сорок шесть лет Антиму Арману-Дюбуа было уже ни к чему производить впечатление; он коротко подстригся и стал носить полувысокие воротнички такого фасона, где нечто вроде ячейки и скрывало, и выявляло шишку. На том довольно о шишке Антима.
Он обернул вокруг шеи галстук. Посередине, через узкий металлический проход, должна была проскользнуть вспомогательная ленточка, которую готовился подцепить крючок рычажка. Устройство хитроумное, но как только оно цеплялось за ленточку – сам галстук соскальзывал, падал опять на лабораторный стол. Пришлось на помощь призвать Веронику; она прибежала бегом.
– На, пришей, – сказал Антим.
– Завяжи машинкой, это ж такой пустяк, – тихонько ответила она.
– А на деле, оказалось, не держит.
У Вероники всегда под домашней кофтой, у левой груди, были приколоты две иголки со вдетыми нитками: черной и белой. Даже не присев, прямо у балконной двери она стала пришивать ленточку. Антим глядел на нее. Она была довольно грузной, с крупными чертами лица; так же упряма, как и он сам, но, в общем, довольно мила, почти всегда улыбалась, так что даже небольшие усики не делали ее лицо слишком грубым.
«Что-то в ней есть, – думал Антим, глядя, как она тянет иголку. – Мог бы я жениться и на другой: могла быть кокетка, и обманывала бы меня; могла быть ветреница, и бросила бы; могла быть болтушка – все уши бы прожужжала, или глупая курица – я бы с катушек слетел, или брюзга, как свояченица моя…»
И не так сурово, как обыкновенно, сказал он «спасибо», когда Вероника, закончив работу, ушла.
Теперь новый галстук повязан Антиму на шею, и ученый весь предался своим мыслям. Ни один голос больше не звучит для него ни снаружи, ни в сердце. Вот он уже взвесил слепых крыс. Что дальше? Крысы кривые – без перемен. Теперь надо взвесить зрячую пару. И тут он так поражен, что костыль падает на пол. Что такое! Зрячие крысы… он взвешивает их снова – но нет, никакого сомненья: со вчерашнего дня зрячие крысы прибавили в весе! Вдруг его озарило:
– Вероника!
С великим усилием он подбирает костыль и бросается к двери:
– Вероника!
Она услужливо подбегает опять. А он, на пороге стоя, величественно вопрошает:
– Кто трогал моих крыс?
Нет ответа. Он повторяет медленно, делая паузы между словами, как если бы Вероника забыла французский язык:
– Пока меня не было, кто-то им дал поесть. Уж не вы ли?
И тогда она, приободрясь, обращается к нему чуть ли не с вызовом:
– Ты морил бедных зверушек голодом. Я вовсе не мешала твоему опыту – просто…
Но он хватает ее за рукав и, хромая, подводит к столу – показывает таблицы результатов:
– Видите эти листки? Две недели я сюда заношу итоги моих наблюдений; именно их ждет от меня коллега Потье, чтобы доложить на заседании Академии наук 17 мая. Сегодня у нас 15 апреля: как я продолжу эти столбики цифр? Что напишу?
Она не проронила ни слова, и тогда он, словно кинжалом, коротким пальцем царапая неисписанную страницу, продолжает:
– Сегодня госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, слушая лишь свое нежное сердце, допустила… какое мне слово употребить? Неосторожность? Неловкость? Глупость?
– Напишите, пожалуй: пожалела несчастных зверушек, жертв безжалостного любопытства.
Он с великим достоинством выпрямляется:
– Если так вы к этому относитесь, сударыня, то поймете, почему отныне я вынужден просить вас для ухода за вашими растениями подниматься по лестнице со двора.
– Думаете, я хоть раз заходила к вам в логово для собственного удовольствия?
– Так избавьте себя от неудовольствия заходить сюда впредь.
И, подкрепляя эти слова красноречивым жестом, он хватает два листка с записями наблюдений и рвет их в клочки.
«Две недели», сказал он; по правде, крысы его голодали только четыре дня. Именно от преувеличения проступка угасло, должно быть, его раздражение: только сел он за стол, лицо его уже прояснилось; у него хватило даже философичности протянуть супруге десницу примирения. Ведь он еще более, нежели Вероника, не желает, чтоб благомыслящая чета Барайуль заметила их несогласия, вину за них во мненье своем непременно возложив на Антима.
В пять часов Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и едет встречать Жюльюса и Маргариту: они прибывали на вокзал Рима в шесть. Антим идет бриться; шейный платок он по доброй воле заменил лентой с прямым узлом: этого должно быть довольно; он терпеть не может церемоний и ради свояченицы не уронит в своих глазах альпаковую куртку, белый жилет с синим узором, тиковые панталоны и удобные черные кожаные домашние туфли без каблуков, которые надевал он даже на улицу: хромота его извиняла.
Он подбирает разорванные листки, складывает клочок к клочку и, пока не приехали Барайули, тщательно переписывает все цифры.
III
Род Барайулей (итальянское «ль» в этом слове по-французски читается «й», так же как титул герцогов Брольо читают «де Бройль») происходит из Пармы. За одного из Баральоли, а именно Алессандро, в 1514 году, вскоре после присоединения герцогства к Папскому государству, вышла замуж вторым браком Филиппа Висконти. Другой Баральоли, тоже Алессандро, отличился в битве при Лепанто, а в 1580 году был убит при загадочных до сих пор обстоятельствах. Не трудно, но не слишком интересно, было бы проследить судьбу этой фамилии до 1807 года, когда Парма была присоединена к Франции и Робер де Барайуль, дед Жюльюса, поселился в По. В 1828 году он получил от Карла X графскую корону; позднее Жюст-Аженор, его третий сын (два первых умерли во младенчестве), с достоинством носил эту корону в должности посла, где блистал его тонкий ум и одерживало победы дипломатическое искусство.
Жюльюс, второй ребенок Жюста-Аженора де Барайуля, после женитьбы жил вполне степенно, в юности же знавал иногда и сильные страсти, но мог, как бы то ни было, сказать о себе по всей справедливости, что сердце его никогда не падало низко. Глубоко вкорененное благородство натуры и особенное изящество, которым дышали его самые мимолетные писания, всегда удерживали его вожделения на краю наклонной плоскости, куда любопытство романиста, без сомненья, пустило бы их во весь опор. Кровь его в жилах текла без завихрений, но не была холодна: несколько великосветских красавиц тому быть могут свидетельницами… И я бы вовсе об этом не упомянул, если бы его первые романы не давали бы это достаточно ясно понять, чему отчасти и были обязаны громким успехом в свете. Благодаря высокому положению читателей, которые способны были ими восхищаться, появились они – первый в «Корреспондан», два других – в «Ревю де дё монд». Вот так, словно бы поневоле, Жюльюс Барайуль еще совсем молодым увидел себя у врат академии – да и статность, важный взгляд с поволокой, задумчивая бледность на челе словно предназначали его для места с бессмертными.
Антим исповедовал величайшее презрение к тому, чтобы выделяться положением в обществе, богатством, внешностью, – Жюльюса эти заботы мучили беспрестанно. Однако ученому нравились в нем некое добродушие и крайнее неумение спорить, которое часто приносило свободной мысли победу.
В шесть часов Антим слышит: экипаж гостей останавливается у подъезда. Он выходит встретить их у входа. Жюльюс поднимается на крыльцо первым. Цилиндр кронштадт, прямое пальто с шелковыми отворотами – можно подумать, он одет для визита, а не по-дорожному, не будь на руке у него шотландского пледа; долгий путь нимало на нем не сказался. Следом под руку с сестрой идет Маргарита де Барайуль – весьма, напротив, помятая: капот и шиньон сбились на сторону, на крыльцо она поднимается, покачиваясь, половина лица закрыта прижатым к лицу носовым платком… Подойдя к Антиму, Вероника шепчет тихонько:
– Маргарите в глаз попал уголек.
Дочка Барайулей Жюли, грациозная девятилетняя девочка, и горничная идут сзади в полнейшем молчанье.
У Маргариты характер такой, что к подобным вещам с легкомыслием не отнесешься. Антим предлагает послать за глазным врачом, но Маргарите известна молва, каковы коновалы в Италии; она ни за что и слышать об этом не хочет; произносит умирающим голосом:
– Холодной воды… просто немного холодной воды… Ах!
– Дорогая сестрица, – отвечает Антим, – на минутку холодная вода вам действительно принесет облегченье, ослабив приток крови к вашему глазу, но от недуга не избавит.
Он поворачивается к Жюльюсу:
– А вы заметили, что это было?
– Пожалуй, нет. Когда поезд остановился, я предложил посмотреть, но Маргарита разнервничалась…
– Что ты говоришь такое, Жюльюс! Ты был страшно неловок! Стал поднимать мне веко так, что чуть все ресницы не выдернул…
– Не позволите ли мне попробовать? – говорит Антим. – Может быть, у меня лучше получится…
Факкино поднес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором.
– Но послушай, друг мой, не в коридоре же ты будешь делать эту операцию, – замечает Вероника и ведет Барайулей к ним в комнату.
Квартира Арманов-Дюбуа распространялась вокруг внутреннего двора; окна во двор освещали коридор, что вел из прихожей в оранжерею. В этот же коридор выходили двери сперва из столовой, потом из гостиной (огромной, плохо обставленной угловой комнаты, которой Антим с супругой не пользовались), затем из двух смежных комнат, приготовленных одна для супругов, другая, маленькая, для Жюли, рядом со спальней четы Арманов-Дюбуа. Все эти комнаты сообщались также и между собой. Кухня и два помещения для прислуги находились по другую сторону от подъезда.
– Не собирайтесь все вокруг меня, прошу вас, – стонет Маргарита. – Жюльюс, распакуй же вещи…
Вероника усадила сестру в кресло и взяла лампу. Антим вгляделся:
– Действительно, глаз воспален. Не снимете ли шляпку?
Но Маргарита, боясь, должно быть, как бы растрепанная прическа не обнаружила своих искусственных составляющих, сказала: нет, не сейчас. Шляпка без полей с завязками не помешает ей опереться затылком на изголовье.
– Так вы меня просите вынуть сучок из вашего глаза, а бревно из моего вынуть не даете, – сказал Антим с каким-то хихиканьем. – Кажется, в Евангелии заповедано как раз обратное!
– О, прошу вас, не заставляйте меня слишком дорого платить за ваши услуги!
– Молчу, молчу… Берем чистый платок… вот так, уголочком… вижу, вижу, что там… да не бойтесь, черт вас возьми! Смотрите в небо! Вот и все.
Уголком носового платка Антим вытаскивает крохотную соринку.
– Благодарю, благодарю! Теперь оставьте меня. У меня ужасная мигрень…
Маргарита теперь отдыхает, Жюльюс вместе с горничной возится с чемоданами, Вероника смотрит за приготовлением ужина, Антим же болтает с Жюли.
Он провел ее к себе в комнату. Арман-Дюбуа уехал, когда племянница была еще совсем крохой, и теперь едва узнает эту большую девочку – ее наивная улыбка уже серьезна. Они беседуют о всяких пустяках, которые, по мненью Антима, должны быть приятны ребенку, и вот его взгляд задерживается на серебряной тонкой цепочке у нее на шее. Он понимает: там, должно быть, висят образки. Беззастенчивым движением толстого пальца он выдергивает их наружу и, пряча болезненное отвращение под маской недоумения, говорит:
– А это что за штучки-дрючки?
Жюли прекрасно понимает, что он не всерьез спросил, но к чему ей сердиться?
– Как, дядя Антим, вы никогда не видели образков?
– Право слово, не видел, малышка, – лжет он. – И не особо красивые – значит, должно быть, они зачем-то нужны?
А девочка – ведь чистая вера не пугается невинных шуток – пальчиком показала на свою фотографию над каминным зеркалом и ответила:
– А вот у вас, дядюшка, висит на картинке девочка, тоже не особо красивая; зачем она вам нужна?
Не ожидал дядя Антим, что лукавая святоша не полезет за словом в карман, что у нее столько бесспорного здравого смысла!
На миг он оторопел – не заводить же с девятилетним ребенком метафизический спор. Улыбнулся. Девочка, тотчас же поняв, что перевес за ней, начинает показывать освященные медальончики:
– Вот мученица Юлия, моя святая; а это святое сердце Гос…
– А самого Господа Бога у тебя нет? – глупо перебивает ее Антим.
– Нет, его самого не делают… А вот самый хороший: Божья Матерь Лурдская, мне ее подарила тетя Лилиссуар; она ее из самого Лурда привезла, а я надела в тот день, когда папа с мамой меня посвятили Богородице…
Этого Антиму уже не перенести. Даже не дав себе труда представить, сколь неотразимо прелестно майское шествие детишек в белом и голубом, он не может удержаться от маниакальной потребности в богохульстве:
– Значит, не очень ты нужна Богородице, раз до сих пор тут, с нами?
Девочка не отвечает. Может быть, уже понимает, что на иное нахальство лучше не отвечать ничего? Но что это? Нелепый вопрос покраснеть заставил не Жюли, а масона; его легкое смущение – тайный спутник чувства неприличия; дядюшка прячет минутное замешательство, запечатлев на лбу племянницы примирительный поцелуй.
– А вы почему так сердитесь, дядя Антим?
Девочка все поняла: у этого безбожника-ученого доброе, в сущности, сердце.
А если так, что ж он упорствует?
В этот момент Адель открывает дверь:
– Барышня, вас мамаша зовет.
Маргарита де Барайуль явно боится влияния своего зятя и очень не хочет, чтоб дочь оставалась с ним долго. Это он и осмелится ей чуть позже заметить на ухо во время семейного ужина. Но Маргарита глядит на Антима еще немного воспаленными глазами:
– Я вас боюсь? Но, дорогой друг мой, Жюли могла бы привести к Богу дюжину вам подобных, прежде чем ваши насмешки коснулись ее души. Нет-нет, нас, церковных людей, так легко не пронять. И все же имейте в виду, что это еще ребенок. Она знает, каких богохульств можно ждать во времена столь испорченные, как наши, в стране, которой управляют так же постыдно, как нашей. Но очень жаль, что первый соблазн к ней приходит через вас, дядю ее, к которому мы бы хотели ее воспитать в почтении…
IV
Эти слова, столь взвешенные и разумные, смогут ли успокоить Антима?
Да, на первые две перемены (впрочем, ужин, вкусный, но простой, всего из трех блюд и был), покуда родственный разговор не касается заковыристых тем. Поговорили сначала о медицине в связи с Маргаритиным глазом (и Барайули сделали вид, будто не замечают, что шишка Антима выросла), потом об итальянской кухне из любезности к Веронике – с намеком на то, как прекрасно у нее готовят. Потом Антим спросил, как дела у Лилиссуаров, с которыми Барайули встречались недавно в По, и у графини Валентины де Сен-При, сестры Жюльюса, у которой возле По имение; наконец, осведомился о Женевьеве, очаровательной старшей дочери Барайулей – они бы ее с удовольствием взяли с собой в Рим, но она решительно не желала оставить больницу Страждущих Младенцев: каждый день она ходит туда, на улицу Севр, перевязывать язвы несчастным детишкам. Потом Жюльюс поднял важный вопрос об отчуждении имущества Антима, а именно земли, которую ученый купил в Египте, когда еще в молодости в первый раз побывал там. Эта земля была расположена неудобно и до последнего времени не имела почти никакой цены, однако недавно встал вопрос, не пройдет ли через нее железная дорога из Каира в Гелиополис; без сомнения, кошельку Арманов-Дюбуа, сильно похудевшему в рискованных спекуляциях, очень была бы кстати такая удача, но Жюльюс незадолго до поездки имел случай поговорить с Манитоном – инженером-экспертом проекта новой линии – и посоветовал свояку не возлагать на нее особенно серьезных надежд: все это может оказаться и пшиком. Но Антим кое-чего не сказал: дело это в руках Ложи, а она своих не бросает.
Затем Антим заговорил с Жюльюсом о выборах в академию, о шансах его; он говорит об этом с улыбкой, ибо совсем не верит в избрание, да и сам Жюльюс безразлично-спокоен и словно бы отстранен: к чему рассказывать, что у его сестры, вдовы графа Ги де Сен-При, в руках кардинал Андре и, стало быть, пятнадцать бессмертных, всегда голосующих заодно с кардиналом? Антим мимоходом и слегка хвалит последний роман Барайуля «Воздух вершин». На самом деле книга показалась ему отвратительной, и Жюльюс, который прекрасно все понимает, спешит возразить, чтобы не уронить самолюбия:
– А я полагал, что такая книга понравиться вам не может.
С книгой Антим еще, пожалуй, смирился бы, но вот намек на убеждения уколол его; он заявляет в ответ, что эти взгляды никак не касаются суждений, которые он выносит об искусстве вообще, а в частности о произведениях своего родича. Жюльюс улыбается примирительно и снисходительно; желая переменить тему, он спрашивает свояка о том, как себя ведет его ревматизм, и по ошибке произносит «люмбаго». Ах, лучше бы Жюльюс поинтересовался его научными опытами! Тогда Антиму было бы что ответить. Люмбаго! Так и до шишки его дойдет! Но про научные опыты свояка Барайуль ничего не знает: ему спокойней про них ничего не знать… Антим, уже готовый вскипеть и особенно больно задетый «люмбаго», усмехается и отвечает сердито:
– Как я себя чувствую? Ха-ха-ха! Если бы лучше, вы бы очень этому огорчились!
Изумленный Жюльюс просит свояка объяснить, чему он обязан, что ему приписывают такие немилосердные чувства.
– Черт побери! Когда кто-то из ваших хворает, вы тоже прекрасно умеете вызвать врача, но когда исцеляются ваши болезни – медицина тут ни при чем: все дело в молитвах, которые вы читали, пока врач вас лечил. А если выздоравливает тот, кто в церковь не ходит, это же, черт побери, нахальство с его стороны!
– Так вам лучше хворать, лишь бы не молиться? – прочувствованно говорит Маргарита.
Ну куда она лезет? Обычно никогда не участвует в разговорах на общие темы и всегда тушуется, как только рот открывает Жюльюс. У них мужской разговор, к черту все церемонии! Антим резко оборачивается к ней:
– Милейшая моя, знайте, что если бы исцеление находилось вот тут – понимаете, тут, – он остервенело тычет пальцем в солонку, – то мне, чтоб получить на него право, нужно было бы умолять об этом Господина Начальника (в дурном настроении так зовет он из озорства Верховное Существо), а не то просить его вмешаться, нарушить ради меня установленный порядок причин и следствий – порядок в высшей степени достойный – так вот, мне было бы не нужно исцеление; я бы сказал Начальнику: отцепитесь от меня с вашими чудесами – не нуждаюсь!
Он говорит, чеканя слова и слоги, возвысил голос в полную меру гнева – он ужасен.
– Не нуждаетесь? Почему же? – преспокойно спросил Жюльюс.
– Потому что это принудило бы меня поверить в того, кого нет.
При этих словах он грохает кулаком по столу.
Маргарита с Вероникой тревожно переглянулись, потом посмотрели на Жюли.
– Тебе, я думаю, девочка, пора уже спать, – говорит мать. – Ложись поскорей, мы придем к тебе пожелать спокойной ночи в кроватке.
Девочка, перепуганная страшными словами и демонским видом дяди Антима, тотчас же убегает.
– Если я исцелюсь, то хочу быть за это обязанным только себе. И точка.
– Но как же – а доктор? – посмела сказать Маргарита.
– Ему я плачу за услуги, и мы в расчете.
Но Жюльюс говорит до чрезвычайности важно:
– Что ж, если благодарность к Богу вас чересчур обязывает…
– Да, братец, потому-то я и не молюсь.
– За тебя, мой друг, молились другие…
Это говорит Вероника – до сей поры она не сказала ни слова. При звуках знакомого ласкового голоса Антим вздрагивает, теряет всякое самообладание. Доводы возражений наперебой рвутся с языка. Прежде всего никто не имеет права молиться за другого против его желания, просить для него милости без его ведома – это злоупотребление доверием. Она ничего не добилась – вот и прекрасно! Будет знать, чего они стоят, молитвы! Вот он и вышел кругом прав! А впрочем, быть может, она не так хорошо и молилась?
– Успокойтесь, я расскажу дальше, – так же ласково отвечает Вероника. Улыбаясь, как будто гневная буря ее не коснулась, она поведала Маргарите: каждый вечер, ни разу не пропустив, она зажигает за Антима две свечки и приносит к статуе Мадонны у перекрестка на северном углу их дома – той самой, у которой когда-то она увидела, как перекрестился Беппо. Ночевал мальчишка там же, неподалеку, на улице, в нише стены, и Вероника всегда наверняка могла его там застать в нужный час. Сама она до статуи достать не может – та стоит высоко для прохожих, и Беппо (теперь он стал стройным пятнадцатилетним подростком), цепляясь за камни и металлическое кольцо в стене, ставит зажженные свечки перед святым образом. И разговор неприметно ушел от Антима, сомкнулся над его головой: сестры говорили между собой, как трогательна простонародная набожность, для которой самая примитивная статуя всегда будет и самой чтимой… У Антима совсем голова пошла кругом. Как! Мало того что утром Вероника покормила его крыс! Она еще ставит за него свечки! За него! Его жена! Да еще и Беппо вмешала во всю эту жуткую чушь! Ну, погоди же!
Кровь прилила к вискам; стало душно; голова гудела как колокол. Собрав все силы, он встал, опрокинув стул, вылил стакан воды себе на салфетку, вытер мокрой салфеткой лоб… Ему плохо? Вероника спешит на помощь; он грубо ее оттолкнул, вырвался, хлопнул дверью – и вот уже слышно, как удаляются по коридору запинающиеся шаги под аккомпанемент глухо стучащего костыля.
Гости остались огорченно-растерянными столь внезапным поступком. Несколько секунд они сидели молча.
– Бедная моя! – промолвила наконец Маргарита. Но и при этом случае лишний раз проявилось, насколько различны характеры двух сестер. Душа Маргариты скроена из той необыкновенной ткани, из которой Бог делает своих мучеников. Она это знает и жаждет страдания. К несчастью, жизнь не принесла ей никаких бед; у нее все есть, и ее дар терпения вынужден искать применения по случаю мелких невзгод; всяким пустяком она пользуется, чтоб он ее оцарапал, за все хватается и ко всему цепляется. Да, она умеет устроиться так, чтоб ей всегда чего-то не хватало, вот только Жюльюс как будто нарочно желает оставить ее добродетель без употребления – что ж удивительного, что она им всегда недовольна, всегда капризна? Чего бы достигла она с мужем таким, как Антим! И ей неприятно, что Вероника этим так плохо пользуется; та вечно умеет уйти без потерь; с елеем ее непременной улыбки все проскакивает незаметно: насмешки, сарказмы… И, конечно, она давно уж решилась жить своей жизнью; к тому же Антим обходится с ней неплохо и всегда может прямо сказать, чего ему надо. Он потому так кричит, объясняет она, что ему трудно двигаться; будь он совсем без ног, то не так бы и горячился. А на вопрос Жюльюса, куда он пошел, Вероника ответила:
– В лабораторию.
Когда же Маргарита спросила, не стоит ли последовать за ним – ведь после такой вспышки гнева ему и дурно стать может! – сестра ей сказала: поверь, лучше оставить его успокоиться самому, не обращать внимания на его выходку.
– Давайте закончим ужин, – говорит она в заключение.
V
Но нет, не в лаборатории остался дядя Антим.
Как можно скорей он миновал рабочее помещение, где довершались страдания шести его крыс. Отчего не помедлил он на террасе, омытой закатным светом? Серафическое вечернее освещение умирило бы непокорную душу, быть может, преклонило бы его… Но нет: он уклонился от вразумления. По неудобной винтовой лестнице он спустился во двор, вышел на улицу. Трагедией видится поспешность калеки: мы же знаем, с каким усилием дается ему каждый шаг, ценою каких страданий – любое усилие… Когда же мы узрим, что дикая эта энергия направится на благое дело? Иногда с его губ срывается стон, сводит судорогой лицо… Так куда же ведет его богопротивное бешенство?
Эта Мадонна (с ее протянутых ладоней истекает на дом сей милость и на весь мир отраженье небесных лучей; быть может, заступничает она даже за богохульника) не то что нынешние статуи, изготовленные из пластического римского картона Блафаффаса в художественных мастерских Лилиссуар-Левикуан. Образ ее – выраженье народного благочестия – простодушен, и оттого лишь прекрасней и красноречивей для взора. Напротив статуи, но достаточно далеко, освещая бледное лицо, глянцевитые руки и голубой покров, подвешен фонарь на цинковой крыше, прикрывающей углубление, где висят на стене молитвенные подношенья. На высоте поднятой руки за железной дверцей, ключ от которой находится у церковного сторожа, скрыто крепленье веревки для фонаря. А еще перед образом этим горят день и ночь две свечи, принесенные Вероникой. При виде этих свечей вновь подымается ярость масона: он знает, что свечи горят за него. Навстречу выбежал Беппо – в своем укрытии он как раз догрызал черствую корку с парой веточек зелени. Не отвечая на его учтивый привет, Антим схватил паренька за плечо; наклонился над ним – и что ж произнес он такого, что Беппо от ужаса весь затрясся?
– Нет! Нет! – возмущенно крикнул мальчишка. Из кармана жилетки Антим достал пятилировую бумажку – Беппо вознегодовал… Быть может, когда-нибудь станет он воровать, станет даже убийцей – кто знает, каким зловонным пятном нужда покроет его чело? Но поднять руку на Пречистую Деву, которая печется о нем, по которой он каждый вечер, засыпая, вздыхает, которой, проснувшись, улыбается каждое утро! Пусть Антим убеждает, грозит, ругается, подкупает его – он получит от Беппо только отказ.
Впрочем, нам не следует заблуждаться. Не на саму Богородицу озлоблен теперь Антим, но на Вероникины свечи пред нею. Однако простая душа Беппо таких тонкостей не разбирает – да и свечи эти святые теперь, никто не имеет права их задувать…
Антим, отчаявшись, оттолкнул непреклонного паренька. Он все сделает сам. Прислонившись к стене, он берет костыль за ножку, страшно размахивается, занеся назад рукоять, и со всех сил швыряет его к небесам. Деревянный костыль рикошетит от ниши, падает с грохотом на землю, а за ним – какой-то обломок, кусок штукатурки. Антим подбирает костыль, отступает, смотрит на статую… Чертова сила! Две свечи как горели, так и горят. Но что это? У статуи на месте правой руки торчит лишь черный железный штырь.
Отрезвев, он оглядывает обидный итог своего поступка: и все оказалось ради дурацкого вандализма… Тьфу, пропасть! Он ищет глазами Беппо: мальчика нет как нет. Опускается мрак; Антим стоит один, видит на мостовой обломок, отбитый его костылем, подбирает: маленькая рука из гипса; пожав плечами, он кладет ее в жилетный карман.
Со стыдом на лице, с яростью в сердце святотатец идет обратно в лабораторию: он хотел бы теперь поработать, но непосильное напряжение надломило его: способен он только заснуть. Разумеется, он ляжет спать, ни с кем не прощаясь… Но едва он входит в свою спальню, как его останавливает чей-то голос. Дверь соседней комнаты открыта, он крадется по темному коридору…
Подобна ангелу-хранителю дома, маленькая Жюли в ночной рубашонке стоит на коленях у себя на постели; у изголовья, освещенные лампой, преклонили колени Вероника и Маргарита; чуть дальше, в изножье, стоит Жюльюс в благочестиво-мужественной позе: одну руку держит у сердца, другою прикрыл глаза; все они слушают, как молится девочка. Совершенная тишина облекает все это зрелище; оно напоминает ученому один тихий золотой вечер на берегу Нила, когда голубой дымок восходил, как восходит теперь молитва ребенка, прямо к чистому небу…
Молитве, как видно, скоро конец; девочка уже прочитала все, что положено по уставу, и теперь молится от избытка сердца, как оно ей подскажет: молится о маленьких сиротах, о страждущих и о бедных, о старшей сестре Женевьеве, о тетушке Веронике, о папе, о том, чтоб поскорей зажил глаз у дорогой мамочки… Но сердце Антима стеснено; громко, с порога, на всю комнату он произносит, желая быть ироничным:
– А о дяде у Господа мы ничего не попросим?
И тогда девочка недрогнувшим голоском, ко всеобщему изумлению, произносит:
– И еще о грехах моего дяди Антима молю тебя, Боже.
Атеиста эти слова поражают в самое сердце.
VI
В ту ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучал в дверцу его спальни – не в коридорную дверь, не в дверь из соседней комнаты, а значит, еще в одну, которой ученый не примечал наяву: она вела прямо на улицу. Поэтому он испугался, ничего не отвечал поначалу – сидел притихший. Какое-то слабое сиянье позволяло ему ясно видеть каждую мелочь в комнате – свет неверный и тихий, как будто от ночника, однако во тьме никакая свеча не светила. Антим пытался понять, откуда исходит это сиянье, и тут постучали еще раз.
– Что вам угодно? – крикнул он дрожащим голосом.
На третий раз его охватила необычайнейшая расслабленность – такая, что всякое чувство страха растаяло в ней (позже он ее называл безропотной нежностью); потом он вдруг понял, что совсем беззащитен и что дверь сейчас отворится. Она открылась бесшумно, и какой-то миг он видел только черный проем, но вот в нем, как в нише, возникла Пречистая Дева. Маленькая белая фигурка – сначала он принял ее за свою племянницу Жюли, такую, как видел только что: с босыми ножками, чуть видными из-под рубашки, – но мгновенье спустя признал ту, кого только что оскорбил: я хотел сказать, что она имела облик статуи с перекрестка, а он различил даже рану у нее на правой руке; однако улыбка на ее бледном лице была еще прекрасней и приветливей обыкновенного. Он не видел, чтобы она переступала ногами, но она приблизилась к нему, как бы скользя, и, подойдя к самому изголовью, сказала ему:
– Ты, кто поранил меня, думаешь ли, что я нуждаюсь в руке, чтобы исцелить тебя? – И протянула к нему пустой рукав.
Ему казалось теперь, что это странное сиянье от нее и исходит. Но вдруг железный штырь вонзился ему в бок, страшная боль пронзила его, и он проснулся во тьме.
Пожалуй, с четверть часа Антим приходил в себя. Во всем теле он ощущал странное онемение, отупение, потом щекотку, довольно приятную, так что уже сомневался, вправду ли чувствовал ту острую боль в боку; он уже не понимал, где его сон начался и где кончился, наяву ли он теперь, спал ли сейчас перед тем… Он ощупал себя, ущипнул, убедился, что бодрствует, выпростал из постели руку и зажег спичку. Вероника спала рядом с ним, отвернувшись лицом к стене.
Тогда, вытащив простыню из-под матраса, откинувши одеяла, он спустил с кровати ноги и сунул в туфли пальцы. Костыль стоял тут же, прислоненный к ночному столику; он не взял его, приподнялся на руках, подвинув при этом кровать; потом надел туфли полностью; потом встал прямо на ноги; потом, еще неуверенно, протянув одну руку вперед, другую назад, сделал шаг, два шага вдоль кровати, три шага, потом через комнату… Матерь Божья! ужели?.. Бесшумно напялил штаны, надел жилет, куртку… Остановись, мое неосторожное перо! Где-то плещет теперь крылом освобожденная душа, уносимая неловким порывом тела, исцеленного от расслабления?
Через час с четвертью, пробужденная неким предчувствием, Вероника проснулась и сначала встревожилась, что Антима нет рядом с ней; еще сильней встревожилась она, когда зажгла спичку и увидала стоящий у изголовья костыль – непременного товарища калеки. Спичка догорела меж пальцев ее, ибо свечку забрал Антим, уходя; Вероника на ощупь оделась кое-как, тоже вышла из комнаты и тотчас же увидела путеводный луч из-под двери Антимова логова.
– Антим! Ты здесь, друг мой?
Ответа не было. Но Вероника, навострив уши, услыхала какой-то необычный звук. Тогда она в крайней тревоге открыла дверь – и увиденное пригвоздило ее к порогу.
Ее Антим был тут, прямо пред нею; он не сидел, не стоял; макушка, вровень с его столом, вся освещалась свечой, которую он поставил на краешек. Антим – ученый, атеист, у которого долгие годы несгибаемы оставались и покалеченная нога, и непреклонная воля (ибо, надо заметить, у него дух и тело всегда шли рядом), – Антим преклонил колени.
На коленях стоял Антим! Двумя руками держал он кусочек гипса, орошая его слезами, покрывая исступленными поцелуями. В первый миг он не пошевелился, и Вероника, в недоуменье, не смея ни войти, ни вернуться, уже собиралась сама преклонить колени прямо на пороге, напротив супруга, но тут – о чудо! – он без усилья встал, пошел к ней твердым шагом и заключил в крепких объятьях.
– Отныне, – сказал он, склонившись над ней и прижав ее к сердцу, – отныне, друг мой, ты будешь молиться со мною вместе.
VII
Обращение франкмасона не могло долго оставаться в тайне. Жюльюс де Барайуль в тот же день, не откладывая, сообщил о нем кардиналу Андре, который поделился вестью со всей Консервативной партией и высшим духовенством Франции; Вероника же объявила об этом отцу Ансельму, так что вскоре новость дошла и до ушей Ватикана.
Не было сомнений, что на Армане-Дюбуа почила особенная благодать. Что Пресвятая Дева действительно являлась ему, утверждать, пожалуй, было бы неосторожно, но даже если он видел ее только во сне, исцеление было налицо: наглядное, неоспоримое и, безусловно, чудесное.
И если Антиму, быть может, исцеления было бы и довольно, то Церкви того не хватало: она потребовала торжественного отречения от заблуждений, предполагая обставить его с чрезвычайной пышностью.
– Как же это? – говорил ему несколько дней спустя отец Ансельм. – Будучи в заблуждении, вы всеми средствами распространяли ересь, а ныне уклонитесь преподать миру высокий урок, извлеченный небом из вас самого? Сколько душ отвратил ложный свет вашей суетной науки от света истинного? Теперь в вашей власти посмеяться над прежним, и вы поколеблетесь сделать так? Что говорю: в вашей власти! Это ваш непременный долг, и я вам не нанесу оскорбления, предполагая, будто вы не чувствуете того.
Нет, Антим не уклонялся от этого долга, однако не мог не опасаться его последствий. Серьезные интересы, которые были у него в Египте, находились, как мы сказали уже, в руках франкмасонов. Что мог он сделать без поддержки Ложи? И какая могла быть надежда, что Ложа продолжит поддерживать человека, который от нее прямо отрекся? Прежде он ожидал от нее богатства, ныне же впереди видел свое совершенное разорение.
Он открылся отцу Ансельму. Тот обрадовался. Он не знал, что Антим посвящен в высокую степень: тем приметнее, думал он, будет его отречение. Два дня спустя масонство Антима уже не было тайной для читателей «Оссерваторе» и «Санта Кроче».
– Вы же меня погубите, – говорил Антим.
– Нет, сын мой, напротив, – отвечал отец Ансельм, – мы несем вам спасение. Что же до нужд материальных, о том не заботьтесь: Церковь поддержит вас. Я имел долгую беседу о вашем деле с кардиналом Пацци, а тот, верно, доложит Рамполле; скажу вам и то, что ваше отречение не безвестно и его святейшеству; Церковь не может не признать жертвы, которую вы принесете ради нее, и не допустит, чтобы вы от того понесли ущерб. Впрочем, не кажется ли вам, что вы преувеличиваете эффективность, – он улыбнулся, – масонства в таких делах? Нет, мне, конечно, известно, что с ними слишком часто приходится считаться… Наконец, есть ли у вас оценка того, что вы боитесь потерять из-за их вражды? Скажите нам примерную сумму и… – он с лукавым добродушием поднес палец левой руки к носу, – ничего не страшитесь.
Через десять дней после торжеств юбилея в чрезвычайно помпезной обстановке состоялось в церкви Иисуса торжественное покаяние Антима. Мне ни к чему говорить о подробностях церемонии, обратившей на себя внимание всех итальянских газет того времени. Отец Т., товарищ генерала ордена иезуитов, произнес по этому случаю одну из примечательнейших своих проповедей. Очевидно, что душа франкмасона мучилась до безумия, и крайний предел ненависти ее оказался предвозвещением любви. Благочестивый оратор вспомнил Савла Тарсийского, найдя между святотатственным поступком Антима и побиением камнями святого Стефана поразительную аналогию. И пока набухало и раскатывалось под сводами церкви красноречие преподобного отца, как прокатывается по гроту набухшая пена прилива, Антим припоминал звонкий голосок своей племянницы и в глубине сердца благодарил ее за то, что она призвала на грехи злочестивого дядюшки милосердие той, которой только он и желал служить впредь.
После этого дня, поглощенный высшими заботами, Антим едва замечал тот шум, что поднялся вокруг его имени. Жюльюс де Барайуль взял его страдания на себя и не мог развернуть газеты без замирания сердца. На первый восторг ортодоксальных листков отозвалось шиканье органов либеральных: на большую статью «Оссерваторе» «Новая победа Церкви» отвечала инвектива «Темпо Феличе» «Одним дураком больше». Наконец, в «Депеш де Тулуз» хроника наблюдений Антима, отправленная за два дня до его исцеления, вышла с издевательским предисловием; Жюльюс от имени свояка ответил сухим и достойным письмом, извещавшим, что «Депеш» отныне не может числить его среди своих сотрудников. «Цукунфт» сама первой вежливо поблагодарила Антима за прошлое. Тот принимал удары судьбы с ясным ликом истинно боголюбивой души.
– Слава богу, «Корреспондан» для вас будет всегда открыт, это я вам обещаю, – громко шептал ему Жюльюс.
– Но что же я туда, по-вашему, стану писать? – благодушно возражал Антим. – Все, что занимало меня вчера, сегодня уже не интересует.
Потом разговоры их прекратились. Жюльюс был должен вернуться в Париж.
Тогда же Антим под нажимом отца Ансельма покорно оставил Рим. Когда он лишился поддержки Ложи, денежный крах его наступил очень скоро, а визиты, на которые подталкивала его Вероника, полагавшаяся на поддержку Церкви, привели только к тому, что высшему духовенству он надоел, а там и стал раздражать. Ему дан был дружеский совет поехать в Милан и там дожидаться обещанного возмещения ущерба и крох от выдохшейся небесной милости.
Книга вторая ЖЮЛЬЮС ДЕ БАРАЙУЛЬ
Поскольку никому никогда не следует закрывать обратный путь.
Кардинал де РетцI
В полночь с 30 на 31 марта семья Барайуль вернулась в Париж и проехала домой, в квартиру на улице Вернёй.
Маргарита готовилась ко сну, а Жюльюс, с маленькой лампой в руке, обутый в мягкие туфли, прошел к себе в рабочий кабинет – никогда он не входил туда без наслаждения. Комната была убрана скупо; несколько Лепинов и один Буден висели на стенах; в углу на поворотном цоколе резковатым, пожалуй, пятном белел мраморный бюст: портрет жены работы Шапю; посреди комнаты огромный стол в стиле Ренессанса, на котором за время отлучки накопились груды книг, брошюр и рекламных проспектов; на подносе перегородчатой эмали несколько визитных карточек с загнутыми углами, а в стороне, прислоненное, чтоб было видно, к бронзовой статуэтке работы Бари, – письмо. Жюльюс тотчас увидел по почерку, что оно от старика отца. Он немедленно разорвал конверт и прочитал:
«Дорогой сын.
В последние дни силы мои резко пошли на убыль. По некоторым безобманным признакам я понимаю, что пора сдавать багаж, да и ни к чему уже торчать на станции.
Зная о Вашем возвращении в Париж нынче ночью, я надеюсь, что Вы не замедлите оказать мне такую услугу: по некоторым соображениям, о которых я Вам расскажу вскорости, мне необходимо знать, проживает ли еще молодой человек по имени Лафкадио Луйки (пишется «Влуйки», но «в» не произносится) в тупике Клода Бернара, № 12.
Очень буду обязан Вам, если Вы благоволите отправиться по этому адресу и спросить там названную особу. Как романист, Вы без труда найдете предлог пройти к нему. Мне очень надобно знать:
1) чем занят этот молодой человек;
2) к чему в жизни стремится (хочет ли чего-нибудь добиться? в какой области?);
3) и, наконец, укажите мне, каковы показались Вам его средства, способности, пристрастия, вкусы и проч.
Не ищите покамест увидеть меня: я в дурном расположении духа. Все эти сведения Вы можете передать точно так же в нескольких словах на письме. Если ко мне придет желание побеседовать с Вами или же я соберусь в дальний путь, то дам Вам знать.
Целую Вас.
Жюст-Аженор де Барайуль.
P. S. Никак не давайте понять, что Вы от меня: молодой человек меня не знает и не должен знать впредь.
Лафкадио Луйки теперь девятнадцать лет. Румынский подданный. Сирота.
Я пролистал Вашу последнюю книгу. Если после этого Вы не попадете в академию – сочиненную Вами дребедень оправдать нечем».
Отрицать не приходилось: пресса у последней книги Жюльюса была дурная. Несмотря на усталость, писатель проглядел вырезки из газет, где о нем писали неблагосклонно. Потом он растворил окно и вдохнул воздух туманной ночи. Окна квартиры писателя выходили в посольский сад – всеочищающую купель тьмы, где очи и дух омывались от нечистот мира и городских улиц. Несколько секунд он слушал ясную песню невидимого дрозда. Потом вернулся в спальню. Маргарита была уже в постели.
Боясь бессонницы, он взял на комоде флакон флердоранжевой настойки, которую часто употреблял. Никогда не забывая о супружеской предупредительности, он снял с ночного столика зажженную лампу и перенес на пол, но легкий звон хрусталя, раздавшийся, когда он выпил лекарство и поставил бокал обратно, проник в глубины забытья Маргариты; с утробным мычанием она перевернулась лицом к стене. С радостью сочтя ее проснувшейся, Жюльюс подошел к кровати и, раздеваясь, сказал:
– Хочешь узнать, что отец сказал про мою книгу?
– Дорогой друг, у твоего отца нет никакого литературного вкуса, ты же сто раз мне это говорил, – прошептала Маргарита. Ей хотелось только спать.
Но у Жюльюса на сердце было чересчур тяжело:
– Он говорит, что я сочинил дребедень и нет мне оправданий.
Наступило довольно долгое молчанье, в которое Маргарита погрузилась, совершенно забыв о всякой литературе; Жюльюс уже смирился с тем, что остался в одиночестве, но она, из любви к нему, совершила великое усилие и выплыла на поверхность:
– Надеюсь, ты не будешь из-за этого нервничать?
– Как видишь, я к этому отношусь очень спокойно, – тотчас же ответил Жюльюс. – Но все-таки нахожу, что не отцу моему подобает так выражаться – кому угодно, только не моему отцу, особенно о той книге, которая, собственно говоря, не что иное, как памятник ему.
В самом деле, разве не образцовую карьеру старого дипломата начертал Жюльюс в своей книге? Разве не противопоставил он романтическим завихрениям достойную, спокойную, классическую жизнь Жюста-Аженора в семье и в политике?
– Но, к счастью, ты написал эту книгу не ради его признательности.
– Он намекнул мне, что я написал «Воздух вершин», чтобы меня избрали в академию.
– А хотя бы и так! Что с того, если тебя изберут в академию за хорошую книгу? – И жалостливо добавила: – Что ж, будем надеяться, что газеты и журналы его вразумят.
Жюльюс взорвался:
– Газеты! Журналы! Как бы не так! – Он обернулся к Маргарите и яростно прокричал, словно она в том была виновата: – Да меня там в пух и прах разносят!
И вот Маргарита совсем проснулась.
– Тебя там сильно критикуют? – спросила она участливо.
– И хвалят – возмутительно лицемерно.
– Как ты был прав, презирая этих газетчиков! Но вспомни, что писал тебе позавчера господин де Вогюэ: «Перо, подобное вашему, защищает Францию как меч!»
– «Перо, подобное вашему, от варварства, нам грозящего, защищает Францию лучше меча», – поправил Жюльюс.
– А кардинал Андре, обещая тебе свой голос, совсем недавно уверял, что за тобой вся Церковь.
– Вот уж толку-то!
– Друг мой!
– Мы с Антимом только что убедились, чего стоит самая высокая поддержка духовенства.
– Ты стал озлоблен, Жюльюс. Ты часто говорил мне, что трудишься не ради награды, не ради чужих похвал – тебе довольно собственного одобрения; ты даже написал об этом прекрасные строки.
– Знаю, знаю, – сказал Жюльюс.
Его глубокой муке не помогали такие декокты. Он прошел в туалетную комнату.
Зачем он, увлекшись, позволил себе при жене эти жалкие излияния? Его тоска не из тех, что жены могут заласкать и убаюкать, поэтому из гордости, из стыда он должен был затворить ее в своем сердце. «Дребедень!» Пока он чистил зубы, это слово колотилось у него в висках, выталкивало его самые благородные помыслы. Какая же после этого цена была его последней книге? Он уже забывал саму фразу отца – забывал по крайней мере, что это фраза отца. Страшное вопрошание впервые в жизни восстало в нем – в нем, доселе встречавшем одни похвалы да улыбки: сомнение в искренности этих улыбок, в достоинстве этих похвал, в достоинстве своих трудов, в реальности своих мыслей, в подлинности своей жизни.
Он вернулся в спальню, рассеянно держа в одной руке зубную щетку, в другой стакан, поставил стакан, до половины полный розовой водой, на комод, в него щетку и присел за кленовый дамский столик, на котором Маргарита имела обыкновение писать письма. Взяв Маргаритину перьевую ручку, листок умеренно надушенной лиловатой бумаги, он торопливо начал:
«Дорогой отец!
Я нашел Вашу записку, вернувшись сегодня поздно вечером. Завтра займусь поручением, которое Вы мне доверили; надеюсь исполнить его к Вашему удовольствию и полагаю, что тем докажу Вам мою преданность».
Ибо Жюльюс был из тех благородных натур, которые в неприятных обстоятельствах являют свое настоящее величие. Он запрокинулся телом назад и, подняв перо, застыл на несколько минут, продумывая следующую фразу:
«Мне тяжко именно от Вас видеть заподозренным бескорыстие, с которым»…
Нет. Лучше так:
«Неужели вы думаете, что я меньше ценю ту литературную честность, нежели»…
Фраза не клеилась. Жюльюс сидел в пижаме; он почувствовал, что так может и простудиться, скомкал бумагу, взял стакан со щеткой, отнес в туалетную комнату, а скомканную бумагу выбросил там же в ведро.
Уже совсем ложась спать, он тронул жену за плечо:
– А ты что думаешь о моей книге?
Маргарита приоткрыла сонные глаза. Жюльюсу пришлось повторить вопрос. Маргарита, полуобернувшись, поглядела на него. Над поднятыми бровями Жюльюса рядами лежали морщины, губы закушены – его было жалко.
– Но что с тобой, друг мой? Неужели ты вправду думаешь, будто последняя твоя книга хуже всех остальных?
Это был не ответ: Маргарита увиливала.
– Да я думаю, что и другие не лучше этой!
– Ах вот как…
Видя подобное исступление, потеряв все силы и чувствуя, что здесь не помогут доводы любви, Маргарита повернулась спиной к свету и заснула.
II
Несмотря на некоторое профессиональное любопытство и лестную иллюзию, что ничто человеческое ему должно быть не чуждо, до сих пор Жюльюс редко выходил за пределы принятого в высшем классе и общался почти исключительно с людьми своего круга. Не хватало не столько желания, сколько случая. Собираясь выйти с сегодняшним визитом, Жюльюс вдруг сообразил, что у него даже вполне подходящего к случаю костюма нет. В его пальто, манишке и даже цилиндре было что-то слишком пристойное, скованное, изысканное… А может быть, все-таки и не нужно, чтобы его платье вызывало молодого человека на слишком скорое сближение? Заслужить его доверие, думал Жюльюс, нужно разумными речами. По дороге же к тупику Клода Бернара он все время думал, с какими хитростями, под каким предлогом проникнуть туда и повести расследование.
Что могло быть общего между этим Лафкадио и графом Жюстом-Аженором де Барайулем? Неотвязный вопрос жужжал и кружил вокруг Жюльюса. Теперь, когда он окончил жизнеописание отца, уже не подобало задаваться вопросами о его жизни. Он желал знать о ней только то, что отец сам рассказывал. В последние годы граф стал молчалив, но скрытен никогда не был. Проходя Люксембургским садом, Жюльюс попал под ливень.
В переулке Клода Бернара у подъезда под двенадцатым номером стоял фиакр; проходя мимо, Жюльюс успел разглядеть в нем даму в довольно крикливом наряде и шляпе с чрезмерно большими полями.
Жюльюс назвал имя Лафкадио Луйки портье этого дома с меблированными комнатами, и сердце его заколотилось: романисту казалось, что он бросился навстречу какому-то диковинному приключению, – но когда он поднимался по лестнице, пошлость этого места, безликость обстановки отвратили его; любопытство, не находя себе новой пищи, угасло и сменилось брезгливостью.
На пятом этаже коридор без ковра, освещавшийся только с лестничной клетки, в нескольких шагах от площадки изгибался коленом; с обеих сторон в него выходили закрытые двери; лишь в торцевой комнате дверь была приоткрыта и пробивался тоненький лучик света. Жюльюс постучался – напрасно; робко раскрыл дверь пошире: в комнате никого. Жюльюс спустился обратно.
– Если нет его, так скоро будет, – сказал портье.
Дождик лил ливмя. Рядом с прихожей, напротив лестницы, была комната ожидания, куда Жюльюс и прошел; там стоял такой затхлый запах, вид был так уныл, что Жюльюсу подумалось даже: с тем же успехом он мог открыть дверь наверху до конца и преспокойно дожидаться молодого человека в его комнате. Он снова поднялся на пятый этаж.
Когда он свернул в коридор, из комнаты рядом с торцевой вышла женщина. Жюльюс наткнулся на нее и попросил прощения.
– А вам кого?
– Господина Луйки – он здесь живет?
– Его нет дома.
– Ай-яй-яй! – воскликнул Жюльюс с таким непритворным огорчением, что женщина тут же спросила:
– У вас к нему что-то срочное?
Жюльюс приготовил оружие только против неизвестного ему Лафкадио и не знал, что делать теперь; может быть, эта женщина хорошо знает юношу; может быть, если ее разговорить…
– Я хотел у него кое-что разузнать.
– А вы от кого?
«Она решила, что я из полиции, что ли?» – подумал Жюльюс.
– Я граф Жюльюс де Барайуль, – сказал он довольно важно, приподнимая цилиндр.
– О, граф! Простите, пожалуйста, я вас не… Такой темный коридор! Проходите, сделайте милость! – Она открыла дверь торцевой комнаты. – Лафкадио, должно быть, скоро… Он только вот… Позвольте, позвольте!
Жюльюс уже входил в комнату, поэтому она бросилась вперед него: на стуле нахально валялись женские панталончики; скрыть их она не успела и постаралась хотя бы прибрать.
– Здесь такой беспорядок…
– Ничего, ничего! Я человек привычный, – попытался попасть в тон Жюльюс.
Карола Негрешитти была молода, полновата, а лучше сказать – толстовата, но хорошо сложена и на вид свежа, с чертами лица заурядными, но не вульгарными и довольно приятными, с нежным телячьим взглядом, с блеющим голоском. Поскольку сейчас она собиралась на улицу, на голове у нее была фетровая шляпка; с блузкой прямого покроя, перехваченной посередине поясом с морским узлом, она носила мужской воротничок и белые манжеты.
– А вы давно знакомы с господином Луйки?
– Может быть, я сама ему передам, что вам угодно? – ответила она вопросом на вопрос.
– Понимаете… Я хотел узнать, очень ли он сейчас занят.
– День на день не приходится…
– Потому что если у него есть немного свободного времени, я думал попросить его… гм… кое-чем для меня заняться.
– А что за работа?
– Вот… понимаете ли… я как раз и хотел немножко разузнать, чем он, собственно, занимается…
Вопрос был задан без ухищрений, но по Кароле было видно, что с ней хитрить и не нужно. Между тем и граф опять вполне овладел собой; он устроился на том самом стуле, который Карола освободила, она присела рядом с ним на край стола и уже собралась рассказывать, но тут в коридоре послышался громкий шум, дверь со стуком распахнулась и появилась женщина, которую Жюльюс видел в экипаже.
– Ну, так я и знала! – заявила она. – Я же видела, как он вошел.
Карола тотчас отодвинулась от Жюльюса подальше:
– Да нет же, дорогая… мы так, разговаривали… Берта Гран-Марнье, моя подруга; граф… ой, простите, забыла вашу фамилию!
– Не имеет значения, – сказал Жюльюс немного смущенно, пожимая руку в перчатке, протянутую Бертой.
– А ты меня представь, – сказала Карола.
Берта, представив подругу, продолжала речь:
– Послушай, милочка, нас там уже битый час дожидаются. Если хочешь поговорить с этим господином, захвати его: я в экипаже.
– Да он не ко мне пришел.
– Тогда поехали! Вы не поужинаете сегодня с нами?
– Весьма сожалею.
– Простите, милостивый государь, – сказала Карола, покраснев и торопясь выпроводить подругу из комнаты. – Лафкадио вернется с минуты на минуту.
Девушки ушли, оставив дверь открытой; по незастеленному коридору шаги отдавались гулко; за поворотом входящего было не видно, но сразу слышно, что кто-то идет.
«Словом, надеюсь, комната скажет мне даже больше, чем женщина», – подумал Жюльюс. Он принялся хладнокровно изучать ее.
Увы, его неопытной любознательности не за что было зацепиться в этой пошлой меблирашке.
Ни книжной полки, ни картин на стенах. На камине – «Молль Флендерс» Даниеля Дефо по-английски в гадком издании, разрезанная чуть дальше середины, и «Новеллы» Антона Франческо Граццини, прозванного Ласка, по-итальянски. Эти книги Жюльюса заинтриговали. Рядом с ними бутылка мятного ликера, а за ней фотография, которая растревожила гостя еще больше: на песчаном морском берегу женщина, уже не молодая, но необычайно красивая, опирается на руку мужчины ярко выраженного английского типа, элегантного и стройного, в спортивном костюме; у ног их на опрокинутом ялике сидит и смеется крепкий мальчишка лет пятнадцати с густыми растрепанными светлыми волосами, с бесстыдным взглядом и совершенно голый.
Жюльюс взял фотографию и поднес к окошку, чтобы в правом нижнем углу разобрать выцветшие слова: «Дуино, июль, 1886»; они ему почти ничего не сказали, хоть он и слыхал, что Дуино – деревушка на австрийском побережье Адриатики. Он покивал, закусив губы, и поставил фото на место. В остывшем камине притаились коробка с овсяной мукой, мешок с чечевицей и мешок с рисом; дальше у стены стоял шахматный столик. Ничто не указывало Жюльюсу на род занятий или предмет учения, которыми юноша занимал свои дни.
Лафкадио, видимо, только что позавтракал: на столе примус, на нем кастрюлька, в которой еще лежало полое железное яичко с дырочками – в таких заваривают чай туристы, экономящие на каждой мелочи багажа; вокруг грязной чашки остались крошки. Жюльюс подошел к столу: в нем был ящик, а в ящике ключ…
Мне бы не хотелось, чтобы дальнейшее создало о Жюльюсе ложное впечатление: меньше всего на свете он любил лезть в чужие тайны; он принимал жизнь каждого человека в тех поворотах, какие кому угодно было представить, и весьма почитал общественные приличия. Но приказ отца заставлял его унять свой нрав. Он еще мгновение выждал, прислушался: никто не идет, – и тогда – против желания, против собственных принципов, исключительно из деликатного чувства долга – выдвинул ящик, который, как оказалось, на ключ и не был заперт.
Там лежал блокнот в юфтяном переплете, который Жюльюс взял и раскрыл. На первой странице он прочел несколько слов тем же почерком, что и на фотографии:
«Кадио, чтобы он записывал сюда свои счеты.
Моему верному товарищу – его старый дядюшка
Фаби».
Ниже почти без отступа уверенным, прямым и четким полудетским почерком:
«Дуино, 10 июля, 1886. Сегодня утром к нам приехал лорд Фабиан. Он подарил мне ялик, карабин и этот красивый блокнот».
Больше на первой странице не было ничего.
На третьей странице под датой «29 августа» было записано: «Дал Фаби 4 сажени вперед»; на следующий день: «Дал 12 саженей вперед»…
Жюльюс понял: это всего лишь дневник тренировок. Впрочем, вскоре подневные записи оборвались, а на чистом листке стояло:
«20 сентября. Отъезд из Алжира в Орес».
Потом еще несколько записей мест и дат, наконец, последняя из них:
«5 октября. Вернулись в Эль-Кантара. 50 км on horseback[4], без остановок».
Жюльюс перелистнул еще несколько чистых страниц; чуть дальше, как оказалось, дневник начинался заново. Наверху, как заголовок, крупными буквами было старательно выведено:
«QUI INCOMINCIA IL LIBRO
DELLA NOVA ESISTENZA
E
DELLA SUPREMA VIRTU»[5].
Потом ниже, как эпиграф:
«Tanto quanto se ne taglia. Boccaccio»[6].
Указание на мысли о нравственности тотчас же пробудило интерес Жюльюса: он за тем и охотился.
Но уже на следующей странице ему пришлось разочароваться: опять шли цифры. Правда, цифры уже другого рода. Друг за другом следовали записи, но без указания дат и мест:
«За то, что обыграл Протоса в шахматы, – 1 пунта.
За то, что показал, что говорю по-итальянски, – 3 пунты.
За то, что ответил раньше Протоса, – 1 п.
За то, что оставил за собой последнее слово, – 1 п.
За то, что плакал, узнав о смерти Фаби, – 4 п.».
Торопливо читая записи, Жюльюс принял слово «пунта» за название иностранной монеты; эти счеты ему показались мелочным, ребяческим торгом за вознаграждение заслуг. Потом оборвались и эти цифры. Жюльюс перевернул еще страницу и прочел:
«4 апреля. Сегодня в разговоре с Протосом:
«Понимаешь ли, что заключено в словах “ну и пусть”?».
На этом записи заканчивались.
Жюльюс пожал плечами, закусил губы, покачал головой и положил блокнот обратно в ящик. Вынул часы, встал, подошел к окну, посмотрел на улицу: дождь кончился. Он пошел взять свой зонтик, который, входя, оставил в углу, и тут увидел: в дверном проеме, держась за косяк и чуть-чуть отступив назад, на него с улыбкой глядит красивый белокурый молодой человек.
III
Тот подросток с фотографии почти не вырос. Жюст-Аженор сказал – ему девятнадцать; дать можно было не больше шестнадцати. Несомненно, Лафкадио вошел только что: когда Жюльюс клал блокнот на место, он уже взглянул на дверь, и там не было никого, – но как же он не услышал шагов? Инстинктивно взглянув юноше на ноги, Жюльюс увидел: вместо ботинок тот носил калоши.
Лафкадио улыбался. В его улыбке не было никакой злобы: она казалась довольно веселой, но иронической; он стоял, как был, в дорожной фуражке, но, встретившись взглядом с Жюльюсом, снял ее и церемонно поклонился.
– Господин Луйки? – спросил Жюльюс.
Молодой человек снова поклонился и ничего не ответил.
– Простите, что я дожидался вас тут, в вашей комнате. По правде сказать, сам бы я не посмел войти, но меня сюда провели.
Жюльюс говорил быстро и громче обыкновенного, чтобы себе самому доказать, что ничуть не смущен. Лафкадио почти неприметно нахмурился, подошел к зонтику Жюльюса; ни слова не говоря, он взял его и выставил сохнуть в коридор; потом вернулся в комнату и знаком пригласил гостя сесть.
– Вы, конечно, удивлены моим визитом?
Лафкадио невозмутимо достал из серебряного портсигара сигарету и закурил.
– Я в коротких словах объясню вам причину, которая меня сюда привела, и вы сразу поймете…
Чем больше он говорил, тем больше чувствовал, как испаряется его уверенность в себе.
– Так что… но позвольте мне прежде назвать себя… – И, словно стесняясь произнести свое имя, он достал из жилетного кармана визитную карточку и протянул Лафкадио; тот не глядя положил ее на стол. – Сам я… словом, я только что завершил одну довольно серьезную работу; работа небольшая, но мне некогда самому ее переписывать набело. Мне кое-кто сказал, что у вас превосходный почерк, и я подумал, что, собственно говоря… – взгляд Жюльюса красноречиво прошелся кругом по наготе комнаты, – вам, подумал я, не будет неприятно…
– В Париже никто, – перебил его Лафкадио, – ни один человек не мог рассказать вам про мой почерк. – Тут он обратил взгляд на ящик стола (Жюльюс и не подозревал, что сорвал с него неприметную восковую печать), в сердцах повернул ключ в замке и спрятал в карман. – И никто не имеет права об этом рассказывать, – продолжал он, глядя, как покраснел Жюльюс. – С другой стороны, – он говорил очень медленно, словно без смысла и без всякого выражения, – я пока что не очень ясно вижу, по каким причинам господин… – Он взглянул на карточку. – Какие особенные причины граф Жюльюс де Барайуль может иметь интересоваться именно мной. Впрочем, – и тут его голос, в подражанье Жюльюсу, вдруг стал таким же густым и насыщенным, – ваше предложение вполне может быть рассмотрено лицом, имеющим, как вы могли заметить, денежные затруднения. – Он встал. – Позвольте мне, ваше сиятельство, передать вам ответ завтра утром.
Предложение закончить визит было недвусмысленным. Жюльюс чувствовал, что на его месте лучше не настаивать. Он взял шляпу, немного помедлил, неловко промолвил:
– Я бы хотел еще побольше поговорить с вами. Позвольте мне надеяться, что завтра… Буду ждать вас после десяти.
Лафкадио поклонился.
Как только Жюльюс завернул за угол коридора, Лафкадио захлопнул дверь и закрыл на задвижку. Кинувшись к столу, он вытащил из ящика блокнот, открыл на последней проболтавшейся странице и карандашом на том самом месте, где бросил записи уже много месяцев назад, написал крупным угловатым почерком, совсем не похожим на прежний:
«За то, что позволил Олибриусу сунуть свой гадкий нос в этот блокнот, – 1 пунта».
Он вынул из кармана перочинный ножик, лезвие которого так сточилось, что превратилось уже в подобие короткого шила, накалил его на спичке и разом воткнул себе через карман штанов в ногу. Гримасы боли он сдержать не смог. Но этого было ему еще не довольно. Не присаживаясь, склонившись над столом, он приписал под последней фразой:
«А за то, что дал ему понять, что знаю об этом, – 2 пунты».
На сей раз он еще помедлил, расстегнул штаны и отогнул в сторону. Он осмотрел ногу, на которой кровоточила маленькая свежая ранка, осмотрел и старые шрамы, покрывавшие все бедро, как следы от прививок. Снова раскалил лезвие и опять дважды, без перерыва, вонзил в свое тело.
– Раньше я так не осторожничал, – сказал он про себя, взяв бутылку мятного ликера и вылив несколько капель на ранки.
Гнев его понемногу унялся, но, ставя бутылку на место, он заметил, что фотография, где он вместе с матерью, чуть переставлена. Тогда он схватил ее, взглянул в последний раз с какой-то тоской; кровь прилила волной к его лицу, и он в ярости разорвал фото. Обрывки он хотел сжечь, но они загорались плохо; тогда он вытащил из камина мешочки с едой, поставил туда вместо подставки для дров две свои единственные книжки, из блокнота выдрал по листочку, разодрал в клочки, в мелкую крошку, положил туда же обрывки фотографии и все поджег.
Уставившись в огонь, он убеждал себя, что ему неизъяснимое удовольствие доставляет глядеть, как сгорают эти воспоминания, но когда остался только пепел и Лафкадио встал, голова у него немного кружилась. Комната была вся в дыму. Он подошел к умывальнику и намочил лоб.
После этого прояснившимися глазами он посмотрел на визитную карточку.
– «Граф Жюльюс де Барайуль», – повторил он. – Dapprima importa sapere chi e[7].
Он сорвал с шеи платок, который носил вместо галстука и воротничка, до середины расстегнул рубашку и встал у раскрытого окна, омывая тело свежим воздухом. Потом Лафкадио вдруг заторопился, быстро обулся, повязал платок, надел благопристойную серую шляпу – безобидную, цивилизованную по всей мере возможности, – закрыл за собой дверь и зашагал в сторону площади Сен-Сюльпис. Там, в Кардинальской библиотеке напротив мэрии, он, конечно, получит все желаемые справки.
IV
Когда он шел мимо Одеона, ему на глаза попался роман Жюльюса: книга в желтой обложке, один вид которой в любой другой день навел бы на Лафкадио зевоту. Он вытащил кошелек и выкинул на прилавок кругляш в сотню су.
«Ну вот и на вечер растопка!» – подумал он, унося книжку и сдачу.
В библиотеке «Словарь современников» в немногих словах описал ему бесформенный жизненный путь Жюльюса, перечислил заглавия его произведений и похвалил их такими чинными словами, что читать их сразу пропадала охота.
Тьфу! – сплюнул Лафкадио. Он уже хотел поставить словарь на место, но тут вздрогнул от нескольких слов, попавшихся на глаза в предыдущей статье. Несколькими строчками выше заголовка «Барайуль, Жюльюс де, виконт» Лафкадио прочел в биографии Жюста-Аженора: «С 1873 года посланник в Бухаресте». И почему же от этих простых слов так забилось его сердце?
Мать Лафкадио дала ему пятерых дядюшек, отца же своего он не знал, был согласен считать его умершим и всегда воздерживался от вопросов о нем. Что касается дядюшек (все они были разных национальностей, причем трое из них дипломаты), он быстро убедился, что в родстве с ними ровно настолько, насколько это было угодно красавице Ванде, и никак иначе. Но Лафкадио только что исполнилось девятнадцать. Он родился в Бухаресте в 1874 году – как раз в конце второго года, когда граф де Барайуль жил там, исполняя служебные обязанности.
Загадочный визит Жюльюса насторожил юношу, и как он мог теперь видеть в этом только случайное совпадение? Он приложил все силы, чтобы прочесть статью «Жюст-Аженор де Барайуль», но строчки плясали у него перед глазами; по крайней мере он понял, что граф де Барайуль, отец Жюльюса, – лицо значительное.
Неслыханная радость разорвалась в его сердце: оно заколотилось так, что он испугался, не слышат ли стук даже окружающие. Но нет – одежды кожаные оказались прочны и непроницаемы. Он с хитрой улыбкой оглядел соседей – завсегдатаев читального зала, поглощенных своей дурацкой работой… «Граф родился в 1821 году, – подсчитывал он. – Теперь ему, стало быть, семьдесят два… Ma chi sa se vive ancora?..»[8] Он поставил словарь на место и вышел.
Несколько облачков, подгоняемых довольно свежим ветром, виднелись на голубом небе. «Importa di domesticare questo nuovo proposito»[9], – думал Лафкадио, больше всего на свете ценивший свободу распоряжаться собой; отчаявшись призвать к порядку взвихренную мысль, он решил на время изгнать ее из мозга. Он вынул из кармана роман Жюльюса и приложил все силы, чтобы увлечься книгой, но там не было никаких околичностей, никаких загадок: что-что, а это забыться никак не позволяло.
«А ведь завтра я стану играть роль секретаря у того, кто написал это!» – невольно твердил Лафкадио про себя.
Он купил газету и вошел в Люксембургский сад. Скамейки стояли мокрые; он раскрыл книгу, сел на нее и развернул газету на разделе происшествий. Его глаза тотчас же, как будто так и должно было быть, наткнулись на строчки:
«Здоровье графа Жюста-Аженора де Барайуля, в последние дни, как известно, внушавшее серьезные опасения, кажется, идет на поправку. Он, однако, все еще слаб и может принимать лишь немногих близких».
Лафкадио так и подпрыгнул на скамейке: решение было принято в один миг. Забыв книгу, он бросился к писчебумажной лавке на улице Медичи, где, как он помнил, объявление в витрине обещало «визитные карточки за одну минуту, 3 франка за сотню». Он шел и улыбался; дерзость внезапного замысла его забавляла: у него была страсть к приключениям.
– Когда я смогу получить сотню карточек? – спросил он лавочника.
– Сегодня вечером будет готово.
– Плачу двойную цену, если сделаете к двум часам.
Лавочник сделал вид, что проверяет что-то по книге заказов.
– Из уважения к вам… да, в два часа можете забрать. На какое имя?
И не вздрогнув, не покраснев, только с чуть трепещущим сердцем, на листке, протянутом лавочником, он написал:
«ЛАФКАДИО ДЕ БАРАЙУЛЬ».
«Не принял меня этот олух за человека, – подумал он, уходя: его задело, что лавочник не поклонился ему ниже прежнего. Тут он прошел мимо стеклянной витрины: – Впрочем, надо признать, вид у меня не больно-то барайулистый. Ну что ж, попробуем приблизиться к образцу».
Двенадцати еще не было. Лафкадио был переполнен возбужденными мечтами – есть ему не хотелось.
«Пройдусь немного, а то совсем воспарю, – думал он. – Да пойду по мостовой; если я подойду к прохожим вплотную, они сразу заметят, что я выше их на голову. Еще одно превосходство, которое нужно скрывать. Учиться никогда не поздно».
Он зашел на почту.
«Площадь Мальзерб… – подумал он, посмотрев в адресной книге, где живет граф Жюст-Аженор. – Это потом. Но кто мешает провести сегодня разведку на улице Вернёй (этот адрес был написан на визитной карточке Жюльюса)?»
Этот район Лафкадио знал и любил; с людного бульвара он свернул на тихую улицу Вано, где его молодой радости дышалось легче. На углу Вавилонской улицы он увидел бегущих людей, а около тупика Удино собралась толпа перед одним трехэтажным домом, из окон которого валил довольно зловещий дым. При всей гибкости своей фигуры Лафкадио не прогнулся настолько, чтоб побежать вместе со всеми.
Лафкадио, друг мой, вы попали в хронику происшествий, и мое перо оставляет вас. Не ждите, что я буду передавать несвязные речи, крики толпы…
Выкручивась ужом, Лафкадио пробрался через толкучку в первый ряд. Там на коленях рыдала беднячка.
– Дети! Деточки мои! – твердила она.
Ее держала под руки девушка, чей простой элегантный наряд показывал, что они не родственницы, – очень бледная и такая красивая, что Лафкадио тотчас подошел к ней и спросил, в чем дело.
– Нет, сударь, я ее не знаю. Я только поняла, что у нее двое маленьких детей в той комнате на третьем этаже, куда вот-вот доберется огонь; уже горит на лестнице; пожарников вызвали, но пока они доедут, малыши задохнутся в дыму… Скажите, сударь, а нельзя ли взобраться на балкон по этой стене, а потом – видите? – вон по тому тонкому водостоку? Тут, говорят, воры уже так лазили; для воровства кто-то это сделал, а чтобы спасти детей – все трусят. Я уж и этот кошелек предлагала – все напрасно… Ах, почему я не мужчина!
Дальше Лафкадио не слушал. Он положил шляпу и трость к ногам девушки и бросился вперед. Он влез на брандмауэр, никого не попросив о помощи, подтянулся на руках и встал на ноги. Потом пошел по стене, переступая через натыканные на ней осколки стекла.
Но еще пуще прежнего толпа разинула рты, когда он взялся за водосточную трубу и полез по ней на одних руках, еле-еле кое-где касаясь ногами ее креплений. Вот он дотронулся рукой до балкона, вот ухватился за перила; толпа им восхищается и уже не боится: он поистине в совершенстве владеет собой. Плечом вдребезги разбивает окошко, исчезает в комнате… Настал миг невыразимо тягостного ожидания… И вот все видят, как он появляется с плачущим малышом на руках. Он разорвал простыню, связал обрывки концами и сделал веревку, привязал к ней ребенка и опустил прямо в руки потрясенной матери. То же и со вторым…
Когда Лафкадио спустился, толпа приветствовала его как героя.
«Они меня за циркача принимают», – подумал он, с ужасом почувствовав, что краснеет, и с грубым неудовольствием отклонил овацию. Но когда он опять подошел к девушке, а та, вместе со шляпой и с тростью, смущенно протянула ему обещанный кошелек, он улыбнулся, взял его, высыпал лежавшие там шестьдесят франков и отдал бедной женщине, которая теперь осыпала обоих детей поцелуями.
– А кошелек вы разрешите мне оставить на память о вас, сударыня?
Кошелек был маленький, с вышивкой. Он поцеловал его. Тут они поглядели друг на друга. Девушка была взволнована, еще бледнее прежнего и, казалось, хотела что-то сказать. Но Лафкадио внезапно удрал, раздвигая тросточкой толпу, и так он был хмур, что и крики все тотчас же стихли, и никто за ним не последовал.
Он опять пошел к Люксембургскому саду, кое-как перекусил в «Гамбринусе» рядом с Одеоном и поскорей вернулся к себе в комнату. Под плинтусом прятал он свои сбережения: три монеты по двадцать франков и одна десятка явились из тайника. Он подсчитал:
Визитные карточки: шесть франков.
Пара перчаток: пять франков.
Галстук: пять франков (да за такие деньги найдешь ли приличный?).
Пара туфель: тридцать пять франков (долгой службы у них никто не спросит).
Остается девятнадцать франков на непредвиденные расходы.
(Лафкадио терпеть не мог долгов, поэтому платил всегда наличными.)
Он подошел к шкафу и достал черный шевиотовый костюм, превосходно скроенный и совсем не поношенный.
«Только беда в том, что я с тех пор вырос…» – вздохнул он, припоминая великолепные времена, еще недавние, когда его последний дядюшка маркиз де Жевр водил к своим портным элегантного юношу.
Плохо сидящая одежда была для Лафкадио таким же смертным грехом, как для кальвиниста ложь.
«Но главное не в этом. Дядюшка де Жевр говорил: человека встречают по обуви».
И первым делом, из уважения к туфлям, которые будет мерить, Лафкадио переменил носки.
V
Вот уже пять лет граф Жюст-Аженор де Барайуль не выходил из своей роскошной квартиры на площади Мальзерб. Здесь он готовился к смерти, задумчиво бродя по залам, сплошь уставленным художественными собраниями, но чаще затворясь в своей комнате и предавая болящие плечи и руки услугам нагретых салфеток и болеутоляющих компрессов. Огромный платок цвета мадеры тюрбаном обворачивал его прекрасную голову; один конец тюрбана свободно свисал на кружевной воротник и толстый вязаный жилет цвета гаванских сигар, по которому серебристыми волнами рассыпалась борода Жюста-Аженора. Ноги в кожаных белых бабушах лежали на грелке с водой. Истощенные руки он по очереди окунал в раскаленный песок, под которым бледным светом горела спиртовка. Колени закрывал серый плед. Он, конечно, был похож на Жюльюса, но еще больше на какой-то портрет Тициана, а Жюльюс представлял собой лишь опошленное воспроизведение его черт, как и жизнь его представил в «Воздухе вершин» подслащенной и свел ее к никчемности.
Жюст-Аженор де Барайуль пил из чашки целебный настой и слушал наставления отца Авриля, своего духовника, с которым завел привычку часто советоваться. Вдруг в дверь постучали, и верный Эктор, который уже лет двадцать исполнял при графе обязанности выездного лакея, сиделки и, при необходимости, советника, подал эмалированный поднос, а на нем запечатанный конвертик:
– Этот господин надеется, что ваше сиятельство благоволит принять его.
Жюст-Аженор отставил чашку, разорвал конверт и вытащил карточку Лафкадио. Он нервно скомкал ее в руке:
– Скажите ему… – Но тут же пришел в себя. – Господин? Ты хотел сказать – молодой человек? А какого этот человек сорта?
– Ваше сиятельство может принять такого.
– Дорогой аббат, – обратился граф к отцу Аврилю, – извините, что мне придется просить вас прервать нашу беседу, но завтра приходите непременно: у меня, по-видимому, будут для вас новости, и я думаю, что вы останетесь довольны.
Пока отец Авриль шел до двери гостиной, граф сидел, закрыв лицо руками. Потом поднял голову и сказал:
– Проси.
Лафкадио вошел в комнату, глядя прямо, с мужественной уверенностью в себе, встал перед стариком и важно поклонился. Поскольку он дал себе слово ничего не говорить, не сосчитав прежде до двенадцати, разговор начал граф:
– Прежде всего знайте, милостивый государь мой, что никакого Лафкадио де Барайуля не существует, – сказал он, разрывая карточку. – А господину Лафкадио Луйки, поскольку вы с ним, должно быть, коротко знакомы, благоволите передать, что если он намерен играть этими бумажками и не порвет их так, как это делаю я, – он превратил карточку в мелкие-мелкие клочки и бросил их в пустую чашку, – я тотчас же дам знать полиции, и его арестуют, как обыкновенного мошенника. Вы поняли меня? Теперь пройдите к свету, чтобы я вас разглядел.
– Лафкадио Луйки повинуется вам, милостивый государь. – Он говорил очень почтительно, голос его чуть дрожал. – Простите ему способ, который он избрал, чтобы к вам пройти; у него в мыслях не было никаких бесчестных намерений; он только хотел убедить вас, что заслуживает… что вы по крайней мере сможете его по заслугам оценить.
– Вы хорошо сложены. Но этот костюм не очень хорошо на вас сидит, – продолжал граф, не желая слушать его.
– Так я не ошибся? – сказал Лафкадио, решившись улыбнуться. Он безропотно давал себя осматривать.
– Похож, слава богу, на мать, – прошептал старик Барайуль.
Лафкадио выждал положенное время и тоже почти шепотом, пристально глядя на графа, произнес:
– Если я не чрезмерно себя выдаю, не будет ли мне позволено походить также на…
– Я говорил о внешности. Если же вы имеете нечто не только от матери, Господь уже не оставил мне времени узнать об этом.
В этот миг серый плед соскользнул с его коленей. Лафкадио бросился поднять его, и, когда он стоял наклоненный, рука старого графа ласково легла ему на плечо.
– Лафкадио Луйки, – продолжил граф Жюст-Аженор, когда юноша встал, – дни мои сочтены. Я не буду соревноваться с вами в хитроумии: мне это утомительно. Я признаю, что вы не глупы; мне приятно, что вы не урод. То, что вы пошли на риск, показывает некоторое удальство, и оно вам пристало; сначала я подумал, не бесстыдство ли это, но ваш голос, ваши манеры меня успокаивают. Что касается прочего, я просил своего сына Жюльюса разузнать об этом для меня, но теперь понял, что не особенно этим интересуюсь: это не так важно, как видеть вас. Теперь, Лафкадио, послушайте меня. Никакое свидетельство, никакая бумага не удостоверяют вашу личность. Я позаботился о том, чтобы вы не имели никакой возможности заявить свои права. Нет, не возражайте, не говорите мне о своих чувствах: это бесполезно; не перебивайте меня. Ваше прежнее молчание удостоверяет меня в том, что ваша мать сдержала обещание и ничего вам про меня не говорила. Это хорошо. Поскольку и я взял на себя перед ней обязательства, вы убедитесь в моей признательности. Через посредство Жюльюса, моего сына, я, невзирая на юридические затруднения, передам ту часть наследства, которую обещал вашей матери сохранить за вами. А именно: от другой моей наследницы, моей дочери графини де Сен-При, я переведу на имя Жюльюса долю, разрешенную мне законом, и это будет как раз та сумма, которую я хочу передать вам через него. Это будет, я полагаю… тысяч сорок ливров ренты; чуть позже я увижу своего нотариуса, и мы с ним проверим точную цифру. Садитесь, садитесь, если так вам меня лучше слышно. (Дело было в том, что Лафкадио присел на краешек стола.) Жюльюс может воспротивиться; закон на его стороне; я полагаюсь на его порядочность, что он так не сделает, а на вашу – в том, что вы не нарушите покой его семьи, как ваша мать не нарушила покой моей. Для Жюльюса и его детей существует только Лафкадио Луйки. Я не желаю, чтобы вы носили по мне траур. Семья, дитя мое, – дело великое и непроницаемое; вы навсегда останетесь незаконнорожденным.
Несмотря на приглашение отца, который заметил, как юноша пошатнулся, Лафкадио не сел на стул; он одолел головокружение и только опирался на стол, где стояли чашки и грелки, по-прежнему сохраняя весьма почтительную позу.
– Теперь скажите мне: итак, утром вы видели моего сына Жюльюса. Он вам сказал…
– Он, собственно, ничего не сказал: я сам догадался.
– Вот неуклюжий! О… это я не про вас. Вы с ним еще будете встречаться?
– Он просил меня поступить к нему в секретари.
– Вы согласились?
– Вам это не нравится?
– …Не то чтобы так. Но я думаю, лучше, если вы… друг друга не признаете.
– Я тоже так думаю. Но признать не признать, а немного познакомиться с ним я хотел бы.
– Однако вы, я полагаю, не намерены долго оставаться в положении подчиненного?
– Только пока не поправлю свои дела.
– А потом? Теперь у вас есть средства – что вы намереваетесь делать?
– Ах, сударь, еще вчера мне было нечего есть – нужно же время понять, чего алчет душа.
В этот момент в дверь постучал Эктор:
– Господин виконт желает видеть ваше сиятельство. Прикажете принять?
Лицо старика помрачнело; сперва он молчал, но когда Лафкадио вежливо дал понять, что удаляется, крикнул:
– Стойте! – и властный голос Жюста-Аженора заставил юношу повиноваться.
Граф обратился к Эктору:
– Что же это! Ведь я именно просил его не искать встречи со мной… Скажи ему, что я занят… что я… что я ему напишу.
Эктор поклонился и вышел.
Старый граф еще несколько секунд сидел, закрыв глаза; казалось, он спит, но под бородой было видно, как шевелятся губы. Наконец он поднял веки, протянул Лафкадио руку и сказал совсем другим голосом – более ласковым и как бы утомленным:
– Прикоснитесь к ней, дитя мое. Теперь вы должны меня оставить.
– Я должен вам кое в чем признаться, – сказал Лафкадио не без колебания. – Чтобы прилично явиться к вам, я истратил последние сбережения. Если вы мне не поможете, я не знаю, как поужинаю сегодня… а завтра и подавно… разве что ваш сын…
– Нате, возьмите, – сказал граф, доставая из ящика стола пятьсот франков. – Что же? Чего вы еще ждете?
– Я бы хотел еще попросить вас… не могу ли я надеяться опять вас увидеть?
– Честно признаюсь: мне это доставило бы удовольствие. Но преподобные особы, которые занимаются моим вечным спасением, держат меня в таком состоянии духа, что удовольствие для меня теперь – дело десятое. Благословение же мое я вам дам сию же минуту. – И старик распахнул руки навстречу юноше.
Лафкадио не бросился прямо в его объятья, а благочестиво преклонил свои колени, на колени графу положил голову и, зарыдав, растаяв, как только старец обхватил его руками, почувствовал, как из сердца его уходят жестокие намерения.
– Дитя мое, дитя мое… – лепетал старик. – Как поздно я встретил вас…
Когда Лафкадио встал, все лицо его было в слезах.
Собираясь уходить и забирая деньги (он взял их со стола не сразу), Лафкадио наткнулся в кармане на свои визитные карточки и подал их графу:
– Возьмите, тут вся пачка.
– Я вам доверяю: порвите их сами. Прощайте!
«Он был бы лучшим из моих дядюшек, – размышлял Лафкадио, возвращаясь в Латинский квартал, – и даже не только дядюшек… – добавил он про себя с толикой грусти. – Ладно!»
Он достал пачку визитных карточек, развернул их веером и одним движеньем без всякого усилия разорвал.
– Никогда не доверял сточным канавам, – тихонько сказал он, кидая в решетку «Лафкадио», и только еще через две решетки выкинул «Барайулей».
«Какая разница, что Барайуль, что Луйки – теперь займемся уничтожением прошлого!»
Он знал на бульваре Сен-Мишель одну ювелирную лавку, перед которой Карола что ни день насильно останавливала его; позавчера она приглядела в этой наглой витрине необычные запонки для манжет. Их было четыре, и они – соединенные попарно золотыми скрепочками, вырезанные из какого-то странного кварца, какого-то дымчатого агата, через который ничего не было видно, хотя он казался прозрачным, – имели вид кошачьих головок, обведенных кружком. Как уже было сказано, Карола Негрешитти с мужским блузоном (так называемым костюмом «тайёр») носила манжеты и, поскольку вкус у нее был несуразный, очень хотела к ним эти запонки.
Они были не столько забавные, сколько странные; Лафкадио находил их ужасными; ему было бы очень неприятно видеть их на своей любовнице, но теперь-то он ее бросал… Он вошел в лавку, заплатил за них сто двадцать франков.
– И листок бумаги, будьте любезны. – На листке, протянутом продавцом, он, стоя тут же у прилавка, написал:
«Кароле Негрешитти – с благодарностью за то, что провела ко мне в комнату незнакомого человека, и с просьбой никогда больше в эту комнату не входить».
Сложенный листок он сунул в ту же коробочку, в которую продавец упаковал запонки.
Уже собравшись передать коробочку портье, он подумал: «Торопиться нечего. Проведем под этой крышей еще одну ночь, только надобно сегодня запереться от девицы Негрешитти».
VI
Жюльюс де Барайуль уже слишком долго жил в режиме переходной морали – той самой, которую признавал для себя Декарт, пока не установил непреложные правила для жизни и денежных расходов. Но темперамент Жюльюса не проявлялся достаточно непреклонно, а мысль его – достаточно властно, чтобы романиста сильно смущала необходимость покоряться установленным приличиям. В конечном счете он требовал только комфорта, в который литераторский успех входил составной частью. Когда его последнюю книгу обругали, он впервые почувствовал себя уязвленным.
Весьма неприятно было ему и тогда, когда отец отказал в приеме, и еще неприятнее стало бы, если бы он знал, кто именно опередил его там. Возвращаясь на улицу Вернёй, он все слабей отклонял неотвязное предположение, что преследовало его уже с того времени, как он побывал у Лафкадио. Он тоже связывал даты с фактами; он тоже теперь не мог видеть в таких совпадениях простую случайность; впрочем, юная грация Лафкадио его очаровала, и хотя он догадывался, что в пользу незаконного сына отец отберет у него какую-то часть наследства, но никаких дурных чувств к нему не испытывал; нынче утром он ожидал его даже с благосклонно-любознательной симпатией.
Что же до Лафкадио, то как бы ни был он угрюм и замкнут, редкая возможность поговорить соблазняла его – как и возможность обеспокоить немного Жюльюса. Ведь даже с Протосом он никогда не говорил действительно по душам. А с тех пор столько воды утекло! Да и Жюльюс ему был не противен, хотя и показался марионеткой; было забавно, что у тебя такой брат.
Когда он утром, на следующий день после посещения Жюльюса, шагал к его жилищу, с ним случилось довольно странное происшествие. Из любви к кривым путям, возбуждавшейся, быть может, его гением, а также для того, чтобы унять волнение тела и духа и дома у брата вполне владеть собой, Лафкадио выбрал самую длинную дорогу. Он пошел по бульвару Инвалидов, миновал место вчерашнего пожара, затем свернул на улицу Бельшасс.
«Улица Вернёй, 34, – твердил он про себя. – Три да четыре – семь: хорошее число».
Он вышел на улицу Сен-Доминик в том месте, где она пересекает бульвар Сен-Жермен, и тут на другой стороне бульвара увидел девушку, тотчас ее, как ему показалось, узнав: ту самую девушку, что со вчерашнего дня непрерывно занимала все его мысли… Он сразу же прибавил шагу. Да, это была она! Он догнал ее в конце короткой улочки Виллерсексель, но, рассудив, что подойти к ней было бы не по-барайульевски, лишь улыбнулся и слегка поклонился, скромно приподняв шляпу; потом торопливо ее обогнал и нашел наилучший выход из положения, завернув в табачную лавку, а она прошла опять вперед него и свернула на Университетскую улицу.
Выйдя из лавочки и на ту же улицу повернув, Лафкадио глядел во все стороны – девушки не было. Лафкадио, друг мой, вы впадаете в совершенную заурядность! Ежели вам пришлось влюбиться, на мое перо не рассчитывайте: раздрай в вашем сердце описывать я не стану… Но нет: продолжать преследование показалось ему непристойным, к тому же он не хотел с опозданием прийти к Жюльюсу, а сделанный крюк уже не оставлял времени на шалопайство. Улица Вернёй, по счастью, была недалеко, а дом, в котором проживал Жюльюс, – первый от угла. Лафкадио проронил консьержу фамилию графа и бегом бросился вверх по лестнице.
Между тем Женевьева де Барайуль – ведь это она, старшая дочь графа Жюльюса, возвращалась из больницы Болящих Младенцев, куда ходила каждое утро, – еще более, чем Лафкадио, смущенная новой встречей, с великой поспешностью устремилась в родительский дом; в ворота она вошла в тот самый миг, когда Лафкадио появился из-за угла; когда же она поднялась на третий этаж, торопливые скачки за спиной заставили ее оглянуться; кто-то бежал, быстро ее догоняя; она посторонилась, чтоб пропустить бегущего, но вдруг узнала застывшего в недоумении прямо перед ней Лафкадио.
– Достойно ли вас, сударь, так преследовать меня? – сказала она таким гневным голосом, на какой только была способна.
– Увы, сударыня, как же вы будете обо мне думать? – воскликнул Лафкадио. – Вы мне не поверите, если я вам скажу, что не видел, как вы вошли в этот дом, и крайне поражен, что вы здесь. Разве не здесь живет граф Жюльюс де Барайуль?
– Как? – ответила Женевьева, покраснев. – Так вы тот новый секретарь, которого дожидается мой отец? Господин Лафкадио Лу… у вас такое необычное имя, я не могу его выговорить. – Лафкадио тоже покраснел и поклонился; тогда она продолжила: – Сударь, уж раз я вас встретила, могу ли просить вас об одолжении не говорить родителям о вчерашнем случае? Им, я знаю, совсем не понравится, а главное – кошелек: я сказала, что потеряла его.
– И я вас, сударыня, просил бы молчать о той дурацкой роли, которую вы меня заставили сыграть. Я такой же, как ваши родители: совершенно этого не понимаю и не одобряю. Вы, должно быть, приняли меня за собаку-спасателя. Я не мог удержаться… Простите. Мне надо еще научиться… но я научусь, уверяю вас. Не позволите ли ручку?
Женевьева де Барайуль сама себе не признавалась, что находит Лафкадио очень красивым, а Лафкадио не призналась, что он ей отнюдь не казался смешным, а, напротив, предстал как герой. Она протянула ему ручку; он порывисто поднес ее к губам; тогда она просто улыбнулась ему и попросила спуститься на несколько ступенек, подождать, пока она войдет, закроет за собой дверь, и тогда уже самому позвонить – так, чтобы их не видели вместе, а главное – затем не выдавать, что они уже прежде встречались.
Через несколько минут Лафкадио провели в кабинет романиста.
Жюльюс его принял со всей предупредительностью, но не знал, с чего начать, и Лафкадио тотчас же встал в защитную стойку:
– Милостивый государь, сразу должен предупредить вас: я терпеть не могу оставаться в долгу, да и делать долги не люблю, и что бы вы для меня ни сделали, вы не добьетесь того, что я останусь вам обязан.
Тогда взъерошился и Жюльюс.
– Я не собираюсь вас покупать, господин Луйки, – начал он было, повысив голос насколько мог…
Но тут оба заметили, что могут так далеко зайти, остановились, и после короткой паузы Лафкадио продолжал более ровным тоном:
– Какую же работу собирались вы мне предложить?
Жюльюс уклонился от ответа под тем предлогом, что текст его еще не готов, а впрочем, было бы неплохо, если бы они до тех пор познакомились поближе.
– Признайтесь, милостивый государь, – ответил Лафкадио весело, – что вчера вы решили познакомиться, еще не дождавшись меня, и что ваши глаза почтили своим вниманием некий блокнотик?..
Ошеломленный Жюльюс сказал смущенно:
– Признаюсь, я это сделал… – И, вернув себе достойный вид: – И прошу за это прощения. В другой раз, будь это возможно, я так бы не поступил.
– Другого раза не будет: я сжег блокнот.
Лицо Жюльюса выразило огорчение:
– Это вас так рассердило?
– Если бы я до сих пор сердился, я бы с вами об этом не заговорил. Простите мне мой тон при начале нашей встречи, – продолжал Лафкадио, твердо решившись идти напролом. – И все же я хотел бы знать, прочли ли вы и отрывок письма, который лежал в блокноте?
Жюльюс не читал отрывка письма, потому что его там не видел, но он воспользовался этим случаем, чтобы заверить в умении хранить тайны. Лафкадио смеялся про себя над ним и над тем, как заставил его притворяться.
– А я вчера малость отыгрался на вашей последней книжке.
– Она не затем писалась, чтобы заинтересовать вас, – поспешно ответил Жюльюс.
– О, до конца я ее не прочел. Должен вам признаться, я не большой охотник до чтения. За всю жизнь мне понравился только «Робинзон»… ах да, еще «Аладдин». Вот я и уронил себя в ваших глазах.
Жюльюс медленно поднял руку вверх:
– Мне вас просто жалко: вы лишаете себя великих радостей.
– У меня есть другие.
– Должно быть, не столь доброкачественные.
– Уж это будьте благонадежны! – Лафкадио рассмеялся с позволительной степенью бесцеремонности.
– И когда-нибудь вы об этом пожалеете, – сказал Жюльюс, несколько задетый его зубоскальством.
– Когда будет уже поздно… – нравоучительно подхватил Лафкадио и вдруг переменил тон: – А вам забавно сочинять?
Жюльюс выпрямился в кресле.
– Я сочиняю не для забавы, – благородно произнес он. – Когда я пишу, то обретаю радости более высокие, чем дает сама жизнь. Впрочем, одно другому не мешает.
– Само собой… – И вдруг, опять возвышая словно по небрежности уроненный тон разговора: – А знаете ли вы, что портит мне почерк? Помарки, поправки, зачеркивания в тексте…
– А вы думаете, в жизни мы ничего не исправляем? – зажегся Жюльюс.
– Вы не так меня поняли. В жизни, говорят, можно исправить себя, можно стать лучше, но нельзя поправить того, что уже сделал. Вот из-за этого права на поправку писательство и получается делом таким нетрезвым, таким… – Он не договорил. – Да-да, вот это мне и кажется прекрасным в жизни: писать приходится по сырой штукатурке. Никаких исправлений быть не может.
– А в вашей жизни многое следовало бы поправить?
– Да нет… пока не очень… А раз все равно нельзя… – Лафкадио помолчал немного, потом сказал: – А ведь как раз из желания что-то исправить я швырнул свой блокнот в огонь! Как видите, слишком поздно. Но признайтесь – вы же там ничего не поняли.
Нет, в этом Жюльюс признаться никак не мог.
– Вы позволите задать вам несколько вопросов? – сказал он вместо ответа.
Лафкадио вскочил так стремительно, что Жюльюс подумал – он хочет убежать, но юноша просто подошел к окну и приподнял кисейную занавеску:
– Это ваш сад?
– Нет, – ответил Жюльюс.
– Милостивый государь, – продолжал Лафкадио не оборачиваясь, – до сих пор я никому на свете не позволял разглядывать никаких подробностей своей жизни. – Он подошел к Жюльюсу, который теперь опять видел в нем просто мальчишку. – Но сегодня у меня праздник; я хочу единственный раз в жизни дать себе отдых. Задавайте свои вопросы, я обязываюсь ответить на все. Да, прежде всего надо вам сказать: я выставил за дверь ту девицу, которая вам вчера открыла.
Из приличия Жюльюс изобразил удрученный вид:
– Из-за меня? Поверьте…
– Да что там, я давно уже думал, как от нее отделаться.
– Вы с ней… жили? – неуклюже спросил Жюльюс.
– Да, гигиены ради… Впрочем, как можно реже и притом в память об одном друге, который был ее любовником.
– Не о господине ли Протосе? – сказал Жюльюс наугад. Он решил подавить в себе всякое возмущение, брезгливость, осуждение и в этот первый день показывать лишь столько удивления, чтобы своими репликами разговорить юношу.
– Да, Протоса! – весело засмеялся Лафкадио. – А хотите знать, кто такой Протос?
– Узнав нечто о ваших друзьях, я, быть может, и о вас что-нибудь смогу узнать.
– Он итальянец, зовут его… честное слово, не помню, да и какая разница! Все товарищи, даже учителя звали его только этим прозвищем – с того дня, когда он вдруг получил первое место за греческое сочинение.
– А я вот и не припомню, бывал ли сам когда-нибудь первым, – сказал Жюльюс, чтобы разговор пошел доверительней, – но водиться с первыми учениками тоже любил. Так, значит, Протос…
– Да ведь дело все в том, что это было на пари. Прежде он в нашем классе всегда был один из последних, хоть и один из самых старших – а я из младших, но, право слово, лучше от этого тоже не учился. Все, что нам преподавали учителя, Протос совершенно презирал, но раз один зубрила, которого он терпеть не мог, ему сказал: легко, дескать, презирать то, к чему не способен, или что-то в этом роде. Тогда Протос завелся, две недели подряд грыз гранит и дошел до того, что на ближайшем сочинении сразу обошел того – а он всегда был первым, – к нашему общему изумлению! Верней сказать – к их общему изумлению. Я-то всегда очень высоко ценил Протоса, так что меня это не сильно удивило. Он мне сказал: «Я им покажу, что не так уж это трудно!» Я ему сразу поверил.
– Если я вас правильно понял, этот Протос оказал на вас большое влияние.
– Может быть. Он мне внушал уважение. По правде сказать, я только раз поговорил с ним по душам, но этот разговор меня так убедил, что на другой день я удрал из пансиона, где чах, словно салат под тентом, и пошел пешком в Баден – там тогда жила матушка с дядюшкой, маркизом де Жевром… Но мы начали с конца. Я так и думал, что вы очень плохо поведете допрос. Дайте-ка я просто расскажу вам про свою жизнь. Вы узнаете гораздо больше, чем могли бы у меня выспросить, – может, даже больше, чем желали бы знать… Нет, спасибо, я лучше свои, – сказал он, доставая свой портсигар и бросая сигарету, поданную было Жюльюсом, которая за разговором уже потухла.
VII
– Родился я в Бухаресте, в 1874 году, – начал он с расстановкой, – и, как вы, полагаю, знаете, через несколько месяцев после рождения потерял отца. Первый человек, которого я запомнил рядом с матушкой, был немец, мой дядюшка барон Хельденбрук. Но его я потерял, когда мне было двенадцать лет, поэтому сохранил о нем довольно смутное воспоминание. Кажется, он был выдающийся финансист. Он учил меня своему родному языку и арифметике такими хитроумными способами, что мне это сразу же стало очень забавно. Он сделал меня, как сам в шутку говорил, своим кассиром, то есть поручал мне свои мелкие деньги, и куда бы я с ним ни отправлялся, расплачивался всегда я. Что бы он ни покупал (а покупал он много), к моменту, когда надо достать из кармана монету или бумажку, я уже должен был подсчитать итог. Иногда он меня озадачивал иностранными деньгами – возникали вопросы обменного курса, потом дисконта, процента и, наконец, даже игры на бирже. За таким занятием я вскоре научился довольно ловко умножать и даже делить многозначные цифры без бумажки… Не беспокойтесь (он увидел, как Жюльюс нахмурил брови): это не привило мне любви ни к деньгам, ни к расчетам. И, если вам это любопытно знать, я никогда не веду счетов. По правде говоря, это начальное образование так и осталось чисто практическим, позитивным, не затронуло во мне никаких пружин… Хельденбрук прекрасно разбирался в гигиене ребенка; он убедил матушку пускать меня гулять без шапки и босиком в любую погоду, как можно больше времени проводить на свежем воздухе; он сам меня купал зимой и летом в ледяной воде – мне это страшно нравилось… Но вам ни к чему все эти подробности.
– Нет-нет, напротив!
– Потом дела позвали его в Америку, и больше я его не видал.
В Бухаресте салон моей матушки был открыт для самой блестящей и, насколько я могу судить по воспоминаниям, донельзя пестрой публики, но запросто у нас чаще всего бывали мой дядюшка князь Владимир Белковский и Арденго Бальди, которого я дядюшкой почему-то не звал. Интересы России (чуть было не сказал Польши) и Италии привели их в Бухарест года на три-четыре. Оба научили меня своим языкам, то есть итальянскому и польскому; по-русски я без большого труда читаю и понимаю, но сам не говорил никогда или всего пару раз. В обществе, которое принимала матушка, меня очень баловали, так что у меня каждый день без исключения был случай поупражняться на четырех-пяти языках, и к тринадцати годам я разговаривал без всякого акцента на всех без различия, но предпочитал все же французский: это был язык моего отца, и матушка постаралась научить меня ему прежде всего.
Белковский много мной занимался, как и все, кто хотел понравиться матушке: создавалось впечатление, что это за мной они ухаживают, – но он-то, я думаю, делал это без расчета: он всегда уступал своим наклонностям, а они у него возникали быстро и вели в самые разные стороны. Он занимался мной даже тогда, когда матушка об этом не знала, и мне всегда были лестны знаки особенного внимания с его стороны. Потихоньку-полегоньку этот странный человек превратил нашу довольно устоявшуюся жизнь в непрестанный безумный праздник. Нет, не довольно сказать, что он уступал своим наклонностям: он устремлялся, бросался на эти наклонные плоскости, он делал свои удовольствия чем-то исступленным.
Три года подряд он возил нас летом на виллу или, лучше сказать, в замок на венгерском склоне Карпат, около Эперьеша. Часто мы ездили туда в экипаже, но еще чаще садились в седло, и ничто не веселило матушку больше, чем скакать наугад по окрестным лесам и полям, а они там очень красивы. Год с лишним я больше всего на свете любил пони, которого мне подарил Владимир.
На второе лето с нами поехал и Арденго Бальди; тогда он и научил меня играть в шахматы. Хельденбрук уже приучил меня к сложным расчетам в уме, и вскоре я мог играть, не глядя на доску.
Бальди с Белковским ладили хорошо. Вечерами в уединенной башне, окруженные тишиной парка и окрестных лесов, мы все вчетвером долго засиживались за картами: хотя я был еще маленький, мне было тринадцать лет, Бальди выучил меня играть в вист, потому что терпеть не мог играть с болваном, а еще и жульничать в картах.
Фокусник, жонглер, акробат – в первое время, когда он явился у нас, мое мальчишеское воображение только-только отходило от долгого поста, который держало при Хельденбруке; я жаждал чудес, был легковерен, зелен и любопытен. Позже Бальди научил меня своим трюкам, но знание их секрета не изгладило первого впечатления тайны от того, как в первый же вечер он преспокойно прикурил от ногтя, как потом, проигрывая, доставал у меня из ушей и из носа столько рублей, сколько ему было нужно; меня это повергало буквально в священный ужас, а всех собравшихся очень веселило, потому что он всякий раз хладнокровно приговаривал: «К счастью, этот малыш – рудник неисчерпаемый».
Если вечером мы с ним и с матушкой оставались втроем, он всегда придумывал какую-нибудь новую забаву, какой-нибудь сюрприз или розыгрыш; он передразнивал всех наших знакомых, корчил такие рожи, что становился вовсе не похож на себя, подражал любым голосам, крикам животных, звукам инструментов, извлекал из себя звуки и вовсе неслыханные, пел, аккомпанируя себе на гузле, плясал, кувыркался, ходил на руках, перепрыгивал через столы и стулья; снимал ботинки и жонглировал ногами на японский манер: вертел на большом пальце ширму или журнальный столик из гостиной; руками он жонглировал еще лучше; скомканная и разорванная бумага вдруг взлетала множеством белых бабочек; я дул на них и разгонял, а он удерживал в воздухе, махая веером. Так все предметы рядом с ним теряли тяжесть реальности, теряли даже существование – или обретали новый смысл, неожиданный, причудливый, вовсе не имеющий отношения к пользе. «Мало есть вещей, которыми не забавно жонглировать», – говорил он. Притом он был такой шутник, что я задыхался от смеха, а матушка восклицала: «Прекратите, Бальди! Кадио не сможет уснуть». Но на самом деле у меня были достаточно крепкие нервы, чтобы выдержать такое возбуждение.
Мне его уроки сильно пригодились; пару месяцев спустя в некоторых проделках я самому Бальди дал бы фору, и даже…
– Я вижу, молодой человек, о вашем воспитании чрезвычайно много заботились, – перебил его Жюльюс.
Лафкадио расхохотался: его очень веселила удрученная физиономия романиста.
– О, это все далеко не зашло, не тревожьтесь! А теперь, не правда ли, пора уже явиться дядюшке Фаби. Он очутился рядом с матушкой, когда Белковского и Бальди перевели на другие места службы.
– Фаби? Это его почерк я видел на первой странице вашего блокнота?
– Да, Фабиан Тэйлор, лорд Гравенсдейл. Он повез нас с матушкой на виллу, которую снял около Дуино на Адриатике; там я сильно окреп. Берег в этом месте выдается большим скалистым полуостровом, который почти весь был занят нашей усадьбой. Там я проводил целые дни дикарем под соснами, среди скал, укрываясь в бухтах, плавая в море, ходя на веслах. К этому времени относится фото, которое вы видали; я его тоже сжег.
– Мне кажется, – сказал Жюльюс, – по этому случаю вы могли бы одеться и попристойнее.
– Да вот как раз и не мог бы, – со смехом возразил Лафкадио. – Фаби запирал на замок все мое платье и даже нижнее белье – чтобы я загорел, говорил он.
– А матушка ваша как к этому относилась?
– Очень забавлялась; если гостям, говорила она, это неприятно, они могут просто уехать. Но никому из тех, кого мы принимали, это оставаться не мешало.
– И все это время ваше образование… о, бедный мальчик!
– Да; я так легко всему обучался, что про образование матушка до той поры забывала; мне уже было почти шестнадцать; матушка словно вдруг это сообразила, и после чудного путешествия по Алжиру вместе с дядюшкой Фаби (думаю, то было лучшее время моей жизни) меня послали в Париж на попечение какого-то неумолимого тюремщика, который занялся моим ученьем.
– Да-да, конечно, я понимаю: после этой чрезмерной свободы принуждение показалось вам довольно суровым.
– Не будь Протоса, я бы его ни за что не перенес. Он жил в одном пансионе со мной – якобы для изучения французского, но он и так на нем отлично говорил, и я так и не понял, что он там делал – так же как и я сам. Я умирал от скуки; не то чтобы у меня были к Протосу дружеские чувства, но я тянулся к нему, как будто бы он должен был принести мне избавление. Он был несколько старше меня, а казался уже совсем взрослым: ничего детского не оставалось в его поступках и вкусах. Когда он хотел, лицо его было чрезвычайно выразительно, могло передать все, что угодно; когда он давал себе отдых – становился похож на дебила. Однажды я пошутил на этот счет, и он мне ответил: в нашем мире надо быть не слишком похожим на то, что ты есть на самом деле.
Ему не довольно было казаться просто не слишком далеким: он очень старался прослыть за полного дурака. Он любил говорить: людей губит, когда они предпочитают упражнению показуху и не умеют скрывать свои дарования, – но это он говорил только мне одному. Жил он, сторонясь других – даже меня, единственного в пансионе, кого он не презирал. Когда мне удавалось его разговорить, он становился на редкость красноречив, но чаще молчал, и тогда казалось, что он обдумывает какие-то дурные замыслы, которые мне хотелось узнать. Когда я спрашивал его: «Что вы здесь делаете?» (на ты с ним никто из нас не был), – он отвечал: «Беру разбег». Он уверял, что в жизни можно выбраться из самых тяжелых положений, вовремя сказав себе: «Это все пустяки!» Так я себе и сказал, решив убежать.
Я ушел с восемнадцатью франками в кармане и дошел до Бадена короткими переходами: невесть что ел, где ни попадя ночевал… На место явился немного потрепанный, но, в общем, довольный собой: у меня оставалось еще три франка; правда, франков пять или шесть еще прибавилось по дороге. В Бадене я нашел матушку вместе с дядюшкой де Жевром, которого мой побег очень позабавил; он решил поехать со мной обратно в Париж, говоря, что ни за что не утешится, если Париж оставит у меня дурное воспоминание. И правда, когда я приехал туда вместе с ним, Париж предстал мне уже в несколько лучшем свете.
Маркиз де Жевр до страсти любил тратить деньги: это было у него постоянной потребностью, родом обжорства; он словно знал, что мне будет приятно помогать ему и подкреплять его аппетиты собственными. В противоположность Фаби, он прививал мне вкус к одежде, и я могу сказать, что недурно ее носил; у маркиза я прошел хорошую школу; его элегантность была совершенно естественна, словно вторая натура. Мы с ним превосходно ладили. Все утро мы проводили вместе у галантерейщиков, обувщиков, портных; особое внимание он обращал на обувь: по ней, говорил он, человека узнаешь вернее и неприметнее для него, чем по всей остальной одежде или чертам лица… Он учил меня тратить, не считая денег и не заботясь заранее, хватит ли мне средств на утоление моих фантазий, желаний и голода. Он принципиально считал, что голод надо утолять в последнюю очередь, потому что (я помню точно его слова) желания с фантазиями появятся и убегут, а голод всегда о себе напомнит, да тем настоятельней, чем дольше будет ждать. Наконец, он научил меня не радоваться вещи больше, оттого что она дорога, или меньше, оттого что она, по случаю, вовсе ничего не стоила.
Так я жил, когда лишился матушки. Телеграмма вдруг вызвала меня в Бухарест; я увидел ее уже в гробу; там я узнал, что после отъезда маркиза она наделала много долгов, так что ее состояния как раз хватило на их уплату, а я не мог уже рассчитывать ни на копейку, ни на пфенниг, ни на грош. Сразу после похорон я вернулся в Париж, где думал найти дядюшку де Жевра, но он внезапно уехал в Россию, не оставив адреса.
Мне ни к чему передавать вам все, о чем я думал тогда. Я, черт побери, имел в запасе кое-какие умения, благодаря которым всегда мог перебиться, но чем больше у меня было в них нужды, тем отвратительнее мне казалось прибегать к ним. К счастью, однажды вечером, бродя по улицам в некоторой растерянности, я встретил Каролу Негрешитти, которую вы видели, – бывшую любовницу Протоса; она меня пристойно приютила. Несколько дней спустя мне сообщили, что по первым числам каждого месяца я могу получать у одного нотариуса маленький пенсион довольно загадочного происхождения; я терпеть не могу наводить лишние справки, и стал его забирать, ни о чем не спрашивая. Потом пришли вы… Теперь вы знаете, в общем, все, что я хотел бы вам рассказать.
– Какое счастье, – важно произнес Жюльюс, – какое счастье, Лафкадио, что вам теперь перепали какие-то деньги; без профессии, без образования, вынуждены жить случайными заработками… такой, каким я вас теперь узнал, вы были бы готовы на все.
– Да ни на что я не был бы готов, – ответил Лафкадио, строго глядя на Жюльюса. – Сколько я вам тут рассказал, а вы меня еще очень плохо знаете. Ничто не останавливает меня так, как нужда, и я всегда искал только того, что на пользу мне не пойдет.
– Например, парадоксов. Думаете, можно ими прокормиться?
– От желудка зависит. Вам угодно называть парадоксами то, что в ваш желудок не лезет. Ну а я скорей бы умер с голоду, чем питался бы тем рагу из логики, каким, как я видел, вы кормите своих героев.
– Позвольте…
– По крайней мере героя вашей последней книги. Вы там изобразили своего отца, правда? И так стараетесь всегда, везде выдержать его последовательным, похожим на себя и на вас, верным своему долгу и своим принципам, то есть вашим теориям… что же я, как вы думаете, могу про это сказать? Смиритесь с правдой, господин де Барайуль: я существо без причин и следствий. Вон я вам сколько наговорил! А еще вчера сам себя считал самым молчаливым, самым замкнутым, самым уединенным из людей. Но это хорошо, что мы так скоро узнали друг друга и впредь к этому не придется возвращаться. Завтра, сегодня же вечером, я вернусь в свой затвор.
Романист, ошеломленный было этими речами, сделал усилие и удержался в седле:
– Будьте прежде всего уверены, что без причин и следствий ничего не бывает ни в физике, ни в психологии, – начал он. – Вы еще не завершили свое развитие…
Его перебил стук в дверь. Но никто не вошел; Жюльюсу пришлось самому выйти из кабинета. Дверь он оставил открытой; до Лафкадио доносились невнятные голоса. Потом настала полная тишина. Лафкадио прождал минут десять и уже собирался уйти, но тут к нему подошел слуга в ливрее:
– Господин граф просил передать господину секретарю, что он его больше не задерживает. Господин граф только что получил дурные вести о своем сиятельнейшем отце и просит извинить его, сударь, что не может попрощаться с вами лично.
По тому, как это было сказано, Лафкадио догадался, что пришла весть о смерти старого графа. Он совладал со своими чувствами.
– Ну что ж, – думал он, вернувшись в тупик Клода Бернара, – время настало. It is time to launch the ship[10]. Откуда бы ветер теперь ни подул, то и ладно. Раз уж рядом со стариком я быть не могу, соберусь-ка я, чтобы отправиться от него еще дальше.
Проходя мимо привратницкой, он передал портье коробочку, которую носил с собой со вчерашнего дня:
– Вечером передайте, пожалуйста, этот пакет госпоже Негрешитти, когда она вернется. И, будьте добры, приготовьте мой счет.
Через час он упаковал чемодан и послал за фиакром. Он уехал, не оставив адреса. Только адрес своего нотариуса.
Книга третья АМЕДЕЙ ЛИЛИССУАР
I
Вскоре после того как графиня Ги де Сен-При, младшая сестра Жюльюса, внезапно вызванная в Париж кончиной графа Жюста-Аженора, вернулась в свой изящный замок Пезак в четырех километрах от По, из которого почти не выезжала с тех пор, как овдовела, а особенно как поженились и встали на ноги ее дети, к ней явились с необыкновенным визитом.
Утром она, как всегда, вернулась с прогулки в легком догкаре, которым правила сама, и тут ей доложили, что в гостиной уже около часа дожидается какой-то капуцин. Незнакомец сказал, что он от кардинала Андре, как удостоверяла и визитная карточка кардинала, которую передали графине. Карточка была в конверте; под фамилией кардинала его тонким, почти женским почерком было написано:
«Рекомендую особенному вниманию графини де Сен-При аббата Жана-Поля Спаса, каноника в Вирмонтале».
Вот и все – этого было довольно; графиня всегда с удовольствием принимала духовных лиц, а кардинал Андре имел над ее душой огромную власть. Одним прыжком она оказалась в гостиной и извинилась, что заставила себя ждать.
Каноник из Вирмонталя был хорош собой; его лицо сияло мужественной энергией, которая странно рассогласовывалась (позволю себе так выразиться) с нерешительной осторожностью его жестов и голоса; удивляли, кроме того, почти седые волосы при молодом и свежем цвете лица.
Несмотря на всю благорасположенность графини, разговор клеился плохо, увязая в условных светских фразах об утрате, недавно постигшей ее, о здоровье кардинала Андре, об очередном провале Жюльюса в академию… Между тем голос аббата становился все медленней и глуше, а лицо все недовольнее. Наконец он встал, но не для прощания:
– Я хотел бы, графиня, от лица кардинала поговорить с вами о важном деле. Но в этой комнате слишком хорошая слышимость, да и множество дверей меня пугает: боюсь, нас тут могут подслушать.
Графиня обожала ужимки и секреты; она ввела каноника в тесный будуар, имевший выход только в гостиную, закрыла дверь:
– Здесь мы в укромном месте. Говорите без всякого страха.
Но аббат, усевшись на пуфе напротив графини, говорить не стал: он вынул из кармана платок, уткнулся в него лицом и зашелся в судорожных рыданиях.
Графиня в растерянности схватила с рядом стоявшего столика рабочую корзинку, нашла там флакон нюхательной соли, задумалась, можно ли предложить ее гостю, и, наконец, решилась понюхать сама.
– Простите меня, – сказал наконец аббат, отняв платок от побагровевшего лица. – Мне известно, графиня, какая вы превосходная католичка, так что вы непременно тотчас же меня поймете и разделите мои чувства.
Душевных излияний графиня Валентина терпеть не могла; благопристойность выражения лица она сберегла за лорнетом. Аббат тут же пришел в себя и подвинул пуф немного ближе:
– Ваше сиятельство, чтобы решиться с вами говорить, мне понадобилось официальное заверение кардинала: да, заверение, данное им, что ваша вера не чета пустой светской вере – простой оболочке неверия…
– Ближе к делу, господин аббат.
– Поэтому кардинал заверил меня, что я могу всецело положиться на ваше умение хранить тайну – подобное, смею выразиться, умению хранить тайну исповеди…
– Но простите меня, господин аббат: если речь идет о каком-то секрете, известном кардиналу – секрете такой важности, – как же он не сообщил мне о нем прямо?
По улыбке аббата графиня сразу догадалась, как неуместен был ее вопрос:
– Письмо? Но, графиня, в наши дни на почте все кардинальские письма вскрываются.
– Он мог бы доверить это письмо вам.
– Верно, графиня, но кто знает, что может случиться с бумагой? Мы под таким надзором… Более того: кардинал предпочитает и сам не знать того, что я вам сейчас сообщу, – быть в этом деле совершенно не замешанным. Ах, графиня, в последний момент смелость и меня покидает. Я не знаю, могу ли…
– Господин аббат, вы меня совсем не знаете, – очень тихо сказала графиня, отворачивая голову и роняя лорнет, – так что во мне не может быть обиды, если ваше доверие ко мне недостаточно велико. Тайны, которые мне доверяют, я храню свято. Бог свидетель, выдавала ли я когда хоть малейший секрет. Но мне еще ни разу не случалось упрашивать поведать мне тайну…
Графиня слегка привстала, словно собравшись уходить. Аббат протянул к ней руки:
– Простите меня, ваше сиятельство! Извольте принять во внимание, что вы первая женщина – первая, говорю вам, – которую давшие мне страшное поручение уведомить вас сочли достойной принять и сохранить в себе этот секрет. И я, признаюсь, со страхом думаю: такое откровение очень тяжко, очень обременительно для женского ума.
– Насчет недостаточных способностей женского ума сильно заблуждаются, – ответила графиня почти неприязненно и, слегка разведя руками, спрятала свое любопытство под отстраненным видом, с каким считала приличным выслушивать важные сообщения, поверяемые Церковью.
Аббат еще немного ближе пододвинул пуф.
Но тайна, которую аббат Спас собирался теперь поведать графине, мне и поныне кажется такой ошеломительной и странной, что я не смею рассказать о ней здесь без пространных оговорок.
Есть роман, а есть история. Самые сведущие критики видели в романе историю, которая могла быть в возможности, а в истории – роман, который был в действительности. И в самом деле надо признать, что воображение романиста часто внушает доверие, а действительные события нашу доверчивость испытывают. К сожалению, иные скептики отрицают факты, если они выходят за рамки заурядности. Не для них я пишу.
Мог ли наместник Бога на земле быть похищен со своего Святого престола и происками Квиринала, так сказать, украден у всего христианского мира – это очень щекотливая проблема, и поднимать ее у меня не станет отваги. Но то, что в конце 1893 года прошел такой слух, – это факт исторический, и достоверно, что еще много лет он смущал многие преданные Церкви души. Несколько газет робко заговорили об этом – их заставили замолчать. В Сен-Мало вышла посвященная этому брошюра[11] – ее изъяли из продажи. Дело в том, что не только масонская партия не была заинтересована поднимать шум по поводу столь гнусного преступления, но и католическая партия не смела принять чрезвычайные сборы, тотчас поступившие по этому поводу, и не соглашалась их возместить. И хотя, несомненно, многие боголюбцы принесли великие жертвы (собранные или растраченные по сему случаю суммы оценивают в полмиллиона), так и осталось под сомнением, все ли получившие эти средства истинно служили Церкви: не был ли из них кое-кто, например, мошенником. Так или иначе, чтобы сладить подобное дело, требовались не твердые религиозные убеждения, а дерзость, ловкость, такт, красноречие, понимание людей и событий, здоровье, похвастать которыми могли только молодцы вроде Протоса – прежнего товарища Лафкадио. Я честно извещаю читателя: он-то сейчас и является перед нами под личиной каноника из Вирмонталя.
Валентина де Сен-При, твердо решив не разжимать больше губ, не менять позы и даже выражения лица, пока не исчерпается весь секрет, бесстрастно слушала мнимого патера, а тот чувствовал себя чем дальше, тем уверенней. Он встал и большими шагами принялся расхаживать по будуару. Для введения в дело он начал его излагать если не с самого начала (ведь главное – распря Церкви с Ложей – существовало всегда, не правда ли?), то с некоторых давних событий, в связи с которыми начались открытые столкновения. Прежде всего он напомнил графине о двух посланиях, изданных папой в декабре 1892 года: одно к итальянскому народу, другое – специально к епископату, предостерегавших против масонских происков; потом, поскольку графине память несколько изменяла, ему пришлось углубиться еще дальше и рассказать об открытии памятника Джордано Бруно по решению и под руководством Криспи, за которым до сей поры скрывалась Ложа. Криспи, говорил он, оскорбился тем, что папа отклонил его предложения, отказался вести с ним переговоры (а под переговорами они понимали соглашение, подчинение!). Он живо обрисовал ей тот трагический день: оба лагеря изготовились к бою; масоны сняли наконец маску, и в то время как дипломатический корпус, аккредитованный при Святом престоле, направился в Ватикан, изъявляя презрение к Криспи и почтение к уязвленному Святейшему Отцу, на Кампо деи Фьори весь орден, развернув стяги, воздвигал свой наглый кумир во славу знаменитого богохульника.
– На состоявшейся вскоре консистории 30 июня 1889 года, – продолжал он все так же стоя, опираясь обеими руками на столик и свесившись над графиней, – Лев XIII выразил свое глубочайшее негодование. Его протест был услышан всем миром, и все христианство содрогнулось, когда он сказал, что готов оставить Рим. Оставить Рим, слышите ли! Все это, графиня, вы уже знаете; вы это перестрадали и помните не хуже моего.
Он снова зашагал по комнате:
– Наконец Криспи лишился власти. Неужели Церковь сможет вздохнуть свободно? Итак, в декабре 1892 года папа издал те два послания. Графиня…
Он снова сел, резко придвинул кресло к канапе и схватил ее за руку:
– Месяц спустя папа был заточен в темницу.
Графиня упорно оставалась безмолвна. Каноник отпустил ее руку и произнес более уравновешенно:
– Ваше сиятельство, я не желал бы стараться разжалобить вас страданьями узника: женское сердце всегда нетрудно встревожить зрелищем несчастья. Я обращаюсь к вашему уму, графиня, и предлагаю вам посмотреть, в какой глубокий хаос погрузились мы, христиане, после исчезновения нашего духовного отца.
На бледном челе графини обозначилась маленькая морщинка.
– Быть без папы ужасно, сударыня. Но это все пустяки: еще ужаснее быть с ложным папой. Ведь чтобы скрыть свое преступление – да что там! – чтобы Церковь сама разоружилась и покорилась Ложе, франкмасоны посадили на папский престол вместо Льва XIII какого-то клеврета Квиринала, какого-то манекена, схожего обликом с их святейшей жертвой, какого-то обманщика, которому мы вынуждены притворно покоряться, чтобы не повредить истинному понтифику, и которому наконец (о стыд!) на юбилее поклонился весь христианский мир.
При этих словах платок, который аббат крутил в руках, разорвался.
– Первым актом лжепапы была пресловутая энциклика к Франции, от которой до сих пор истекает кровью сердце всякого истинного француза. Да, да, ваше сиятельство, я знаю, как ваше великое вельможное сердце страдало, услышав, что Святая Церковь отказалась от святого дела монархии; Ватикан, иными словами, приветствовал республику. Увы! Утешьтесь, сударыня. Вы справедливо изумились этому. Утешьтесь теперь, графиня, – но подумайте, как страдал в плену Святейший Отец, слыша, как некий обманщик объявил его республиканцем!
Он запрокинулся назад и с рыдающим смехом сказал:
– А что подумали вы, графиня де Сен-При, что подумали, когда в качестве комментария к этой энциклике его святейшество дал аудиенцию редактору «Пти журналь»? «Пти журналь», графиня! Фу, гадость! Лев XIII в этой газетенке! Вы же сами чувствуете, что этого не может быть. Ваше благородное сердце уже возопило, что это фальшивка!
– Но, – воскликнула наконец, не сдержавшись, графиня, – об этом же надо возопить по всей земле!
– Нет, сударыня, об этом надо молчать! – грозно прогремел аббат. – Именно об этом и надо молчать: молчать об этом – и делать дело.
Он извинился и продолжил с внезапною слезою в голосе:
– Видите ли вы, что я с вами разговариваю, как с мужчиной?
– Вы правы, господин аббат. Делать дело, сказали вы? Так говорите скорее, что вы решили.
– О, я знал, что встречу в вас благородное мужественное нетерпение, достойное крови Барайулей. Но увы! В нашем случае ничто не может быть страшней несвоевременного усердия. Сегодня об этом гнусном злодействе, графиня, уведомлены немногие избранные, и нам непременно нужно рассчитывать на их совершенное молчание, на их полнейшее повиновение указаниям, которые будут им даны в благоприятное время. Кто действует не с нами, тот действует против нас. И помимо церковного осуждения… это все пустяки! – помимо возможного отлучения от Церкви, всякая частная инициатива встретит категорический прямой запрет нашей партии. Здесь, ваше сиятельство, речь идет о крестовом походе: именно крестовом походе, но тайном. Простите, что я так упорно на этом настаиваю, но мне нарочно поручено кардиналом предупредить вас об этом; сам же кардинал об этой истории ничего не хочет знать и даже не поймет, о чем его спрашивают, если заговорить с ним об этом. Кардинал не желает признать, что видел меня, и если даже впоследствии ход событий вновь сведет нас – условимся, что мы с вами никогда не разговаривали друг с другом. Вскоре Святейший Отец сможет вознаградить тех, кто верно ему служил.
Несколько разочарованная, графиня несмело выдвинула свой аргумент:
– А как же тогда?
– Мы делаем дело, ваше сиятельство, – не тревожьтесь, мы делаем. И отчасти мне даже дозволено открыть вам план кампании.
Он глубоко уселся в кресло прямо против графини, она же подняла руки к лицу и так застыла: грудь вперед, локтями опершись на колени, лицо обхватив ладонями.
Вначале аббат рассказал, что папа заточен не в Ватикане, а, вероятно, в замке Святого Ангела, который, как графиня, конечно, знает, соединен с Ватиканом подземным ходом; что, конечно, было бы совсем не трудно вытащить его из этой темницы, если бы не суеверный страх его слуг перед масонством, хотя сами они всем сердцем с Церковью. Ложа на то и рассчитывала: пример понтифика, лишенного власти, должен наполнить ужасом все души. Никто из слуг не соглашался содействовать без твердого обещания отправить его куда-нибудь далеко, в недосягаемое для гонителей место. Значительные суммы были выделены на этот предмет людьми весьма благочестивыми, чья верность в тайне испытана. Теперь оставалось устранить лишь одно препятствие, но оно требовало больше усилий, чем все остальные, вместе взятые. Ибо это препятствие – некий принц, главный тюремщик Льва XIII.
– Помните ли вы, графиня, какой тайной до сих пор окутана двойная смерть эрцгерцога Рудольфа, наследника престола Австро-Венгрии, и его юной супруги, которую нашли рядом с ним при последнем издыхании, – Марии Вечеры, племянницы княгини Грациоли? Они только что сыграли свадьбу. Самоубийство, говорят нам! Пистолет там был только ради обмана общественного мнения: правда в том, что оба были отравлены. Увы! Кузен эрцгерцога, и сам великий герцог, безумно влюбленный в Марию, не вынес, увидев ее за другим… После этого ужасного злодеяния Иоанн-Сальвадор Лотарингский, сын великой герцогини Тосканской Марии-Антуанетты, оставил двор императора Франца Иосифа, своего родственника. Зная, что в Вене его преступление раскрыто, он отправился выдать самого себя папе – умолять его о прощении, разжалобить его. Прощение он получил. Но под предлогом епитимии кардинал Монако-Ла-Валетт заточил его в замке Святого Ангела, где он и томится уже три года.
Все это каноник рассказал довольно ровным голосом; потом немножко выждал, притопнул ногой и добавил:
– Его-то Монако и сделал главным тюремщиком Льва XIII.
– Как! – воскликнула графиня. – Кардинал! Разве может кардинал быть франкмасоном?
– Увы! – сказал задумчиво каноник. – Ложа глубоко поразила Церковь. Вы можете понять, ваше сиятельство, что если бы Церковь была способна сама защищаться лучше, ничего бы и не случилось. Ложа могла захватить особу Святейшего Отца лишь при содействии некоторых весьма высокопоставленных своих собратьев.
– Но это ужасно!
– Что вам еще сказать, графиня? Иоанн-Сальвадор считает себя пленником Церкви, хотя в плену его держат франкмасоны. Он ничего не согласен сделать для освобождения Святейшего Отца, если ему самому не помогут бежать вместе с ним, а бежать ему надо непременно очень далеко: в такую страну, из которой нет выдачи. Он требует двести тысяч франков.
Слушая посетителя, графиня отступала назад, опустив руки и запрокинув голову назад; при последних словах она слабо простонала и потеряла сознание. Каноник бросился к ней:
– Очнитесь, графиня! – Он похлопал ее по рукам. – Это все пустяки! – Он поднес ей к носу флакон с солью. – Сто сорок тысяч из этих двухсот у нас уже есть. – (Графиня приоткрыла глаза.) – Но герцогиня де Лектур соглашается дать лишь пятьдесят тысяч, а нужно шестьдесят.
– Вы их получите, – почти неслышно прошептала Валентина де Сен-При.
– Церковь не сомневалась в вас, ваше сиятельство.
Он встал очень важно, почти церемониально, выдержал паузу и сказал:
– Графиня де Сен-При, я всецело доверяю вашему великодушному обещанию, но примите во внимание беспримерные трудности, которые будут сопровождать, осложнять, а может быть, совершенно препятствовать передаче этой суммы: суммы, о которой вы сами, повторяю, должны забыть, получение которой я сам должен быть готов отрицать, и даже расписку в ней мне не дозволено выдать вам… Осторожности ради я могу получить ее лишь из рук в руки – из ваших рук в мои. Мы под надзором. Мой приезд в ваш замок может подать повод для слухов. Всегда ли мы уверены в наших слугах? Подумайте о выборах графа де Барайуля. Мне сюда никак не следует возвращаться.
Сказав эти слова, он остался, как приклеенный к полу, не двигаясь и ничего не говоря. Графиня поняла:
– Но, господин аббат, вы же понимаете, что такой огромной суммы при мне сейчас нет. К тому же…
Аббат нахмурился, так что она не осмелилась сказать, что ей нужно некоторое время, чтобы эти деньги собрать (она ведь намеревалась раскошелиться не одна), а лишь прошептала:
– Как же быть?.. – И, поскольку аббат хмурился все сильнее: – Наверху у меня есть кое-какие вещицы…
– Фу, сударыня, что вы! Вещицы – это всего лишь сувениры. Вы хотите, чтобы я взялся за ремесло перекупщика? И вы думаете, я смогу соблюдать осторожность, стараясь продать их как можно дороже? Будет риск, что я выдам и вас, и все наше дело.
Внезапно из важного голос его стал резким и жестким. У графини же голос немного дрожал:
– Погодите минутку, господин каноник, я посмотрю, что у меня есть в ящиках…
Вскоре она спустилась. В руке у нее была зажата пачка синих бумажек.
– К счастью, я только что получила арендную плату, так что могу сейчас же дать вам шесть с половиной тысяч франков.
Каноник пожал плечами:
– И что мне, по-вашему, с ними делать?
С грустным презрением, благородным движением руки он отстранил графиню от себя:
– Нет, ваше сиятельство, нет, я не возьму эти купюры. Их я возьму только вместе с другими. Я цельный человек, мне нужно все целиком. Когда вы сможете передать мне всю сумму?
– Сколько времени вы мне дадите? Неделю? – спросила графиня, все еще надеясь собрать деньги у знакомых.
– Графиня де Сен-При, неужели церковь ошиблась? Неделя? Я скажу вам только два слова: папа ожидает! – Он воздел руки к небу. – Что же это! Вы удостоены чрезвычайной чести, в ваших руках его спасение, а вы медлите! Страшитесь, графиня, страшитесь, как бы Господь наш в день вашего спасения не заставил несостоятельную душу вашу так же медлить и томиться у райских врат!
Он стал грозен и страшен, потом вдруг поднес к губам крестик на четках и забылся в краткой молитве.
– Но мне же нужно время написать в Париж? – в отчаянье простонала графиня.
– Пошлите телеграмму! Пусть ваш банкир перечислит шестьдесят тысяч в парижское отделение «Земельного кредита», а они телеграфом дадут своему отделению в По распоряжение выплатить вам означенную сумму. Пустяковое дело.
– У меня есть деньги на счету в По, – решилась она.
– В банке?
– Как раз в «Земельном кредите».
Тут аббат совершенно возмутился:
– О! Ваше сиятельство, что же вы так долго крутили, пока не сказали это мне? Так-то вы показываете ваше усердие? Что вы скажете, если теперь я вовсе откажусь от вашего содействия?
Он заходил по комнате, заложив руки за спину, словно заранее настроенный против всего, что может услышать:
– Это более, нежели теплохладность, – он пощелкал языком, показывая свое отвращение, – это почти служение двум господам…
– Господин аббат, умоляю вас…
Еще с минуту аббат ходил все так же насупленно и непреклонно. Наконец сказал:
– Вы, я знаю, знакомы с аббатом Буденом; сегодня я с ним как раз обедаю… – он вынул из кармана часы, – и уже опаздываю. Выпишите чек на его имя; он получит за меня эти шестьдесят тысяч и тут же мне передаст. Когда увидите его, скажите просто, что это вклад на поминальную часовню; он человек не болтливый, знает жизнь и допытываться ни до чего не станет. Ну! Чего вы еще ждете?
Графиня, в забытьи лежавшая на канапе, встала, подошла к маленькому секретеру, открыла его, достала оливковый блокнот и продолговатыми буквами исписала одну из его страниц.
– Простите меня, ваше сиятельство, что я сейчас был с вами несколько резок, – сказал аббат, смягчившись, принимая протянутый чек. – Ведь сейчас на карте столько стоит!
Он положил чек во внутренний карман.
– Благодарить вас было бы нечестиво, не правда ли? Даже во имя того, в чьих руках я всего лишь недостойное орудие…
Он всхлипнул, спрятав рыдание в галстуке, но тут же опомнился, топнул ногой и торопливо прошептал что-то не по-французски.
– Вы итальянец? – спросила графиня.
– Испанец. Прямота моих чувств выдает меня.
– Но не акцент. Впрочем, вы очень чисто говорите по-французски.
– Вы мне льстите, графиня. Простите, что покидаю вас так поспешно. Благодаря нашей маленькой комбинации я уже вечером смогу быть в Нарбонне, где меня с нетерпением ожидает архиепископ. Прощайте!
Он взял ее за обе руки и, чуть откинувшись, пристально посмотрел ей в глаза:
– Прощайте, графиня де Сен-При, и помните: одно ваше слово может все погубить.
Не успел он выйти, как графиня бросилась к звонку:
– Амелия, скажите Пьеру, чтобы коляска дожидалась меня готовая, после обеда сразу поедем в город. Да, вот еще! Пусть Жермен садится на велосипед и сейчас же отвезет госпоже Лилиссуар записочку – вот эту…
Стоя у секретера, который так и оставался открытым, она написала:
«Милостивая государыня, я сейчас к вам заеду. Ждите меня часа в два, у меня к вам очень важное дело. Сделайте так, чтобы мы были только вдвоем».
Подписалась, запечатала конверт и отдала его Амелии.
II
Госпожа Лилиссуар, урожденная Пьерди, младшая сестра Вероники Арман-Дюбуа и Маргариты де Барайуль, носила нелепое имя Арника. Ботаник Филибер Пьерди, при Второй империи довольно известный своими злоключениями в браке, смолоду намеревался называть будущих детей цветочными именами. Имя Вероника, полученное старшей дочерью, кое-кто из знакомых счел не совсем обычным, но когда после Маргариты отец стал слышать, что опошлился, уступил общим вкусам, скатился в заурядность, он возмутился и сразу же решил третье свое произведение наградить именем столь откровенно ботаническим, что все злые языки смолкнут.
Характер у Филибера быстро портился, и вскоре после рождения Арники он расстался с женой, оставил столицу и переехал в По. Супруга его зиму проводила в Париже, но с первыми вешними деньками возвращалась в Тарб – свой родной город, – и селила у себя в старом фамильном доме двух старших дочерей.
Вероника и Маргарита делили год между По и Тарбом. Маленькой же Арникой мать и сестры пренебрегали – и действительно она, по правде сказать, была простовата и не столько хороша собой, сколько трогательна, – так что зимой и летом она оставалась при отце.
Самой большой радостью девочки было собирать вместе с ним гербарий вокруг города, но часто этот маньяк, поддаваясь озлобленному настроению, оставлял ее дома, один отправлялся в нескончаемый поход, возвращался, не чуя ног, и после ужина сразу кидался в кровать, не одарив дочку ни словом, ни улыбкой. В поэтические минуты он играл на флейте, без конца твердя все одни и те же мелодии. Все остальное время скрупулезно вырисовывал портреты разных цветов.
За ребенком смотрела старая служанка по прозвищу Резеда, ведавшая кухней и прочим хозяйством; она потихоньку учила Арнику тому немногому, что знала сама. При таком воспитании девочка к семи годам еле-еле читала. В конце концов уважение к окружающим все же надоумило Филибера отдать Арнику в пансион вдовы Семен, преподававшей начатки знаний дюжине девочек и нескольким очень маленьким мальчикам.
До этого дня Арника Пьерди, беззащитная и беззлобная, даже не подозревала, какая у нее смешная фамилия. Поступив в пансион, она убедилась в этом немедленно; под волной насмешек девочка согнулась, как лента водоросли, покраснела, побледнела, заплакала, а госпожа Семен разом наказала за непристойное поведение весь класс и своим неловким поступком безобидные поначалу шуточки сделала злобными.
Длинная, дряблая, хилая, хмурая стояла Арника посередине маленького класса, а когда госпожа Семен указала: «Садись, Пьерди, за третью парту слева», – все началось пуще прежнего, невзирая на любые учительские кары.
Бедняжка Арника! Жизнь уже простиралась перед нею длинной пустынной дорогой, обсаженной колкостями, с обидами на обочинах. По счастью, госпожа Семен не осталась бесчувственной к ее страданиям, и вскоре малышка обрела убежище у колен вдовицы.
Арника частенько оставалась после уроков в пансионе, потому что отца можно было дома и не застать. У госпожи Семен была дочь лет на семь старше Арники, немножко горбатая, но симпатичная; в надежде зацепить ей мужа, госпожа Семен воскресными вечерами принимала гостей, а дважды в год даже устраивала маленькие домашние утренники с декламацией и танцульками; туда являлись некоторые бывшие воспитанницы в сопровождении родителей – из благодарности, и некоторые молодые люди без средств и без будущего – от нечего делать. Арника тоже бывала на всех этих сборищах: цветочек невзрачный, скромный до неприметности – и все же ее приметили.
В четырнадцать лет она лишилась отца, и вдова Семен приютила сироту; сестры были гораздо старше ее и навещали только изредка. Но в одну из таких редких встреч Маргарита и увидела в первый раз того, кто два года спустя стал ее мужем: Жюльюс де Барайуль, которому тогда было двадцать восемь лет, приехал в деревню к своему деду Роберу, поселившемуся, как мы уже говорили, в окрестностях По через малое время после присоединения герцогства Пармского к Франции.
Блестящий брак Маргариты (впрочем, девицы Пьерди были не вовсе бесприданницы) сделал сестру еще более недосягаемой в ослепленных глазах Арники; она понимала: никогда, склонившись над ней, не вдохнет ее аромат никакой граф, никакой Жюльюс. Завидно было и то, что сестре удалось распрощаться с обидной фамилией Пьерди. Маргарита – имя прелестное; как чудно оно звучало вместе с фамилией де Барайуль! И увы – с любой замужней фамилией останется просто смешным имя Арника.
Бунтуя против действительности, ее нерасцветшая истерзанная душа попробовала обратиться к поэзии. В шестнадцать лет она обрамляла свое бледное лицо висячими локонами, которые зовут «покаянными», а ее задумчивые голубые глаза сами дивились соседству с черными волосами. Голос ее был бесцветен, но нисколько не груб; она декламировала стихи и пыталась сама писать их. Поэтичным она считала все, что давало ей бежать от жизни.
Завсегдатаями вечеров госпожи Семен были два юноши, которых с самого детства сблизила друг с другом нежнейшая дружба. Один был не слишком высок, но сутул, не столько худ, сколько сухощав, с волосами не столько светлыми, сколько белесыми, с гордым носом и робким взглядом: то был Амедей Лилиссуар. Другой, коротенький и толстый, с жесткими черными волосами над низким лбом, по странной привычке всегда ходил со склоненной на левое плечо головой, с раскрытым ртом и протянутой вперед правой рукой: вот описание Гастона Блафаффаса. Отец Амедея был мраморщик, делал надгробные памятники и торговал похоронными венками; Гастон был сыном крупного аптекаря.
(Как ни странно может показаться, фамилия Блафаффас очень распространена в деревнях предгорий Пиренеев, причем она еще и пишется по-разному, так что в одном лишь большом селе, где автору этих строк пришлось принимать экзамены, встретились вывески нотариуса Блаффаффаса, цирюльника Блафафаза и мясника Блаффафасса; на мой вопрос они отказывались признать между собой какое-либо родство, и каждый из них довольно презрительно говорил, что другие варианты его фамилии весьма неизящны по написанию. Но эти филологические заметки могут заинтересовать лишь крайне ограниченный круг читателей.)
Как жили бы Лилиссуар и Блафаффас друг без друга? И представить себе невозможно. На переменах в лицее они всегда держались вместе; над ними непрестанно глумились – они друг друга утешали, поддерживали, помогали терпеть. Их прозвали Блафафуарами. Обоим дружба их казалась ковчегом спасения, оазисом в беспощадной пустыне жизни. Не успевал один вкусить какую-либо радость, как желал уже разделить ее с другом, или, вернее сказать, ничто для них не было радостью, если они ее вкушали без друга.
Учились они неважно, несмотря на усидчивость, не позволявшую придираться, были по природе невосприимчивы к культуре любого рода и всегда оставались бы в классе последними, если бы не помощь Эвдокса Левикуана, который за небольшое вознаграждение исправлял или даже сам делал за них задания. Этот Левикуан был младшим сыном одного из главных ювелиров города. (За двадцать лет до того ювелир Леви женился на единственной дочери ювелира Коэна, а вскоре – когда дела его процвели и он перебрался из нижнего города поближе к казино – решил соединить и склеить обе фамилии, как соединил он и обе фирмы.)
Блафаффас был крепкого сложения, Лилиссуар же деликатного. С приближением отрочества облик Гастона посуровел, жизненные соки словно выдавили волос по всему его телу, меж тем как нежная кожа Амедея упрямилась, вздувалась, воспалялась, как будто волосам приходилось пускаться на всякие хитрости, чтоб пробиться. Блафаффас-отец порекомендовал кровоочистительное, и каждый понедельник Гастон приносил и тайком передавал другу бутылочку противоцинготного сиропа. Пользовались они и помадой.
В это же время Амедей в первый раз простудился; простуда, несмотря на мягкий климат По, никак не желала проходить всю зиму и оставила после себя неприятную слабость в области бронхов. Для Гастона это был повод к новым заботам: он пичкал друга лакрицей, повидлом из жожобы, исландским мхом и пастилками от кашля на эвкалиптовой основе, которые старший Блафаффас делал сам по рецепту одного старого кюре. Амедей то и дело подхватывал катар и поневоле теперь никуда не выходил без шарфа.
Амедей не имел никаких целей в жизни: только наследовать отцу. Гастон же, хотя и неповоротливый с виду, оказался не лишен хитроумия; уже в лицее он придумывал всякие штучки, больше, по правде сказать, забавные: мухоловку, весы для шариков, замок с секретом для своей парты, в которой секретов было, впрочем, не больше, чем в сердце изобретателя. Как бы ни были малополезны первые приложения его предприимчивости, они не могли не привести его к более серьезным занятиям, первым плодом которых стала «дымопоглощающая гигиеническая трубка для слабогрудых и иных курильщиков», долго украшавшая витрину аптекаря.
Амедей Лилиссуар и Гастон Блафаффас вместе влюбились в Арнику: это было роковой неизбежностью. Удивительное дело! Возникшая страсть, в которой они тотчас же друг другу признались, не разделила их, а лишь крепче спаяла. Правда, Арника поначалу ни одному, ни другому не давала поводов для ревности. Из них, впрочем, тоже никто не объяснялся с ней, и Арника ни за что не догадалась бы об их пламени, как ни дрожали их голоса, когда на маленьких семейных вечерах у госпожи Семен, где они были как дома, она подносила им лимонад, чай из вербены или ромашки. А потом, возвращаясь домой, оба они восхваляли ее скромность и грацию, беспокоились об ее бледности, подбадривали друг друга…
Они договорились объясниться в один вечер, вместе, а затем положиться на ее выбор. Арника – совершенный новичок перед лицом любви – в изумлении и в простоте сердца благодарила небо. Она попросила вздыхателей дать ей время на раздумье.
На самом деле у нее не было склонности ни к тому, ни к другому: они ей были интересны лишь оттого, что им была интересна она, а она уж было смирилась с тем, что никому не интересна. Полтора месяца, все больше теряясь, она тихонько упивалась параллельными знаками преданности от своих кавалеров. И покуда Блафафуары на своих ночных прогулках прикидывали, насколько продвинулся каждый из них, пространно и безотлагательно описывая друг другу малейшее слово, улыбку, взгляд, которыми бывали вознаграждены, Арника, запершись в комнате, писала на бумажках, которые тут же сжигала на свечке, и непрестанно твердила то: Арника Блафаффас? – то: Арника Лилиссуар? – и не могла никак выбрать между этими ужасными именами.
Потом вдруг, в день, когда были танцы, она выбрала Лилиссуара: ведь Амедей теперь назвал ее Арни́ка, с ударением на предпоследнем слове – на итальянский, как ей показалось, манер. (Он сам этого не заметил, случилось же это, конечно, затем, что фортепьяно девицы Семен всему задавало свой ритм в этот миг.) Имя его – Амедей – тоже ей сразу предстало исполненным нежданной музыки, способным выразить любовь и поэзию… Они остались вдвоем в маленькой комнатке рядом с гостиной, так близко друг к другу, что когда Арника, обессилев, уронила отяжелевшую от благодарности голову, она лбом коснулась плеча Амедея, а тот очень важно взял в ответ ручку Арники и поцеловал ей кончики пальцев.
Когда на обратном пути Амедей объявил о счастье своем другу своему Гастону, тот, против обыкновения, ничего не сказал, а когда они проходили мимо фонаря, Лилиссуару показалось, что он плачет. Как ни велика была наивность Амедея – не мог же он и впрямь думать, что друг до самого конца сможет делить его счастье… Весьма смутившись, он тут же обнял Блафаффаса (улица была пустынна) и поклялся, что, сколь ни велика его любовь, дружба гораздо сильнее, что, по его мнению, после женитьбы она нимало не должна ослабеть, что, наконец, чем видеть, как Блафаффас страдает от ревности, он готов ему обещать никогда не пользоваться своими супружескими правами.
Ни Блафаффас, ни Лилиссуар не обладали особенно бурным темпераментом, но Гастона мужская природа тревожила несколько больше; он промолчал и не помешал Амедею связать себя словом.
Вскоре после женитьбы Амедея Гастон, ушедший, себе в утешение, с головой в работу, изобрел пластический картон. Это изобретение, поначалу казавшееся пустяковым, прежде всего укрепило увядшую несколько дружбу между Блафафуарами и Левикуаном. Эвдокс Левикуан сразу же почуял, как может пригодиться новый материал для производства церковных статуй; с великолепным чувством конъюнктуры он сразу же окрестил его «римским картоном»[12]. Так была основана фирма «Блафаффас, Лилиссуар и Левикуан».
Дело было запущено на шестьдесят тысяч франков уставного капитала, из которых Блафафуары скромно подписались вдвоем всего лишь на десять, а Левикуан, категорически не желая обременять друзей долгами, щедро вложил остальные пятьдесят. Правда, сорок тысяч из этих пятидесяти дал взаймы, взяв их из приданого Арники, Лилиссуар сроком на десять лет под совокупный процент 4,5: это было больше, чем Арника отроду могла надеяться получить, и защищало небольшое состояние Амедея от крупных рисков, которых не могло избежать подобное предприятие. Зато, когда римский картон доказал свои достоинства, Блафафуары привлекли свои связи и связи Барайулей – иными словами, протекцию высшего духовенства, которое (помимо нескольких серьезных заказов) убедило многие маленькие приходы обратиться к фирме БЛЛ для удовлетворения растущих потребностей верующих, чье художественное воспитание постоянно совершенствуется и требует произведений искусства более изящных, нежели те, которыми до сей поры удовлетворялась грубая вера предков. Ради этого некоторые художники признанного Церковью достоинства, связанные с производством римского картона, добились наконец того, что их произведения были одобрены жюри Салона. Блафафуаров Левикуан оставил в По, а сам поселился в Париже, где, благодаря его сметке и хватке, фирма вскоре существенно расширилась.
Что же может быть естественней, если графиня Валентина де Сен-При пожелала через Арнику заинтересовать фирму Блафаффаса в тайном деле освобождения папы? Что она полагалась на великое благочестие Лилиссуаров, чтобы частично возместить свои расходы? К несчастью, поскольку при основании дела Блафафуары вложили не много, они мало и получали: две двенадцатых от доходов на уставный капитал, а сверх этого ничего вообще. Этого-то и не знала графиня, потому что Арника, а равно и Амедей были крайне стыдливы в отношении своего кошелька.
III
– Графиня, дорогая моя! Что случилось? Меня так испугало ваше письмо!
Графиня рухнула в кресло, подвинутое для нее Арникой.
– Ах, госпожа Лилиссуар… нет, позвольте мне называть вас «друг мой»! Горе нас сближает… оно коснулось и вас… Ах, если бы вы только знали!
– Говорите же, говорите! Не томите меня ожиданием.
– Но то, что я сейчас узнала и скажу вам, должно остаться секретом между нами.
– Я еще никогда не злоупотребляла ничьим доверием, – молвила Арника с горестью: до сих пор ей никогда никаких секретов не доверяли.
– Вы не поверите!
– Поверю, поверю! – стонала Арника.
– Ах! – простонала и графиня. – Послушайте, вы не будете так любезны приготовить мне чашечку… чего-нибудь? Я чувствую, что лишаюсь сил.
– Хотите вербены? липы? ромашки?
– Не важно… лучше, пожалуй, чаю… Я сначала не хотела верить.
– На кухне есть кипяток… одну минуточку – и готово.
И покуда Арника занималась чаем, глаза графини не без цели изучали гостиную. Вся обстановка обескураживала скромностью. Стулья обиты зеленым репсом, одно кресло – гранатовым бархатом, другое, в котором сидела графиня, – простым сукном; стол, консоль красного дерева; перед камином мохнатый шерстяной коврик; на камине алебастровые часы под стеклянным колпаком, а с двух сторон от них большие ажурные алебастровые вазы, тоже под колпаками; на столе альбом семейных фотографий; на консоли Богоматерь Лурдская в своей пещере из римского картона (уменьшенная копия) – все это удручало графиню; она так и чувствовала, как падает духом.
Но может быть, они просто сквалыжничают, просто прикидываются бедными…
Вернулась Арника с чайником, сахаром и чашкой на подносе.
– Я вас так утруждаю…
– О, что вы, помилуйте! Только мне лучше приготовить все сразу: потом уже сил не будет.
– Так вот что, – начала Валентина, когда Арника уселась. – Святейший…
– Нет! Не говорите этого! Не говорите! – тотчас произнесла госпожа Лилиссуар, вытянув руку перед собой, потом тихонько вскрикнула и с закрытыми глазами упала навзничь.
– Бедный друг мой! Дорогой бедный друг мой! – твердила графиня, щупая ей пульс. – Я же знала, что этот секрет будет выше ваших сил…
Наконец Арника приоткрыла глаза и грустно прошептала:
– Он умер?
Тогда Валентина склонилась к ней и сказала на ухо:
– Он в темнице.
Изумление привело госпожу Лилиссуар в чувство; и тогда Валентина начала долгий рассказ; в датах она была нетверда, в хронологии путалась, но один факт, неоспоримый и достоверный, был налицо: Верховный понтифик попал в руки неверных; для его освобождения тайно собирается крестовый поход, а для успеха похода прежде всего требуется много денег.
– Но что скажет Амедей? – стонала Арника в полной растерянности.
Он пошел на прогулку со своим другом Блафаффасом и вернуться должен был только вечером.
– Главное, велите ему хорошенько хранить тайну, – несколько раз повторила Валентина, прощаясь с Арникой. – Поцелуемся, дорогой друг мой; не падайте духом! – Арника сконфуженно подставила графине повлажневший лоб. – Завтра я заеду узнать, что вы, по-вашему, сможете сделать. Посоветуйтесь с господином Лилиссуаром, но не забывайте: здесь судьба Церкви! И, само собой разумеется, – только вашему мужу. Вы обещаете мне, правда? Ни слова, ни единого слова!
Графиня де Сен-При оставила Арнику до того без сил, что почти без чувств. Когда Амедей пришел с прогулки, она тотчас сказала:
– Друг мой, я только что узнала невероятно печальную новость. Бедный папа римский в темнице.
– Не может быть! – сказал Амедей таким тоном, как сказал бы: «Ну и что?»
Тогда Арника разрыдалась:
– Я знала, знала, что ты мне не поверишь…
– Но погоди, погоди, дорогая… – продолжал Амедей, снимая пальто, без которого почти никуда не ходил, боясь резких перепадов температуры. – Посуди сама! Если бы кто-нибудь тронул Святейшего Отца, об этом все знали бы… В газетах было бы… Да и кто же мог его заточить в темницу?
– Валентина говорит, Ложа.
Амедей посмотрел на Арнику, думая, что она сошла с ума. Впрочем, он ей ответил:
– Ложа? Какая Ложа?
– Откуда же мне знать? Валентина обещала никому не говорить.
– А ей кто это сказал?
– Она не велела мне рассказывать… Один каноник, он приехал к ней от какого-то кардинала, с его карточкой…
Арника ничего не понимала в общественно важных делах, и обо всем, что ей рассказала госпожа де Сен-При, у нее сохранилось только общее смутное представление. При словах «темница», «заточение» в ее глазах вставали мрачные романтические образы, слова «крестовый поход» приводили ее в совершенное возбуждение, и когда Амедей наконец в смятении сказал, что сам поедет в Рим, она увидела его на коне, в латах и рыцарском шлеме… Пока же он ходил кругами по комнате и говорил:
– Во-первых, деньги; у нас их нет… И ты думаешь, от нас только и нужно – дать денег! Ты думаешь, я расстанусь с парой тысячных купюр и смогу спокойно спать! Нет, дорогая, если то, что ты мне рассказала, правда, это кошмар, и покоя теперь нам не будет. Кошмар, понимаешь?
– Да, конечно, я знаю, кошмар… Только ты мне все-таки растолкуй… почему кошмар?
– Так это еще объяснять надо! – Амедей воздел руки к небу; на висках у него проступил пот. – Нет-нет! – заговорил он снова. – Тут надобно отдать не деньги, а самого себя! Я поговорю с Блафаффасом: увидим, что-то он скажет.
– Валентина взяла с меня клятвенное обещание ни с кем не говорить об этом, – робко заметила Арника.
– Блафаффас – это не кто-нибудь, и мы строго велим ему, чтобы от него уже больше никому.
– Как же ты уедешь, чтобы никто не узнал?
– Будут знать, что я уехал, а куда поехал – не будут. – Он повернулся к ней и патетически взмолился: – Арника, дорогая! Отпусти меня!
Она рыдала. Теперь уже ей требовалась поддержка Блафаффаса. Амедей собрался сходить за ним, но тут он и сам явился, постучав, по обыкновению, в окно гостиной.
– В жизни не слышал интересней истории! – воскликнул он, когда его ввели в курс дела. – Нет, в самом деле, кто мог ожидать чего-нибудь подобного? – И не успел еще Лилиссуар хоть что-то сказать о своих намерениях, Гастон заявил: – Друг мой, нам теперь остается одно: ехать туда.
– Видишь, – сказал Амедей, – и у него это самая первая мысль.
Вторая же мысль оказалась такая:
– Но меня, к сожалению, держит здесь нездоровье моего дорогого отца.
– Что ж, оно и лучше мне отправиться одному. Вдвоем мы будем слишком приметны.
– Но ты хоть знаешь, что делать?
В ответ Амедей выпрямил спину и поднял брови, желая сказать: «Сделаю все, что смогу, о чем ты!»
Блафаффас продолжал:
– Ты знаешь, к кому обращаться? Куда ехать? Да и что ты вообще будешь там делать?
– Прежде всего разузнаю, как оно там.
– Ну а если это все-таки все неправда?
– Вот именно: я не могу так и оставаться в сомнении.
На что Гастон тотчас откликнулся:
– И я не могу!
– Подумай еще, друг мой, – сделала робкую попытку Арника.
– Я все обдумал. Поеду тайком, но поеду.
– Когда? У тебя ничего не готово.
– Нынче же в ночь. Что мне, собственно, нужно?
– Ты ведь никогда не путешествовал. Ты и не знаешь, что нужно.
– Увидишь, малышка, все будет в порядке. Я вам расскажу, что со мной там приключится, – сказал он с благодушным смешком, от которого у него заходил кадык.
– Ты же наверняка простудишься!
– Я надену твой шарф.
Он перестал расхаживать и приставил кончик пальца Арнике к подбородку, как приставляют младенцам, чтобы они улыбнулись. Гастон держался сдержанно. Амедей подошел к нему:
– У меня к тебе просьба: загляни в справочник. Скажи мне, когда есть хороший поезд на Марсель, чтобы там был третий класс. Нет-нет, только третьим, непременно! Словом, приготовь мне подробное расписание: где пересаживаться, где есть буфет; все это до границы; дальше я уж буду на пути, разберусь как-нибудь, и Бог меня до Рима доведет. Пишите мне туда до востребования.
Важность миссии опасно горячила ему голову. Гастон уже ушел, а он все еще мерил шагами комнату.
– Лишь бы это было назначено мне! – шептал он, полон восторга и сердечной благодарности: жизнь его наконец обретала смысл. Ах, сударыня, пожалейте его, не держите! На земле так мало людей, которые смогли найти свое настоящее дело.
Арника добилась от него лишь согласия остаться с ней еще одну ночь – да и Гастон в расписании, которое принес вечером, отметил поезд, уходящий в восемь утра, как самый практичный.
С утра лило ливмя. Амедей не разрешил ни Арнике, ни Гастону провожать его на вокзал. И никто не бросил прощальный взгляд вслед забавному путнику с рыбьими глазами, закутанному в темно-бордовый шарф: в правой руке серый парусиновый чемодан с пришпиленной к нему визитной карточкой, в левой – огромный потрепанный зонт, а через руку – зелено-коричневый клетчатый плед, – когда поезд его уносил в Марсель.
IV
Около того же времени Жюльюсу де Барайулю пришлось отправиться в Рим на большой конгресс по обществоведению. Собственно, его туда не приглашали (по социальным вопросам он имел не столько сведения, сколько мнения), но он был рад такому случаю, чтобы завязать отношения с некоторыми светилами науки. А поскольку как раз по дороге находился Милан, а в Милан, как мы знаем, по совету отца Ансельма отправились жить Арманы-Дюбуа, Барайуль заодно повидал и свояка.
В тот самый день, когда Лилиссуар выехал из По, Жюльюс позвонил в дверь Антиму.
Его ввели в жалкую трехкомнатную квартирку, если можно считать за комнату темную каморку под лестницей, где Вероника сама варила какие-то овощи – их обычную пищу. Уродливый металлический рефлектор переправлял в квартиру тонкий, бледный луч света из дворика; свою шляпу Жюльюс оставил у себя в руках, чтобы не класть на подозрительную клеенку, накрывавшую овальный стол. Застыв от ужаса перед ней, он схватил Антима за руку и воскликнул:
– Бедный друг мой, вы не можете здесь оставаться!
– Почему вы жалеете меня? – ответил Антим.
Вероника поспешно явилась на их голоса:
– Верите ли, дорогой Жюльюс, с нами поступили так несправедливо, так недобросовестно, а он только это одно и твердит!
– Кто велел вам ехать в Милан?
– Отец Ансельм; впрочем, мы все равно не могли больше платить за квартиру на виа ин Лючина.
– А какая нам в ней нужда? – сказал Антим.
– Вопрос не в том. Отец Ансельм обещал вам возмещение. Знает ли он о вашей нужде?
– Делает вид, что не знает, – сказала Вероника.
– Надобно жаловаться епископу Тарбскому.
– Антим так и сделал.
– И что он сказал?
– Это превосходный человек; он весьма укрепил меня в вере.
– Но с тех пор как вы здесь, вы кому-нибудь об этом дали знать?
– Я чуть было не встретился с кардиналом Пацци, который почтил меня своим вниманием; недавно я ему писал; он проезжал через Милан, но передал мне через лакея…
– Что, к сожалению, приступ подагры не позволяет ему выйти из комнаты, – перебила Вероника.
– Чудовищно! – воскликнул Жюльюс. – Об этом надо уведомить Рамполлу.
– О чем уведомить, дорогой друг? Верно, что я немного оскудел, но в чем мы нуждаемся сверх имеющегося? Когда я был состоятелен – заблуждался, грешил, болел. Теперь я здоров. Когда-то вы могли по праву жалеть меня. Да ведь вы же знаете: ложные блага отвращают от Бога.
– Но эти ложные блага, в конце концов, принадлежат вам по праву. Я согласен, что Церковь учит их презирать, но не соглашусь, когда она у вас их отбирает.
– Как верно! – сказала Вероника. – С каким облегчением я слушаю вас, Жюльюс! Он себе знай смиряется, а я вся закипаю; никак его не заставишь себя защищать; дал себя ощипать как гусенка, и еще спасибо говорит всем, кто желал взять и взял его добро во имя Божие…
– Вероника, мне тяжко слушать от тебя такие речи; все, что творится во имя Божие, – благо.
– Если вам нравится сидеть на пепелище…
– Иов сидел на гноище, друг мой.
Вероника обратилась к Жюльюсу:
– Слышите, что он говорит? И вот точно так каждый день – одни монашеские речи на устах; я с ног валюсь: покупки, стряпня, приборка, – а мне на это все цитируют Евангелие, говорят, что я пекусь о многом, и советуют смотреть на лилии полевые.
– Я тебе, как могу, помогаю, друг мой, – ангельским голосом ответил Антим. – Ведь я теперь ходячий, так что много раз предлагал тебе сходить на базар или вместо тебя прибраться в доме.
– Это дело не мужское! Пиши себе дальше свои проповеди, только старайся, чтобы тебе за них побольше платили. – Она раздражалась все больше и больше (а прежде была такая веселая!): – Стыд и срам! Вспомнить только, сколько он получал в «Депеш» за безбожные статейки – а теперь «Паломник» за его поучения дает два гроша, так он и то умудряется больше половины оставлять нищим.
– Так он же просто блаженный! – озадаченно воскликнул Жюльюс.
– Верно, блаженный, то-то и злит! Глядите-ка: знаете, что это? – Она прошла в дальний темный угол комнаты и взяла там клетку для цыплят. – Здесь пара крыс, которым господин ученый в свое время выколол глаза.
– Боже мой! Вероника, для чего вы к этому возвращаетесь? Когда я ставил на них опыты, вы хорошо их кормили, а я вас за то упрекал… Да, Жюльюс, когда я был злодеем, я из пустого ученого любопытства ослепил этих бедных животных, а теперь забочусь о них; это совершенно естественно.
– Хотел бы я, чтобы и Церковь, ослепившая вас, сочла естественным сделать для вас то, что вы для этих крыс.
– Ослепившая? От вас ли я это слышу? Просветившая, брат мой, просветившая!
– Вы от меня слышите о фактах. Положение, в котором вас бросили, – вещь, по-моему, недопустимая. Церковь взяла на себя обязательства перед вами; совершенно необходимо, чтобы она их выполнила: необходимо для ее чести и для нашей веры. – Он обратился к Веронике: – Раз вы ничего не получаете, обращайтесь выше – все время выше и выше. Я говорил вам о Рамполле? Напрасно; теперь я хочу подать ходатайство самому папе: Святейшему Отцу известно о вашем обращении. Такое надругательство над справедливостью стоит того, чтобы довести до него. Завтра же еду в Рим.
– Останьтесь у нас поужинать, пожалуйста, – робко посмела сказать Вероника.
– Прошу меня простить, у меня не слишком крепкий желудок. – Тут Жюльюс, чьи ногти были всегда ухоженны, заметил короткие, тупые пальцы Антима. – Когда поеду опять из Рима, задержусь у вас подольше и поговорю с вами, дорогой Антим, о новой задуманной книге.
– Я на днях перечитал «Воздух вершин», и он мне понравился больше, чем поначалу.
– И совершенно напрасно – это неудачная книга; я расскажу вам почему, когда вы будете в состоянии меня выслушать и понять те странные мысли, что тревожат меня сейчас. Мне много нужно сказать. Но сегодня – ни слова больше!
И он ушел от Арманов-Дюбуа, пожелав на прощание хранить надежду.
Книга четвертая «ТЫСЯЧЕНОЖКА»
И одобрить я могу только тех, кто ищет, стеная.
Паскаль.Фрагмент 3421I
Амедей Лилиссуар уехал из По с пятьюстами франками в кармане: этого непременно должно было хватить на поездку, в какие бы сверхсметные расходы ни вовлекла его злокозненная Ложа. Кроме того, если сумма окажется недостаточной, если станет видно, что придется еще задержаться, он отпишет Блафаффасу, который держал для него небольшие свободные средства.
Билет он взял только до Марселя, чтобы в По никто не узнал, куда он едет. Билет третьего класса от Марселя до Рима стоил всего тридцать восемь сорок и притом позволял ему делать остановки по дороге; этим правом он собирался воспользоваться не для удовлетворения любопытства к чужим краям, которое в нем никогда не бывало сильно, а из нужды во сне, которая была очень требовательна. Иными словами, он больше всего на свете боялся бессонницы – а поскольку Церковь нуждалась в том, чтобы в Рим он прибыл свеженьким, то он позволит себе пару дней промедления да какие-то расходы на гостиницу… Что это по сравнению с ночью в вагоне – вне всякого сомнения, бессонной и чрезвычайно нездоровой из-за испарений попутчиков; а если кто из них решит освежить воздух и вздумает открыть окошко – это же верная простуда… Итак, на первую ночь он остановится в Марселе, на вторую в Генуе в каком-нибудь отельчике без роскоши, но удобном, какие всегда без труда находишь рядом с вокзалом. Так что в Риме он будет лишь послезавтра к вечеру.
Впрочем, его забавляло уже само путешествие, уже то, что он едет один: до сорока семи лет он жил всегда под чьей-нибудь опекой, сопровождаемый либо женой, либо другом своим Блафаффасом. Забившись в уголок вагона, он улыбался, как коза выставляя зубы, в предвкушении невинных приключений. Все шло хорошо до Марселя.
На другой день он уехал не туда. Поглощенный чтением только что купленного бедекера по Центральной Италии, он перепутал поезд и отправился прямо в Лион, заметил это лишь в Арле, когда поезд уже тронулся; пришлось проехать до Тараскона и оттуда ехать обратно. Потом он сел на вечерний поезд до Тулона, чтобы не ночевать опять в Марселе: там его заели клопы.
И ведь смотрелся тот номер очень недурно, с окнами на Канебьеру; симпатичной – ей-ей! – казалась поначалу и кровать, в которую, сложив одежду, посчитав расходы и помолившись, он доверчиво улегся. Он валился с ног и тотчас уснул.
У клопов особенный норов: они ждут, пока задуют свечу, и, как только станет темно, выступают в поход. Идут не наугад, а шествуют прямо к шее, которую любят особенно; иногда направляются к запястьям; некоторые чудаки предпочитают щиколотки. Неизвестно зачем, они впрыскивают под кожу спящему тонкую жгучую эссенцию, едкость которой многократно возрастает при малейшем трении.
Лилиссуар проснулся от такого сильного зуда, что зажег свечку и побежал к зеркалу; он увидел под нижней челюстью расплывчатое красное пятно со множеством неясных белых пятнышек, но свечка светила плохо, зеркальная амальгама была грязная, глаза Лилиссуара затуманены сном… Он улегся опять, не переставая чесаться, задул огонь, пять минут спустя снова зажег: кожа горела невыносимо. Подскочив к умывальнику, он намочил из кувшина платок и приложил к воспаленному месту: оно стало больше, доходя уже до ключицы. Амедей решил, что заболевает, и помолился, потом опять погасил свечу. Облегчение от холодного компресса продолжалось слишком недолго, чтобы дать страждущему уснуть: к зуду от жгучего вещества теперь добавлялось неудобство от мокрого воротника ночной рубашки, смоченного к тому же еще и слезами. И вдруг Лилиссуар подскочил от ужаса: клопы! Это же клопы! Он поразился, как это раньше не понял – но ведь он этих насекомых знал только по названию; что общего между укусом в определенное место и этим жжением где-то по всему телу? Он соскочил с кровати и зажег свечу в третий раз.
Он был нервен и жизни не знал; как и многие, он совершенно неправильно представлял себе жизнь клопов и теперь, похолодев от омерзения, принялся поначалу искать их на себе – не увидев ни одного, подумал, что ошибся, уже опять решил, что заболел. На простыне тоже ничего не было; он собрался лечь, но ему пришло в голову приподнять валик кровати. Там он заметил три крохотные черные горошинки, стремительно забившиеся в складку простыни. Они!
Он поставил свечку на стол и устроил облаву: развернул складку и засек пятерых; из брезгливости он не раздавил их ногтем, а отнес в ночной горшок и там затопил мочой. С полминуты он с жестоким удовольствием смотрел, как они барахтаются; ему стало лучше; он лег опять; задул огонь.
Зуд почти сразу же усугубился; появился и новый очаг – на затылке. Он в отчаянье зажег свечку, встал, а рубашку снял, чтобы как следует рассмотреть ее ворот. В конце концов он заметил на шве едва различимые красные точки; он раздавил их рубашкой – они оставили на полотне кровавые пятнышки. Такие маленькие, а такие гадкие! Трудно было поверить, что это уже клопы, но, еще раз подняв валик, он обнаружил там огромную клопину – должно быть, мать этих клопиков. Тогда, взбодрившись, возбудившись, почти что развеселившись, он снял валик, собрал постель и начал осматривать все методически; ему теперь казалось, что он их видит повсюду, но в конечном итоге поймал всего четырех, лег и часок отдохнул спокойно.
Потом снова стали кусать. Он еще раз пошел на охоту, потом наконец выбился из сил, решил – будь что будет, и притом заметил, что, если укус не трогать, он в общем-то заживает довольно быстро. На рассвете последние клопы насытились и оставили его. Он глубоко заснул, и тут коридорный пришел будить его к поезду.
В Тулоне были блохи.
Он, должно быть, подцепил их в вагоне. Целую ночь он чесался, метался, ворочался и не засыпал. Чувствовал, как они бегают у него по ногам, щекочут в паху, как от них лихорадит. Кожа у него была нежная, поэтому от укусов вскакивали крупные волдыри; он еще больше разгонял воспаление, потому что чесался так, словно это было приятно. Он несколько раз зажигал свечку, вставал, снимал рубашку, надевал опять и ни одной блохи убить не смог: он их едва успевал на мгновенье заметить; они от него убегали, а даже если ему и удавалось какую поймать – не успевал он подумать, что блоха уж мертва, раздавлена на ногте, как в ту же секунду она вздувалась, поднималась жива и здорова и прыгала пуще прежнего. Он уже пожалел о клопах. Он бесился, и в горячке бесплодной охоты окончательно разогнал сон.
Весь следующий день ночные нарывы зудели, а щекотка по телу указывала, что гостьи все еще тут. От страшной жары он чувствовал себя еще намного хуже. Поезд был набит работягами; они пили, курили, плевали, рыгали и сервелат жевали такой вонючий, что Лилиссуара несколько раз чуть не вырвало. Но перейти в другое купе он решился только на границе: как бы работяги, видя, что он уходит, не подумали, что стесняют его. В том купе, куда он перешел затем, могучая кормилица меняла пеленки младенцу. Он попытался все-таки уснуть, но тут ему стала мешать собственная шляпа. То была плоская белая соломенная шляпа с черной лентой, из тех, что называют обычно «канотье». Когда Лилиссуар оставлял ее в нормальном положении, жесткие поля не давали ему прислониться к стенке, если же сдвигал шляпу назад, поля зажимало между затылком и стенкой, а верх подскакивал над головой и торчал словно миска. Тогда он решил шляпу вовсе снять, а макушку прикрыть платком, уронив его концы на глаза, чтобы не мешал свет. Но уж к ночи Амедей хорошо приготовился: утром в Тулоне купил коробку порошка от насекомых, а вечером, думал он, хотя бы это и стоило дорого, он остановится непременно в лучшем отеле; ведь если и в эту ночь он не выспится, в каком физическом истощении доберется до Рима? С ним тогда самый завалящий масон справится.
Перед вокзалом в Генуе стояли омнибусы главных отелей; Амедей пошел к одному из самых шикарных, не устрашившись высокомерия лакея, который схватил было его убогий чемоданчик, но Амедей не пожелал расстаться с ним: отказался поставить на верх экипажа, а потребовал взять с собой и поставил рядом на мягком сиденье. В вестибюле гостиницы портье говорил по-французски и тем его приободрил; он пустился во все тяжкие: не только попросил «номер получше», но еще и стал расспрашивать про те, что ему предлагали, твердо решив, что ничто дешевле двенадцати франков ему не подойдет.
Номер за семнадцать франков, который он выбрал, прежде осмотрев еще несколько, был просторный, чистый, изящный без излишеств; изголовьем к стене стояла кровать – медная, чистая, наверняка ненаселенная: пиретрум стал бы для нее оскорблением. За створками огромного шкафа прятался умывальник. Два больших окна выходили в сад. Амедей высунулся в темноту, вглядываясь в неясные сплошные купы листвы; он медлил, чтобы нежаркий воздух утихомирил его лихорадку и склонил ко сну. Над кроватью туманным облаком с трех сторон до земли свисал тюлевый полог; спереди шнурочки, похожие на фалы паруса, поднимали его грациозным изгибом. Лилиссуар узнал в нем то, что называют сеткой от комаров, – прежде он никогда не считал нужным ею пользоваться.
Умывшись, он с наслажденьем улегся на чистом белье. Окно он оставил открытым – не настежь, конечно, чтобы не подхватить простуду или ячмень, а одну створку, так, чтоб из нее не дуло прямо на него; он посчитал расходы, помолился и потушил свет. (Освещение в номере было электрическое, выключалось поворотом рубильника.)
Лилиссуар собрался засыпать, но тоненький писк напомнил ему, что он забыл об одной необходимой предосторожности: окно открывать лишь после того, как погасишь свет – не то налетят комары. Он припомнил, что где-то читал благодарность Богу, одарившему летучее насекомое особым музыкальным инструментом, который предупреждает спящего, что его сейчас укусят. Затем он опустил со всех сторон непроницаемый полог. «Это же гораздо лучше, – думал он, засыпая, – чем пучки мохнатой сухой травы, которые продает Блафаффас-отец под дурацким названием «верное»; их поджигают под оловянной миской, они горят, и от них идет масса одуряющего дыма, только они еще раньше, чем уморят комаров, до полусмерти задушат людей. Верное! Придумал же название! Верное!» Он уже почти уснул, когда вдруг его сильно укололо в ноздрю. Он поднес руку к носу, стал щупать нарыв – и тут укол в руку, а потом насмешливый звон у самого уха. Ужас! Он запер врага в собственном укреплении! Амедей подскочил к выключателю и зажег лампочку.
Точно! Комар сидел там, на самом верху сетки. Амедей был немного дальнозорок и видел его прекрасно: до нелепости тоненький, сидит на четырех лапках, а заднюю пару держит на отлете – длинную, словно завитком. Вот нахал! Амедей встал на кровати. Но как убить насекомое на зыбкой газовой ткани? Да как-нибудь! Он быстро, сильно шлепнул ладонью – ему показалось, что полог порвался. Комар точно был там; он посмотрел кругом, где его труп, ничего не увидел, но почувствовал новый укус – в ногу.
Тогда, чтобы защитить у своей особы хотя бы все, что возможно, Лилиссуар улегся в постель; потом лежал, пожалуй, с четверть часа, затаив дыхание и уже не решаясь гасить свет. Потом наконец, собравшись с духом – врага было не видно и не слышно, – повернул выключатель. И тут же снова началась музыка.
Он высунул из-под одеяла одну руку, держа ладонь у лица, и как только чувствовал, что кто-то пролетает мимо, с размаху шлепал себя по щеке или по лбу. Но тут же опять слышал пение комара.
После этого ему явилась идея закутать голову шарфом, отчего стало совсем безрадостно дышать, а комар все равно укусил его в подбородок.
После этого комар, должно быть, насытился и утих – по крайней мере Амедей, побежденный сном, его больше уже не слышал; он размотал шарф и заснул лихорадочным сном – спал и чесался. Наутро его нос, от природы орлиный, был похож на нос пьяницы, волдырь на ноге вздулся как чирей, а на подбородке стал похож на конус вулкана; Лилиссуар обратил на него внимание цирюльника, к которому зашел побриться перед отъездом из Генуи, чтобы в Рим явиться в приличном виде.
II
В Риме Лилиссуар слонялся у вокзала с чемоданом в руке усталый, растерянный, не понимающий, где он, не мог ни на что решиться и сил имел только на то, чтобы отклонять посулы гостиничных зазывал, но тут ему повезло: он встретил факкино, который говорил по-французски. Батистен, еще почти безбородый быстроглазый юноша, родился в Марселе; признав в Амедее земляка, он вызвался нести ему чемодан и служить гидом.
Во все время долгого путешествия Лилиссуар листал и перелистывал бедекер. Какой-то инстинкт, предчувствие, внутренний голос почти сразу же отвели его заботы о святом деле от Ватикана и сосредоточили на замке Святого Ангела, бывшем мавзолее Адриана – знаменитой темнице, в тайных казематах которой томилось некогда множество славных узников и которую подземный ход, как говорят, соединяет с Ватиканом.
Он внимательно разглядывал план. «Искать жилье надобно тут», – решил он, ткнув пальцем в набережную Тординона прямо напротив замка. И провиденциальному совпадению было угодно, чтобы именно туда повел его Батистен: не на саму набережную – она, собственно говоря, всего лишь незастроенный проезд, – а совсем рядом, на виа деи Векьерелли (по-нашему – улицу Старичков), третью от моста Умберто, выходящую к самой насыпи; он знал там тихий дом (из окон четвертого этажа, чуть-чуть высунувшись, можно видеть и мавзолей), где очень милые дамы говорят на любых языках, а одна по-французски прямо-таки замечательно.
– Если, сударь, вы устали, можно взять экипаж, туда далеко… Верно, сегодня не так жарко; дождик прошел; после долгой дороги немного пройтись полезно… Нет, чемодан не тяжелый; конечно, донесу… В Риме вы в первый раз? Из Тулузы, должно быть, сударь? Ах, из По… мне бы догадаться по выговору.
Так за разговором они и шли. Пошли по улице Виминале, потом по Агостино Депретиса, которая от Виминале ведет к Пинчо, потом по улице Национале, вышли на Корсо, перешли ее; дальше они уже двигались по лабиринту безымянных переулочков. Чемодан был до того не тяжел, что факкино шагал очень скоро, а Лилиссуар еле-еле за ним поспевал: ковылял позади, валясь от усталости и плавясь от жары.
– Вот и пришли, – сказал Батистен, когда путешественник уже готов был просить пощады.
Лилиссуар еле решился свернуть на улицу или, точнее, в переулок Векьерелли – такой он был узкий и темный. Батистен между тем уже вошел во второй дом направо, чья дверь находилась в нескольких метрах от набережной; в ту же секунду Лилиссуар увидел, как оттуда вышел берсальер; красивая форма, которую он приметил еще на границе, его успокоила: армии он доверял. Амедей прошел несколько шагов. На пороге явилась женщина – очевидно, хозяйка заведения – и любезно ему улыбнулась. На ней был черный атласный передник, браслеты, на шее лазоревая тафтяная лента; иссиня-черные волосы, собранные башней, держал огромный черепаховый гребень.
– Твой чемодан на четвертый отнесли, – сказала она Амедею. Он принял ее тыканье то ли за итальянский обычай, то ли за плохой французский язык.
– Grazia! – сказал он и тоже улыбнулся. «Grazia»! Это значило «спасибо» – единственное слово, которое он мог произнести по-итальянски, а говоря с дамой, считал вежливым употреблять в женском роде.
Он поднялся наверх, останавливаясь на каждой площадке, чтоб отдышаться и набраться храбрости, потому что очень устал, а мерзкая лестница все делала, чтобы вогнать его в отчаянье. Площадки следовали через каждые десять ступеней; лестница, колеблясь и вихляя, трижды спотыкалась на них, пока добиралась до нового этажа. На потолке над самой первой площадкой, против входной двери, висела клетка с канарейкой, которую было видно и с улицы. На вторую площадку шелудивый кот притащил хвост сушеной трески и собирался приняться за еду. На третью выходили отхожие места; двери были открыты и рядом со стульчаками видны большие желтые глиняные горшки, из которых торчали ручки ершиков; на этой площадке Лилиссуар не остановился.
На втором этаже чадила керосиновая лампа рядом с большой застекленной дверью, на которой полустертыми буквами написано было «Salone» – однако за дверью было темно; через стекло Амедей лишь с трудом разглядел на противоположной стене зеркало в позолоченной раме.
Когда он подходил к седьмой площадке, из комнат третьего этажа вышел еще один военный – на сей раз артиллерист, – сбежал вниз по лестнице, налетел на него и со смехом пробормотал какое-то итальянское извинение, прежде вернув Амедея в вертикальное положение: Лилиссуар был похож на пьяного и от усталости еле мог стоять на ногах. Если первый мундир его утешил, то второй, пожалуй, привел в замешательство.
«С этими военными шума не оберешься, – подумал он. – Хорошо, что мой номер на четвертом этаже: будут хотя бы не надо мной».
Едва он миновал третий этаж, как его окликнула, прибежав откуда-то из глубин коридора, женщина в распахнутом пеньюаре и с растрепанными волосами.
«Она, должно быть, обозналась», – подумал он и поскорее стал подниматься дальше, отводя глаза, чтобы не смутить даму, застигнутую в дезабилье.
До четвертого этажа он добрался вовсе задохнувшись и увидел там Батистена; тот разговаривал по-итальянски с какой-то женщиной неопределенного возраста, которая Амедею очень напомнила кухарку Блафаффаса – только не такая жирная.
– Ваш чемоданчик в номере шестнадцатом, третья дверь. Только осторожно, там в коридоре ведро с водой.
– Оно протекает, вот я его и выставила, – сказала женщина по-французски.
Дверь шестнадцатого номера была открыта; на столе горела свеча, освещая комнату, а немного и коридор, где у пятнадцатого номера под жестяным умывальным ведром растекалась и блестела на плитке лужа. Лилиссуар переступил через нее; лужа сильно воняла. Чемодан был на месте, на виду, на стуле. В душной комнате у Амедея тотчас же закружилась голова; он бросил на кровать шляпу, зонт и плед, а сам рухнул в кресло. Пот струился по лбу; он думал, ему сейчас станет дурно.
– А это госпожа Карола, она говорит по-французски, – сказал Батистен. Они вместе вошли в комнату.
– Откройте окно, пожалуйста, – выдохнул Лилиссуар; сил встать у него не было.
– Ой, да как же он вспотел! – твердила госпожа Карола, достав из-за кофточки носовой платочек и утирая пот с бледного лица.
– А мы его к окошку поближе.
Они вдвоем подняли кресло, в котором безвольно болтался почти совсем бесчувственный Амедей, и поставили так, чтобы он мог дышать не вонью из коридора, а многообразными дурными запахами с улицы. Впрочем, прохлада привела его в себя. Он порылся в кошельке и достал монетку в пять лир, приготовленную для Батистена:
– Большое вам спасибо. А теперь оставьте меня.
Факкино ушел.
– Больно много ты ему дал, – сказала Карола.
Амедей принимал тыканье за итальянский обычай.
Теперь ему хотелось только лечь, но Карола, по-видимому, уходить не собиралась; тогда, влекомый вежливостью, он начал с ней разговор:
– Вы говорите по-французски как француженка.
– Что ж тут такого? Я из Парижа. А вы?
– Я с Юга.
– Так я и поняла. Как вас увидела, так и подумала: этот господин, должно быть, из провинции. В первый раз в Италии?
– В первый.
– По делам приехали?
– Да.
– Рим красивый город, много есть чего посмотреть.
– Конечно… Только сегодня я немножко устал, – решился он признаться. – Я три дня был в дороге, – добавил он, словно извиняясь.
– Верно, сюда ехать далеко.
– И три ночи не спал.
В ответ на это госпожа Карола с той внезапной итальянской фамильярностью, к которой Амедей все никак не мог привыкнуть, ущипнула его за подбородок:
– Ах, шалунишка!
От этого жеста щеки Амедея немного порозовели; чтобы отвести от себя недостойные подозрения, он стал пространно рассказывать о клопах, блохах и комарах.
– Здесь этого ничего нет. Видишь, как чисто.
– Правда; я надеюсь хорошо выспаться.
Но она все не уходила. Он с трудом поднялся с кресла, поднес руку к жилетке, расстегнул первую пуговицу и решился сказать:
– Я, наверное, лягу…
Госпожа Карола поняла его смущение:
– А, ты хочешь, чтобы я на минутку вышла; понятно… – тактично сказала она.
Как только она ушла, Лилиссуар повернул ключ в замке, достал из чемодана ночную рубашку, улегся в постель. Но замок, видимо, плохо держал: едва он задул свечку, дверь приоткрылась и за кроватью, совсем рядом с кроватью, показалось улыбчивое лицо Каролы…
Через час он опомнился. Карола, голая, лежала в его объятиях.
Он вытащил из-под нее затекшую руку, отодвинулся. Она спала. Слабый свет из переулка освещал комнату, а слышно было только ровное дыхание этой женщины. Тогда Амедей Лилиссуар, чувствуя во всем теле и в душе незнакомую прежде истому, высунул тощие ноги из-под простынь, сел на краю кровати и заплакал.
Как прежде струился по нему пот, так теперь слезы омывали его лицо и смешивались с железнодорожной пылью; бесшумно, безостановочно истекали они тонким ручьем из глубин его существа как из некоего потаенного источника. Он думал об Арнике, о Блафаффасе… Ах! Видели бы они это! Никогда он теперь не посмеет занять свое место рядом с ними! Затем он вспомнил о своей опороченной высочайшей миссии и застонал:
– Кончено! Я недостоин… Кончено! Воистину кончено!
Стонал он тихонько, но его стенания непривычным звучанием разбудили Каролу. Он уже стоял на коленях у кровати и колотил себя кулаком во впалую грудь; пораженная Карола слышала, как он стучит зубами, рыдает и все твердит:
– Спасайся кто может! Разрушена Церковь!
Наконец она не выдержала:
– Да что с тобой, старичок, милый? Ты с ума сошел?
Он обернулся к ней:
– Прошу вас, госпожа Карола, оставьте меня… Теперь мне непременно нужно побыть одному… Завтра утром мы увидимся.
И поскольку винил он, в конце концов, только себя самого, он тихонько поцеловал ее в плечо:
– Ах! Вы не знаете, как страшно то, что мы сейчас сотворили… Нет, нет! Не знаете. И никогда не дано вам будет узнать.
III
Не в один департамент Франции запустило мошенническое предприятие под громкой вывеской «Крестовый поход за избавление папы» свои преступные щупальца; Протос – мнимый каноник из Вирмонталя – был не единственным его агентом, а графиня де Сен-При – отнюдь не единственной жертвой. И не все жертвы оказались равно обольщены, хотя бы и все агенты проявили равную расторопность. Даже Протосу – бывшему товарищу Лафкадио – после дела расслабляться не приходилось: он все время держал ухо востро, как бы духовенство (настоящее) не прознало про это дело, и охранял тылы столь же изобретательно, как и наступал. Но он умел менять обличья, а помогали ему прекрасно: от головы до хвоста этой шайки (называлась она «Тысяченожка») царили дивное согласие и послушание.
В тот же вечер Протос узнал от Батистена, что приехал некий иностранец, и несколько встревожился, что он из По. На другой день в семь часов утра он был уже у Каролы. Она еще не вставала.
Все, что он от нее узнал: сбивчивый рассказ о случившемся ночью, о том, как «паломник» (она его так назвала) впал в отчаянье, о его слезах и причитаньях, – не оставило места сомнениям. Его проповедь в По решительно принесла плоды, вот только не совсем того сорта, какого Протосу хотелось. Теперь надо было глаз не спускать с этого малахольного крестоносца, а то он спроста всех как раз и заложит…
– Ну ладно, пропусти меня! – прикрикнул он на Каролу.
Фраза могла показаться странной, потому что Карола еще лежала в постели, но странности никогда не останавливали Протоса. Он встал коленом на кровать, другую ногу перекинул через девицу и перекувыркнулся так ловко, что разом оказался между стеной и чуть отъехавшей от нее кроватью. Карола, видимо, привыкла к этому приему, потому что она просто спросила:
– Что ты хочешь делать?
– Священником переоденусь, – ответил он так же просто.
– А потом опять с той стороны вернешься?
Протос немножко подумал и ответил:
– Ну да, пожалуй, так натуральнее.
С этими словами он наклонился, отворил потайную дверцу, спрятанную в стенной обшивке, до того низенькую, что кровать ее всю закрывала. Когда он просунулся в эту дверцу, Карола схватила его за плечо.
– Послушай, – строго прикрикнула она, – ничего с ним не делай, не надо!
– Говорят же тебе, я пошел священником переодеться!
Как только он скрылся, Карола встала и принялась одеваться.
По правде, я сам не знаю, какого я мнения о Кароле Негрешитти. Выкрик, который у нее сейчас вырвался, пожалуй, доказывает, что сердце ее не слишком глубоко испорчено. Так в самом лоне разврата подчас открывается удивительная нежность чувств подобно тому, как голубой цветок расцветает на куче навоза. По сути своей Карола была покорна и преданна, и, подобно большинству женщин, нуждалась в руководителе. Когда Лафкадио бросил ее, она тотчас пустилась разыскивать первого своего любовника, Протоса – с досады, из мести, назло. И снова ей пришлось пережить нелегкие дни, и Протос, не успев ее получить, сразу снова же сделал ее своим инструментом. Потому что Протос любил власть.
Другой человек, не Протос, мог бы поднять, возродить эту женщину. Но этого прежде всего надо было бы захотеть. Протос же, наоборот, как будто нарочно задался целью оподлить ее. Мы уже видели, каких постыдных услуг требовал от нее этот бандит; честно говоря, казалось, что и она соглашалась на это без особого отвращения, но душа, восстающая против своего жалкого жребия, часто сама не замечает своих первых движений: лишь под действием любви обнаруживается потаенное противление. Неужто Карола влюбилась в Амедея? Было бы неосторожно утверждать это, но при соприкосновении с его чистотой смутилась ее испорченность, и выкрик, переданный мной, без сомнения, выплеснулся из глубин ее сердца.
Протос вернулся. Одежды он не поменял. В руках у него был сверток шмотья, который он положил на стул.
– Что такое? – спросила она.
– Я передумал. Сначала надо пойти на почту и посмотреть его корреспонденцию. Переоденусь потом, в обед. Дай-ка мне зеркальце.
Он подошел к окну, внимательно рассмотрел свое отражение, приклеил темные, совсем чуть-чуть светлее черных волос, коротко подстриженные усики.
– Кликни Батистена.
Карола была уже совсем готова. Стоя возле двери, она затягивала шнуровку.
– Я тебе сто раз говорил: чтобы я тебя не видел с этими запонками. Ты с ними очень приметная.
– Ты же знаешь, кто мне их подарил.
– То-то и оно.
– Ты что, ревнуешь?
– Вот дура!
Тут постучал и вошел Батистен.
– Давай попробуй сделать шаг в карьере, – сказал ему Протос, кивая на пиджак, воротничок и галстук, которые принес из-за стены – они лежали на стуле. – Будешь водить клиента по городу. Я его у тебя перейму вечером. Из виду не теряй.
Амедей исповедался в Сан-Луиджи деи Франчези, а не у Святого Петра: собор пугал его своей огромностью. Батистен проводил его туда, потом отвел на почту. Как и следовало ожидать, у «Тысяченожки» там были свои люди. По визитной карточке, пришпиленной к чемодану Лилиссуара, Батистен узнал его имя и передал Протосу; тому ничего не стоило получить у замешанного в дело служащего письмо от Арники, и он без зазрения совести прочитал его.
– Странно! – воскликнул Лилиссуар, когда час спустя сам потребовал свою корреспонденцию. – Странно! Как будто конверт уже вскрывали.
– Здесь это часто бывает, – флегматично сказал Батистен.
К счастью, Арника была благоразумна и позволяла себе лишь самые туманные намеки. Письмо, собственно, оказалось коротенькое; Арника только писала, что аббат Мюр, «прежде чем что-либо предпринимать», советует встретиться в Неаполе с кардиналом Сан-Феличе, бенедиктинцем. Невозможно было и желать выражений более невнятных, а значит, и менее компрометирующих.
IV
У мавзолея Адриана, именуемого замком Святого Ангела, Лилиссуар пережил горькое разочарование. Огромная масса здания высилась посреди двора, в который вход посторонним был запрещен – допускались только туристы по пропускам и даже, как специально было указано, лишь в сопровождении сторожа.
Эти чрезвычайные меры охраны, само собой, подтверждали подозрения Амедея, но они же давали ему и меру из ряда вон выходящей трудности предприятия. На почти пустынной в предвечерний час набережной, у внешней стены, оборонявшей подходы к зданию, Лилиссуар наконец избавился от Батистена. Он ходил взад-вперед у подъемного моста замка, мрачен и пав духом, потом отошел к самому берегу Тибра и попытался хоть что-нибудь рассмотреть, заглянув через первую линию ограждения.
Сперва он не обратил внимания на священника (мало ли священников в Риме!), сидевшего рядом на скамейке и с виду полностью погруженного в чтение молитвенника, но на самом деле давно исподтишка наблюдавшего за Амедеем. Достойный священнослужитель носил длинную густую серебристую шевелюру, а с этим уделом старости входил в противоречие молодой, свежий цвет лица – знак праведной жизни. По лицу сразу был виден священник, а по какой-то особенной благопристойности, свойственной этому человеку, – французский священник. Когда Лилиссуар в третий раз прошел мимо скамейки, аббат вдруг встал, подошел к нему и, чуть не рыдая, произнес:
– Как! Я не один! Как! Вы тоже его разыскиваете!
С этими словами он закрыл лицо ладонями, и разразились его долго сдерживавшиеся рыдания. Потом он вдруг спохватился:
– Неразумный, спрячь свои слезы! Прекрати воздыхания! – Он схватил Амедея под локоть: – Не будем здесь оставаться, сударь, мы под наблюдением. Проявление чувств, от которого я не мог удержаться, уже замечено.
Пораженный Амедей следовал за встречным.
– Но как же, – смог он наконец выговорить, – как же могли вы узнать, почему я здесь?
– Дай Бог, чтобы только я это сообразил! Но ваша тревога, но печаль во взгляде, с которой вы осматривали эти места, – могут ли они ускользнуть от того, кто уже три недели днем и ночью вожделенно ждет их? Увы, сударь! Едва я увидел вас, как некое предчувствие, некое уведомление свыше заставило меня признать вашу душу сродни моей… Осторожно, кто-то идет. Ради Христа, изобразите совершенную беззаботность.
Навстречу им по набережной шел зеленщик. Аббат тотчас заговорил, как ни в чем не бывало продолжая беседу, только намного живее:
– А поэтому «Вирджинию», которую так ценят некоторые курильщики, прикуривать можно только от свечи, вытащив из середины соломенный фитилек: его вставляют, чтобы в середине сигары оставался тоненький просвет, по которому идет дым. Если у «Вирджинии» нет такого фитилька, ее можно просто выкинуть. Я, сударь, знал очень тонких ценителей, которые закуривали до шести штук, пока не выберут подходящую…
Зеленщик прошел.
– Видели, как он посмотрел на нас? Непременно было надобно сбить его с толку.
– Что ж это! – воскликнул ошеломленный Лилиссуар. – Неужели какой-то простой огородник тоже из тех, кого мы должны опасаться?
– Сударь, я не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что так. Окрестности этого замка под особливым надзором; тут так и рыщут тайные агенты полиции. Чтобы не возбуждать подозрений, они переодеваются в самые разные платья. Они так ловки, так хитры! А мы-то столь неосторожны, столь доверчивы! Я вам вот что скажу, сударь: сам чуть было не выдал себя с головой, не остерегшись самого неприметного факкино, который просто вызвался донести, когда я сюда приехал, мой скромный багаж с вокзала к месту, где я поселился. Он говорил по-французски, и хотя я по-итальянски бегло разговариваю с детства, вы поймете, сударь, какие неотразимые чувства я испытал, услышав родной язык в чужой земле… И вот этот факкино…
– Из тех?
– Да, из тех. Вскоре мне удалось в этом убедиться. К счастью, я с ним почти что не разговаривал.
– Вы меня пугаете! – сказал Лилиссуар. – Когда я приехал сам, то есть вчера вечером, тоже попал к какому-то гиду; доверил ему свои вещи, и он говорил по-французски.
– Господи Иисусе! – в ужасе воскликнул священник. – Не Батистеном ли его звали?
– Батистеном! Это он! – простонал Лилиссуар; у него подогнулись коленки.
– Вот беда! Что вы ему сказали? – Священник крепко схватил его за руку.
– Ничего не припомню…
– Думайте, думайте! Вспомните, ради Христа!
– Да нет, право, – бормотал устрашенный Амедей… – Кажется, ничего я ему не говорил…
– Может, показали что-нибудь?
– Нет, ничего, право, ничего, уверяю вас… Но как хорошо, что вы меня предупредили…
– В какую гостиницу он вас отвел?
– Не в гостиницу; я остановился на частной квартире.
– Это все пустяки. Все-таки где вы живете?
– В одном переулочке; вы его, конечно, не знаете, – пролепетал Амедей очень смущенно. – Это не важно, я там больше не останусь.
– Только осторожно: если съедете слишком быстро, там поймут, что вы чего-то боитесь.
– Да, пожалуй. Ваша правда: сразу съезжать лучше не стоит.
– Но как же я благодарю Бога, что вы приехали в Рим сегодня! Еще день, и я бы вас уже не встретил. Завтра, никак не позже, мне надо ехать в Неаполь встретиться с важной и весьма благочестивой особой, которая втайне занимается этим же делом.
– Это, случайно, не кардинал Сан-Феличе? – спросил Лилиссуар дрожащим от волнения голосом.
Пораженный, священник отступил на пару шагов:
– Почему вы его знаете?
Потом опять подошел:
– Но что же я удивляюсь? В Неаполе он один посвящен в тайну, которой мы заняты.
– Вы… хорошо ли вы с ним знакомы?
– Хорошо ли! Увы, милейший сударь мой, ему-то я и обязан… Впрочем, не важно. Вы намеревались с ним встретиться?
– Разумеется, если надо.
– Это самый лучший… – Аббат вдруг остановился и смахнул с глаза слезу. – Вы, конечно, знаете, как его разыскать?
– Полагаю, мне всякий покажет. В Неаполе его знают все.
– Естественно! Но вы же, само собой, не намереваетесь оповещать весь Неаполь о вашем приезде? Впрочем, быть того не может, чтобы вас уведомили о его участии в известном нам деле, а может быть, и передали через вас какое-то послание, не научив, как с ним связаться.
– Я прошу прощения… – боязливо сказал Лилиссуар, которому Арника ничего в этом роде не сообщила.
– Как! Вы, быть может, намеревались искать его напрямик? Пожалуй, в самом дворце? – Аббат рассмеялся. – И так вот все ему и объявить без обиняков!
– Признаюсь вам…
– А вы знаете ли, сударь, – очень строго произнес новый знакомый, – знаете ли, что из-за вас его тоже могут заточить в темницу?
Он был так сердит, что Лилиссуар не смел ничего ответить.
– Такое чрезвычайное дело доверяют таким простакам! – прошептал Протос. Он вытащил из кармана верхушку четок, спрятал обратно, потом лихорадочно перекрестился и опять обратился к своему спутнику: – Но кто же, наконец, сударь, велел вам заняться этим делом? Чьи указания вы исполняете?
– Простите меня, господин аббат, – ответил смущенно Лилиссуар, – я ни от кого не получал указаний: я всего лишь несчастный унылый грешник и ищу сам от себя.
Эти смиренные слова явно утешили аббата; он протянул руку Лилиссуару:
– Я говорил с вами сурово… но какие же опасности нас окружают! – Немного помедлил и продолжил: – Послушайте! Хотите, завтра поедемте вместе? Вместе и встретимся с моим другом… – Он возвел очи горе: – Да, я смею называть его своим другом, – продолжил он прочувствованно. – Присядем на минуточку тут на скамейке. Я черкну ему пару слов, мы оба подпишемся и так предуведомим его о нашем посещении. Если отправим письмо до шести вечера (до восемнадцати, как тут говорят), он получит его завтра утром, а в середине дня сможет уже нас принять; мы с ним даже наверняка успеем пообедать.
Они присели. Протос достал из кармана блокнот и на глазах у растерянного Амедея начал писать на чистом листке:
«Старина…»
Позабавившись остолбенением Лилиссуара, он прехладнокровно улыбнулся:
– А вы, дай вам волю, так и писали бы кардиналу?
Уже дружелюбней он все Амедею объяснил: раз в неделю кардинал Сан-Феличе тайно выезжает из архиепископского дворца в одеянии простого священника, становится капелланом Бардолотти, отправляется на склоны Вомеро и там, на маленькой вилле, принимает немногих близких и получает секретные письма, которые адресуют ему на вымышленное имя посвященные. Но даже в этом простонародном обличье он не чувствует себя в безопасности: не может быть уверен, что письма, приходящие к нему по почте, не распечатываются, и всячески просит, чтобы в письмах не говорилось ничего важного, чтобы в тоне письма ничто не выдавало его сан и ни в чем ни на гран не выражало почтения.
Теперь Амедей был в курсе; он тоже улыбнулся.
– «Старина…» Так-так, что же мы скажем старому приятелю? – веселился аббат, шевеля кончиком карандаша. – Вот! «Я привезу к тебе одного старичка-чудачка». Ничего, ничего, в таком тоне и надо писать, я-то знаю! «Достань бутылку-другую фалернского, завтра мы вместе с тобой их и высосем. Будет весело». – Ну вот; подпишитесь и вы.
– Наверное, лучше будет не подписывать настоящее имя.
– Ваше можно, не страшно, – ответил Протос и написал рядом с фамилией Лилиссуара слово, которое по-французски значит «подземелье».
– Как хитроумно!
– Что, вас удивляет моя подпись? А у вас все ватиканские подземелья на уме. Так знайте, милейший мой господин Лилиссуар: это слово латинское, произносится «каве», а значит оно: «берегись!».
Все это было сказано так высокомерно и странно, что бедный Амедей почувствовал, как у него по всему телу пробежали мурашки. Всего на миг: аббат Каве тут же перешел на прежний дружелюбный тон и протянул Лилиссуару конверт, на котором написал вымышленный адрес кардинала:
– Будьте любезны, отнесите на почту сами – так лучше: письма священников вскрывают. А теперь распрощаемся; нас больше не должны видеть вместе. Договоримся встретиться завтра в неаполитанском поезде в семь тридцать утра. Третий класс, не правда ли? Само собой, я поеду не в этой одежде, как можно! Вы увидите меня в облике простого калабрийского крестьянина. Иначе мне пришлось бы стричь волосы, а я не хочу. До свиданья! До свиданья!
Он ушел, несколько раз наскоро перекрестив Амедея.
– Как благодарить Бога, что послал мне этого достойного аббата! – шептал Лилиссуар по дороге домой. – Что бы я делал без него?
А Протос, уходя, шептал так:
– Будет тебе кардинал! А то ведь он сам, пожалуй, и до настоящего дошел бы!
V
Лилиссуар жаловался на сильную усталость, поэтому Карола в эту ночь дала ему поспать, хотя он ей понравился, а к тому же ее сразу охватили нежность и жалость, когда он ей признался, насколько неопытен в любовных делах. Итак, он спал – по крайней мере настолько, насколько позволял невыносимый зуд по всему телу от разных укусов: блошиных и комариных.
– Зачем же ты так чешешься! – говорила она ему на другое утро. – Только хуже расчесываешь. Вон какой красный! – прикоснулась она пальчиком к прыщу на подбородке. А когда он собрался уходить, сказала: – На-ка, возьми вот это на память обо мне! – И она прицепила к манжетам его дорожной рубашки те самые мерзкие запонки, на которые так сердился Протос. Амедей обещал вернуться в тот же день вечером, в крайнем случае – завтра.
– Поклянись мне, что ничего с ним не сделаешь! – твердила секунду спустя Карола Протосу, который уже переоделся и собирался уйти через потайную дверь. Он опаздывал – не уходил сам, пока не выйдет из дома Лилиссуар, – поэтому до вокзала ему пришлось взять экипаж.
В новом облике: в широком крестьянском плаще, бурых портках, синих чулках, сандалиях с завязками, рыжей шляпе с узкими плоскими полями, с короткой трубкой в зубах – он был, надо признать, похож никак не на священника, а на самого настоящего разбойника из Абруцц. Лилиссуар, топтавшийся перед поездом, еле его узнал, когда он появился, прижав палец к губам, как святой Петр Мученик, потом прошел мимо, не подавая вида, что замечает спутника, и скрылся в головном вагоне. Но не прошло и минуты, как он опять появился за занавеской, прищурился, посмотрел на Амедея, махнул ему украдкой, чтоб подошел поближе, а когда тот садился в вагон, шепнул:
– Убедитесь только, что рядом никого нет.
Нет, никого – а купе у них в конце вагона.
– Я шел за вами следом, – продолжил разговор Протос, – но не стал подходить, чтобы нас не застали вместе.
– Как же случилось, что я вас не видел? – сказал Лилиссуар. – Я же много раз оборачивался, как раз чтоб убедиться, что за мной следом не идут. После ваших вчерашних слов я об этом забеспокоился; мне всюду видятся шпионы.
– К несчастью, это было слишком заметно. Вы думаете, очень натурально так оборачиваться каждые двадцать шагов?
– Боже мой! Так что, я выглядел как-то…
– Подозрительно. Увы, это верное слово: подозрительно! Такой-то человек себя как раз и выдает.
– И при всем том я даже не смог заметить, что вы идете за мной! Зато после нашего разговора мне буквально во всех прохожих мерещится что-то не то. Когда они на меня смотрят, мне тревожно, а если не смотрят – думаешь, это они тебя нарочно не замечают. Я до сих пор никогда не обращал внимания, как редко можно понять, почему человек идет по улице. Из дюжины от силы четверо занимаются чем-то, что сразу видно. О, вы меня, можно сказать, заставили задуматься! Знаете ли, для такой легковерной натуры, как я, быть настороже нелегко; этому надо учиться…
– Ба! Научитесь, быстро научитесь. Сами увидите: через какое-то время это становится просто привычкой. Увы, мне пришлось ее приобрести. Самое главное – всегда казаться веселым. Так вот, к вашему сведению: если боитесь, что за вами идут следом, не оглядывайтесь; просто уроните зонтик или трость, смотря по погоде, или платок, и, поднимая его, посмотрите себе между ног, естественным движением. Советую вам поупражняться. А теперь скажите мне, как я вам в этом наряде? Я боюсь, не проглядывает ли кое-где священник.
– Не беспокойтесь, – простодушно ответил Лилиссуар, – уверен: кроме меня, никто не сказал бы, кто вы такой. – Он с симпатией вгляделся в соседа, чуть наклонив голову. – Само собой, если посмотреть хорошенько, я и сквозь этот наряд замечаю что-то церковное, а в вашем жизнерадостном тоне – отзвуки скорби, которая гложет нас обоих; но как же вы, должно быть, владеете собой, раз это столь мало заметно! Мне же это, я вижу, дается еще с трудом, но ваши советы…
– Какие у вас любопытные запонки на манжетах, – перебил его Протос: было забавно узнать на Лилиссуаре кошечек Каролы.
– Это подарок, – ответил Амедей, покраснев.
Жара стояла несносная. Протос выглянул в дверцу купе:
– Монте-Кассино. Видите вон там, на горе, этот знаменитый монастырь?
– Вижу… – рассеянно отвечал Лилиссуар.
– Вы, как я гляжу, не большой любитель красот пути.
– Нет-нет, – возразил Лилиссуар, – я их очень люблю, но сами посудите: могу ли я хоть чем-то интересоваться, пока существует предмет моей тревоги? Так же и в Риме с его памятниками: я ничего не видел; мне было не до того, чтобы их разыскивать.
– Как я вас понимаю! – сказал Протос. – Вот и я так же – все время, пока я в Риме, только и бегаю между Ватиканом и замком Святого Ангела.
– Жаль, жаль… Но вы-то уже знаете Рим…
Так беседовали наши спутники.
В Казерте они сошли с поезда и каждый сам по себе пошел перекусить колбасой и чего-нибудь выпить.
– В Неаполе точно так же, – сказал Протос. – Когда будем подходить к вилле – пожалуйста, разойдемся. Вы пойдете за мной следом, а так как мне понадобится какое-то время объяснить ему, кто вы такой, особенно если он не один, на виллу войдете только через четверть часа.
– Кстати и побреюсь. Утром сегодня совершенно не было времени.
Трамвай привез их на площадь Данте.
– Теперь разделимся, – сказал Протос. – Идти еще довольно далеко, но так будет лучше. Идите за мной шагах в пятидесяти, да не глядите на меня все время, как будто боитесь отстать, и не озирайтесь: за вами тогда увяжутся. Глядите веселей!
Он пошел впереди; потупив очи долу, следовал за ним Лилиссуар. Узкая улица шла круто в гору; солнце жарило, пот катился градом; кругом бурлила толпа: толкалась, галдела, махала руками, распевала, кружила голову Лилиссуару. Полуголые дети танцевали под механическое пианино. Летучая лотерея по два сольдо за билет соорудилась сама собой вокруг жирного индюка, которого держал на вытянутой руке некто, похожий на бродячего клоуна; для большей натуральности Протос на ходу взял билет и затерялся в толпе; с трудом пробиваясь через давку, Лилиссуар совсем уж было подумал, что его потерял, но вскоре нашел: Протос, миновав скопление народа, трусил дальше в гору с индюком под мышкой.
Наконец дома пошли реже, ниже; меньше стало и людей вокруг. Протос замедлил шаг. Он остановился перед цирюльней, обернулся к Лилиссуару и подмигнул; еще через двадцать шагов подошел к низенькой дверце и позвонил.
Витрина цирюльника выглядела не слишком заманчиво, однако у аббата Каве были, конечно, свои резоны указать именно это заведение; к тому же Лилиссуару пришлось бы довольно далеко возвращаться, чтобы найти другую, наверняка ничуть не привлекательней. Дверь по причине страшной жары была открыта; грубая кисейная занавеска не пропускала мух, но давала проветриться помещению; чтобы войти, нужно было ее откинуть. Амедей вошел.
Искусный, видно, человек был этот цирюльник и осторожный: намылив Лилиссуару подбородок, он тут же счистил уголком салфетки пену с покрасневшего волдыря, на который ему указал боязливый клиент. Как дремотно, как одуряюще жарко было в его тихой цирюльне! Амедей, полулежа в кожаном кресле, запрокинув голову, забылся. О, не думать хоть минутку ни о папе, ни о комарах, ни о Кароле! Вообразить, что ты в По рядом с Арникой, что ты еще где-то, вообще не понимать, где ты… Он закрыл глаза, потом приоткрыл и, словно во сне, различил на стене, прямо перед собой, женщину с распущенными волосами; она выходила из неаполитанского моря и несла с собой сладострастное ощущение прохлады, а в придачу сверкающий флакон лосьона для укрепления волос. Под этим плакатом другие флаконы стояли на мраморной полочке; там же косметический карандаш, кисточка для пудры, зубные щипцы, гребешок, ланцет, банка помады, сосуд, в котором лениво плавало несколько пиявок, другой сосуд, заключавший в себе длинную ленту червя-солитера, и третий, хрустальный, без крышки, до половины наполненный каким-то студенистым веществом, с наклейкой, где причудливыми прописными буквами от руки написано было: «АНТИСЕПТИКА».
Цирюльник, чтобы довести дело до совершенства, еще раз покрыл уже выбритое лицо пахучей пеной и теперь, обнажив другую бритву, правил ее на собственной шершавой ладони и добривал начисто. Амедей уже и забыл, что его ждут, что надо куда-то идти – он засыпал… Тут какой-то громогласный сицилиец вошел в цирюльню и разрушил покой; тут и цирюльник, тотчас заговорив с ним, стал бритвой водить наугад, размахнулся и – вжик! – срезал прыщ.
Амедей вскрикнул и поднес было руку к подбородку, где заблестела капелька крови.
– Niente! niente![13] – сказал цирюльник, удерживая его. Он взял в ящике добрую порцию пожелтевшей ваты, окунул в «Антисептику» и приложил к болячке.
Уже не помышляя, озираются ли на него прохожие, – куда помчался теперь Амедей, обратно вниз, в город? Да к первому же попавшемуся аптекарю; ему показал он свою беду. Улыбнулся аптекарь, зеленоватый старик нездорового вида, взял в коробочке круглый пластырь, провел по нему широким языком – и…
Выскочив вон из аптеки, Лилиссуар плюнул от омерзения, содрал липкий пластырь, надавил на прыщ, чтобы вышло как можно больше крови. Потом, сильно послюнив носовой платок – но собственной слюной! – потер это место. Потом поглядел на часы, схватился за голову, рысью побежал опять наверх и явился у двери кардинала взмокший, взмыленный, побагровевший, окровавленный, опоздав на четверть часа.
VI
Протос встретил его, приложив палец к губам.
– Мы не одни, – поспешно произнес он. – При слугах не говорить ничего подозрительного; они все знают по-французски. Ни слова, ни жеста, который мог бы нас выдать; самое главное, не брякните как-нибудь «кардинал»: нас принимает капеллан Чиро Бардолотти, а я не аббат Каве, а просто Каве. Понятно? – Вдруг он переменил тон и закричал, хлопнув Лилиссуара по плечу: – Это он, черт побери! Амедей! Ну ты, братец, совсем закопался там со своей бородой. Еще бы пару минут – мы бы, per Baccho, сели без тебя. Индюшка на вертеле уже зарумянилась, как закатное солнце! – Тихонько: – Ах, сударь мой, знали бы вы, как мне тяжело притворяться! Сердцу больно… – И опять во всю мочь: – Это что такое? Поранился? Кровь идет? Дорино! Беги сейчас в сарай, принеси паутины! От ран лучше средства нет…
Кривляясь так, он подталкивал Амедея через вестибюль во внутренний сад, устроенный в виде террасы, где в виноградной беседке был накрыт стол.
– Дорогой Бардолотти, рекомендую господина де ла Лилиссуара, кузена моего, того самого субчика, о котором говорил вам.
– Добро пожаловать дорогому гостю, – произнес Бардолотти, широко взмахнув рукой, но даже не приподнявшись со своего кресла; вслед за тем он показал, что его босые ноги погружены в таз с прозрачной водой: – Мне омовение ног возбуждает аппетит и кровь от головы отводит.
Это был забавный человечек: маленький, очень упитанный, с безбородым лицом, ничего не говорившим о поле и возрасте. На нем была хламида из альпаки; ничто в его облике не указывало на высокий сан; только очень проницательный или заранее предупрежденный, как Лилиссуар, человек мог бы увидеть под его жизнерадостным обликом тайный след кардинальского помазания. Он опирался на край стола и лениво обмахивался остроконечной шапкой, сделанной из газеты.
– Ах, как я это все люблю! Какой приятный садик! – бормотал Лилиссуар, которому было одинаково неловко и говорить, и молчать.
– Довольно уже, намочился! – крикнул кардинал. – Все! Убирайте миску! Асунта!
Прибежала молодая хорошенькая пухленькая служанка, взяла таз и выплеснула на куртину; ее груди, выскочив из-под корсета, подрагивали под рубашкой; она смеялась, приостанавливалась около Протоса, и Лилиссуара смущала роскошь ее обнаженных рук. Дорино поставил на стол плетеные бутыли. Солнце резвилось в листьях лозы, щекотало переливчатым светом блюда на столе без скатерти.
– Мы тут без церемоний, – сказал Бардолотти и надел газету на голову. – Поймите меня хорошенько, сударь.
За ним и аббат Каве, властным голосом, разделяя слоги и стуча кулаком по столу, повторил:
– Мы тут без це-ре-моний!
Тут и Лилиссуар наконец подмигнул. Хорошо ли он их понимает? Ну да, конечно, и повторять ему не было нужды, но он тщетно пытался придумать такую фразу, которая ничего не говорила бы и все сказала бы.
– Говорите! Говорите! – шептал ему на ухо Протос. – Придумайте каламбур; тут все очень хорошо понимают по-французски.
– Пошли, садимся! – сказал Чиро. – Каве, дорогой, взрежьте этот арбуз да изобразите из него турецкие полумесяцы. Господин Лилиссуар, а вы не из тех ли, кто больше любит вычурные северные дыни: сахарные, прескоты, еще какие-то канталупы, – чем наши итальянские, тающие на губах?
– Уверен, что с ними ничто не сравнится, но я, с вашего позволения, воздержусь: меня немножко мутит, – ответил Амедей; у него подступало к горлу от мерзкого воспоминания об аптекаре.
– Тогда хотя бы фиги! Только что с дерева, Дорино нарвал.
– Простите меня, фиги тоже не могу.
– Плохо! Очень плохо! Каламбурьте! – шептал ему Протос на ухо, а вслух сказал: – Ну так мы вашу муть винцом осадим и подготовим сосуд для индюшки. Асунта, налей дорогому гостю!
Амедею пришлось чокаться и пить больше, чем он привык; к этому добавились жара и усталость: у него поплыло в глазах. Он уже не так натужно шутил. Протос заставил его петь; голосок у него был писклявый, но все пришли в восторг; Асунта чуть не расцеловала его. Но из глубин его потрепанной веры поднималась страшная тоска; он смеялся, чтобы не расплакаться. Он восхищался ловкостью, натуральностью Каве. Кто еще, кроме Лилиссуара и кардинала, мог бы заподозрить в нем притворство? Впрочем, Бардолотти силой перевоплощения, умением владеть собой ни в чем не уступал аббату; он хохотал, и рукоплескал, и пихал кулаком в бок Дорино, когда Каве держал Асунту, запрокинутую, на руках и взасос лобызался с ней, а когда Лилиссуар, разрываясь душою, склонился к Каве и сказал: «Как вы, должно быть, страдаете!» – аббат за спиной у Асунты взял его за руку и крепко пожал, ни слова не говоря, отвернувшись и возведя очи горе.
Потом он вдруг встал и хлопнул в ладоши:
– Все! Оставьте нас одних! Нет-нет, потом приберете. Идите отсюда! Via! Via![14]
Он убедился, что Дорино и Асунта не остались подслушивать, и вернулся, мгновенно посерьезнев и посуровев, а кардинал, проведя по лицу рукой, разом согнал с него наносную мирскую веселость.
– Видите, господин де Лилиссуар, дитя мое, до чего нас довели! Какая комедия! Какая постыдная комедия!
– Из-за нее, – подхватил Протос, – нам уже противна и самая честная радость, самое непорочное веселье.
– Господь помилует вас, дорогой мой аббат Каве, – сказал кардинал, обратившись к Протосу, – помилует и воздаст вам за то, что вы помогаете мне испить чашу сию. – С этими словами он залпом допил оставшуюся половину своего бокала, а на лице его рисовалось самое скорбное отвращение.
– Возможно ли! – воскликнул, покачиваясь, Лилиссуар. – Возможно ли, что и в этом убежище, в этом притворном наряде ваше преосвященство должны…
– Сын мой, не называйте меня преосвященством.
– Простите, но среди своих…
– Я и с собой наедине трепещу.
– Вы не можете подбирать себе слуг?
– Их подбирают мне другие, а эти, которых вы видели…
– О, если бы я только сказал вам, – прервал его Протос, – куда они доложат о каждом нашем словечке!
– Возможно ли, чтобы в архиепископстве…
– Тсс! Забудьте об этих высоких титулах! Нас из-за вас посадят. Не забывайте: вы говорите с каноником Чиро Бардолотти.
– Я весь в их власти, – простонал Чиро.
А Протос, облокотившись на стол, перегнулся через него и вполоборота повернулся к Чиро:
– А что, если я ему скажу, что вас не оставляют одного ни на час ни ночью, ни днем!
– Да, какой бы наряд я ни надел, – подхватил мнимый кардинал, – я никогда не уверен, что у меня на хвосте не сидит какая-нибудь тайная полиция.
– Как! Здесь тоже знают, кто вы?
– Вы ничего не поняли, – сказал Протос. – Перед Богом скажу: между кардиналом Сан-Феличе и неким безвестным Бардолотти вы один из очень немногих, кто может похвалиться, что нашел хоть малейшее сходство. Но поймите же следующее: враг у нас не один. И пока в недрах архиепископского дворца кардинал обороняется от франкмасонов, Бардолотти живет под надзором иезуитов.
– Иезуитов! – в отчаянье произнес капеллан.
– Этого я еще не говорил ему, – пояснил Протос.
– О! Иезуиты тоже против нас! – простонал Лилиссуар. – Кто бы мог подумать! Иезуиты! Вы уверены?
– Подумайте сами немного: вы найдете, что это вполне естественно. Поймите, что эта новая политика Святого престола – политика примирения и приспособления, – как нарочно, должна им нравиться, что они находят в последних энцикликах свою выгоду. Может быть, они и не знают, что их издал не настоящий папа, но им было бы неприятно, если бы не стало этого.
– Если я вас правильно понимаю, – сказал Лилиссуар, – иезуиты в этом деле сговорились с масонами?
– Откуда вы взяли?
– Но об этом сейчас сказал господин Бардолотти.
– Не приписывайте ему такую глупость.
– Простите меня: я так плохо разбираюсь в политике…
– Вот и не додумывайте сверх того, что вам сказали: есть две мощные партии – Ложа и орден Иисуса; а поскольку мы, посвященные в тайну, не можем, не раскрывшись, получить помощь ни от тех, ни от других, то обе они сейчас против нас.
– Ну, что вы об этом думаете? – спросил кардинал.
Лилиссуар уже ничего ни о чем не думал: он чувствовал себя совсем одуревшим.
– Все против тебя! – продолжал Протос. – Так всегда бывает с теми, кто обладает истиной.
– О, как я был счастлив, когда не знал всего этого! – чуть не плакал Лилиссуар. – Увы! Теперь уже никогда я не смогу этого не знать!
– А он вам не все еще говорит, – продолжал Протос и ласково тронул Амедея за плечо. – Приготовьтесь к самому страшному… – Протос наклонился к нему и сказал полушепотом: – Несмотря на все наши старания, секрет просочился. В преданных Церкви департаментах какие-то мошенники пользуются этим, приходят в разные семейства и от имени Крестового похода выманивают у них деньги, которые должны были достаться нам.
– Какой ужас!
– Мало того, – сказал Бардолотти. – Они внушают недоверие к нам, так что мы вынуждены усугубить свою хитрость и осторожность.
– Нате, прочтите это! – сказал Протос и протянул Лилиссуару номер «Круа». – Газета позавчерашняя. Вот тут просто маленькая заметка – из нее все ясно!
«Мы всячески должны предостеречь боголюбивых братьев и сестер, – прочел Лилиссуар, – от махинаций мнимых священнослужителей и особенно одного лжеканоника, который выдает себя за посланного с тайной миссией и, пользуясь легковерием некоторых, вымогает деньги якобы на дело, именуемое «Крестовым походом за освобождение папы». Само название говорит о нелепости этой затеи».
Лилиссуар чувствовал, как земля колеблется и уходит у него из-под ног.
– На кого же теперь положиться! А теперь я вам скажу, господа: может быть, из-за этого жулика – я имею в виду лжеканоника – я и сам теперь с вами!
Аббат Каве сурово посмотрел на кардинала, потом стукнул кулаком по столу:
– Ну вот, я так и знал!
– У меня теперь все основания бояться, – продолжал Лилиссуар, – как бы то лицо, от которого я узнал о деле, само не было жертвой махинаций этого бандита.
– И я бы не удивился, – заметил Протос.
– Вот теперь вы видите, – продолжил Бардолотти, – в каком мы трудном положении: с одной стороны жулики, присвоившие нашу роль, с другой – полиция, которая за ними охотится и вполне может принять нас за них.
– Так, значит, – простонал Лилиссуар, – уже и не знаешь, куда податься: куда ни кинь, всюду клин.
– После этого вы еще удивляетесь нашей чрезвычайной осторожности? – спросил Бардолотти.
– И понимаете, – продолжил за ним Протос, – отчего мы временами не гнушаемся надеть одежды греха и притворяться, что поддаемся самым недозволенным удовольствиям?
– Увы! – прошептал Лилиссуар. – Вы-то притворяетесь, симулируете грех, чтобы скрыть свою добродетель. Я же… – И, поскольку винные пары в нем смешались с туманом печали, а икота с рыданиями, он склонился к Протосу и сначала изверг из себя обед, а потом кое-как поведал о своем вечере с Каролой, о скорби по утраченному своему девству. Бардолотти и аббат Каве еле удерживались, чтобы не расхохотаться в голос.
– Но вы исповедовались, сын мой? – спросил кардинал, исполнившись сострадания.
– На другое же утро.
– И священник дал вам отпущение?
– Слишком легко. Это-то меня как раз и мучает… Но разве мог я ему поведать, что я не обычный паломник, рассказать, что привело меня в эту страну? Нет, нет! Теперь все кончено: отменно высокая миссия требовала и служителя беспорочного. Я был избран. Теперь все кончено. Я пал! – Его опять сотрясли рыдания; он часто колотил себя в грудь, твердил: «Я недостоин! Я недостоин!» – а потом продолжил нараспев, словно певчий: – Внемлющие мне ныне и ведающие печаль мою, судите меня, терзайте меня, карайте меня… Какую, скажите, наложите епитимию великую, что очистит меня от прегрешения величайшего? Какую кару?
Протос и Бардолотти переглянулись. Капеллан Чиро встал и похлопал Амедея по плечу:
– Ладно, ладно, сын мой! Не надо же так все-таки! Ну да, вы согрешили. Но мы в вас меньше от этого не нуждаемся, какого черта! (Вы весь замарались, нате, вот вам салфетка, оботритесь!) Впрочем, я понимаю вашу скорбь, и, раз уж вы воззвали к нам, мы подскажем, как искупить грех. (У вас ничего не выходит, дайте я вам помогу.)
– О, не трудитесь, благодарю, благодарю! – говорил Лилиссуар, а Бардолотти, не переставая обтирать его, продолжал:
– Я все же понимаю ваши сомнения, и, снисходя к ним, мы сперва дадим вам совсем маленькое, не приносящее славы поручение, которое даст вам возможность проявить себя и испытает вашу верность.
– Только этого я и ждал.
– Так вот: аббат Каве, друг мой, у вас при себе тот чек?
Протос вынул из внутреннего кармана плаща какую-то бумажку.
– Сидя в осаде, – продолжал кардинал, – нам иногда бывает не совсем легко получить наличными приношения, что посылают нам некоторые добрые души по тайным призывам. За нами разом следят франкмасоны с иезуитами, полиция с бандитами, так что нам не следует предъявлять чеки на почте или в банках – там, где наши личности можно опознать. Мошенники, о которых говорил вам аббат Каве, так дискредитировали эти сборы! (Протос меж тем нетерпеливо барабанил пальцами по столу.) Словом, вот вам скромненький документик на шесть тысяч франков; я прошу вас, дражайший сын мой, получить по нему за нас. Он выдан на «Коммерческий кредит» в Риме герцогиней Понте-Кавалло; предназначен архиепископу, но имя получателя благоразумно оставлено пустым, так что получить по нему может любой предъявитель; со спокойной душой подпишите его вашим настоящим именем – оно не возбудит никаких подозрений. Смотрите хорошенько, чтобы у вас не украли ни чек, ни… Что такое, дорогой аббат? Вы, кажется, нервничаете.
– Продолжайте.
– Ни деньги, которые вы мне передадите… когда же? Так, в Риме вы будете сегодня к ночи; завтра вечером можете сесть на шестичасовой скорый; в десять вечера будете снова в Неаполе и встретитесь со мной на перроне; я вас буду ждать. После этого мы подумаем, каким более достойным делом занять вас… Нет, сын мой, не целуйте мне руку: вы же видите, она без перстня.
Он коснулся лба Амедея, вставшего перед ним в земном поклоне; потом Протос взял паломника под локоть и легонько потряс:
– Ну же, ну! Выпейте еще глоток на дорожку. Мне очень жаль, что я не могу ехать с вами в Рим, но у меня здесь еще много разных дел, да и лучше, чтобы нас не видели вместе. Счастливо! Обнимемся, дорогой Лилиссуар. Храни вас Бог! И слава ему, что сподобил меня познакомиться с вами.
Он проводил Лилиссуара до двери; на прощанье сказал еще:
– Сударь, сударь мой, что же вы скажете о кардинале? Не тяжко ли видеть, во что превратили преследования столь гордый ум?
Потом возвратился к самозванцу:
– Ты, дубина! Нашел, что придумать: дал получить по своему чеку такому лопуху! У него даже паспорта нет, а мне придется глаз с него не спускать.
Но Бардолотти, одолеваемый тяжкой дремотой, уронил голову на стол и прошептал:
– Надо же старичкам давать работу…
Протос пошел в комнату, снял парик и крестьянскую одежду. Вскоре он появился помолодевшим лет на тридцать и выглядел как продавец магазина или банковский клерк из самых захудалых. У него уже почти не было времени успеть на поезд, с которым должен был уехать и Лилиссуар; Бардолотти спал; Протос уехал, не простившись с ним.
VII
В тот же вечер Лилиссуар вернулся в Рим на виа деи Векьерелли. Он очень устал и добился у Каролы позволения поспать.
На другой день с утра прыщ на ощупь показался ему странным; он посмотрел на него в зеркало и увидел, что на порезе появился желтоватый струп и все это выглядело очень нехорошо. Тут он услышал, что Карола топчется у порога, позвал ее и попросил посмотреть болячку. Она подвела Лилиссуара к окну и с первого же взгляда объявила:
– Нет, ты не думай, это не то.
Вообще-то Амедей и не думал про то, но попытка соседки успокоить его, напротив, его растревожила. Ведь, между прочим, раз она сказала, что это не то – значит, могло быть и то. Да и на самом ли деле она уверена, что не то? А ему ведь казалось вполне естественным, чтобы это оказалось тем: ведь он же согрешил – значит, заслужил и то самое. Как же иначе? Мурашки пробежали у него по спине.
– Как это случилось? – спросила она.
Ах, какое значение могла иметь случайная причина: бритва цирюльника или слюна фармацевта, – причина существенная была в том, что он заслужил это возмездие. Но как ей сказать об этом благопристойно? И поймет ли она его? Посмеется, конечно… Она переспросила опять; он ответил:
– Цирюльник срезал.
– Ты бы сюда что-нибудь приложил.
Такая забота рассеяла его последние сомненья: то, что она сказала сперва, было сказано лишь в утешение; он уже видел лицо и тело свои сплошь изъеденными язвами, которые вызывают ужас Арники; его глаза наполнились слезами.
– Так ты думаешь…
– Да нет же, козлик, не убивайся ты так; смотришь, как будто на похороны собрался. Да если б это было то, еще ничего не было бы видно.
– Как не то! Как не видно! Все кончено со мной! Кончено! – твердил он.
Она стала еще ласковей:
– Да оно совсем не так и начинается; хочешь, спросим хозяйку? Она расскажет. Не хочешь? Ну так погуляй немножко, развейся, марсалы выпей…
Она немного помолчала, потом снова не выдержала:
– Послушай, я тебе одну важную вещь скажу. Ты вчера не встречался с одним таким седым священником?
Откуда она знала? Потрясенный Лилиссуар спросил:
– А что?
– Понимаешь… – Она еще помолчала нерешительно, потом взглянула на него – он так побледнел, что ее словно вихрем понесло дальше: – Понимаешь, ты его бойся! Он тебя ощиплет, цыпленочек мой бедный, правда, ощиплет! Не след бы мне это говорить тебе, только… ты бойся его!
Совершенно ошеломленный этой речью, Амедей собрался уходить. Он был уже на лестнице; Карола окликнула его:
– А если его опять увидишь – только не говори ему, что я тебе сказала! Это все равно что убить меня.
Жизнь решительно становилась чересчур сложна для Амедея. Кроме того, ноги у него замерзли, лоб горел и все мысли в голове путались. Откуда ему теперь знать – может быть, и аббат Каве мошенник? Тогда, значит, и кардинал? А как же этот чек? Он вынул бумажку из кармана, ощупал, убедился в ее реальности. Нет-нет, не может быть! Карола ошибалась. Да и что она знает о таинственных причинах, которые заставляют бедного Каве вести двойную игру? Здесь, наверное, следует скорее усматривать какую-нибудь мелкую месть Батистена, от которого добрый аббат как раз предостерегал Амедея… Не важно! Он только станет смотреть еще зорче: будет остерегаться Каве так же, как остерегался Батистена… а может, и самой Каролы надобно остерегаться?
– Вот оно, – думал Лилиссуар, – и следствие, и доказательство изначального изъяна, потрясения Святого престола: все разом идет ко дну. Что может быть верно, кроме папы? А когда сей краеугольный камень, на котором основана Церковь, пошатнулся, ничто не заслуживает быть правдой.
Амедей торопливо трусил по улице к почте: он очень надеялся получить какие-то вести с родины – честные, на которые можно будет наконец опереть пошатнувшееся доверие. От легкой утренней дымки, от обильного света, в котором каждый предмет становился нереальным и зыбким, голова у него еще больше кружилась; он шел как во сне, сомневаясь, тверды ли земля и стены, и вовсе уже не веря, что существуют встречные прохожие, а главное – сомневаясь в реальности Рима. Он щипал себя, чтобы стряхнуть этот кошмарный сон, чтобы очнуться в По, в своей постели, чтобы Арника, уже встав, как обычно, склонилась над ним и спросила: «Хорошо ли вы спали, друг мой?»
Служащий на почте его узнал, и ему без всяких затруднений было выдано очередное письмо от супруги.
«…Я только что узнала от Валентины де Сен-При, – писала Арника, – что Жюльюс тоже в Риме, приглашен на какой-то конгресс. Как мне радостно думать, что ты можешь с ним там повстречаться! К сожалению, адрес его Валентина мне дать не смогла. Ей кажется, он поселится в «Гранд-Отеле», но она не уверена. Знает только, что утром в четверг его должны принимать в Ватикане: он писал кардиналу Пацци и через него просил аудиенции. Он проезжал через Милан, где видел Антима, который живет очень плохо, потому что не получил обещанного от Церкви в связи с его делом; поэтому Жюльюс хочет видеть Святейшего Отца и у него искать справедливости: ясно, что папа об этом еще ничего не знает. Он расскажет ему о своем визите, а ты можешь объяснить ему, в чем дело.
Я надеюсь, ты остерегаешься от дурного воздуха и не слишком себя утомляешь. Гастон заходит ко мне ежедневно; нам очень тебя не хватает. Как я буду рада, когда ты нас известишь о своем возвращении…» – и прочее.
На четвертой странице были наискось нацарапаны карандашом несколько слов от Блафаффаса:
«Если поедешь в Неаполь, справься там, как они делают дырки в макаронах. Я на пути к новому изобретению».
Радость наполнила сердце Амедея звонким трубным звуком, но к ней примешалось некоторое смятение: четверг, день аудиенции, был именно сегодняшний день. Он не решался сдавать белье в стирку, а оно у него кончалось: во всяком случае, он боялся, что его не хватит. Сегодня с утра он надел вчерашний воротничок, но как только узнал, что может встретиться с Жюльюсом, как воротничок ему стал сразу казаться недостаточно свежим. Это омрачало радость грядущей встречи. Нечего было и думать еще раз зайти на виа деи Векьерелли, если он хотел встретить свояка при выходе с аудиенции (это его смущало не так, как визит в «Гранд-Отель»). Он не забыл по крайней мере подвернуть манжеты, а воротничок скрыл под шарфом – от этого еще была и та польза, что не так видно прыщ на подбородке.
Но что ему в этих безделицах? Главное, что Лилиссуар от письма жены почувствовал несказанную бодрость, и ожидание встречи с кем-то из своих, из прошлой жизни, вдруг поставило на место кошмары, взлелеянные воображением странника. Аббат Каве, Карола, кардинал – это все витало перед ним как во сне, вдруг прерванном пением петуха. Ну зачем он уехал из По? Какой был смысл в этой нелепой сказке, разрушившей его блаженство? Черт побери! В Риме есть папа; через несколько минут Жюльюс сможет заявить: я его видел! Папа есть, и этого достаточно. Да попустит ли Бог эту чудовищную подмену, в которую он, Лилиссуар, ни за что бы сам не поверил, если бы не горделивое нелепое желание сыграть какую-то роль в этом деле?
Амедей торопливо трусил по улице; он еле удерживался, чтобы не побежать. Наконец он вновь осмелел, а кругом него все опять обретало надежный вес, меру, подобающие пропорции и правдоподобное существование. Соломенную шляпу он держал в руке; подойдя к собору, он исполнился такого высокого упоения, что принялся ходить вокруг правого фонтана, останавливался, орошая лицо брызгами его струй, относимыми ветром, и улыбался радуге.
Вдруг он остановился. Кто это там сидел, совсем рядом, на цоколе четвертой колонны – уж не Жюльюс ли? Амедей с трудом его узнавал: одет граф был, правда, вполне прилично, но держал себя очень вольно: черную соломенную шляпу повесил на крючковатую рукоять трости, а трость воткнул рядом с собой между булыжниками; совсем забыв о достоинстве места, он сидел нога на ногу, словно пророк из Сикстинской капеллы, на коленке держал тетрадь, а в поднятой руке карандаш; иногда он вдруг опускал карандаш на страницу и начинал писать, повинуясь лишь вдохновению столь настоятельному, что, пройдись Амедей перед ним колесом, он и то бы его не заметил. Не переставая писать, Жюльюс говорил что-то: шум фонтана, правда, заглушал звук его слов, но ясно было видно, как шевелятся губы.
Амедей подошел, тихонько став позади колонны, и тронул его за плечо; в этот миг Жюльюс декламировал:
– Но если так, то что нам за дело!
Он записал эти слова в самом низу страницы, закрыл тетрадь, убрал карандаш в карман, резко поднялся и оказался нос к носу с Амедеем.
– Батюшки светы! Как вы здесь?
Амедей, трепеща от волнения, мычал и не мог ничего сказать, только судорожно сжимал обеими руками ладонь Жюльюса. Тот пристально глядел на него:
– Бедняжка мой, какой же у вас вид!
Провидение сильно обделило Жюльюса: было у него два свояка – один стал весь елейный, другой дышал на ладан. Он не виделся с Амедеем года два с половиной – и встретил его постаревшим лет на дюжину; щеки его ввалились, кадык заострился; в малиновом шарфе он казался еще бледнее; голова его дрожала; он вращал разноцветными глазами, думая, что похож на оратора, но походил он на клоуна; из вчерашней поездки он вывез загадочную хрипоту, и слова приходили к нему словно откуда-то издалека. Весь захвачен мыслию одной, он спросил:
– Так вы его видели?
Жюльюс был захвачен своими.
– Кого? – спросил он.
Это «кого?» прозвучало для Амедея как похоронный звон, как страшное богохульство. Он осторожно задал наводящий вопрос:
– Я полагал, вы были сейчас в Ватикане?
– Да, правда… я и забыл, простите. Если бы вы знали, что со мной происходит!
Его глаза блестели – он словно рвался вон из кожи.
– О, пожалуйста, прошу вас, – взмолился Лилиссуар, – об этом потом; расскажите сперва о том, что там было. Мне не терпится знать…
– Это вам так интересно?
– Вы скоро поймете, до чего интересно. Говорите, говорите, я вас очень прошу!
– Ну так вот, – начал Барайуль, взяв под руку Лилиссуара и уводя его прочь от собора. – Быть может, вы слышали, в какую нужду ввергло нашего Антима его обращение? Он до сих пор тщетно ожидает возмещения, которое Церковь обещала ему взамен отобранного франкмасонами. Антима надули – это приходится признать… Дорогой друг, считайте эту историю чем вам угодно: по-моему, это самый настоящий фарс, но без него я, быть может, не разобрался бы в том, что нынче меня занимает, о чем я хотел беседовать с вами… Вот это что: существа без причин и следствий! Это очень важные слова… и, должно быть, под этой видимой беспричинностью кроется причинность более тонкая, скрытая от взора; важно то, чем же вызываются поступки таких людей: уже не одной только выгодой, или, как вы обычно говорите, они побуждаемы не только материальными стимулами.
– Я не поспеваю за вашей мыслью, – сказал Амедей.
– Правда, правда; простите меня; я уклонился от рассказа о своем визите. Итак, я решил взять дело Антима на себя. Ах, друг мой, если бы видели ту квартиру, которую он нанимает в Милане! Я ему сразу сказал: «Вы здесь не можете оставаться». А как Вероника несчастна – подумать только! А он превратился в аскета, в монаха; никому не позволяет жалеть себя, а главное – осуждать духовенство! «Друг мой, – сказал я ему, – я согласен: высшие иерархи неповинны, но это значит, что им неизвестно дело! Позвольте мне рассказать им о нем».
– Я полагал, кардинал Пацци… – проронил Лилиссуар.
– Вот-вот, ничего с ним не получилось. Вы же понимаете, что такое большие сановники – все боятся ответственности… Чтобы дело пошло, нужен был кто-то, в него не замешанный, – я, например. Ведь каким восхитительным образом делаются открытия! Важнейшие, добавлю, открытия; можно подумать, является некое внезапное озарение, а в сущности, человек никогда не переставал об этом думать. Вот так уже давно меня тревожило, что мои персонажи чересчур логичны, но их поступки недостаточно мотивированы.
– Боюсь, вы опять ушли в сторону, – тихонько заметил Лилиссуар.
– Нисколько, это вы не следите за моей мыслью, – возразил Жюльюс. – Одним словом, я решил обратиться с ходатайством к самому Святейшему Отцу и нынче утром понес ему это прошение.
– И что же? Скажите скорей: вы его видели?
– Дорогой Амедей, если вы будете меня все время перебивать… Ну так вот: и представить себе невозможно, как трудно его увидеть.
– Так и есть! – сказал Амедей.
– Простите?
– Ничего, это потом.
– Прежде всего я сразу лишился надежды передать ему прошение. Оно у меня было в руке – самая невинная бумажная трубочка, но уже во второй передней (или в третьей – не помню точно) какой-то здоровый малый в красно-черном мундире у меня его очень вежливо отобрал.
Амедей бесшумно захихикал, как человек, который знает, в чем дело, но знает про себя.
– В следующей прихожей с меня сняли шляпу и положили на столик. В пятой и в шестой я долго ждал вместе с двумя дамами и тремя прелатами; потом кто-то вроде камердинера позвал меня и провел в соседнее помещение. Не успел я предстать перед лицом Святейшего Отца (он сидел, насколько я мог заметить, на чем-то вроде престола, а над ним было что-то вроде балдахина), тот же человек велел мне пасть ниц, что я и сделал, так что больше уже ничего не видел.
– Но вы же не все время так лежали, уткнувшись лбом в землю, и не…
– Дорогой Амедей, говорите что хотите, но вы же знаете, какими слепцами делает нас почтение к высшим! Мало того что я и сам не смел поднять голову – кто-то вроде дворецкого чем-то вроде линейки как бы постукивал меня по затылку, едва я заговаривал об Антиме, и я опять склонялся ниц.
– Но он вам что-то хотя бы сказал?
– Сказал… говорил о моей книге и признался, что не читал ее.
– Дорогой мой Жюльюс, – сказал Амедей, немного помолчав, – то, что вы мне рассказали, как нельзя более важно. Итак, вы его не видели, и из всего вашего рассказа я заключаю, что видеть его на удивление трудно. Увы! Это все подтверждает самые черные подозрения. Жюльюс, теперь я должен сказать вам… только отойдемте вот сюда, здесь улица слишком людная…
Он оттащил Жюльюса в пустынный переулочек; тому было так забавно, что он и не сопротивлялся.
– Сейчас я вам доверю такую важную тайну… Только не подавайте вида. Притворимся, что болтаем о пустяках, а вы приготовьтесь выслушать нечто ужасное… Жюльюс, друг мой, тот, кого вы видели сегодня утром…
– Так и не видел, хотели вы сказать.
– Именно… Он не настоящий.
– Простите?
– Я говорю, вы не могли увидеть папу по той чудовищной причине, что… я знаю из секретного, но очень надежного источника: настоящий папа похищен.
На Жюльюса это поразительное откровение произвело самое неожиданное действие: он вдруг отпустил руку Амедея и бросился через весь переулок с воплем:
– Нет, нет, нет! Ни за что! Уж это позвольте!
Потом вернулся к своему спутнику:
– Что ж это! Мне удается – с огромным трудом удается – выкинуть все это из головы; я убеждаюсь, что здесь нечего ждать, нечего предполагать, не на что надеяться; что Антима надули, что надули нас всех, что это сплошная химия, над которой остается только посмеяться… и что? Я стал свободен, и не успел я утешиться, как являетесь вы и говорите мне: стоп! Ошибочка вышла – начинай все сначала. Ну уж нет! Ни в коем случае! На том стою. Не настоящий? Вот и ладно.
Лилиссуар совсем растерялся.
– А если и Церковь… – сказал было он и пожалел, что хрипота не дает ему быть красноречивым: – А если и Церковь надули?
Жюльюс встал к нему лицом, почти перегородив переулок, и резко, насмешливо, как никогда раньше не говорил, произнес:
– Так вам-то что с того?
Тогда у Лилиссуара явилось сомнение, новое, жуткое, гнездившееся в зыбких глубинах его непокоя:
Жюльюс, сам Жюльюс, тот, с которым он говорит, тот, на кого он уповал, желал утвердить свою поколебавшуюся веру в действительность, – может, и он не настоящий Жюльюс?
– Как! Вы ли это говорите? Вы, моя надежда и опора! Вы, Жюльюс! Граф де Барайуль, чьи сочинения…
– Не говорите мне о моих сочинениях, очень прошу вас. Довольно мне того, что утром со мной о них говорил ваш папа – настоящий, подложный, все равно. А я благодаря моему открытию надеюсь, что вперед они будут лучше. Ведь меня так и распирает поговорить с вами о серьезных вещах. Вы пообедаете со мной, не так ли?
– Извольте, но только я рано уйду; меня вечером ждут в Неаполе… как раз по тому делу, о котором я вам еще расскажу. Надеюсь, вы не поведете меня в «Гранд-Отель»?
– Нет, пойдемте в «Колонну».
Жюльюсу и самому не хотелось, чтобы его видели в «Гранд-Отеле» в обществе такого ошметка, как Лилиссуар, а тому, бледному и совершенно разбитому, было не по себе от того, что в ресторане свояк усадил его на ярком свету, прямо напротив себя, и глядел испытующе. И если бы еще его взгляд направлялся прямо в глаза, но нет: Амедей чувствовал, что он направлен поверх малинового шарфа на шею, в то постыдное место, где вздувался подозрительный прыщ, и понимал, что уличен. Когда официант принес закуски, Барайуль сказал:
– Вам бы серные ванны попринимать.
– Это совсем не то! – живо возразил Лилиссуар.
– Вот и хорошо, – ответил Барайуль, который, впрочем, ни о чем таком и не думал. – Я вам так, между прочим посоветовал.
Потом он откинулся на спинку стула и заговорил профессорским тоном:
– Так вот, послушайте, дорогой Амедей: сдается мне, что после Ларошфуко и тех, кто был вслед за ним, мы шибко заморочили себе голову; что выгода не всегда руководит человеком; что бывают поступки бескорыстные…
– Надеюсь, что так, – благодушно перебил Лилиссуар.
– Не торопитесь соглашаться. Под словом «бескорыстные» я понимаю – бесцельные. И зло – то, что называют злом, – может быть таким же бесцельным, как и добро.
– А зачем же его тогда творить?
– О том и речь! Из роскошества, из мотовства или ради игры. Ведь я утверждаю, что самые бескорыстные души не всегда самые безупречные в католическом смысле слова; наоборот, с церковной точки зрения совершеннее всего устроена душа, которая лучше всех умеет сводить приход с расходом.
– А перед Богом всегда чувствует себя в неоплатном долгу, – елейно выговорил Лилиссуар, стараясь держаться на высоте положения.
Жюльюса явно раздражали замечания свояка – они ему казались дурацкими.
– Безусловно, презрение к тому, что может быть полезно, – признак некоторого аристократизма души…
Итак, допустим существование души, избежавшей влияния катехизиса, приспособленчества, расчетов, – души, которая вовсе ни с чем не считается…
Барайуль ждал согласия, но…
– Нет! нет! Тысячу раз нет! Не допустим! – яростно вскричал Лилиссуар. Вдруг, сам испугавшись того, как прозвучал его голос, он наклонился к Барайулю: – Будем говорить тише: нас слушают.
– Неужели? Кому же, по-вашему, может быть интересен наш разговор?
– О, друг мой, я вижу, вы совсем не знаете здешний народ. А я с ними уже познакомился. Четвертые сутки я живу среди них – и со мной все время что-то приключается! И эти приключения, клянусь вам, вдолбили в меня совсем не присущую мне осторожность. За нами все время следят.
– Вам все это мерещится.
– Увы! Как я был бы рад, если бы все это существовало только в моем мозгу. Но что же делать? Когда ложное заняло место истинного, истинному приходится менять обличье. Мне поручена миссия, о которой я вам сейчас скажу; я зажат между Ложей и орденом Иисуса; со мной все кончено. Я всем подозрителен, все подозрительны мне. А что, если я вам признаюсь, друг мой: только что, когда вы на скорбь мою отвечали такой насмешкой, я усомнился, говорю ли я с настоящим Жюльюсом или с какой-то подделкой под него? А если скажу, что нынче утром я усомнился, что я это я, что я здесь, в Риме, – или, может быть, мне только снится, что я здесь, и скоро я проснусь дома, в По, спокойно лежа рядом с Арникой, в привычной своей обстановке?
– Друг мой, у вас была горячка.
Лилиссуар схватил его за руку и возгласил:
– Горячка! Верно вы сказали: у меня горячка. Горячка, от которой не исцеляются и не хотят исцелиться. Горячка, признаюсь, которую, надеялся я, все же подхватите и вы, когда узнаете то, что я вам поведал; горячка, которой, признаюсь, надеялся я заразить и вас, чтобы мы вместе горели, брат мой! Но нет! Теперь вижу ясно: одинок я на сумрачной стезе, которой иду, которой должен идти, – и то, что вы мне сказали, также обязывает меня. Так что же! Так это правда, Жюльюс? Так его никто не видит? Его увидеть никак нельзя?
– Друг мой, – ответил Жюльюс, освобождаясь от впавшего в экстаз Лилиссуара и кладя руку на его плечо. – Друг мой, и я признаюсь вам кое в чем, в чем не смел признаться только что. Когда я предстал перед Святейшим Отцом… в общем, меня одолело рассеяние.
– Рассеяние! – воскликнул ошеломленный Лилиссуар.
– Да: вдруг я понял, что думаю совсем о другом.
– Верить ли мне вашим словам?
– Ибо тут-то и посетило меня озарение. Но тогда, думал я, развивая свою первоначальную мысль, если предположить, что дурное дело, преступление бесцельно – тогда оно невменяемо, а совершивший его не может быть уличен.
– Ох, вы опять об этом… – в отчаянье вздохнул Амедей.
– Ведь побуждение, мотив преступления – это же та петелька, за которую цепляют преступника. И судья ведь будет утверждать: «Id fecit cui prodest»[15]. Вы изучали право, не так ли?
– Извините… – сказал Амедей. Пот катился у него по лбу.
Но в этот момент их разговор совершенно неожиданно прервался: ресторанный лакей поднес им на тарелке конверт, на котором была написана фамилия Лилиссуара. В полном недоумении он вскрыл конверт и прочел такую записку:
«Вам нельзя терять ни минуты. Неаполитанский поезд идет в три часа. Попросите господина де Барайуля проводить вас в «Коммерческий кредит» – его там знают, и он сможет подтвердить вашу личность. Каве».
– Ну, что я вам говорил? – сказал полушепотом Амедей. Ему стало даже легче от этого происшествия.
– В самом деле, очень необычно. Откуда они, черт возьми, знают мое имя? И что у меня есть дела в «Коммерческом кредите»?
– Эти люди все знают, я же вам говорил.
– Мне не нравится тон этой записки. Этот человек мог хотя бы извиниться за то, что нас прервал.
– К чему? Он знает: моя миссия прежде всего… Мне надо получить деньги по чеку… Нет, мы с вами здесь никак не можем разговаривать: вы же видите – за нами следят. – Он посмотрел на часы: – И вправду уже нет времени.
Он звонком позвал официанта.
– Не надо! Не надо! – сказал Жюльюс. – Я вас угощаю. «Коммерческий кредит» отсюда недалеко; при необходимости мы возьмем фиакр. Не волнуйтесь вы так… Да, вот еще хотел вам сказать: раз вы сегодня едете в Неаполь, к вашим услугам мой круговой билет; он на мое имя, но это не важно. (Жюльюс любил делать одолжения.) Я в Париже не рассчитал, думал, что поеду еще дальше на юг, вот и взял его, но сейчас меня здесь держит конгресс… Сколько времени вы там пробудете?
– Как можно меньше. Надеюсь завтра уже быть здесь.
– Так я буду ждать вас к ужину.
В «Коммерческом кредите» благодаря рекомендации графа де Барайуля Лилиссуару без всяких трудностей выдали на его чек шесть тысячных купюр, и он положил их во внутренний карман пиджака. Впрочем, он кое-как рассказал свояку и историю этого чека, рассказал про аббата и кардинала; Барайуль, провожая его на вокзал, слушал вполуха.
По дороге Лилиссуар зашел в магазин купить воротничок, но не надел его сразу, чтобы не заставлять ждать Жюльюса, который остался стоять перед лавочкой.
– А чемодан вы с собой не берете? – спросил тот, когда они вновь встретились.
Конечно, Лилиссуар с удовольствием зашел бы захватить свой плед, туалетные принадлежности, ночную рубашку и туфли, но признаться Барайулю в виа деи Векьерелли!..
– Да ведь всего на одну ночь! – небрежно ответил он. – К тому же нам некогда сейчас заезжать ко мне в гостиницу.
– А кстати, где вы остановились?
– За Колизеем, – наугад ответил Амедей. С тем же успехом он мог сказать «под мостом».
Жюльюс еще раз поглядел на него.
– Странный же вы человек!
Неужели он вправду казался таким нелепым? Лилиссуар вытер себе лоб. Они дошли до вокзала, прошли еще немного молча.
– Ну что ж, давайте прощаться, – сказал Барайуль, протягивая руку.
– А вы… не хотите ли, может быть, поехать со мной? – со страхом пролепетал Лилиссуар. – Не знаю толком почему, только я что-то побаиваюсь один…
– Вы же доехали один до Рима. Что с вами может стрястись? Простите, что не провожаю вас до вагона, но вид отходящего поезда на меня наводит невыразимую грусть. Прощайте, счастливого пути! А завтра приходите в «Гранд-Отель» вернуть мне обратный билет до Парижа.
Книга пятая ЛАФКАДИО
– There is only one remedy! One thing alone can cure us from being ourselves! – Yes; strictly speaking, the question is not how to get cured, but how to live[16]. Джозеф Конрад. Лорд ДжимI
Вступив при посредничестве Жюльюса и при содействии своего нотариуса во владение сорока тысячами франков ренты, оставленными для него покойным графом Жюстом-Аженором, Лафкадио больше всего думал о том, чтобы это не было заметно.
«Может быть, я буду есть на золоте, – сказал он себе, – но кушанья останутся прежние».
Он не принимал во внимание, а может быть, еще и не знал, что отныне для него станет другим сам вкус этих блюд; во всяком случае, поскольку бороться с голодом и уступать гурманству ему было одинаково приятно, теперь, когда нужда его больше не угнетала, ослабла в нем и сила сопротивления. Скажем без иносказаний: аристократ по натуре, он не дозволял необходимости принуждать его к каким бы то ни было поступкам, теперь же он мог их себе позволить – из лукавства, из игры, из забавы предпочесть выгоде удовольствие.
Итак, исполняя волю старого графа, траура он не надевал. Когда он явился обновить гардероб к поставщикам своего последнего дядюшки маркиза де Жевра, его ждала досадная неприятность. Портной, как только Лафкадио сослался на маркиза, достал несколько счетов, которые тот забыл оплатить. Лафкадио любое плутовство было противно; он тут же сделал вид, что как раз и зашел оплатить эти счета, а за новые костюмы заплатил наличными. То же самое случилось у сапожника. А галантерейщика Лафкадио счел благоразумным поискать другого.
«Эх, дядюшка де Жевр! – думал Лафкадио. – Знай я только его адрес – очень было бы приятно переслать ему оплаченные счета. Он бы за это меня презирал, но я Барайуль, и отныне, маркиз-негодяй, я тебя из своего сердца выкидываю!»
В Париже его не держало ничто, в других местах тоже; короткими переездами через Италию он добирался до Бриндизи, откуда на каком-нибудь пакетботе собирался уплыть на Яву.
Один в вагоне, увозившем его из Рима, он, несмотря на жару, накинул на колени пушистый плед чайного цвета: ему нравилось смотреть, как лежат на нем его руки в пепельных перчатках. Через мягкую ворсистую ткань костюма он всеми порами впитывал удовольствие; почти высокий, но лишь слегка накрахмаленный воротничок не стеснял шею; из-под него, тоненький, как медяница, выглядывал галстук – рыжеватый блестящий шейный платок на плиссированной рубашке. Ему было уютно в своей коже, уютно в своей одежде, уютно в своих ботинках – тонких мокасинах из одинаковой замши с перчатками; в этой мягкой тюрьме его нога вытягивалась, гнулась, ощущала себя живой. Касторовая шляпа, надвинутая на глаза, отгораживала его от пейзажа за окном; он курил можжевеловую трубочку, отпуская свои мысли на волю. Он думал так:
«Старушка с белым облачком над головой; она показала мне на него и сказала: «Сегодня-то еще не будет дождя!»; ее мешок я тащил на плечах (из прихоти он перешел Апеннины из Болоньи во Флоренцию пешком за четыре дня и по дороге ночевал в Ковильяджо) и поцеловал ее на краю обрыва… это ведь по той части, что священник из Ковильяджо называл добрыми делами – а я точно так же мог бы ее придушить, и рука бы не дрогнула, когда прикоснулся к этой противной морщинистой коже… Ах, как она гладила ворот моей куртки, счищая пыль, и приговаривала: figlio mio! carino![17] Откуда явилась во мне та могучая радость, когда потом, еще весь в поту, и даже без трубки, я улегся на мох в тени большого каштана? Мои объятья, казалось мне, так широки, что я весь мир могу охватить – а может, и задушить его… Какая малость – жизнь человека! До чего проворно я бы сам своей жизнью пожертвовал, подвернись только мне мало-мальски заманчивый повод для подвига! Впрочем, альпинистом или авиатором я делаться не хочу… А что бы мне посоветовал затворник Жюльюс? Скверно, что он такой вспыльчивый! Неплохо было бы иметь брата.
Бедный Жюльюс! Столько людей пишут, и так мало их читают! Факт же налицо: сейчас читают все меньше… судя по мне, как сказал бы он. А кончится это катастрофой – чудесной такой катастрофой, ужасной насквозь! Всю писанину выкинут за борт, и чудом будет, если в этом худе не отыщется добра.
А любопытно, что было бы со старушкой, если бы я начал ее душить… Сколько ни воображай, «что было бы, если бы», всегда останется дырочка, через которую проглянет непредвиденное… Всегда все бывает не совсем так, как предполагал… Вот потому я и совершаю поступки… А мы вообще так мало делаем! «Да будет все, что может быть!» – вот как я понимаю сотворение мира. Влюбленный в то, что могло бы быть. Будь я государством, я бы сам себя посадил.
Почта этого Гаспара Фламана, которую я в Болонье взял как свою, совсем не потрясная. И пересылать-то ему ничего не стоит.
Господи! Как же редко встретишь человека, у которого хочется покопаться в чемодане! Зато как мало таких, которые на твое словцо, на твой жест не ответят какой-нибудь чепухой! Настоящая коллекция марионеток, вот только нитки, право слово, чересчур торчат. Идешь по улице, а навстречу одни дундуки да пижоны. Лафкадио, я вас спрашиваю: достойно ли порядочного человека считать всамделишным такой балаган? Значит, уложим вещички – пора. Поспешим в новый мир; оставим Европу, запечатлев на песке след босой ступни. Если на Борнео, в глуши лесов еще остался какой-нибудь последний питекантроп – там прикинем, на что еще может рассчитывать грядущее человечество.
Хорошо бы Протоса повидать. Он, конечно, смылся в Америку. Он всегда говорил, что уважает только варваров из Чикаго… На мой-то вкус в этих волках мало прелести: сам я натуры кошачьей. Дальше.
Священник в Ковильяджо был благодушный и вроде бы не в настроении развращать мальчика, с которым он говорил. А на уме у него что-то такое было явно. Я с ним хотел бы подружиться – не со священником, конечно, с мальчиком… Какими красивыми глазами он на меня смотрел! Как искал мой взгляд – и я искал его, но тут же отводил глаза… Он меня младше лет на пять, а то и меньше. Да-да: от четырнадцати до шестнадцати, но не больше того… Кем я был в эти годы? Подростком, полным вожделений; я бы с таким и сейчас с удовольствием повстречался – верно, очень понравился бы сам себе… Фаби в первое время стеснялся, что влюбился в меня; правильно сделал, что признался матушке: после этого на душе у него полегчало… А меня-то как злило, что он не решался! Потом на Оресе, в палатке, я ему об этом сказал – мы оба очень смеялись… Хотел бы я его теперь повидать; скверно, что он умер. Дальше.
А ведь мне очень хотелось не понравиться священнику. Долго думал, что бы ему такого сказать неприятного, а придумалось только симпатичное… Как мне трудно бывает не быть обворожительным. Не могу же я, в самом деле, мазать лицо ореховой шелухой, как советовала Карола, или есть чеснок… Эй, может, хватит уже вспоминать эту несчастную девчонку? Самые пошлые из моих удовольствий – те, что у меня были с ней… О! а этот чудной старик откуда?»
Из коридора в раздвижную дверь вошел Амедей Лилиссуар.
До станции Фрозиноне Лилиссуар один в купе ехал. На этой остановке вошел и сел рядом с ним какой-то итальянец средних лет; он стал глядеть на Амедея так угрюмо, что тот, конечно, тотчас же ретировался. В соседнем же купе юная грация Лафкадио, наоборот, привлекла его.
«Ах, какой милый юноша! Еще почти ребенок, – подумал он. – Должно быть, на каникулах. Как хорошо одет! А как кротко смотрит! Наконец-то можно отдохнуть от подозрительности! Если бы он знал по-французски, я бы с ним с удовольствием заговорил…»
Он сел напротив, в углу у дверцы. Лафкадио приподнял шляпу и хмуро, с виду равнодушно, принялся разглядывать соседа.
«Что может быть общего у меня с этой гадкой мартышкой? – думал он. – Похоже, он сам себя считает очень хитрым. Что это он мне так улыбается? Думает, я ему сейчас на шею брошусь! Неужели есть такие женщины, которые даже стариков ласкают? Наверняка он бы сильно удивился, если бы узнал, что я свободно умею читать по-письменному и по-печатному наоборот, сквозь лист, в зеркале и на промокашке: три месяца обучения и два года упражнений – все из любви к искусству. Кадио, мальчик мой, есть задача: как-нибудь зацепиться за эту случайность. Но как? Ага, угощу-ка я его леденцом. Возьмет или откажется – хоть увижу, на каком языке».
– Grazio! Grazio! – вежливо отказался Лилиссуар.
«Ничего с этим тапиром не поделаешь. Значит, надо поспать», – подумал Лафкадио. И вот он надвигает шляпу на глаза и хочет увидеть во сне одно детское воспоминание.
Он видит себя в те времена, когда его называли Кадио, в глухом карпатском замке, где они с матерью жили два лета вместе с итальянцем Бальди и князем Владимиром Белковским. Его комната в конце коридора – в первый раз этим летом он спит отдельно от матери… Бронзовая дверная ручка в виде львиной головы прибита большим гвоздем… Ах, как отчетливо он помнит все эти ощущения! Однажды ночью он пробуждается от глубочайшего сна, но как будто все еще спит: у кровати стоит дядя Владимир, который кажется ему еще огромней обычного; стоит, как кошмар, с висячими усами, в широком кафтане темно-рыжего цвета, в каком-то странном ночном колпаке, высоком, как персидская шапка: от него он кажется еще длиннее, длиннее чуть ли не до бесконечности. В руке у него потайной фонарь; он ставит его на прикроватный столик рядом с часами Кадио, чуть отодвинув мешочек с шариками. Первая мысль Кадио: матушка умерла или заболела; он открывает рот для вопроса, но тут Белковский прикладывает палец к губам и делает знак: вставай. Дядюшка берет со спинки стула халат, который Кадио снял после ванны; мальчик торопливо одевается; брови у князя притом нахмурены, и по всему видно, что он не шутит. Но Кадио так доверяет ему, что не пугается ни на мгновенье; он надевает туфли и идет за ним, крайне заинтригованный его поведением и, как всегда, страстно желая позабавиться.
Они выходят в коридор; князь Владимир ступает важно, таинственно, фонарь несет перед собой, выставив далеко вперед; они как будто некий обряд совершают, идут как церемониальной процессией. Кадио немножко пошатывает – он еще пьян от сна, однако вскоре любопытство проветривает ему голову. Перед дверью матушки оба на секунду останавливаются, прислушиваются: ни звука; весь замок спит. У лестницы они слышат, как храпит лакей в каморке на площадке у чердака. Они идут вниз. Влади ступает по лестнице так, словно у него ноги обернуты ватой; при малейшем скрипе он оборачивается так сердито, что Кадио чуть не прыскает. На одну ступеньку, чтобы на нее не становились, он указывает особенно серьезно – можно подумать, им обоим грозит смерть. Кадио совершенно неинтересно думать, вправду ли нужна такая осторожность и что они вообще делают; он вошел в игру и, проехав по перилам, минует опасную ступень. Ему так весело с Влади, что он за ним и через огонь прошел бы.
Они доходят до первого этажа и на предпоследней ступеньке присаживаются передохнуть; Влади качает головой и тихонько сопит носом, словно хочет сказать: «Ну, пронесло!» Они идут дальше. Как осторожно прислушиваются, входя в гостиную! Фонарь (теперь его несет Кадио) так странно освещает комнату, что мальчик еле ее узнает; она ему кажется беспредельно огромной; через щель в ставнях пробивается лунный лучик; все погружено в сверхъестественный покой; они как браконьеры, тянущие невод в ночном пруду; Кадио прекрасно узнает все вещи на своих местах, но видит их словно в первый раз и понимает, какие они необычные.
Влади подходит к роялю, открывает его, придерживая крышку, кончиками пальцев касается клавиш, которые тихо-тихо ему отвечают. Вдруг крышка вырывается из рук и падает со страшным грохотом (даже сейчас, вспомнив его, Лафкадио вздрагивает). Влади бросается к фонарю, закрывает его и падает в глубокое кресло, Кадио забирается под стол; долго они так сидят начеку в темноте, не двигаясь… но нет, ничего; в доме никто не шевельнулся; лишь вдалеке собака лает на луну. Тогда потихоньку, медленно, Влади опять чуть-чуть приоткрывает свет.
В столовой с каким лицом он поворачивает ключ в буфете! Мальчик знает, что это всего лишь игра, но дядюшка, похоже, сам в нее верит. Он тянет носом, будто нюхает, где лучше всего пахнет; берет бутылку токайского; наливает две маленькие рюмочки, окунает в вино два печеньица; приложив палец к губам, предлагает чокнуться: хрусталь еле слышно звенит… Ночное угощенье закончено; Влади тщательно приводит все в порядок; вместе с Кадио они кладут рюмки в посудный тазик, споласкивают, вытирают; потом дядюшка закупоривает бутылку, закрывает коробку с печеньем, тщательнейшим образом собирает крошки, еще раз проверяет, все ли в шкафу на месте… Все концы в воду.
Влади доводит Кадио до его спальни, отвешивает на прощанье глубокий поклон. Кадио засыпает крепче прежнего и наутро не может понять, не приснилось ли ему все это.
Вот такие детские игры. Что бы сказал на это Жюльюс?
Лафкадио сидит, закрыв глаза, но не спит: никак не может заснуть.
«Старичок, – думает он, – все еще здесь; я его чувствую; открою глаза – увижу, как он глядит на меня.
Протос говорил: всего трудней наблюдать за другим, притворяясь спящим; он хвастал, что фальшивый сон всегда распознает по легкому дрожанию век… а я его сейчас сдерживаю. Даже Протос обманулся бы…»
Солнце между тем уже зашло; уже угасали последние отблески его сиянья; Лилиссуар восхищенно глядел на них. Вдруг в люстре на полукруглом потолке вагона вспыхнуло электричество – оно светило слишком резко после этого нежного полумрака, и Лилиссуар, чтобы сон соседа не потревожился, повернул выключатель; полной темноты не наступило, но вместо центральной люстры электрический ток пошел к синей лампочке ночника. Лилиссуару и она показалась чересчур яркой; он еще раз повернул рукоятку; погас ночник, но тотчас же зажглись две лампы на стенках, еще более неприятные, чем верхний свет. Еще поворот – опять ночник; Лилиссуар остановился.
«Скоро он закончит баловаться со светом? – раздраженно думал Лафкадио. – А теперь он что делает? (А глаза я не открою, нет!) Встал… Его привлек мой чемоданчик? Здорово! Убедился, что чемодан открыт. Стоило ставить в Милане сложный замок, чтобы тут же потерять ключ и в Болонье замок ломать! Висячий замок хотя бы заменить можно… Что за чертовщина! Он снимает пиджак? Впрочем, поглядим».
Лилиссуара совсем не интересовал чемодан Лафкадио: он занимался новым воротничком, и пиджак он снял, чтобы удобней его пристегнуть, но накрахмаленный мадаполам, жесткий как картон, не поддавался, как он ни тужился.
«Уж очень плохо он выглядит, – думал Лафкадио. – Должно быть, болен: какой-нибудь свищ или скрытое воспаление… А не помочь ли ему? Сам он не справится…»
И все же справился. Пуговица вошла в петлю. Тогда Лилиссуар взял галстук (он лежал на вагонной подушке рядом со шляпой, пиджаком и манжетами), подошел к дверце и, как Нарцисс в водной глади, стал высматривать свое отражение на фоне пейзажа.
«Ничего не видит».
Лафкадио зажег свет. Поезд ехал по насыпи; она угадывалась за стеклом, освещенная светом из окон вагона; получался ряд желтоватых квадратов, плясавших вдоль пути, менявших форму на каждой неровности почвы. В одном из них плясала и нелепая серенькая тень Лилиссуара; остальные квадраты были пусты.
«И кто увидит? – думал Лафкадио. – Вот тут, под рукой, прямо у меня под рукой, карабин дверцы; я шутя разомкну его; дверца вдруг откроется, и он рухнет вперед – только чуть подтолкнуть; рухнет в темноту как мешок; даже крика не будет слышно… А завтра – в путь на острова! Кто узнает?»
Галстук уже был повязан (готовый узкий морской узел); теперь Лилиссуар взял манжету и прилаживал ее на правую руку; за этим занятием он рассматривал фотографию над тем местом, где только что сидел, одну из четырех, украшавших купе: какой-то дворец на берегу моря.
«Преступление без мотива, – продолжал Лафкадио. – То-то полиция призадумается! Впрочем, на этой чертовой насыпи кто-нибудь из соседнего купе может и заметить, как открывается дверца и кувыркается китайская тень. Хоть в коридор шторка задернута… А мне ведь интересно не то, что будет, а я сам. Иной себя считает способным на все, а только до дела – и на попятный… Далеко от мечты до правды! И ход назад не возьмешь – как в шахматах. Ну и что? Если предвидеть любой риск, так и играть неинтересно! От мечты до правды… Ага! Насыпь кончилась! Теперь мы, должно быть, на мосту, внизу река…»
Стекло стало черным, и отражение на нем виднелось яснее. Лилиссуар наклонился поправить галстук.
«Здесь, у меня под рукой, карабин. – Он отвлекся, глядит прямо перед собой. – Открывайся, черт! О, даже легче, чем я ожидал. Если досчитаю не торопясь до двенадцати и за это время не увижу за окном огонек – тапир спасен. Начали: раз, два, три, четыре (медленней! медленней!), пять, шесть, семь, восемь, девять… десять… огонек…»
II
Лилиссуар даже не вскрикнул. Когда Лафкадио подтолкнул его и перед ним внезапно разверзлась бездна, он взмахнул руками, чтобы удержаться, потом левой рукой уткнулся в гладкое дверное стекло, а правую, полуобернувшись назад, забросил над головой Лафкадио, отчего вторая манжета (он ее как раз пристегивал) отлетела под диван в другом конце купе.
Лафкадио почувствовал, как в затылок ему страшно впился коготь; он наклонил голову и подтолкнул второй раз, более сильно и нервно; ногти расцарапали ему шею; потом Лилиссуар уже не нашел, за что зацепиться, и в последней отчаянной попытке ухватился за касторовую шляпу; падая, он унес ее с собой.
«Теперь спокойно, – подумал Лафкадио. – Дверью не хлопать: могут услышать соседи».
Он потянул дверцу на себя, против ветра, а затем тихонько закрыл.
«Он оставил мне свое жуткое канотье – я бы его пнул и послал ему вдогонку, но он забрал мою шляпу – вот и хватит с него. Как кстати я спорол с нее инициалы! Но на подкладке осталась марка шляпника, которому не каждый день заказывают касторовые шляпы… Ничего не поделаешь, ход сделан. Поверят ли в несчастный случай? Нет: я же закрыл дверцу. Остановить поезд? Да нет уж; брось, Кадио, не поправляй рисунок; все так, как ты и хотел.
Вот доказательство, что я собой владею: сперва спокойно посмотрю, что на той фотографии, которую сейчас разглядывал старик. «Мирамар»… Никакой охоты нет туда ехать. А здесь духота».
Он открыл окно.
«Эта скотина меня оцарапала. И кровь есть… И болит очень сильно. Смочить водой; уборная в конце коридора налево. Возьмем второй платок».
Он потянулся, достал чемодан с сетки под потолком, поставил на диван и открыл на той самой подушке, где только что сидел.
«Если встречу кого в коридоре – спокойствие. Сердце – нет, уже не колотится. Ну, поехали! А, его пиджак! Он легко прячется под моим. В кармане бумаги: есть чем заняться остаток пути».
Пиджак был плохонький, потертый, лакричного цвета, из дурного жесткого сукна, довольно противный, на вкус Лафкадио; он повесил пиджак на плечики в тесном клозете, заперся, склонился над умывальником и принялся разглядывать себя в зеркало.
На шее у Лафкадио было два довольно неприятных шрама: узкая красная царапина шла от самого затылка, забирала налево и иссякала над ухом; другая, более короткая, но глубокая ссадина, на пару сантиметров выше первой, шла прямо к уху, немного окровенив и саму ушную раковину. Кровь была, но меньше, чем боялся Лафкадио; зато боль, которой он сперва не почувствовал, становилась довольно сильна. Он намочил платок в раковине, вытер кровь и застирал платок.
«Воротничок не замарается, – думал он, застегиваясь. – Все в порядке».
Он собрался выйти в коридор; в этот миг паровоз свистнул, и за мутным окном клозета потянулась вереница огней: Капуя. Слезть на этой станции, так близко от места происшествия, пробежаться в темноте, подобрать свою шляпу… Эта мысль сверкнула как молния. Он очень жалел эту шляпу: мягкую, легкую, шелковистую, теплую, но не жаркую, несминаемую, скромно-изящную. Но он никогда не поддавался целиком своим желаниям и не любил уступать даже самому себе. А главное – он терпеть не мог неопределенности и вот уже много лет хранил, как фетиш, кость для триктрака, некогда подаренную Бальди; он всегда носил ее с собой – и теперь она была тут, в жилетном кармане.
«Если шестерка – схожу! – подумал он, вынимая кость. Выпала пятерка. – И все равно сойду. Быстро! Пиджак погибшего!.. Теперь мой чемодан…»
Он побежал к себе в купе.
Ах, к чему декламации с восклицаниями при таких удивительных случаях! Чем необычайней событие, тем проще о нем рассказать. Вот и я скажу без обиняков: когда Лафкадио вернулся в купе за чемоданом, чемодана там не было.
Сначала он подумал, что ошибся, вышел опять в коридор. Да нет же! Именно тут он сейчас и был. Вот и вид Мирамара… как же так?.. Он подскочил к окну и подумал, что видит сон: по перрону прямо возле купе преспокойно прогуливался его чемодан в обществе здорового молодца, который легкой трусцой уносил его прочь.
Лафкадио хотел было броситься за ним, но, открывая дверцу, уронил на пол лакричный пиджак.
«Дьявол! Дьявол! Еще чуть-чуть, и меня бы взяли! Но ведь если бы этот шутник думал, что я могу за ним побежать, он шагал бы быстрее. Неужели видел?»
Тут, от того, что стоял он наклонившись вперед, по щеке его пробежала капелька крови.
«Ну и черт с ним, с чемоданом! Кости же сказали: не надо здесь слезать».
Он закрыл дверцу и сел на место.
«Документов в чемодане нет, белье у меня без меток – риска никакого. Да и все равно: лишь бы сесть на пароход как можно скорее; это, пожалуй, будет не так забавно, зато, конечно, гораздо благоразумней».
Поезд между тем тронулся.
«Не так чемодана жалко, как шляпы касторовой – мог бы ее подобрать… Дальше».
Он заново набил трубку, закурил и, засунув руку в карман чужого пиджака, разом достал письмо Арники, книжку конторы Кука и плотный желтоватый конверт. Его он вскрыл.
«Три, четыре, пять, шесть тысячных купюр. Порядочному человеку позариться не на что».
Бумажки он положил обратно в конверт, а конверт в пиджак.
Но мгновенье спустя он стал просматривать книжку Кука – и замер, потрясенный. На первом листке было написано: «Жюльюс де Барайуль».
«Я что, с ума схожу? – подумал Лафкадио. – При чем здесь Жюльюс? Билет украден? Нет, не может быть. Значит, конечно, одолжен… Ах, черт возьми! Должно быть, натворил я дел: кто мог подумать, что эти старички так между собой переплетаются…»
Дрожа от нетерпеливого вопрошания, он развернул письмо Арники. Его предмет казался слишком странным; Лафкадио нелегко было в это вчитаться; само собой, ему не удавалось разобрать, какое родство, какие отношения могли связывать Жюльюса и старика, но одно он все-таки понял: Жюльюс в Риме. Он тотчас принял решение: его охватило настоятельное желание срочно увидеться с братом, одолело неуемное любопытство посмотреть, как это дело отзовется в хладнокровном и логическом рассудке.
«Решено! Сегодня ночую в Неаполе, получаю багаж, а завтра первым же поездом назад в Рим. Это точно будет совсем не так благоразумно, зато, может быть, забавнее».
III
В Неаполе Лафкадио остановился в ближайшей к вокзалу гостинице; багаж он имел осторожность взять с собой, потому что путешественники без багажа подозрительны, а он очень старался не привлекать к себе внимания; потом он сбегал кое за какими недостающими туалетными принадлежностями да еще за шляпой – заменить мерзкое канотье (оно же ему и маловато пришлось), оставленное Лилиссуаром. Кроме того, он хотел купить револьвер, но это пришлось отложить на завтра: магазины уже закрывались.
Поезд, которым он собирался ехать назад, отходил очень рано; в Риме он будет к обеду…
К Жюльюсу он хотел обратиться только после того, как газеты протрубят о преступлении. «Преступление»! Слово это казалось ему нелепым, и вовсе неподходящим к нему самому словечко «преступник». Он предпочитал «искатель приключений» – слово мягкое, словно касторовая шляпа: его поля можно было загнуть как угодно.
Утренние газеты о «приключении» еще не писали. Теперь он с нетерпением ждал вечерних: очень хотелось поскорее встретиться с Жюльюсом и войти в игру, а пока ему, как ребенку, играющему в прятки, совсем, конечно, не хотелось, чтобы его нашли, но очень хотелось, чтобы искали, и он изнывал. То было смутное состояние, до сих пор ему не знакомое; люди, с которыми он сталкивался на улице, казались ему особенно пошлыми, неприятными и безобразными.
Как только наступил вечер, он купил у газетчика на Корсо «Коррьере делла сера» и зашел в ресторан, но с некоторым вызовом, словно желая разжечь свое вожделение, сперва заставил себя поужинать, оставив газету неразвернутой тут же, на столе, с собою рядом. Потом он вышел и прямо на Корсо, остановившись перед освещенной витриной, развернул газету и на второй полосе в рубрике происшествий прочел заголовок: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ, САМОУБИЙСТВО ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?»
Дальше был текст, перевод которого я даю:
«На вокзале в Неаполе служащие железнодорожной компании в купе первого класса поезда, прибывшего из Рима, обнаружили темный пиджак. Во внутреннем кармане пиджака находился распечатанный желтый конверт с шестью тысячефранковыми купюрами; никаких документов, позволяющих установить личность владельца, не было. Если имело место преступление, трудно объяснить, почему столь значительная сумма была оставлена в одежде потерпевшего; по крайней мере это, видимо, указывает на то, что целью убийства не было ограбление.
В купе не обнаружено следов борьбы, но под диваном найдена манжета с запонкой в виде двух кошачьих головок, скрепленных между собой позолоченной серебряной цепочкой, вырезанных из полупрозрачного кварца – так называемого зеркально-дымчатого агата, у ювелиров известного как «лунный камень».
Вдоль пути ведутся активные поиски».
Лафкадио скомкал газету.
«Вот те на! Еще и запонки Каролы! Это не старичок, а перекресток большой дороги».
Он перевернул страницу и увидел срочное сообщение:
«В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. У железнодорожного полотна обнаружено мертвое тело».
Не читая дальше, Лафкадио помчался в «Гранд-Отель».
Там он вложил в конверт визитную карточку со своим именем, к которому приписал следующие слова:
«ЛАФКАДИО ВЛУЙКИ зашел осведомиться, не нуждается ли граф Жюльюс де Барайуль в секретаре».
И попросил передать карточку по назначению.
Он долго ожидал в холле; наконец лакей пришел за ним, провел по длинным коридорам и отворил дверь в номер.
Лафкадио с первого же взгляда увидел брошенную в углу комнаты «Коррьере». На столе посередине стоял открытый большой флакон одеколона и благоухал вовсю. Жюльюс распахнул объятия:
– Лафкадио, друг мой! Как же я рад вас видеть!
Его взъерошенные волосы колыхались на макушке и трепетали на висках; ему, очевидно, было очень жарко: в руках он держал носовой платок в черный горошек и обмахивался.
– Кого-кого, а вас я никак не ожидал здесь встретить, но с вами, как ни с кем на свете, мне хотелось бы нынче поговорить… Вам не госпожа Карола сказала, что я здесь?
– Вот странный вопрос!
– Дело в том, что я ее сейчас видел на улице… Впрочем, не уверен, что она заметила меня.
– Карола… так она в Риме?
– А вы не знали?
– Я только что с Сицилии и с вами с первым здесь встречаюсь. Да больше никого мне и не нужно видеть.
– Она мне показалась очень недурна.
– Вы не слишком требовательны.
– Я хотел сказать – гораздо лучше, чем в Париже.
– Экзотика… впрочем, если это в вашем вкусе…
– Лафкадио, между нами такие разговоры неуместны…
Жюльюс хотел сделать строгое лицо, изобразил только гримасу и продолжил:
– Вы видите, я в большом волнении. Жизнь моя круто повернула. В голове у меня пожар, а во всем теле такое чувство, будто оно сейчас испарится. Я четвертый день в Риме, приехал на социологический конгресс, и что ни день, то новая неожиданность. И ваш приход в довершенье… Я сам себя не узнаю.
Он расхаживал по комнате; остановился у стола, взял одеколон, вылил на платок ароматную струю, приложил мокрый платок ко лбу и так оставил.
– Мой юный друг… позвольте мне так называть вас… Кажется, у меня получается новая книга! По тому, что вы так нелицеприятно сказали мне о «Воздухе вершин» тогда, в Париже, я думаю, что эта не оставит вас равнодушным.
Ноги его изобразили нечто вроде антраша; платок упал на пол; Лафкадио поспешил поднять его и, нагнувшись, почувствовал, как рука Жюльюса ласково легла ему на плечо – точно так, как когда-то рука старого Жюста-Аженора. Лафкадио с улыбкой распрямился.
– Я так недавно вас узнал, – сказал Жюльюс, – но сегодня не могу удержаться – хочу поговорить с вами, как…
Он запнулся.
– Если вы мне позволяете, господин де Барайуль, – ответил Лафкадио, осмелев, – я готов вас выслушать, как брат.
– Видите ли, Лафкадио, в тех кругах, где я вращался в Париже, среди тех, с кем встречаюсь обычно: светских людей, духовенства, литераторов, академиков, – я, по правде сказать, не вижу никого, с кем можно разговаривать, – я хотел сказать, кому можно поверить волнующие меня новые мысли. Потому что, должен вам признаться, со времени нашей первой встречи мои взгляды совершенно переменились.
– А, это здорово! – бесцеремонно ответил Лафкадио.
– Вы не присяжный литератор, вы не поймете, до чего мешает искаженная этика проявиться свободному творчеству. И вот – мой новый роман как нельзя более далек от всех прежних. Логики, причинности требовал я от своих персонажей, а для большей уверенности в ней – прежде всего от самого себя; так вот – это и неестественно. Нам проще жить поддельной жизнью, чем не походить на портрет, который мы сами с себя предварительно набросали; это абсурд; мы так можем испортить себе все самое лучшее.
Лафкадио все это время улыбался: ему было забавно узнавать отдаленные отзвуки своих мыслей; он ждал, когда они проявятся яснее.
– Что вам сказать, Лафкадио? У меня впервые развязаны руки. Понимаете ли вы, что это значит – когда руки развязаны? Я говорю себе: так оно и всегда было; повторяю себе: так оно всегда и есть; прежде на мне только и было пут, что нечистые соображения о карьере, о мнении публики и неблагодарных судей, от которых поэт напрасно ожидает награды. Отныне ничего не буду ждать, кроме как от себя. Отныне от себя всего ожидаю; всего – от искреннего человека, а требовать могу чего угодно, ибо теперь предчувствую в себе самом самые неожиданные возможности. И так как все это лишь на бумаге, я смею дать им волю. А там видно будет!
Он тяжело дышал, откидывал плечо назад, причем лопатка задиралась как бы на манер крыла, будто он задыхался от новых затруднений. Потом он смущенно продолжил, понизив голос:
– И раз уж господа академики видеть меня не хотят, я дам им славный повод меня не принимать – раньше ведь у них его не было. Не было! – вдруг выкрикнул он, почти пропищав эти слова. Помолчал и продолжил спокойнее: – И вот что я придумал… Вы слушаете меня?
– Телом и душой, – ответил Лафкадио, по-прежнему посмеиваясь.
– Следуете за моей мыслью?
– Хоть в пекло.
Жюльюс опять намочил платок и уселся в кресло; Лафкадио сел напротив него верхом на стул.
– Герой – молодой человек, которого я хочу сделать преступником, убийцей.
– Не вижу затруднений.
– Как так! – воскликнул Жюльюс: ему затруднений как раз и хотелось.
– Вы писатель, кто вам мешает придумать что угодно, раз уж вы взялись придумывать?
– Чем необычней то, что я придумываю, тем больше оно должно быть объяснимо и мотивировано.
– Не так уж трудно придумать мотив для убийства.
– Да, конечно… только этого-то я и не хочу. Не хочу для преступления мотива – мотивирован должен быть только сам преступник. Да-да: я собираюсь подвести его к бесцельному преступлению – к желанию совершить убийство абсолютно немотивированное.
Лафкадио стал слушать внимательнее.
– Возьмем его совсем молоденьким: я хотел бы дать через это понять изящество его натуры; пусть его поступки определяются этим изяществом; пусть своей выгоде он всегда предпочитает свое удовольствие…
– Это, пожалуй, не совсем обыкновенно, – решился вставить Лафкадио.
– Правда? – восхищенно воскликнул Жюльюс. – Прибавим к этому, что ему доставляет удовольствие сдерживать себя.
– Даже до скрытности.
– Еще прибавим любовь к риску.
– Браво! – отозвался Лафкадио, веселясь все больше и больше. – И если он еще отзывчив к бесу любопытства – полагаю, ваш ученик готов на дело.
Так они наперебой перебрасывались фразами, как будто в чехарду играли.
Жюльюс. Сначала вижу, как он упражняется: мелкие кражи здорово ему удаются.
Лафкадио. И я часто удивлялся, почему он не ворует постоянно. Правда, случай украсть обычно представляется лишь тем, кто ни в чем не нуждается и на искушения не поддается.
Жюльюс. Ни в чем не нуждается – я же сказал, он как раз из таких. Но его соблазняют только такие случаи, которые требуют от него хитрости, ловкости…
Лафкадио. И, наверное, немножко наводят на него подозрения.
Жюльюс. Я же сказал: ему нравится рисковать. Впрочем, жульничество ему противно; он не желает приобретать – ему забавно тайком перемещать предметы. На это у него настоящий талант фокусника.
Лафкадио. И безнаказанность его поощряет…
Жюльюс. Но и отвращает вместе с тем. Если он не попался, значит, игра была сразу слишком проста.
Лафкадио. Он сам идет на максимальный риск.
Жюльюс. У меня он рассуждает так…
Лафкадио. Вы уверены, что он вообще рассуждает?
Жюльюс (не обращая внимания). …преступник выдает себя потому, что пошел на преступление по какой-то надобности.
Лафкадио. Мы же сказали, что он очень ловок.
Жюльюс. Да, до того ловок, что свое преступление совершает с холодной головой. Да вы представьте себе: убийство, не мотивированное ни страстью, ни нуждой. Вся причина его преступления – совершить его беспричинно.
Лафкадио. Причину ему даете вы, а он просто взял и сделал.
Жюльюс. И нет причины считать преступником того, кто без причины совершил преступление.
Лафкадио. Это уж слишком тонко. Вы его возвели на такую ступень, что его можно назвать свободным человеком.
Жюльюс. Зависящим от первой же случайности.
Лафкадио. Мне не терпится увидеть его в деле. Что вы ему предложите?
Жюльюс. Ну, тут я еще не совсем решил… Да-да, я сомневался до сегодняшнего вечера. И вдруг сегодня вечерняя газета в рубрике новостей дала мне как раз тот пример, что мне нужен. Поистине чудесное совпадение! Это ужасно: вообразите, вчера убили моего свояка!
Лафкадио. Как! Значит, этот старичок в вагоне…
Жюльюс. Это был Амедей Лилиссуар; я одолжил ему свой билет и посадил в поезд. За час до этого он взял в моем банке шесть тысяч франков; поскольку он вез их наличными, то расставался со мной не без тревоги; у него были чувства смутные, мрачные… да что там! Просто предчувствие. А в поезде… Но вы же читали газету.
Лафкадио. Только заголовок в разделе происшествий.
Жюльюс. Дайте я вам прочитаю. (Он развернул «Коррьере».) Буду переводить с листа:
«После активных поисков вдоль железнодорожного полотна между Римом и Неаполем полиция сегодня днем обнаружила в высохшем русле Вольтурно в пяти километрах от Капуи тело мужчины, которому, по всей видимости, принадлежит пиджак, обнаруженный вчера вечером в вагоне. Покойный одет небогато, на вид около пятидесяти лет. (Он казался старше своего возраста.) При нем не обнаружено никаких документов, удостоверяющих личность. (Это, к счастью, дает мне выиграть время.) Очевидно, он был вытолкнут из вагона с силой, достаточной, чтобы перелететь через парапет моста, который в этом месте ремонтируется и заменен одними балками. (Ну и стиль!) Высота моста над уровнем реки более пятнадцати метров; смерть, вероятно, наступила от падения, так как на теле нет никаких ранений. Погибший лежал в одной рубашке, на правой руке – такая же манжета, что обнаружена в вагоне, но без запонки…»
– Что с вами? – прервал чтение Жюльюс. Лафкадио, не удержавшись вздрогнул, потому что у него мелькнула такая мысль: запонку, значит, сняли уже после убийства. Жюльюс продолжал: – «В левой руке зажата фетровая шляпа…»
«Фетровая! Деревня!» – прошептал про себя Лафкадио.
Жюльюс посмотрел поверх листа:
– Вас что-то удивило?
– Нет, ничего, дальше, будьте добры!
– «…фетровая шляпа, которая сильно велика для убитого и принадлежит, вероятно, напавшему на него; владельческие признаки с подкладки головного убора предусмотрительно удалены: из кожаного ободка вырезан кусочек размером с лавровый лист и такой же формы…»
Лафкадио встал и наклонился за спиной Жюльюса, читая через плечо и, может быть, чтобы скрыть, как он побледнел. Сомнений больше не оставалось: его преступление было подправлено; там кто-то был, кто-то вырезал дырку в подкладке – очевидно, тот неизвестный, который взял его чемодан.
Жюльюс между тем продолжал:
– «…что указывает на тщательную подготовку этого преднамеренного убийства. (Почему именно этого? Может быть, мой герой принял меры на всякий случай.) Сразу по составлении полицейского протокола труп был перевезен в Неаполь для опознания». (Верно: я знаю, что у них здесь есть возможность и обыкновение долго хранить мертвые тела…)
– Вы точно уверены, что это он? – Голос Лафкадио немного дрожал.
– Еще бы, черт возьми! Я его ждал сегодня к ужину.
– В полицию вы сообщили?
– Нет еще. Сперва мне надо немного прийти в себя. Я уже и так в трауре, так что в этом смысле – я хочу сказать, в смысле одежды – все в порядке, но вы же понимаете: как только имя убитого станет известно, мне надо будет известить все семейство, разослать телеграммы, писать письма, заниматься уведомлениями, похоронами, ехать в Неаполь получать тело… О! Лафкадио, дорогой, мне же надо присутствовать на этом конгрессе – вы не будете так добры получить тело вместо меня, по доверенности?
– Посмотрим; скоро скажу.
– Если, конечно, для вас это не слишком тягостно. А пока что я избавляю несчастную свояченицу от лишних часов горя: по смутным газетным сообщениям как она может о чем-нибудь догадаться? Возвращаюсь к своему предмету. Когда я прочел эту заметку, то подумал: берем это убийство; я так хорошо его воображаю, реконструирую, вижу – и я знаю, я-то знаю причину, по которой оно совершено, знаю: не будь приманки – этих шести тысяч франков, – то и убийства бы не было.
– Но предположим, однако…
– Да-да: предположим, что не было тех шести тысяч или, еще того лучше, что преступник их не взял – и вот вам мой герой.
Тем временем Лафкадио встал, подобрал с пола уроненную газету и раскрыл на второй полосе:
– Я гляжу, вы не прочли «В последний час»: то-то и оно, что этот… преступник не взял шести тысяч, – сказал он, как мог, хладнокровно. – Вот, читайте: «Это, видимо, указывает на то, что мотивом преступления не было ограбление».
Он протянул газету Жюльюсу; тот жадно в нее углубился, потом протер глаза, потом сел, потом вдруг вскочил, ринулся к Лафкадио и схватил его за обе руки:
– Мотивом не было ограбление! – воскликнул он и, словно в каком-то припадке, сильно тряханул Лафкадио. – Не ограбление! Тогда, значит…
Он оттолкнул Лафкадио, отбежал в другой конец номера, стал обмахиваться, сморкаться, хлопать себя по лбу:
– Так черт побери! Тогда я знаю, почему этот бандит убил его! Ах, бедный мой друг! Бедный Лилиссуар! Так он, значит, правду говорил! А я-то думал, он совсем сошел с ума! Но тогда это же ужасно.
Лафкадио изумлялся и ждал, когда припадок пройдет; ему казалось, что он не имеет права так отпускать Жюльюса:
– Я думал, вы-то как раз…
– Замолчите! Вы ничего не знаете. А я-то трачу с вами время в пустых разглагольствованиях! Тросточку, шляпу! Скорей!
– Куда вы так бежите?
– В полицию сообщить, черт побери!
Лафкадио загородил дверь.
– Сперва объясните, в чем дело, – сказал он властным тоном. – Вы, честное слово, похожи на сумасшедшего.
– Это раньше я был сумасшедший! А теперь прихожу в себя… Ах, бедный Лилиссуар! Ах, мой несчастный друг! Святая жертва! Вовремя гибель его остановила меня на пути нечестия и богохульства. Его мученичество меня образумило. А я над ним еще смеялся!..
Он снова принялся ходить по комнате, потом остановился, положил шляпу и тросточку на стол рядом с одеколоном и повернулся лицом к Лафкадио:
– Хотите знать, почему бандит убил его?
– Я думал, просто так.
Жюльюс взъярился:
– Прежде всего просто так не убивают! Его убрали, потому что он знал тайну… которую он доверил и мне, очень важную тайну, притом чрезмерно тяжкую для него. Его боялись, понимаете? Вот… Да, легко вам смеяться: вы ведь в религии ничего не смыслите. – Он побледнел и вытянулся во весь рост: – Теперь я унаследовал эту тайну.
– Вы поосторожнее – теперь бояться будут вас.
– Вот вы и видите, что мне надо тотчас же сообщить в полицию.
– Еще один вопрос, – сказал Лафкадио, снова его задерживая.
– Нет. Пустите меня. Я страшно тороплюсь. Непрестанная слежка, которая так бесила моего несчастного брата, продолжается; вы можете быть уверены: теперь следят за мной – с этого часа следят. Вы не можете вообразить, как проворны эти люди. Эти люди знают все, говорю вам… И потому будет особенно хорошо, если за телом поедете вы вместо меня… За мной теперь так следят, что случиться может все, что угодно. Я прошу вас об этом как об одолжении, Лафкадио, дорогой друг мой. – Он умоляюще сложил руки. – У меня сейчас голова не на месте, но в участке мне скажут, как составить на вас доверенность по всей форме. На какой адрес мне ее послать?
– А я для удобства возьму номер в этой же гостинице. До завтра. Бегите.
И он отпустил Жюльюса. В нем росло величайшее омерзение, почти ненависть к самому себе, к Жюльюсу – ко всему. Он пожал плечами, достал из кармана книжку конторы Кука на имя Барайуля, которую нашел в кармане пиджака Лилиссуара, положил на стол на видном месте рядом с одеколоном, погасил свет и вышел.
IV
Как ни старался Жюльюс де Барайуль, как ни предупреждал полицейских, ему не удалось воспрепятствовать газетам не только разгласить его родство с убитым, но еще и сообщить открытым текстом, в какой гостинице он остановился.
Вечером он, само собой, пережил минуты редкостного ужаса, когда около полуночи вернулся из участка и у себя в номере на самом видном месте нашел билет от Кука на свое имя, которым пользовался Лилиссуар. Он тут же позвонил; бледный, весь дрожа, выскочил в коридор и велел лакею заглянуть под кровать: сам он туда заглянуть не решался. Импровизированный допрос на месте никакого результата не дал, но как можно доверять прислуге большого отеля?.. Однако с утра, хорошо выспавшись за крепко запертой дверью номера, Жюльюс пришел в себя; теперь его стерегла полиция. Он написал множество писем и телеграмм и сам отнес их на почту.
Когда он вернулся, ему сообщили, что его спрашивала какая-то дама; она не назвала себя и дожидается в читальне. Жюльюс прошел туда и был немало удивлен, узнав Каролу.
Не в первой комнате, а во второй, более укромной, маленькой и довольно темной, она сидела вполоборота на углу самого дальнего стола и от нечего делать рассеянно листала какой-то альбом. Когда вошел Жюльюс, она встала – скорее смущенно, чем радушно. Под черной накидкой была видна темная, простая, почти не безвкусная кофточка, зато крикливая, хоть и черная, шляпка неприятно обращала на себя внимание.
– Простите мне мою смелость, граф; сама не знаю, как у меня стало духу войти сюда в гостиницу и спросить вас, но вы вчера так учтиво мне поклонились… К тому же то, что я скажу вам, очень важно.
Она так и стояла позади стола; шаг навстречу первым сделал Жюльюс; не чинясь, он протянул ей через стол руку:
– Чему обязан удовольствием вашего посещения?
Карола потупилась:
– Я знаю, вас постигло тяжкое испытание…
Сначала Жюльюс не понял, но Карола вынула платочек и утерла слезу.
– Неужели же это визит соболезнования?
– Я была знакома с господином Лилиссуаром, – ответила она.
– Не может быть!
– О, совсем немного, но он мне очень нравился… Он был такой учтивый, такой добрый… Я ведь и подарила ему эти запонки на манжеты – вы знаете, про которые писали в газетах; по ним я его и узнала. Только я, граф, не знала, что он вам родня… Я очень удивилась и, конечно, очень обрадовалась… Ой, простите, я не то хотела сказать…
– Не смущайтесь, пожалуйста, сударыня; вы, должно быть, имели в виду, что были рады случаю меня повидать.
Карола не ответила и закрыла лицо платочком; она содрогалась от рыданий, и Жюльюс счел долгом взять ее за руку.
– Я тоже, милая барышня, – сказал он прочувствованно, – я тоже, можете верить…
– Прямо утром, когда он собирался ехать, я ему говорила, чтоб он был осторожен. Но у него же натура была не такая – он был такой доверчивый, вы же знаете…
– Святой, сударыня; это был святой человек! – восторженно отозвался Жюльюс и тоже достал платок.
– Я и сама поняла! – воскликнула Карола. – По ночам, когда он думал, что я сплю, он вставал, становился на колени подле кровати и…
От этого нечаянного признания голова Жюльюса совсем пошла кругом. Он убрал платок в карман и сказал, подойдя еще ближе:
– Снимите же шляпку, сударыня.
– Спасибо, мне не мешает.
– Мне мешает… Позвольте…
Но Карола сильно попятилась, и он спохватился:
– Так разрешите спросить вас: у вас есть какие-то особенные причины бояться?
– У меня?
– Да. Ведь вы просили моего родича быть осторожнее, вот я и спрашиваю, были ли у вас причины предполагать… Говорите совершенно откровенно: сюда по утрам никто не заходит, нас никто не может услышать. Вы кого-то подозреваете?
Карола опустила голову.
– Поймите, меня это особенно интересует, – без остановки говорил Жюльюс. – Только взгляните, в каком я положении. Вчера вечером я делаю заявление в участке, возвращаюсь в гостиницу и нахожу в номере на столе, прямо посередине стола, билет на поезд, по которому ехал несчастный Лилиссуар. Он был выписан на мое имя; конечно, эти круговые билеты строго именные, я не имел права его одалживать, но не о том речь… Но сам факт, что мой билет вернули мне, цинично подложили прямо в номер, как только я на минутку вышел, – в этом я вижу вызов, браваду, почти оскорбление… и я бы это еще перенес, нечего и говорить, если бы не имел причин думать, что за мной тоже следят, и вот почему: несчастный Лилиссуар, наш общий друг, был хранителем одной тайны… страшной тайны… ужасной тайны… я его об этом не спрашивал… мне совершенно не хотелось это знать… но он, к великому несчастью, имел неосторожность сообщить ее мне. И вот теперь я вас спрашиваю: тот, кто не побоялся пойти на убийство, чтобы тайна не раскрылась, – вы знаете, кто это?
– Не тревожьтесь, граф: я вчера вечером донесла на него в полицию.
– Карола, сударыня, я ничего другого от вас и не ждал.
– Он мне обещал не делать ему дурного; сдержал бы слово – и я бы свое сдержала. А теперь уж хватит с меня; пусть делает со мной что угодно.
Карола разгорячилась. Жюльюс обошел стол и опять подошел к ней ближе:
– Не удобней ли нам будет разговаривать у меня в номере?
– Нет-нет, сударь! – ответила Карола. – Я уже сказала вам все, что хотела; не буду вас больше задерживать.
Отодвигаясь все дальше, она понемногу сама обошла стол и стояла теперь у двери.
– Значит, сударыня, теперь нам лучше распрощаться, – важно произнес Жюльюс, желая представить ее упорство собственной добродетелью. – Да, вот еще что я хотел сказать: если послезавтра вам вздумается прийти на похороны, будет лучше, если вы меня не узнаете.
С этими словами они расстались, и никто не назвал имя Лафкадио, потому что его ни в чем не подозревали.
V
Лафкадио вез из Неаполя останки Лилиссуара. Тело ехало в покойницком товарном вагоне, прицепленном к хвосту состава, причем Лафкадио садиться туда же не было никакой необходимости. Но из приличия он все же занял купе хотя и не ближайшее к усопшему, потому что последний вагон был второго класса, но хотя бы настолько близко, насколько было возможно для первоклассного пассажира. Из Рима он уехал утром, вернуться должен был в тот же день вечером. Вскоре его душой овладело новое чувство, в котором он сам себе признавался очень неохотно, потому что ничего не считал постыднее скуки – тайной болезни, от которой до сих пор его предохраняли сперва беззаботные полудетские пристрастия, потом суровая нужда. В сердце его не осталось ни надежды, ни радости; он вышел из купе, слонялся взад-вперед по коридору, гонимый каким-то невнятным любопытством, неуверенно отыскивая какой-нибудь новый абсурдный соблазн. Чего бы он ни пожелал, все казалось не то. На пароход уже не хотелось; скрепя сердце он должен был сознаться, что и Борнео совсем его не привлекает; другие места в Италии тоже; ему стало даже неинтересно, что выйдет из его приключения: теперь оно казалось ему позорным и нелепым. Он злился на Лилиссуара, зачем так плохо сопротивлялся; ему была противна эта уродливая физиономия; он хотел стереть ее из памяти.
Зато молодца, утащившего чемодан, он повстречал бы с удовольствием: знатный, видно, комедиант! И на станции Капуя Лафкадио высунулся из вагона, словно тот его там поджидал, и обвел глазами пустой перрон. Да узнает ли он его? Он его видел только со спины, уже довольно далеко; тот уходил в темноту… В мечтах Лафкадио следовал за ним во мраке, возвращался к руслу Вольтурно, находил уродливый труп, обчищал ему карманы и, как будто кому-то назло, вырезал из собственной шляпы кусочек кожи «размером с лавровый лист и такой же формы», как изящно выразились в газете. Впрочем, Лафкадио был весьма благодарен своему вору, что он убрал эту улику – адрес шляпника – с глаз полиции. Конечно, мародер и сам был заинтересован не привлекать к себе внимания, но если он все-таки собирался воспользоваться вырезанной этикеткой – право же, было бы очень занятно войти с ним в соглашение!
За окнами уже совсем стемнело. Официант из вагона-ресторана ходил по всему поезду, объявляя пассажирам первого и второго классов, что ужин их ожидает. Есть Лафкадио не хотелось, но можно было хотя бы часок не маяться бездельем. Лафкадио пошел в ресторан; еще несколько человек шли перед ним, но довольно далеко. Ресторан располагался в голове состава. Вагоны, через которые проходил Лафкадио, были пусты; там и сям места ушедших на ужин были заняты разными предметами: пледами, подушками, книгами, газетами. Взгляд Лафкадио упал на какой-то адвокатский портфель. Уверенный, что за ним никто уже не идет, он остановился перед этим купе, вошел. Впрочем, сам портфель был ему нисколько не интересен, но исключительно для очистки совести он в нем порылся.
Внутри на подкладке неброскими золотыми буквами было вытиснено: «ДЕФУКЕБЛИЗ. Юридический факультет Бордоского университета».
Лежала там пара брошюр по уголовному праву и несколько номеров «Судебного вестника».
«Еще какая-то скотина на конгресс едет – тьфу!» – подумал Лафкадио, положил все на место и поскорее нагнал короткую цепочку пассажиров, направлявшихся в ресторан.
Замыкали шествие стройная девочка и ее мать, обе в глубоком трауре; прямо перед ними шел господин в рединготе и цилиндре, с длинными прямыми волосами и седеющими бакенбардами – вернее всего, хозяин портфеля господин Дефукеблиз. Шли медленно, покачиваясь при толчках поезда. В последнем коридоре, как раз когда профессор занес ногу, чтобы войти в гармошку, соединяющую вагоны друг с другом, тряхнуло сильней обычного, и он потерял равновесие; чтобы не упасть, он размахнулся рукой и сбил с себя пенсне, порвав шнурок; прибор отлетел в угол маленького вестибюля в конце коридора напротив удобств. Пока он, нагнувшись, искал потерянные глаза, дама с девочкой обогнали его. Несколько секунд Лафкадио развлекался, глядя на мученья ученого мужа: жалкий, растерянный, он наугад шарил беспокойными руками по полу; он тонул в призрачном мире; господин профессор как будто изображал танец ученого медведя или, может, впав в детство, играл в «Мы капусту сажали».
Ну же! Лафкадио, сделай доброе дело! Слушай свое сердце – оно еще не испорчено. Помоги немощному. Подай ему стекляшку, без которой он жить не может, – сам он ни за что не найдет. Вот он повернулся к ней спиной. Вот чуть не раздавил… Тут очередной толчок бросил несчастного головой вперед на дверь уборной; цилиндр смягчил удар, смявшись до середины и осев на уши. Господин Дефукеблиз застонал; выпрямился; снял цилиндр. Тогда Лафкадио, решив, что игра уже затянулась, подобрал пенсне, положил его в протянутую шляпу и убежал, избегая благодарностей.
Ужин уже начался. Лафкадио сел возле стеклянной двери, справа от прохода, за столик на две персоны; напротив осталось свободное место. Слева от прохода, прямо рядом с ним, вдова с дочерью села за столик на четыре персоны – там остались не заняты два места.
«Какое здесь царит уныние! – думал Лафкадио, равнодушно скользя глазами поверх голов сотрапезников и не находя лица, на котором остановить взгляд. – Жизнь, если правильно к ней подходить, – праздник, а все это быдло тянет ее как барщину. Как они все дурно одеты! А как были бы безобразны раздетые! Если не возьму шампанского – умру, не дождавшись десерта».
Вошел профессор. Он, видимо, вымыл руки, запачканные при поисках, и теперь рассматривал свои ногти. Напротив Лафкадио его и усадил официант. От столика к столику ходил сомелье. Лафкадио, не говоря ни слова, пальцем указал в карте вин «Монтебелло Гран-Креман» за двадцать франков, а господин Дефукеблиз спросил бутылку воды «Сен-Гальмье». Потом, держа пенсне двумя пальцами, он стал тихонько дышать на стекла, потом начал протирать их уголком салфетки. Лафкадио наблюдал за ним и дивился этим мигающим кротовьим глазам под толстыми красными веками.
«Хорошо, что он не знает, что это я вернул ему зрение! Если бы принялся меня благодарить, я бы тут же лишил его компании».
Вернулся сомелье с минеральной водой и «Монтебелло»; сначала он открыл шампанское и поставил посредине между сотрапезниками. Не успела бутылка коснуться стола, как Дефукеблиз, не глядя, что перед ним, схватил ее, налил себе полный бокал и залпом выпил… Сомелье замахал было рукой, но Лафкадио, смеясь, остановил его.
– А! Что это я выпил? – с перекошенным лицом вскрикнул Дефукеблиз.
– «Монтебелло» господина напротив вас, – солидно ответил сомелье. – Ваша минеральная вода к вашим услугам.
Он поставил на стол вторую бутылку.
– Простите, ради Бога, милостивый государь… Я очень плохо вижу… поверьте, я крайне сконфужен…
– Вы бы доставили мне огромное удовольствие, – перебил его Лафкадио, – если бы не извинялись, а лучше выпили бы еще бокал, если первый вам понравился.
– Простите, милостивый государь! Признаюсь вам, он мне показался отвратителен; я даже не понимаю, как мог по рассеянности выпить целый бокал; так пить хотелось… Скажите мне, милостивый государь, прошу вас: это вино очень крепкое? Потому что, признаюсь вам… я, кроме воды, ничего не пью… даже капелька спиртного непременно ударяет мне в голову… Боже мой! Боже мой! Что со мной сейчас будет? Не вернуться ли мне прямо теперь в вагон? Наверное, лучше будет полежать…
Он привстал.
– Сидите, сидите, милостивый государь! – сказал Лафкадио; ему уже было забавно. – Наоборот, вам лучше поесть, а про вино забудьте. Если нужно будет вас поддерживать на обратном пути, то я вас провожу, но не бойтесь: от того, что вы выпили, даже ребенок не захмелеет.
– Надеюсь, надеюсь, вы правы. Но я, право же, не знаю, как вас… Не желаете ли, я вам налью «Сен-Гальмье»?
– Премного благодарен, но я, с вашего позволения, лучше буду пить свое шампанское.
– Да, верно, это было шампанское! И вы… вы все это выпьете?
– Для вашего спокойствия.
– Вы чрезвычайно любезны, но на вашем месте я бы…
– Да вы кушайте, кушайте, – перебил его Лафкадио, который сам уже ел. Дефукеблиз осточертел ему.
Теперь его внимание обратилось на вдову.
Явно итальянка. Должно быть, офицерская вдова. Какие благопристойные манеры! Какая нежность во взгляде! Какое свежее лицо! Какие умные руки! Какой элегантный и вместе простой наряд… Лафкадио, когда сердце твое не отзовется на гармонию такого аккорда – пусть оно перестанет биться! И дочь на нее похожа; и уже каким благородством, серьезным и даже почти печальным, оттеняется ребяческая грация! С какой заботливостью склоняется к ней мать! О, перед такими людьми отступает бес; таким, Лафкадио, сердце твое, конечно, могло быть предано…
Тут подошел официант переменить тарелки. Лафкадио отдал ему наполовину недоеденную, потому что в этот миг увидел нечто, от чего разом остолбенел: вдова, нежная вдовица, наклонилась в проход и живо, самым естественным движением, приподняла юбку, показав ярко-красный чулок и превосходной формы ножку.
До того нежданной была резкая нота в серьезной симфонии… Уж не сон ли это? Между тем официант принес новое блюдо. Лафкадио взял еду, посмотрел на свою тарелку – и то, что он увидел, доконало его.
Прямо перед ним, на самом виду, на тарелке, откуда-то с неба свалившаяся, безобразная, из тысячи узнаваемая… не гадай, Лафкадио: это запонка Каролы! Та, которой недоставало на второй манжете Лилиссуара. Сон уже становится кошмарным… Но официант стоит, наклонившись с подносом. Движением руки Лафкадио очищает тарелку, сбрасывая гадкую безделушку на скатерть, ставит на нее тарелку, накладывает себе много-много еды, наливает шампанского, тотчас выпивает и наливает снова… Ведь он весь день не ел; если ему спьяну мерещится… Но нет, то не была галлюцинация: он слышал, как запонка позвякивала на тарелке… Он приподнимает тарелку, забирает запонку, кладет в часовой карман жилета, щупает еще раз, убеждается: она там, в целости и сохранности… Но как узнать, откуда она попала в тарелку? Кто ее туда положил?.. Лафкадио смотрит на Дефукеблиза; профессор, низко опустив голову, с невинным видом ест. Лафкадио хочет подумать о чем-то другом, смотрит опять на вдову, но все в ее облике снова стало благопристойным и заурядным; теперь она ему кажется уже не такой красивой. Он хочет снова представить себе ее вызывающий жест, ее красный чулок – и не может. Пытается вообразить запонку на тарелке – и если бы сейчас не чувствовал ее в кармане, наверняка усомнился бы… А собственно, почему он ее взял, эту запонку? Ведь она не его. Этим инстинктивным, абсурдным жестом он признался! Выдал себя! Показал себя тому человеку, кто бы то ни был, и, должно быть, полиции: она ведь наверняка за ним следит, выглядывает его… Сам как дурак угодил прямо в грубую ловушку. Он бледнеет и сам чувствует это. Быстро оглядывается: за стеклянной дверью коридора никого нет… Но ведь кто-то сейчас мог же его видеть! Он старается еще хоть немного поесть, но с досады зубы у него не разжимаются. Несчастный! Он сожалеет не о своем страшном преступлении, а о неудачном жесте. А что же это профессор теперь ему улыбается?
Дефукеблиз все доел. Он вытер рот, поставил локти на стол и стал нервно теребить салфетку, поглядывая на Лафкадио; странная ухмылка блуждала по его губам; наконец он проговорил, как будто не мог больше держаться:
– Сударь, я осмелюсь попросить у вас еще немножко?
Он боязливо подвинул бокал к почти уже пустой бутылке.
Лафкадио, отвлеченный от своей тревоги и тем очень довольный, нацедил ему последние капли:
– Мне очень неловко, но больше нет… А хотите, я еще закажу?
– Тогда, я думаю, полбутылки будет довольно.
Дефукеблиз, уже заметно подшофе, потерял чувство приличия. Лафкадио, не боявшийся сухого вина и забавлявшийся простодушием соседа, велел открыть еще бутылку «Монтебелло».
– Нет-нет! Много не наливайте! – говорил Дефукеблиз, поднимая дрожащий бокал, наполненный для него Лафкадио. – Странно, отчего это мне сначала так не понравилось. Вот так мы часто боимся неизвестности. Просто я думал, что пью минеральную воду, вот мне и показалось, что у нее какой-то не такой вкус, как должен быть у минеральной воды, вы же понимаете… Вот и вам если бы вместо шампанского налили минеральной воды, вы бы выпили, думая, что это шампанское, и сказали бы: какой-то у этого шампанского не такой вкус!
Он смеялся собственным словам, потом перегнулся через столик к Лафкадио, который тоже смеялся, и вполголоса продолжал:
– Сам не знаю, почему я так смеюсь; должно быть, это ваше вино. Все-таки я подозреваю, оно не такое слабенькое, как вы говорите. Хе-хе-хе! Но вы доведете меня до купе, договорились? Да? Там мы будем одни; вы поймете, почему я неприлично себя поведу.
– В дороге это ни к чему не обязывает, – ответил Лафкадио.
– Ах, сударь! – тотчас подхватил сосед. – Если бы только знать, что все, что мы делаем в жизни, ни к чему не обязывает, как вы сейчас справедливо сказали! Быть уверенным, что все останется без последствий… Послушайте: вот я теперь вам это говорю, и это же совершенно естественная мысль, а думаете, я бы решился так вот напрямик это ляпнуть, будь мы с вами в Бордо? Я сказал «в Бордо» – дело в том, что живу я в Бордо… Меня там знают, уважают; я, правда, не женат, но живу себе спокойно, потихоньку; у меня видное место: я профессор юридического факультета – да-да, профессор сравнительной криминологии, это новая кафедра… Вы же понимаете, что мне там непозволительно, что называется, упиться, нет, так сказать, права на это, хотя бы разок случайно. Я должен жить респектабельно. Представьте себе, если какой-нибудь студент вдруг встретит меня в дым пьяным на улице! Респектабельно, да чтобы не было видно, что поневоле, – в том-то и закавыка; про меня не должны думать так: господин Дефукеблиз (это моя фамилия – Дефукеблиз) прекрасно умеет себя сдерживать. Надо не просто не делать ничего необычного, а еще внушить окружающим, что ты ничего необычного никогда не сделаешь, будь у тебя к тому все возможности, что не имеешь никакой необычности в себе, которая искала бы выхода. Не осталось ли еще вина? Капельку, дорогой мой сообщник, одну только капельку… Такого случая в жизни больше не будет. Завтра в Риме, на том конгрессе, где мы все соберемся, я встречу множество коллег – важных, дрессированных, степенных, чопорных, – таких же, как и я завтра стану, едва лишь опять надену ливрею. Люди порядочного общества, как вы или я, должны жить поддельной жизнью.
Ужин между тем заканчивался; официант шел между столиками, собирая плату по счетам и чаевые.
Чем больше пустел ресторан, тем громче звучал голос Дефукеблиза; выкрики его даже иногда пугали Лафкадио. Профессор продолжал:
– А если нас не будет сдерживать общество, что ж! Довольно родных и друзей, которым мы не хотим быть неприятны. Нашей нецивилизованной неподдельности они противопоставляют наш образ, за который мы лишь наполовину ответственны, который очень мало на нас похож – но до чего же неприлично, говорю я вам, выйти из него! В этот миг становится явью: я совершаю бегство из своего образа, покидаю себя… О головокружительное приключение! О гибельное наслаждение! Я вам не надоел?
– Вы мне интересны даже, на удивление.
– Я говорю! Все говорю! Как быть: даже пьяный, я остаюсь профессором, а этот предмет меня живо интересует… Но если вы уже поужинали – быть может, сделаете милость, возьмете меня под руку и поможете дойти до купе, пока я еще не совсем свалился. А то если еще немного посидеть, я, боюсь, уже и встать не смогу.
С этими словами Дефукеблиз рванулся вверх, словно преодолевая притяжение стула, но тут же плюхнулся вновь и, навалившись на убранный стол лицом к Лафкадио, продолжал тише и как бы доверительно:
– Вот мой тезис: знаете ли вы, как порядочного человека превратить в мерзавца? Довольно переместить точку забвения! Да-да, сударь: одна дыра в памяти, и проявляется неподдельное! Перерыв непрерывности, простой поворот выключателя. На лекциях я, конечно, такого не говорю… Но, между нами, как это хорошо для незаконнорожденных! Подумайте только: ведь само их существование – результат баловства, закорючки на прямой линии…
Голос профессора снова стал громче; теперь он прямо глядел на Лафкадио своими странными глазами, и взгляд их, то блуждающий, то пронизывающий, стал навевать тревогу. Лафкадио пришло в голову, уж не притворна ли была близорукость этого человека; он уже почти узнавал этот взгляд. Наконец, смущенный больше, чем мог бы в том признаться, он вдруг встал и сказал:
– Хорошо, господин Дефукеблиз! Обопритесь на мою руку. Вставайте. Наговорились уже.
Дефукеблиз очень неловко поднялся со стула. Они, шатаясь, шли по коридору до того купе, где оставался лежать профессорский портфель. Дефукеблиз вошел первым; Лафкадио усадил его и попрощался. Не успел он повернуться спиной, как его кто-то сильно хлопнул по плечу. Он тотчас же оборотился. Дефукеблиз вскочил – да был ли то Дефукеблиз? – и насмешливо, властно, ликующе вскричал:
– Что ж вы так скоро от друзей уходите, господин Лафкадио Каквастамуйки! Ну и ну! Вы и вправду хотели сбежать?
Ничего не осталось от потешного подпившего профессора в здоровом трезвом молодце, в котором Лафкадио, не колеблясь больше, узнал Протоса. Протос вырос, раздался в плечах, стал осанистей; в нем явилось что-то страшное.
– Ах, это вы, Протос, – только и сказал Лафкадио. – Так-то лучше. А я все никак не мог вас узнать.
Потому что как бы страшна ни была действительность, она была для Лафкадио лучше нелепого кошмара, в котором он метался вот уже целый час.
– Неплохой грим, да? Ради вас пришлось потратиться… А все-таки, мальчик мой, это вам бы купить очки: хлебнете вы горя, если и вперед будете не распознавать утонченных.
Сколько еще не уснувших воспоминаний вызвало в уме Лафкадио слово «утонченные»! На том жаргоне, на котором они с Протосом общались, будучи в пансионе, утонченными назывались люди, которые по тем или иным причинам в разных местах являют встречным разные лица. По их классификации утонченные бывают нескольких типов, отличающихся по степени изящества и достоинства, и все они вместе противоположны большому семейству панцирных, представители которого гнездятся на всех ступенях общественной лестницы сверху донизу.
Приятели принимали за аксиому два положения: 1. Все утонченные распознают друг друга; 2. Панцирные не распознают утонченных. Теперь Лафкадио припоминал все это и, поскольку по натуре был из тех, кто согласен играть во что угодно, улыбнулся. Протос продолжал:
– А все-таки удачно получилось, что в тот день там оказался я, да? Оно, пожалуй, и не совсем случайно оказался. Люблю наблюдать за новичками: у них воображение, предприимчивость, щегольство… Только все вы чересчур уж надеетесь, что обойдетесь без чужих советов. В вашей работе надо очень много поправить, мальчик мой. Кто же надевает такой горшок, когда идет на дело? Заказная вещь с адресом мастера – недели бы не прошло, вас бы на этом взяли. Но я старых друзей не бросаю, что и доказал. Знаете ли вы, Кадио, что очень мне полюбились? Я всегда думал, что из вас выйдет толк. Вы были такой красавчик – от женщин вам не было бы отказа, а заодно, это все пустяки, можно было бы и мужчин шантажировать. Как я был рад, когда наконец что-то о вас услышал, узнал, что вы в Италии! Честное слово! Прямо не терпелось узнать, как вы поживали с тех пор, как мы встречались у нашей бывшей… А знаете, вы еще и теперь ничего. У этой Каролы губа не дура!
Раздражение Лафкадио становилось все очевидней, как и его усилия раздражение скрыть; все это очень забавляло Протоса, который притворялся, что ничего не замечает. Он вынул из жилетного кармана маленький кожаный кружок и стал его рассматривать:
– Чистая работа? Да?
Лафкадио хотелось его задушить; он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Протос насмехался дальше:
– Маленькая услуга! Стоит шести тысяч франков? Кстати, не скажете мне, почему вы их не хапнули?
Лафкадио подскочил:
– Вы меня вором считаете?
– Послушайте, мальчик мой, – невозмутимо продолжал Протос, – я не очень люблю любителей, скажу вам сразу и прямо. А кроме того, со мной не надо ни петушиться, ни разыгрывать дурачка. У вас, безусловно, есть способности, блестящие способности, но…
– Перестаньте смеяться, – перебил Лафкадио, не в силах больше сдерживать гнев. – К чему вы клоните? Я поступил как школьник; думаете, я нуждаюсь в том, чтобы мне это объясняли? Да, у вас есть оружие против меня; я не хочу углубляться, благоразумно ли для вас самих им пользоваться. Вы хотите, чтобы я купил этот кожаный кружок. Так говорите прямо! Перестаньте улыбаться и так смотреть на меня. Вам нужны деньги. Сколько?
Он говорил так смело, что Протос даже отступил на полшага назад, но тотчас опомнился.
– Хорош, хорош! – сказал он. – Что я вам сказал неприятного? Мы говорим спокойно, по-дружески. Нечего лезть в бутылку. Вы, Кадио, право, помолодели.
Но Лафкадио вздрогнул и отскочил от него, потому что Протос легонько погладил ему руку.
– Сядемте, – сказал Протос, – так удобнее разговаривать.
Он сел у занавески в коридор, а ноги положил на другой диван.
Лафкадио подумал, что Протос хочет перегородить ему выход. Он, конечно, вооружен. У Лафкадио при себе никакого оружия не было. В рукопашной борьбе, сообразил он, конечно, тот будет сильнее. Да если ему на мгновенье и пришло в голову бежать, им уже овладевало любопытство – страстное любопытство, которое ничто, даже опасность для жизни, никогда не могло одолеть. Он сел.
– Деньги? Тьфу на них! – сказал Протос. Он вынул сигару из футляра и предложил Лафкадио; тот отказался. – Вам дым, случайно, не мешает? Ну так слушайте. – Он несколько раз пыхнул сигарой и прехладнокровно продолжал:
– Нет-нет, Лафкадио, друг мой, не деньги мне от вас нужны, а послушание. Вы, мальчик мой (простите за откровенность), кажется, не совсем хорошо понимаете свое положение. А надо осмелиться взглянуть на вещи прямо; позвольте, я вам в этом помогу.
Итак: некий молодой человек захотел вырваться из стесняющих нас социальных рамок – симпатичный, даже как раз из таких, каких я особенно люблю: наивный, грациозно-импульсивный, – ведь он, я полагаю, заранее ничего особенно не рассчитывал… Я помню, Кадио, как вы когда-то щелкали цифры как орешки, но совершенно не желали подсчитывать собственные расходы… Короче, порядки панцирных вам противны; кто хочет, пусть этому удивляется. Но вот что удивляет меня: каким образом столь умный человек, как вы, Кадио, мог подумать, что можно запросто выпрыгнуть из одного общества и не попасть тотчас в другое или что любое общество может обойтись без законов.
Без законов – lawless… Помните, мы где-то читали: «Two hawks in the air, two fishes swimming in the sea not more lawless than we…»[18] Какая славная вещь литература! Лафкадио, друг мой! Познайте законы утонченных!
– Может быть, ближе к делу?
– А куда торопиться? Время у нас есть. Я еду до самого Рима. Лафкадио, друг мой, убийцу, бывает, не ловят жандармы, и я вам скажу, отчего мы ловчее: потому что играем на свою жизнь. Там, где не выходит у полиции, кое-что иногда получается у нас. Черт побери, вы этого хотели, Лафкадио! Дело сделано, от нас вам не сбежать. Я бы предпочел, чтобы вы поступили ко мне в послушание, потому что если нет, мне, видите ли, будет очень больно донести на такого старого друга, как вы, в полицию – а что делать? Теперь вы либо в их власти, либо в моей.
– Донесете на меня – донесете и на себя самого…
– Я думал, у нас серьезный разговор. Поймите же вот что, Лафкадио: полиция сажает непокорных, а с утонченными она в Италии с удовольствием входит в соглашение. «Соглашение» – да; пожалуй, точное слово. Я сам себе немножко полиция, мальчик мой. У меня есть глаза и уши. Я поддерживаю порядок. Ничего не делаю сам: другие делают, что я велю.
Ну же, Кадио, полноте брыкаться! Ничего тяжкого в моем законе нет. Вы все преувеличиваете – такой наивный, такой непосредственный! Или вы думаете, что не из послушания, не потому, что я этого хотел, вы за ужином взяли с тарелки запонку девицы Негрешитти? Ах, какой недальновидный, какой идиллический жест! Бедный мой Лафкадио! Ведь вы на себя за него сильно сердились, да? Самое противное, что не я один это видел. Э, да не делайте круглые глаза: вдовица, девочка, официант – все они в курсе. Милейшие люди. Только от вас теперь зависит с ними подружиться. Лафкадио, друг мой, будьте благоразумны: вы покоряетесь нам?
Лафкадио – быть может, от крайней затруднительности своего положения – решил не отвечать ничего. Он сидел, выпрямив спину, сжав губы, неподвижно глядя прямо перед собой. Протос, пожав плечами, продолжал:
– Какое у вас дурацкое тело! А ведь на самом деле – такое гибкое! Да ведь вы, пожалуй, уже давно бы согласились, если бы знали, чего мы от вас хотим. Лафкадио, друг мой, избавьте меня от одного сомнения. Когда мы расстались, вы были крайне бедны, а теперь не берете шесть тысячных бумажек, оброненных перед вами на дороге, – вы находите это естественным? Господин де Барайуль-старший, говорила мне девица Негрешитти, скончался на другой день после того, как его достойный сын граф Жюльюс побывал у вас в гостях, а вечером того же дня вы отправили за дверь девицу Негрешитти. После этого у вас наладились, право же, очень тесные отношения с графом Жюльюсом; вы не благоволите объяснить мне почему? Друг мой Лафкадио, во времена нашего знакомства у вас было множество дядюшек; нынче, я гляжу, вы уже высоко забарайулились на чье-то родословное древо. Ну-ну, не сердитесь, шучу. Только что же я, по-вашему, должен думать?.. Ну, если только вы не обязаны своим теперешним богатством прямо графу Жюльюсу, что при вашей – Лафкадио, позвольте, я вам скажу? – смазливости кажется мне еще куда как скандальнее. Так ли, эдак ли, что бы мы тут ни придумывали, дело, друг мой Лафкадио, ясное, и долг ваш предписан: вы будете шантажировать графа Жюльюса. Да послушайте, не вставайте же на дыбы! Шантаж – это здравое установление, необходимое для поддержания нравственности. Э, что такое? Вы уходите?
Лафкадио встал.
– Да пустите же меня наконец! – вскричал он, перешагивая через Протоса; тот так и сидел поперек купе, положив ноги на диван, и даже не пошевелился, чтобы его остановить. Лафкадио, удивленный, что его не задерживают, открыл дверь в коридор и отступил еще на шаг: – Я не спасаюсь бегством, не тревожьтесь. Вы можете не выпускать меня из вида, но что угодно – лишь бы не слушать вас больше… Простите, я предпочитаю вам полицию. Ступайте туда, я жду.
VI
В тот же день вечерний поезд доставил из Милана Антимов; поскольку они ехали третьим классом, то лишь на перроне встретили графиню де Барайуль со старшей дочерью, прибывшую из Парижа спальным вагоном того же поезда. За несколько часов до траурной телеграммы графиня получила от мужа письмо; граф красноречиво распространялся о глубочайшем удовольствии, доставленном неожиданной встречей с Лафкадио; там, конечно, вовсе не упоминалось о полубратстве, которое, на взгляд Жюльюса, давало юноше весьма коварную привлекательность (верный последней воле отца, Жюльюс так же не объяснялся открыто на этот счет с женой, как и с самим Лафкадио), но какие-то черточки, какие-то намеки достаточно сказали все графине; я даже не поручусь, что Жюльюс, которому в буржуазной повседневности не хватало забав, не подносил играючись руки к костру скандала, обжигая кончики пальцев. Не поручусь и за то, что появление Лафкадио в Риме, надежда увидеть его не сыграли какой-то – очень большой – роли в решении Женевьевы поехать туда вместе с матерью.
Жюльюс встретил их на вокзале. Он тут же отвез своих в «Гранд-Отель», почти тотчас распрощавшись с Антимами: теперь они должны были встретиться на другой день, идя за гробом. А те отправились в ту же гостиницу на виа Бокка ди Леоне, где останавливались в первый приезд.
Маргарита привезла писателю добрые вести: на сей раз выборы в академию шли как по маслу; кардинал Андре официально объявил ей: кандидату не надобно даже наносить обычные визиты – академия сама идет ему навстречу, распахнув врата; его ожидают.
– Видишь, – говорила Маргарита, – что я тебе говорила в Париже? Все приходит в свое время. А нам в этой жизни достаточно лишь терпеть.
– И не меняться, – с видом раскаянья отвечал Жюльюс, поднося руку супруги к своим губам и не замечая, каким презрительным стал уставленный на него взгляд дочери. – Быть верным вам, своим мыслям, своим принципам. Постоянство – необходимейшая из добродетелей.
Уже отходило от него воспоминание о столь недавнем крутом повороте, удалялись все мысли, кроме правоверных, все планы, кроме благопристойных. Теперь он все знал и без усилий опамятовался. Он любовался тонкой связью причин, вследствие которой на миг сбился с пути его разум. Не он изменился: папа был подменен.
«Моя же мысль, – думал он, – до чего, напротив, последовательна, до чего логична! Самое трудное – знать, где остановиться. Бедняга Лилиссуар погиб потому, что заглянул за кулисы. Когда ты прост, всего проще остановиться на том, что уже знаешь. Эта отвратительная тайна погубила его… Знание – сила только для сильных… Все равно я рад, что Карола сообщила в полицию: это мне позволяет размышлять спокойнее. А все же узнай несчастный Антим, что он не настоящему папе обязан своими несчастьями, своим изгнанием, – как бы он утешился! Как укрепился бы в вере! Завтра после похорон надо будет ему сказать».
На похоронах народу было не много. За катафалком ехали три экипажа. Шел дождь. В первом экипаже Блафаффас дружески сопровождал Арнику (по окончании траура они, без сомненья, поженятся); они вместе выехали из По еще третьего дня (оставить вдову на произвол ее скорби, отпустить ее в дальнюю дорогу одну – Блафаффас и мысли такой не допускал, а хоть бы и допустил… Он был не родственник, но тоже надел траур: какой родственник стоит такого друга?), но до Рима добрались только несколько часов назад, потому что опоздали на поезд.
В последнем экипаже места заняли госпожа Арман-Дюбуа, графиня и ее дочь; в среднем ехали граф с Антимом Арманом-Дюбуа.
Над могилой Лилиссуара никто не упоминал о несчастном происшествии, приключившемся с ним, а на обратном пути Жюльюс де Барайуль, опять оказавшись наедине с Антимом, завел речь:
– Я обещал вам ходатайствовать за вас перед Святейшим Отцом.
– Бог свидетель, я вас об этом не просил.
– Правда: я был поражен, в какой нищете оставила вас Церковь, и слушал только свое сердце.
– Бог свидетель, я вам не жаловался.
– Знаю! Знаю! И как же вы меня раздражали своим смирением! И раз уж вы об этом сами заговорили, дорогой Антим, признаюсь вам, что вижу здесь более гордыню, чем святость, что, когда я в последний раз виделся с вами в Милане, это излишнее смирение показалось мне ближе к возмущению, нежели к истинному благочестию, и весьма поколебало меня в вере. Бог от вас этого не требовал, какого же черта! Откровенно говоря, ваше поведение меня шокировало.
– А ваше, признаюсь вам на это, дорогой брат, меня очень опечалило. Не вы ли именно и подстрекали меня к возмущению, не вы ли…
Жюльюс, разгорячась, перебил его:
– Я достаточно испытал сам и всей своей жизнью достаточно дал понять другим, что можно быть превосходным христианином, не гнушаясь законными преимуществами того положения, в которое Бог нас поставил. В вашем поведении мне именно то не понравилось, что вы своей аффектацией, казалось, хотели принизить мое.
– Бог свидетель, я…
– Что же вы все клянетесь! – опять перебил Жюльюс. – Бог тут ни при чем. Я о том же вам и толкую, говоря, что ваше поведение было совсем недалеко от возмущения… я имею в виду, от моего собственного возмущения; именно в том я вас и упрекаю: вы приняли несправедливость и соблазнили другого за вас возмутиться. Потому что я-то не допускал, что Церковь может быть не права, а вы своим поведением, не желая ее задевать, делали ее неправой. И я решил жаловаться вместо вас. Сейчас вы увидите, как я был прав в своем негодовании.
У Жюльюса проступил бисером пот на лбу; он положил свой цилиндр на колени.
– Вы не возражаете, я немного проветрю? – спросил он, и Антим услужливо опустил стекло экипажа со своей стороны. – Едва приехав в Рим, – продолжил Жюльюс, – я просил аудиенции и был принят. Странным успехом увенчался мой поступок…
– Вот как? – равнодушно проговорил Антим.
– Именно так, друг мой. Ибо я отнюдь не получил налицо то, чего добивался, но зато вынес из своего посещения уверенность в факте, который делает Святейшего Отца неуязвимым для всех позорящих его предположений, которые могли у нас родиться.
– Бог свидетель, я никогда не говорил ничего поносного в отношении Святейшего Отца.
– Я делал это вместо вас. Я видел вас в унижении и негодовал.
– Так ближе к делу, Жюльюс: видели вы папу?
– В том-то и дело, что нет! Я не видел папу, – прорвало наконец Жюльюса, – но узнал одну тайну; сначала я в ней усомнился, но гибель нашего дорогого Амедея неожиданно подтвердила ее – тайну, ужасную, ошеломительную, но ваша вера, дорогой Антим, найдет в ней новую опору. Итак, знайте: в попрании справедливости, жертвой которого вы стали, папа не виноват…
– Что ж, я этого никогда и не предполагал.
– Слушайте хорошенько, Антим: я не видел папу, потому что его никто не может видеть; тот, который теперь сидит на Святом престоле, которого слушает Церковь, который обращается к ней – тот, который со мной говорил, тот папа, которого видят в Ватикане, которого видел я, – он не настоящий.
При этих словах всего Антима сотряс громовой хохот.
– Смейтесь, смейтесь! – продолжал уязвленный Жюльюс. – Я сначала тоже смеялся. Если бы смеялся поменьше, Лилиссуара бы не убили… Святой друг наш! Милый мученик! – Голос его утонул в рыданиях.
– Вот как! Так вы серьезно или сказки рассказываете? – сказал Арман-Дюбуа: исступление Жюльюса обеспокоило его. – Однако… однако… однако… Надо же все-таки точно знать…
– Он потому и погиб, что желал точно знать.
– Потому что если я пустил по ветру все имущество, свое положение, науку, согласился с тем, что меня надули… – продолжал Антим, сам понемногу закипая.
– Я вам говорю: настоящий в этом вовсе не виноват; тот, кто надул вас, – какой-то ставленник Квиринала.
– Верить ли мне тому, что вы говорите?
– Если не верите мне, поверьте несчастному мученику.
С минуту они помолчали. Дождь перестал; луч солнца пробился из-за туч. Экипаж, лениво прыгая на ухабах, въезжал в Рим.
– В таком случае я знаю, что мне делать, – произнес Антим донельзя решительным голосом. – Я все разглашу.
Жюльюс содрогнулся:
– Друг мой, вы меня ужасаете! Вас же отлучат от Церкви.
– Кто отлучит? Если папа фальшивый, то и начхать.
– А я хотел вам помочь, чтобы из этой тайны вы извлекли какую-нибудь утешительную добродетель! – растерянно ответил Жюльюс.
– Шутите? А кто мне докажет, что Лилиссуар, когда будет в раю, не узнает, что его Господь тоже не настоящий?
– Послушайте, Антим, дорогой мой, вы бредите. Ведь их не может быть два! Не может быть никакого другого!
– Нет, правда – легко же вам говорить: вы для того ничего не оставили; настоящий ли, подложный – вам все на пользу… Так! Послушайте, мне надо проветриться.
Он высунулся из кареты, дотянулся тросточкой до плеча извозчика и велел остановить экипаж. Жюльюс собрался сойти вместе с ним.
– Нет, пустите меня. Я знаю довольно, чтобы самому со своими делами управиться. Прочее оставьте для романа. А я сегодня же пишу великому мастеру Ложи, а завтра возобновляю научные корреспонденции в «Депеш». То-то будет смеху!
– Что это? Вы хромаете? – спросил пораженный Жюльюс, увидев, что Антим опять припадает на ногу.
– Да, несколько дней назад боли возобновились.
– Давно бы сказали! – воскликнул Жюльюс и, не глядя на свояка, забился в угол кареты.
VII
Действительно ли Протос намеревался донести на Лафкадио в полицию, как он грозил?
Не знаю; впрочем, события показали, что среди полицейских у него были отнюдь не только друзья. А недруги, извещенные накануне Каролой, устроили на виа деи Векьерелли засаду; этот дом они знали давно; им было известно, что с верхнего этажа можно легко перейти на соседнюю крышу, – выходы из того дома они стерегли тоже.
Протос фараонов не боялся; его не страшило ни предъявление обвинения, ни судебная процедура; он знал, что поймать его нелегко, что он не совершал никаких действительных преступлений, а проступки такие мелкие, что за них не сажают. Поэтому он не слишком перепугался, поняв, что окружен, а понял он это очень быстро: у него было особенный нюх на таких господ в любом обличье.
Всего лишь в некотором недоумении, он заперся в комнате Каролы, которой после убийства Лилиссуара не видел, и стал ожидать ее возвращения; он желал посоветоваться с ней и оставить кое-какие инструкции на случай своего возможного ареста.
Между тем Карола, исполняя волю Жюльюса, на кладбище не появлялась; никто не знал, что она стоит под зонтиком, спрятавшись за чьим-то памятником, и наблюдает за траурной церемонией. Она терпеливо, смиренно ждала, пока станет пусто на свежей могиле, видела, как развернулся кортеж, как Жюльюс сел в карету вместе с Антимом и все экипажи покатили под мелким дождичком вдаль. Тогда она и сама подошла к могиле, достала из-под накидки большой букет астр и положила его в стороне от семейных венков; потом еще долго стояла под дождем, ни на что не глядя, ни о чем не думая и плача, потому что не умела молиться.
Вернувшись на виа деи Векьерелли, она сразу же увидела на пороге две странные фигуры, но не поняла, что дом под наблюдением. Ей не терпелось увидеть Протоса; она не сомневалась, что он убийца, и теперь ненавидела его…
Через пару минут полиция прибежала на крик. Увы! Было поздно; узнав, что Карола на него донесла, Протос в порыве гнева задушил ее.
Это случилось в полдень. Вечерние газеты уже сообщили об этой новости, а поскольку у Протоса обнаружили кружок, вырезанный из шляпы, его виновность в двух убийствах была несомненной для всех.
Лафкадио между тем до вечера жил в ожидании, в смутном страхе: боялся он не полиции, которой грозил ему Протос, а самого Протоса или еще чего-то, против чего он уже и не хотел обороняться. Его одолело непостижимое оцепенение: быть может, то была просто усталость, – ему было все равно.
Накануне он лишь на минуту увиделся с Жюльюсом: тот встретил его из Неаполя и принял труп; потом он долго ходил по городу наугад, чтоб износить отчаянье, пришедшее к нему в поезде вместе с чувством зависимости.
Однако весть об аресте Протоса не принесла для Лафкадио того облегчения, о котором он, может быть, думал. Он был как будто даже разочарован. Странный человек! Он по собственной воле исключил из своего преступления всякую материальную заинтересованность – зато ни от какого риска в этой партии добровольно уйти не хотел. Он не допускал мысли, что партия скоро кончится. Он бы с удовольствием, как бывало в шахматах, дал сопернику ладью форы, а поскольку новое происшествие делало выигрыш слишком легким, а всю игру неинтересной, он чувствовал, что не успокоится, если не продолжит комбинацию с жертвами.
Он поужинал в ближайшей траттории, чтобы не одеваться к табльдоту. Войдя обратно в гостиницу, тотчас увидел через стеклянную дверь ресторана графа Жюльюса за столиком вместе с женой и дочерью. Красота Женевьевы, которой он не видал после первого визита к графу, поразила его. Он подождал в курительной, пока не кончится ужин; там его известили, что граф вернулся к себе в номер и ожидает его.
Он вошел. Жюльюс де Барайуль был один; он уже переоделся в пиджак.
– Что ж, убийца пойман, – тотчас сказал он, подавая руку Лафкадио.
Но Лафкадио руку не взял. Он остался стоять в дверях.
– Какой убийца? – спросил он.
– Как какой? Убийца моего свояка!
– Убийца вашего свояка – я.
Он это сказал не вздрогнув, не меняя, не понижая голоса, без единого жеста, так просто, что Жюльюс поначалу не понял. Лафкадио пришлось повторить:
– Говорю вам: убийца вашего достопочтенного родича не арестован, потому что вашего достопочтенного родича убил я.
Был бы Лафкадио похож на палача – Жюльюс, пожалуй, перепугался бы, но Лафкадио выглядел как ребенок. Он казался даже еще моложе, чем тогда, когда Жюльюс повстречал его в первый раз; взор его был так же ясен, голос так же чист. Он закрыл дверь, но стоял, все так же к ней прислонившись. Жюльюс рухнул в кресло возле стола.
– Бедный мальчик… – проговорил он. – Говорите тише. Как это вас угораздило? Как вы могли?
Лафкадио опустил голову, уже сожалея, что заговорил.
– Откуда мне знать? Я это сделал поскорей, пока не прошла охота.
– Что же вы имели против Лилиссуара – достойнейшего человека, полного всяческих добродетелей?
– Не знаю… уж больно плохо он выглядел… Как я могу объяснить вам то, что сам себе объяснить не могу?
Их все больше разделяло мучительное молчание; оно прерывалось залпами слов и затем смыкалось еще плотнее; тогда было слышно, как наплывает из большой гостиничной залы волна пошлой неаполитанской музыки. Жюльюс ногтем мизинца – ноготь он носил длинный и острый – ковырял пятнышко стеарина от свечки на скатерке стола. Вдруг он заметил, что его прекрасный ноготь сломался. От поперечной трещины во всю ширину потускнел нежно-розовый цвет. Как он это сделал? И почему сразу не заметил? Так или иначе, горю было уже не помочь: оставалось только остричь ноготь. Ему страшно этого не хотелось, потому что он с величайшим тщанием ухаживал за своими руками, а особенно за этим ногтем, который долго выращивал; ноготь придавал достоинство всему пальцу, обличая его стройность. Ножницы лежали в ящике туалетного столика, и Жюльюс собрался было встать за ними, но пришлось бы пройти мимо Лафкадио; Жюльюс тактично отложил операцию на потом.
– А что, – сказал он, – что же вы теперь собираетесь делать?
– Не знаю. Может быть, пойду и сдамся. Даю себе на размышление ночь.
Жюльюс уронил руку на подлокотник, внимательно посмотрел на Лафкадио и с отчаяньем в голосе вздохнул:
– А я было вас так полюбил!
Это было сказано без злого умысла. Лафкадио на этот счет не мог заблуждаться. Но слова, хоть и непроизвольные, все равно были очень жестоки и попали в самое сердце. Лафкадио поднял голову и застыл от внезапно подступившей тоски. Он смотрел на Жюльюса и думал: «Да тот ли это, которого я вчера уже почти счел было братом?» Он обводил глазами тот номер, в котором третьего дня, несмотря на свое преступление, мог так весело разговаривать. Склянка одеколона, почти пустая, стояла еще на столе.
– Послушайте, Лафкадио, – продолжал Жюльюс, – ваше положение, мне кажется, не вовсе безнадежно. Тот, кого считают виновным в преступлении…
– Да, знаю: его арестовали, – сухо перебил Лафкадио. – Вы советуете мне позволить осудить вместо меня невиновного?
– Тот, кого вы называете невиновным, сегодня убил женщину – вы даже знаете эту женщину…
– И выходит, у меня все в порядке?
– Этого я не говорил, но…
– И еще добавим, что только он как раз и мог на меня указать.
– Вот видите: надежда все-таки есть.
Жюльюс встал, подошел к окну, расправил штору, вернулся обратно и наклонился вперед, скрестив руки на спинке того кресла, где только что сидел:
– Лафкадио, мне бы не хотелось отпускать вас без доброго совета. Только от вас, уверен, зависит стать честным человеком и занять достойное место в обществе – хотя бы настолько, насколько позволяет ваше рождение… Церковь готова помочь вам в этом. Вот что: мальчик мой, наберитесь смелости – сходите на исповедь.
Лафкадио не смог сдержать улыбки:
– Премного вам благодарен за столь обязательные слова. – Он сделал шаг вперед и сказал еще: – Вы, конечно, не хотели бы касаться руки убийцы. И все же я хотел бы поблагодарить вас за ваше…
– Хорошо, хорошо, – произнес Жюльюс, издали взмахнув рукой с доброй улыбкой. – Прощайте, мальчик мой. Не смею сказать «до свидания». Но если затем вы все же…
– А теперь вы ничего не хотите мне больше сказать?
– Теперь ничего.
– Прощайте, милостивый государь.
Лафкадио важно поклонился и вышел.
Он вернулся к себе в номер. Полураздевшись, лег на кровать. Под вечер стало очень жарко, и ночь не несла прохлады. Окно было настежь раскрыто, но никакой ветерок не освежал воздуха; вдалеке электрические фонари на площади делле Терме, от гостиницы отделенной садами, наполняли комнату рассеянным голубоватым светом, который можно было принять за лунный. Он собирался поразмыслить, но странное оцепененье безнадежно сковало все его мысли: ни о своем преступлении он не думал, ни о том, как избежать наказания, – только силился не слышать больше тех ужасных слов Жюльюса: «Я было вас так полюбил!» А если бы он сам не любил Жюльюса – разве стоили бы эти слова его слез? И действительно ли он потому и плакал? Ночь была так тиха; ему казалось, забудься он на минуту – и тотчас умрет. Он дотянулся до графина с водой у кровати, намочил платок и приложил к груди: сердце его болело.
«Никакая жидкость на свете не размягчит уже это окаменелое сердце», – думал он, позволяя слезам скатываться на губы, чтобы чувствовать, как они горьки. Какие-то стихи пели в его ушах – он их где-то читал, а где – вспомнить не мог:
My heart aches; and a drowsy numbness pains My senses…[19]Он задремал.
Не сон ли это? Постучали в дверь, он слышал? Дверь на ночь он не запирал никогда; она тихонько отворилась, и в комнате возникла стройная белая фигура. Кто-то позвал его шепотом:
– Лафкадио… Лафкадио, вы здесь?
Сквозь полусон Лафкадио узнал этот голос. Но сомневался ли он, что это чудное виденье – наяву, боялся ли спугнуть его словом или движением – он молчал.
Женевьева де Барайуль, чей номер находился рядом с номером отца, невольно слышала весь разговор Лафкадио с графом. Нестерпимая мука толкнула ее в комнату юноши; теперь, поскольку зов ее оставался без ответа, она твердо решила, что Лафкадио покончил с собой, бросилась к изголовью постели и в рыданьях рухнула на колени.
Так она и стояла – тогда Лафкадио поднялся, наклонился, всем существом устремившись к ней, но еще не смея прикоснуться губами к прекрасному лицу, которое светилось перед ним в темноте. Тут воля оставила Женевьеву де Барайуль; запрокинув назад голову, которую ласкало уже дыханье Лафкадио, не зная, кого позвать на помощь, кроме него самого, она сказала:
– Сжальтесь надо мной, друг мой…
Лафкадио тотчас опомнился, сам отпрянул назад и ее оттолкнул:
– Встаньте, графиня де Барайуль! Уходите! Я вам не… я не могу быть вашим другом.
Женевьева встала, но не отошла от кровати, где еще полулежал тот, кого она сочла было мертвым; она ласково прикоснулась к раскаленному лбу Лафкадио, словно убеждаясь, что он жив.
– Нет, друг мой, я же слышала все, что вы сегодня говорили моему отцу. И вы не понимаете, что я потому и пришла к вам?
Лафкадио привстал и посмотрел на нее. Ее распущенные волосы падали со всех сторон; все лицо было в тени, так что глаз ее он не видел, но чувствовал, как обволакивает ее взгляд. И словно не в силах вынести ее нежность, он закрыл лицо ладонями и простонал:
– О, почему я не повстречал вас раньше! Чем заслужил вашу любовь? Зачем вы говорите так, когда я уже не волен, не имею права любить вас?
Она печально возразила:
– Я к вам пришла, Лафкадио, а не к кому-то иному. К вам – убийце. Лафкадио! Сколько раз я шептала ваше имя с того первого дня, когда вы мне явились героем, и даже чересчур дерзким… Теперь же знайте: я втайне избрала вас супругом с того самого мига, как вы на глазах у меня так великодушно жертвовали собой. Что же случилось с тех пор? Возможно ли, чтобы вы убили? Что вы над собой сделали?
Лафкадио не ответил – лишь покачал головой.
– Я ведь слышала: отец говорил, что арестовали другого – бандита, который только что совершил убийство… Лафкадио! Покуда еще не поздно – бегите; бегите нынче же ночью! Уезжайте отсюда.
– Не могу, – прошептал он. И так как распущенные волосы Женевьевы касались его ладоней, он схватил их и страстно прижал к глазам, к губам: – Бежать – вы ли это мне говорите? Но куда же теперь мне бежать? Может быть, я сбегу от полиции, но от себя не сбегу… Вы и сами будете меня презирать за бегство.
– Я – вас презирать! Друг мой…
– Я жил, не сознавая себя; я убил как во сне; и кошмар, в котором с тех пор я мечусь…
– От которого я вас хочу пробудить! – закричала она.
– К чему будить меня? Я все равно проснусь убийцей. – Он схватил ее за руки: – Или не понимаете, что безнаказанность мне противна? Что мне теперь остается делать? Только открыться, едва лишь настанет утро.
– Богу надобно открыться – не людям. Не скажи вам это отец, сказала бы я: Лафкадио, Церковь готова помочь искупить вашу муку и в покаянии обрести мир.
Женевьева права; и, конечно, нет лучше выхода для Лафкадио, чем послушание в спокойствии совести; рано или поздно он это поймет, поймет, что закрыты ему иные пути… Как жаль, что сначала этот совет ему дал размазня Жюльюс!
– Что это вы мне за нотации читаете? – спросил он, насупившись. – Вы ли так со мной говорите?
Он отпускает и отталкивает ее руку; Женевьева отступает от него, а в нем тем временем поднимается какая-то злоба на Жюльюса, потребность отвратить Женевьеву от отца, принизить ее, поставить вровень с собой… Он опускает глаза и в маленьких шелковых туфельках видит ее ножки без чулок.
– Как вы не понимаете: я боюсь не угрызений совести, а…
Он встал; он повернулся к ней спиной; он подошел к открытому окну; ему душно; он оперся лбом на стекло, а горячими ладонями на ледяное железо балкона; он желал бы забыть, что она тут, рядом с ним…
– Графиня, вы сделали для несчастного преступника все, что могла сделать девушка из хорошей семьи, и даже едва ли не больше; от всего сердца благодарю вас. Теперь лучше для вас оставить меня. Возвращайтесь к отцу, к вашим привычкам, к вашим обязанностям… Прощайте. Кто знает, увижу ли я вас? Подумайте: ведь это для того, чтоб быть немного менее недостойным вас, я завтра откроюсь полиции. Подумайте… Нет! Не подходите ко мне. Или вы считаете, мне довольно будет рукопожатия?
Не испугалась бы девушка гнева отца, мнения света, его осуждения, но от ледяного тона Лафкадио мужество Женевьеве изменило. Как же он не понял, что и ей нужно было решиться, отважиться так вот прийти к нему ночью, говорить с ним, признаться в любви, что любовь ее стоит, верно, больше простого «благодарю»? Но и как ей сказать ему, что она тоже до этого дня металась будто в бреду – в бреду, из которого вырывалась только мгновеньями среди бедных детей в больнице: перевязывала им настоящие раны, – и тогда ей по временам казалось, что хоть как-то она причастна к действительности; в пошлом бреду, где метались и ее родители, где, куда ни кинь, всюду глупые условности их среды; сказать, что ни их поступки, ни мнения, ни стремления, ни даже их самих она всерьез не могла принять? Что ж удивляться, что и Лафкадио Лилиссуара не принял всерьез! Неужели они так расстанутся? Любовь бросает ее к нему. Лафкадио подхватывает ее, сжимает в объятьях, покрывает бледное лицо поцелуями…
Начинается новая книга.
Правда страсти, ты осязаема; ты изгоняешь во мрак призраки моей фантазии.
Оставим наших возлюбленных в этот час петушиного пенья, когда жар, цвет и жизнь вот-вот наконец одолеют ночь. Лафкадио приподымается над уснувшей Женевьевой. Но смотрит он не на прекрасное лицо любимой, не на лоб, чуть увлажненный испариной, не на перламутровые веки, не на горячие полуоткрытые губы, не на совершенное лоно, не на усталые члены – в раскрытое настежь окно он смотрит на раннее утро, на трепет листвы в саду…
Скоро пора уходить от него Женевьеве, но он еще ждет; склонившись над нею, он за легким ее дыханьем слышит невнятный шум города, который уже сбрасывает с себя оцепененье. Вдали, в казарме, трубит рожок. Что же это! Неужели откажется он от жизни? И ради уважения Женевьевы, которую сам уважает немного меньше с тех пор, как она его любит немного больше, неужели он все еще помышляет сознаться?
Фальшивомонетчики
Роже Мартену дю Гару
посвящаю мой первый роман
в знак глубокой дружбы.
А.Ж.Часть первая ПАРИЖ
I
«Пожалуй, пора и раздаться шагам в коридоре», – подумал Бернар. Он поднял голову и насторожился. Нет, тихо: отец и старший брат задерживаются в суде; мать ушла в гости; сестра – на концерте; младший брат, маленький Калу, каждый день после лицея должен отсиживаться в пансионе. Бернар Профитандье сидел дома и зубрил к выпускному экзамену: до него оставалось всего три недели. Семья оберегала его одиночество; дьявол действовал иначе. Хотя Бернар снял куртку, он задыхался. Через распахнутое на улицу окно в комнату вливалась духота. Лоб у него покрылся испариной. Капля пота скатилась по носу и упала на письмо, которое он держал в руке.
«Словно слеза, – подумалось ему. – Но лучше пот, чем слезы».
Да, дата неоспорима. Сомнений быть не может: речь шла о нем, Бернаре. Письмо было адресовано матери; старое, семнадцатилетней давности, любовное письмо, без подписи.
«Что означает этот инициал? V, но его можно принять и за N… Прилично ли спросить мать? Ладно, доверимся ее хорошему вкусу. Я волен воображать, что он был принц. Но хорошенькое дельце, если выяснится, что я сын нищего! Незнание того, кто твой отец, излечивает от опасности быть на него похожим. Всякий розыск обязывает. Воспользуемся пока той свободой, какую он мне дает. Глубже копать не станем. На сегодня хватит».
Бернар сложил письмо. Оно было того же формата, что и дюжина других писем в пачке. Письма перевязывала розовая ленточка; ему не надо было ее развязывать, достаточно слегка передвинуть ленту, чтобы она, как прежде, опоясала всю пачку. Он положил письма обратно в шкатулку, а шкатулку – в выдвижной ящик подзеркального столика. Ящик не был открыт; Бернар обнаружил его секрет сверху. Он водворил на место разобранные деревянные пластинки его верхней части, которую должна была прикрыть тяжелая ониксовая плита. Мягко, осторожно он опустил плиту и снова поставил на нее два хрустальных канделябра и громоздкие часы, над починкою которых только что ради забавы возился.
Часы пробили четыре. Он кончил свою работу вовремя.
«Господин следователь и господин адвокат, сын его, возвратятся не раньше шести. У меня есть время. Нужно, чтобы господин следователь, придя домой, нашел у себя на письменном столе дельно составленное письмо, где я объявлю ему о моем уходе. Но прежде чем его написать, мне совершенно необходимо хоть немного проветрить свои мысли и разыскать моего дорогого Оливье, чтобы обеспечить себе временное пристанище. Оливье, друг мой, пришло время для меня подвергнуть испытанию твою любезность, а для тебя – показать мне, чего ты стоишь. Наша дружба была прекрасна тем, что до сих пор нам ни разу не приходилось оказывать друг другу услуги. Ба! Не так уже тягостно будет просить об оказании пустяковой услуги. Досадно, что Оливье будет не один. Ну что ж! Я найду предлог отвести его в сторону. Я хочу испугать его своим спокойствием. Необычайное – вот сфера, в которой я чувствую себя как рыба в воде».
Т-ская улица, где жил до сего дня Бернар Профитандье, совсем близко от Люксембургского сада. Там, у фонтана Медичи, на аллее, выходящей к нему, встречались обыкновенно каждую среду, от четырех до шести, некоторые из его товарищей. Говорили об искусстве, философии, спорте, политике и литературе.
Бернар шел очень быстро, но, войдя в ворота сада, заметил Оливье Молинье и тотчас же замедлил шаг.
Собрание в этот день было более многолюдным, чем обычно, несомненно, по случаю хорошей погоды. Явились и кое-какие новички, Бернару незнакомые. Каждый из этих молодых людей, едва оказавшись на публике, начинал ломать комедию и вести себя как-то вымученно.
Завидев приближающегося Бернара, Оливье покраснел, довольно грубо оставил молодую женщину, с которой беседовал, и удалился. Бернар был его самым близким другом, и потому Оливье старательно следил, чтобы не возникало впечатления, будто он добивается его общества; иногда Оливье даже притворялся, что в упор не замечает Бернара.
Прежде чем подойти к Оливье, Бернар должен был миновать несколько группок, а раз он тоже прикидывался, будто Оливье ему не нужен, то прохаживался не спеша.
Четверо парней окружали невысокого бородача в пенсне – выглядел он намного старше их всех, – державшего в руке книгу. Это был Дюрмер.
– Ничего не поделаешь, – вещал он, обращаясь к одному из школьников, явно польщенный тем, что все его слушают. – Дошел до тридцатой страницы, но не нашел ни одной запоминающейся краски, ни единого слова, которое рисовало бы картину. Автор пишет о женщине, но мне так и неизвестно, красное на ней было платье или синее. Ну а по мне, если я не вижу красок, право же, в книге нет ничего. – Чувствуя, что его слова почти не принимаются всерьез, он поэтому ощущал еще большую потребность в преувеличениях и повторял: – Ничего, абсолютно ничего.
Бернар перестал слушать краснобая; он считал невежливым уйти сразу же, хотя уже прислушивался к спорившим у него за спиной голосам другой группки, той самой, к которой подошел Оливье, когда оставил молодую женщину; один из спорщиков сидел на скамейке и читал «Аксьон франсез».
Каким серьезным выглядит среди них Оливье Молинье! Хотя и почти моложе всех. Его совсем еще детское лицо и взгляд обнаруживают раннюю зрелость мысли. Он легко краснеет, нежен. Как ни старается он быть со всеми приветливым, какая-то неведомая тайная сдержанность, некая стыдливость удерживают товарищей от фамильярности с ним. От этого он страдает. Без Бернара страдал бы сильнее.
Молинье, как и Бернар, на мгновение задерживался у той или другой группки; он делал это из вежливости: ничто в этих спорах его не интересовало.
Он склонился над плечом читавшего. Бернар, не оборачиваясь, услышал, как он говорил:
– Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит.
Читавший резко ответил:
– А ты зеленеешь от злости, как слышишь о Моррасе.
Третий насмешливо спросил:
– Тебе доставляют удовольствие статьи Морраса?
Первый ответил:
– Мне плевать на них, но я считаю, что Моррас прав.
Затем вмешался четвертый, чей голос Бернар не узнал:
– Если вещь не нагоняет скуки, ты считаешь, что ей не хватает глубины.
Первый возражает на это:
– А по-твоему, стоит написать глупость – и выйдет занимательно.
– Поди сюда, – шепотом сказал Бернар, резко схватив Оливье под руку. Он отвел его на несколько шагов. – Отвечай живо, я тороплюсь. Ты мне как-то говорил, что спишь не на том этаже, где родители?
– Я тебе показывал дверь моей комнаты; она выходит прямо на лестницу, полуэтажом ниже их квартиры.
– Ты говорил, что вместе с тобою спит брат?
– Да, Жорж.
– Вы там одни?
– Да.
– Малыш умеет держать язык за зубами?
– Если нужно. Почему ты спрашиваешь?
– Слушай. Я ушел из дому или, во всяком случае, собираюсь уйти сегодня вечером. Не знаю еще, куда денусь. Можешь приютить меня на ночь?
Оливье сильно побледнел. Волнение его было так велико, что он не мог смотреть на Бернара.
– Да, – сказал он, – но приходи не раньше одиннадцати. Каждый вечер мама спускается пожелать нам доброй ночи и запереть дверь на ключ.
– Ну и как быть?
Оливье улыбнулся:
– У меня есть другой ключ. Постучи тихонько, чтобы не разбудить Жоржа, если он уснет.
– Консьерж меня пропустит?
– Я предупрежу его. Да у меня с ним прекрасные отношения. Это он дал мне второй ключ. До скорого!
Они расстались, не пожав руки друг другу. И когда Бернар удалялся, обдумывая письмо, которое собирался написать, – следователь должен будет найти его у себя на столе по возвращении домой, – Оливье, не желавший, чтобы его видели только наедине с Бернаром, стал разыскивать Люсьена Беркая, которым товарищи слегка пренебрегали. Оливье подружился бы с Люсьеном, если бы не предпочитал ему Бернара. Насколько Бернар предприимчив, настолько Люсьен робок. Чувствуется, что слабый мальчик; кажется, будто он живет только сердцем и умом. Он редко осмеливается выступить вперед, но безумно радуется всякий раз, как видит, что Оливье подходит к нему. Каждый из его товарищей догадывается, что Люсьен пишет стихи; однако, я уверен, Оливье – единственный, кому Люсьен открывает свои планы. Они отошли к краю террасы.
– Мне очень хотелось бы, – говорил Люсьен, – рассказать историю не лица, но места, например, вот этой аллеи, рассказать, что происходит на ней в течение дня, с утра до вечера. Прежде всего на ней появляются няньки с детьми, кормилицы в лентах… Нет, нет… сначала совсем седые люди, без пола и возраста, подметают аллею, поливают траву, пересаживают цветы, словом, приготовляют сцену и декорации к открытию ворот, понимаешь? Затем – явление кормилиц. Карапузы лепят из песка пирожные, дерутся, няньки отпускают им пощечины. Потом выход младших классов школ – и вслед за ними работниц. Бедняки приходят позавтракать на скамейке. Позднее – люди, разыскивающие друг друга или убегающие друг от друга; те, кто жаждет одиночества, – мечтатели. А потом толпа – в час музыки и выхода из магазинов. Школьники, как вот теперь. Вечером – влюбленные: одни целуются, другие расстаются со слезами. Наконец, когда уже совсем темнеет, чета стариков… И вдруг дробь барабана: закрывают. Все выходят. Пьеса окончена. Понимаешь, что-нибудь такое, что давало бы впечатление конца всего, смерти… понятно, так, чтобы не было речи о смерти.
– Да, я представляю это очень ясно, – сказал Оливье, который думал о Бернаре и не слышал ни одного слова.
– И это не все, не все! – с жаром продолжал Люсьен. – Мне хотелось бы в своего рода эпилоге показать эту самую аллею ночью, когда все разошлись, показать, как она пустынна и еще прекраснее, чем днем: царит тишина, в которой слышнее звуки природы, шум фонтана, ветра в листве и пение ночной птицы. Я думал сначала заставить блуждать по аллее тени, может быть, оживить статуи… но, мне кажется, так получилось бы банальнее. Что ты скажешь об этом?
– Нет, не надо статуй, не надо, – рассеянно запротестовал Оливье, потом, заметив печальный взгляд собеседника, с жаром воскликнул:
– Ну ладно, старина, если тебе это удастся, будет потрясающе!
II
В письмах Пуссена нет даже намека на какие-либо обязанности по отношению к родителям. Никогда он не выражал сожаления, что разлучился с ними. Добровольно переселившись в Рим, он потерял желание возвратиться на родину, можно даже сказать – всякое о ней воспоминание.
Поль Дежарден. ПуссенГосподин Профитандье спешил домой и находил, что его коллега Молинье, провожавший его по бульвару Сен-Жермен, не слишком торопится. У Альберика Профитандье сегодня выдался особенно хлопотный день в суде; его беспокоило ощущение какой-то тяжести в правом боку: усталость сказывалась на печени, которая начинала сдавать. Он думал о ванне, которую скоро примет; ничто так не успокаивало его после дневных забот, как хорошая ванна; в предвкушении ее он сегодня не позавтракал, считая, что неблагоразумно входить в воду, хотя бы даже теплую, с наполненным желудком. Конечно, это может быть только предрассудок, но предрассудки – устои цивилизации.
Оскар Молинье ускорял шаги как только мог и прилагал все усилия, чтобы поспевать за Профитандье, но он был гораздо ниже ростом и мышцы его ног не были так развиты; кроме того, он страдал некоторым ожирением сердца и легко задыхался. Профитандье, еще крепкий мужчина пятидесяти пяти лет, с впалой грудью и быстрой походкой, охотно покинул бы его, но он был очень щепетилен по части приличий: коллега старше его, выше чином – ему следует оказывать уважение. Кроме того, ему нельзя было дать почувствовать Молинье, что он богат, – а после смерти родителей жены богатство его было значительно, – тогда как все доходы господина Молинье ограничивались жалованьем председателя палаты, жалованьем ничтожным и совершенно не соответствующим высокому положению, которое он занимал с весьма большим достоинством, прикрывая им свою бездарность. Профитандье старался не выдать своего нетерпения; он обернулся к Молинье и увидел, как тот вытирает лоб; впрочем, его очень интересовало то, что говорил ему Молинье, но точки зрения у них были различные, и спор становился жарким.
– Устраивайте наблюдение за домом, – говорил Молинье. – Собирайте показания консьержа и лживой служанки, все это прекрасно. Но помните, что стоит вам только немножко переусердствовать в расследовании, и дело у вас сорвется… Я хочу сказать, что вы рискуете зайти гораздо дальше, чем предполагали сначала.
– Вся эта щепетильность не имеет никакого отношения к правосудию.
– Верно ли, верно ли это, мой друг? Мы с вами знаем, чем должно являться правосудие и чем оно является. Мы стараемся изо всех сил, само собой разумеется, но, как мы ни стараемся, мы достигаем лишь весьма приблизительных результатов. Дело, которое занимает вас сегодня, особенно щекотливо: из пятнадцати обвиняемых или тех, которые по одному вашему слову могут завтра стать обвиняемыми, девять несовершеннолетних. И вы знаете, что некоторые из этих юнцов – сыновья очень почтенных родителей. Вот почему при таких обстоятельствах я считаю каждый приказ об аресте огромным промахом. Газеты разных партий будут в курсе дела, и вы открываете дверь для любого шантажа, любой диффамации. Все ваши усилия будут тщетны: несмотря на всю вашу осторожность, вы не помешаете тому, что будут названы имена… Я не вправе давать вам советы, и вы знаете, насколько охотнее я выслушал бы их от вас, ибо всегда признавал и ценил возвышенность ваших взглядов, ясность ваших мыслей, вашу прямоту… Вот как я стал бы действовать на вашем месте: я попытался бы найти средство положить конец этому отвратительному скандалу, захватив трех или четырех зачинщиков… Да, я знаю, что захватить их трудно, но, черт побери, это наша профессия. Я добился бы закрытия помещения, где совершаются эти оргии, позаботился бы о предупреждении родителей юных безобразников и устроил бы все это осторожно, без шума, лишь бы только предотвратить возможность рецидивов. Ну, посадите в тюрьму женщин, я охотно предоставляю это вам; мне кажется, что мы имеем здесь дело с несколькими вконец развращенными тварями, от которых необходимо очистить общество. Но, повторяю еще раз, не хватайте детей; попугайте их – этого будет довольно, затем подведите их поступки под формулировку «действовал без разумения», и пусть они на долгое время остаются изумленными тем, что отделались только испугом. Вспомните, что троим из них нет еще четырнадцати и что родители, наверное, считают их ангелами чистоты и невинности. И в самом деле, дорогой друг, говоря между нами, разве в этом возрасте мы помышляли о женщинах?
Он остановился, больше запыхавшись от своего красноречия, чем от ходьбы, и заставил остановиться также Профитандье, которого держал за рукав.
– А если мы и мечтали о женщинах, – продолжал он, – то идеально, мистически, религиозно, если можно так выразиться. Теперешние дети, увы, не имеют больше идеалов… Кстати, как поживают ваши? Понятно, все сказанное мной к ним не относится. Я знаю, что при вашем присмотре за ними и воспитании, которое вы им дали, нет оснований опасаться, что они пойдут по дурной дорожке.
Действительно, Профитандье до сих пор мог лишь гордиться своими сыновьями, но он не строит иллюзий: лучшее воспитание в мире не в силах сломить дурных инстинктов, без сомнения, их нет и у детей Молинье; поэтому они сами избегают дурных знакомств и не читают дурных книг. В самом деле, какая польза запрещать то, что предотвратить невозможно? Запрещенные книги мальчик читает украдкой. Система Профитандье гораздо проще: он не запрещает читать дурные книги, но устраивает так, что его дети не чувствуют ни малейшего желания их читать. Что же касается дела, о котором идет речь, то о нем он еще подумает и, во всяком случае, обещает ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Молинье. Пока будет просто продолжаться негласное наблюдение, и так как зло существует уже три месяца, то можно потерпеть его еще несколько дней или недель. К тому же наступающие каникулы, наверное, положат конец сборищам преступников. До свидания.
Профитандье смог наконец ускорить шаг.
Придя домой, он сейчас же побежал в туалетную и открыл краны ванны. Антуан поджидал возвращения барина и устроил так, чтобы столкнуться с ним в коридоре.
Этот верный слуга жил в доме уже пятнадцать лет; дети выросли на его глазах. Он мог наблюдать множество вещей, о множестве других подозревал, но делал вид, что не замечает того, что желали от него скрыть. Бернар сохранил свою детскую привязанность к Антуану. Он не хотел уходить из дому, не попрощавшись с ним. И может быть, благодаря раздражению против семьи он находил удовольствие в том, чтобы посвятить простого слугу в тайну своего ухода, о которой его близкие ничего не узнают; в оправдание Бернара нужно сказать, что никого из родных в тот момент дома не было. К тому же Бернар не мог бы проститься с ними так, чтобы они не попытались его удержать. Он страшился объяснений. Антуану он мог сказать просто: «Я ухожу». Но, говоря это, он так торжественно протянул ему руку, что старый слуга удивился:
– Господин Бернар не возвратится к обеду?
– Он даже не придет и ночевать, Антуан. – И так как последний стоял в замешательстве, не зная хорошенько, как ему следует понимать слова Бернара и вправе ли он задавать ему вопросы, то Бернар еще раз многозначительно произнес: – Я ухожу. – Затем прибавил: – Я оставил письмо на письменном столе… – Он не мог решиться сказать «для папы» и повторил: – На письменном столе. Прощай.
Пожимая руку Антуану, он испытал волнение, словно расставался со своим прошлым; торопливо повторил еще раз «прощай», затем ушел, прежде чем успели разразиться подступавшие к его горлу громкие рыдания.
Антуан был в нерешительности: не берет ли он на себя тяжелой ответственности, позволяя Бернару уйти так, – но как бы он мог удержать его?
Антуан чувствовал, конечно, что этот уход Бернара был для всей семьи событием неожиданным, чудовищным, но его роль совершенного слуги состояла в том, чтобы не подавать виду, будто чему-нибудь удивляешься. Он не должен был знать то, чего не знал господин Профитандье. Без сомнения, он мог бы сказать ему просто: «Известно ли барину, что господин Бернар ушел?» Но он терял таким образом все свои преимущества, а это было совсем невесело. Если он с таким нетерпением поджидал своего господина, то лишь для того, чтобы произнести ему бесстрастно-почтительным тоном, как простое поручение, которое Бернар велел ему передать, следующую тщательно подготовленную им фразу:
– Перед уходом господин Бернар оставил для барина на письменном столе письмо.
Фраза эта была настолько проста, что Антуан мог опасаться, как бы она не осталась незамеченной; он безуспешно старался придумать что-нибудь более значительное; все, что ему удавалось сочинить, выходило ненатурально. Но так как никогда еще не случалось, чтобы Бернар уходил таким образом, то господин Профитандье, которого Антуан искоса наблюдал, не мог удержаться от восклицания:
– Что это значит? Перед уходом…
Он тотчас же овладел собой – он не должен выказывать изумления перед слугой; чувство собственного превосходства не покидало его. Он сказал очень спокойным, истинно судейским тоном:
– Прекрасно. – И спросил, направляясь в кабинет: – Где, говоришь, это письмо?
– На письменном столе.
Действительно, едва Профитандье вошел в комнату, как увидел конверт, положенный прямо перед креслом, в котором он обыкновенно сидел, когда писал, но от Антуана не так легко было отделаться, и господин Профитандье, не успев прочесть две строчки, услышал стук в дверь.
– Я забыл сказать барину, что в малой гостиной его ожидают две особы.
– Какие особы?
– Не знаю.
– Обе по одному делу?
– Вроде нет.
– Чего им от меня надо?
– Не знаю. Они хотели бы вас видеть.
Профитандье почувствовал, что терпение его истощается.
– Я уже говорил и повторю: я не желаю, чтобы меня беспокоили дома, особенно в такой час. У меня есть приемные дни и часы в палате… Зачем ты их впустил?
– Они сказали, что пришли к барину по самому неотложному делу.
– Давно они здесь?
– Около часу.
Профитандье сделал несколько шагов по комнате и провел рукой по лбу; в другой руке он держал письмо Бернара. Исполненный достоинства, Антуан стоял на пороге с невозмутимым видом. Наконец-то ему выпала радость видеть, как судья теряет самообладание, и впервые в жизни, топая ногами, кричит:
– Пусть оставят меня в покое! Пусть убираются! Скажи им, что я занят. Пусть приходят в другой раз.
Антуан еще не вышел из комнаты, как Профитандье подбежал к двери:
– Антуан! Антуан!.. Потом пойди закрой краны в ванне.
Да, ничего не скажешь – принял ванну! Он подошел к окну и прочел:
«Милостивый государь!
После одного случайно сделанного мной сегодня открытия я понял, что мне не следует больше считать Вас своим отцом, что для меня огромное облегчение. Чувствуя так мало любви к Вам, я долгое время думал, что являюсь каким-то выродком; предпочитаю знать, что я вовсе не Ваш сын. Может быть, Вы полагаете, что я обязан Вам признательностью за то, что Вы обращались со мной как с собственным сыном; но, во-первых, я всегда чувствовал неодинаковость Вашего отношения к другим детям и ко мне; что же касается сделанного Вами для меня, то я достаточно Вас знаю и уверен, что Вы просто боялись скандала, желали скрыть положение, которое не делало Вам большой чести, – и, наконец, не могли поступить иначе. Я предпочитаю уйти, не повидавшись с матерью, потому что боюсь растрогаться, прощаясь с ней навсегда, а также потому, что она могла бы почувствовать себя передо мной в ложном положении, что было бы мне неприятно. Сомневаюсь, чтобы ее привязанность ко мне была очень велика: ведь большую часть времени я проводил в пансионе, и она не успела узнать меня; кроме того, мое присутствие постоянно напоминало ей событие в ее жизни, которое она хотела бы предать забвению; я думаю поэтому, что она узнает о моем уходе с облегчением и удовольствием. Скажите ей, если у Вас хватит мужества, что я не сержусь на нее за то, что она произвела меня на свет бастардом; напротив, я предпочитаю быть незаконным и знать, что рожден не от Вас. (Извините, что я говорю так; у меня нет намерения наносить Вам оскорбления; но то, что я говорю, даст Вам право презирать меня, и Вы почувствуете от этого облегчение.)
Если Вы желаете, чтобы я хранил молчание относительно тайных причин, заставивших меня покинуть Ваш дом, то прошу Вас не делать попыток водворить меня обратно. Принятое мною решение покинуть Вас бесповоротно. Не знаю, какою цифрою измеряются Ваши расходы на мое содержание; я мог согласиться жить на Ваш счет лишь потому, что пребывал в неведении, но, само собою разумеется, я предпочитаю ничего не получать от Вас в будущем. Мысль, что я чем-нибудь обязан Вам, мне невыносима, а если бы мне пришлось снова стать зависимым от Вас, то, мне кажется, я скорее умер бы с голоду, чем сел за Ваш стол. К счастью, я, помнится, слышал однажды, что моя мать, выходя замуж, была богаче Вас. Таким образом, я вправе думать, что жил лишь за ее счет. Я благодарю ее, освобождаю от всяких обязанностей передо мной и прошу забыть меня. Вы, надеюсь, придумаете, каким образом объяснить мой уход тем лицам, которых он мог бы удивить. Позволяю Вам во всем винить меня (но хорошо знаю, что Вы не станете ожидать моего позволения, чтобы именно так поступить).
Подписываюсь смешной, принадлежащей Вам фамилией, которую с удовольствием возвратил бы ее владельцу; воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы ее обесчестить.
Бернар Профитандье.
P. S. Оставляю у Вас все свои вещи, полагаю, что Калу может воспользоваться ими на более законном для Вас основании».
Господин Профитандье, шатаясь, добрался до кресла. Он хотел бы обдумать содержание письма, но мысли бессвязно путались в голове. К тому же он опять почувствовал легкое покалывание в правом боку, под ложечкой; ничего теперь не поделаешь: начинается приступ печени. Только бы в доме нашлась виши! Хоть бы жена вернулась! Как он скажет ей о бегстве Бернара! Должен ли он показывать письмо? Как несправедливо это письмо, как чудовищно несправедливо! Особенно ему есть от чего прийти в негодование. Он хотел бы принять за негодование свое горе. Он тяжело дышит и при каждом выдохе приговаривает: «Ах, Боже мой!» – быстрое и слабое, как вдох! Боль в боку смешивается у него с душевным страданием, подтверждает его, как бы сосредоточивая в одном месте. Ему кажется, что все его горе заключено в печени. Он бросается в кресло и перечитывает письмо Бернара. Печально пожимает плечами. Конечно, письмо жестоко к нему, но он чувствует в нем досаду, вызов, дерзость. Никто из его других детей, настоящих, никогда бы не был способен написать такое письмо, как не был бы способен и он сам; он отлично знает это, ибо в них нет ничего такого, чего он не замечал бы в себе самом. Конечно, он всегда считал, что ему следует порицать то новое, грубое и необузданное, что он чувствовал в Бернаре; но тщетно он старается думать так: он ясно сознает, что именно из-за этих качеств он любит Бернара, как никогда не любил других детей.
Уже несколько минут из соседней комнаты слышно Цецилию, которая, возвратившись с концерта, села за рояль и стала упорно барабанить все одну и ту же фразу баркаролы. В конце концов Альберик Профитандье не выдержал. Он приоткрыл дверь гостиной и сказал голосом жалобным, как бы умоляющим, потому что колика в печени начинала причинять ему жестокое страдание (к тому же он всегда был немного робок с дочерью):
– Милая Цецилия, не будешь ли ты добра узнать, есть ли в доме бутылка виши; а если нет, послать за ней. Кроме того, я очень просил бы тебя прекратить на время игру.
– Ты нездоров?
– Нет, нет. Просто мне нужно обдумать один вопрос перед обедом, и твоя музыка мне мешает. – И из любезности – испытываемая им боль делает его добрым – прибавляет: – Какую красивую вещь ты играла! Что это?
Но он уходит, не успев услышать ответ. К тому же дочь знает, что он ничего не понимает в музыке и путает фокстрот с маршем из «Тангейзера» (так, по крайней мере, она утверждает), поэтому у нее нет никакого желания отвечать ему. Но вот он снова открывает дверь:
– Мама возвратилась?
– Нет еще.
Как все нелепо! Она возвратится так поздно, что у него не будет времени поговорить с нею. Что бы такое ему придумать, чтобы объяснить отсутствие Бернара? Ведь нельзя же рассказать правду, раскрыть детям тайну мимолетного увлечения матери. Ах, все давно уже было прощено, основательно забыто, заглажено! Рождение младшего сына скрепило восстановленное согласие. И вдруг этот мстительный призрак, поднимающийся из прошлого, труп, выбрасываемый волною на берег…
Ну что там еще? Дверь в кабинет бесшумно открылась, он поспешно засовывает письмо во внутренний карман пиджака; портьера тихонько приподнимается. Это Калу.
– Папа, скажи… Как перевести эту латинскую фразу? Я ее совсем не понимаю…
– Я ведь просил тебя не входить ко мне без стука. Больше того, я не желаю, чтобы по всяким пустякам ты являлся мне мешать. Ты привыкаешь рассчитывать на чужую помощь и полагаться на других, вместо того чтобы самому стараться. Вчера была задача по геометрии, сегодня вот… Из какого автора твоя фраза?
Калу протягивает тетрадь:
– Он не сказал нам; возьми посмотри, сам узнаешь. Учитель нам ее продиктовал, а я, может быть, неправильно записал. Я хотел бы узнать, правильно ли она написана…
Господин Профитандье берет тетрадь, но он сильно страдает. Он нежно подталкивает мальчика:
– Потом. Уже подают ужин. Шарль пришел?
– Он спустился к себе в кабинет. (Адвокат принимает клиентов на первом этаже.)
– Ступай, скажи, чтобы он зашел ко мне. Ступай, живо!
Звонок! Наконец-то возвращается госпожа Профитандье; она извиняется, что задержалась; ей пришлось нанести много визитов.
Она очень опечалена нездоровьем мужа. Что бы сделать для облегчения его боли? У него действительно вид неважный. Ужинать он не будет. Пусть садятся за стол без него. Но после пусть она придет к нему с детьми. Где Бернар? Ах да… Друг… ты его знаешь, тот, с кем он занимается по математике, увел его к себе.
Профитандье чувствовал себя лучше. Сначала он боялся, что боли не позволят ему говорить. Нужно же, в самом деле, объяснить исчезновение Бернара. Он теперь знал, что он должен сказать, сколь ни мучительно будет это объяснение. Он чувствовал в себе твердость и решимость. Он опасался только, как бы жена не прервала его слезами, криком, как бы ей не сделалось дурно…
Час спустя она входит с тремя детьми, подходит к нему. Он усаживает ее против своего кресла.
– Старайся держать себя в руках, – говорит он тихим, но повелительным тоном, – и не говори ни слова, понимаешь? Мы побеседуем потом наедине.
И во время своей речи он держит ее руку в своих руках.
– Садитесь, пожалуйста, дети. Мне неприятно чувствовать, что вы стоите передо мною, словно на экзамене. Мне предстоит сказать вам нечто очень печальное. Бернар покинул нас, и мы не увидим его больше… здесь, какое-то время. Мне нужно сообщить вам сегодня то, что я сначала скрывал от вас, желая, чтобы вы любили Бернара, как брата; ваша мать и я любили его, как нашего сына. Но он не был нашим сыном… и его дядя, брат его настоящей матери, которая, умирая, поручила его нам… пришел сегодня и забрал его с собой.
Тяжелое молчание воцаряется после этих слов, и слышно, как сопит Калу. Все думают, что Профитандье будет продолжать. Но он делает движение рукой:
– Теперь идите, дети. Мне необходимо поговорить с вашей матерью.
Когда они вышли, господин Профитандье долгое время не произносит ни слова. Рука, которую госпожа Профитандье оставила в его руках, словно помертвела. Другою она поднесла носовой платок к глазам. Она облокотилась на большой стол, отвернулась и заплакала. Сквозь сотрясающие ее рыдания Профитандье слышит, как она бормочет:
– Жестокий!.. Вы выгнали его!..
Минуту назад он решил не показывать ей письмо Бернара; но, слыша столь несправедливое обвинение, протягивает ей:
– На, читай.
– Не могу.
– Тебе нужно прочесть.
Он больше не думает о ее горе. Он следит, какое впечатление производит на нее каждая строчка письма. Только что он говорил, едва сдерживая слезы; теперь даже волнение покидает его; он смотрит на жену. О чем думает она? Тем же жалобным голосом, рыдая, она продолжает бормотать:
– Зачем ты сказал ему… Ты не должен был говорить ему.
– Но ты же видишь, что я ничего ему не говорил… Прочти внимательнее.
– Я прочла внимательно… Как же он, в таком случае, узнал? Кто ему сказал?..
Так вот о чем она думает! Вот причина ее слез! Это печальное событие должно бы было объединить их. Увы! Профитандье смутно чувствует, что мысли их расходятся в разные стороны. И в то время как она жалуется, обвиняет, корит себя за все, он пробует склонить эту упрямую душу к более благочестивым чувствам.
– Это искупление, – говорит он.
Он встал, движимый инстинктивной потребностью господствовать; он держится теперь совсем прямо, забыв физическую боль или пренебрегая ею, и важно, нежно, властно кладет руку на плечо Маргариты. Он хорошо знает, что она никогда вполне не раскаялась в том, что он всегда хотел рассматривать как мимолетное прегрешение; он хотел бы сказать ей теперь, что это горе, это испытание может послужить искуплением ее вины; но он напрасно ищет слова, которые удовлетворили бы его и, как он надеется, стали бы понятны для нее. Плечо Маргариты сопротивляется мягкому давлению его руки. Маргарите прекрасно известно, что из малейших жизненных событий всегда должно последовать какое-нибудь нестерпимое моральное поучение; все толкуется и разъясняется им в духе его догм. Он склоняется к ней. Вот что он хотел бы сказать:
– Мой бедный друг, ты видишь: из греха не может родиться ничего хорошего. Попытка скрыть свою вину ни к чему не привела. Увы! Я сделал все, что мог, для этого мальчика; обращался с ним как с собственным сыном. Бог являет теперь нам, что было ошибкой предполагать…
Однако сразу же запинается.
Несомненно, она понимает эти столь многозначительные слова; несомненно, они проникли в ее сердце, потому что рыдания ее возобновляются с большей силой, хотя в течение нескольких минут перед этим она не плакала; потом она склоняется еще ниже, как бы готовая упасть перед ним на колени, а он подхватывает и поддерживает ее. Что шепчет она сквозь слезы? Он нагибается к самым ее губам. Слушает.
– Ты видишь… Ты видишь… Зачем ты простил меня?.. Ах, я не должна была возвращаться!
Ему приходится почти угадывать ее слова. Потом она умолкает. Она тоже больше не в силах говорить. Как разъяснить ему, что она чувствует себя словно в плену у добродетели, которой он требует; что она задыхается и сожалеет теперь не столько о своей вине, сколько о своем раскаянии. Профитандье выпрямился.
– Мой бедный друг, – сказал он с достоинством и строго, – боюсь, что ты слишком расстроена. Уже поздно. Пойдем-ка лучше спать.
Он помогает ей встать, провожает ее в спальню, прикасается губами к ее лбу, затем возвращается в кабинет и валится в кресло. Странная вещь: приступ печени прошел, но он чувствует себя разбитым. Он сидит, сжимая лоб руками, слишком опечаленный, чтобы плакать. Он не слышит стука, но шум открываемой двери заставляет его поднять голову: это его сын Шарль.
– Я пришел пожелать тебе доброй ночи.
Шарль подходит к нему. Он все понял. Он хочет дать почувствовать это отцу. Он хотел бы выразить ему свое участие, свою любовь, свою преданность, но кто поверит адвокату: он крайне неискусен по части выражения своих чувств или, может быть, становится неискусным как раз в те минуты, когда чувства его искренни. Он обнимает отца. Настойчивость, с которой он кладет свою голову на его плечо, прижимается к нему и в такой позе замирает на несколько мгновений, убеждает, что Шарль все понял. Он так хорошо понял, что, подняв немного голову, спрашивает – неловко, как все, что он делает, – но сердце его так измучено, что он не может удержаться от вопроса:
– А Калу?
Вопрос нелеп, потому что, насколько Бернар отличался от других детей, настолько у Калу семейные черты совершенно явственны. Профитандье треплет Шарля по плечу.
– Нет, нет, будь спокоен. Только Бернар.
Тогда Шарль произносит наставительно:
– Бог изгоняет чужака, чтобы…
Но Профитандье останавливает его: разве он нуждается в том, чтобы ему говорили так?
– Молчи.
Им больше нечего сказать друг другу. Покинем их. Скоро одиннадцать часов. Оставим госпожу Профитандье, которая сидит в своей комнате на маленьком прямом и не очень удобном стуле. Она не плачет, ни о чем не думает. Она тоже хотела бы убежать, но она не убежит. Когда она была с любовником, отцом Бернара, которого нам не для чего знать, она твердила себе: «Напрасно все это: ты всегда будешь всего-навсего порядочной женщиной». Маргарита страшилась свободы, преступления, привольной жизни; вот почему через девять дней она, раскаиваясь, вернулась к семейному очагу. Ее родители вполне обоснованно говорили ей когда-то: «Ты никогда не знаешь, чего хочешь». Покинем ее. Цецилия уже спит; Калу с отчаянием смотрит на свечу; она скоро догорит и не позволит ему дочитать увлекательную книжку, за которой он забывает об уходе Бернара. Мне было бы очень любопытно знать, что мог рассказать Антуан своей подруге-кухарке; но всего не услышишь. Приближается час, когда Бернар должен отправиться к Оливье. Не знаю хорошенько, где он ужинал сегодня и ужинал ли вообще. Он беспрепятственно прошел мимо помещения консьержа и украдкой поднимается по лестнице…
III
Изобилие и мир рождают трусов; мать отваги всегда суровость.
ШекспирОливье лег в постель и стал дожидаться поцелуя матери, которая каждый вечер спускалась в комнату двух младших сыновей обнять их перед сном. Он мог бы снова одеться, чтобы встретить Бернара, но все еще сомневался в его приходе и боялся разбудить младшего брата. Обыкновенно Жорж засыпает быстро и просыпается поздно; может, он не заметит ничего странного.
Услышав робкий стук в дверь, Оливье соскочил с постели, поспешно сунул ноги в ночные туфли и побежал открывать. Не было никакой надобности зажигать свет; лунный свет вполне освещал комнату. Оливье сжал Бернара в объятиях:
– Как я ждал тебя! Я все не верил, что придешь. Твои родители знают, что ты сегодня не ночуешь у себя?
Бернар смотрел прямо перед собой в темноту. Он пожал плечами:
– Ты считаешь, что я должен был спросить у них позволения, да?
Тон его был таким холодно-ироническим, что Оливье тотчас почувствовал нелепость своего вопроса. Он не понял еще, что Бернар ушел «взаправду»; Оливье думает, что его друг просто не хочет ночевать дома, и не уясняет себе хорошенько мотива этой выходки. Он спрашивает, когда Бернар рассчитывает возвратиться. «Никогда!» Свет вспыхивает в сознании Оливье. Он очень озабочен показать себя на высоте положения и не дать захватить себя врасплох; все же у него вырывается восклицание: «То, что ты делаешь, грандиозно!»
Бернару нравится изумление друга; он особенно чувствителен к нотке восхищения, что проскользнула в этом восклицании; он снова пожимает плечами. Оливье взял его за руку; он очень серьезен; спрашивает с мучительным беспокойством:
– Но… почему ты ушел?
– Ах, старина, это дела семейные. Не могу тебе сказать. – И, чтобы не казаться слишком серьезным, он в шутку сбивает с ноги Оливье туфлю, они сидят теперь рядом на кровати.
– Где же ты будешь жить?
– Не знаю.
– И на что?
– Там видно будет.
– Есть у тебя деньги?
– Завтра на обед хватит.
– А потом?
– Потом нужно будет достать. Ладно, придумаю что-нибудь. Вот увидишь. Я тебе все расскажу.
Оливье в совершенном восторге от своего друга. Он знает его решительный характер, однако он все еще сомневается: когда у Бернара выйдут деньги и нужда схватит его за горло, не сделает ли он попытки вернуться? Бернар его успокаивает: он решится на все, лишь бы не возвращаться к своим. И так как он несколько раз, все с большим упоением, повторяет: «На что угодно», – тревога сжимает сердце Оливье. Он хочет еще что-то сказать, но не смеет. Наконец, опустив голову, он начинает неуверенным тоном:
– Бернар… все же ты не собираешься… – но умолкает.
Бернар поднимает глаза и, хотя не видит Оливье, чувствует его смущение.
– Что? – спрашивает он. – Что ты хочешь сказать? Говори. Воровать?
Оливье качает головой. Нет, он не то хотел сказать. Вдруг он разражается рыданиями, конвульсивно сжимая Бернара в объятиях.
– Обещай мне, что ты не…
Бернар обнимает его, затем со смехом отталкивает. Он понял.
– Ах, это я тебе обещаю. Нет, сутенером не стану. – И прибавляет: – Признайся все же, что это было бы самым простым выходом. – Но Оливье успокоился; он-то знает, что эти последние слова только рисовка.
– А твой экзамен?
– Как раз он мне и мешает. Я все же не хотел бы провалиться. По-моему, я готов; главное, не быть усталым в тот день. Мне нужно покончить с этим как можно скорее. Правда, небольшой риск есть, но… я справлюсь, увидишь.
Некоторое время они молчат. Свалилась вторая туфля.
– Ты простудишься, – сказал Бернар. – Ляг и накройся.
– Нет, ты должен лечь.
– Ты шутишь! А ну, живо! – И он силою укладывает Оливье в раскрытую постель.
– А ты? Где ты будешь спать?
– Не важно. На полу. В углу. Мне надо привыкать.
– Нет, послушай. Я хочу тебе что-то сказать, но я не смогу, пока не буду чувствовать, что ты совсем рядом. Ложись ко мне. – И после того, как Бернар, мигом раздевшись, лег рядом: – Знаешь, то, о чем я говорил тебе несколько дней назад… Это случилось… Я там был.
Бернар понимает с полуслова. Он прижимает к себе своего друга, который продолжает:
– Так знай, старина, это отвратительно. Ужасно… Потом у меня было желание плевать, меня тошнило, хотелось содрать с себя кожу, убить себя.
– Ты преувеличиваешь!
– Или убить ее.
– Кто она была такая? Ты хоть был благоразумен?
– Да, да, это девчонка, которую хорошо знает Дюрмер, он и познакомил меня с нею. Как отвратительно она разговаривала! Она болтала не умолкая. Какая дура! Не понимаю, как можно не молчать в такие моменты. Мне хотелось заткнуть ей глотку, задушить ее…
– Бедняга! Ты должен был, однако, заранее знать, что Дюрмер способен подсунуть только идиотку… Красивая хоть?
– Неужели ты думаешь, что я ее разглядывал!
– Ты идиот, купидон. Давай спать… По крайней мере, ты ее…
– Черт! Это-то мне больше всего и отвратительно: то, что я мог все же… совсем так, словно я ее желал.
– Послушай, старина, это потрясающе.
– Замолчи, пожалуйста. Если любовь такова, то я сыт ею надолго.
– Какой же ты еще младенец!
– Хотел бы видеть тебя на моем месте!
– О, ты ведь знаешь, я к этому не стремлюсь. Я сказал тебе, жду авантюры. А так, хладнокровно, меня к этому вовсе не тянет. Все равно как если бы я…
– Как если бы что?..
– Как если бы она… Ничего. Давай спать. – И он резко поворачивается спиною, отстраняясь немного от тела друга, чья теплота его волнует. Но через мгновение Оливье спрашивает:
– Как ты думаешь… Баррес будет избран?
– Черт… Это тебе важно?
– Плевать мне! Скажи… Послушай… – Он облокачивается на плечо Бернара, и тот оборачивается. – У моего брата есть любовница.
– У Жоржа?
Малыш притворяется спящим, но все слышит; приподняв голову с подушки, он насторожился; когда те произнесли его имя, совсем затаил дыхание.
– Какой дурак! Я говорю о Винценте. (Он старше Оливье, и он студент медицинского факультета.)
– Он сказал тебе?
– Нет. Я узнал об этом, хотя он и не подозревает. Родители ничего не знают.
– Что они сказали, если б узнали?
– Не знаю. Мама пришла бы в отчаяние. Папа потребовал бы порвать с нею или жениться.
– Черт возьми! Порядочные буржуа не понимают, что можно быть честным по-другому, чем они. Как же ты узнал?
– Вот как: с некоторых пор Винцент уходит ночью, когда родители уже в постели. Спускаясь по лестнице, он старается как можно меньше шуметь, но я узнаю его шаги на улице. На прошлой неделе – в среду, кажется, – ночь была такая душная, что я не мог спать. Я подошел к окну, чтобы легче было дышать. Вдруг услышал, что дверь внизу открылась и снова закрылась. Я высунулся из окна и узнал Винцента, когда он проходил мимо фонаря. Уже перевалило за полночь. Это было в первый раз. Я хочу сказать: в первый раз я заметил его уход. Но с тех пор как я об этом узнал, я наблюдаю – о, невольно! – и почти каждую ночь слышу, как он уходит. У него свой ключ, и родители устроили ему кабинет в комнате, где прежде помещались мы с Жоржем: там он будет принимать своих пациентов. Его комната в стороне, налево от прихожей, тогда как вся остальная квартира направо. Он может уходить и приходить когда угодно, так что никто об этом не знает. Обыкновенно я не слышу, когда он приходит, но позавчера, в понедельник ночью, не знаю, что со мной было. Я обдумывал проект журнала Дюрмера… Не мог заснуть. До меня донеслись голоса на лестнице, я думал, это Винцент.
– Который час был? – спрашивает Бернар, не столько из желания знать, сколько для того, чтобы проявить интерес к рассказу.
– Думаю, три часа утра. Я встал и приложил ухо к двери. Винцент разговаривал с женщиной. Или, вернее, говорила она одна.
– Как же ты узнал, что это Винцент? Все жильцы проходят мимо твоей двери.
– Иногда даже они сильно мешают: чем более поздний час, тем с большим шумом поднимаются они по лестнице. Плевать им на людей, которые спят!.. Нет, это мог быть только он; я слышал, как женщина повторяла его имя. Она говорила ему… ах, мне противно передавать ее слова…
– Что говорила?
– Она говорила: «Винцент, возлюбленный мой, любовь моя, ах, не покидайте меня!»
– Она обращалась к нему на «вы»?
– Да. Не правда ли, любопытно?
– Рассказывай дальше.
– «Теперь вы не имеете права бросить меня. Что я буду делать? Куда пойду? Скажите мне что-нибудь. Ах, не молчите же!» И она снова называла его по имени и повторяла: «Возлюбленный мой, возлюбленный мой», – голосом все более и более печальным, все более и более слабеющим. Потом я услышал шум (они, должно быть, стояли на ступеньках лестницы) точно от падающего тела. Я думаю, она бросилась на колени.
– А он по-прежнему ничего не отвечал?
– Он, должно быть, взошел на последние ступеньки; я услышал, как хлопнула дверь его комнаты. Она оставалась еще долго, совсем рядом, почти у самой моей двери. Я слышал ее рыдания.
– Ты должен был открыть.
– Я не посмел. Винцент пришел бы в ярость, если бы узнал, что я в курсе его любовных дел. Кроме того, я боялся, как бы не смутить ее тем, что застал ее в слезах. Я не нашелся бы, что сказать ей.
Бернар повернулся к Оливье:
– На твоем месте я открыл бы…
– О, ты молодец! Ты всегда себе все позволяешь. Делаешь все, что взбредет в голову.
– Это упрек?
– Нет, завидую.
– Кто, по-твоему, эта женщина?
– Откуда мне знать? Покойной ночи.
– Скажи… ты уверен, что Жорж не слышал нас? – шепчет Бернар на ухо Оливье. Несколько мгновений они прислушиваются.
– Нет, спит, – отвечает Оливье вслух, – потом он все равно бы не понял. Знаешь, что он спросил третьего дня у папы?.. Почему…
На этот раз Жорж не выдерживает: он привстает на постели и кричит брату:
– Дурак! Ты, значит, не понял, что я спрашивал нарочно?.. Да, черт возьми, я слышал все, что вы тут болтали, но вам нечего волноваться. Про Винцента я знал уже давно. Но, пожалуйста, крошки, говорите теперь тише, я хочу спать. Или замолчите.
Оливье поворачивается лицом к стене. Бернару не спится, и он разглядывает комнату. От лунного света она кажется просторнее. Она мало знакома ему. Оливье никогда не бывает здесь днем; во время немногих приходов Бернара он принимал его в верхней комнате. Лунный свет касается теперь изголовья кровати, в которой Жорж наконец заснул; он слышал почти весь рассказ брата; ему будет сниться много снов. Над кроватью Жоржа виднеется маленькая этажерка с двумя полками, где расставлены его учебники. На столике около кровати Оливье Бернар замечает книгу большого формата; он протягивает руку, берет ее, чтобы посмотреть заглавие – «Токвиль», но, когда он хочет положить книгу обратно, она падает, и шум будит Оливье.
– Ты читаешь Токвиля?
– Дюбак мне дал.
– Нравится?
– Скучновато. Но кое-что сказано прекрасно.
– Послушай. Что ты делаешь завтра?
Завтра, в четверг, лицеисты свободны. Бернар думает, не встретиться ли ему снова с другом. Он не намерен больше возвращаться в лицей; хочет обойтись без последних уроков и самостоятельно приготовиться к экзамену.
– Завтра, – ответил Оливье, – в половине двенадцатого я иду к дьеппскому поезду на вокзал Сен-Лазар встречать дядю Эдуарда, который возвращается из Англии. В три часа у меня свидание с Дюрмером в Лувре. Остальную часть дня мне нужно заниматься.
– Дядю Эдуарда?
– Да, он мамин сводный брат. Полгода был в отъезде, и я мало знаком с ним, но я очень его люблю. Он не знает, что я собираюсь встречать его, и боюсь, я его не узнаю. Он совсем не похож на других членов моей семьи. Он очень хороший.
– Что он делает?
– Пишет. Я прочел почти все его книги, но уже давно он ничего не выпускал.
– Романы?
– Да, что-то вроде романов.
– Почему ты мне никогда о нем не говорил?
– Потому что ты захотел бы прочесть его книги, и если бы они тебе не понравились…
– Ну?.. Что дальше?
– То это было бы мне неприятно!
– Почему же ты решил, что он очень хороший?
– Право, не знаю. Я сказал тебе, что почти незнаком с ним. Это скорее предчувствие. Я чувствую, что его интересуют вещи, вовсе чуждые моим родителям, и с ним можно говорить обо всем. Однажды – незадолго перед своим отъездом – он завтракал у нас; разговаривая с отцом, он – я чувствовал – все время смотрел на меня, и это начало меня волновать; я хотел уже уйти из комнаты – дело было в столовой, где мы задержались после кофе, – но он начал расспрашивать отца обо мне, что меня смутило еще больше. И вдруг папа встал и отправился за стихами, что я недавно сочинил и имел глупость ему показать.
– За твоими стихами?
– Ну да, знаешь, то самое стихотворение, которое, по-твоему, похоже на «Балкон»[20]. Я знал, что цена моим стихам – грош или почти грош, и был очень недоволен, что папа вспомнил о них. Какое-то время, пока папа искал эти стихи, мне пришлось остаться в столовой наедине с дядей Эдуардом, и я почувствовал, что страшно краснею; я никак не мог придумать, что бы такое сказать; смотрел по сторонам – и на него, впрочем; он сначала принялся крутить папироску, затем – конечно, для того, чтобы дать мне возможность оправиться от смущения, – встал и начал глядеть в окно. Он насвистывал. Вдруг он сказал: «Я взволнован больше, чем ты». Но думаю, это была простая деликатность. Наконец папа вернулся; он протянул стихи дяде Эдуарду, и тот принялся читать их. Я был на таких нервах, что, начни он говорить мне комплименты, ответил бы, кажется, какою-нибудь дерзостью. Папа, конечно, ожидал комплиментов; так как дядя ничего не говорил, он спросил: «Ну как? Каково твое мнение?» Но дядя сказал ему, смеясь: «Мне неловко высказывать о нем мнение в твоем присутствии». Тогда папа вышел, тоже смеясь. Когда мы снова остались одни, дядя сказал, что находит мои стихи очень плохими; однако этот отзыв доставил мне удовольствие; и еще больше мне понравилось, что он вдруг ткнул пальцем в два стиха – два единственных стиха, что нравились мне во всем стихотворении; он посмотрел на меня, улыбаясь, и сказал: «Вот это хорошо». Ну разве он не славный парень? И если бы ты знал, каким тоном сказал он это! Я бы расцеловал его. Затем он заметил, что ошибка моя заключается в том, что я исхожу из мысли и не позволяю себе довериться словам. Сначала я не понял его хорошенько; теперь же, мне кажется, для меня ясно, что он хотел сказать, – и он прав. Я тебе объясню это в другой раз.
– Теперь я понимаю, почему ты хочешь встретить его на вокзале.
– О, то, что я тебе рассказываю, – пустяки, и я не знаю, зачем я это тебе рассказываю. Мы говорили с ним еще о многих других вещах.
– В половине двенадцатого, ты говоришь? Откуда же ты узнал, что он приезжает с этим поездом?
– Потому что он прислал маме открытку. Кроме того, я проверил по расписанию.
– Ты будешь завтракать с ним?
– Нет, к двенадцати мне нужно возвратиться домой. Я успею только пожать ему руку; но этого мне достаточно… Ах, скажи, пожалуйста, пока я не уснул: когда я тебя снова увижу?
– Не раньше чем через несколько дней. Не раньше чем я выпутаюсь из этой истории.
– Но все же… может быть, я буду в состоянии оказать тебе какую-нибудь помощь.
– Помощь? Нет. Тогда игра будет не настоящая. Мне будет казаться, что я плутую. Спи спокойно.
IV
Отец мой был глуп, но мать – женщина умная; она была квиетистка; маленькая, ласковая, она часто говорила мне: «Сын мой, вы будете осуждены на вечные муки». Но это нисколько ее не печалило.
ФонтенельНет, не к любовнице ходил каждую ночь Винцент Молинье. Хотя он шагает быстро, последуем за ним. С улицы Нотр-Дам-де-Шан, где он живет, Винцент спускается на улицу Сен-Пласид, которая служит ее продолжением; потом идет по улице Бак, где еще попадаются запоздавшие буржуа. Он останавливается на улице Бабилон у входной двери, которая распахивается перед ним. Вот он у графа де Пассавана. Если бы Винцент не был здесь завсегдатаем, он не входил бы так непринужденно в этот роскошный особняк. Лакей, открывающий ему, отлично знает, сколько робости таится под этой напускной уверенностью. Винцент намеренно не дает ему своей шляпы, которую издали бросает на кресло. Однако Винцент приходит сюда не очень давно. Робер де Пассаван, называющий себя сейчас его другом, – друг множества людей. Не знаю толком, как Винцент познакомился с ним. В лицее, вероятно, хотя Робер де Пассаван значительно старше Винцента; несколько лет они не виделись друг с другом; затем, в самое последнее время, снова встретились как-то в театре, когда вопреки обыкновению Винцент был там вместе с братом Оливье; в антракте Пассаван угостил их обоих мороженым; в тот вечер он узнал, что Винцент только что окончил свои общие курсы и был в нерешительности, продолжать ли ему специализироваться в медицине; сказать по правде, естественные науки больше привлекали его, но необходимость зарабатывать… Словом, Винцент охотно принял сделанное ему вскоре Робером де Пассаваном выгодное предложение: ухаживать каждую ночь за старым графом, отцом Робера, болезненно переносившим последствия тяжелой операции; речь шла о перевязках, осмотре раны, уколах и еще каких-то – не сумею перечислить точно – манипуляциях, требовавших опытных рук. Но у виконта были еще и другие, тайные причины приблизить к себе Винцента; последний, в свою очередь, имел тайные основания принять приглашение. Тайные причины Робера мы постараемся раскрыть в дальнейшем; что же касается оснований Винцента, то они были несложны: попросту он крайне нуждался в деньгах. Когда сердце ваше не испорчено, а здоровое воспитание с раннего возраста внушило вам чувство ответственности, то, принося женщине ребенка, вы сознаете некоторое обязательство по отношению к ней, особенно если она бросила из-за вас мужа. Винцент вел до сих пор довольно добродетельную жизнь. Связь с Лаурой казалась ему в разные часы дня то чудовищной, то совершенно естественной. Для получения чудовищного целого часто достаточно бывает сложить вместе множество мелких фактов, которые кажутся вполне простыми и естественными, если рассматривать их порознь. Он мысленно повторял все это по дороге к Роберу, но выхода не видел. Конечно, он никогда не предполагал полностью взять на себя заботы об этой женщине: жениться на ней после развода или жить вместе, не сочетаясь законным браком; он вынужден был признаться себе, что не чувствовал к ней большой любви; но он знал, что в Париже она без средств; он был причиной ее невзгод; он обязан был оказать ей, по крайней мере, первоначальную помощь, но с горечью сознавал, что сегодня у него меньше возможностей сделать это, чем вчера и все последние дни.
Еще неделю назад у него было пять тысяч франков, терпеливо и ценою больших лишений накопленных матерью для облегчения первых шагов его врачебной практики; этих пяти тысяч франков, вероятно, хватило бы для оплаты расходов по содержанию его любовницы в клинике и для первых забот о ребенке. Какого демона он послушался тогда? Названная сумма мысленно уже была вручена им Лауре; он уже отдавал ее Лауре и счел бы преступлением прикоснуться к ней; какой же демон нашептал ему однажды вечером, что этих денег, пожалуй, будет недостаточно? Нет, не Робер де Пассаван. Робер никогда не говорил ничего подобного; но предложение ввести Винцента в игорный дом было сделано им как раз в тот вечер. И Винцент принял его.
Коварный характер притона заключался в том, что игра шла между светскими людьми, между приятелями. Робер представил своего друга Винцента некоторым посетителям. Винцент, захваченный врасплох, не в состоянии был вести крупную игру в этот первый вечер. У него почти не было денег, и он отказался от нескольких кредитных билетов, предложенных ему взаймы виконтом. Но так как ему везло, то он пожалел, что ставил так мало, и обещал себе снова прийти сюда на следующий день.
– Теперь здесь вас знают все, мне нет необходимости приезжать с вами, – сказал Робер.
Все это происходило у Пьера де Брувиля, больше известного под кличкой Педро. Уже с первого вечера Робер де Пассаван предоставил свой автомобиль в распоряжение нового друга. Винцент приезжал к одиннадцати часам, четверть часа беседовал с Робером, выкуривал папиросу, затем поднимался на второй этаж и оставался подле графа столько времени, сколько требовалось в зависимости от настроения, терпения больного и его общего состояния; затем автомобиль доставлял его на улицу Сен-Флорентен, к Педро, а час спустя привозил домой – правда, не на самую улицу Нотр-Дам-де-Шан, – Винцент боялся привлечь к себе внимание, – а на ближайший перекресток.
Позапрошлую ночь Лаура Дувье, сидя на ступеньках лестницы, ведущей в квартиру Молинье, ждала Винцента до трех утра. Впрочем, в эту ночь Винцент не ездил к Педро. Ему больше нечего было проигрывать. Уже два дня, как из пяти тысяч у него не оставалось больше ни единого су. Он известил об этом Лауру; написал ей, что теперь он ничего не может сделать для нее; что советует ей возвратиться к мужу или к отцу; во всем сознаться. Но это признание казалось невозможным Лауре; она не могла даже хладнокровно думать о нем. Жестокие советы любовника вызывали у нее лишь негодование, по временам сменявшееся отчаянием. Как раз в таком состоянии застал ее Винцент. Она хотела удержать его; он вырвался из ее объятий. Конечно, это стоило ему борьбы, потому что сердце у него было чувствительное; но скорее чувственный, чем любящий, он легко стал рассматривать свою суровость как долг. Он ничего не ответил на мольбы Лауры, на ее жалобы, и, как рассказывал потом Бернару подслушавший их Оливье, она долго еще рыдала в темноте, распростершись на ступеньках лестницы, после того как Винцент захлопнул перед нею дверь.
С той ночи протекло уже более сорока часов. Вчера Винцент не пошел к Роберу де Пассавану, потому что старый граф чувствовал себя лучше, но сегодня вечером он получил телеграмму, приглашавшую его явиться. Робер хотел видеть его. Когда Винцент вошел в комнату, которая служила Роберу рабочим кабинетом и курительной, где он проводил большую часть дня и которую обставил и украсил по своему вкусу, Робер, не вставая, небрежно протянул ему руку через плечо.
Робер пишет. Он сидит за письменным столом, заваленным книгами. Перед ним широко раскрыта стеклянная дверь, выходящая в ярко озаренный луною сад. Он говорит не оборачиваясь:
– Знаете, что я сейчас пишу?.. Но не проболтайтесь никому об этом… обещайте мне… Манифест для первого номера журнала Дюрмера. Понятно, я не подписываюсь… тем более что расхваливаю там себя… Так как в конце концов всем станет известно, что деньги на издание журнала даю я, то пусть в течение некоторого времени публика не знает о моем сотрудничестве. Итак, молчок! Теперь же меня занимает вот что: вы, помнится, говорили, что ваш младший брат пишет? Как его имя?
– Оливье, – ответил Винцент.
– Да, Оливье, я забыл… Что же вы стоите? Садитесь в кресло. Вам не холодно? Хотите, я закрою окно?.. Он пишет стихи, не правда ли? Пусть он принесет их мне. Конечно, я не обещаю непременно принять… но все же я удивлюсь, если они окажутся плохими. У вашего брата очень умное лицо. Кроме того, чувствуется, что он в курсе современной литературы. Я хотел бы поговорить с ним. Скажите ему, чтобы пришел ко мне. Идет? Я полагаюсь на вас. Хотите папиросу? – И он протягивает Винценту серебряный портсигар.
– С удовольствием.
– Теперь слушайте, Винцент, мне нужно очень серьезно с вами поговорить. Вы вели себя как ребенок в тот вечер… и я тоже, впрочем. Я не говорю, что мне не следовало показывать вам дорогу к Педро; но я чувствую себя до некоторой степени ответственным за проигранные вами деньги. Мне все кажется, что я виновник вашего проигрыша. Не знаю, можно ли назвать это угрызениями совести, но я начинаю терять сон и чувствую боль в желудке, право слово! Кроме того, я все думаю о той несчастной женщине, о которой вы мне рассказали… Но это из другой области; не будем касаться ее; это свято! Я только желаю, хочу, – да, безусловно, – предоставить в ваше распоряжение сумму, равную той, что вы проиграли. Пять тысяч франков, не так ли? Попробуйте снова рискнуть. Повторяю еще раз: я считаю себя виновником вашего проигрыша; я ваш должник, вам нечего благодарить меня. Если вы выиграете, то отдадите мне деньги. Если нет, что ж! Мы будем квиты. Поезжайте сегодня к Педро как ни в чем не бывало. Автомобиль отвезет вас, потом заедет за мной, и я отправлюсь к леди Гриффитс; прошу и вас пожаловать к ней после игры; там и увидимся. Итак, я полагаюсь на вас. Автомобиль вернется за вами к Педро.
Он открывает ящик, вынимает оттуда пять тысячных банкнотов и передает их Винценту:
– Ступайте живо.
– Но ваш отец…
– Ах, забыл сказать вам: он умер, вот уже… – Он достает часы и восклицает: – Черт возьми, как поздно, скоро двенадцать!.. Отправляйтесь живо. Да, он умер четыре часа назад.
Все это сказано без всякой торопливости, напротив, с деланой небрежностью.
– И вы не остаетесь…
– С покойником? – прервал Робер. – Нет, мой младший брат берет на себя эту обязанность, он там со своей старой няней, которая уживалась с покойником лучше меня…
Так как Винцент не трогается с места, он продолжает:
– Слушайте, дорогой друг, я не хотел бы показаться циником, но мне противны деланые чувства. Я лелеял в своем сердце, как и полагается, сыновнюю любовь к отцу, но любовь эта в первые времена была несколько расплывчатая, и я постепенно поумерил ее. Всю жизнь старик причинял мне одни неприятности, огорчения, досаду. Если в сердце его оставалось немного нежности, то уж наверное не мне давал он ее почувствовать. Мои первые порывы, с которыми я устремился к нему в том возрасте, когда не знал еще, что такое сдержанность, были встречены ледяным холодом; я получил горький урок. Вы сами наблюдали его во время ухода за ним… Поблагодарил он вас когда-нибудь? Добились вы от него хотя бы мимолетного взгляда, хотя бы беглой улыбки? Он всегда считал, что все перед ним в долгу. О, он имел, что называется, характер! Думаю, он причинил много страданий моей матери, которую, однако, любил, если вообще когда-нибудь пережил настоящую любовь. Я думаю, он причинял страдания всем своим окружающим: слугам, собакам, лошадям, любовницам, но не друзьям: их у него никогда не было. При известии о его смерти каждый вздохнет с облегчением. Этот человек, должно быть, высоко ценился членами «своей партии», но я никогда не мог узнать, что это за партия. Несомненно, он был очень умен. В глубине души я восхищался им; я сохранил это восхищение до сих пор. Но вытаскивать носовой платок… источать из глаз слезы… нет, для этого я слишком стар. Ступайте же скорее и через час приезжайте за мной к Лилиан. Что? Вас беспокоит, что вы не в смокинге? Какой вы глупыш! Зачем? Мы будем одни. Послушайте, обещаю вам остаться в пиджаке. Решено. Закурите сигару перед уходом и живо присылайте обратно машину; через час она за вами заедет.
Он посмотрел на удаляющегося Винцента, пожал плечами, затем отправился в спальню переодеться в приготовленный для него на диване фрак.
В одной из комнат второго этажа старый граф покоится на смертном одре. Ему положили на грудь распятие, но забыли сложить руки. Отросшая за несколько дней борода смягчает резко очерченный угол волевого подбородка. Рассекающие лоб поперечные морщины под щеткой седых волос кажутся менее глубокими и как бы разглаженными. Глаза, глубоко запавшие под густой растительностью бровей. Так как нам не придется больше видеть покойника, я долго гляжу на него. У изголовья постели кресло, в котором сидит Серафина, старуха няня. Она встает. Подходит к столу, на котором стоит старомодная масляная лампа, слабо освещающая комнату; нужно поправить фитиль. Абажур отражает свет на книгу, которую читает юный Гонтран…
– Вы устали, господин Гонтран. Шли бы лучше спать.
Гонтран поднимает глаза и устремляет ласковый взгляд на Серафину. Откидываемые им со лба белокурые волосы слегка вьются на висках. Ему пятнадцать лет; его почти женское лицо выражает только нежность и любовь.
– Ну а ты? – говорит он. – Это тебе следует пойти поспать, бедная моя Фина. Прошлую ночь ты почти все время была на ногах.
– О, я не привыкла спать! Кроме того, я спала днем, а вы…
– Нет, оставь… Я не устал; мне так удобно здесь размышлять и читать. Я очень мало знал папу, мне кажется, что совсем позабуду его, если хорошенько не насмотрюсь на него. Я буду бодрствовать подле него до рассвета. Сколько времени, Фина, ты служишь у нас?
– Я поступила сюда за год до вашего рождения, а вам скоро шестнадцать.
– Ты хорошо помнишь маму?
– Помню ли я вашу маму? Вот так вопрос! Это все равно если бы вы спросили меня, помню ли я, как меня зовут. Конечно же, я помню вашу маму.
– Я тоже немного помню, но плохо… мне было всего пять лет, когда она умерла… Скажи… Папа часто разговаривал с нею?
– Когда как. Папа ваш никогда не был особенно разговорчив и очень не любил, если кто первый заговаривал с ним. Но все же он говорил немного больше, чем в самое последнее время. Но не стоит копаться в воспоминаниях, предоставим Господу Богу судить обо всем этом.
– Ты думаешь, Господь Бог действительно будет заниматься всем этим, милая Фина?
– Если не Господь Бог, то кто же?
Гонтран прижимается губами к покрасневшей руке Серафины.
– Знаешь, что ты должна сделать? Пойти спать. Обещаю разбудить тебя, как только рассветет, и тогда я лягу. Прошу тебя.
Едва Серафина оставила его в одиночестве, Гонтран бросается на колени перед ложем покойника, утыкается лбом в простыни, но ему не удается заплакать: ни один порыв не заставляет его сердце забиться сильнее. Глаза остаются безнадежно сухими. Тогда он встает. Рассматривает это бесстрастное лицо. В этот торжественный миг он хотел бы испытать возвышенные и необыкновенные чувства, услышать весть из загробного мира, умчаться мыслью в эфирные, сверхчувственные сферы, – но мысль его остается пригвожденною к земле. Он глядит на бескровные руки мертвеца и спрашивает себя, сколько еще времени будут расти ногти. Его оскорбляют несложенные руки. Он хотел бы сблизить их, соединить, заставить держать распятие. Да, это прекрасная мысль. Он представляет себе, как Серафина будет удивлена, когда увидит, что руки покойника сложены, и как его позабавит ее удивление; но тут же он начинает презирать себя за такие мысли. Все же он наклоняется над постелью. Он схватывает ту руку покойника, что лежит дальше от него. Рука уже закоченела и не хочет сгибаться. Гонтран делает усилие, чтобы согнуть ее, но сдвигает с места тело. Он берет другую руку, она кажется несколько более гибкой. Гонтрану почти удалось положить руку на грудь; он пытается всунуть в нее распятие, так, чтобы оно держалось между большим пальцем и ладонью, но от прикосновения к похолодевшему телу он вдруг слабеет. Думает, что с ним сейчас сделается дурно. У него возникает желание позвать Серафину. Он бросает все: распятие на измятой простыне, руку, которая безжизненно падает на прежнее место, и в наступившей жуткой тишине слышит вдруг: «Черт возьми!» – грубый возглас, наполняющий его ужасом: Гонтрану кажется, что в комнату кто-то вошел… Он оборачивается: никого, он один. Это у него вырвалось звучное ругательство, из глубины существа Гонтрана, который никогда не ругался. Он снова усаживается за стол и погружается в чтение.
V
В эту душу и в это тело никогда не проникало исступление.
Сент-БевЛилиан, привстав, слегка коснулась пальцами светлых волос Робера.
– Вы начинаете лысеть, мой друг. Обратите внимание. Вам только тридцать. Плешь совсем не красит вас. Вы, наверное, слишком серьезно относитесь к жизни.
Робер поднимает голову и с улыбкой смотрит на нее.
– Только не в вашем обществе, уверяю вас.
– Вы сказали Молинье, чтобы он приехал к нам?
– Да, ведь вы просили меня об этом.
– И… одолжили ему денег?
– Пять тысяч франков, я же сказал вам, которые он снова проиграет у Педро.
– Почему вы хотите, чтобы он проиграл?
– Он азартный игрок. Я наблюдал за ним в первый вечер. Он совсем не умеет играть.
– За это время он успел научиться… Хотите пари, что сегодня он выиграет?
– Если вам угодно.
– Ах, прошу вас, не принимайте мое предложение как жертву. Не люблю, когда делают что-нибудь без удовольствия.
– Не сердитесь. Решено. Если он выиграет, он возвратит взятые у меня деньги вам. Но если проиграет, вы возместите мне потерянное. Согласны?
Она нажала кнопку звонка:
– Принесите токайского и три бокала. Если он возвратится с пятью тысячами франков, они будут оставлены ему, хорошо? Если он не проиграет и не выиграет…
– Так никогда не бывает. Забавно, что вы им так интересуетесь.
– Забавно, что вы не находите его интересным.
– Вы находите его интересным, потому что влюблены в него.
– Это правда, дорогой мой! С вами можно говорить откровенно. Но не потому он меня интересует. Наоборот: когда мужчина кружит мне голову, мой интерес к нему обычно остывает.
Снова появился слуга, неся на подносе вино и бокалы.
– Выпьем сначала за пари, а потом будем пить с выигравшим.
Слуга налил вина, и они чокнулись.
– Я нахожу вашего Винцента скучным, – заметил Робер.
– Скажите пожалуйста! «Мой» Винцент!.. Как будто не вы познакомили меня с ним! И потом советую вам не повторять всюду, что он вам скучен. Все быстро поймут, почему вы так часто видитесь с ним.
Робер, слегка повернувшись, прикоснулся губами к обнаженной ножке Лилиан, которую она тотчас отдернула и прикрыла веером.
– Мне следует покраснеть? – спросил он.
– В моем обществе не стоит стараться. Все равно вам это не удастся.
Она осушила бокал и продолжала:
– Хотите, я скажу вам, кто вы, дорогой мой? У вас все качества литератора: вы тщеславны, лицемерны, честолюбивы, непостоянны, эгоистичны.
– Вы мне льстите.
– Да, все это очаровательно. Но вы никогда не сделаетесь хорошим романистом.
– Почему же?
– Потому что не умеете слушать.
– Мне кажется, что вас я слушаю очень внимательно.
– Вам кажется? Он не литератор, а слушает меня куда внимательнее. Но когда мы вместе, больше слушаю, пожалуй, я.
– Он почти не умеет говорить.
– Это оттого, что все время разглагольствуете вы. Я вас знаю: вы не даете ему рта раскрыть.
– Мне наперед известно все, что он может сказать.
– Вы полагаете? Вы хорошо знаете его историю с этой женщиной?
– О, сердечные дела, что может быть скучнее!
– Я очень люблю также, когда он рассказывает что-нибудь из естествознания.
– Естествознание еще более скучная материя, чем сердечные дела. Значит, он читает вам лекции?
– Ах, если бы я умела пересказать вам все то, о чем он мне рассказывал… Как это увлекательно, дорогой мой! Он рассказал мне столько интересного о морских животных. Я всегда интересовалась всем, что живет в море. Вы знаете, в Америке строят теперь подводные лодки с окнами по бортам, чтобы видеть все кругом в глубинах океана. Открывается чудесная картина. Видны живые кораллы, видны – как их называют? – мадрепоры, губки, водоросли, стаи рыб. Винцент говорит, что есть породы рыб, которые гибнут, когда вода становится более соленой, и есть, напротив, другие, которые выносят различные степени солености; эти последние держатся обыкновенно подле морских течений, где вода становится преснее, и пожирают первых, когда те ослабевают. Вы должны попросить его рассказать вам… Уверяю вас, это очень интересно. Когда он говорит об этом, он делается необыкновенным. Вы не узнали бы его… Но вы не умеете заставить его разговориться… А как он рассказывает о своем романе с Лаурой Дувье… Да, так зовут эту женщину… Знаете, как он познакомился с нею?
– Он рассказал вам?
– Мне говорят всё. Вы хорошо это знаете, несносный! – И она провела по его щеке перьями сложенного веера. – А известно ли вам, что он приходил сюда ежедневно с того вечера, как вы его привели ко мне?
– Ежедневно! Честное слово, никак не мог бы подумать.
– На четвертый день он не мог больше удержаться; рассказал все. Но каждый день потом прибавлял какую-нибудь подробность.
– И вам не докучали эти рассказы! Удивительная вы женщина.
– Сказала же я вам, что люблю его. – И она в экстазе схватила Робера за руку.
– А он… он любит эту женщину?
Лилиан расхохоталась:
– Он любил ее. О, сначала мне пришлось притвориться, будто я страшно ею интересуюсь. Я должна была даже плакать вместе с ним. И, однако, я испытывала жуткую ревность. Сейчас больше не ревную. Слушайте, как все началось: они оба были в По, в санатории, куда врачи послали их, подозревая туберкулез. В действительности же ни он, ни она больны не были. Но оба считали себя очень больными. Они не были знакомы. В первый раз они увидели друг друга, когда лежали рядом в саду на террасе, каждый в шезлонге, вместе с другими больными, лечение которых состоит в том, что они остаются весь день на свежем воздухе. Так как они считали себя обреченными, то были убеждены, что все совершаемое ими не повлечет никаких последствий. Он беспрестанно повторял ей, что им осталось жить не больше месяца; дело происходило весной. Она была там совсем одна. Муж ее – скромный преподаватель французского языка в Англии. Она рассталась с ним и приехала в По. Она была замужем всего три месяца. Муж, должно быть, отдал последнее, чтобы послать ее в По. Писал ей ежедневно. Эта молодая женщина из очень почтенной семьи, прекрасно воспитанная, очень сдержанная, робкая. Но там… Не знаю точно, что такого Винцент мог сказать ей, но на третий день Лаура призналась, что, хотя спала с мужем и принадлежала ему, не изведала, что такое наслаждение.
– Что же он ответил ей?
– Он взял ее руку, которая бессильно свисала с шезлонга, и прильнул к ней долгим поцелуем.
– А что сказали вы, когда он рассказал все это?
– Я! Это ужасно… представьте себе, что я безумно расхохоталась. Я не в силах была сдержаться и не в силах была остановиться… Не столько его рассказ рассмешил меня, сколько участливый и опечаленный вид, который я должна была напустить, чтобы побудить его продолжать. Я боялась, что выгляжу слишком уж веселой. А в сущности, история была очень красивая и печальная. Он был так взволнован, когда рассказывал ее мне! Никому он не говорил об этом ни слова. Его родители, понятно, ничего не знают.
– Это вам следовало бы писать романы.
– Черт возьми, дорогой мой, если бы только я знала, на каком языке!.. Никогда я не могла бы решиться сделать выбор между русским, английским и французским… Наконец, в ближайшую ночь он пришел в комнату своей новой подруги и открыл ей все то, чему не умел научить ее муж и чему, мне кажется, Винцент научил ее как нельзя лучше. Но, на беду, они были убеждены, что жить им остается очень недолго, и, понятно, не приняли никаких предосторожностей; понятно также, что немного времени спустя, благодаря деятельной помощи любви, они оба начали чувствовать себя гораздо лучше. Когда она убедилась, что беременна, ошеломлены были оба. Это случилось в последний месяц их пребывания в санатории. Начиналась жара. Летом По невыносим. Они вместе возвратились в Париж. Муж ее думает, что она у своих родителей, которые держат пансион около Люксембургского сада; но у нее не хватило решимости поселиться у них. Родители же убеждены, что она еще в По; но в конце концов все очень скоро откроется. Винцент сначала клялся, что не покинет ее; он предлагал ей отправиться с ним куда-то на край света, не то в Америку, не то в Океанию. Но им нужны были деньги. Как раз тогда он встретился с вами и начал играть.
– Ничего этого он мне не рассказывал.
– Только не вздумайте передать ему то, что я вам разболтала!..
Она замолчала и прислушалась.
– Я думала, это он… Он говорил, будто по дороге из По в Париж ему показалось, что она сходит с ума. Она едва освоилась с мыслью, что у нее начинается беременность. Она сидела напротив него в купе вагона; они были одни. Она не сказала ему ни единого слова с самого утра; ему пришлось взять на себя все хлопоты по отъезду; она позволяла делать с собою что угодно; казалось, она перестала сознавать что-либо. Он сжал ее руки; но она пристально смотрела перед собой бессмысленным взором и как будто не видела его; губы ее шевелились. Он наклонился к ней. Она шептала: «Любовник! Любовник! У меня есть любовник». Она монотонно повторяла эту фразу; и все время на язык ей навертывалось одно и то же слово, как если бы других она не знала… Уверяю вас, дорогой мой, что после его рассказа у меня больше не возникало желания смеяться. Никогда в жизни я не слышала ничего более патетического. И все же по мере того, как он говорил, мне становилось ясно, что он удаляется от этого. Казалось, будто его чувство умирает вместе с произносимыми им словами. Казалось, словно он благодарен моему волнению за то, что оно немного облегчало его собственное.
– Не знаю, как бы вы выразили это по-русски или по-английски, но уверяю вас, что по-французски вышло превосходно.
– Благодарю вас. Я так и думала. После этого он стал рассказывать мне из зоологии; и я постаралась убедить его, что было бы чудовищно пожертвовать карьерой ученого ради любви.
– Иначе говоря, вы посоветовали ему пожертвовать любовью. И предложили себя взамен этой любви?
Лилиан промолчала.
– На сей раз, думаю, это он, – продолжал Робер, вставая. – Скажите всего одно слово, пока он еще не вошел. Несколько часов тому назад умер мой отец.
– А! – только и сказала она.
– Как бы вы отнеслись к тому, чтобы стать графиней де Пассаван?
Лилиан вдруг откинулась и звонко расхохоталась.
– Но, дорогой мой… если я хорошо помню, у меня уже есть муж, которого я забыла где-то в Англии. Как! Неужели я не говорила вам об этом?
– Должно быть, нет.
– Вы и сами могли бы догадаться: леди не бывает без лорда…
Граф де Пассаван, никогда не веривший в подлинность титула своей приятельницы, улыбнулся. Лилиан продолжала:
– Еще одно слово. Вам пришло в голову сделать мне это предложение, чтобы создать приличный фасад вашей жизни? Нет, дорогой, нет. Останемся такими, какие мы есть. Друзьями, идет? – И она протянула де Пассавану руку, которую тот поцеловал.
– Черт побери, я так и знал, – вскричал Винцент, входя. – Он надел фрак, предатель!
– Видите ли, я обещал ему остаться в пиджаке, чтобы ему не было стыдно за свой костюм, – сказал Робер. – Очень прошу вас извинить меня, дорогой друг, но я вдруг вспомнил, что у меня траур.
Голова Винцента была высоко поднята; все в нем дышало торжеством, радостью. При его появлении Лилиан вскочила. Она пристально посмотрела ему в лицо, потом запрыгала, заплясала, закричала, весело накинулась на Робера и стала колотить его кулаками в спину (Лилиан немного раздражает меня, когда разыгрывает девочку).
– Он проиграл пари! Он проиграл пари!
– Какое пари? – спросил Винцент.
– Он держал пари, что вы опять проиграетесь. Говорите скорее, сколько выиграли?
– Я проявил необыкновенные смелость и силу воли: остановился на пятидесяти тысячах и прекратил игру.
Лилиан вскрикнула от восторга.
– Браво! Браво! Браво! – кричала она. Потом бросилась на шею Винценту, который всем своим телом почувствовал ее горячее гибкое тело, странно пахнущее сандалом, и стала целовать его в лоб, в щеки, в губы. Винцент, шатаясь, освободился. Он вытащил из кармана пачку банкнот.
– Вот, получайте ваши деньги, – сказал он, вручая Роберу пять бумажек.
– Теперь вы должны их леди Лилиан.
Робер передал ей кредитки, которые та швырнула на диван. Лилиан задыхалась. Чтобы прийти в себя, она вышла на террасу. Был тот смутный час, когда кончается ночь и дьявол подводит итоги. С улицы не доносилось ни звука. Винцент сел на диван. Лилиан повернулась к нему и в первый раз обратилась на «ты»:
– Что же ты собираешься теперь делать?
Он обхватил голову руками и сказал каким-то рыдающим голосом:
– Ничего больше не знаю.
Лилиан подошла к нему и положила ему на лоб руку; Винцент поднял голову; глаза у него были сухие и пылающие.
– Пока чокнемся втроем, – предложила она и наполнила токайским три бокала.
Когда все выпили, она обратилась к мужчинам:
– Теперь оставьте меня. Поздно, у меня больше нет сил. – Она проводила их в переднюю, потом, когда Робер прошел вперед, сунула Винценту в руку маленький металлический предмет и прошептала: – Выйди с ним и приходи через четверть часа.
В передней дремал лакей, которого она дернула за рукав:
– Посветите этим господам и выпустите их.
Лестница была темная; было бы проще зажечь электричество, но у Лилиан было правило, чтобы лакей всегда видел, как выходят ее гости.
Лакей зажег свечи в большом канделябре, который он высоко поднял над собою, провожая Робера и Винцента по лестнице. У подъезда поджидал автомобиль Робера; лакей запер дверь.
– Я думаю, мне следует возвратиться домой пешком. Чувствую потребность пройтись немного, чтобы успокоиться, – сказал Винцент, пока Робер открывал дверцу автомобиля и знаком приглашал его сесть.
– Вы в самом деле не хотите, чтобы я отвез вас? – Вдруг Робер схватил сжатую в кулак левую руку Винцента: – Раскройте руку. Ну-ка, покажите, что у вас там?
Винцент имел наивность опасаться ревности Робера. Он покраснел и разжал пальцы. Маленький ключ упал на тротуар. Робер тотчас поднял его и посмотрел; смеясь, вернул Винценту.
– Однако! – воскликнул он и пожал плечами. Затем, сев в автомобиль, наклонился к Винценту, который стоял сконфуженный: – Сегодня четверг. Скажите вашему брату, что я буду ждать его в четыре часа, – и быстро захлопнул дверцу, не дав Винценту времени ответить.
Автомобиль тронулся. Винцент сделал несколько шагов по набережной, перешел Сену, направился в неогражденную часть Тюильри, подошел к маленькому бассейну, намочил в воде носовой платок и стал прикладывать его ко лбу и вискам. Потом медленно возвратился к дому Лилиан. Покинем его и предоставим дьяволу насмешливо наблюдать, как он старается бесшумно всунуть ключ в замочную скважину…
В это самое время Лаура, его бывшая любовница, проплакав и простонав всю ночь, наконец забылась сном в убогом номере гостиницы. На палубе парохода, который направляется во Францию, Эдуард в первых лучах зари перечитывает полученное им от нее письмо, письмо, полное жалоб и умоляющее о помощи. Видны уже мягкие линии берегов родины, но нужно иметь опытный взгляд, чтобы различить их сквозь морской туман. Ни облачка на небе, на котором вскоре расцветет божья улыбка. Уже рдеет румянцем горизонт. Как жарко будет сегодня в Париже!
Пришла пора вернуться к Бернару. Вот он просыпается в постели Оливье.
VI
Все мы незаконны — И тот почтенный муж, кого отцом Я называл, был бог весть где в то время, Как зачали меня; я был чеканен Монетчиком фальшивым. ШекспирБернар видел какой-то нелепый сон. Он не помнит, что ему снилось. Он старается не столько вспомнить свой сон, сколько освободиться от него. Он возвращается к действительности и прежде всего чувствует, что тело Оливье тяжело навалилось на него. Во время их сна, или во время сна Бернара, друг его придвинулся к нему; впрочем, кровать узкая и не позволяет лежать на расстоянии друг от друга; Оливье повернулся лицом к Бернару; теперь он спит на боку, и Бернар чувствует, как его теплое дыхание щекочет ему шею. На Бернаре только короткая дневная рубашка; охватившая его тело рука Оливье нескромно сжимает его. Одно мгновение Бернар сомневается, действительно ли спит его друг. Он мягко освобождается из его объятий. Стараясь не разбудить Оливье, он встает, одевается и снова ложится в постель. Еще слишком рано уходить. Четыре часа. Ночь едва начинает бледнеть. Еще час покоя, накопления сил, чтобы бодро начать трудный день. Но со сном покончено. Бернар смотрит на синеющие оконные стекла, на серые стены маленькой комнаты, на железную кровать, на которой мечется во сне Жорж.
«Через несколько мгновений, – говорит он себе, – я пойду навстречу своей судьбе. Какое красивое слово: авантюра! То, чему суждено быть. Сколько удивительного ожидает меня. Не знаю, как другие, но, проснувшись, я люблю презирать тех, кто еще спит. Оливье, друг мой, я уйду, не попрощавшись с тобой. Раз, два! Вставай, неустрашимый Бернар! Пора».
Он вытирает лицо концом смоченного полотенца; причесывается, обувается. Бесшумно открывает дверь. Вот он и на улице.
Ах каким целительным кажется для всякого живого существа воздух, которым никто еще не дышал! Бернар идет вдоль решетки Люксембургского сада, спускается по улице Бонапарт, достигает набережной и переходит Сену. Он думает о своем новом жизненном правиле, которое недавно сформулировал: «Если ты не сделаешь этого, то кто же сделает? Если ты не сделаешь этого сейчас, то когда же сделаешь?» Он думает «о великом, которое предстоит совершить»; ему кажется, что он идет навстречу великому. «Великое», – повторяет он. Если бы только ему узнать, в чем именно оно заключается!.. Покамест он знает только, что голоден: вот он у рынка. В кармане четырнадцать су, и больше ни сантима. Заходит в бар; берет круассан и стакан кофе с молоком. Цена: десять су. У него остается четыре; два из них он небрежно оставляет на конторке, а два протягивает какому-то бродяге, который роется в ящике с отбросами. Милосердие? Вызов? Это не имеет значения. Теперь он чувствует себя счастливым, как король. У него не осталось больше ничего: все принадлежит ему! «Я ожидаю всего от провидения, – думает он. – Если только оно предоставит мне к двенадцати часам хороший ростбиф с кровью, то я с ним прекрасно полажу» (ведь вчера он не обедал). Солнце давно уже взошло. Бернар снова выходит на набережную. Он чувствует необыкновенную легкость; ему кажется, что он летит, а не бежит. Он наслаждается игрою своих мыслей.
«Самое трудное в жизни, – размышляет он, – серьезно относиться к чему-либо в течение продолжительного времени. Вот, например, любовь моей матери к человеку, которого я называл отцом, – я думал, что эта любовь длилась у нее пятнадцать лет; еще вчера я так думал. Но и моя мать – увы! – оказалась бессильной долго относиться к любви всерьез. Хотел бы я знать, презираю ли я ее или, напротив, еще больше уважаю за то, что она сделала своего сына бастардом?.. Впрочем, я вовсе не так уж стремлюсь разобраться в этом. Чувства к родителям принадлежат к той области, которую лучше не разглядывать слишком пристально. Что касается рогоносца, то тут дело обстоит гораздо проще; насколько себя помню, я всегда ненавидел его; сегодня мне следует прямо признаться, что заслуга моя невелика – единственное, о чем я и сожалею. Подумать только: если бы я не взломал этого ящика, я всю свою жизнь мог быть убежден, будто питаю извращенные чувства к отцу! Какое облегчение знать истину!.. Все же я взломал ящик случайно; мне даже в голову не приходило его вскрывать… Кроме того, были смягчающие обстоятельства: прежде всего в тот день я ужасно скучал. А потом – любопытство, «роковое любопытство», как говорит Фенелон, унаследованное мною, по всей вероятности, от моего настоящего отца, потому что в семье Профитандье нет даже намека на это душевное качество. Я никогда не встречал такого нелюбопытного человека, как господин супруг моей матери; с ним могут поспорить разве только дети, рожденные от него. Нужно будет снова поразмыслить о них после обеда… Поднять мраморную доску подзеркального столика и заметить, что его ящик открыт сверху, – это вовсе не то же самое, что взломать замок. Я не взломщик. Всякому может случиться приподнять мраморную доску столика. Тезей был, вероятно, в моем возрасте, когда приподнял скалу. Правда, на подзеркальный столик ставят обыкновенно часы, и они мешают поднять мраморную доску. Мне бы в голову не пришло ее приподнять, если бы я не вздумал заняться починкой часов… Конечно, не всякому случается найти в столе оружие или письма преступной любви. Пустяки! Важно, что эти письма открыли мне глаза. Не все же могут, подобно Гамлету, позволить себе роскошь обзавестись призраком-изобличителем. Гамлет! Любопытно, как меняется точка зрения в зависимости от того, являешься ли ты плодом преступной любви или законного брака? Я возвращусь к этому вопросу, когда пообедаю… Дурно ли я поступил, прочтя эти письма? Если бы это было дурно… нет, у меня появились бы тогда угрызения совести. И если бы я не прочел этих писем, мне пришлось бы продолжать жить в неведении, лжи и повиновении. Проветрим свои мысли. Выйдем на простор! «Бернар! Бернар, эта зеленая молодежь…» как говорит Боссюэ; садись вот на эту скамейку, Бернар. Какое прекрасное утро! Бывают дни, когда солнце действительно будто ласкает землю. Если бы я мог немного отвлечься от своих мыслей, я, наверное, стал бы сочинять стихи!»
Растянувшись на скамейке, он, совсем забывшись, заснул.
VII
Уже высоко поднявшееся солнце проникло в комнату через раскрытое окно и ласкает обнаженную ногу Винцента, лежащего подле Лилиан на широкой кровати. Не подозревая, что он проснулся, Лилиан поднимается и смотрит на него; ее изумляет его озабоченный вид.
Леди Гриффитс, может быть, любила не Винцента, а его успех. Винцент был высок, красив, строен, но он не умел держать себя, не умел изящно ни сесть, ни встать. Лицо его было выразительно, но он плохо причесывался. Лилиан особенно восхищалась смелостью и мощью его мыслей; Винцент, наверное, был очень знающий, но ей он казался неотесанным. Движимая инстинктом любовницы и матери, она наклонилась над этим большим ребенком, которого хотела воспитать и образовать. Она превращала его в свое творение, в свою статую. Учила его ухаживать за ногтями, делать боковой пробор вместо того, чтобы зачесывать волосы назад, и лоб его, наполовину закрытый, казался бледнее и выше. Наконец она заменила красивыми, со вкусом подобранными галстуками скромные готовые бантики, которые он носил. Леди Гриффитс положительно любила Винцента, но она терпеть не могла, когда он молчал, бывал, по ее словам, угрюм.
Она нежно проводит пальцем по лбу Винцента, как бы желая разгладить морщину, двойную складку, которая, начинаясь у бровей, идет двумя глубокими вертикальными полосками и кажется почти скорбной.
– Если ты будешь приносить сюда свои сожаления, заботы, угрызения совести, лучше не приходи, – шепчет она, наклоняясь над ним.
Винцент закрывает глаза, как будто его слепит слишком яркий свет. Ликующий взгляд Лилиан поражает его.
– У меня, как в мечети, входя, разуваются, чтобы не приносить со двора грязи. Неужели ты думаешь, я не знаю, чем ты озабочен!
Винцент хочет зажать ей рот рукой, но она игриво отбивается:
– Нет, позволь мне сказать серьезно. Я много думала над тем, что ты рассказал мне на днях. Существует мнение, будто женщины не умеют размышлять, но ты увидишь, что это зависит от того, каковы женщины… Помнишь, ты рассказывал мне о результатах скрещивания… говорил, что через смешение пород нельзя получить ничего замечательного, что, скорее, путем естественного отбора… Ну что: хорошо я усвоила урок?.. Так вот, я думаю, что сегодня ты вскармливаешь чудовище, необычайно смешное существо, от которого никогда не в состоянии будешь отделаться: помеси вакханки и святого духа. Разве не правда?.. Ты коришь себя за то, что бросил Лауру: я читаю это в складке твоего лба. Если ты собираешься возвратиться к ней, говори сейчас же и оставь меня; значит, я составила ошибочное мнение о тебе; я отпущу тебя без сожалений.
Но если ты хочешь остаться со мной, не строй, пожалуйста, рожу покойника. Ты напоминаешь мне англичан: чем больше эмансипируется их мысль, тем более цепко они держатся за нравственность; можно даже утверждать, что нигде не встретишь таких отъявленных пуритан, как среди наших вольнодумцев… Ты думаешь, я бессердечна? Ошибаешься: я прекрасно понимаю твою жалость к Лауре. Но, в таком случае, ты зачем пришел сюда?
Затем, так как Винцент отвернулся от нее, сказала:
– Послушай, ступай в ванную и постарайся под душем смыть свои сожаления. Я прикажу, чтобы нам подали чай, хорошо? А когда придешь из ванны, я разъясню тебе вещи, которые сейчас ты, по-видимому, плохо понимаешь.
Винцент встал. Лилиан крикнула ему:
– Не одевайся сразу после ванны. В шкафу направо – бурнусы, накидки, пижамы… выбери что-нибудь.
Винцент возвращается через двадцать минут, облаченный в шелковую джеллабу зеленоватого цвета.
– Подожди! Дай я завершу твой туалет! – вскричала в восхищении Лилиан. Она вытащила из ларца восточной работы два широких лиловых шарфа, опоясала Винцента более темным, а из более светлого устроила ему тюрбан.
– Мои мысли всегда под цвет моего платья. – Она переоделась в пурпурную, отороченную серебром пижаму. – Я помню, как однажды в Сан-Франциско, когда я была совсем маленькая, меня пожелали одеть в черное по случаю смерти сестры моей матери, старухи тетки, которой я никогда не видела. Весь день я проплакала; мне было грустно-прегрустно, я вообразила себе, что у меня большое горе, что мне ужасно жаль тетку… и все только из-за черного платья. Большая серьезность теперешних мужчин по сравнению с женщинами объясняется более темным цветом их костюмов. Держу пари, что мысли у тебя сейчас совсем другие, чем полчаса тому назад. Садись здесь, на кровати: когда ты выпьешь рюмку водки, чашку чаю и съешь два-три сандвича, я расскажу тебе одну историю. Ты скажешь, когда я смогу начать…
Она уселась на коврике у кровати, у ног Винцента, съежившись, как фигурка египетской стелы, и уткнув подбородок в колени. После того как она тоже выпила и поела, леди Гриффитс начинает свой рассказ:
– Я была среди пассажиров «Бургундии» – помнишь? – в тот день, когда произошло кораблекрушение. Мне было семнадцать лет. Можешь сосчитать, сколько мне сейчас. Я великолепно плавала; и вот тебе доказательство, что сердце у меня совсем не черствое: если первой моей мыслью было спастись самой, то совсем второю мыслью было спасти кого-нибудь. Я даже не уверена, не была ли эта мысль первой. Вернее, я просто ни о чем не думала; но ничто мне так не противно, как видеть людей, которые в такие минуты думают только о собственном спасении; например, женщины, испускающие отчаянные крики. Первую спасательную лодку наполнили главным образом женщины и дети; некоторые из этих женщин так визжали, что было отчего потерять голову. Маневр был проделан очень неудачно, и лодка, вместо того чтобы держаться на волнах, клюнула носом, и все находившиеся в ней люди вывалились из нее, прежде чем лодка наполнилась водой. Все это происходило при свете факелов, фонарей и прожекторов. Ты не можешь себе представить, какая это была мрачная картина! Волны вздымались достаточно высоко, и все, что не было освещено, исчезало во тьме по ту сторону водяного вала. Я никогда не жила более напряженной жизнью; но я была так же не способна размышлять, как, скажем, собака-водолаз перед тем, как броситься в воду. Не понимаю даже толком, как это могло произойти; знаю только, что я заметила в лодке девочку пяти или шести лет, прелестную, как ангел; и сейчас же после этого, когда я увидела, что барка опрокидывается, я решила спасти именно ее. Она была с матерью; но мать плохо умела плавать, к тому же, как всегда в таких случаях, ей очень мешала юбка. Что касается меня, то я разделась, должно быть, машинально; меня позвали занять место в следующей лодке. Я, вероятно, села в нее; затем я прыгнула в море, несомненно с этой самой лодки; помню только, что я плыла уже довольно долго с ребенком, уцепившимся мне за шею. Девочка была смертельно испугана и так сильно сжимала мне горло, что я не могла больше дышать. К счастью, нас заметили с лодки, лодку остановили или направили к нам. Но я рассказываю тебе эту историю с другой целью. Вот самое яркое воспоминание, которое осталось у меня, воспоминание, которое ничто никогда не в силах будет изгладить из моего ума и моего сердца; в лодке нас набилось человек сорок, после того как было подобрано несколько изнемогших, подобно мне, пловцов. Вода доходила почти до бортов. Я сидела на корме и прижимала к себе только что спасенную мной девочку, чтобы согреть ее и не дать ей увидеть то, чего сама я не могла не видеть: двух матросов, один из которых был вооружен топором, а другой кухонным ножом. Знаешь, что они делали?.. Они отсекали пальцы и кисти рук тех пловцов, которые, хватаясь за снасти, пытались взобраться в наш баркас. Я щелкала зубами от холода, ужаса и отвращения; и вот один из матросов (другой был негр) обернулся ко мне и сказал: «Если к нам влезет еще хоть один человек, мы все пойдем ко дну. Баркас полон». Он прибавил, что при всех кораблекрушениях приходится так поступать; но, понятное дело, об этом не говорят во всеуслышание.
Затем я, вероятно, лишилась чувств; во всяком случае, я больше ничего не помню: так долгое время ничего не слышишь после слишком сильного грохота. И когда я пришла в себя на борту подобравшего нас X., то поняла, что я уже не прежняя сентиментальная барышня и никогда больше ею не буду; я поняла, что часть моего существа затонула вместе с «Бургундией» и что впредь я буду отсекать пальцы и руки многих и многих нежных чувств, чтобы не дать им забраться в мое сердце и потопить его.
Она искоса взглянула на Винцента, выпрямилась и сказала:
– Нужно выработать в себе эту привычку.
Тут ее наспех сделанная прическа развалилась, и волосы рассыпались по плечам; она встала, подошла к зеркалу и, продолжая говорить, занялась прической.
– Когда вскоре после этого я покинула Америку, то мне казалось, что я – золотое руно и что я отправляюсь на поиски завоевателя. Иногда я бываю способна обманываться, бываю способна совершать ошибки… и, может быть, одной из таких ошибок как раз является то, что я рассказываю тебе все это. Но не воображай, пожалуйста, что, раз я тебе отдалась, ты меня завоевал. Запомни хорошенько: я терпеть не могу посредственностей и способна любить только победителя. Если ты хочешь быть со мной, пусть это поможет тебе стать победителем. Но если ты ищешь женщину, которая стала бы жалеть тебя, утешать, баловать… тогда лучше сразу сказать тебе: нет, старина Винцент, тебе нужна не я, а Лаура.
Она сказала все это, не оборачиваясь и не переставая приводить в порядок непокорные волосы, но Винцент встретил ее взгляд в зеркале.
– Ты позволишь мне отложить ответ до вечера? – сказал он, вставая и сбрасывая восточные облачения, чтобы переодеться в свой костюм. – Сейчас мне нужно поскорее возвратиться домой, пока не успел уйти мой брат Оливье: у меня к нему неотложное дело.
Винцент сказал это как бы в извинение и чтобы придать благовидную форму своему уходу; но когда он приблизился к Лилиан, та, улыбаясь, обернулась к нему, такая красивая, что он заколебался:
– Мне нужно хотя бы оставить для него записку, которую ему передадут за завтраком.
– Вы много разговариваете друг с другом?
– Почти совсем не разговариваем. Нет, я должен передать ему приглашение на сегодняшний вечер.
– От Робера… Oh! I see…[21] – сказала она, странно улыбаясь. – И о нем тоже нам нужно будет обстоятельно поговорить… Ступай же скорее. Но к шести возвращайся, потому что в семь он на автомобиле заедет за нами и мы поедем ужинать в Булонский лес.
По дороге домой Винцент размышляет; он узнал на опыте, что из пресыщенных желаний может родиться своего рода отчаяние, сопровождающее радость и как бы прячущееся за нею.
VIII
Надо выбирать: либо любить женщин, либо знать их; середины быть не может.
ШамфорВ парижском экспрессе Эдуард читает недавно вышедшую книгу Пассавана «Турник», которую только что купил на вокзале в Дьеппе. Конечно, книга эта ожидает его и в Париже, но Эдуард сгорает от нетерпения ее перелистать. О ней говорят всюду. Ни одна из его собственных книг не удостоилась чести красоваться в вокзальных книжных киосках. Ему подробно объясняли, какими способами можно добиться этой чести, но он не добивается ее. Он постоянно твердит себе, что его мало беспокоит, будут ли его книги продаваться в киосках на вокзалах или нет, но при виде книги Пассавана он вынужден повторить себе это еще раз. Все, что делает Пассаван, и все, что делается вокруг Пассавана, раздражает его: хотя бы статья, где книга Пассавана превозносится до небес. Да, словно нарочно: едва только он успевает развернуть три купленные им газеты, как в каждой из них находит хвалебные строки, посвященные «Турнику». В четвертой газете напечатано письмо Пассавана, протестующее против одной статьи, появившейся раньше в этой же газете и несколько менее восторженной, чем другие; Пассаван защищает в нем свою книгу и объясняет ее. Это письмо раздражает Эдуарда еще больше, чем статья. Пассаван пытается просвещать общественное мнение; на самом деле он искусно его обрабатывает. Ни одна из книг Эдуарда не вызывала стольких статей; впрочем, Эдуард никогда ничего не предпринимал, чтобы снискать благожелательность критиков. Его мало печалит оказываемый ему холодный прием. Но, читая статьи о книге соперника, Эдуард вынужден повторить себе, что они ему безразличны.
Нельзя сказать, чтобы он питал отвращение к Пассавану. Он встречался с ним и находил его обворожительным. Впрочем, Пассаван всегда был изысканно любезен с ним. Но книги Пассавана ему не нравятся; Пассаван кажется ему не столько художником, сколько сочинителем. Хватит думать о нем…
Эдуард вынимает из кармана пиджака письмо Лауры – то самое, что он перечитывал на палубе парохода, и снова погружается в него.
«Друг мой!
В последний раз, что я виделась с Вами, – это было, если помните, в Сент-Джеймсском парке, второго апреля, накануне моего отъезда на юг, – Вы взяли с меня слово написать Вам, если я окажусь в затруднительном положении. Я исполняю свое обещание. К кому, кроме Вас, обращаться мне? Есть люди, на которых я больше всего хотела бы опереться, но от них-то я прежде всего должна скрывать свое горе. Друг мой, у меня великое горе. Может быть, я расскажу Вам когда-нибудь, что мною пережито после того, как я рассталась с Феликсом. Он проводил меня до самого По, затем возвратился в Кембридж читать свои лекции. Что сталось там со мной, одинокой и предоставленной самой себе, во время выздоровления, весной… Хватит ли у меня сил признаться Вам в том, в чем не могу открыться Феликсу? Пришла пора, когда мне следовало бы возвратиться к нему. Увы, я недостойна больше его видеть. Письма, которые я пишу ему в последнее время, сплошь лживы, а те, что я получаю от него, наполнены радостью, что я поправилась. Почему я не осталась больною? Почему я не умерла там!.. Друг мой, мне нельзя больше скрывать фактов: я беременна, и ребенок, которого я ожидаю, не от него. Прошло уже больше трех месяцев, как я покинула Феликса; его-то уж, во всяком случае, я буду не в силах обмануть. Я не смею возвратиться к нему. Не могу. Не хочу. Он слишком добр. Он несомненно простит меня, но я не заслуживаю, я не хочу, чтобы он меня прощал. Я не смею возвратиться к родителям, которые думают, что я все еще в По. Если отец узнает, если он все поймет, он способен проклясть меня. Он меня оттолкнет. Разве я в силах бросить вызов его добродетели, его ужасу перед злом, ложью и всей скверной? Боюсь также огорчить мать и сестру. Что касается человека, который… но я не хочу обвинять его; когда он обещал помочь мне, у него были средства. Но, желая оказать мне большую помощь, он, к несчастью, начал играть. Он проиграл сумму, которая дала бы мне возможность существовать и оплатила бы мое пребывание в клинике во время родов. Он все просадил. Сначала я думала уехать с ним неизвестно куда, жить с ним, по крайней мере, некоторое время; так как я не хотела стеснять его или быть ему в тягость, то в конце концов я нашла бы себе заработок, но сейчас для меня это невозможно. Я отлично вижу, что он страдает, покидая меня, и что он не может поступить иначе, поэтому я не обвиняю его, но все же он меня покидает. Я здесь без денег. Живу в долг в маленькой гостинице. Но так продолжаться не может. Не знаю, что и делать. Увы! Дороги такого блаженства могли привести только к пропасти. Пишу по оставленному Вами лондонскому адресу, но когда еще это письмо дойдет до Вас! А я так хотела стать матерью! Теперь только и делаю, что целыми днями плачу. Посоветуйте что-нибудь, у меня вся надежда на Вас. Помогите мне, если для Вас это возможно, а если нет… Увы, при других обстоятельствах у меня было бы больше мужества, но теперь не мне одной угрожает смерть. Если Вы не приедете, если Вы напишете: «Я ничего не могу», – я ни в чем вас не упрекну. Говоря Вам «прощайте», я постараюсь не слишком сожалеть о жизни, но, мне кажется, Вы так и не поняли, что Ваша дружба ко мне остается лучшим из всего мною изведанного, не поняли, что то, что я называла дружбой к Вам, в моем сердце носит другое название.
Лаура Феликс Дувье.
P. S. Перед тем как опустить это письмо в почтовый ящик, я отправляюсь к нему в последний раз. Я буду ожидать его около дома сегодня вечером. Если Вы получите письмо, то, значит, действительно… прощайте, прощайте, бог знает что я пишу».
Эдуард получил это письмо утром в день отъезда. Иными словами, он решил отправиться в путь немедленно по его получении. Во всяком случае, он не намеревался слишком затягивать свое пребывание в Англии. Я не хочу изображать вещи в таком свете, будто он не был способен возвратиться в Париж специально, чтобы помочь Лауре; я говорю только, что он возвращался с удовольствием. В течение последнего времени он был совершенно лишен развлечений в Англии; первым его шагом в Париже будет посещение какого-нибудь злачного места; так как он не хочет брать с собой туда свои бумаги, то достает с сетки чемодан и открывает его, чтобы положить в него письмо Лауры.
Эдуард не хочет класть письмо между пиджаком и рубашками; он вынимает из-под платья переплетенную тетрадь, наполовину заполненную записями; отыскивает в начале страницы, написанные им в прошлом году, и читает их. Письмо Лауры найдет место между ними.
Дневник Эдуарда
18 октября
Лаура, по-видимому, не подозревает своей власти надо мной; я же, которому открыты тайны собственного сердца, хорошо знаю, что до сего дня не написал ни строчки, косвенным образом ею не вдохновленной. Когда она подле меня, мне кажется, что она еще девочка, и всей искусностью моих речей я обязан лишь моему постоянному желанию просветить ее, убедить, очаровать. Что бы я ни увидел, что бы ни услышал, у меня тотчас возникает мысль: а что скажет об этом она? Я отвлекаюсь от своих чувств и знаю только ее чувства. Мне кажется даже, что если бы ее не было подле меня и она не придавала бы моим мыслям и чувствам определенности, то моя собственная личность приняла бы весьма расплывчатые очертания; я сосредоточиваюсь и становлюсь самим собой лишь возле нее. В силу какой иллюзии я мог думать до сего дня, будто я леплю ее по своему подобию? Как раз напротив: это я к ней примеряюсь; и я не замечал этого! Или, вернее, благодаря странному перекрещиванию любовных влияний два наших существа взаимно изменяли друг другу. Невольно, бессознательно, каждое из двух любящих существ творит себя самого так, чтобы походить на того кумира, которого оно созерцает в сердце другого. Всякий истинно любящий отбрасывает прочь искренность.
Вот до какой степени она ввела меня в заблуждение. Ее мысль повсюду сопровождала мою. Я восхищался ее вкусом, ее любознательностью, ее культурой и не подозревал, что лишь благодаря любви ко мне она так страстно интересовалась всем, что, как она подмечала, увлекало меня. Она ничего не умела открыть самостоятельно. Каждый из ее восторгов – теперь я понимаю это – был для нее только постелью, на которой ее мысли удобно было улечься рядом с моими мыслями; ничто в них не служило ответом на глубокие требования ее собственной природы. «Я наряжалась и прихорашивалась только для тебя», – скажет она. Но я как раз хотел бы, чтобы она это делала только для себя, уступая глубоко личной потребности. Ведь из всего, чем она обогащала себя ради меня, ничего не останется – даже сожаления, даже чувства утраты. Приходит день, когда взору предстает истинное существо, с которого время медленно сдирает все взятые напрокат одежды, и если другого прельщали именно эти наряды, то он вдруг убеждается, что прижимает к своему сердцу только мертвые украшения, только воспоминание… только печаль и отчаяние.
Ах, сколькими добродетелями, сколькими совершенствами украсил я ее!
Как раздражают эти рассуждения об искренности! Искренность! Когда я говорю об искренности, я думаю лишь об искренности Лауры. Обращаясь к себе, я перестаю понимать, что должно обозначать это слово. Я всегда являюсь тем, чем я считаю себя – а мои представления о себе беспрестанно меняются, – так что, если бы я не связывал этих представлений друг с другом, мое утреннее существо часто не узнавало бы моего вечернего существа. Ничто не может быть более отличным от меня, чем я сам. Лишь когда я остаюсь в одиночестве, основа моего характера иногда открывается мне, и в такие минуты я достигаю некоторой подлинной цельности, но тогда мне кажется, что жизнь моя замедляется, останавливается и что я, собственно, перестаю существовать. Лишь симпатия заставляет биться мое сердце; я живу только благодаря другому; по доверенности, если можно так сказать, вследствие связи с кем-нибудь; и никогда моя жизнь не кажется мне столь напряженной, как в те минуты, когда я совсем теряю себя, чтобы стать кем-то другим.
Эта антиэгоистическая сила децентрализации так велика, что она выветривает из меня всякое чувство собственности и заодно чувство ответственности. Человек, подобный мне, не принадлежит к тем, за кого выходят замуж. Как растолковать это Лауре?
26 октября
Ничто не обладает для меня иной реальностью, кроме поэтической (я вкладываю в это слово всю полноту присущего ему смысла), – начиная с меня самого. Мне кажется иногда, что я не существую на самом деле, но лишь воображаю, будто существую. Наибольшего труда мне стоит заставить себя поверить в свою собственную реальность. Моя реальность беспрестанно ускользает от меня, и когда я смотрю на свои действия, то плохо понимаю, почему тот, кого я вижу действующим, тождествен с тем, кто смотрит, удивляется и сомневается, что он может быть актером и зрителем одновременно.
Психологический анализ утратил для меня всякий интерес с того дня, как я подметил, что человек испытывает то, что он воображает, будто испытывает. Отсюда недалеко от мысли, что он воображает, будто испытывает то, что испытывает… Я хорошо вижу это на примере своей любви: какой Бог увидел бы различие между любовью к Лауре и тем, что я воображаю, будто ее люблю, – между моим воображением, будто я люблю ее меньше, и меньшей любовью к ней? В области чувств реальное не отличается от воображаемого. И если для того чтобы любить, достаточно вообразить, будто любишь, то, когда любишь, достаточно сказать себе, что ты воображаешь, будто любишь, и тотчас любовь твоя станет чуть меньшей, и ты даже немного отделишься от того, кого любишь, – или же от любви твоей отпадет несколько кристаллов. Но чтобы сказать себе это, разве не нужно уже любить немного меньше?
При помощи именно такого рассуждения мой герой X будет стараться отделиться от Z – и особенно будет стараться отделить ее от себя.
28 октября
Все теперь твердят о внезапной кристаллизации[22] в любви. Медленная декристаллизация, о которой я никогда ни от кого не слышал, для меня представляет собою гораздо более интересный психологический феномен. Мне кажется, что его можно наблюдать по истечении более или менее продолжительного времени во всех браках по любви. Конечно, этого прискорбного явления нечего опасаться по отношению к Лауре (и слава богу), если она выйдет замуж за Феликса Дувье, как ей советуют разум, ее семья и я сам. Дувье – весьма почтенный учитель, исполненный всяческих достоинств, очень знающий в своей области (я слышал, что он очень ценим учениками); Лаура откроет в нем со временем тем больше добродетелей, чем меньше она будет строить иллюзий на его счет; когда она говорит о нем, я нахожу, что даже в своих похвалах она, скорее, недооценивает его… Дувье стоит большего, чем она думает.
Какой прекрасный сюжет для романа: через пятнадцать, двадцать лет супружеской жизни все растущая взаимная декристаллизация супругов! Поскольку он любит и хочет быть любимым, влюбленный не может быть самим собой; и больше того: он не видит другого, он видит вместо него идола, которого приукрашивает, боготворит и создает.
Итак, я приложил все усилия к тому, чтобы предостеречь Лауру и от нее самой, и от меня. Я старался убедить ее в том, что наша любовь не может обеспечить ни ей ни мне длительного счастья. Надеюсь, я почти убедил ее.
Эдуард пожимает плечами, вкладывает в дневник письмо и прячет все в чемодан. Он кладет туда же свой бумажник, предварительно вынув из него стофранковую банкноту; этих денег ему будет вполне достаточно до момента, когда он заберет чемодан, который предполагает сдать на хранение по приезде в Париж. Досадно, что чемодан не запирается на ключ; или, по крайней мере, у него нет ключа, чтобы запереть его. Он всегда теряет ключи от своих чемоданов. Бог с ним! Служащие в камере хранения весь день слишком заняты и никогда не остаются одни. Он зайдет за этим чемоданом в четыре часа, свезет его к себе, затем пойдет утешать Лауру; он постарается увести ее поужинать.
Эдуард дремлет: его мысли незаметно принимают другое направление. Он спрашивает себя, угадал ли бы он только по почерку Лауры, что она брюнетка? Он думает, что, слишком подробно описывая своих персонажей, романисты скорее мешают воображению, чем помогают ему и что они должны предоставлять каждому читателю право рисовать себе героев романа как им вздумается. Он думает о своем будущем романе, который не должен быть похож ни на одну из написанных им до сих пор книг. Он не уверен, что «Фальшивомонетчики» – удачное название. Он сделал ошибку, объявив о нем заранее. Как нелеп обычай называть книги, «готовящиеся к печати», чтобы приманивать читателей. Никого этим не привлекаешь, только себя связываешь… Он не уверен также, что сюжет вполне удачен. Уже давно он непрестанно думает об этом, но не написал еще ни строчки. Зато он заносит в тетрадь свои заметки и рассуждения.
Он вынимает тетрадь из чемодана. Берет автоматическое перо. Записывает:
«Выбросить из романа все элементы, по своей сути роману не принадлежащие. Подобно тому как недавно фотография освободила живопись от обязанности подробно выписывать детали, так в недалеком будущем фонограф, несомненно, очистит роман от пересказывания разговоров, что часто приносит славу реалисту. Внешние действия, приключения, драки и нанесение ран – область кинематографа; все это роман должен ему уступить. Даже описание действующих лиц, по-моему, должно быть исключено из романа как такового. Да, я твердо уверен, чистый роман (а в искусстве, как и повсюду, для меня важна одна чистота) не должен заниматься подобным описанием, как не занимается им драма. Пусть мне не возражают, будто драматург не описывает своих персонажей потому, что зритель видит их живыми на сцене; ведь как часто случается, что в театре нас раздражает именно актер, и мы страдаем от того, что он так мало похож на героя, которого, не будь перед нашими глазами актера, мы так хорошо представляли бы себе. Романист обычно слишком мало доверяет воображению читателя».
Что это за станция промелькнула? Аньер. Он снова прячет тетрадь в чемодан. Но воспоминание о Пассаване положительно не дает ему покоя. Снова вынимает тетрадь. И пишет:
«Для Пассавана произведение искусства не столько цель, сколько средство. Свои выставляемые напоказ художественные убеждения он утверждает с таким пылом лишь потому, что им недостает глубины; не тайное требование темперамента рождает их: они пишутся под диктовку эпохи; его пароль – сиюминутность.
«Турник». Скорее всего, устареет то, что на первых порах кажется самым современным. Всякое потакание моде, всякая искусственность – залог близкой старости. Но как раз этими своими качествами Пассаван нравится молодежи. Его мало волнует будущее. Он обращается к нынешнему поколению (конечно, это лучше, чем обращаться к поколению наших отцов), но так как он обращается только к нему, то все его писания рискуют кануть в вечность вместе с этим поколением. Он знает это и не надеется на посмертную славу: вот почему он не только отчаянно защищается, когда на него нападают, но протестует против малейшего упрека критики. Если бы он чувствовал, что его произведения переживут его, он предоставил бы им самим возможность защитить себя и не заботился бы о постоянном самооправдании. Да что я говорю! Он поздравлял бы себя с неправильным их пониманием, с несправедливыми упреками. Тем больше хлопот грядущим критикам».
Он смотрит на часы. Одиннадцать тридцать пять. Уже должны бы прибыть. Любопытно, не пришел ли Оливье каким-нибудь чудом его встретить. Он совершенно не рассчитывает на это. Какие у него основания предполагать, что Оливье узнает об открытке, в которой он извещал его родителей о своем приезде – и случайно, вскользь, будто нечаянно, указывал точно день и час, – словно расставлял сети судьбе, питая особое пристрастие к окольным путям.
Поезд останавливается. Скорее взять носильщика! Нет: чемодан его не очень тяжел, и камера хранения не так далеко… Предположим, однако, что Оливье здесь, – узнают ли они в толпе друг друга? Они так мало виделись. Лишь бы он не сильно изменился!.. Ах, Боже праведный, неужели это он?
IX
Мы не сожалели бы ни о чем, что произойдет впоследствии, если бы радость встречи была выражена Эдуардом и Оливье более явно; но их парализовала присущая обоим какая-то неспособность верно оценивать то место, которое каждый из них занимал в сердце и уме другого; поэтому каждый думал, что взволнован лишь он один; поглощенные собственной радостью и как бы смущенные ее огромностью, оба заботились лишь о том, чтобы не слишком явно ее обнаружить.
И вот, вместо того чтобы сказать Эдуарду, как он рвался его встречать, Оливье счел более приличным сослаться на какое-то поручение, которое ему нужно было исполнить сегодня утром как раз в этом квартале, – он словно извинялся за свой приход на вокзал. Душа крайне застенчивая и недоверчивая, он легко мог убедить себя, что, вероятно, Эдуард считает его присутствие назойливым. Едва только он солгал, как весь зарделся. Эдуард был удивлен этим румянцем; так как перед этим он схватил Оливье за руку и порывисто сжал ее, то ему показалось – тоже вследствие сомнения в чувствах Оливье к нему, – что именно это бесцеремонное пожатие заставило племянника покраснеть.
Его первыми словами были:
– Я никак не мог предположить, что ты будешь на вокзале, но в глубине души был уверен, что ты придешь.
Ему вдруг показалось, что Оливье может усмотреть в этой фразе самонадеянность. Услышав, как тот отвечает ему небрежным тоном: «Мне как раз нужно было исполнить поручение в этом квартале», – Эдуард выпустил руку Оливье, и его радостное возбуждение сразу спало. Он хотел было спросить Оливье, понял ли тот, что открытка, адресованная его родителям, предназначалась именно для него; уже раскрыл было рот, но вдруг оробел. Оливье, боясь наскучить Эдуарду или вызвать его неодобрение разговором о себе, замолчал. Он удивленно посмотрел на Эдуарда, отчего это дрожат его губы, потом вдруг опустил глаза. Эдуард и желал этого взгляда, и страшился, что Оливье сочтет его слишком старым. Он стал нервно крутить пальцами клочок бумаги. Это была квитанция, которую ему только что дали в камере хранения, но он не обращал на нее никакого внимания.
«Если бы это была его багажная квитанция, – подумал Оливье, видя, как тот комкает ее, а затем небрежно бросает, – он не выбросил бы ее просто так». И он обернулся лишь на мгновение, успев только заметить, что ветер унес далеко от них скомканную бумажку. Если бы он смотрел подольше, то увидел бы, как ее подобрал какой-то молодой человек. Это был Бернар, который следил, как они выходили из вокзала… Между тем Оливье сокрушался, что ему нечего сказать Эдуарду, и молчание становилось для него невыносимым.
«Когда мы будем подходить к лицею Кондорсе, – повторял он про себя, – я скажу ему: «Теперь мне пора домой, до свидания». Потом, перед лицеем, он решил пройти еще до угла улицы Прованс. Но Эдуард, которого это молчание тоже угнетало, не мог допустить, чтобы они расстались таким образом. Он затащил своего спутника в кафе. Может быть, поданный им портвейн поможет преодолеть смущение.
Они чокнулись.
– За твои успехи, – сказал Эдуард, поднимая бокал. – Когда экзамен?
– Через десять дней.
– Как ты чувствуешь, готов?
Оливье пожал плечами:
– Никогда точно не знаешь. Стоит быть не в форме в этот день, и…
У него не хватило смелости ответить «да» из боязни выказать самонадеянность. Его смущали также желание и в то же время боязнь сказать «ты» Эдуарду; он ограничился таким построением фразы, при котором было бы, по крайней мере, исключено «вы» и поэтому не давал также Эдуарду повода говорить ему «ты», чего очень желал; между тем – он хорошо помнил – ему удалось добиться этого за несколько дней до его отъезда.
– Ты хорошо поработал?
– Неплохо. Но не так хорошо, как мог бы.
– У настоящих тружеников всегда такое чувство, что они могли бы работать лучше, – наставительно сказал Эдуард.
Сказал невольно и тут же нашел эту фразу смешной.
– Стихи пишешь?
– Иногда… Я очень нуждаюсь в советах. – Он поднял глаза на Эдуарда; «ваших советах», хотел он сказать, в «твоих советах». И взгляд говорил это без слов так внятно, что Эдуарду показалось, будто Оливье говорит так из уважения или из вежливости. Но зачем Эдуарду понадобилось ему ответить, притом с такой поспешностью:
– О! Нужно самому уметь давать себе советы или спрашивать их у своих товарищей; советы старших ничего не стоят.
Оливье подумал: «Я, однако, не спрашивал у него этих советов; почему же он со мной не согласен?»
Оба досадовали, что им удается выжимать из себя одни только сухие, вымученные фразы. Чувствуя смущение и неловкость, каждый считал себя предметом и причиной этого смущения. Такие разговоры не могут дать ничего, если не приходит помощь со стороны. Помощь не пришла.
Сегодня Оливье встал не с той ноги. Радость встречи с Эдуардом на мгновение заглушила то огорчение, которое он испытал, проснувшись и увидев, что Бернара нет рядом, что он позволил ему уйти не простившись, но теперь оно снова поднималось в его груди, как темная волна, и затопляло все его мысли. Ему хотелось заговорить о Бернаре, рассказать Эдуарду все и постараться заинтересовать его личностью друга.
Но малейшая улыбка Эдуарда оскорбила бы его, а слова Оливье выдали бы страстные и бурные чувства, волновавшие его, или могли бы показаться преувеличением. Он замолчал и почувствовал, что лицо его каменеет; он хотел бы броситься в объятия Эдуарда и зарыдать. Эдуард ошибочно истолковал молчание Оливье, выражение его нахмуренного лица; он слишком сильно любил его, чтобы быть непринужденным. Если бы он решился взглянуть на Оливье, ему тотчас же захотелось бы сжать его в объятиях и убаюкать, как ребенка; но, встретив его угрюмый взгляд, он подумал: «Да, это верно… Ему скучно со мной, я ему в тягость, я смущаю его. Бедный мальчик. Он ждет не дождется, когда я позволю ему уйти». И какая-то неведомая сила заставила Эдуарда сказать, из жалости к своему спутнику:
– Теперь мы должны расстаться. Уверен, что тебя дома ждут к завтраку.
Оливье, который подумал то же самое, в свою очередь, неверно истолковал чувства Эдуарда. Он поспешно встал, протянул руку. Ему хотелось, по крайней мере, сказать Эдуарду: «Когда я увижусь с тобой? Когда увижусь с вами? Когда мы увидимся?..» Эдуард ждал этой фразы. Но не услышал ничего, кроме банального: «До свидания».
X
Солнце разбудило Бернара. Он поднялся со скамейки с жестокой головной болью. Бодрое утреннее настроение покинуло его. Он чувствовал себя ужасно одиноким, и его сердце переполняла какая-то горечь; он не мог назвать свое чувство печалью, но оно увлажняло его глаза слезами. Что делать? Куда идти?.. Если он отправился на вокзал Сен-Лазар в час, когда, как он знал, туда должен прийти Оливье, то он сделал это без определенного намерения, движимый лишь смутным желанием встретиться с другом. Он упрекал себя за свой внезапный утренний уход: Оливье мог почувствовать себя обиженным. Разве не был он самым дорогим для Бернара существом на земле?.. Когда он увидел его под руку с Эдуардом, какое-то странное чувство вдруг толкнуло его пойти за ними, не выдавая своего присутствия. Он с болью чувствовал, что он здесь лишний, и все же ему хотелось бы оказаться в обществе Эдуарда и Оливье. Эдуард казался очаровательным; чуть выше Оливье ростом, чуть-чуть менее юная походка. Он решил подойти к нему и поджидал лишь момента, когда Оливье его покинет. Под каким, однако, предлогом подойти?
И тут он заметил, что Эдуард небрежно отшвырнул смятую бумажку. Когда он подобрал ее, увидел, что это багажная квитанция… Черт возьми, вот отличный предлог! Он увидел, как друзья вошли в кафе; на мгновение растерялся; затем, продолжая свой внутренний монолог, сказал: «Корректный молодой человек помчался бы вернуть эту бумажку».
Как пошлы, пусты, плоски и ничтожны В моих глазах условности людские! —сказано в «Гамлете». Бернар, Бернар, что за мысли лезут тебе в голову? Вчера ты шарил в ящике. На какой путь вступаешь ты? Осторожно, мой мальчик… Учти хорошенько, что служащий в камере хранения, с которым имел дело Эдуард, в двенадцать часов отправляется завтракать и его сменяет другой. И разве ты не обещал другу отважиться на все?
Однако Бернар пришел к заключению, что слишком большая поспешность может испортить дело. Если сразу же обратиться к служащему, то такая торопливость может показаться ему подозрительной; справившись в книге, он может найти странным, что багаж, отданный на хранение за несколько минут до полудня, требуется обратно через такой небольшой промежуток времени. Наконец, если какой-нибудь досужий прохожий видел, как он подбирает бумажку… Бернар решил пройти не торопясь до площади Согласия; за это время приезжий мог бы успеть позавтракать. Приезжие часто поступают так – не правда ли? – оставляют свои вещи на хранение, идут завтракать, а затем возвращаются за вещами. Мигрень у Бернара прошла. Проходя перед верандой ресторана, он бесцеремонно схватил одну из зубочисток (они маленькими связочками стояли на столах), собираясь поковырять ею в зубах перед конторкой камеры хранения, чтобы иметь вид только что позавтракавшего человека. Приятно сознавать, что у вас приличная наружность, элегантный костюм, изящные манеры, непринужденная улыбка, открытый взгляд и, наконец, еще что-то трудноопределимое в походке, свидетельствующее, что вы выросли в довольстве и ни в чем не нуждаетесь. Но все это утрачивает свежесть, после того как вы поспали на садовой скамейке.
Бернар ощутил приступ внезапного страха, когда служащий спросил десять сантимов за хранение. У него не осталось ни су. Что делать? Чемодан стоял там, на полке. Малейший недостаток уверенности, не говоря уже об отсутствии денег, мог вызвать подозрение. Но дьявол выручит Бернара из беды; под его дрожащие пальцы, которые обшаривают один карман за другим в отчаянной попытке симулировать поиски денег, он подсовывает маленькую монетку в десять су, забытую бог весть когда в жилетном кармане. Бернар протягивает ее служащему. Бернар ничем не выдал своего волнения. Он хватает чемодан и простым, спокойным движением прячет в карман полученную сдачу. Уф! Жарко. Куда ему направиться? Ноги подкашиваются, чемодан кажется страшно тяжелым. Что ему делать с ним? Он вдруг соображает, что у него нет ключа от чемодана. Но нет, нет и нет; он не взломает замка; он не вор, черт возьми!.. Узнать бы только, что там внутри. Чемодан оттягивает ему руку. Пот градом льет с Бернара. На мгновение он останавливается, ставит на тротуар свою ношу. Конечно, он твердо решил возвратить чемодан владельцу, но он хотел бы раньше исследовать его содержимое. На всякий случай он нажимает на замок. О чудо! застежки приоткрываются, и взору является жемчужина: бумажник, в котором виднеются банкноты. Бернар забирает «жемчужину» и тотчас же захлопывает крышку.
Теперь, когда есть деньги, живо в гостиницу! Он знает одну на Амстердамской улице, совсем рядом. Он умирает от голода. Но прежде чем сесть за стол, он хочет оставить чемодан в безопасном месте. Коридорный несет его перед ним по лестнице. Три этажа; коридор, дверь, которую он запирает на ключ, пряча свое сокровище… Он спускается вниз.
Сидя за бифштексом, Бернар не осмеливается вытащить бумажник. (Разве можно быть когда-нибудь уверенным, что за тобой не следят?) Но его левая рука любовно ощупывает его в глубине внутреннего кармана.
«Дать понять Эдуарду, что я не вор, – говорил он себе, – вот в чем вся суть. Что за тип этот Эдуард? Чемодан, может быть, подскажет. Он обольстителен – это бесспорно. Но есть множество обольстительных типов, которые очень плохо понимают шутки. Если он решит, что его чемодан украден, то будет, конечно, очень доволен, когда снова увидит его. Он будет мне признателен за то, что я принес ему его, иначе он просто болван. Живо проглотим десерт и поднимемся наверх обсудить положение. Счет! Щедро дадим на чай».
Через несколько мгновений он был уже в своем номере.
«Наконец-то, чемодан, мы с тобою с глазу на глаз!.. Костюм чуть-чуть великоват для меня, пожалуй. Сукно отличное, и пошит со вкусом. Белье, принадлежности туалета. Я не очень уверен, что возвращу ему когда-нибудь все это. Но вот доказательство того, что я не вор: эти бумаги интересуют меня гораздо больше. Прочтем сперва вот это».
Бернар схватил тетрадь, куда Эдуард вложил печальное письмо Лауры. Нам известны уже первые страницы дневника; вот что следовало дальше.
XI
Дневник Эдуарда
1 ноября
Прошло уже две недели… я сделал ошибку, что не записал этого тогда же. Нельзя сказать, что у меня не было времени, но сердце мое еще было полно Лаурой – или, вернее, я не мог о ней не думать, к тому же я не люблю записывать здесь ничего эпизодического, случайного, а мне все время казалось, что то, о чем я собираюсь рассказать, не может получить продолжения или, как говорится, иметь последствий; по крайней мере, я отказывался допустить их, и мое молчание по этому поводу объясняется именно желанием доказать себе незначительность происшедшего; но я ясно чувствую – и бессилен противостоять этому чувству, – что лицо Оливье влечет к себе сегодня мои мысли, меняет их ход и что, не считаясь с ним, я не мог бы ни объяснить, ни понять себя до конца.
Я возвращался утром от Перрена, куда ходил прочесть аннотацию к переизданию одной моей старой книги. Поскольку погода была хорошая, я прохаживался по набережным в ожидании часа завтрака.
Немного не доходя Ванье, я остановился перед развалом старых книг. Меня заинтересовали не столько книги, сколько юный лицеист, лет тринадцати, который рылся в книгах, стоя на ветру под спокойно-внимательным взором букиниста, сидевшего на плетеном стуле в дверях лавки. Я притворился, будто рассматриваю книги, но искоса стал наблюдать за малышом. Он был одет в сильно потертое пальто, из слишком коротких рукавов которого вылезали рукава куртки. Боковой карман оттопыривался, хотя чувствовалось, что он пуст, в уголках кармана материя расползлась. Я подумал, что пальто это сослужило уже службу его нескольким братьям и что все они имели привычку битком набивать карманы всякой всячиной. Я подумал также, что мать мальчика либо очень невнимательна, либо слишком занята, раз она не зашила прорех. Но тут мальчик слегка повернулся, и я увидел, что другой карман весь заштопан толстой прочной черной ниткой. Тотчас же мне так ясно послышались материнские увещания: «Не запихивай в карманы по две книги сразу, а то изорвешь все пальто. Опять карман разорван. Прошлый раз я тебя предупредила, что не стану больше зашивать. Посмотри, на кого ты похож…» Все это и мне говорила моя бедная матушка, но я не придавал ее словам ни малейшего значения. Пальто на мальчике было расстегнуто, так что виднелась куртка, и взор мой привлек кусочек ленты или, вернее, желтая розетка, которая торчала в петлице. Я записываю все это по привычке и еще потому, что мне досадно записывать такие мелочи.
Тут приказчика позвали в лавку; он оставался там всего несколько мгновений, затем снова уселся на свой стул; но этих мгновений мальчику было достаточно, чтобы засунуть в карман книгу, которую он держал в руке; сейчас же после этого он как ни в чем не бывало снова стал рыться в книгах. Однако он почувствовал какое-то беспокойство; поднял голову, заметил мой взгляд и понял, что я видел его проделку. По крайней мере, подумал, что я мог видеть; конечно, он не был в этом уверен, но, мучаясь сомнениями, он потерял всякое самообладание, покраснел и стал разыгрывать нехитрый спектакль, стараясь сохранять полную непринужденность, но это свидетельствовало о его крайнем смущении. Я не сводил с него глаз. Он вытащил из кармана украденную книгу; снова спрятал ее; отошел на несколько шагов; достал из кармана куртки жалкий потрепанный бумажник и сделал вид, что ищет в нем деньги, которых, как он прекрасно знал, там нет; сделал выразительную, театральную гримасу, обращая ее, по-видимому, ко мне и желая сказать ею: «Гм! пусто», а маленький нюанс добавлял: «Странно, я думал, что у меня кое-что есть», – все это несколько преувеличенно, словно играет актер, который боится, что его не поймут. Наконец я почти вправе сказать: именно мой взгляд заставил его снова подойти к развалу, вытащить книгу из кармана и положить ее на то место, где она лежала прежде. Это было сделано так непринужденно, что букинист ничего не заметил. Затем мальчик снова поднял голову в надежде, что все кончилось благополучно. Но нет: мой взгляд продолжал упорно следить за ним, словно глаз Каина, но только мои глаза смеялись. Я хотел заговорить с ним и ждал, когда он покинет развал, чтобы подойти к нему; но он не трогался с места и стоял неподвижно перед книгами; я понял, что он не тронется до тех пор, пока я не перестану пристально смотреть на него. Тогда я применил прием, который употребляют в известной детской игре, когда желают, чтобы воображаемая дичь покинула свое убежище, – я отступил на несколько шагов, точно насмотрелся на него вдоволь. Он двинулся, в свою очередь, но едва он захотел дать тягу, как я его догнал.
– Что это за книга? – спросил я без обиняков, стараясь придать голосу и выражению лица максимум дружелюбия, на которое я способен.
Он посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал, что недоверие его исчезает. Он не был, пожалуй, красив, но какой прекрасный был у него взгляд! Я видел, как в нем колышутся самые разнообразные чувства, словно трава на дне ручья.
– Путеводитель по Алжиру. Но он стоит очень дорого. У меня таких денег нет.
– Сколько?
– Два с половиной франка.
– Но ведь если бы ты не видел, что я наблюдаю за тобой, ты удрал бы с книгой в кармане.
Малыш сделал негодующее движение и грубо запротестовал:
– Ну уж нет… неужели вы приняли меня за вора?.. – Он прикинулся крайне изумленным, чтобы заставить меня усомниться в виденном мною. Я почувствовал, что упущу добычу, если буду настаивать. Вынул из кармана три монетки:
– Ступай купи книгу. Я тебя подожду.
Через две минуты он выходил из лавки, перелистывая предмет своего вожделения. Я взял у него книгу. Это был старый путеводитель Жоана 1871 года.
– Что ты намерен делать с ним? – спросил я, возвращая книгу. – Он слишком устарел. Им больше нельзя пользоваться.
Он стал спорить, что можно; что, кроме того, более новые путеводители стоят гораздо дороже и что «для его цели» приложенные к путеводителю карты вполне годятся. Я не пытаюсь передать его подлинные слова, потому что они утратили бы весь свой колорит, лишившись необыкновенного уличного акцента, который он придавал им и который тем больше меня забавлял, что произносимые им фразы были не лишены изящества.
……………………………………………………………………………
Необходимо сильно сократить этот эпизод. Точность должна достигаться не подробностью рассказа, но двумя-тремя штрихами именно там, где их ждет воображение читателя. Я думаю, впрочем, что было бы интереснее выслушать рассказ самого мальчика обо всем этом; его точка зрения более интересна, чем моя. Малыш был и смущен, и польщен оказанным ему вниманием. Тяжесть моего взгляда несколько искажала естественное течение его мысли. Личность совсем еще незрелая и несознательная защищается и прикрывается позой. Нет ничего более трудного, чем наблюдать за несложившимися существами. На них следовало бы смотреть только украдкой, в профиль.
Малыш заявил вдруг, что «самый любимый» его предмет – «география». Я заподозрил, не скрывается ли за этой любовью инстинкт бродяжничества.
– Ты хотел бы поехать в Алжир? – спросил я его.
– Конечно, черт возьми! – воскликнул он, слегка пожав плечами.
Мне пришла в голову мысль, что он несчастлив в семье. Я спросил его, живет ли он с родителями. «Да». И ему не нравится жить с ними? Он запротестовал, но не очень энергично. Казалось, он несколько беспокоился, как бы не слишком разоткровенничаться перед незнакомым человеком. Он вдруг обратился ко мне:
– Почему вы меня об этом спрашиваете?
– Так просто, – поспешно ответил я; затем, прикоснувшись пальцем к желтой ленточке его бутоньерки, спросил: – Что это такое?
– Ленточка, как видите.
Мои вопросы явно раздражали его. Он резко повернулся ко мне с враждебным видом и спросил насмешливым и наглым тоном, который положительно смутил меня, – я никак не предполагал, что он на него способен:
– Скажите-ка… вам часто случается гоняться за школьниками?
Пока я в смущении бормотал что-то похожее на ответ, он открыл школьную сумку, которую нес под мышкой, с намерением положить туда свою покупку. В сумке лежали учебники и несколько тетрадей в одинаковых синих обложках. Я взял одну из них: тетрадь по истории. Мальчик написал на ней крупными буквами свои имя и фамилию. У меня учащенно забилось сердце, когда я прочел фамилию своего племянника:
Жорж Молинье
(Сердце Бернара тоже учащенно забилось, когда он дошел до этих строк, и вся эта история страшно его заинтриговала.)
В романе «Фальшивомонетчики» трудно будет сделать убедительным, чтобы персонаж, которому будет поручена роль автора этих строк, оставаясь в хороших отношениях со своей сестрой, мог в то же время не быть знакомым с ее детьми. Я всегда относился с крайним отвращением к приукрашиванию истины. Даже изменение цвета волос кажется мне плутовством, которое делает для меня истину менее правдоподобной. Все тесно связано, и я чувствую между всеми фактами, которые доставляет мне жизнь, такую тончайшую зависимость, что, по моему глубочайшему убеждению, невозможно изменить ни одного из них, не искажая всей их совокупности. Между тем я лишен возможности рассказать, что мать этого мальчика только моя единокровная сестра от первого брака моего отца; что я ее ни разу не видел, пока были живы мои родители; что вопрос о наследстве привел к разрыву наших отношений… Однако знать все это необходимо, и я не вижу, что бы я мог придумать взамен, дабы избежать нескромности. Я знал, что у моей единокровной сестры три сына; но я был знаком только со старшим, студентом медицинского факультета; да и то видел его мельком, так как, заболев чахоткой, он вынужден был прервать занятия и лечился где-то на юге. Двух других никогда не бывало дома в часы, когда я посещал Полину; тот, с которым я так странно познакомился на улице, был, по всей вероятности, самым младшим. Я ничем не выдал своего изумления, но поспешно расстался с маленьким Жоржем, когда узнал, что он идет домой завтракать, и вскочил в такси, чтобы прибыть раньше его на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Я решил, что, если приеду в этот час, Полина оставит меня завтракать, – что, разумеется, и произошло; я подарю ей свою книгу, экземпляр которой захватил с собой от Перрена, и таким образом у меня будет предлог для этого внезапного визита.
Я завтракал у Полины в первый раз. Напрасно я относился с недоверием к своему зятю. Сомневаюсь, чтобы он был сколько-нибудь замечательным юристом, но он умеет, подобно мне, не говорить о своей профессии, когда мы вместе, поэтому мы отлично понимаем друг друга.
Придя к сестре, я, понятно, не обмолвился ни словом о только что происшедшей встрече.
– Ваше приглашение позволит мне, надеюсь, познакомиться с племянниками, – сказал я, когда Полина предложила мне остаться позавтракать. – Ведь вы знаете, я до сих пор незнаком с двумя вашими сыновьями.
– Оливье, – ответила она мне, – возвратится несколько позже, потому что у него репетиция; мы сядем за стол без него. Но я слышала, как пришел Жорж. Сейчас я позову его. – И, подбежав к двери, крикнула: – Жорж! Иди поздоровайся с дядей!
Мальчик подошел, протянул мне руку; я поцеловал его… Поражаюсь силе детского притворства: он не выказал никакого удивления; можно было подумать, что он не узнал меня. Только сильно покраснел, но мать его могла объяснить этот румянец робостью. Мне все же показалось, что Жорж был смущен встречей с человеком, который незадолго перед этим шпионил за ним, так как почти тотчас он покинул нас и ушел в соседнюю комнату; то была столовая, служившая, как я догадался, в промежутках между приемами пищи, классной комнатой для детей. Впрочем, он вскоре снова появился, когда в гостиную вошел его отец, и, улучив минуту, когда все направились в столовую, незаметно для родителей подошел ко мне и схватил меня за руку. Я подумал сначала, что он хочет выразить мне таким образом свои дружеские чувства, и это меня позабавило; но нет: он разжал мою руку и всунул в нее записочку, написанную им, по всей вероятности, сию минуту, затем снова сложил мои пальцы и очень крепко пожал мою руку с запиской. Само собой разумеется, я согласился на игру; спрятал записочку в карман, откуда мог достать ее только после завтрака. Вот что я прочел:
Если вы расскажете моим родителям историю с книгой, то я (он зачеркнул: возненавижу вас) скажу, что вы сделали мне гнусное предложение. И ниже: Я выхожу из лицея в 10 ч.
Вчера мои занятия были прерваны визитом X. После разговора с ним у меня осталось неприятное чувство.
Много размышлял над тем, что мне сказал X. Ему совершенно неизвестна моя жизнь, но я подробно изложил ему свой план «Фальшивомонетчиков». Его советы всегда полезны для меня, так как он становится на отличную от моей точку зрения. Он боится, как бы я не впал в искусственность и не подменил подлинный сюжет тенью этого сюжета в моем мозгу. Больше всего меня беспокоит чувство, что жизнь (моя жизнь) отделяется здесь от моего произведения, мое произведение уходит от моей жизни. Но я не мог сказать ему этого. До сих пор, как и подобает, мои вкусы, мои чувства, мои личные переживания питали все мои сочинения; в самых искусных фразах я все же чувствовал биение своего сердца. Отныне связь между моими мыслями и моими чувствами разорвана. И я боюсь, не явится ли отвлеченность и искусственность моего произведения следствием как раз того противодействия, которое в настоящее время я оказываю присущей моему сердцу потребности высказываться. Размышляя об этом, я вдруг ясно понял значение мифа об Аполлоне и Дафне: счастлив тот, подумал я, кто может охватить в едином объятии лавр и живой предмет своей любви.
Мой рассказ о встрече с Жоржем так затянулся, что мне приходится прервать его в момент появления на сцене Оливье. Я стал рассказывать о встрече лишь для того, чтобы поговорить об Оливье, но вышло так, что говорил все время о Жорже. Теперь, когда пришло время сказать об Оливье, мне понятно, что причиной моей неторопливости было именно желание по возможности отдалить этот момент. Как только я его увидел в первый раз, как только он сел за стол в кругу семьи, как только я бросил на него взгляд, или, вернее, едва он взглянул на меня, я понял, что взгляд этот пленил меня и я больше своей жизнью не распоряжаюсь.
Полина упрашивает меня приходить к ней почаще. Она настойчиво просит меня заняться немного ее детьми. Она дает понять, что отец очень плохо знает их. Чем больше я разговариваю с ней, тем более обворожительной она мне кажется. Не понимаю, как это я мог до сих пор так редко видеться с нею. Дети воспитаны в католичестве; но у нее сохранились воспоминания о ее первоначальном протестантском воспитании, и, хотя она покинула дом нашего отца в момент появления там моей матери, я открываю у нас обоих много черт сходства. Она отдала своих детей в пансион родителей Лауры, где я сам так долго жил. Впрочем, пансион Азаиса гордится отсутствием в нем специфически конфессиональной окраски (в мое время в нем можно было встретить даже турок), несмотря на то что старик Азаис, давнишний друг моего отца, основавший пансион и до сих пор им заведующий, был раньше пастором.
Полина получает весьма утешительные известия из санатория, в котором Винцент заканчивает лечение. По ее словам, она сообщает ему обо мне в своих письмах и хотела бы, чтобы я ближе познакомился с ним; до сих пор я виделся с ним лишь мельком. Она возлагает на старшего сына большие надежды; семья идет на самые крайние лишения, чтобы дать ему возможность устроиться немедленно по окончании курса, – я хочу сказать: обеспечить самостоятельную квартиру для приема пациентов. А пока она ухитрилась отвести ему часть маленькой квартиры, которую они снимают, для чего пришлось поселить Оливье и Жоржа в случайно пустовавшей комнате, этажом ниже. Всех их волнует теперь вопрос, не придется ли Винценту отказаться по состоянию здоровья от работы в больницах.
По правде сказать, Винцент меня мало интересует, и я много говорю о нем с матерью лишь из любезности, а также чтобы можно было после этого более обстоятельно побеседовать об Оливье. Что касается Жоржа, то он холоден со мною, едва отвечает мне, когда я обращаюсь к нему, и, встречаясь со мной, смотрит на меня чрезвычайно подозрительно. Он как будто сердится на меня за то, что я не вышел встречать его к воротам лицея, – а может быть, злится на самого себя за свою записку.
Я не вижусь больше с Оливье. Когда прихожу к его матери, то не решаюсь зайти в комнату, где, я знаю, он занимается; случайно его встречая, я оказываюсь столь неловким и прихожу в такое замешательство, что не нахожу, что сказать ему, и это делает меня таким несчастным, что я предпочитаю посещать его мать в часы, когда его наверняка нет дома.
XII
Дневник Эдуарда
(продолжение)
2 ноября
Долгий разговор с Дувье, который вышел вместе со мною от родителей Лауры и проводил меня до Одеона через Люксембургский сад. Он готовит диссертацию о Вордсворте, но по некоторым его высказываниям об этом поэте я ясно чувствую, что самые глубокие особенности поэзии Вордсворта ему недоступны. Он лучше сделал бы, если бы выбрал Теннисона. Я чувствую, Дувье чего-то недостает, он слишком отвлечен и простоват. Он всегда принимает вещи и людей за то, за что они выдают себя; может быть, оттого, что сам он всегда такой, каков на самом деле.
– Я знаю, – сказал он, – что вы лучший друг Лауры. Мне следовало бы, несомненно, немного ревновать ее к вам. Я не могу. Напротив, все, что она рассказала мне о вас, помогло лучше понять ее и в то же время породило во мне желание стать вашим другом. Я спросил у нее однажды, не будете ли вы сердиться на меня, если я женюсь на ней? Она ответила, что, напротив, вы сами посоветовали ей вступить в брак со мною. – Я хорошо помню, что он так прямо и ляпнул. – Мне хотелось бы поблагодарить вас за это – только не сочтите, пожалуйста, моего поступка смешным, я говорю с вами очень искренно, – прибавил он, стараясь выдавить улыбку, но голос его задрожал, и на глазах появились слезы.
Я не знал, что ему сказать, так как чувствовал себя гораздо менее взволнованным, чем подобало, и совершенно неспособным на ответное излияние. Я, должно быть, показался ему несколько черствым, но он раздражал меня. Все же я, как только мог горячо, пожал протянутую мне руку. Сцены, когда один предлагает больше, чем другой просит, всегда тягостны. Он, без сомнения, надеялся добиться моей симпатии. Если бы он был более проницательным, то почувствовал бы себя обворованным; однако я уже видел, что он доволен своим поступком, который, по его мнению, вызвал живой отклик в моем сердце. Так как я ничего не говорил, его, похоже, стало смущать мое молчание.
– Надеюсь, – торопливо произнес он, – что разлука с родиной и жизнь в Кембридже отвлекут ее от сравнений, которые были бы не в мою пользу.
Что он разумел под этим? Я прикинулся, что не понимаю. Может быть, он рассчитывал на протест с моей стороны, но этот протест еще больше поставил бы нас в ложное положение. Он принадлежит к числу людей, робость которых не в силах переносить молчание и которые считают своей обязанностью заполнять его предупредительностью; к числу тех, которые говорят потом: «Я всегда был с вами откровенен». Но, черт возьми, суть дела не столько в том, чтобы самому быть откровенным, сколько в том, чтобы позволить откровенничать другому. Ему следовало бы понять, что именно проявленная им откровенность мешала мне быть искренним.
Но если я не могу стать его другом, то хотя бы надеюсь, что он для Лауры станет отличным мужем, потому что, в общем, тут как раз уместны те его качества, которые я ставлю ему в упрек. Затем мы заговорили о Кембридже, где я обещал навестить их.
Почему Лауре пришла в голову нелепая мысль сказать ему обо мне?
У женщин удивительная склонность к самопожертвованию. Любимый мужчина для них чаще всего только своего рода вешалка, на которую они вешают свою любовь. С какой чистосердечной легкостью совершает Лаура подмен! Я понимаю, почему она выходит замуж за Дувье; я сам один из первых советовал ей так поступить. Но я был вправе надеяться, что она хоть немножко огорчится. Свадьба состоится через три дня.
Несколько статей по поводу моей книги. Качества, которые наиболее охотно признают у меня, принадлежат как раз к числу тех, что внушают мне наибольшее отвращение… Были ли у меня причины позволить переиздать это старье? Оно совсем не соответствует тому, что я люблю в настоящее время. Но я замечаю это только сейчас. Не думаю, чтобы как раз теперь я переменился; просто я лишь сейчас начинаю осознавать самого себя; до сих пор я не знал, кто же я такой. Неужели я всегда буду ощущать потребность в том, чтобы другое существо открывало мне меня самого! Эта книга кристаллизовалась по воле Лауры, и поэтому я больше не хочу узнавать себя в этой книге.
Неужели для нас заказана та основанная на симпатии проницательность, которая позволяла бы нам опережать время? Какие проблемы будут занимать завтра тех, кто придет нам на смену? Я хочу писать именно для них. Давать пищу еще бесформенной любознательности, удовлетворять еще не выкристаллизовавшиеся требования так, чтобы тот, кто сегодня еще дитя, завтра с изумлением встретил меня на своем пути, как друга.
Как я люблю чувствовать в Оливье эту любознательность, эту нетерпеливую неудовлетворенность прошлым…
Мне иногда кажется, что поэзия – это единственное, что его интересует. И я чувствую, перечитывая наших поэтов и стараясь воспринять их душою Оливье, сколь немногие из них были руководимы больше вдохновением, нежели сердцем или умом. Замечательно, что когда Оскар Молинье показал мне стихи Оливье, я дал мальчику совет стараться не столько подчинять себе слова, сколько отдаваться им. Теперь мне кажется, что именно его влияние открыло мне эту истину.
Каким тоскливо-, скучно– и забавно-рассудочным представляется мне сейчас все написанное раньше.
5 ноября
Обряд состоялся. В маленькой часовне на улице Мадам, где я давно уже не был. Семья Ведель-Азаис в полном сборе: дедушка, отец и мать Лауры, две ее сестры и младший брат, затем дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры. Семья Дувье представлена тремя тетушками в глубоком трауре, которых католицизм сделал бы тремя монахинями; мне говорили, что они живут вместе и с ними жил также Дувье после смерти родителей. На хорах воспитанники пансиона. Прочие друзья семьи постепенно заполняли зал, в глубине которого находился и я. Невдалеке я увидел сестру с Оливье. Жорж, должно быть, стоял на хорах вместе со сверстниками. За фисгармонией старик Лаперуз; его постаревшее лицо прекраснее и благороднее, чем в годы, когда я знал его, хотя в глазах уже не светится тот удивительный огонь, который действовал на меня столь заразительно во время уроков фортепиано. Наши взгляды встретились, и в обращенной ко мне улыбке я почувствовал столько горя, что дал себе слово непременно навестить его после церемонии. Присутствовавшие стали двигаться вперед, и место рядом с Полиной освободилось. Оливье тотчас же сделал мне знак и попросил мать подвинуться, чтобы я мог сесть подле него; потом взял мою руку и долго держал ее. В первый раз он обращается со мной так фамильярно. Глаза его оставались закрытыми в течение почти всей нескончаемой речи пастора, что позволило мне внимательно его рассмотреть; он похож на уснувшего пастуха с неаполитанского барельефа, чья фотография стоит на моем письменном столе. И я его принял бы за спящего, если бы не легкая дрожь пальцев; рука Оливье трепетала в моей как птичка.
Старый пастор счел своею обязанностью напомнить историю всей семьи, начиная с дедушки Азаиса, который был его школьным товарищем в Страсбурге еще перед войной 1870 года, а затем учился вместе с ним на факультете теологии. Я испугался, что ему не удастся закончить сложную фразу, в которой он пытался объяснить, что, приняв на себя руководство пансионом и посвятив силы воспитанию юношества, друг его в некотором роде продолжает исполнять и обязанности пастора. Затем на смену пришло другое поколение. Он наставительно заговорил также о семье Дувье, но ясно было, что он мало знает ее. Теплота чувств искупала недостаток красноречия, и изредка можно было слышать, как сморкается кто-то из присутствующих. Мне хотелось знать, о чем думает Оливье; я стал представлять, что поскольку он получил католическое воспитание, то протестантский культ, должно быть, нов для него и он, вероятно, впервые присутствует в этом храме. Исключительная способность отрешаться от своей личности, позволяющая мне испытывать как собственные чувства другого, почти насильственно наполняла меня ощущениями Оливье, ощущениями, которые, по-моему, он должен был сейчас переживать; и хотя он держал глаза закрытыми – или, может быть, именно вследствие этого, – мне казалось, что я вижу его глазами как будто в первый раз эти голые стены, тусклый, белесый свет, омывавший суровую отчужденность кафедры на белом фоне задней стены, прямоту линий, холодную строгость колонн, поддерживающих хоры, самый дух этой угловатой и бесцветной архитектуры; в первый раз глазам моим открылись ее ужасающее безвкусие, нетерпимость и скаредность. Понадобилась привычка к ней с детства, чтобы не заметить всего этого раньше… Мне вдруг вспомнилось мое религиозное рвение, мой первый пыл; вспоминалась Лаура и та воскресная школа, где мы встречались, будучи оба репетиторами младших классов, преисполненные усердия и, плохо различая, что в этом пыле, сжигавшем в нас все нечистое, было присуще нам и что принадлежало Богу. И я тотчас принялся сокрушаться, что Оливье осталась вовсе неведомой та первоначальная чувственная скудость, которая с такой опасностью устремляет душу далеко за пределы видимого мира, – принялся сокрушаться, что у него не было воспоминаний, подобных моим; но сознание, что он остался чужд всему этому, помогло мне самому освободиться от власти прошлого. Я страстно сжал его руку, которая все время оставалась в моей, но которую в это мгновение он поспешно выдернул. Он открыл глаза и посмотрел на меня, потом с шаловливой, совсем детской улыбкой, представлявшей такой резкий контраст с необыкновенной серьезностью его лба, прошептал, наклонившись ко мне, – как раз в тот момент, когда пастор, напомнив об обязанностях христианина, расточал молодым супругам советы, наставления и благочестивые внушения:
– Плевать мне на все это, я – католик.
Все в нем привлекает меня и остается загадочным.
У входа в ризницу я встретил старика Лаперуза. Он сказал мне немного грустным голосом, но без малейшего упрека:
– Боюсь, вы понемногу забываете меня.
В оправдание своего невнимания к нему я сослался на какие-то занятия; обещал навестить его послезавтра. Я попытался затащить его к Азаисам, будучи сам приглашен к чаю, устраиваемому ими по окончании церемонии; но он ответил, что чувствует себя в очень мрачном настроении и боится встретить большое количество людей, с которыми ему пришлось бы разговаривать, тогда как он не в силах с ними беседовать.
Полина увела Жоржа, оставив меня с Оливье.
– Поручаю его вам, – сказала она, смеясь. Слова эти вызвали, вероятно, некоторое раздражение у Оливье, потому что он отвернулся. Он увлек меня на улицу.
– А я не знал, что вы так близко знакомы с Азаисами.
Я очень удивил его, когда сообщил, что жил у них в пансионе в течение двух лет.
– Как могли вы предпочесть этот пансион независимому образу жизни?
– Он был удобен для меня в некоторых отношениях, – ответил я неопределенно; я не мог сказать ему, что в это время все мои помыслы занимала Лаура и я согласился бы на самый худший режим за удовольствие выносить его подле нее.
– И вы не задыхались в атмосфере этой теплицы? – Затем, так как я ничего не ответил ему, он продолжал: – Впрочем, я сам не знаю, как выношу ее и как вышло, что я попал сюда… Правда, только полупансионером. И этого более чем достаточно.
Мне пришлось рассказать ему о дружбе, связывавшей с руководителем этой «теплицы» его дедушку, память о котором определила впоследствии выбор матери Оливье.
– Впрочем, – прибавил он, – у меня не хватает материала для сравнения; несомненно, эта «теплица» не лишена достоинств; я готов даже думать на основании слышанного мной, что большинство других заведений этого рода еще хуже. И все же я с большим удовольствием выйду отсюда. Я ни за что не поступил бы в этот пансион, если бы мне не нужно было наверстывать упущенное за время болезни. И уже давно я хожу туда исключительно ради дружбы к Арману.
Я узнал дальше, что этот младший брат Лауры был его одноклассником. Я сказал Оливье, что почти незнаком с ним.
– Между тем он самый умный и интересный из всей семьи.
– То есть он больше всех тебя интересует?
– Да, да, уверяю вас, он очень любопытен. Если хотите, зайдем к нему и немного поговорим. Надеюсь, что он решится говорить в вашем присутствии.
Мы подошли к пансиону.
Ведель-Азаисы заменили традиционный свадебный ужин простым чаем, не требовавшим больших расходов. Для толпы приглашенных были отведены приемная и кабинет пастора Веделя. Доступ в крохотную отдельную гостиную пасторши был открыт лишь для немногих близких друзей; чтобы избежать проникновения туда посторонних, дверь из приемной в гостиную была заперта, так что на вопрос гостей, как пройти к его матери, Арман отвечал:
– Через печную трубу.
Народу было много. Все задыхались от жары. За исключением нескольких «членов педагогической корпорации», коллег Дувье, общество почти сплошь протестантское. Весьма специфический пуританский душок. Столь же тяжелая и, может быть, даже более удушливая атмосфера бывает в католических или еврейских собраниях, как только гости начинают чувствовать себя непринужденно; но католики чаще склонны к переоценке, а евреи к недооценке себя, на что протестанты, по-моему, способны очень редко. Если у евреев обоняние слишком тонкое, то у протестантов, напротив, нос заложен; это факт. Я сам не замечал специфического характера этой атмосферы, пока был в нее погружен. Что-то невыразимо альпийское, райскообразное и глупое.
В глубине залы сервированный стол-буфет; Рашель, старшая сестра Лауры, Сара, ее младшая сестра, и еще несколько барышень-невест, их подруг, разливали чай…
Едва меня увидев, Лаура сразу же потащила меня в кабинет отца, где уже собрался целый синод. Укрывшись в проеме окна, мы могли разговаривать без риска быть услышанными. На краю оконного наличника мы надписали когда-то наши имена.
– Посмотрите. Они все еще здесь, – сказала мне она. – Я уверена, что никто их не заметил. Сколько лет вам тогда было?
Под именами мы написали дату.
– Двадцать восемь, – подсчитал я.
– А мне шестнадцать. Прошло десять лет с тех пор. Для оживления этих воспоминаний момент был выбран неудачно; я пытался перевести разговор на другую тему, но она возвращалась к прошлому с каким-то странным упорством; потом вдруг, точно боясь растрогаться, спросила, помню ли я Струвилу.
Струвилу был вольным пансионером, причинявшим тогда много хлопот родителям Лауры. Считалось, что он проходит какие-то курсы, но когда его спрашивали, какие именно или к каким экзаменам он готовится, он небрежно отвечал:
– У меня своя программа.
В первое время все делали вид, будто принимают его наглые выходки за шутки, как бы желая притупить их остроту, он и сам сопровождал их громким смехом; но смех этот скоро стал весьма язвительным, между тем как его выходки делались все более злыми, так что я толком не понимал, как и почему пастор терпит такого воспитанника, – разве только из денежных соображений и вследствие смешанной с жалостью своеобразной привязанности к Струвилу, а может быть, также смутной надежды, что ему удастся исправить его, иными словами: обратить к вере. Равным образом для меня было непонятно, почему Струвилу продолжает оставаться в пансионе, имея полную возможность жить где угодно; в самом деле, не было никаких оснований предполагать, что его удерживает, как меня, какой-нибудь сердечный повод; может быть, попросту он находил большое удовольствие в пикировках с бедным пастором, который неудачно парировал удары, так что Струвилу всегда оказывался победителем.
– Помните, как он спросил однажды папу, снимает ли он пиджак, когда читает проповедь в облачении?
– Как же! Он спросил это таким наивным тоном, что ваш бедный батюшка не заметил в его словах никакого подвоха. Мы сидели за столом, я так ясно все вижу…
– А папа чистосердечно ответил ему, что материя на облачении не очень плотная и он простудится, если снимет пиджак.
– Какая язвительная улыбка появилась тогда на лице Струвилу! И как понадобилось упрашивать его, чтобы он заявил, наконец, что «конечно, это мелочь», но что все же, когда ваш батюшка делает широкие жесты, из-под облачения торчат рукава пиджака, и это производит неприятное впечатление на некоторых верующих.
– Вследствие чего мой бедный папа во время проповеди держал руки по швам, так что все эффекты его красноречия были погублены.
– А в следующее воскресенье он пришел домой с сильным насморком, потому что снял в церкви пиджак. А спор о евангельской бесплодной смоковнице и деревьях, не приносящих плода?.. «Я – дерево, не приносящее плода. Я приношу только тень, господин пастор: я бросаю на вас тень».
– И это было сказано за столом.
– Разумеется, его только и можно было видеть что за столом.
– И сказано таким нахальным тоном. Как раз тогда дедушка приказал ему выйти из комнаты. Помните, как он вдруг выпрямился во весь рост, – это дедушка-то, сидевший обыкновенно уткнув нос в тарелку; помните, как, вытянув руку, он властно сказал: «Вон!»
– Он показался огромным, страшным, он кипел гневом. Я уверен, что Струвилу перепугался.
– Он бросил салфетку на стол и убежал. Он покинул нас, не заплатив за содержание; с тех пор мы больше ни разу не видели его.
– Любопытно бы узнать, что с ним сталось.
– Бедный дедушка, – продолжала Лаура немного печальным тоном, – каким прекрасным показался он мне в тот день. Знаете, он очень любит вас. Вам следует на минуту подняться к нему в кабинет. Я уверена, вы доставите ему большое удовольствие.
Я записываю все это по свежим впечатлениям, зная по опыту, как трудно бывает спустя некоторое время точно воспроизвести тон разговора. Но, начиная с этого момента, я стал слушать Лауру более рассеянно. Я заметил – правда, на довольно большом расстоянии от себя – Оливье, которого потерял из виду после того, как Лаура увлекла меня в кабинет отца. Глаза его блестели, а лицо было необычайно оживлено. Я узнал потом, что Сара в шутку заставила его выпить шесть бокалов шампанского подряд. С ним вместе был Арман, и они вдвоем ловили в толпе гостей Сару и молоденькую англичанку, сверстницу Сары, жившую в пансионе у Азаисов уже больше года. Сара и ее подруга выбежали наконец из комнаты, и через открытую дверь я увидел, как двое мальчиков бросились за ними вдогонку по лестнице. Я тоже собрался выйти, чтобы исполнить просьбу Лауры, но она потянулась ко мне:
– Послушайте, Эдуард, я хотела бы сказать вам еще… – и голос ее стал вдруг очень серьезным, – нам, может быть, долго не придется видеться. Я хотела бы, чтобы вы повторили мне… Я хотела бы знать, могу ли я еще рассчитывать на вас… как на друга.
Никогда я не испытывал большего желания расцеловать ее, чем в этот момент; но я ограничился тем, что нежно и пылко поцеловал ее руку, и пробормотал:
– Что бы ни случилось… – И, пытаясь скрыть от нее слезы, которые, я чувствовал, выступают на глазах, поспешно убежал на поиски Оливье.
Он подстерегал меня у двери, усевшись рядом с Арманом на ступеньке лестницы. Несомненно, он был слегка пьян. Он встал и потащил меня за руку.
– Пойдемте, – обратился он ко мне. – Выкурим по папиросе в комнате Сары. Она ждет нас.
– Сейчас. Мне нужно раньше повидать Азаиса. Но сам я ни за что не найду Сариной комнаты.
– Боже мой, да вы хорошо ее знаете, это прежняя комната Лауры! – вскричал Арман. – Так как это одна из лучших комнат в доме, то ее отвели для воспитанницы, а так как плата, вносимая ею, скромна, то она делит комнату с Сарой. Для формы им поставили две кровати; но это почти ни к чему.
– Не слушайте его, – сказал Оливье, смеясь и толкая его, – он пьян.
– Советую тебе поговорить, – продолжал Арман. – Так вы придете, не правда ли? Вас ждут.
Я обещал зайти к ним.
С тех пор как старик Азаис носит волосы ежиком, он совсем перестал походить на Уитмена. Он предоставил семье зятя два нижних этажа своего дома. Из окна кабинета (красное дерево, репс, молескин) ему виден весь двор, и он наблюдает беготню учеников.
– Видите, как меня балуют, – сказал он, показывая мне стоящий на столе огромный букет хризантем, который только что оставила здесь мать одного из учеников, старинный друг семьи. Атмосфера в комнате была такой постной, что цветы, казалось, должны завянуть. – Я на минуту оставил общество. Я становлюсь стар, и шум разговоров меня утомляет. Но моим обществом будут эти цветы. Они говорят на свой лад и умеют поведать о славе Господней лучше, чем люди… – Или что-то елейное в этом роде.
Достойный человек не подозревает, какую скуку он может нагнать на учеников подобными изречениями; между тем в его устах они звучат так искренно, что отпадает всякая охота иронизировать. Простые души вроде Азаиса, несомненно, принадлежат к числу тех, кого мне всего труднее понять. Если вы сами лишены их простоты, то вам приходится, находясь в их обществе, разыгрывать своего рода комедию; не очень честно, но что поделаешь? Спорить с ними, разбирать вопросы, по существу, не приходится; нужно соглашаться с их мнением. Азаис вызывает лицемерие со стороны окружающих, если они не разделяют его убеждений. Во время своих первых посещений семьи я приходил в негодование, слыша, как ему лгут внуки. Потом и мне пришлось поступать так же.
Пастор Проспер Ведель слишком занят; госпожа Ведель немножко придурковата; погруженная в поэтически-религиозные грезы, она утрачивает всякое чувство реальности; поэтому все руководство воспитанием и образованием молодых людей в руках дедушки. Во времена, когда я жил у них, мне постоянно приходилось раз в месяц присутствовать при бурном объяснении, заканчивающемся патетическими излияниями:
– Отныне мы будем говорить всё. Мы вступаем в новую эру откровенности и искренности. – Он любит одну и ту же мысль высказывать несколько раз – старая привычка, сохранившаяся у него со времен его службы пастором. – Мы не будем таить задних мыслей, этих грязных задних мыслей. У нас будет право смотреть прямо в лицо, прямо в глаза друг другу. Не правда ли? Решено!
После чего обе стороны делали еще несколько шагов вперед, он – в легковерии, его внуки – во лжи.
Его слова бывали обращены главным образом к брату Лауры, который был на год младше ее. Он страдал от избытка сил и пробовал их в любви. (Впоследствии он стал заниматься коммерцией в колониях, и я потерял его из виду.) Однажды, когда старик вновь произнес эту тираду, я отправился вслед за ним в его кабинет; я приложил все усилия, чтобы растолковать ему, что искренность, которой он требует от внука, невозможна для последнего из-за нетерпимости старика. Азаис страшно рассердился.
– Ему надо только не делать ничего такого, в чем было бы стыдно признаться! – вскричал он голосом, не допускающим возражений.
Впрочем, это превосходный человек; даже больше того: образец добродетели, тот, кого называют «золотое сердце», но его суждения совсем детские. Его большое уважение ко мне проистекает оттого, что я, по его сведениям, не обзавелся любовницей. Он не скрыл от меня, что надеялся видеть меня мужем Лауры; он сомневался, чтобы Дувье оказался подходящим для нее супругом; несколько раз он повторил: «Ее выбор изумляет меня»; затем прибавил: «Впрочем, я уверен, что он честный малый… Как вы думаете?..» На что я ответил: «Конечно».
По мере того как душа погружается в набожность, она утрачивает смысл реальной жизни, вкус, потребность и любовь к ней. Я наблюдал это также и у Веделя, хотя не мог, конечно, сказать ему об этом. Ослепленные своею верою, они перестают видеть окружающий их мир и себя самих. Я же больше всего стремлюсь к тому, чтобы отчетливо разбираться во внешних впечатлениях и внутренних переживаниях, так что положительно задыхаюсь в плотной атмосфере лжи, которая вполне может прийтись по сердцу набожному человеку.
Мне хотелось услышать мнение Азаиса об Оливье, но он гораздо больше интересуется маленьким Жоржем.
– Не показывайте ему вида, будто знаете то, о чем я расскажу вам, – начал он, – впрочем, это делает ему честь… Представьте себе, ваш юный племянник и несколько его товарищей основали что-то вроде маленького общества, лиги взаимного соревнования; они допускают туда только тех, кого считают достойными, кто дал доказательства своей добродетели; это своего рода детский Почетный легион. Разве вы не находите, что это очаровательно? Каждый из них носит в петличке ленточку – правда, не очень бросающуюся в глаза, но я ее все же заметил. Я как-то пригласил мальчика к себе в кабинет и попросил его объяснить этот знак отличия. Сначала он смутился. Милый мальчик ожидал выговора. Затем, сильно покраснев и сконфузившись, он рассказал мне, как образовался этот маленький клуб. Видите ли, это вещи, над которыми нельзя смеяться; своей улыбкой вы рискуете оскорбить очень деликатные чувства… Я спросил его, почему он и его товарищи не делают этого открыто, на виду у всех. Я сказал ему, какой удивительной силой пропаганды, прозелитизма они могли бы обладать, какую прекрасную роль могли бы сыграть… Но в этом возрасте любят таинственность… Чтобы вызвать его на откровенность, я тоже рассказал ему, что в свое время, то есть когда был в его возрасте, я сам состоял в аналогичном обществе, члены которого носили красивое название «рыцари долга»; каждый из нас получал от президента общества тетрадь, в которую записывал с абсолютной искренностью все свои грехи, все свои упущения. Мальчик заулыбался, и я ясно увидел, что эта история с тетрадями рождает у него идею; я не настаивал, но меня нисколько не удивило бы, если бы я узнал, что он ввел эту систему тетрадей среди своих товарищей. Видите ли, к детям нужно уметь подойти; первое условие для этого – показать, что их понимаешь. Я обещал ему не проронить ни словечка об этом его родителям; я всячески побуждал его рассказать об обществе матери, которой это доставит большое удовольствие. Но они, по-видимому, дали друг другу обет молчания. Я сделал бы ошибку, если бы настаивал на своей просьбе. Однако перед тем как расстаться, мы вместе помолились Богу, чтобы он благословил их общество.
Бедный дедушка Азаис! Я убежден, что пострел околпачил его и что во всем им рассказанном нет ни слова правды. Но разве мог Жорж ответить ему иначе?.. Постараемся вывести его на чистую воду.
Сперва я не узнал комнату Лауры. Она была оклеена другими обоями, и вся ее атмосфера преобразилась. Сара тоже показалась мне совсем иной. А между тем я считал, что хорошо с нею знаком. Она всегда была очень откровенна со мной. Во все время знакомства с нею я был для нее человеком, которому можно признаться во всем. Но утекло много воды со времени моего последнего посещения Веделей. Вырез на платье обнажал ее руки и шею. Сара казалась выросшей, посмелевшей. Она сидела на одной из кроватей рядом с Оливье, который бесцеремонно разлегся и, казалось, спал. Конечно, он был пьян, и, разумеется, мне было неприятно видеть его таким; но все же он показался мне прекраснее, чем когда-либо. Все четверо были более или менее пьяны. Маленькая англичанка покатывалась со смеху в ответ на пошлейшие замечания Армана, и смех ее был так пронзителен, что было больно ушам. Арман же болтал всякий вздор, возбужденный и польщенный этим смехом, стараясь превзойти себя по части глупости и пошлости: он делал вид, будто хочет закурить папиросу о румянец своей сестры и Оливье, щеки которого тоже горели, или будто он обжигает себе пальцы, когда бесстыдным жестом сближал их головы и старался стукнуть их лбами. Оливье и Сара не противились этой забаве, и мне было крайне тягостно смотреть на открывавшуюся моим глазам картину. Но я забегаю вперед…
Оливье, казалось, был еще погружен в сон, когда Арман вдруг спросил меня, что я думаю о Дувье. Я сидел в низком кресле, меня и забавляло, и возбуждало, и вызывало чувство неловкости их опьянение и бесцеремонность; впрочем, мне льстило, что они пригласили меня к себе как раз в тот момент, когда мое присутствие в их компании казалось меньше всего уместным.
– Барышни, здесь присутствующие… – продолжал он, когда я не нашелся что ответить и ограничился сочувственной улыбкой, чтобы попасть им в тон. Тут англичанка захотела остановить его и стала гоняться за ним, чтобы зажать ему рот. Он вырвался и крикнул: – Здесь присутствующие барышни приходят в негодование от мысли, что Лаура должна будет спать с ним.
Англичанка отпустила его и сказала с притворным возмущением:
– О, не верьте ему! Он лгун.
– Я старался растолковать им, – продолжал Арман более спокойным тоном, – что при двадцати тысячах франков приданого трудно рассчитывать найти лучшего мужа и что, как истинная христианка, Лаура должна принимать в расчет главным образом душевные качества, как говорит наш папаша пастор. Да, дети мои. Кроме того, что сталось бы с продолжением рода человеческого, если были бы осуждены на безбрачие все мужчины, не обладающие внешностью Адониса… или Оливье, скажем мы, чтобы перенестись в более близкую нам эпоху.
– Какой идиот! – пролепетала Сара. – Не слушайте его, он не соображает уже, что мелет.
– Я говорю правду.
Никогда я не слышал от Армана таких слов; я считал его и до сих пор считаю натурой тонкой и чуткой; его пошлость казалась мне чисто напускной, обусловленной отчасти опьянением, а еще больше желанием развлечь англичанку. Последняя, бесспорно, хорошенькая, была, вероятно, изрядной дурой, если находила удовольствие в этих непристойностях; не могли же они представлять какой-нибудь интерес для Оливье!.. Я дал себе слово не утаить от него моего отвращения, как только снова останусь наедине с ним.
– Но вы, – продолжал Арман, вдруг обратившись ко мне, – вы ведь не дорожите деньгами, у вас их достаточно, чтобы оплачивать благородные чувства; объясните же нам, пожалуйста, почему вы не женились на Лауре? Ведь вы же, кажется, любили ее, а она, это всем было видно, сохла по вас.
Оливье, который до этого момента, казалось, спал, открыл глаза; наши взгляды встретились, и я не покраснел лишь потому, что никто из присутствующих не был в состоянии наблюдать за мною.
– Арман, ты несносен, – сказала Сара, как бы желая прийти мне на выручку, потому что я не находил что ответить. Затем она улеглась рядом с Оливье на кровати, где сначала сидела, так что их головы соприкоснулись. Арман тотчас же вскочил, схватил большие складные ширмы, стоявшие у стены, шутовским движением распахнул их и закрыл парочку; затем, продолжая ерничать, наклонился ко мне и сказал во всеуслышание:
– Вы разве не знали, что моя сестра проститутка? – Это было слишком. Я встал, опрокинул ширмы, из-за которых тотчас же выскочили Оливье и Сара. Волосы у нее были растрепаны. Оливье направился к туалетному столику и смочил лицо одеколоном.
– Идите сюда. Я хочу показать вам кое-что, – сказала Сара, схватив меня за руку.
Она открыла дверь и увлекла меня на лестничную площадку.
– Я подумала, что эта вещица может заинтересовать романиста. Вот случайно найденная мною тетрадь: папин интимный дневник; не понимаю, как он забыл его на столе? Всякий мог найти его и прочитать. Я взяла его, чтобы он не попался на глаза Арману. Не говорите ему о нем. Вещь совсем небольшая. Вы успеете прочесть за десять минут и вернете перед уходом.
– Но, Сара, – сказал я, пристально глядя ей в глаза, – это ужасно неделикатно.
Она пожала плечами.
– О, если вы так думаете, то будете очень разочарованы. Только в одном месте он интересен… да и то… Смотрите: я вам покажу.
Она вытащила из-за пояса миниатюрную записную книжечку, приобретенную пастором четыре года тому назад, полистала ее, потом передала мне, показывая пальцем одно место.
– Читайте скорее.
Я увидел сначала следующую цитату из Евангелия, поставленную в кавычках под датой: «Верный в малом будет верен в великом». Затем: «Зачем откладывать со дня на день принятое решение не курить? Хотя бы оно было принято мною только для того, чтобы не огорчать Меланию. (Жена пастора.) Боже, дай мне силу сбросить иго этого позорного рабства». (Я думаю, что цитирую точно.) Дальше следовала запись молитв, заклинаний, борьбы, усилий, по всей вероятности тщетных, потому что они повторялись изо дня в день. Я перевернул еще страницу, и вдруг речь пошла совсем о другом.
– Страшно трогательно, не правда ли? – спросила Сара с еле уловимой гримасой иронии, едва я окончил чтение.
– Эти записи гораздо интереснее, чем вы полагаете, – не удержался я и ответил, упрекая себя за то, что вступаю с ней в разговор. – Представьте, всего неделю тому назад я спросил у вашего отца, пробовал ли он когда-нибудь бросить курить. Я находил, что сам стал слишком много курить, и… словом, знаете, что он мне ответил? Сказал сначала, что, по его мнению, вредное действие табака чересчур преувеличивают и что он никогда не испытывал этого действия на себе самом; я, однако, повторил свой вопрос. «Да, – ответил он наконец, – два или три раза я принимал твердое решение бросить на время курение». – «И вам удавалось это?» – «Ну, понятно, – сказал он, точно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, – ведь я же принимал твердое решение». Это удивительно! Может быть, он просто не помнил, – прибавил я, не желая высказать Саре своих подозрений насчет его лицемерия.
– А может быть, также, – заметила Сара, – это доказывает, что слово «курить» значит здесь совсем другое.
Неужели это Сара говорила такие вещи? Я был ошеломлен. Я посмотрел на нее, едва осмеливаясь ее понимать… В это мгновение из комнаты вышел Оливье. Он поправил прическу, привел в порядок костюм и казался более спокойным.
– Не пора ли уходить? – сказал он, нисколько не церемонясь с Сарой. – Уже поздно.
Мы спустились и не успели выйти на улицу, как он заговорил:
– Боюсь, как бы вы не истолковали превратно… Вы, может быть, подумали, что я люблю Сару. Но нет… О, она мне совсем не противна!.. Но я ее не люблю.
Я взял его руку и пожал, не говоря ни слова.
– Вы не должны также судить об Армане по его сегодняшней болтовне, – продолжал он. – Он просто играет роль… вопреки себе. В действительности он совсем не такой… Не могу объяснить вам это. У него своеобразная потребность обливать грязью все самое для него дорогое. Он стал таким совсем недавно. Я думаю, что он очень несчастен. Своими издевательствами он хочет это скрыть. Он очень гордый. Родители совсем не понимают его. Они хотели сделать его пастором.
Эпиграф для главы «Фальшивомонетчиков»:
«Семья… это социальная клетка».
Поль Бурже (в разных местах)
Название главы: «Клеточный режим».
Конечно, нет такой тюрьмы (духовной), из которой не вырвался бы мощный ум; и ни одна из сил, побуждающих к мятежу, не является в конечном счете губительной, хотя мятеж может искалечить характер (он гнет его, калечит кощунственной хитростью, отравляет мысли, исполняет горечью и коварством), и ребенок, который не покоряется влиянию семьи, расходует на освобождение от этого влияния лучший пыл своей молодой энергии. Но в то же время воспитание, насилующее, ломающее ребенка, его укрепляет. Нет ничего более жалкого, чем жертвы, которым во всем потакают. Какая сила характера нужна, чтобы проникнуться отвращением к тому, кто вам льстит! Сколько мне приходилось встречать родителей (особенно матерей), которые с удовольствием находят в своих детях, поощряют в них самые нелепые свои привычки, самые предвзятые, несправедливые мнения, странности, страхи… За столом: «Оставь этот кусок; ведь ты видишь, что он жирный. Очисти кожу. Это не проварено как следует…» На дворе вечером: «Ай, летучая мышь… Скорее надень шляпу; она запутается в твоих волосах!» и т. д. …Послушаешь их – майские жуки кусаются, кузнечики жалят, от дождевых червей появляются прыщи. Аналогичные нелепости во всех областях: умственной, нравственной и т. д.
Позавчера в поезде окружной железной дороги, который вез меня из Отейля, я слышал, как молодая мать шептала на ухо десятилетней девочке, лаская ее:
– Ты и я; я и ты; на других нам плевать.
(О, я прекрасно знаю, что это были люди из простонародья; но и простой народ вправе вызывать в нас негодование. Муж читал газету, приткнувшись в углу вагона, – спокойный, может быть, даже не рогоносец.)
Можно ли вообразить более коварный яд?
Будущее принадлежит «незаконным» детям – какое глубокое значение в выражении «естественный ребенок»! Только бастард имеет право на естественность.
Семейный эгоизм… едва ли не более отвратителен, чем эгоизм личности.
6 ноября
Я никогда ничего не мог выдумать. Я стою перед действительностью, как художник перед натурщицей, когда он говорит: сделайте какое-то движение, примите то выражение, какое мне необходимо. Если я хорошо знаю движущие силы, руководящие моделями, которыми снабжает меня общество, то я могу заставить их действовать по моему усмотрению; или, по крайней мере, я могу предложить их нерешительности такие задачи, которые они решат по-своему, так что их действия научат и меня. Как романиста, меня больше всего мучит необходимость вмешиваться, воздействовать на их судьбы. Если бы я обладал более богатым воображением, я выдумывал бы интриги; я же провоцирую эти интриги, наблюдаю за их участниками и затем работаю под их диктовку.
Во всем, что я написал вчера, нет ни слова правды. Остается следующее: действительность интересует меня как пластический материал; и я более внимателен – бесконечно более внимателен – к тому, что могло бы быть, чем к тому, что было на самом деле. Головокружительная сила влечет меня к возможностям, таящимся в каждом существе, и я оплакиваю все, что убивает в нем тяжкая плита нравов.
Бернар должен был на минуту прервать чтение. Взгляд его затуманился. Он задыхался, словно забыл о дыхании на все то время, пока читал, настолько напряжено было его внимание. Он открыл окно и наполнил легкие воздухом перед тем, как снова погрузиться в чтение.
Его дружба к Оливье была, несомненно, одним из самых живых его чувств; у него не было лучшего друга, и никого на земле Бернар так не любил, потому что он не мог любить своих родителей, можно сказать даже, что его сердце цеплялось в то время за эту дружбу с силою исключительной, но Оливье и он понимали дружбу не совсем одинаково. По мере углубления в дневник Эдуарда Бернар все больше удивлялся Оливье, все больше восхищался, испытывая при этом, правда, несколько болезненное чувство, разнообразием душевных качеств, на которые оказывался способным его друг; а он думал, что насквозь знает его! Оливье не обмолвился ему ни словом о том, что рассказывал этот дневник. Бернар едва подозревал о существовании Армана и Сары. Каким разным выказывал себя Оливье с ними и с ним!.. В комнате Сары, на этой кровати, узнал ли бы Бернар своего друга? К огромному любопытству, с каким он проглатывал страницы дневника, примешивалась какая-то смутная горечь: не то отвращение, не то досада. Что-то похожее на ту досаду, которую он ощутил недавно, увидев Оливье под руку с Эдуардом: досаду, что его нет в их обществе. Эта досада может завести далеко, она может толкнуть на большие глупости; как, впрочем, всякая досада.
Пойдем дальше. Все сказанное мной сейчас было сказано только ради небольшой передышки между страницами этого дневника. Теперь, когда Бернар отдышался, возвратимся к нему. Вот он снова погружается в чтение.
XIII
От стариков проку мало.
ВовенаргДневник Эдуарда
(продолжение)
8 ноября
Старая чета Лаперузов снова переехала. Их новая квартира, в которой я еще не бывал, расположена в бельэтаже, в закоулочке, образуемом улицей предместья Сент-Оноре недалеко от пересечения ее бульваром Осман. Я позвонил. Открыл Лаперуз. Он был без сюртука, и на голове его было надето что-то вроде желтовато-белого колпака, в котором я, всмотревшись, узнал старый чулок (госпожи Лаперуз, вероятно); конец его был завязан узлом и болтался, как кисточка, у его щеки. В руке он держал кривую кочергу. Я, очевидно, застал его за топкой печи; так как он обнаруживал некоторое смущение, я сказал:
– Хотите, я приду немного позже?
– Нет, нет… Входите сюда. – И он толкнул меня в узкую и продолговатую комнату с двумя окнами, выходившими на улицу на уровне фонаря. – Как раз в этот час я ждал ученицу (было шесть часов), но она телеграфировала, что не придет. Я так счастлив видеть вас.
Он положил кочергу на столик и, как бы извиняясь за свой костюм, сказал:
– Служанка госпожи Лаперуз протопила печку; она возвратится только утром; мне и пришлось выгребать золу…
– Хотите, я помогу вам ее растопить?
– Нет, нет… Это такая пачкотня… Но, позвольте, я пойду надену пиджак.
Он вышел, семеня ногами, и очень скоро вернулся одетый в легонький пиджачок из ткани альпака, с оторванными пуговицами и протертыми локтями, такой изношенный, что его стыдно было бы отдать нищему. Мы сели.
– Вы находите, что я сильно изменился, не правда ли?
Я хотел было возразить, но не нашелся что сказать – такое тяжелое впечатление произвело на меня это измученное лицо, которое я когда-то знал прекрасным. Он продолжал:
– Да, я сильно постарел в последнее время. Начинаю понемногу терять память. Когда мы с учениками проходим фуги Баха, мне нужно теперь заглядывать в ноты…
– Сколько молодых музыкантов были бы счастливы знать то, чем вы еще владеете.
Он продолжал, покачав головой:
– Ах, слабеет не только память! Слушайте: мне кажется, что я хожу пешком еще довольно быстро; но, представьте, теперь все прохожие обгоняют меня.
– Это объясняется тем, – сказал я, – что теперь все куда-то спешат.
– Ах вот как?.. То же самое и на уроках, которые я даю: ученицы находят, что мое преподавание слишком медлительно, они хотят идти скорее, чем я. Они уходят от меня… Теперь все торопятся. – И прибавил так тихо, что я едва расслышал: – У меня почти не осталось учениц.
Я чувствовал в его словах такое отчаяние, что не решался его расспрашивать.
– Госпожа Лаперуз не хочет этого понять. Она говорит, что я плохо берусь за дело, ничего не предпринимаю, чтобы сохранить учениц и еще меньше для поиска новых.
– А ученица, которую вы ожидали?.. – зачем-то спросил я.
– Ах эта… Я готовлю ее в консерваторию. Она каждый день приходит ко мне работать.
– Вы хотите сказать, что учите ее бесплатно?
– Госпожа Лаперуз все время упрекает меня за это! Она не понимает, что только такие уроки интересуют меня; да, лишь их я даю с истинным… удовольствием. Я много размышлял в последнее время. Слушайте… есть одна вещь, о которой я хочу спросить вас: почему о стариках так редко пишут в книгах?.. Это происходит, мне кажется, потому, что старики не способны больше писать о себе, а когда мы молоды, то не любим заниматься ими. Старик никого больше не интересует. Между тем о них можно было бы рассказать прелюбопытные вещи. Слушайте: в моей прошлой жизни есть поступки, которые я только теперь начинаю понимать. Да, я только теперь начинаю понимать, что они вовсе не имеют того значения, какое я приписывал им когда-то, совершая их… Только теперь я понимаю, что всю жизнь был в дураках. Госпожа Лаперуз надула меня; сын мой надул меня; все меня надули; Господь Бог надул меня…
Темнело… Я уже почти не различал лица моего старого учителя; но на улице вдруг зажегся фонарь и осветил его щеку, залитую слезами. Меня обеспокоило странное пятно у него на виске, точно яма, точно дыра; однако при легком движении, сделанном им, пятно переместилось, и я понял, что это только тень, отбрасываемая розеткой балюстрады. Я положил руку на его иссохшее плечо; он вздрогнул.
– Вы простудитесь, – сказал я ему. – Вы в самом деле не хотите, чтобы я вам помог растопить печку?.. Давайте займемся этим.
– Нет… Нужно себя закалять.
– Неужели вы исповедуете стоицизм?
– Немного. Я никогда не соглашался носить шейный платок именно потому, что у меня нежное горло. Я всегда боролся с собою.
– Это хорошо, когда можно надеяться на победу, но если тело сдает…
Он взял меня за руку и сказал очень серьезным тоном, словно доверяя мне тайну:
– Вот тогда только и можно говорить о настоящей победе. – Его рука выпустила мою. – Я боялся, что вы уедете, не повидавшись со мною.
– Куда уеду? – спросил я.
– Не знаю. Вы так часто путешествуете. У меня есть одно дело, о котором я хотел поговорить с вами… Я тоже собираюсь скоро уехать.
– Как? Вы собираетесь в поездку? – сказал я невпопад, притворившись, будто не понимаю его, несмотря на загадочную серьезность и торжественность его тона.
Он покачал головой:
– Вы отлично понимаете, что я хочу сказать… Да, да, я знаю, что час этот наступит скоро. Я начинаю зарабатывать меньше, чем я стою, для меня это невыносимо. Есть известный предел, который я дал себе слово не переступать.
Он говорил немного возбужденно, что встревожило меня.
– Неужели и вы считаете, что это зло? Я никогда не мог понять, почему религия запрещает нам это. Я много размышлял в последнее время. Когда я был молод, я вел очень суровую жизнь, радовался силе своего характера каждый раз, когда мне удавалось победить какое-либо искушение. Я не понимал, что, думая, будто освобождаюсь, я все больше и больше становился рабом своей гордыни. Каждая из этих побед над собой означала поворот ключа в замке от двери моей тюрьмы. Вот что я подразумевал, когда сказал вам, что Бог меня надул. Он устроил так, что я принял за добродетель свою гордость. Бог насмеялся надо мною. Он потешается. Я думаю, что он играет с нами, как кошка с мышью. Он посылает нам искушение, зная, что мы будем не в силах устоять; если нам все же удается устоять, то он отмщает нам еще горше. Почему он гневается на нас? И почему… Но я докучаю вам моими стариковскими вопросами.
Он сжал голову руками на манер ребенка, который дуется, и погрузился в молчание, длившееся так долго, что я стал думать, уж не забыл ли он обо мне. Я не шевелился, боясь потревожить его размышления. Несмотря на доносившийся с улицы шум, мне чудилось, что в комнатке царит необыкновенная тишина и, несмотря на зажженный фонарь, причудливо освещавший нас снизу наподобие театральной рампы, полосы тени по обеим сторонам окна, казалось, берут верх и мрак вокруг нас застывает, как вода на морозе; самое сердце мое, мерещилось мне, тоже застывает. Мне стало наконец невмочь, я шумно вздохнул и, решив, что пора встать и откланяться, из вежливости спросил, стремясь избавиться от этого наваждения:
– Как здоровье госпожи Лаперуз?
Старик, казалось, очнулся. Он переспросил недоуменно:
– Госпожи Лаперуз?.. – Можно было подумать, что эти слова потеряли для него всякий смысл; затем вдруг наклонился ко мне: – Госпожа Лаперуз переживает жестокий кризис… который причиняет мне большое страдание.
– Какой кризис?.. – спросил я.
– Ах, пустяки, – ответил он, пожимая плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. – Она совсем с ума сошла. Не знает больше, что ей придумать.
Я давно подозревал глубокий разлад в этом стариковском супружестве, но не надеялся, что мне удастся раздобыть какие-нибудь подробности.
– Бедняжка, – сказал я участливо. – И давно это?
Он подумал минуточку, словно не понял моего вопроса.
– О, очень давно… С тех пор, как ее знаю. – Но тотчас спохватился: – Нет, по правде сказать, у нас все стало портиться после рождения сына.
Я сделал удивленный жест, так как считал, что у Лаперузов детей нет. Старик поднял голову, которую все еще сжимал руками, и начал более спокойным тоном:
– Я никогда не говорил вам о сыне?.. Слушайте, я хочу рассказать вам все. Пришел час, когда вы должны знать все.
То, что я собираюсь сообщить вам, я не могу открыть никому… Да, началось с воспитания моего сына; значит, вы видите, уже очень давно. Первые годы нашего супружества были очаровательны. Я был очень чистым юношей, когда женился на госпоже Лаперуз. Я любил ее невинной любовью… Да, это самое подходящее слово, и не находил в ней ни одного недостатка. Но у нас были разные представления о воспитании детей. Всякий раз, когда я хотел задать трепку сыну, госпожа Лаперуз за него вступалась, послушать ее, так выходило, что ему все нужно было спускать. Они устроили сговор против меня. Она научила его лгать… Едва достигнув двадцати лет, он завел любовницу. Одной из моих учениц была молоденькая русская, очень хорошая музыкантша, к которой я сильно привязался. Госпожа Лаперуз обо всем знала, но от меня, как всегда, все скрывалось. И, понятно, я не заметил, как она забеременела. Ничего, говорю вам, я не подозревал, ровно ничего. В один прекрасный день мне сообщают, что моя ученица заболела и какое-то время будет сидеть дома. Когда я завожу речь, чтобы навестить ее, мне говорят, что она переменила квартиру, находится в отъезде… Лишь гораздо позже я узнал, что она отправилась рожать в Польшу. Мой сын уехал вслед за ней… Несколько лет они жили вместе, но он умер, не женившись на ней.
– А… вы видели ее потом?
Можно было подумать, что он наткнулся на какое-то препятствие.
– Я не мог простить ей, что она меня обманула. Госпожа Лаперуз продолжает переписываться с ней. Когда я узнал, что она впала в крайнюю нужду, я послал ей денег… ради мальчика. Но госпожа Лаперуз ничего об этом не знает. Та тоже не знает, что деньги прислал я.
– А ваш внук?
Странная улыбка пробежала по его лицу; он встал.
– Подождите минуточку, я покажу вам его карточку. – И снова он вышел, засеменив ногами и опустив голову. Когда он возвратился, пальцы его дрожали, отыскивая карточку в большом бумажнике. Он склонился ко мне, передавая фотографию, и сказал шепотом: – Я выкрал ее у госпожи Лаперуз, и она не подозревает об этом. Она думает, что потеряла ее.
– Сколько ему лет? – спросил я.
– Тринадцать. Он выглядит старше, не правда ли? Он очень хрупкий.
Глаза его снова наполнились слезами; он протянул руку к фотографии, как бы торопясь поскорее забрать ее. Я поднес карточку ближе к окну, в полосу тусклого света от уличного фонаря; мне показалось, что мальчик похож на старика; я узнал большой выпуклый лоб и мечтательные глаза Лаперуза. Я подумал, что доставлю ему удовольствие, сказав об этом. Он запротестовал:
– Нет, нет, он похож на моего брата, которого я потерял.
На мальчике был странный костюм: русская рубашка с вышитым воротником.
– Где он живет?
– Но откуда же мне знать? – вскричал Лаперуз в каком-то отчаянии. – Говорю вам, что от меня все скрывают.
Он взял фотографию и, поглядев на нее немного, снова спрятал в бумажник, который сунул в карман.
– Когда его мать приезжает в Париж, она видится только с госпожой Лаперуз, которая отвечает мне, если я спрашиваю ее об этом: «Обратитесь со своим вопросом к ней». Она говорит так, но в глубине души ей было бы очень неприятно, если бы я повидался с той особой. Она всегда была ревнива. Она всегда хотела отнять у меня всякого, кто ко мне привязывался… Мой внучек Борис учится в Польше, в одной из варшавских гимназий, вероятно. Но он часто путешествует вместе с матерью. – Затем, в каком-то исступлении: – Скажите! Как, по-вашему, можно любить ребенка, которого никогда не видел?.. Так вот: этот мальчик сейчас – самое дорогое для меня существо на свете… И он ничего не знает об этом!
Громкие рыдания прерывали его слова. Он привстал со стула и бросился, почти упал, в мои объятия. Я сделал бы все для облегчения его горя; но что я мог? Я встал, так как чувствовал, что его худое тело сползает вниз, и испугался, что он упадет на колени. Я поддержал его, прижал к груди и стал баюкать, как ребенка. Он пришел в себя. Госпожа Лаперуз позвала его из соседней комнаты.
– Она сейчас придет сюда… Вам ведь не очень хочется видеть ее, не правда ли?.. К тому же она стала совсем глухая. Уходите скорее. – Он проводил меня на лестничную площадку. – Не откладывайте надолго своего посещения (в голосе его слышалась мольба). До свидания, до свидания.
9 ноября
Один род трагического, мне кажется, почти совсем не отражен литературой. Роман занимался до сих пор превратностями судьбы, счастливыми или несчастными случайностями, социальными отношениями, борьбою страстей, характерами, но оставил совсем без внимания самое существо человеческой личности.
Между тем христианство поставило себе задачей перевести драму в моральную плоскость. Но христианских романов, в собственном смысле слова, не существует. Есть, правда, романы, ставящие себе назидательные цели; но они не имеют ничего общего с тем, о чем я здесь говорю. Моральный трагизм – тот, например, что делает таким грозным евангельское слово: «Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» Вот этот трагизм для меня важнее всего.
10 ноября
Оливье в скором времени предстоят экзамены. Полина желает, чтобы он поступил в Эколь Нормаль. Его карьера предначертана… Почему он не сирота, без родных, без связей? Я взял бы его секретарем. Но ему нет дела до меня, он не замечает даже интереса, который я проявляю к нему; и я привел бы его в замешательство, если бы сказал ему об этом. Именно вследствие нежелания тревожить его чем бы то ни было я напускаю на себя в его присутствии вид равнодушный и иронический. Лишь когда он меня не видит, я решаюсь глядеть на него, не спуская глаз. Я следую иногда за ним на улице, так что он не подозревает об этом. Вчера я шел позади него; внезапно он повернулся и направился в обратную сторону; я не успел спрятаться.
– Куда это ты так спешишь? – спросил я.
– О, никуда! У меня всегда бывает самый деловой вид как раз в те минуты, когда мне делать нечего.
Мы прошли несколько шагов вместе, но не нашлись, что сказать друг другу. Конечно, он остался недоволен встречей со мной.
12 ноября
У него есть родители, старший брат, товарищи… Я повторял себе это весь день и твердил также, что мне здесь нечего делать. Если бы ему недоставало чего-нибудь, я, несомненно, сумел бы восполнить недостаток, но он не испытывает недостатка ни в чем. Он ни в чем не нуждается; и если его любезность очаровывает меня, то ничто в ней не позволяет мне обольщаться… Ах, нелепая фраза, написанная мной вопреки желанию и выдающая лукавство моего сердца… Завтра я сажусь на пароход и отправляюсь в Лондон. Я вдруг принял решение уехать. Пора.
Уехать потому, что испытываешь слишком большое желание остаться!.. Известная склонность к резким решениям и боязнь снисходительности (я разумею снисходительность к себе самому) являются, может быть, наследием моего первоначального пуританского воспитания, от которого мне труднее всего освободиться.
Купил вчера у Смита английскую тетрадь, которая должна будет служить продолжением настоящей и в которой я не хочу больше ничего записывать. Новая тетрадь…
Ах, если бы я мог не уезжать!
XIV
В жизни случаются иногда положения, из коих удается выпутаться лишь при некотором помрачении рассудка.
ЛарошфукоСвое чтение Бернар закончил письмом Лауры, вложенным в дневник Эдуарда. Голова пошла у него кругом: не могло быть сомнений, что женщина, изливавшая в нем свое горе, была та самая неутешная незнакомка, о которой рассказывал ему накануне вечером Оливье, – покинутая любовница Винцента Молинье. И вдруг Бернару стало ясно, что благодаря двойному признанию – признанию друга и признанию дневника Эдуарда – он является пока единственным лицом, кому известны обе стороны интриги. Этим преимуществом он будет владеть недолго; нужно, значит, действовать быстро и энергично. Решение было принято им тут же; не забывая ничего из прочитанного им в начале, Бернар все внимание сосредоточил на Лауре.
«Еще сегодня утром мне было неясно, что я должен делать; сейчас – прочь сомнения, – сказал он себе, выбегая из комнаты. – Категорический, как говорится, императив состоит в том, чтобы спасти Лауру. Похищение чемодана, может быть, не было моим долгом, но раз я им завладел, то очевидно, что именно в нем я почерпнул живое чувство долга. Важно застать Лауру до того, как ее успеет повидать Эдуард, и найти такой способ представиться ей, чтобы она не приняла меня за жулика. Остальное устроится само. В моем бумажнике найдется теперь чем помочь несчастной; я сделаю это не хуже самого щедрого и самого сердобольного из Эдуардов. Только как подойти к ней? Вот единственное, что смущает меня. Ведь Лаура – урожденная Ведель, так что, несмотря на свою внебрачную беременность, она, наверное, очень щепетильна. Я сильно склонен думать, что она из тех женщин, которые артачатся, высказывают вам прямо в лицо свое презрение и разрывают на мелкие кусочки банкноты, предлагаемые им доброжелательно, но недостаточно деликатно. Как вручить ей эти деньги? Как ей представиться? Вот в чем загвоздка. Едва уходишь от закона и сворачиваешь с проторенных путей, сразу оказываешься в дебрях! Я, видать, действительно слишком молод, чтобы вмешиваться в столь запутанную интригу! Но, черт возьми, моя молодость поможет мне. Сочиним какое-нибудь простосердечное признание; какую-нибудь историю, которая вызвала бы жалость и интерес ко мне. Досадно, что эту историю придется рассказать и Эдуарду, ту же самую, – и нигде не впасть в противоречие. Ну да ладно! Положимся на вдохновение, оно осенит в нужную минуту…»
Тем временем он пришел на улицу Бон по адресу, который сообщала Лаура. Гостиница была самая скромная, но с виду чистая и приличная. По указанию портье Бернар поднялся на четвертый этаж. Перед дверью номера 16 он остановился и хотел подготовить свое появление, стал искать подходящих фраз; ничто не приходило на ум; тогда, решившись действовать напрямик, он постучал. Чей-то голос, мягкий, как голос его сестры, и – ему показалось – немножко робкий, произнес:
– Войдите.
На Лауре было совсем простое черное платье; могло показаться, что она в трауре. В течение нескольких дней пребывания в Париже она смутно ожидала чего-то или кого-то, кто вывел бы ее из тупика. Она пошла по ложному пути, в этом не было сомнений; чувствовала, что заблудилась. У нее была жалкая привычка больше рассчитывать на обстоятельства, чем на саму себя. Она не лишена была нравственного мужества, но ощущала себя бессильной, покинутой. При появлении Бернара она поднесла руку к лицу, как человек, сдерживающий крик или желающий прикрыть глаза от слишком яркого света. Она стояла, выпрямившись во весь рост, затем попятилась к окну и ухватилась за занавеску.
Бернар ждал, что она обратится к нему с вопросом; но она молчала, ожидая, что заговорит он. Сердце его замерло, он смотрел на нее, тщетно стараясь выдавить улыбку.
– Извините, сударыня, – начал он наконец, – что я так бесцеремонно врываюсь к вам. Сегодня утром в Париж приехал Эдуард X., с которым, как мне известно, вы знакомы. У меня к нему неотложное дело; мне пришло в голову, что вы могли бы дать мне его адрес, и… извините, что я столь нескромно обращаюсь к вам с этой просьбой.
Если бы Бернар не был так молод, он, вероятно, сильно напугал бы Лауру. Но перед ней стоял почти мальчик с таким открытым взглядом, таким ясным лбом, такими робкими жестами, таким неуверенным голосом, что страх ее уже сменялся любопытством, интересом и той непреодолимой симпатией, которую пробуждает в нас существо наивное и очень красивое. Впрочем, голос Бернара становился увереннее.
– Но я не знаю его адреса, – сказала Лаура. – Если он в Париже, то, надеюсь, он не замедлит прийти ко мне. Скажите, кто вы. Я ему передам.
«Пришел момент поставить все на карту», – подумал Бернар. Какое-то безумие вдруг овладело им. Он посмотрел прямо в глаза Лауре:
– Кто я?.. Друг Оливье Молинье… – Он колебался, все еще не решаясь; но, видя, что она бледнеет при этом имени, набрался смелости: – Друг Оливье, брата Винцента, вашего любовника, который так подло вас бросает…
Он должен был замолчать: Лаура покачнулась. Откинув обе руки назад, она с отчаянием искала опоры. Но больше всего взволновал Бернара стон, который она издала; почти нечеловеческий вопль, похожий, скорее, на крик раненого зверя (от него даже охотнику вдруг становится стыдно, он чувствует себя палачом), вопль столь странный, столь отличный от всего, что мог ожидать Бернар, что его бросило в дрожь. Он внезапно понял, что стоит лицом к лицу с живой жизнью, с подлинным страданием и все, что было им испытано до сих пор, показалось ему теперь рисовкой и игрой. В груди его поднималась волна чувства, столь для него нового, что он не мог с ним совладать; оно подступало к горлу… Что это? Кто это рыдает? Возможно ли? Это он, Бернар!.. Он бросается поддержать ее, опускается перед ней на колени, бормочет сквозь рыдания:
– Ах, простите… простите! Я сделал вам больно… Я знал, что вы всеми покинуты, и… хотел бы помочь вам.
Но Лаура задыхается и чувствует, что вот-вот упадет в обморок. Она ищет глазами, где бы сесть. Бернар, чей взгляд устремлен на нее, понял ее желание. Он подбегает к креслицу, стоящему подле кровати, и порывистым движением пододвигает его; она грузно опускается в него.
Тут произошел забавный эпизод, который я не решаюсь рассказать; но именно он неожиданно вывел Бернара и Лауру из затруднения и окончательно определил их отношения. Поэтому не стану пытаться приукрашивать сцену.
За деньги, которые платила Лаура (я хочу сказать: за те деньги, что хозяин гостиницы требовал с нее), жилец не мог рассчитывать на изящную обстановку, но он имел полное право на прочную мебель. Между тем низкое креслице, которое Бернар пододвинул Лауре, немножко хромало; иными словами, имело большую склонность припадать на одну из ножек, как делает это птица, пряча ее под крыло; но что естественно для птицы, то необычно и достойно сожаления для кресла; вот почему креслице, о котором речь, старательно скрывало свое уродство под густой бахромой. Лаура знала особенности кресла и то, что с ним следует обращаться крайне осторожно; но в своем волнении она об этом забыла и вспомнила лишь, когда почувствовала, что оно покачнулось под ней. Она вдруг вскрикнула – причем ее крик на этот раз был совсем не похож на недавний долгий стон, – соскользнула с кресла и мгновение спустя очутилась на ковре в объятиях Бернара, который поспешил ей на помощь. Это маленькое происшествие привело в замешательство и в то же время позабавило его. Ему пришлось стать на колени, так что лицо Лауры было совсем близко; он увидел, что она краснеет. Она сделала усилие, чтобы подняться. Он ей помог.
– Вы не ушиблись?
– Нет, спасибо, благодаря вам. Это смешное кресло, его чинили уже два раза… Я думаю, если выпрямить ножку, оно будет стоять.
– Сейчас я это устрою, – сказал Бернар. – Готово!.. Хотите попробовать? – Но тут он оборвал себя: – Или позвольте… Благоразумнее сначала попробовать мне. Видите, как оно прочно стоит теперь. Я могу даже болтать ногами, – что он и сделал смеясь. Затем, вставая: – Можете спокойно садиться, и если вы позволите мне остаться еще на минутку, то я возьму себе стул. Я сажусь подле вас и не дам вам упасть, не бойтесь… Мне хотелось бы сделать для вас еще кое-что.
В его словах было столько горячности, в манерах – сдержанности, а в жестах – грации, что Лаура не могла удержаться от улыбки:
– Вы не сказали мне вашего имени.
– Бернар.
– Хорошо, как ваша фамилия?
– У меня нет фамилии.
– Ну а фамилия ваших родителей?
– У меня нет родителей. Иными словами, я тот, кем будет ребенок, которого вы ждете: бастард.
Улыбка вдруг исчезла с лица Лауры; она была обижена этим настойчивым вторжением в ее интимную жизнь и разоблачением ее тайны.
– Но откуда вы это знаете?.. Кто вам сказал?.. Вы не имеете права знать…
Бернар закусил удила; он говорил теперь громко и дерзко:
– Я знаю и то, что известно моему другу Оливье, и то, что известно вашему другу Эдуарду. Но каждый из них знает пока только половину вашей тайны. Я, вероятно, единственный, кроме вас, человек, которому она известна целиком. Итак, вы видите: необходимо, чтобы я стал вашим другом, – прибавил он более мягким тоном.
– Как неделикатны мужчины, – печально промолвила Лаура. – Но… если вы не видели Эдуарда, он не мог вам сказать. Значит, он вам написал?.. Неужели это он прислал вас?..
Бернар запутывался в противоречиях; он слишком поспешно раскрыл свои карты, уступая искушению слегка прихвастнуть. Он отрицательно покачал головою. Лицо Лауры омрачалось все больше и больше. В этот момент в дверь постучали.
Желают они этого или нет, но общее волнение связывает этих людей. Бернар чувствовал, что попал в западню; Лаура досадовала, что ее застали в обществе постороннего мужчины. Они переглянулись, точно заговорщики. Стук раздался снова. Оба одновременно вскрикнули:
– Войдите!
Уже несколько минут Эдуард подслушивал у двери: настолько он был поражен, что в комнате Лауры раздаются голоса. По последним фразам Бернара он догадался, в чем дело. Невозможно было сомневаться в их смысле: не было никаких сомнений, что говоривший был человеком, укравшим его чемодан. Решение тотчас было принято. Ибо Эдуард принадлежит к числу тех людей, чьи способности, обычно притупленные монотонной повседневностью, внезапно пробуждаются и обостряются при столкновении с непредвиденным. Итак, он открыл дверь, но остался на пороге, улыбаясь и поглядывая то на Бернара, то на Лауру, которые оба встали.
– Простите, дорогой друг, – сказал он Лауре, жестом показывая, что он хочет несколько отложить излияния. – Мне нужно сперва сказать несколько слов вашему гостю, пусть он благоволит выйти на минутку в коридор.
Улыбка его стала более иронической, едва Бернар подошел к нему.
– Я так и думал, что найду вас здесь.
Бернар понял, что попался. Ему оставалось лишь играть в открытую; он так и поступил, чувствуя, что это его последняя ставка:
– Я надеялся встретиться здесь с вами.
– Прежде всего, если только вы уже не сделали этого (ибо я хочу верить, что это и была цель вашего прихода), ступайте вниз, в контору, и оплатите счет госпожи Дувье деньгами, которые вы нашли в моем чемодане и которые должны быть при вас. Не поднимайтесь наверх раньше чем через десять минут.
Все это было сказано тоном достаточно внушительным, но не содержавшим никакой угрозы. Тем временем к Бернару вернулся весь его апломб.
– Я действительно пришел ради этого. Вы не ошиблись. И я начинаю думать, что тоже не ошибся.
– Что вы хотите этим сказать?
– Что вы как раз такой, как я и предполагал.
Эдуард тщетно старался принять серьезный вид. Все это крайне забавляло его. Он сделал насмешливый полупоклон:
– Очень вам благодарен. Остается и мне подвергнуть вас испытанию. Так как вы находитесь здесь, то, я думаю, вы прочли мои бумаги?
Бернар, который не моргнув выдержал взгляд Эдуарда, в ответ улыбнулся смелой, насмешливой и дерзкой улыбкой и промолвил, отвешивая поклон:
– Не извольте сомневаться. Я к вашим услугам.
Затем, как эльф, полетел по лестнице.
Когда Эдуард вошел в комнату, Лаура рыдала. Он приблизился к ней. Она уткнулась лбом в его плечо. Внешнее проявление обуревавших ее чувств стесняло его, было почти невыносимо. Он вдруг с изумлением заметил, что нежно похлопывает ее по спине, словно ребенка, который закашлялся.
– Бедняжка Лаура, – приговаривал он, – ну, довольно, довольно… Будьте благоразумны.
– Ах, позвольте мне чуть поплакать, от слез мне легче.
– Все же нужно выяснить, что вы теперь будете делать.
– Что же прикажете мне делать? Куда идти? К кому обратиться?
– Ваши родители…
– Но ведь вы знаете их. Обратиться к ним – значило бы повергнуть их в отчаяние. Они все сделали, чтобы я была счастлива.
– А Дувье?..
– Никогда я не решусь вернуться к нему. Он так добр. Не думайте, что я его не люблю… Если бы вы знали… Если бы знали… Ах, скажите, что вы не очень презираете меня.
– Напротив, милая Лаура, напротив. Как могло это взбрести вам в голову? – И он снова стал похлопывать ее по спине.
– А ведь правда: рядом с вами я больше не чувствую стыда.
– Сколько дней вы здесь?
– Не знаю, право. Я жила только ожиданием вас. Временами мне становилось невмочь. Теперь мне кажется, что больше ни дня я не в силах оставаться здесь. – И она зарыдала еще громче, почти переходя на крик, но голос ее был глух. – Уведите меня. Уведите меня.
Эдуард все больше и больше приходил в замешательство.
– Послушайте, Лаура… Успокойтесь. Тот… другой… не знаю даже, как его имя…
– Бернар, – прошептала Лаура.
– Сейчас сюда войдет Бернар. Ну, возьмите же себя в руки. Нельзя, чтобы он видел вас такой. Больше мужества. Мы что-нибудь придумаем, ручаюсь вам. Полно! Вытрите глаза. Слезы делу не помогут. Посмотрите на себя в зеркало. Вы покраснели. Смочите лицо одеколоном. Когда я вижу вас плачущей, я не могу ни о чем думать… Ну, вот и он, я слышу его шаги.
Он направился к двери и впустил Бернара; пока Лаура, повернувшись к ним спиной, приводила себя в порядок перед туалетным столиком, он обратился к Бернару:
– Теперь, сударь, могу я спросить вас, когда мне будет дозволено снова вступить во владение моими вещами?
Он сказал это, смотря Бернару прямо в лицо, по-прежнему иронически улыбаясь.
– Когда вам будет угодно, сударь; но должен признаться вам, что в этих недостающих вам вещах вы нуждаетесь гораздо меньше, чем я. Я уверен, что это станет вам совершенно понятно, как только вы узнаете мою историю. Достаточно будет сказать вам, что с сегодняшнего утра я без крова, без очага, без семьи и был готов броситься в Сену, если бы не встретился с вами. Я долго издали следил за вами сегодня утром, когда вы разговаривали с моим другом Оливье. Он столько мне рассказывал о вас! Мне хотелось подойти к вам. Я искал предлога, повода… Когда вы уронили багажную квитанцию, я благословил судьбу. О, не принимайте меня за вора. Если я завладел вашим чемоданом, то для того, чтобы познакомиться с вами.
Бернар выпалил все это одним духом. Необыкновенное пламя оживляло его речь и его черты; казалось, он взывал о милости. По улыбке Эдуарда было видно, что он находил его очаровательным.
– А теперь?.. – спросил он.
Бернар понял, что дело принимает благоприятный поворот.
– А теперь… не нужен ли вам секретарь? Не могу допустить, что буду плохо исполнять его функции, ибо примусь за работу с большой радостью.
Тут Эдуард уже не выдержал и покатился со смеху. Лаура повеселела, глядя на них.
– Вот как!.. Что ж, об этом мы подумаем. Вы найдете меня завтра здесь в этот самый час, если позволит госпожа Дувье… потому что и с ней мне предстоит решить множество вопросов. Вы живете в гостинице, я полагаю? О, я вовсе не хочу знать в какой! Меня это не волнует. – Он протянул ему руку.
– Сударь, – сказал Бернар, – вы, может быть, разрешите мне перед уходом напомнить вам, что в предместье Сент-Оноре живет один старый, несчастный преподаватель музыки по фамилии, если не ошибаюсь, Лаперуз: вы, несомненно, доставите ему большое удовольствие, навестив его.
– Черт возьми, для начала недурно: вы правильно понимаете ваши будущие обязанности.
– Значит… Вы действительно согласились бы?
– Поговорим об этом завтра. До свиданья.
Пробыв еще немного у Лауры, Эдуард отправился к Молинье. Он надеялся вновь увидеть Оливье, с которым ему хотелось поговорить о Бернаре. Но он застал одну Полину и так и не дождался никого, хотя крайне затянул свой визит.
В это самое время Оливье, получивший утром через брата приглашение от графа де Пассавана непременно зайти, направлялся к автору «Турника».
XV
– Я боялся, что ваш брат не исполнит моего поручения, – сказал Робер де Пассаван, увидев входящего Оливье.
– Я не опоздал? – спросил Оливье, ступая робко, почти на цыпочках. В руке он держал шляпу, которую Робер у него отобрал.
– Положите же ее сюда. Располагайтесь поудобнее. Вот в этом кресле, мне кажется, вы будете чувствовать себя как дома. Вы нисколько не опоздали, если судить по часам, но мое желание видеть вас опережало время. Вы курите?
– Благодарю вас, – сказал Оливье, отстраняя портсигар, который протягивал граф де Пассаван. Он отказывался из скромности, хотя ему очень хотелось отведать тонких душистых папирос, вероятно русских, аккуратными рядами лежащих в портсигаре.
– Да, я очень рад, что вы смогли прийти. Я боялся, что вы слишком заняты подготовкой к экзаменам. Когда они у вас?
– Через десять дней письменный. Но теперь я мало занимаюсь. Мне кажется, что я готов, и больше всего боюсь переутомиться.
– Однако не отказались бы вы взять на себя сейчас еще одну работу?
– Нет… если только она не слишком обременительна.
– Я сейчас объясню, для чего просил вас прийти ко мне. Прежде всего, чтобы доставить себе удовольствие снова видеть вас. Как-то в театральном фойе мы начали в антракте один разговор… То, что вы мне тогда сказали, меня сильно заинтересовало. Вы, наверное, уже забыли об этом, не правда ли?
– О нет, помню, – ответил Оливье, которому казалось, что тогда разговор шел о пустяках.
– Сейчас у меня есть одно предложение к вам… Я думаю, вы знаете некоего юношу по фамилии Дюрмер? Ведь это один из ваших товарищей?
– Я только что расстался с ним.
– Ах, вы встречаетесь?
– Да, мы должны были встретиться в Лувре, чтобы поговорить о журнале, который он будет редактировать.
Робер разразился громким, принужденным смехом:
– Ха! ха! ха! Редактор… Дюрмер – редактор… Он высоко берет… Он в самом деле сказал вам это?
– Уже давно твердит мне об этом.
– Да, я думаю об этом уже довольно давно. Как-то случайно я спросил его, согласен ли он читать со мной рукописи; он сейчас же назвал это – быть главным редактором; я не мешал ему, и вдруг… Это в его стиле, вы не находите? Каков хват! Его следует немного одернуть… Вы в самом деле не курите?
– Пожалуй, но немного, – сказал Оливье, беря на этот раз папиросу. – Спасибо.
– Позвольте мне сказать вам, Оливье… вы ничего не имеете против того, чтобы я называл вас Оливье? Мне как-то странно обращаться к вам «господин»: вы слишком молоды; с другой стороны, я слишком близок с вашим братом Винцентом, чтобы называть вас Молинье. Так вот, позвольте мне сказать вам, Оливье, что я неизмеримо больше доверяю вашему вкусу, чем вкусу Сиди Дюрмера. Не согласитесь ли вы взять на себя литературное руководство журналом? Понятно, в какой-то степени под моим наблюдением, по крайней мере на первых порах. Но я предпочитаю, чтобы моя фамилия не стояла на обложке. Потом объясню вам почему… Может быть, выпьете стаканчик портвейну, а? У меня он весьма недурен. – Он достал из стоявшего подле него шкафчика бутылку и два бокала, разлил вино.
– Ну, что скажете?
– Действительно превосходный портвейн.
– Я спрашиваю вас не о вине, – смеясь, сказал Робер, – а о сделанном мной предложении.
Оливье притворился, что не понимает. Он боялся слишком поспешно выразить свое согласие и тем выдать свою радость. Он слегка покраснел и смущенно пробормотал:
– Мой экзамен не…
– Вы только что сказали, что подготовка к нему не отнимает у вас много времени, – перебил его Робер. – Кроме того, журнал выйдет еще не скоро. Я даже думаю, не лучше ли приурочить выпуск первого номера к моменту начала занятий в школах. Во всяком случае, мне важно узнать ваши взгляды. До октября следовало бы подготовить несколько номеров, и нам необходимо будет часто видеться этим летом, чтобы всесторонне обсудить вопрос. Что вы собираетесь делать на каникулах?
– О, я еще точно не знаю. Мои родители отправятся, вероятно, как всегда, в Нормандию.
– И вам нужно будет сопровождать их?.. Может быть, в этот раз вы ненадолго разлучитесь с ними?..
– Мама не согласится.
– Сегодня я обедаю с вашим братом; вы позволите мне поговорить с ним об этом?
– О, Винцент с нами не поедет. – Затем, сообразив, что эта фраза не относится к делу, он прибавил: – К тому же это ни к чему не приведет.
– Но если представить вашей маме серьезные доводы?
Оливье ничего не ответил. Он нежно любил свою мать, и тон, взятый Робером по отношению к ней, ему не понравился. Робер понял, что немного перехватил.
– Так вам нравится мой портвейн? – спросил он, чтобы сменить тему. – Хотите еще стаканчик?
– Нет, нет, спасибо… Но он превосходен.
– Да, тогда в театре меня поразили зрелость и уверенность ваших суждений. У вас нет склонности писать критические статьи?
– Нет.
– А стихи?.. Мне известно, что вы пишете стихи.
Оливье снова покраснел.
– Да, брат вас выдал. И вы, наверное, знаете других молодых людей, которые могли бы сотрудничать… Надо, чтобы этот журнал стал платформой, объединяющей молодежь. В этом его смысл. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне составить своего рода проспект-манифест, который намечал бы, не слишком их уточняя, новые веяния. Мы еще поговорим об этом. Нужно будет выбрать два или три эпитета, только не неологизмы, а самые стертые, старые слова, которым мы придадим совсем новый, действенный смысл. После Флобера были в моде «благозвучный и ритмичный»; после Леконта де Лиля – «иератический и определенный»… Слушайте, что вы скажете об эпитете «жизненный»? А?.. «Бессознательный и жизненный»… Нет? «Стихийный, крепкий и витальный»?
– Мне кажется, что можно было бы подобрать получше, – осмелился заметить Оливье, улыбаясь не слишком одобрительно.
– Может, еще портвейну…
– Только, пожалуйста, немного.
– Видите ли, огромным недостатком символизма является то, что он дал одну эстетику: все большие литературные школы давали кроме нового стиля новую этику, новые заповеди, новый список обязанностей, новую манеру видеть, новое понимание любви, новое отношение к жизни. Символист весьма упростил свою задачу: он вовсе устранился из жизни, не старался понять ее, отрицал ее, повернувшись к ней спиною. Разве вы не находите, что это нелепо? Эти люди лишены аппетита к жизни и даже не гурманы. Совсем не то, что мы… не правда ли?
Оливье допил второй бокал портвейна и выкурил вторую папиросу. Он полузакрыл глаза, развалился в удобном кресле и, не произнося ни слова, выражал свое одобрение легкими кивками. В этот момент раздался звонок, и почти тотчас вошел лакей и подал Роберу визитку. Робер взял ее, взглянул и положил рядом на письменном столе.
– Хорошо. Попросите его минуту подождать. – Лакей вышел. – Слушайте, дорогой Оливье, вы мне очень нравитесь, и думаю, мы вполне можем столковаться. Но сейчас ко мне пришел один визитер, которого мне непременно нужно принять и переговорить с ним наедине.
Оливье встал.
– Я провожу вас через сад, если разрешите… Вот хорошо, что вспомнил: не хотите ли иметь мою новую книгу? У меня как раз есть экземпляр на голландской бумаге…
– Я не стал дожидаться, пока получу ее от вас, и уже прочел, – сказал Оливье, которому не очень нравилась книга Пассавана; он старался поэтому высказать о ней суждение без лести, но соблюдая полную учтивость. Уловил ли Пассаван в тоне фразы легкий оттенок пренебрежения? Он тотчас же ответил:
– Не будем говорить о ней. Если вы скажете мне, что она вам нравится, я вынужден буду отнестись с недоверием либо к вашему вкусу, либо к вашей искренности. Нет, лучше, чем кому-либо, мне известны недостатки этой книги. Я писал ее чересчур торопливо. По правде говоря, все время, пока я ее писал, я думал о своей следующей книге. Вот она – другое дело: ею я дорожу. Ею я очень дорожу. Вы увидите, увидите… Мне очень жаль, но сейчас я принужден просить вас покинуть меня… Если только не… Но нет, нет, мы еще недостаточно знакомы, и ваши родители, наверное, ожидают вас к обеду. Итак, до свидания. До скорого… Я надпишу вам книгу, разрешите?
Он встал и подошел к письменному столу. Пока он надписывал книгу, Оливье шагнул вперед и искоса посмотрел на принесенную лакеем визитку:
ВИКТОР СТРУВИЛУ.
Это имя ничего ему не говорило.
Пассаван протянул Оливье экземпляр «Турника»; едва Оливье собрался прочитать надпись, Робер сказал, засовывая книгу ему под мышку:
– Потом прочтете.
Только на улице Оливье познакомился с эпиграфом, надписанным графом де Пассаваном; он был извлечен из той самой книги, которую украшал, и гласил следующее:
«Ради бога, Орландо, еще несколько шагов. Я не вполне уверен, что смею как следует вас понимать».
И внизу:
«Оливье Молинье – вероятный его друг
граф Робер де Пассаван».
Эпиграф двусмысленный, который заставил Оливье призадуматься, но он был волен в конце концов толковать его как заблагорассудится.
Оливье возвратился домой через несколько минут после ухода Эдуарда, который устал его дожидаться.
XVI
Винцент по природе был человек добрый, и суровое обращение с Лаурой стоило ему усилий и борьбы; поэтому он легко склонялся рассматривать свое поведение по отношению к ней как победу воли над чувствительностью.
Внимательно рассматривая развитие характера Винцента в этой интриге, я различаю несколько стадий, которые хочу отметить в назидание читателю:
1. Период добрых намерений. Честность. Совестливое желание загладить свою вину. В данном случае: нравственная обязанность предоставить Лауре сумму, которую с таким трудом накопили его родители, чтобы облегчить ему первые шаги на поприще врача. Разве это не самопожертвование? Разве это не свидетельствует о благородстве, великодушии, милосердии?
2. Период душевной тревоги. Сомнения. Разве усомниться в том, что посвященная Лауре сумма окажется достаточной, не означает готовность Винцента уступить, когда дьявол станет соблазнять его возможностью увеличить эту сумму?
3. Стойкость и душевная твердость. Потребность чувствовать себя «выше несчастья» после проигрыша этой суммы. Эта самая «душевная твердость» позволяет ему признаться Лауре в своем проигрыше; она же позволяет ему по той же причине порвать с Лаурой.
4. Отречение от добрых намерений, рассматриваемых как несчастное заблуждение в свете новой этики, которую Винцент считает себя обязанным изобрести для оправдания своего поведения, ибо он остается человеком нравственным и дьявол сумеет убедить его, лишь снабдив самооправданиями. Теория самодовлеющей, исчерпывающей полноты мгновения; теория нечаянной, непосредственной и незаслуженной радости.
5. Опьянение выигрышем. Презрение к сдержанности. Вседозволенность.
Начиная с этого момента партия дьявола выиграна.
Начиная с этого момента существо, которое считает себя беспредельно свободным, становится простым его орудием. Поэтому дьявол не уймется, пока Винцент не выдаст своего брата отпетому сообщнику дьявола – Пассавану.
Винцент не является, однако, дурным человеком. Вопреки всему он остается неудовлетворенным, самочувствие его неважное. Прибавим еще несколько слов.
«Экзотизмом» называют, мне кажется, всякую пеструю складку покрова Майи, перед которою душа наша чувствует себя чужой и которая лишает ее точек опоры. Возможно, добродетель устояла бы, если бы дьявол, прежде чем покуситься на нее, не перенес нас в другую страну. Если бы они не находились под новыми небесами, вдали от своих родителей, вдали от воспоминаний о своем прошлом, вдали от всего, что поддерживало постоянство в их душах, то, вероятно, Лаура не уступила бы домогательствам Винцента, а Винцент не сделал бы попытки ее соблазнить. Вероятно, им показалось, что этот акт любви там, на чужбине, в счет не идет… Можно бы многое сказать на эту тему, но и сказанного для нас достаточно, чтобы лучше понять Винцента.
Подле Лилиан он тоже чувствовал себя словно в чужой стране.
– Не смейся надо мною, Лилиан, – говорил он в тот вечер. – Я знаю, что ты не поймешь меня, и все же я чувствую потребность говорить с тобой, как если бы ты меня понимала, потому что отныне я не могу не думать о тебе.
Он полулежал в ногах Лилиан, вытянувшейся на низенькой кушетке; любовница нежно ласкала его голову, которую он в любовной истоме положил ей на колени.
– Причиной моей утренней озабоченности… пожалуй, был страх. Можешь ты побыть серьезной хоть одно мгновение? Чтобы понять меня, можешь ты забыть на мгновение не то, во что веришь, потому что ты не веришь ни во что, но именно забыть, что ты ни во что не веришь? Я тоже ни во что не верил, ты знаешь; я верил, что я больше ни во что не верю, ни во что, кроме нас двоих, тебя, меня, и в то, чем я могу быть с тобой, в то, кем благодаря тебе я стану…
– Робер придет в семь, – прервала Лилиан. – Я говорю это не для того, чтобы торопить тебя, – но, если ты не перейдешь скорее к делу, он прервет нас как раз в тот момент, когда ты начнешь становиться интересным. Я ведь полагаю, ты не захочешь продолжить в его присутствии. Ты сегодня находишь нужным принимать удивительно много предосторожностей. Ты похож на слепого, который, прежде чем ступить, ощупывает палкой каждый уголок. Ты видишь, однако, что я абсолютно серьезна. Почему у тебя нет уверенности?
– С тех пор как я знаком с тобой, я во всем уверен, – продолжал Винцент. – Я могу многое, я чувствую это, и, ты видишь, мне все удается. Но как раз это и ужасает меня. Нет, нет, молчи… Весь день сегодня я думал о том, что ты рассказала мне утром, о гибели «Бургундии» и о руках, которые отсекали тем, кто хотел взобраться в лодку. Мне все кажется, что кто-то хочет взобраться в мою лодку – я пользуюсь твоим образом, чтобы ты меня поняла, – что-то такое, чему я хотел бы помешать…
– И ты хочешь, чтобы я помогла тебе утопить все это, старый трус!..
Он продолжал, не глядя на нее:
– Что-то такое, что я отталкиваю, но чей голос доносится до меня… голос, который ты никогда не слышала, голос, который я слышал в детстве…
– Что же говорит тебе этот голос? Ты не решаешься повторить. Это меня не удивляет. Держу пари, что в его речи было что-то из катехизиса. Да?
– Но, Лилиан, пойми меня: единственная возможность избавиться от этих мыслей – высказать их тебе. Если ты будешь смеяться над ними, я затаю их в себе и они меня отравят.
– Тогда говори, – сказала она с таким видом, точно подчинялась неприятной необходимости. Затем – так как он молчал и по-детски прятал лицо в коленях Лилиан: – Ну! Чего же ты ждешь?
Она потянула его за волосы и заставила поднять голову.
– Да он в самом деле принимает эти мысли всерьез, право слово! Он побледнел. Послушай, мой мальчик, если ты хочешь разыгрывать младенца, то мне это не подходит.
Нужно хотеть то, чего хочешь. Кроме того, ты знаешь: я не люблю тех, кто плутует в игре. Когда ты пытаешься втащить исподтишка в свою лодку того, кто только и хочет забраться туда, ты плутуешь. Я очень хочу играть с тобою, но играть честно; и я прямо заявляю тебе об этом, чтобы ты мог добиться успеха. Мне кажется, что ты можешь стать человеком весьма значительным; я чувствую в тебе большой ум и большую силу. Я хочу тебе помочь. Есть много женщин, которые губят карьеру своих возлюбленных; я же хочу поступить как раз наоборот. Ты уже говорил о своем желании бросить медицину и посвятить себя изучению естественных наук, выражал сожаление, что у тебя нет денег для этого… Теперь ты выиграл, пятьдесят тысяч франков – деньги немалые. Обещай же, что ты бросишь игру. Я предоставлю в твое распоряжение столько денег, сколько понадобится, при условии, что у тебя хватит сил пожать плечами, когда тебе будут говорить, что ты находишься на содержании.
Винцент встал и подошел к окну. Лилиан продолжала:
– Прежде всего, чтобы покончить с Лаурой, я считаю, что можно бы послать ей обещанные тобой пять тысяч франков. Теперь, когда у тебя есть деньги, почему бы тебе не сдержать слово? Из желания чувствовать себя еще более виновным по отношению к ней? Это мне совсем не нравится. Я питаю отвращение к грязным поступкам. Ты не умеешь опрятно отсекать рук. Итак, решено: мы отправимся на лето туда, где будут наиболее благоприятные условия для твоих работ. Ты говорил мне о Роскофе; я предпочла бы Монако, потому что знакома с князем, который может предложить нам яхту и устроить тебя в своем институте.
Винцент молчал. Ему было неприятно сообщить Лилиан – и он рассказал ей об этом лишь впоследствии, – что перед приходом к ней он побывал в гостинице, где Лаура с такой тоской и таким отчаянием ожидала его. Желая чувствовать себя наконец расквитавшимся с нею, он засунул в конверт те несколько банкнотов, на которые она больше уже не рассчитывала. Он вручил этот конверт коридорному и стал ждать в вестибюле подтверждения, что конверт передан ей в руки. Несколько мгновений спустя посланный сбежал вниз и вручил Винценту тот же конверт, на котором рукою Лауры было написано: «Слишком поздно».
Лилиан позвонила, велела принести манто. Когда служанка вышла, она сказала:
– Ах, я хотела сказать тебе, пока он не приехал: если Робер предложит тебе поместить твои пятьдесят тысяч франков, остерегись принимать его предложение. Он очень богат, но постоянно ищет деньги. Посмотри: мне кажется, я слышу рожок его автомобиля. Он приехал на полчаса раньше, тем лучше… Насчет же того, о чем мы говорили…
– Я приехал пораньше, – сказал, входя, Робер, – потому что подумал: хорошо бы отправиться обедать в Версаль. Нравится вам моя идея?
– Нет, – отвечала леди Гриффитс, – бассейны нагоняют на меня тоску. Поедем лучше в Рамбуйе, времени у нас достаточно. Кормят там похуже, но зато нам будет удобнее разговаривать. Я хочу, чтобы Винцент рассказал тебе о рыбах. Он знает массу поразительных вещей. Не знаю, правда ли, что он говорит, но это занятнее, чем самые лучшие в мире романы.
– Романист, может быть, будет другого мнения на сей счет, – заметил Винцент.
Робер де Пассаван держал в руке вечернюю газету.
– Вы знаете, что Брюньяр назначен сегодня секретарем министра юстиции? Очень подходящий момент для награждения вашего отца, – сказал он, оборачиваясь к Винценту. Последний пожал плечами. – Мой дорогой Винцент, – продолжал Пассаван, – позвольте вам сказать, что вы очень его обидите, не попросив этого маленького одолжения, – он будет так счастлив отказать вам.
– Если только вы покажете пример, попросив его об этом одолжении для себя, – отпарировал Винцент.
Робер скорчил кислую гримасу.
– Нет, я кокетничаю своею неспособностью краснеть, даже получив орденскую ленточку. – Потом, обращаясь к Лилиан: – Вы знаете, в наши дни редко встречаются люди, достигающие сорока без сифилиса и орденов.
Лилиан улыбнулась, пожав плечами:
– Ради остроты он готов даже состариться!.. Скажите, пожалуйста, это цитата из вашей будущей книги? Она прозвучит свежо… Ступайте вниз, я надену манто и догоню вас.
– Я думал было, что вы не хотите больше видеться с ним? – сказал Винцент Роберу на лестнице.
– С кем? Брюньяром?
– Вы находили его таким дураком.
– Дорогой друг, – медленно отвечал Пассаван, остановившись на ступеньке и удерживая Молинье, ибо в это время он заметил леди Гриффитс и желал, чтобы она его услышала, – поверьте, у меня еще не было друга, который, после более или менее продолжительного знакомства со мной, не представил бы доказательств своей глупости. Уверяю вас, Брюньяр выдерживал испытание дольше многих других.
– Чем я, может быть? – спросил Винцент.
– Что не мешает мне оставаться вашим лучшим другом, как видите.
– И это называется в Париже остроумием! – сказала Лилиан, подходя к ним. – Будьте начеку, Робер: ничто не увядает так быстро.
– Успокойтесь, дорогая: слова увядают лишь после того, как они напечатаны.
Они сели в автомобиль, который умчал их. Так как их разговор продолжал быть весьма остроумным, то мне не стоит передавать его здесь. Они выбрали столик на террасе, открытой в сад, который наступившие сумерки наполняли тенью. Вечер мало-помалу настраивал беседу на серьезный лад; подстрекаемый Лилиан и Робером, говорил почти исключительно Винцент.
XVII
– Я бы больше интересовался животными, если бы меня меньше увлекали люди, – заявил Робер.
– Может быть, – отвечал Винцент, – это объясняется тем, что вы считаете, будто люди слишком отличаются от животных. Нет ни одного крупного открытия в зоотехнике, которое не способствовало бы познанию человека. Тут все соприкасается, все связано одно с другим, и я думаю, что для романиста, который мнит себя хорошим психологом, никогда не проходит безнаказанно его невнимание к природе и незнание ее законов. В «Дневнике» Гонкуров, который вы дали мне почитать, я наткнулся на рассказ о посещении братьями естественно-научных галерей зоопарка, где ваши очаровательные авторы жалуются на недостаток воображения у природы. Эта жалкая хула говорит об ограниченности и непонятливости их крохотных умишек. Напротив, какое разнообразие! Кажется, будто природа перепробовала один за другим все способы быть живой, развиваться, использовала все возможности материи и ее законов. Какой урок кроется в последовательном отказе от некоторых неразумных и неизящных палеонтологических начинаний! Какую экономию сделало возможным существование определенных форм! Внимательное их изучение объясняет мне заброшенность других форм. Даже ботаника может быть поучительной для нас. Когда я рассматриваю ветку дерева, то замечаю, что у черенка каждого листа ютится почка, способная через год, в свою очередь, дать росток. Когда я наблюдаю, что из множества почек распускаются самое большее две, которые благодаря самому своему произрастанию обрекают на истощение все прочие, я не могу удержаться от мысли, что так же точно бывает у человека. Произрастающие почки – это, понятно, всегда верхушечные почки, иными словами: наиболее удаленные от семейного ствола. Лишь подрезание или загибание, заставляя сок течь обратно, приводит к оживлению почек, расположенных поблизости от ствола, которые без этой операции не развились бы. Таким способом обращают во фруктовые деревья самые упрямые породы, которые, будучи предоставлены самим себе, произвели бы, несомненно, одну листву. Ах какая прекрасная школа – плодовый сад! И какими прекрасными педагогами могли бы быть многие садоводы! Достаточно самой малой наблюдательности, чтобы на птичьем дворе, на псарне, в аквариуме, в кроличьем садке, в хлеву приобрести гораздо больше знаний, чем мы получаем из книг и даже, поверьте мне, из общения с людьми, у которых все в большей или меньшей степени фальсифицировано.
Потом Винцент заговорил об отборе. Он изложил метод, обычно практикуемый экспериментаторами для получения наилучших сеянцев, – выбор ими самых крепких экземпляров; он перешел далее к экспериментальным прихотям одного садовода-фантазера, который из отвращения к рутине – можно сказать даже, бросив ей вызов, – решился, наоборот, подобрать самые хилые экземпляры, и какого бесподобного цветения он добился.
Робер, который сначала слушал Винцента вполуха, как человек, не ожидающий ничего, кроме скуки, больше не пытался его перебивать. Внимание Робера восхищало Лилиан, как дань уважения ее любовнику.
– Ты должен нам рассказать, – обратилась она к нему, – то, что, помнишь, рассказывал мне о рыбах и об их приспособленности к различным степеням солености моря… Правильно я говорю?
– За исключением некоторых регионов, – начал Винцент, – эта степень солености является величиной почти постоянной, и морская фауна выносит обыкновенно лишь самые незначительные отклонения от нормы. Но области, о которых я рассказывал, все же не являются необитаемыми; это, с одной стороны, области, подверженные значительному испарению, которое уменьшает количество воды по отношению к данному количеству соли, а с другой стороны, напротив, области, где постоянный приток пресной воды разбавляет соль и, так сказать, опресняет море, – области, расположенные по соседству от устьев больших рек или от таких мощных морских течений, как, например, Гольфстрим. В этих областях животные, называемые стеногалинными, хиреют и обречены на гибель, так как они не способны тогда защищаться против животных, называемых эвригалинными, и неизбежно становятся их добычей; эвригалинные живут предпочтительно на границах больших течений, где плотность воды неустойчива и куда приплывают в агонии стеногалинные. Вам теперь понятно, не правда ли, что стеногалинные – это те животные, которые переносят только постоянную степень солености. Между тем как эвригалинные…
– Большие пройдохи[23], – перебил Робер, который истолковывал по-своему всякую мысль и обращал внимание во всякой теории лишь на то, что могло ему пригодиться.
– Большинство из них хищники, – серьезным тоном заметил Винцент.
– Ну, разве я не говорила тебе, что это стоит всех романов! – в восхищении вскричала Лилиан.
Винцент, словно преображенный, оставался нечувствителен к своему успеху. Он был необыкновенно серьезен и продолжал более тихим голосом, словно говорил сам с собою:
– Самым удивительным открытием последнего времени – по крайней мере, открытием, которое было для меня наиболее поучительным, – является открытие фосфоресцирующих органов у животных, обитающих в морских глубинах.
– Ах, расскажи нам об этом, – попросила Лилиан, папироса которой погасла, а поданное ей мороженое растаяло.
– Вам, конечно, известно, что дневной свет не проникает на значительную глубину. Кромешная тьма царит в морской глубине… в бездонных пучинах, которые долгое время считались необитаемыми; затем при помощи тралов из этих пучин удалось извлечь каких-то странных животных. Они слепые, как думали первоначально. Зачем им зрение во мраке? Очевидно, у них нет глаз; у них не может, не должно быть глаз. Все же их исследуют и с изумлением констатируют, что у некоторых есть глаза; что глаза есть почти у всех, не считая усиков поразительной чувствительности, которыми они также обладают. Все еще продолжаются сомнения; никак не могут взять в толк: зачем глаза, если ими ничего нельзя видеть? Глаза чувствительны, но чувствительны к чему?.. И вот наконец обнаруживают, что каждое из этих животных, которых первоначально считали слепыми, испускает и излучает перед собой, вокруг себя свой свет. Каждое из них светит, сверкает, каждое лучезарно. Когда, извлеченные из глубин океана, они были брошены ночью на палубу корабля, стало светло, как днем. Движущиеся, мерцающие, разноцветные огни, вращающиеся маяки, сверкание звезд, драгоценных камней, с великолепием которых ничто не может сравниться, – утверждают те, которые их наблюдали.
Винцент замолчал. Они долго сидели, не говоря ни слова.
– Поедем домой, мне холодно, – сказала вдруг Лилиан.
Леди Лилиан села рядом с шофером под защиту ветрового стекла. На задних сиденьях открытого автомобиля мужчины продолжали разговор. В течение почти всего ужина Робер хранил молчание, слушая речи Винцента; теперь наступила его очередь.
– Такие рыбы, как мы, дружище Винцент, гибнут в стоячей воде, – сказал он, хлопнув по плечу своего приятеля. Он позволял себе кое-какие вольности с Винцентом, но не потерпел бы, если бы тот ответил ему тем же; впрочем, у Винцента не было к этому склонности. – Знаете, вы просто ослепительны! Каким превосходным лектором вы могли бы быть! Право, вы должны бросить медицину. Решительно не могу представить себе вас прописывающим слабительное и навещающим больных. Кафедра сравнительной биологии или что-нибудь в этом роде – вот что вам нужно…
– Я уже думал об этом, – сказал Винцент.
– Лилиан, вероятно, сможет добиться ее для вас, возбудив интерес к вашим изысканиям у своего друга князя Монако, который, мне кажется, отнесется сочувственно… Нужно будет поговорить с нею.
– Она уже говорила мне об этом.
– Так, значит, нет решительно никакого способа оказать вам услугу? – спросил он притворно огорченным тоном. – А между тем мне как раз нужно было обратиться к вам с просьбой.
– Теперь ваша очередь быть моим должником. Вы считаете, что у меня короткая память.
– Как! Вы все еще думаете о пяти тысячах франков? Но вы ведь возвратили их мне, дорогой! Вы мне больше ничего не должны… разве немного дружбы. – Он прибавил это тоном почти нежным, положив руку на плечо Винцента. – К ней я и собираюсь воззвать.
– Я слушаю вас, – сказал Винцент.
Но тут Пассаван вскричал, приписывая Винценту свое нетерпение:
– Куда вы торопитесь! Париж еще далеко, и время у нас есть, я полагаю.
Пассаван отличался особенной ловкостью по части взваливания на других ответственности за собственные выходки и за все, в чем он предпочитал не быть замешанным. Затем, притворившись, будто переходит к другой теме, – как те ловцы форели, которые из боязни вспугнуть свою добычу закидывают приманку подальше, а потом незаметно подтягивают ее, – он сказал:
– Кстати, благодарю вас за приглашение, которое вы передали вашему брату. Я боялся, что вы забудете.
Винцент махнул рукой. Робер продолжал:
– Видели вы его после?.. Не успели, да?.. В таком случае странно, что вы еще не спросили меня о нашем разговоре. В сущности, это для вас безразлично. Вы совершенно не интересуетесь вашим братом. Что думает Оливье, что он чувствует, кто он и кем хотел бы стать, – вам нет до этого никакого дела…
– Что это? Упреки?
– Увы, да. Я не понимаю, не признаю вашего равнодушия. Когда вы лежали больной в По – еще куда ни шло, вам приходилось думать только о себе самом. Эгоизм входил в ваше лечение. Но теперь… Как! Подле вас находится это юное, трепетное существо, этот пробуждающийся ум, столько обещающий, который лишь нуждается в совете, в опоре…
Он позабыл в этот момент, что у него тоже есть брат.
Винцент, однако, не попался на удочку: преувеличенное негодование Робера внушило ему подозрение, что оно не очень искренно и что Пассаван замышляет совсем другое. Он молчал, ожидая, что будет дальше. Но Робер внезапно замолчал; при свете огонька папиросы, которую курил Винцент, он подметил у того на губах странную улыбку, и она показалась ему иронической; между тем больше всего на свете Пассаван боялся насмешки. Не это ли обстоятельство заставило его переменить тон? Или, скорее, невольное предчувствие, что они с Винцентом в некоем сговоре… Поэтому он продолжал как нельзя более естественным тоном, в котором слышалось: «С вами не нужно притворяться!»
– Так вот! С юным Оливье я имел приятнейший разговор. Этот мальчик мне чрезвычайно нравится.
Пассаван старался поймать взгляд Винцента (ночь была не слишком темная), но последний пристально смотрел перед собой.
– Ну вот, мой дорогой Молинье, та маленькая услуга, о которой я хотел просить вас…
Но и тут он ощутил необходимость сделать паузу и, так сказать, перестать играть свою роль, наподобие актера, твердо уверенного, что он приковывает к себе внимание публики, и желающего доказать это и себе, и ей. Он наклонился к Лилиан и сказал очень громко, словно желая оттенить доверительный характер того, что было им сказано, и того, что он намеревался сказать:
– Вы уверены, дорогая, что не простудитесь? У нас здесь есть плед, который лежит без дела…
Потом, не дожидаясь ответа, откинулся назад, в глубину автомобиля, и заговорил, снова понизив голос:
– Так вот: я хотел бы увезти с собою на лето вашего брата. Да, говорю вам это без обиняков: зачем лишние слова, когда мы говорим с глазу на глаз?.. Я не имею чести быть знакомым с вашими родителями, которые, разумеется, не позволят Оливье отправиться вместе со мной, если вы не похлопочете за меня. Вы, без сомнения, найдете средство расположить их в мою пользу. Я полагаю, что вы хорошо знаете их и сумеете, вероятно, к ним подойти. Не будете ли вы столь любезны сделать это для меня?
Он подождал минуту, затем – так как Винцент молчал – продолжал:
– Послушайте, Винцент… Я скоро покидаю Париж… уезжаю, пока не знаю куда. Мне совершенно необходимо взять с собою секретаря… Вы ведь знаете, я основываю журнал. Я говорил об этом Оливье. Мне кажется, у него есть все нужные качества… Но я не хочу становиться лишь на свою эгоистическую точку зрения: мне кажется, все его качества найдут применение в журнале. Я предложил ему место главного редактора… Быть главным редактором журнала в его возрасте!.. Согласитесь, что это не каждый день случается.
– Это до такой степени необычно, что боюсь, как бы ваше предложение не напугало моих родителей, – сказал Винцент, повернувшись наконец к нему и пристально на него глядя.
– Да, по-моему, вы правы. Может быть, лучше не говорить об этом. Просто вы могли бы разъяснить им интерес и пользу путешествия, которое я собираюсь устроить ему, как вы думаете? Ваши родители должны понимать, что в его возрасте необходимо свет поглядеть. Так вы уладите дело с ними, а?
Он перевел дыхание, закурил новую папиросу, затем продолжал, не меняя тона:
– Так как, я надеюсь, вы окажете мне эту любезность, то и я постараюсь отплатить вам тем же. Я думаю, что мне удастся сделать вас участником кое-каких барышей, которые можно будет получать в одном предлагаемом мне совершенно исключительном деле… один мой приятель, занимающий высокое положение в крупном банке, приберегает акции этого предприятия для своих близких друзей. Но прошу вас, чтобы наш разговор остался между нами, ни слова Лилиан. Во всяком случае, я располагаю только весьма ограниченным числом акций; и не могу предложить участие в деле ей и вам одновременно… Что выигранные вами вчера пятьдесят тысяч франков?..
– Я уже пристроил их, – отрезал Винцент довольно сухо, вспомнив о предупреждении Лилиан.
– Отлично, отлично… – поспешно заметил Робер несколько обиженным тоном. – Я не настаиваю. – Затем тоном, в котором звучало: «Я не способен сердиться на вас», сказал: – Если вы почему-либо передумаете, черкните мне словечко… ибо послезавтра, в пять часов вечера, будет уже поздно.
Винцент стал еще больше восхищаться графом де Пассаваном после того, как перестал принимать его всерьез.
XVIII
Дневник Эдуарда
2 часа
Потерять чемодан. Вот так история! Из всего его содержимого я дорожил только своим дневником. Но я слишком дорожил им. В сущности, меня сильно забавляет это приключение. Все же я желал бы снова стать обладателем моих бумаг. Кто их прочтет?.. Может быть, я преувеличиваю их важность после того, как их потерял. Этот дневник прерывается в момент моего отъезда в Англию… Там я вел записи в другой тетради; теперь, вернувшись во Францию, я оставляю ее. Новая, в которой я пишу это, еще не скоро покинет мой карман. Это – зеркало, которое я всегда ношу с собой. Все, что со мной происходит, приобретает для меня реальное существование лишь тогда, когда я увижу его отражение в этом зеркале. Но после возвращения я, похоже, нахожусь в каком-то сне. Как тягостен был этот разговор с Оливье! А я надеялся, что он принесет мне столько радости… О, если бы он остался так же мало удовлетворенным, как и я; так же мало удовлетворенным и собой, и мной. Я не сумел ни сам вести разговор – увы! – ни заставить его говорить. Ах, как трудно произнести самое незначительное слово, когда оно требует полного одобрения другого существа! Достаточно замешкаться сердцу, и оно отягчает и парализует мозг.
7 часов
Мой чемодан найден; или, по крайней мере, нашелся его похититель. Он является самым близким другом Оливье – вот что заплетает между нами своего рода сеть, и дело только за мной затянуть потуже петли. Худо то, что всякое неожиданное событие до такой степени забавляет меня, что я теряю из виду цель, к которой стремлюсь. Виделся с Лаурой. Мое желание оказать услугу обостряется всякий раз, когда я встречаюсь с каким-нибудь затруднением, когда приходится бороться с приличиями, банальностью и привычками.
Визит к старику Лаперузу. Мне открыла госпожа Лаперуз. Я не видел ее уже больше двух лет, однако она меня сразу узнала. (Не думаю, чтобы к ним часто приходили гости.) Впрочем, она сама очень мало изменилась; может быть, оттого, что я питаю предубеждение к ней, черты ее лица показались мне более жесткими, взгляд фальшивей, чем когда-либо.
– Боюсь, что господин Лаперуз не в состоянии принять вас, – сказала она мне тотчас же, с явным намерением не допускать меня к старику; затем, пользуясь своей глухотой, стала отвечать на вопросы, которые я ей не задавал: – Да нет же, нет, вы мне нисколько не помешали. Входите, пожалуйста.
Она ввела меня в комнату с двумя окнами во двор, в которой Лаперуз обыкновенно давал свои уроки. Не успел я сесть, как она затараторила:
– Я страшно рада, что могу поговорить с вами несколько минут наедине. Состояние здоровья господина Лаперуза, ваша старинная и преданная дружба с которым мне известна, сильно меня тревожит. Он так слушается вас: не могли бы вы убедить его, чтобы он больше заботился о себе! Что до меня, то все, что я ему твержу, производит на него не больше впечатления, чем песенка о Мальбруке.
И она пустилась в бесконечные упреки: старик отказывается от всяких забот о своем здоровье лишь из потребности мучить ее. Он делает все, чего ему не следовало бы делать, и не делает ничего, что ему необходимо. Выходит в любую погоду и ни за что не соглашается повязать шею платком. Ничего не ест за обедом и завтраком: «он, видите ли, не чувствует голода», и она не знает, что придумать, чтобы у него появился аппетит; но ночью встает с постели и наспех стряпает себе бог знает что.
Старуха, наверное, ничего не выдумывала; мне становилось понятно из ее рассказа, что лишь превратное толкование мелких безобидных поступков сообщало им в ее глазах оскорбительное значение, было понятно, какую чудовищную тень отбрасывала действительность в этом убогом умишке. Но не истолковывал ли превратно также и старик всей заботливости, всего внимания, которым окружала его старуха, считавшая себя жертвой? Не был ли он ее палачом? Я отказываюсь судить их, отказываюсь их понимать; или, вернее, как это всегда случается со мною, чем лучше я их понимаю, тем более терпимо я отношусь к ним. Остается факт, что два существа связаны друг с другом на всю жизнь и причиняют друг другу жесточайшие страдания. Я часто замечал, какое крайнее раздражение вызывает у одного из супругов малейшее проявление характера другого, ибо в «совместной жизни» это проявление характера всегда вызывает трение. И если трение обоюдно, то супружеская жизнь превращается в ад.
В своем парике с черными лентами, который придавал жесткость чертам ее бескровного лица, со своими длинными черными митенками, откуда, как когти, высовывались маленькие пальцы, госпожа Лаперуз имела вид гарпии.
– Он упрекает меня, что я слежу за ним, – продолжала она. – У него всегда была потребность долго спать, но ночью он притворяется спящим и, когда ему кажется, что я уснула, встает, роется в старых бумагах, иногда засиживается до утра, перечитывая со слезами на глазах старые письма своего покойного брата. Он хочет, чтобы я терпела все это не жалуясь!
Потом она стала жаловаться, что старик решил упрятать ее в богадельню; это было бы для нее тем более тяжело, прибавила она, что он совершенно не способен жить один и обходиться без ее забот. Все это было сказано слезливым тоном, который отдавал лицемерием.
В то время как она продолжала изливать свои сетования, дверь гостиной тихонько открылась за ее спиной и в комнату, неслышно для нее, вошел Лаперуз. При последних фразах супруги он посмотрел на меня с иронической улыбкой и поднес палец ко лбу, давая мне понять, что я имею дело с сумасшедшею. Затем с нетерпением и даже грубостью, на которую я не считал его способным и которая, казалось, оправдывала обвинения старухи (но объяснялась также необходимостью говорить настолько громко, чтобы она могла услышать его):
– Хватит, сударыня! Вы должны бы понять, что утомляете гостя вашей болтовней. Не вас пришел навестить мой друг. Оставьте нас.
Тогда старуха запротестовала, утверждая, что кресло, в котором она сидела, принадлежит ей и она не покинет его.
– В таком случае, – саркастически продолжал Лаперуз, – если вы позволите, уйдем мы. – Затем, обращаясь ко мне, сказал совсем мягко: – Пойдемте! Оставим ее.
Я в смущении отвесил старухе поклон и последовал за ним в соседнюю комнату, ту самую, где он принимал меня последний раз.
– Я рад, что вы имели возможность выслушать ее, – сказал он. – Да! Вот так целыми днями.
Он закрыл окна.
– Из-за уличного шума ничего не слышно. Я только тем и занимаюсь, что закрываю эти окна, которые госпожа Лаперуз беспрестанно снова распахивает. Ей все кажется, что она задыхается. Вечно она преувеличивает. Она отказывается понимать, что на дворе жарче, чем в комнате. Я нарочно повесил там маленький термометр, но, когда я ей показываю его, она говорит, что цифры ничего не доказывают. Она хочет быть правой, даже когда знает, что не права. Главная цель ее жизни – возражать мне.
Во время его речи мне показалось, что у него тоже не все в порядке; он продолжал, все больше возбуждаясь:
– Все, что госпожа Лаперуз делает в жизни шиворот-навыворот, она приписывает мне. Все ее суждения превратны. Слушайте, я дам вам наглядное пояснение моей мысли; вы знаете, что изображения внешнего мира получаются в нашем мозгу в опрокинутом виде и там уже нервный аппарат их выпрямляет. Так вот – у госпожи Лаперуз нет такого аппарата. У нее все остается вверх ногами. Можете себе представить, как это тяжко.
Он испытывал явное облегчение от этих объяснений, и я решил не прерывать его. Он продолжал:
– Госпожа Лаперуз всегда очень много ела. И вот представьте, она уверяет, будто это я много ем. Едва она увидит меня с куском шоколада (это моя главная пища), как сейчас же начинает ворчать: «Вечно он жрет!..» Она подглядывает за мной. Она ставит мне в вину то, что я встаю ночью с постели, чтобы украдкой поесть, она, видите ли, однажды поймала меня за приготовлением чашки шоколаду на кухне… Но что поделаешь? Видеть за столом, как она тут же, у вас под носом, набрасывается на еду, – воля ваша, это лишает меня всякого аппетита. Тогда она уверяет, словно я привередничаю из потребности ее мучить.
Он перевел дыхание и продолжал в каком-то лирическом порыве:
– Я в восторге от упреков, которые она мне делает!.. Так, когда она страдает от ломоты в пояснице, я жалею ее. Тогда она обрывает меня и, пожимая плечами, говорит: «Пожалуйста, не притворяйтесь, будто у вас есть сердце». Все мои поступки и слова объясняются желанием причинить ей страдание.
Мы сидели; но он то и дело вскакивал и тотчас же садился, охваченный каким-то болезненным возбуждением:
– Можете себе вообразить, что в каждой из этих комнат есть ее мебель и есть мебель моя! Вы только что слышали, как она говорила о своем кресле. Она обращается к приходящей горничной, когда та делает уборку: «Нет, это стул барина, не троньте его». И когда однажды я по рассеянности положил нотную тетрадь на ее столик, госпожа Лаперуз швырнула ее на пол. Уголки переплета сломались… О, долго так продолжаться не может… Но слушайте…
Он схватил меня под руку и понизил голос:
– Я принял меры. Она постоянно грозит мне, что, «если я буду продолжать», она найдет пристанище в богадельне. Я прикопил некоторую сумму, которой должно хватить на ее содержание в Сент-Перин; говорят, это одно из лучших заведений. Те несколько уроков, что я еще даю, почти не приносят мне дохода. Скоро мои ресурсы иссякнут; мне пришлось бы тогда прикоснуться к этой сумме, а я не хочу. Тогда я принял решение… Это произойдет через каких-нибудь три месяца. Да, я наметил дату. Если бы вы знали, какое облегчение я испытываю при мысли, что каждый час отныне приближает меня к ней.
Он сидел, наклонившись ко мне; теперь склонился еще ближе:
– Я отложил также несколько ценных бумаг. О, не бог весть что, но большего сделать не мог. Госпожа Лаперуз не знает об этом. Они в моем письменном столе, в конверте на ваше имя, с соответствующими распоряжениями. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Я ничего не смыслю в делах, но один нотариус, с которым я говорил, сказал, что ренту можно будет выплачивать непосредственно моему внуку, вплоть до его совершеннолетия, и что тогда он вступит во владение ценными бумагами. Я подумал, вас не очень затруднит, если я попрошу вас, в качестве старого друга, понаблюдать, чтобы все это было исполнено? Я так мало доверяю нотариусам! Может быть, даже, для моего спокойствия, вы согласитесь взять с собой этот конверт сегодня?.. Да, не правда ли?.. Сию минуту я принесу его вам.
Он вышел, по обыкновению семеня, и вскоре снова появился с большим конвертом в руках.
– Извините, что я запечатал его, это для формы. Возьмите.
Я взглянул на него и прочел под моей фамилией каллиграфически выведенную надпись: «Вскрыть после моей смерти».
– Скорее спрячьте его в карман, чтобы я знал, что он в безопасности. Спасибо… Ах, я так ждал вас!..
Я часто испытывал такие торжественные минуты, когда всякое человеческое чувство может уступить у меня место какому-то почти мистическому трансу, своего рода восторгу, под действием которого мое существо превосходит себя или, точнее, освобождается от эгоистических привязанностей, как бы отрывается от самого себя и обезличивается. Тот, кто не испытал этого, не может, разумеется, понять меня. Но я чувствовал, что Лаперуз понимает это. Всякий протест с моей стороны был бы бесполезен, показался бы мне неприличным, и я ограничился крепким пожатием руки, которая была в моей. Глаза его странно блестели. В другой руке, в которой только что был конверт, он держал другую бумагу.
– Я написал здесь его адрес. Потому что теперь я знаю, где он. Саас-Фе. Знаете такое место? Это в Швейцарии. Я искал на карте, но не мог найти.
– Да, – отвечал я. – Это маленькая деревушка подле Сервена.
– Очень далеко отсюда?
– Не настолько, чтобы я не мог добраться туда в случае надобности.
– Как! Вы бы сделали это?.. Ах, как вы добры, – пробормотал он. – Ну а я слишком стар. Кроме того, я не могу из-за матери… Все же мне кажется, я… – Он замялся, подыскивая слово, затем закончил: – Я охотно отправился бы туда, если бы мог его повидать.
– Мой бедный друг… Я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы привезти его сюда. Вы увидите маленького Бориса, обещаю вам.
– Спасибо… спасибо… – Он порывисто сжал меня в объятиях.
– Но обещайте мне не думать больше о…
– Ах, это другое дело, – сказал он, резко прерывая меня. И, словно желая помешать моим возражениям, отвлекая мое внимание, поспешно перевел разговор на другую тему: – Представьте себе, что недавно мать одной из моих прежних учениц вздумала сводить меня в театр! Это было около месяца тому назад. Шел утренний спектакль в «Комеди Франсез». Уже более двадцати лет, как я не переступал порога театрального зала. Давали «Эрнани» Виктора Гюго. Вы знаете эту вещь? По-видимому, спектакль был сыгран очень хорошо. Публика была в восторге. Я же невыразимо страдал. Если бы меня не удержали приличия, никогда бы я не высидел до конца… Мы сидели в ложе.
Друзья мои старались успокоить меня. Я готов был обратиться к публике. Ах, как они могут? Как они могут?..
Не поняв сначала, на что он, собственно, негодовал, я спросил:
– Вы сочли, что актеры плохи?
– Разумеется. Но как решаются ставить подобные мерзости на сцене?.. А публика аплодировала! И в театре были дети, дети, которых привели с собой родители, зная содержание пьесы… Это чудовищно. И это в театре, который субсидирует государство!
Негодование этого превосходного человека развеселило меня. Я чуть было не расхохотался и возразил, что не может быть драматического искусства без изображения страстей. В свою очередь, он возразил мне, что изображение страстей фатально подает дурной пример. Так мы спорили какое-то время; я сравнил тогда патетический элемент драмы со вступлением духовых в оркестре:
– Например, это вступление тромбонов, которым вы так восхищаетесь в симфониях Бетховена…
– Но я вовсе не восхищаюсь этим вступлением тромбонов! – вскричал он с необыкновенной горячностью. – Почему вы хотите заставить меня восхищаться тем, что меня волнует?
Он дрожал всем телом. Нота негодования, почти враждебности в его голосе была для меня неожиданностью и, казалось, удивила его самого, потому что он продолжал более спокойно:
– Заметили ли вы, что современная музыка стремится главным образом к тому, чтобы сделать сносными и даже приятными известные аккорды, которые мы изначально считали диссонансами?
– Разумеется, – отпарировал я, – все должно в заключение свестись к гармонии, слиться в гармонию.
– В гармонию! – повторил он, пожав плечами. – Я не вижу в этом ничего, кроме желания приучить ко злу, к греху. Чувствительность притупляется; чистота тускнеет; реакции становятся менее живыми; все терпят, все принимают…
– Послушать вас, так не решишься даже отнимать детей от груди.
Но он продолжал, не слушая меня:
– Если бы люди были способны снова исполниться нетерпимостью юности, то пришли бы в ярость, увидев, во что они превратились.
Было уже слишком поздно, чтобы пускаться в метафизический спор; я сделал попытку снова перевести разговор на более близкую для него тему:
– Не стремитесь же вы ограничить музыку выражением только светлой радости? В этом случае было бы достаточно единственного аккорда – непрерывного совершенного аккорда.
Он сжал обе мои руки, в его взгляде светилось безграничное благоговение, и, словно в экстазе, он повторил несколько раз:
– Непрерывный совершенный аккорд, да, именно совершенный, непрерывный, гармонический аккорд… Но вся наша вселенная во власти диссонансов, – прибавил он печально.
Я попрощался с ним. Он проводил меня до двери и, поцеловав, пробормотал:
– Ах, как долго еще нужно ждать разрешения аккорда.
Часть вторая СААС-ФЕ
I
Письмо Бернара к Оливье
Понедельник
«Дружище!
Позволь прежде всего сообщить тебе, что я провалил выпускные экзамены. Ты, конечно, и сам поймешь это, когда не увидишь меня на них. Я буду держать их в октябре. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я ухватился за него и не раскаиваюсь. Нужно было принять решение мгновенно. У меня не было времени подумать и даже попрощаться с тобой. По этому поводу мне поручено моим спутником по путешествию выразить тебе всяческие сожаления, что и он уехал, не повидавшись с тобою. Ведь ты знаешь, кто меня увез? Или догадываешься… Эдуард, твой знаменитый дядя, которого я встретил в день его приезда в Париж, при обстоятельствах весьма необычных и пикантных, о которых расскажу тебе потом. Но все необыкновенно в этом приключении, и, когда я мысленно возвращаюсь к нему, голова у меня идет кругом. Еще сегодня я не смею верить, что это правда, что я пишу тебе эти строки, находясь в Швейцарии с Эдуардом и…
Но непременно нужно рассказать тебе все; только ты пожалуйста, разорви мое письмо и никому ничего не рассказывай.
Представь себе, что несчастная женщина, покинутая твоим братом Винцентом, та самая, чьи рыдания ты слышал однажды ночью под дверью твоей комнаты (ты был идиотом, что не открыл ей тогда, позволь заметить), оказывается большим другом Эдуарда, родной дочерью Веделя, сестрой твоего приятеля Армана. Мне не следовало бы рассказывать тебе это, потому что тут речь идет о чести женщины, но я сдохну, если ни с кем не поделюсь своим открытием… Еще раз прошу: никому об этом ни слова. Тебе уже известно, что она недавно вышла замуж; может быть, известно также, что вскоре после свадьбы она заболела и отправилась лечиться на юг. Там она познакомилась с Винцентом, в По, где он тоже лечился. Это, может быть, известно тебе. Но тебе неизвестно, что эта встреча имела последствия. Да, дружище! Твой чертовски неуклюжий братец сделал ей ребенка. Она возвратилась беременной в Париж, где не посмела показаться родителям; у нее совсем не было смелости возвратиться под супружеский кров. Между тем твой брат бросил ее при обстоятельствах, которые тебе известны. Я избавлю тебя от комментариев, но могу сказать, что Лаура Дувье не произнесла ни слова упрека и не затаила никакой неприязни против него. Напротив, она старается всячески оправдать его поведение. Словом, это достойная женщина, добрейшая душа. Положительно превосходным человеком является и Эдуард. Так как она не знала, что делать и куда направиться, то он предложил взять ее с собой в Швейцарию; одновременно он предложил мне сопровождать их, потому что для него было стеснительно путешествие наедине с ней, поскольку он питает к ней лишь братские чувства. Итак, мы отправились втроем. Все это было решено в каких-нибудь пять минут; времени хватило только на то, чтобы уложить чемоданы и снабдить меня самым необходимым (ты ведь знаешь, я покинул дом, не взяв с собой ничего). Ты не можешь себе представить, как был мил Эдуард при этом; больше того, он беспрестанно повторял, что это я оказываю ему услугу. Да, старина, ты не солгал мне: твой дядя восхитительный тип. Путешествие было довольно тяжелое, потому что оно очень утомило Лауру и ее состояние (она на третьем месяце беременности) требовало весьма бережного отношения к ней; кроме того, доступ к месту, куда мы решили отправиться (по причинам, которые было бы слишком долго излагать тебе), довольно затруднен. Вдобавок Лаура часто усложняла положение, отказываясь быть осторожной, приходилось ее оберегать; она все время повторяла, что больше всего была бы рада несчастной случайности. Можешь себе представить, как мы заботились о ней! Ах, друг мой, какая удивительная женщина! Я чувствую, что я уже не тот, каким был до знакомства с ней, и есть мысли, которые я не решаюсь больше высказывать, есть движения сердца, которые я обуздываю, ибо мне было бы стыдно не быть достойным ее. Да, уверяю тебя, возле нее чувствуешь, что обязан мыслить возвышенно. Это не мешает большой непринужденности наших совместных разговоров, потому что Лаура совсем не жеманница, и мы говорим о всякой всячине; но уверяю тебя, что в ее присутствии у меня пропадает всякая охота легкомысленно болтать о множестве вещей, которые кажутся мне сейчас очень серьезными.
Ты подумаешь, пожалуй, что я влюблен в нее. Представь себе, дружище, ты не ошибешься. Это сумасшествие, не правда ли? Я влюблен в беременную женщину, к которой, понятно, отношусь с почтением и которой не осмелился бы коснуться кончиком пальца! Ты видишь, у меня нет склонности быть ловеласом…
Когда после бесчисленных затруднений мы прибыли наконец в Саас-Фе (мы наняли для Лауры портшез, потому что экипажи не могут сюда добираться), то оказалось, что в гостинице нам могут быть предоставлены всего две комнаты – большая, с двумя кроватями, и маленькая, которую, по мнению хозяина гостиницы, удобно было бы взять мне, – потому что для сокрытия своей фамилии Лаура выдает себя за жену Эдуарда; но каждую ночь она отправляется в маленькую комнату, а я иду к Эдуарду. Каждое утро все перетаскивается, чтобы запутать прислугу. К счастью, комнаты смежные, что упрощает дело.
Вот уже шесть дней, как мы здесь; я не написал тебе раньше, потому что первое время был совсем выбит из колеи и мне понадобилось несколько дней на приведение в порядок моих мыслей и чувств. Только сейчас я начинаю приходить в себя.
Я уже совершил с Эдуардом несколько маленьких экскурсий в горы; весьма занятно; но, по правде говоря, окружающая местность мне не особенно нравится; Эдуарду тоже. Он находит, что пейзаж «выспренний». Сказано верно.
Самое лучшее здесь воздух, которым дышишь; воздух девственный и очищающий легкие. Притом же мы не хотим слишком надолго оставлять Лауру одну, так как, само собой разумеется, она не может нас сопровождать. Общество в гостинице довольно занятное. Есть представители всех национальностей. Особенно часто мы бываем у одной польки, женщины-врача, которая проводит здесь каникулы с дочерью и мальчиком, вверенным ее попечению. Собственно, ради этого ребенка мы и забрались сюда. Он страдает какой-то нервной болезнью, которую докторша лечит по совсем новому методу. Но больше всего пользы приносит малышу – честное слово, очень симпатичному – его безумная влюбленность в дочку докторши, которая на несколько лет старше его и, несомненно, является самым красивым созданием, какое только я видел когда-нибудь в своей жизни. С утра до вечера они неразлучны. Они так милы, что ни у кого не возникает желания зубоскалить по поводу их отношений.
Занимался я мало и не раскрыл ни одной книги со времени отъезда; но я много размышлял. Разговоры с Эдуардом ужасно интересны. Он редко беседует непосредственно со мной, хотя делает вид, будто считает меня своим секретарем; но я слушаю, как он говорит с другими, в особенности с Лаурой, которой он любит рассказывать о своих замыслах. Ты не можешь себе представить, какую пользу мне это приносит. В иные дни я говорю себе, что мне следовало бы делать записи; но я уверен, что все запоминаю. В иные дни я страстно желаю видеть тебя; я говорю себе, что именно тебе следовало бы находиться здесь; но я не в силах ни сожалеть о том, что приключилось со мною, ни желать какого-либо изменения в моем положении. Будь уверен, я не забываю, что лишь благодаря тебе познакомился с Эдуардом и обязан моим счастьем. Когда ты снова увидишь меня, то, я убежден, найдешь меня изменившимся; но больше, чем когда-либо, я остаюсь твоим преданным другом.
Среда
P. S. Только что мы возвратились из одной дальней экскурсии. Восхождение на Алален – проводники в одной связке с нами, ледники, пропасти, снежные лавины и т. д. Ночевали в палатке среди снегов, сбившись в кучу с другими туристами; нечего и говорить, что всю ночь мы не сомкнули глаз. На другой день отправились в путь до рассвета… Знаешь, старина, не стану больше пренебрежительно отзываться о Швейцарии: когда побываешь на вершинах гор, оставив внизу всякую культуру, растительность, все, что напоминает о людской жадности и глупости, то появляется желание петь, смеяться, плакать, летать, смотреть только в небо или упасть на колени. Целую тебя.
Бернар».
Бернар был слишком непосредствен, слишком естествен, слишком чист, он очень плохо знал Оливье, чтобы предвидеть бурю низких чувств, которую это письмо должно было поднять в груди последнего, душевное смятение, в котором перемешивались досада, отчаяние и бешенство. Оливье почувствовал себя вытесненным и из сердца Бернара, и из сердца Эдуарда. Дружба двух его друзей вытеснила его дружбу. Одна фраза из письма Бернара причиняла ему особенные страдания – фраза, которую Бернар никогда бы не написал, если бы предчувствовал все, что Оливье может в ней усмотреть. «В одной комнате», – повторял он, и отвратительная змея ревности зашевелилась в его душе. «Они спят в одной комнате!..» Каких только картин не способно нарисовать воображение! Мозг его наполнился нечистыми видениями, которые он даже не пытался прогнать. Он не ревновал ни Эдуарда, ни Бернара, взятых порознь, – он ревновал их обоих. Он представлял их себе поочередно или одновременно и завидовал им обоим. Письмо было получено им в полдень. «Ах вот как…» – повторял он себе весь остаток дня. Ночью демоны посетили его. Наутро он поспешил к Роберу. Граф де Пассаван ждал его.
II
Дневник Эдуарда
Я без труда разыскал маленького Бориса. На другой день после нашего приезда он вышел на террасу отеля и стал смотреть на горы через укрепленную на штативе подзорную трубу, предоставленную в распоряжение путешественников. Я сразу его узнал. Вскоре к нему подошла девочка, ростом чуть повыше. Я расположился в смежной комнате, стеклянная дверь которой была открыта, и слышал каждое их слово. У меня было сильное желание заговорить с ним, но я счел более благоразумным завязать сначала знакомство с матерью девочки, врачом-полькой, попечению которой вверен Борис и которая очень бдительно за ним наблюдает. У маленькой Брони вид изысканный; ей, должно быть, лет пятнадцать. Ее густые светлые волосы заплетены в две косы, спадающие до пояса; ее взгляд и звук ее голоса кажутся скорее ангельскими, чем человеческими. Я записал разговор, который вели дети.
– Борис, мама не разрешает нам трогать трубу. Хочешь, пойдем погулять?
– Да, очень хочу. Нет, не хочу.
Две эти фразы он выпалил одним духом. Броня приняла во внимание только вторую и спросила:
– Почему?
– Очень жарко и холодно. – Он оставил трубу.
– Послушай, Борис, будь милым. Ты знаешь, что маме будет приятно, если мы пойдем вместе. Куда ты дел шляпу?
– Выброскоменопатов. Блаф блаф.
– Что это значит?
– Ничего.
– Так зачем ты так говоришь?
– Чтобы ты не поняла.
– Если это ничего не означает, мне все равно, пойму я или нет.
– Но если бы это что-нибудь значило, ты бы все равно не поняла.
– Разговаривают для того, чтобы понять друг друга.
– Хочешь, будем придумывать слова, которые понятны только нам двоим?
– Научись сначала правильно говорить по-французски.
– Моя мама говорит по-французски, по-английски, по-романски, по-русски, по-турецки, по-польски, по-италосконски, по-испански, по-попугайски и по-скиситуски.
Все это было сказано скороговоркой в лирическом порыве.
Броня рассмеялась:
– Борис, почему ты все время говоришь неправду?
– Почему ты никогда не веришь тому, что я говорю?
– Я верю тому, что ты говоришь, когда это правда.
– Почем ты знаешь, что это правда? Ведь я же поверил тебе позавчера, когда ты мне рассказала об ангелах. Скажи, Броня, как ты думаешь: если я горячо помолюсь, то увижу их?
– Ты, может быть, увидишь их, если отучишься от привычки лгать и если Бог захочет их тебе показать; но Бог их тебе не покажет, если ты ограничишься одной молитвой. Есть много прекрасных вещей, которые мы видели бы, если бы не были так злы.
– Броня, ты не злая, поэтому ты можешь видеть ангелов. А я всегда буду злым.
– Почему же ты не стараешься не быть злым? Хочешь, мы пойдем вместе до… – здесь следовало название места, которого я не знал, – и там помолимся Богу и Пресвятой Деве, чтобы они помогли тебе перестать быть злым?
– Да. Нет, послушай: мы возьмем палку, ты будешь держать ее за один конец, а я за другой. Я закрою глаза и обещаю тебе не открывать их, пока мы не придем туда.
Они немного удалились от меня; когда они спускались по ступенькам террасы, до меня донеслись слова Бориса:
– Да, нет, не за этот конец. Подожди, я его вытру.
– Зачем?
– Я дотронулся до него.
Госпожа Софроницкая подошла ко мне, когда я оканчивал в одиночестве свой завтрак и обдумывал способ завязать с ней разговор. Я с удивлением увидел, что она держала мою последнюю книгу; она спросила меня, улыбаясь самым приветливым образом, действительно ли она имеет удовольствие говорить с ее автором. Затем сейчас же пустилась в долгое рассуждение о моей книге; ее оценка, похвалы и критические замечания показались мне более тонкими, чем те, что мне обыкновенно доводится слышать, хотя ее точка зрения была менее всего литературною. Она сказала, что почти исключительно интересуется психологическими вопросами и тем, что может пролить новый свет на человеческую душу. Но как редко встречаются, прибавила она, поэты, драматурги или романисты, умеющие не довольствоваться готовой психологией (единственной, заметил я ей, которая может удовлетворить читателя).
Маленький Борис был поручен ей на каникулы матерью. Я воздержался от сообщения ей причин, которые заставляли меня интересоваться им.
– Он очень трудный ребенок, – сказала госпожа Софроницкая. – Общество матери оказывает на него дурное влияние. Она выражала желание ехать в Саас-Фе вместе с нами, но я согласилась заняться мальчиком только при условии, если она оставит его всецело на моем попечении; в противном случае я отказывалась брать ответственность за успех моего лечения. Представьте себе, сударь, – продолжала госпожа Софроницкая, – она держит мальчика в состоянии непрерывной экзальтации, что способствует проявлению у него крайне опасных нервных расстройств. После смерти отца ребенка этой женщине приходится зарабатывать себе на кусок хлеба. Она была пианисткой и, должна сказать, отличной исполнительницей, но ее слишком изысканная игра не могла нравиться широкой публике. Тогда она решила петь в концертах, в казино, пойти на подмостки. Она водила с собой Бориса в артистические уборные; мне кажется, что искусственная атмосфера театра сильно содействовала нарушению душевного равновесия ребенка. Мать очень его любит, но, по правде говоря, было бы желательно, чтобы он не жил вместе с ней.
– Что же, собственно, у него за болезнь? – спросил я.
Она рассмеялась:
– Вы хотите знать название болезни? Многое ли для вас прояснится, если я скажу ее красивое ученое название!
– Расскажите мне просто, чем он страдает.
– Он страдает множеством неврозов, тиков, маний, которые заставляют говорить о нем: нервный ребенок, и некоторые обыкновенно лечат покоем на свежем воздухе и гигиеной. Крепкий организм, конечно, не дал бы проявиться этим расстройствам. Хилость благоприятствует им, но не является их непосредственной причиной. Мне кажется, что всегда можно найти их источник в первоначальном нервном потрясении существа, обусловленном каким-нибудь событием, которое важно обнаружить. Как только больной осознал эту причину, он наполовину вылечен. Но эта причина чаще всего ускользает из его памяти; можно сказать, что она прячется в тени болезни; в этом-то убежище я и ищу ее, чтобы вывести на свет, я хочу сказать – в поле зрения. Мне кажется, что ясный взгляд очищает сознание, как луч света оздоровляет зараженную воду.
Я рассказал Софроницкой подслушанный мной накануне разговор, который заставляет меня предположить, что Борис еще далек от выздоровления.
– Я тоже еще далека от знания всех фактов из прошлого Бориса, которые мне следовало бы знать. Слишком недавно я начала лечение.
– В чем оно заключается?
– О, просто в том, чтобы давать ему выговориться. Каждый день я провожу подле него час или два. Я задаю ему несколько вопросов. Самое важное – завоевать его доверие. Мне уже известно многое. Многое я предугадываю. Но мальчик еще упирается, стыдится; если я стану торопить его и слишком сильно настаивать, если захочу грубо добиваться его признания, то сама создам препятствия для получения того, чего я желаю, то есть полной непринужденности. Он заупрямится. Поскольку мне не удастся восторжествовать над его скрытностью, стыдливостью…
Расследование, предпринятое ею, показалось мне до такой степени непозволительным, что я едва сдержал в себе протест, но любопытство превозмогло.
– Не значит ли это, что вы ожидаете от малыша каких-то непристойных признаний?
Теперь пришел ее черед протестовать:
– Непристойных? Здесь не больше непристойности, чем в согласии подвергнуться медицинскому осмотру. Мне нужно знать все, и в частности то, что наиболее тщательно скрывается. Мне нужно довести Бориса до полного признания; не сделав этого, я не в состоянии буду его вылечить.
– Вы подозреваете, следовательно, что у него есть в чем признаться? Вполне ли вы уверены в том, что – извините меня – не внушаете ему этих желательных для вас признаний?
– Мне не следует ни на минуту упускать это из виду; как раз это обстоятельство и заставляет меня действовать так медленно. Мне приходилось наблюдать неискусных судебных следователей, которые, не желая этого, подсказывали ребенку показание, выдуманное от начала до конца, и ребенок под давлением допрашивающих лжет с полным чистосердечием, проникается верой в воображаемые преступления. Моя роль заключается в том, чтобы дожидаться его признаний и решительно ничего не внушать. Для этого нужно обладать необыкновенной выдержкой.
– Я полагаю, что здесь важен не столько метод, сколько талант применяющего метод врача.
– Я не решилась бы утверждать это. Уверяю вас, что после некоторой практики приобретаешь необыкновенную искусность, своего рода прозорливость, интуицию, если угодно. Впрочем, случается иногда идти по ложному следу, в таких случаях важно не упорствовать. Хотите знать, с чего начинаются все наши разговоры? Борис рассказывает, что ему снилось ночью.
– Что же является ручательством, что он не выдумывает?
– А хотя бы даже выдумывал!.. Всякая выдумка болезненного воображения проливает свет.
Она помолчала некоторое время, затем сказала:
– «Выдумка», «болезненное воображение»… Нет, не то. Слова вводят нас в заблуждение. Борис в моем присутствии грезит вслух. Каждое утро он остается в течение часа в состоянии полусна, когда образы, возникающие в нашем сознании, ускользают от контроля рассудка. Они группируются и ассоциируются не по законам обыкновенной логики, но согласно некоему неожиданному родству; они подчиняются главным образом некоторой таинственной внутренней потребности, той самой, что я стремлюсь открыть; и эта беспорядочная болтовня мальчика дает мне гораздо больше, чем мог бы дать самый искусный анализ самого сознательного человека. Множество вещей ускользает от рассудка, и тот, кто, желая понять жизнь, пользуется только рассудком, похож на человека, полагающего, будто он может схватить пламя каминными щипцами. Он схватывает только головешку, которая вскоре гаснет.
Она снова замолчала и начала перелистывать мою книгу.
– Как неглубоко вы проникаете в человеческую душу! – воскликнула она; затем вдруг продолжала, засмеявшись: – О, я не имею в виду именно вас; когда я говорю «вы», то подразумеваю «романисты». Почти все ваши персонажи кажутся построенными на сваях: у них нет ни фундамента, ни подпочвы. Я положительно убеждена, что больше правды можно найти у поэтов; все, созданное только рассудком, лживо. Но я высказываю суждение о вещах, в которых не сведуща… Знаете, что сбивает меня с толку в Борисе? То, что я считаю его существом необыкновенно чистым.
– Почему же это смущает вас?
– Потому что при таких условиях я не знаю, где же искать источник болезни. В девяти случаях из десяти в основе подобного расстройства можно обнаружить большую постыдную тайну.
– Ее, пожалуй, можно обнаружить в каждом из нас, – сказал я, – но, благодарение Богу, она не делает всех нас больными.
В этот момент госпожа Софроницкая встала, увидев в окно проходившую мимо Броню.
– Смотрите, – сказала она, указывая на нее, – вот истинный доктор Бориса. Она ищет меня; я вынуждена оставить вас. Но я еще увижусь с вами, не правда ли?
Я отлично понимаю, какого рода недостатки Софроницкая ставит в упрек роману; но тут от нее ускользают некоторые высшие художественные соображения, вследствие чего я прихожу к мысли, что хороший натуралист не способен сделаться хорошим романистом.
Я познакомил госпожу Софроницкую с Лаурой. По-видимому, они сойдутся друг с другом, и я рад этому. Я с более легким сердцем удаляюсь от их общества, зная, что они болтают друг с другом. Жаль, у Бернара нет здесь сверстников, с кем он мог бы сблизиться; впрочем, подготовка к экзамену должна отнимать у него несколько часов в день. Я получил, таким образом, возможность снова засесть за мой роман.
III
Вопреки первоначальному впечатлению и несмотря на то что каждый, как говорится, шел на уступки, отношения между Эдуардом и Бернаром ладились лишь наполовину. Лаура тоже не чувствовала себя удовлетворенной. Да и как могла бы она почувствовать удовлетворение? Обстоятельства принудили ее взять на себя роль, для которой она не была создана; порядочность Лауры стесняла ее. Подобно всем любящим и покорным созданиям, которые обращаются в преданнейших супруг, она вернее испытывала потребность в соблюдении приличий и чувствовала себя обессиленной, как только была выбита из колеи. Ее положение по отношению к Эдуарду с каждым днем казалось ей все более ложным. Обстоятельством, от которого она особенно страдала и которое становилось для нее положительно невыносимым, едва она задерживала на нем немного свое внимание, было то, что ей приходилось жить на счет своего покровителя, то есть не давая ему ничего взамен; или еще точнее: то, что Эдуард не спрашивал у нее ничего взамен, между тем как она чувствовала себя готовой ради него на все. «Благодеяния, – говорит Тацит в перефразировке Монтеня, – бывают приятны только в тех случаях, когда мы имеем возможность платить тем же»; конечно, это верно лишь по отношению к душам благородным, но Лаура, несомненно, принадлежала к их числу. В то время как она хотела бы отдавать, ей приходилось беспрестанно получать, и это раздражало ее против Эдуарда. Больше того: когда она припоминала прошлое, ей казалось, что Эдуард обманул ее; что он пробудил в ней любовь, которую она до сих пор еще ощущала в себе, а потом увильнул от этой любви и оставил неутоленными чувства Лауры. Не было ли это тайной причиной ее ошибок, брака с Дувье, чему она покорилась и до которого ее довел Эдуард? Причиной того, что она так легко поддалась вскоре после этого зовам весны? Ибо она вынуждена была признаться себе, что в объятиях Винцента искала Эдуарда. И, не будучи в состоянии объяснить себе холодность своего возлюбленного, она возлагала ответственность за это на себя, говорила себе, что могла бы покорить его, если бы была покрасивее и посмелее; не будучи в силах его ненавидеть, она обвиняла себя, уничижалась, считала себя никчемной, не видела смысла в своем существовании и не признавала больше за собой никаких достоинств.
Прибавим еще, что эта бивуачная жизнь, обусловленная расположением комнат, которая могла показаться такой занятной спутникам Лауры, сильно оскорбляла ее стыдливость. И она не видела никакого выхода из своего положения, которое ей было бы очень трудно сносить продолжительное время.
Лишь придумывая по отношению к Бернару все новые обязанности крестной матери и старшей сестры, Лаура получала немного утешения и радости. Она была чувствительна к поклонению, которым окружил ее этот исполненный грации юноша; обожание, предметом которого она была, удерживало ее от презрения и отвращения к себе, что может привести к крайностям самые нерешительные существа. Каждое утро, когда экскурсия в горы не поднимала его до зари (он любил вставать рано), Бернар проводил возле нее целых два часа за чтением по-английски. Экзамен, на который он должен был явиться в октябре, был удобным предлогом.
По правде говоря, его обязанности секретаря не отнимали у него много времени. Они были довольно неопределенными. Бернар, соглашаясь исполнять их, уже воображал себя сидящим за рабочим столом, пишущим под диктовку Эдуарда, переписывающим набело его рукописи. Эдуард ничего не диктовал; рукописи, если только они у него были, оставались запертыми в чемодане; в любой час дня Бернар был свободен; но так как лишь от Эдуарда зависело, использовать ли то рвение, каковое всячески стремилось найти себе применение, то Бернар не слишком был озабочен своей праздностью и тем, что его служебные обязанности не стоят в соответствии с широким образом жизни, который он вел благодаря щедрости Эдуарда. Он твердо решил отбросить всякую щепетильность. Он верил, не решусь сказать, в провидение, но, во всяком случае, в свою звезду и в то, что ему причитается его доля счастья так же, как легким полагается то количество воздуха, которым они дышат; Эдуард одарил его этим счастьем по тому же праву, по какому церковный проповедник согласно Боссюэ одаряет своих слушателей божественной мудростью. Впрочем, теперешний образ жизни Бернар рассматривал как временный, будучи твердо уверен, что настанет день, когда ему представится возможность расквитаться, когда он реализует те богатства, изобилие которых он чувствовал в своем сердце. У него вызывало досаду лишь то обстоятельство, что Эдуард ни разу не пожелал обратиться к дарованиям, которые Бернар ощущал в себе и не обнаруживал у Эдуарда. «Он не умеет использовать меня, – думал Бернар, подавляя самолюбие и благоразумно себя успокаивая. – Тем хуже для него».
Но, в таком случае, откуда могла появиться принужденность в отношениях Эдуарда и Бернара? Бернар, кажется мне, принадлежит к той категории умов, которые приобретают уверенность, противореча чему-нибудь. Для него было невыносимо, чтобы Эдуард приобрел власть над ним, и, не желая подчиниться его влиянию, он брыкался. Эдуард, который вовсе не помышлял сломить его, то раздражался, то приходил в отчаяние, находя в Бернаре столько упорства, столько готовности постоянно оказывать противодействие или, по крайней мере, защищать себя. Его начинало поэтому брать сомнение, не совершил ли он промаха, взяв с собою два этих существа, которых он соединил, казалось, лишь для того, чтобы настроить против себя. Не способный проникнуть в затаенные чувства Лауры, он принимал за холодность ее отчуждение и сдержанность. Он испытал бы большое замешательство, если бы ему открылась истина, и Лаура это понимала; в результате все силы ее отвергнутой любви уходили на то, чтобы скрытничать и молчать.
За чаем они обыкновенно собирались все трое в большой комнате; часто случалось, что, по их приглашению, к ним присоединялась госпожа Софроницкая, особенно в те дни, когда Борис и Броня отправлялись на прогулку. Она предоставляла им полную свободу, несмотря на их юный возраст; она вполне полагалась на Броню, зная ее благоразумие, в особенности в отношении Бориса, который удивительно ее слушался. Места кругом были безопасные; и можно было быть совершенно спокойным, что они не отправятся в горы и не станут даже взбираться на скалы, расположенные невдалеке от отеля. Однажды, когда дети получили разрешение дойти до самого ледника при условии не уклоняться в сторону от дороги, госпожа Софроницкая, приглашенная к чаю и подстрекаемая Бернаром и Лаурой, набралась храбрости и стала просить Эдуарда рассказать о его будущем романе, если, конечно, это не будет ему неприятно.
– Нисколько, но я не могу изложить вам его содержание.
Однако он, по-видимому, готов был рассердиться, когда Лаура спросила его (вопрос явно неловкий):
– На что эта книга будет похожа?
– Ни на что! – воскликнул он и продолжал, словно только и ожидал этого вызова: – Зачем пережевывать то, что было уже сделано другими или мной самим, или то, что могло бы быть сделано другими?
Едва Эдуард произнес эти слова, как почувствовал их неуместность, утрированность и нелепость; ему показалось, во всяком случае, что слова эти неуместны и нелепы; или, по крайней мере, он опасался, что они покажутся таковыми Бернару.
Эдуард был болезненно чувствителен. Как только с ним заговаривали о его работе и особенно как только его самого просили рассказать о ней, он терял самообладание.
С полным презрением он относился к обычному чванству литераторов и изо всех сил старался ему не поддаваться; по своей скромности он неизменно искал поддержку в уважении других людей; не встречая его, скромность Эдуарда мгновенно улетучивалась. Ему очень хотелось добиться расположения Бернара. Не ради ли этого он, находясь в его обществе, пришпоривал своего Пегаса? Эдуард прекрасно чувствовал, что такое поведение – верное средство потерять уважение Бернара; он без конца зарекался этого не делать; однако вопреки принятому решению, едва оказавшись рядом с Бернаром, начинал держать себя совсем иначе, чем хотел, и изъясняться тоном, который сам же находил нелепым (он и в самом деле был нелеп). Можно ли на этом основании предположить, что подобный тон Эдуарду нравился? Вряд ли, я так не думаю. Чтобы вызвать у нас гримасу презрения или снискать нашу пылкую любовь, достанет мелкого тщеславия.
– Не потому ли, что из всех литературных жанров, – вещал Эдуард, – роман остается самым свободным, самым lawless[24]… не из-за боязни ли этой самой свободы (ибо художники, которые больше всего жаждут свободы, чаще всего совсем теряются, когда им удается ее добиться) роман всегда так трусливо цеплялся за действительность? И я имею в виду не только французский роман. Совершенно так же, как и английский роман, русский роман, сколь бы он ни был свободен от традиционных форм, порабощен правдоподобием. Единственный прогресс, который роман принимает во внимание, заключается в еще большем приближении к природе. Нет, роман никогда не знал того «грозного размывания очертаний», о котором говорит Ницше, и того сознательного удаления от жизни, что позволило возникнуть искусству большого стиля, например греческой драме или французской трагедии XVII века. Знаете ли вы что-либо более совершенное, более глубоко человечное, чем эти произведения? Но человечны они как раз потому, что глубоки; они не кичатся созданием иллюзии человечности или хотя бы иллюзии реальности. Они остаются произведениями искусства. – Из опасения, как бы не создать у слушателей впечатления, будто он читает лекцию, Эдуард встал, налил себе чаю, прошелся по комнате, выжал в чашку лимон, не переставая при этом говорить: – Так как Бальзак был гений и так как каждый гений находит, по-видимому, для своего искусства формулу окончательную и неповторимую, то вот и провозгласили, будто главной целью романа является «соперничество с укладом частной жизни». Бальзак воздвиг здание своего творчества, но он никогда не притязал составить кодекс правил романа; его статья о Стендале ясно показывает это. Соперничать с укладом частной жизни! Как будто и без того на земле не достаточно уродов и ничтожеств! Какое мне дело до уклада частной жизни! Уклад – это я, художник; касается ли мое произведение частной жизни или нет, ни к какому соперничеству оно не стремится.
Эдуард, который разгорячился, – может быть, немножко искусственно, – заговорил более спокойным тоном. Он притворялся, будто вовсе не смотрит на Бернара, но на самом деле он обращался именно к нему. Будучи с ним наедине, он не нашелся бы, что ему сказать; он был признателен женщинам, что они вызвали его на этот разговор.
– Иногда мне кажется, что ничем в литературе я так не восхищаюсь, как, скажем, спором Митридата с сыновьями в трагедии Расина; нам прекрасно известно, что никогда ни один отец не мог так разговаривать с сыновьями, и, несмотря на это (мне следовало бы сказать, именно благодаря этому), все отцы и все сыновья в этой сцене могут узнать себя. Локализируя и уточняя, мы ограничиваем. Есть только частные психологические истины, это правда; но искусство всегда всеобще. Вся задача заключается именно в этом: выразить общее при помощи частного; добиться того, чтобы частное выражало общее. Вы позволите мне выкурить трубку?
– Пожалуйста, пожалуйста, – ответила Софроницкая.
– Так вот! Я желал бы написать роман, который был бы одновременно таким же правдивым и таким же далеким от действительности, таким же глубоко человеческим и таким же вымышленным, который содержал бы в себе столько частных подробностей и являлся бы в то же время таким обобщающим, как «Гофолия», «Тартюф» или «Цинна».
– А… каков сюжет этого романа?
– У него нет сюжета, – резко ответил Эдуард, – и в этом, может быть, его самая примечательная особенность. У моего романа нет сюжета. Да, я отлично сознаю: мое утверждение кажется нелепостью. Если хотите, скажем так – он не ограничится одним сюжетом… «Кусок жизни», – говорила натуралистическая школа. Большим недостатком этой школы является то, что она отрезает свой кусок всегда в одном направлении – в направлении времени, в длину. Почему не в ширину? Не в глубину? Что касается меня, то я вовсе не хотел бы резать. Поймите меня: я хотел бы все вместить в мой роман. Не нужно ножа, чтобы резать в каком-нибудь определенном месте по его живому телу. Уже больше года я работаю над ним, и нет такого предмета, который я не включил бы в него, который я не хотел бы в него вместить: все, что я вижу, все, что я знаю, все, чему научает меня жизнь других и моя собственная…
– И все это будет стилизовано? – спросила Софроницкая явно с легким оттенком иронии, хотя на ее лице было изображено самое живое внимание. Лаура не могла сдержать улыбку. Эдуард слегка пожал плечами и продолжал:
– Нет, не к этому, собственно, я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы изобразить, с одной стороны, действительность, а с другой – то усилие стилизовать ее, о котором я вам сейчас говорил.
– Мой бедный друг, вы уморите ваших читателей, – заметила Лаура; будучи не в силах сдержать улыбку, она откровенно рассмеялась.
– Вовсе нет. Чтобы добиться указанного мной результата, я создаю персонаж романиста, которого делаю центральной фигурой романа; и сюжетом книги, если угодно, как раз и является борьба между тем, что преподносит ему действительность, и тем, что он мечтает из этой действительности сделать.
– Да, да, понимаю, – вежливо заметила Софроницкая, которая начинала уже заражаться смехом Лауры. – Может получиться очень любопытно. Но, вы знаете, в романах всегда опасно изображать умных людей. Они наводят скуку на публику; в их уста удается обыкновенно вложить одни общие места, и всему, что их трогает, они придают абстрактную форму.
– И я прекрасно вижу, что из этого получится! – вскричала Лаура. – Этого романиста вам придется попросту списать с самого себя.
Обращаясь к Эдуарду, она с некоторых пор усвоила себе насмешливый тон, который изумлял ее саму и сбивал с толку Эдуарда, тем более что отражение его он подмечал в лукавых взглядах Бернара. Эдуард запротестовал:
– Нет, нет, я приложу все старания, чтобы сделать его как можно более неприятным.
Лаура закусила удила.
– Так, так, все узнают в нем вас, – сказала она, так звонко расхохотавшись, что заразила своим смехом всех остальных.
– И план этой книги уже готов? – спросила Софроницкая, стараясь снова стать серьезною.
– Естественно, нет.
– Как? Почему «естественно»?
– Вам следовало бы понять, что для книги такого рода план принципиально недопустим. Вся она будет звучать фальшиво, если я что-нибудь предрешу наперед. Я жду, чтобы мне его продиктовала действительность.
– А я думала, что вы хотите устраниться от действительности.
– Мой романист будет стремиться устраниться от нее, но я непрестанно буду возвращать его к ней. Строго говоря, вот сюжет: борьба между фактами, предлагаемыми действительностью, и действительностью идеальной.
Непоследовательность его суждений была вопиющей, она самым тягостным образом бросалась в глаза. Ясно, что в голове Эдуарда находили приют два несовместимых требования и его старание примирить их было безуспешным.
– И много вы уже сделали? – вежливо осведомилась Софроницкая.
– Это зависит от того, как понимать ваш вопрос. Что касается самой книги, то, по правде говоря, я еще не написал ни строчки. Но уже много над ней поработал. Каждый день я беспрестанно думаю о ней. Я работаю над ней очень странным способом, который заключается в следующем: изо дня в день я заношу в записную книжку заметки о состоянии этого романа в моем уме; да, это род дневника, который я веду о нем, наподобие тех дневников, что составляются о развитии ребенка… Иными словами, я не довольствуюсь решением каждого затруднения по мере того, как оно возникает передо мною (ведь каждое произведение искусства есть не что иное, как сумма решений определенного количества мелких затруднений, последовательно возникающих перед художником); я излагаю, я изучаю каждое из этих затруднений. Если хотите, записная книжка содержит непрерывную критику моего романа или более того – романа вообще. Подумайте, какой интерес представила бы для нас подобная тетрадь с записями Диккенса или Бальзака; быть обладателями дневников «Воспитания чувств» или «Братьев Карамазовых»! История произведения, его вынашивание! Да это было бы захватывающе… интереснее, чем само произведение…
У Эдуарда была робкая надежда, что его попросят прочесть эти заметки. Но никто из его слушателей не проявил ни малейшего любопытства.
– Мой бедный друг, – сказала Лаура печальным тоном, – я прекрасно вижу, что этот роман никогда не будет вами написан.
– Ну что ж! – страстно воскликнул Эдуард. – Могу вас уверить, мне это безразлично. Да, я, может быть, и не напишу этой книги, значит, ее история заинтересует меня больше, чем она сама; заменит ее мне. Тем лучше.
– А не боитесь ли вы, покидая реальность, затеряться в губительно абстрактных сферах и сочинить роман, героями которого будут не живые люди, а идеи? – робко спросила Софроницкая.
– А хотя бы и так! – вскричал Эдуард с еще большей горячностью. – Неужели мы должны осуждать роман идей на том основании, что он не дается плохим писателям? Под видом идейных романов нам преподносились до сих пор ужасающие романы на заданную тему. Но вы понимаете, конечно, что это совсем не то. Идеи… идеи, признаюсь вам, интересуют меня больше, чем люди: интересуют больше всего. Они живут, борются, умирают, как люди! Понятно, можно утверждать, что мы познаем их только благодаря людям, точно так же, как мы узнаем о существовании ветра только по тростнику, который ветер клонит к земле; и все же ветер важнее тростника.
– Ветер существует независимо от тростника, – осмелился заметить Бернар.
Его возражение вызвало воинственное настроение в Эдуарде, который давно уже ожидал его вмешательства.
– Да, я знаю, что идеи существуют лишь благодаря людям; но в этом как раз и заключается трагизм: идеи живут за счет людей.
Бернар слушал все это с напряженным вниманием; он был полон скептицизма и почти готов был принять Эдуарда за пустого мечтателя; однако в эти мгновения красноречие последнего взволновало его; он почувствовал, что под дуновением этого красноречия мысль его наклоняется; но – сказал себе Бернар – она скоро снова выпрямится, как распрямляется тростник, когда стихает ветер. Ему вспомнилось то, чему его учили в лицее: страсти руководят человеком, а не идеи. Между тем Эдуард продолжал:
– Я хотел бы сочинить, поймите меня, нечто похожее на Искусство фуги. И не вижу, почему то, что возможно в музыке, окажется невозможным в литературе…
На это Софроницкая заметила, что музыка есть искусство математическое и что, кстати, рассматривая ее исключительно со стороны численной и изгнав из нее всякий пафос и человечность, Бах добился создания абстрактного шедевра скуки, некоего астрономического храма, куда могут проникнуть лишь немногие посвященные. Эдуард тотчас же возразил, что он находит этот храм великолепным, видит в нем завершение и увенчание всей творческой жизни Баха.
– После чего, – вставила Лаура, – композиторы были надолго вылечены от фуги. Не находя для себя места в ней, человеческие чувства стали искать себе другие прибежища.
Спор становился бесплодным. Бернар, хранивший до сего времени молчание, но начинавший уже нетерпеливо ерзать на стуле, в заключение не выдержал; крайне почтительно, даже преувеличенно почтительно, как всегда при своих обращениях к Эдуарду, но таким веселым тоном, что это почтение казалось почти насмешкой, он сказал:
– Извините, сударь, что я знаю название вашей книги; виной тут моя нескромность, которую вы пожелали, однако, предать забвению, если не ошибаюсь. Это название как будто содержало в себе указание на повесть?..
– Ах, скажите нам это название, – стала упрашивать Лаура.
– Мой дорогой друг, если вы хотите… Но предупреждаю вас, что я, может быть, изменю его. Боюсь, как бы оно не показалось несколько обманчивым… Ну-ка, скажите им его, Бернар.
– Вы разрешаете?.. «Фальшивомонетчики», – сказал Бернар. – Теперь, в свою очередь, скажите нам, пожалуйста, кто, собственно, такие… эти фальшивомонетчики?
– Право, не знаю, – отвечал Эдуард.
Бернар и Лаура переглянулись, затем взглянули на Софроницкую; послышался долгий вздох; мне кажется, что он вырвался у Лауры.
Сказать по правде, думая о фальшивомонетчиках, Эдуард имел сначала в виду некоторых своих собратьев по перу, особенно виконта де Пассавана. Но вскоре слово приобрело значительно более широкий смысл. Смотря по тому, откуда у него дул ветер – из Рима или из других мест, его герои становились последовательно то патерами, то франкмасонами. Его мысли, когда он предоставлял их собственному течению, тотчас устремлялись к абстрактному, и он чувствовал себя в этой области весьма привольно. Идеи подмены, обесценения, инфляции мало-помалу заполняли его книгу, как теории одежды вытеснили из «Sartor Resartus» Карлейля живых действующих лиц. Не будучи в силах говорить об этом, Эдуард самым неловким образом замолчал, и его молчание, как будто свидетельствовавшее о скудости мысли, начинало сильно тяготить его собеседников.
– Случалось вам когда-нибудь держать в руках фальшивую монету? – спросил он.
– Да, – отвечал Бернар, но «нет» двух женщин заглушило его слова.
– Так вот! Вообразите фальшивую золотую монету в десять франков. Ее истинная цена каких-нибудь два су. Она будет стоить десять франков, пока не узнают, что она фальшивая. Если, следовательно, я отправлюсь от той мысли, что…
– Но зачем отправляться от мысли? – нетерпеливо прервал Бернар. – Если вы отправитесь от хорошо изложенного факта, мысль сама вселится в него. Если бы я писал «Фальшивомонетчиков», я начал бы с фальшивой монеты, той монетки, о которой вы только что говорили… вот она.
Говоря это, он вынул из жилетного кармана десятифранковую монету и бросил ее на стол.
– Слышите, как она хорошо звенит. Почти так же, что и другие монеты. Можно побожиться, что она золотая. Я попался на ней сегодня утром, так же как попался, по его словам, лавочник, который мне ее вручил. У нее нет нужного веса, мне кажется; но она блестит и звенит почти совсем как настоящая; снаружи она позолочена, так что стоит все же несколько больше двух су, но она стеклянная. После долгого употребления она станет прозрачной. Нет, нет, не трите: вы мне обесцените ее. И сейчас она уже почти просвечивает.
Эдуард взял монету и с большим любопытством стал ее рассматривать.
– От кого же лавочник ее получил?
– Он не помнит. По его мнению, она лежит у него в ящике уже несколько дней. Он в шутку вручил ее мне, чтобы посмотреть, попадусь ли я. Я готов был принять ее, честное слово! Но так как он человек честный, то вывел меня из заблуждения; затем продал ее мне за пять франков. Он хотел сохранить ее, чтобы показывать тем, кого он называет «любителями». Я подумал, что ему, пожалуй, не найти лучшего любителя, чем автор «Фальшивомонетчиков», вот я и взял ее, чтобы показать вам. А теперь, когда вы посмотрели, отдайте ее мне. Я вижу – увы! – что действительность вас не интересует.
– Это правда, – сказал Эдуард, – но она приводит меня в замешательство.
– Очень жаль, – отвечал Бернар.
Дневник Эдуарда
Вечером того же дня
Софроницкая, Бернар и Лаура спрашивали меня о моем романе. Почему я стал им отвечать? Я нес сплошную чепуху. К счастью, меня выручило возвращение детей; они раскраснелись, запыхались, словно после долгой беготни. Едва войдя, Броня бросилась к матери; мне показалось, что она вот-вот расплачется.
– Мама, – вскричала она, – побрани, пожалуйста, Бориса. Он хотел лечь в снег совсем голым.
Софроницкая посмотрела на Бориса, который стоял на пороге, опустив голову и устремив в землю пристальный, почти злобный взгляд; она, казалось, совсем не замечала странного выражения лица мальчика и восхитительно спокойным тоном сказала:
– Послушай, Борис, этого нельзя делать вечером. Если хочешь, мы пойдем туда завтра утром и ты сначала попробуешь пройтись по снегу босиком… – Она нежно ласкала при этом голову своей дочери, но та вдруг упала на пол и забилась в конвульсиях. Мы все страшно разволновались. Софроницкая взяла ее на руки и уложила на оттоманку. Борис, не трогаясь с места, смотрел на эту сцену широко раскрытыми бессмысленными глазами.
Мне кажется, что методы воспитания Софроницкой в теории превосходны, но она, пожалуй, заблуждается относительно упрямства находящихся на ее попечении детей.
– Вы поступаете так, словно добро всегда должно торжествовать над злом, – сказал я немного позже, оставшись с ней наедине. (После обеда я пошел осведомиться о здоровье Брони, которая не могла спуститься в столовую.)
– Это верно, – отвечала Софроницкая. – Я твердо убеждена, что добро должно торжествовать. Я в это верю.
– Однако чрезмерная уверенность может привести к ошибкам…
– Да, мне случается обманываться, но это бывает в тех случаях, когда моя вера недостаточно сильна. Сегодня, отпуская детей, я не сумела скрыть от них некоторого беспокойства; они это почувствовали. Все и проистекло отсюда. – Она схватила меня за руку: – Вы, по-видимому, не верите в силу убеждений… я хочу сказать, в их действенную силу.
– Вы правы, – возразил я, смеясь, – я не мистик.
– А я, – воскликнула она в каком-то восторженном порыве, – всей душой убеждена, что без мистицизма здесь, на земле, не делается ничего великого и прекрасного.
В списке туристов отыскал имя Виктора Струвилу. По справкам содержателя гостиницы, он выехал из Саас-Фе за два дня до нашего приезда после почти месячного пребывания. Любопытно было бы повидать его. Софроницкая, несомненно, с ним встречалась. Нужно будет расспросить ее.
IV
– Я хотел спросить вас, Лаура, – начал Бернар. – Есть ли, по-вашему, что-нибудь на этой земле, в чем нельзя было бы усомниться?.. Сомнительно даже, что нельзя было бы взять само сомнение в качестве точки опоры, ибо оно-то уж, мне кажется, никогда нас не подведет. Я могу сомневаться в реальности всего на свете, но только не в реальности моего сомнения. Мне хотелось бы… Извините, что я выражаюсь как педант: я не педант по натуре, но я исхожу из философии, и вы не можете себе представить, какую печать накладывают на ум постоянные рассуждения; клянусь вам, я исправлюсь.
– Зачем это отступление? Вам хотелось бы?..
– Мне хотелось бы написать историю человека, который, прежде чем решиться на что-нибудь, сначала выслушает каждого, с каждым посоветуется, по примеру Панурга; убедившись на опыте, что мнения различных людей по каждому вопросу противоречат друг другу, он в заключение придет к выводу, что следует слушать только самого себя, и сразу станет очень сильным.
– Это стариковский замысел, – сказала Лаура.
– Я более зрелый человек, чем вы думаете. В течение нескольких дней я веду дневник, как и Эдуард; на правой странице записываю одно мнение, а на левой, напротив, – мнение противоположное. Помните, например, как-то вечером Софроницкая сказала нам, что заставляет спать Бориса и Броню при открытых окнах. Все, что она говорила в защиту такого режима, нам казалось – не правда ли? – совершенно разумным и убедительным. Но вот вчера в курительной отеля я слышал, как недавно приехавший немецкий профессор развивал противоположную теорию, которая, признаюсь, показалась мне более разумной и куда лучше обоснованной. Самое существенное, говорил он, по возможности ограничивать во время сна расход энергии и всякого рода взаимодействий, совокупность коих составляет жизнь, – он называл это карбюрацией; только при этих условиях сон действительно восстанавливает силы. Он приводил в пример птиц, которые прячут голову под крыло, и всех вообще животных, которые во время сна свертываются в комочек так, чтобы едва-едва дышать; точно так же, говорил он, племена, наиболее близко стоящие к природе, крестьяне, слабее всего затронутые культурой, забиваются в помещения, где спят; арабы, когда им приходится спать на открытом воздухе, непременно покрывают голову капюшонами своих бурнусов. Но, возвращаясь к Софроницкой и детям, которых она воспитывает, я прихожу к убеждению, что она все же права и то, что хорошо для других, было бы вредно для них, так как, насколько я понял, они предрасположены к туберкулезу. Словом, я сказал себе… Но вам скучно меня слушать?
– Не тревожьте себя такими предположениями. Что вы сказали себе?
– Забыл.
– Полно! Не сердитесь! И не стыдитесь своих мыслей.
– Я сказал себе, что нет такой вещи, которая была бы хороша для всех; каждая вещь хороша только для отдельных людей; что ничего не бывает истинно для всех; любое положение истинно только для того, кто верит в его истинность; что нет метода или теории, которые были бы в равной мере приложимы к каждому; что если, совершая поступок, нам приходится делать выбор, то мы, по крайней мере, обладаем свободой выбора; а если у нас нет свободы выбора, то дело обстоит еще проще; и для меня становится истинным (не абсолютно истинным, конечно, но истинным по отношению ко мне) то, что позволяет мне наилучшим образом применить свои силы, пустить в ход свои положительные качества, потому что я не способен подавить свои сомнения и в то же время питаю отвращение к нерешительности. «Мягкая и покойная подушка» Монтеня создана не для моей головы, потому что мне еще не хочется спать и я не нуждаюсь в покое. Долог путь, ведущий от того, чем я думаю быть, к тому, чем я, может быть, являюсь сейчас. Я иногда боюсь, что встал слишком рано.
– Вы боитесь?
– Нет, я ничего не боюсь. Но знаете ли вы, что я уже сильно изменился, или, по крайней мере, мой душевный кругозор совсем не тот, каким он был в день, когда я покинул мой дом; с тех пор я встретил вас. И сразу же перестал ставить превыше всего свою свободу. Может быть, вы еще не поняли, что я готов служить вам.
– Что следует под этим понимать?
– О, вы отлично знаете! Почему вы хотите заставить меня сказать это? Вы ожидаете от меня признаний?.. Нет, нет, прошу вас, не делайте такого грустного лица, меня от этого бросает в холод. Улыбнитесь!
– Но, мой милый Бернар, неужели вы вообразили, что начинаете меня любить?
– О нет! – воскликнул Бернар. – Вы сами, должно быть, начинаете это чувствовать, но вы не в силах мне помешать.
– Мне было так приятно во всем доверять вам. Если теперь мне придется подходить к вам не иначе как с предосторожностями, словно к легко воспламеняющемуся веществу… Постарайтесь представить себе безобразное, раздувшееся существо, в которое я скоро превращусь. Один взгляд на меня способен будет вас вылечить от любви.
– Да, если бы я любил только вашу внешность. Кроме того, я вовсе не болен, или если любить вас значит быть больным, то я предпочитаю не выздоравливать.
Он говорил все это серьезно, почти печально и смотрел на Лауру таким нежным взором, каким на нее никогда не смотрели ни Эдуард, ни Дувье; но во взоре этом было столько почтительности, что он не мог ее огорчить. Лаура держала на коленях английскую книжку, которую они только что читали и которую она рассеянно перелистывала; казалось, она совсем его не слушала, так что Бернар продолжал, не испытывая большого смущения:
– Я воображал, что любовь – вулкан; по крайней мере, та любовь, для которой я был рожден. Да, я действительно считал, что могу любить только дикой, опустошительной любовью, на манер Байрона. Как плохо я знал себя! Это вы, Лаура, открыли мне глаза на то, каков я; как сильно я отличаюсь от того существа, за которое я принимал себя. Я разыгрывал роль мерзавца и изо всех сил старался быть на него похожим. Когда я вспоминаю о письме, которое написал моему мнимому отцу перед тем, как покинуть его дом, мне становится бесконечно стыдно, уверяю вас. Я принимал себя за мятежника, outlaw[25], попирающего все, что служит преградой для осуществления его желаний; и вот, подле вас, у меня нет больше желаний. Я стремился к свободе как к высшему благу и стал свободен, лишь подчинившись вашим… Ах, если бы вы знали, как противно держать в голове кучу фраз великих писателей, непреодолимо срывающихся с языка, когда хочешь выразить искреннее чувство! Это чувство так ново для меня, что я не успел еще найти для него подходящие слова. Допустим, что оно – не любовь, раз это слово вам не нравится; допустим, что оно – благоговение. У меня такое впечатление, словно ваши законы очертили границы моей свободы, которая до сих пор казалась мне безграничной. Такое впечатление, что все, что бушевало во мне мятежного и беспорядочного, ныне в мерном танце кружится вокруг вас. Если какая-либо из моих мыслей обнаруживает склонность отделиться от вас, я бросаю ее… Лаура, я не прошу у вас любви; сейчас я ничто, простой школьник; я не стою вашего внимания; но все мои поступки отныне диктуются желанием заслужить немного вашу… (ах, противное слово!) ваше уважение.
Он бросился на колени перед нею, и, хотя она сначала немножко было отодвинулась, Бернар коснулся головой ее платья, откинув руки назад, словно в знак благоговения; но, почувствовав у себя на лбу руку Лауры, он схватил эту руку и припал к ней губами.
– Какое вы дитя, Бернар! Я тоже больше не свободна, – сказала она, отнимая руку. – Возьмите и прочтите вот это.
Она вытащила из-за пояса измятую бумажку и протянула Бернару.
Бернару прежде всего бросилась в глаза подпись. Как он и опасался, это была подпись Феликса Дувье. Несколько мгновений он держал письмо в руке не читая; он поднял глаза на Лауру. Она плакала. Тогда Бернар почувствовал, что в его сердце разрывается еще одна связь, одна из тех тайных нитей, что привязывают каждого из нас к нам самим, к нашему эгоистическому прошлому. Затем он прочел:
«Возлюбленная моя Лаура!
Во имя ребенка, который должен у тебя родиться и которого я торжественно обещаю любить так, как если бы был его отцом, заклинаю тебя вернуться. Не думай, что малейший упрек может встретить здесь твое возвращение. Не слишком вини себя, потому что это как раз и причиняет мне наибольшие страдания. Не медли. Я жду тебя всей душой, которая обожает тебя и простирается ниц перед тобою».
Бернар сидел на полу, у ног Лауры; не глядя на нее, он спросил:
– Когда вы получили письмо?
– Сегодня утром.
– Я думал, он ничего не знает. Вы сами ему написали?
– Да, я призналась ему во всем.
– Эдуард знает?
– Он ничего не знает.
Бернар замолчал, опустив голову; затем, повернувшись к ней, спросил:
– Что же… вы собираетесь теперь делать?
– Вы серьезно спрашиваете меня?.. Вернуться к нему. Мое место возле него. С ним я должна жить. Вы знаете это.
– Да, – сказал Бернар.
Наступило долгое молчание. Бернар снова спросил:
– Вы убеждены, что можно любить ребенка от другого как своего собственного? Да?
– Не знаю, убеждена ли, но надеюсь.
– Ну а я убежден. Напротив, я не верю в то, что так глупо называют «голосом крови». Да, я считаю, что этот пресловутый голос не более чем миф. Я читал где-то, что у некоторых полинезийских племен существует обычай усыновлять чужих детей и что этим усыновленным детям оказывается даже предпочтение. В книге – я хорошо помню – было сказано, что «их больше балуют». Знаете, о чем я думаю сейчас?.. Я думаю, что тот, кто заменял мне отца, никогда не сказал и не сделал ничего такого, что позволяло бы заподозрить, будто я не его настоящий сын; думаю, что, написав ему, как я это сделал, будто мной всегда ощущалась разница в его отношениях ко мне и к другим детям, я солгал; что, напротив, он проявлял ко мне особенную любовь, и я был чувствителен к этому, так что моя неблагодарность к нему тем более отвратительна; словом, думаю, я поступил дурно по отношению к нему. Лаура, друг мой, я хотел бы вас спросить… Как, по-вашему: должен я просить у него прощения, вернуться к нему?
– Нет, – отвечала Лаура.
– Почему? Вы ведь возвращаетесь к Дувье…
– Вы мне только что говорили, что истинное для одного не истинно для другого. Я чувствую себя слабой, вы сильны. Господин Профитандье, очень возможно, вас любит; но, если я правильно поняла то, что вы мне рассказали о нем, вы не созданы для взаимного понимания… Или, по крайней мере, не торопитесь. Не возвращайтесь к нему с покаянным видом. Хотите знать все, что я думаю? Ради меня, а не ради него вы затеваете это; чтобы добиться того, что вы называете моим уважением. Вы не добьетесь его, Бернар, если я буду чувствовать, что вы его добиваетесь. Я могу любить вас, только когда вы естественны. Предоставьте раскаяние мне; оно не для вас, Бернар.
– Я начинаю почти любить свое имя, когда слышу его из ваших уст. Знаете, к чему я питал там наибольшее отвращение? К роскоши. Столько комфорта, столько удобств… Я чувствовал, что становлюсь анархистом. Теперь, наоборот, мне кажется, что я превращаюсь в консерватора. Я внезапно понял это на днях по негодованию, которое охватило меня, когда я услышал, как один из туристов стал хвастать тем, что ему удалось ловко надуть таможню. «Обокрасть государство – значит никого не обокрасть», – говорил он. Дух противоречия вдруг заставил меня понять природу государства. И я проникся любовью к государству просто потому, что по отношению к нему была совершена несправедливость. Никогда раньше я не размышлял на эту тему. «Государство – это взаимное соглашение», – продолжал турист. Какой прекрасной вещью было бы соглашение, покоящееся на доброй воле каждого… если бы на свете существовали одни честные люди. Слушайте, если бы кто-нибудь спросил меня сегодня, какую добродетель я считаю самой прекрасной, я не колеблясь ответил бы: честность. Ах, Лаура! Я хотел бы всю свою жизнь при малейшем ударе издавать звук чистый, честный, подлинный. Почти все люди, которых я знал, звучат фальшиво. Пусть твоя ценность в точности равняется тому, чем ты кажешься; не старайся казаться стоящим больше твоей подлинной ценности… Мы хотим вводить в заблуждение и до такой степени бываем поглощены заботой о внешности, что в конце концов утрачиваем представление, кто же мы такие на самом деле… Извините, что я говорю вам все это. Я делюсь с вами моими ночными размышлениями.
– Вы думали о монетке, которую вчера показывали нам. Когда я уеду…
Она была не в силах закончить фразу; слезы выступили у нее на глазах; Бернар видел, что она пытается сдержаться, отчего губы ее задрожали.
– Вы уедете, Лаура, – произнес он печально. – Боюсь, что, когда я не буду больше чувствовать вас подле себя, я потеряю всякую ценность или почти потеряю… Но, скажите, я хотел бы вас спросить… уехали ли бы вы, написали бы мужу, если бы Эдуард… не знаю как выразиться… – Тут Лаура покраснела. – Если бы Эдуард стоил большего? Ах, не возражайте. Я хорошо знаю, что вы о нем думаете.
– Вы говорите так потому, что уловили вчера мою улыбку во время его рассуждений; вы тотчас заключили, что мы о нем одинакового мнения. Но нет, не заблуждайтесь. По правде говоря, я не знаю, что я о нем думаю. Никогда он не бывает долгое время одинаковым. Он ни к чему не привязывается; но ничто так не привлекательно, как его бегство. Вы слишком мало знакомы с ним, чтобы его судить. Его существо беспрестанно разрушается и снова восстанавливается. Думаешь, что схватил его… а это Протей. Он принимает форму всего, что любит. Чтобы понять, его тоже нужно любить.
– Вы любите его. Ах, Лаура, я ревную вас не к Дувье и Винценту, а к Эдуарду.
– Зачем вам ревновать? Я люблю Дувье, люблю Эдуарда, но по-разному. Если бы мне случилось полюбить вас, это опять была бы другая любовь.
– Лаура, Лаура, Дувье вы не любите. Вы чувствуете к нему привязанность, жалость, уважение, но это не любовь. Я думаю, что тайна вашей печали (потому что вы печальны, Лаура) заключается в том, что жизнь лишила вас цельности; любовь не захватила вас всю целиком; вы распределяете среди нескольких то, что хотели бы отдать одному. Я же чувствую себя нераздельным; я могу отдать себя только целиком.
– Вы слишком молоды, чтобы так говорить. Вы не можете быть уверены, не лишит ли и вас жизнь цельности, как вы говорите. Я могу принять от вас только… благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут искать себе удовлетворения в другом месте.
– Неужели это правда? Вы хотите наперед отнять у меня вкус и к себе самому, и к жизни.
– Вы совсем не знаете жизни. Вы можете всего ожидать от нее. Знаете, в чем заключалась моя вина? В том, что я больше ничего не ждала от жизни. Когда я подумала – увы! – что мне нечего больше ожидать, я махнула на все рукой. Я жила той весной в По так, словно это последняя моя весна, словно все мне было безразлично. Теперь, когда я за это поплатилась, я вправе сказать вам: Бернар, никогда не отчаивайтесь в жизни.
Какая польза говорить все это юному существу, полному огня! К тому же слова, произнесенные Лаурой, и не были обращены к Бернару. Движимая симпатией, она думала вслух в его присутствии вопреки своему желанию. Она была неискусна по части притворства, плохо умела владеть собою. Как раньше она была не в силах противостоять порыву, увлекавшему ее всякий раз, когда она думала об Эдуарде, и выдававшему ее любовь, так теперь она уступала какой-то потребности читать мораль, унаследованной ею, по всей вероятности, от отца. Но Бернар питал отвращение к наставлениям, увещаниям, хотя бы они исходили от Лауры; его улыбка дала понять это Лауре, которая продолжала более спокойным тоном:
– Вы намерены оставаться секретарем Эдуарда и по возвращении в Париж?
– Да, если он согласится найти мне какое-нибудь дело; до сих пор он не поручает мне никакой работы. Знаете, что было бы мне интересно? Написать вместе с ним книгу, которой он один никогда не напишет; вчера вы правильно сказали ему об этом. Я считаю нелепым изложенный им вчера метод работы. Хороший роман пишут с куда большей наивностью. И прежде всего нужно верить в то, о чем рассказываешь, – как вам кажется? – и рассказывать бесхитростно. Я сначала думал, что могу помочь ему. Если бы он ощущал потребность в сыщике, я, может быть, ее удовлетворил бы.
Он работал бы над фактами, которыми его снабжали бы мои поиски… Но с теоретиком мне делать нечего. Подле него я ощущаю в себе душу репортера. Если он будет упорствовать в своем заблуждении, я стану работать самостоятельно. Мне нужно иметь заработок. Я предложу свои услуги какой-нибудь газете. Между делом буду сочинять стихи.
– Ибо в обществе репортеров вы наверняка будете ощущать в себе поэтическую душу.
– Не издевайтесь надо мной! Я знаю, что я смешон, не заставляйте меня лишний раз это почувствовать.
– Оставайтесь с Эдуардом; вы будете помогать ему, и он поддержит вас. Он добрый.
Раздался колокол, призывавший к завтраку. Бернар встал; Лаура взяла его за руку:
– Еще одно: монетка, которую вы показывали нам вчера… в память о вас, когда я уеду… – Она преодолела себя и на этот раз нашла силы закончить фразу: – Не могли бы вы подарить ее мне?
– Вот она, возьмите, – сказал Бернар.
V
Так случается почти со всеми болезнями человеческого ума, от которых мы воображаем себя излечившимися. Мы только загоняем их внутрь, как говорят в медицине, и на их место появляются другие.
Сент-Бев. ПонедельникиДневник Эдуарда
Я начинаю уяснять себе то, что я назвал бы «глубинным сюжетом» моей книги. Сюжет этот, несомненно, борьба реального мира и нашего представления о нем. Способ, каким мир явлений навязывается нам и каким мы, в свою очередь, пытаемся навязать внешнему миру наше субъективное толкование, составляет драму нашей жизни. Встречая сопротивление со стороны фактов, мы переносим нашу идеальную конструкцию в мечты, в чаяния, в будущее, и там наша вера питается разочарованиями, постигшими нас здесь. Реалисты отправляются от фактов, приспособляют свои идеи к фактам. Бернар – реалист. Боюсь, что мне не удастся найти с ним общий язык.
Как мог я покорно выслушать заявление Софроницкой, что во мне нет никакого мистицизма? Я вполне готов признать вместе с ней, что без мистицизма человеку не удалось бы совершить ничего великого. Но разве не мистицизм и ставит мне в вину Лаура, когда я говорю ей о своей книге?.. Предоставим им спорить на эту тему.
Софроницкая снова завела со мной разговор о Борисе, от которого ей удалось, по ее мнению, добиться полного признания. У бедного мальчика не осталось больше ни одного уголка, ни одного кустика, где бы он мог укрыться от взглядов докторши. Он выбит со всех укрепленных позиций. Софроницкая развинтила и вынула на свет все самые интимные колесики его душевного механизма, подобно часовщику, разбирающему на части приводимые им в порядок часы. Если после этого мальчик не будет отбивать точное время, значит, труд ее пропал понапрасну. Вот что Софроницкая рассказала мне.
Когда Борису исполнилось девять лет, его отдали в одну из варшавских гимназий. Там он подружился с товарищем по классу, неким Батистином Крафтом, мальчиком на год или два старше, научившим его тайному занятию, которое эти дети, наивно изумленные, считали «магией». Так называли они свой порок на том основании, что где-то услышали или прочитали, что магия позволяет таинственно войти в обладание тем, чего мы желаем, безгранично расширяет наши силы и т. п. Они чистосердечно верили, будто им удалось открыть секрет, позволяющий им взамен отсутствующей реальности утешаться призраками; вовсю предавались галлюцинациям и вкушали восторги в пустоте, которую их взвинченное воображение населяло чудесами, отчего наслаждение значительно обострялось. Само собой разумеется, Софроницкая не пользовалась этими терминами; я хотел было, чтобы она в точности передала мне выражения Бориса, но она утверждает, будто ей удалось вылущить только что изложенные факты, за верную передачу которых она, однако, поручилась мне, лишь из беспорядочной массы выдумок, умолчаний и искажений.
– Я нашла, таким образом, – прибавила она, – давно уже отыскиваемое мной объяснение клочка пергамента, который Борис всегда хранит на своей груди в ладанке рядом с иконками, которые заставляет его носить мать. На этом клочке пергамента старательным детским почерком выведены печатными буквами пять слов, значения которых я тщетно у него добивалась:
Газ. Телефон. Сто тысяч рублей.
«Это ничего не значит. Это магия», – неизменно отвечал он на мои расспросы. Это все, чего я могла добиться. Я знаю теперь, что эти загадочные слова написаны рукой юного Батистина, великого знатока и учителя магии, и что пять этих слов служили для детей своего рода заклинанием – «Сезам, отворись» – постыдного рая, куда вводило их наслаждение. Борис называл этот пергамент мой талисман. Мне стоило уже большого труда убедить его показать мне этот талисман и стоит еще большего – заставить расстаться с ним (это было в начале нашего пребывания здесь); ибо я хотела, чтобы он расстался с ним, как он освободился уже раньше – мне известно это теперь – от своих дурных привычек. Я надеюсь, что вместе с талисманом исчезнут тики и мании, которыми он страдает. Но он упорно держался за него, а болезнь цеплялась за талисман как за последнее убежище.
– Вы говорите, однако, что он освободился от этих привычек…
– Нервная болезнь началась потом. Вне всякого сомнения, она обусловлена усилиями, которые Борис должен был затратить, чтобы освободиться от этих привычек. Я узнала от него, что мать однажды застигла его за «занятиями магией», как он говорит. Почему она никогда не говорила мне об этом?.. Стыдилась?
– И, несомненно, оттого, что знала, что ее сын исправился.
– Это нелепо… в этом-то и заключается причина, которую я так давно нащупывала. Я вам сказала, что считаю Бориса совершенно невинным.
– Вы сказали также, что это как раз и беспокоит вас.
– Вы видите, как я была права!.. Мать должна была бы предупредить меня. Борис был бы уже здоров, если бы я с самого начала имела возможность все ясно видеть.
– Вы сказали, что эти расстройства начались у него лишь потом…
– Я утверждаю, что они были рождены в нем духом протеста. Мать, вероятно, бранила его, умоляла, увещевала. Тут последовала смерть отца. Борис был убежден, что его тайные занятия, которые были изображены ему как преступление, повлекли за собой заслуженное наказание; он стал считать себя ответственным за смерть отца; возомнил себя преступником, осужденным. Бориса обуял страх; и вот тогда-то его хилый организм, как загнанный зверь, изобрел множество маленьких уловок, в которых находит себе выход его внутренняя тревога и которые являются как бы призваниями.
– Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что для Бориса было бы менее вредно, если бы он спокойно продолжал заниматься своей «магией»?
– Я думаю, что для излечения от этих занятий не было необходимости его устрашать. Перемены образа жизни, вызванной смертью отца, было бы, вероятно, достаточно для отвлечения его от дурной привычки, а отъезда из Варшавы – для избавления от влияния друга. Устрашением не добьешься ничего хорошего. Когда я узнала обо всей этой истории, то, заведя с ним речь о ней и оживив в его сознании прошлое, я устыдила его за то, что он мог предпочесть обладание воображаемыми благами обладанию благами подлинными, которые служат, сказала я ему, наградою за усилие. Вовсе не пытаясь чернить его порок, я изобразила ему его просто как одну из форм лени, и я действительно убеждена, что это так; форма самая утонченная, самая коварная…
При этих словах мне вспомнилось несколько строчек из Ларошфуко, и я захотел показать их ей. Несмотря на то что я мог бы процитировать их наизусть, я пошел за книжечкой, которую везде вожу с собой. Я прочел ей из «Максим»:
«Из всех страстей наименее известной нам является лень: она самая жгучая и самая зловредная из всех, хотя страшная ее сила неощутима для нас, и вред, причиняемый ею, спрятан очень глубоко… Ленивый покой есть тайное прельщение души, которая вдруг откладывает самые горячие свои стремления и самые упорные свои решения. Чтобы дать в заключение истинную идею этой страсти, следует сказать, что лень есть как бы блаженство души, которое утешает ее во всех ее утратах и служит ей заменой всех благ».
– И вам кажется, – сказала мне тогда Софроницкая, – что Ларошфуко хотел намекнуть здесь на то, о чем мы говорили?
– Возможно, но я не думаю. Богатство наших классиков в том, что они позволяют нам как угодно их истолковывать. Их точность тем более удивительна, что она не сопряжена с ограниченностью.
Я попросил ее показать мне пресловутый талисман Бориса. Она ответила, что у нее больше его нет, что она подарила его одному проезжему, который проявил интерес к Борису и попросил оставить ему этот талисман на память. «Это был некий господин Струвилу, которого я встретила здесь незадолго до вашего приезда».
Я сказал Софроницкой, что видел эту фамилию в списке постояльцев гостиницы, что был знаком когда-то давно с одним Струвилу и мне было бы интересно узнать, он ли это. По ее описанию невозможно было сомневаться, что это он, но она не могла сообщить мне о нем ничего такого, что удовлетворило бы мое любопытство. Я узнал лишь, что он был очень любезен, очень услужлив, что он показался ей весьма умным и начитанным, но несколько ленивым, «если только позволительно употребить это слово», прибавила она, смеясь. Я рассказал ей, в свою очередь, то, что мне было известно о Струвилу, и тут по ассоциации перешел к рассказу о пансионе, где мы встречались с ним, о родителях Лауры (которая со своей стороны кое о чем поведала Софроницкой), наконец, о старике Лаперузе, о его родственных связях с маленьким Борисом и об обещании, которое я дал ему, прощаясь с ним, привезти этого мальчика. Так как Софроницкая сказала мне раньше, что она считает нежелательным, чтобы Борис продолжал жить с матерью, я спросил ее: «Почему бы вам не поместить его в пансион к Азаисам?» Внушая ей эту мысль, я думал главным образом о том, как безмерно обрадуется дедушка, узнав, что Борис находится совсем рядом с ним, у друзей, где он может видеть его, когда ему будет угодно; тут я прибавил, что не могу допустить, чтобы мальчик со своей стороны не почувствовал там себя хорошо. Софроницкая сказала, что подумает над этим, а пока она крайне заинтересована всем, что я ей только что рассказал.
Софроницкая все время повторяет, что маленький Борис выздоровел; это лечение должно подтвердить правильность ее метода; но боюсь, не слишком ли рано она празднует победу. Понятно, я не хочу ей противоречить; я согласен с ней, что его тики, нервные судороги, умолчания почти исчезли, но мне кажется, что болезнь попросту переместилась в более глубинные области его существа, словно желая укрыться от испытующего взгляда врача, и теперь поразила саму его душу. Подобно тому как онанизм сменился нервными судорогами, эти последние уступают теперь место какому-то непонятному трансу. Софроницкая, правда, беспокоится, видя, как Борис вслед за Броней все больше оказывается во власти своеобразного детского мистицизма; она слишком умна, чтобы не понять, что это новое «блаженство души», которого ищет сейчас Борис, в конце концов не слишком отличается от «блаженства», которое он вызывал раньше искусственно, и что хотя оно не так дорого обходится, не так разрушительно для организма, все же не в меньшей степени отвлекает его от усилия и от стремления претворять его в определенный результат. Но когда я говорю ей об этом, она мне отвечает, что такие души, как Борис и Броня, не могут обходиться без грез и химер и что, если их отнять, они впадут: Броня – в отчаяние, а Борис – в вульгарный натурализм; она полагает, кроме того, что не вправе разрушать доверие этих детей и, хотя считает их иллюзии обманчивыми, все же желает видеть в них сублимирование низменных инстинктов, более высокое устремление, благородное побуждение, предохраняющее их, и т. п. Не веря сама в церковные догматы, она верит в действенную силу веры. Она с волнением говорит о набожности этих детей, которые вместе читают Апокалипсис, приходят в возбуждение, ведут беседы с ангелами и облекают свои души в белые плащаницы. Как все женщины, она полна противоречий. Но она права: я положительно не являюсь мистиком… как не являюсь и ленивцем. Я очень рассчитываю на атмосферу пансиона Азаисов и вообще парижский дух, чтобы сделать из Бориса работника и окончательно вылечить его от искания «воображаемых благ». Там он найдет для себя спасение. Софроницкая привыкает, мне кажется, к мысли доверить его мне, но, вероятно, она сама привезет его в Париж, желая лично присмотреть за его устройством у Азаисов и успокоить, таким образом, его мать, согласия которой она берется добиться.
VI
Есть пороки, которые, будучи выгодно показаны, сверкают ярче, нежели сама добродетель.
ЛарошфукоПисьмо Оливье к Бернару
«Дружище!
Прежде всего сообщаю тебе, что я успешно выдержал выпускной экзамен. Но это не столь важно. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я все еще колебался, но после прочтения твоего письма разом решился. Сначала легкое сопротивление матери, но его быстро преодолел Винцент, который выказал ко мне предупредительность, какой я от него не ожидал. Я не могу поверить, что в обстоятельствах, на которые намекает твое письмо, он мог поступить по-свински. В нашем возрасте мы обладаем досадной склонностью слишком строго судить людей и безапелляционно выносить им приговор. Многие поступки кажутся нам достойными порицания, даже гнусными просто потому, что мы недостаточно проникаем в их мотивы. Винцент не… Но это завело бы меня слишком далеко, а я хочу сообщить тебе множество вещей.
Да будет тебе известно, что тебе пишет главный редактор нового журнала «Авангард». Поразмыслив немного, я решил взять на себя обязанности, которые, по мнению графа Робера де Пассавана, я достоин исполнять. Он является издателем журнала, но не слишком желает, чтобы об этом было известно, и на обложке будет значиться только моя фамилия. Выпуск нашего журнала приурочен к октябрю; постарайся прислать мне что-нибудь для первого номера; мне было бы неприятно, если бы твоя фамилия не красовалась рядом с моей в первом оглавлении. Пассаван хочет, чтобы в первом номере появилось нечто очень вольное и пряное, потому что, по его мнению, самый худший упрек, который может навлечь на себя молодой журнал, – это упрек в чрезмерном целомудрии; я весьма склонен разделять это мнение. Мы много спорим по этому поводу. Он попросил меня написать что-нибудь в таком роде и снабдил меня достаточно рискованным сюжетом для коротенького рассказа; я немножко беспокоюсь, как бы это не причинило огорчения моей матери; но будь что будет. Как говорит Пассаван: чем человек моложе, тем меньше его компрометирует скандал.
Я пишу тебе из Виццавоне. Виццавоне – крохотная деревушка на склонах одной из самых высоких гор Корсики, запрятавшаяся в густом лесу. Гостиница, где мы живем, расположена довольно далеко от деревни и служит туристам как бы отправным пунктом для экскурсий. Мы здесь всего несколько дней. Сначала недолго жили в одной харчевне, поблизости от восхитительной бухты Порто, совершенно пустынной, куда мы спускались купаться по утрам и где можно разгуливать нагишом целый день. Это было чудесно; но стало слишком жарко, и мы вынуждены были подняться в горы.
Пассаван восхитительный спутник: он совсем не чванится своим титулом, хочет, чтобы я называл его Робер, и выдумал для меня уменьшительное имя Олив. Ну разве не очаровательно? Он делает все, чтобы заставить меня забыть о своем возрасте, и, уверяю тебя, ему удается добиться этого. Моя мать была немного напугана моим отъездом, потому что она едва с графом знакома. Я колебался из боязни доставить ей огорчение. Перед получением твоего письма я совсем было отказался. Винцент ее успокоил, а твое письмо вдруг наполнило меня храбростью. Последние дни перед отъездом ушли у нас на беготню по магазинам. Пассаван так щедр, что хотел все предоставить в мое распоряжение, и мне постоянно приходилось его останавливать. Но он находил мои жалкие наряды ужасными: рубашки, галстуки, носки, все, что было у меня, ему не нравилось; он повторял, что, когда я буду жить с ним, ему будет очень неприятно видеть меня одетым не comme il faut[26], иными словами: не так, как ему нравится. Понятно, все покупки посылались к нему из опасения, как бы они не встревожили маму. Сам он изысканно элегантен; но, главное, у него прекрасный вкус, и множество вещей, которые казались мне терпимыми, сейчас возбуждают во мне отвращение. Ты не можешь себе вообразить, как занятно бывать в магазинах и мастерских. Он так остроумен. Я хочу дать тебе представление об этом: мы находились у Брентано, куда он отдал в починку свое вечное перо. За ним стоял огромный англичанин, который хотел подойти к прилавку вне очереди и, когда Робер довольно грубо его оттолкнул, стал ворчать что-то по его адресу; Робер обернулся и очень спокойно сказал:
– Не утруждайте себя. Я по-английски не понимаю.
Англичанин, взбешенный, отвечал на чистейшем французском:
– Вам следовало бы знать английский, милостивый государь.
Тогда Робер с улыбкой и очень вежливо:
– Вы видите, что это совершенно ни к чему.
Англичанин кипел от негодования, но не нашелся что ответить. Это было уморительно.
Другой раз мы были в «Олимпии». Во время антракта прогуливались в фойе, где бродило множество проституток. Две из них, с виду довольно невзрачные, пристали к нему:
– Не угостишь кружкой пива, милок?
Мы сели с ними за столик.
– Человек! Пива для этих дам.
– А для господ?
– Для нас?.. О, мы возьмем шампанского, – проронил он небрежно. И заказал бутылку моэт, которую мы и выдули. Если бы ты видел рожи несчастных девок! Я думаю, он питает отвращение к проституткам. Он признался мне, что ни разу не был в публичном доме, и дал мне понять, что очень рассердился бы, если бы я туда пошел. Ты видишь таким образом, что это человек очень чистоплотный, несмотря на свой напускной цинизм и циничные суждения вроде того, что в дороге он называет «унылым днем» день, когда не встретил before lunch[27], по крайней мере, пяти женщин, коими хотел бы обладать. Доложу тебе в скобках, что я не возобновлял… ты понимаешь меня.
У него очень забавный и своеобразный способ морализировать. Он однажды обратился ко мне:
– Видишь ли, мой мальчик, самое важное в жизни – не поддаваться никаким увлечениям. Увлечешься одним, глядишь – уж другая вещь увлекла тебя, а потом перестаешь сознавать, куда идешь. Так, я знал одного молодого человека, очень порядочного, которому пришлось жениться на дочери моей кухарки. Как-то ночью он случайно вошел к какому-то мелкому ювелиру. Убил его. Затем ограбил. И скрыл все это. Ты видишь, куда это ведет. Последний раз, когда я его видел, он уже стал лгуном. Прими к сведению.
И он всегда такой. Словом, я не скучаю. Мы отправились с намерением много работать, но до сих пор занимаемся только тем, что купаемся, жаримся на солнце и болтаем. У него необычайно оригинальные мнения и мысли о каждом предмете. Я всячески побуждаю его опубликовать недавно изложенные им мне совершенно новые теории о животных морских глубин и о том, что он называет «собственным светом» этих животных, позволяющим им обходиться без солнечного света, который он уподобляет свету благодати и «откровению». Изложенные в нескольких словах, как у меня сейчас, эти теории не производят никакого впечатления, но, уверяю тебя, когда он их развивает, это интересно, как роман. Широкой публике неизвестно, что он большой эрудит в естественных науках; но он кокетничает тем, что скрывает свои познания. Он называет их своим тайным богатством. Он говорит, что только снобы тешатся, выставляя напоказ все свои драгоценности, особенно когда те поддельные.
Он удивительно умеет пользоваться идеями, образами, людьми, вещами: иными словами, из всего извлекает выгоду. Он говорит, что сложное искусство жить заключается не столько в уменье наслаждаться, сколько в уменье извлекать из жизни пользу.
Я написал несколько стихотворений, но не настолько ими доволен, чтобы послать их тебе.
До свидания, старина. До октября. Ты и меня найдешь изменившимся. С каждым днем я приобретаю все больше уверенности. Я рад был узнать, что ты в Швейцарии, но, видишь, у меня нет оснований тебе завидовать.
Оливье».
Бернар протянул это письмо Эдуарду, который прочел его, ничем не выдав тех чувств, которые оно у него вызвало. Все, что Оливье с таким удовольствием рассказывал о Робере, возмущало его и в конце концов наполнило ненавистью. В особенности его огорчило, что он не был даже упомянут в этом письме, что Оливье, казалось, совсем позабыл его. Он тщетно старался разобрать тщательно зачеркнутые три строчки постскриптума: «Скажи дяде Э., что я постоянно думаю о нем; я не могу простить ему, что он меня бросил, и храню в сердце жестокую обиду».
Это были единственные искренние строчки во всем этом хвастовском письме, продиктованном досадой. Оливье вымарал их.
Эдуард возвратил Бернару ужасное письмо, не сказав ни слова; Бернар молча взял его. Я сказал уже, что они мало разговаривали; какая-то странная, необъяснимая принужденность овладевала ими, едва они оставались одни. (Я не люблю этого слова «необъяснимая» и пишу его здесь только из-за отсутствия более подходящего.) Но вечером, когда они пришли к себе в комнату и собирались ложиться спать, Бернар, преодолев себя, спросил сдавленным голосом:
– Лаура показывала вам письмо, которое получила от Дувье?
– У меня не было никаких сомнений, что Дувье поступит как джентльмен, – сказал Эдуард, ложась в постель. – Это очень славный парень. Немного слабый, может быть, но все же очень славный. Он будет обожать ребенка Лауры, я уверен. И ребенок, наверное, будет крепче, чем если б он родился от него. Ведь господин Дувье не ахти какой здоровяк.
Бернар слишком любил Лауру, чтобы не почувствовать себя шокированным развязностью Эдуарда, но все же ничем не выдал своих чувств.
– Слава богу! – проговорил Эдуард, гася свечу. – Я рад, что так хорошо кончается вся эта история, у которой, казалось, был только один исход – отчаяние. Каждому случается делать ложный шаг. Самое важное – не упорствовать…
– Разумеется, – сказал Бернар, желая прекратить этот разговор.
– Должен признаться вам, Бернар, я боюсь, не сделал ли я с вами…
– Ложного шага?
– Увы, да. Несмотря на всю привязанность, какую я питаю к вам, в последние дни я все больше и больше убеждаюсь, что мы не созданы для взаимного понимания и что… – он помедлил несколько мгновений, подыскивая слова, – дальнейшее ваше пребывание в моем обществе собьет вас с пути.
Бернар держался того же мнения, пока Эдуард не высказался; но, конечно, никакие слова Эдуарда не могли бы больнее задеть Бернара за живое. Увлекаемый духом противоречия, Бернар запротестовал:
– Вы не знаете меня как следует, да и сам я хорошенько себя не знаю. Вы не подвергли меня испытанию. Если у вас нет каких-либо упреков по отношению ко мне, могу я попросить вас подождать еще? Я допускаю, что мы очень мало похожи друг на друга; но мне казалось, что наше взаимное несходство как раз и является обстоятельством, служащим на пользу каждому из нас. Мне кажется, что если я могу помочь вам чем-нибудь, то главным образом своими отличиями, тем новым, что я принес бы вам. Если я обманываюсь, то всегда будет время дать мне понять это. Я не принадлежу к числу людей, вечно жалующихся и обвиняющих других в несправедливости. Послушайте, вот что я предлагаю вам; может быть, это глупо… Маленький Борис, насколько я понял, должен поступить в пансион Ведель-Азаис. Не выражала ли вам Софроницкая своих опасений, что он будет чувствовать себя там несколько потерянным? Если я сам заявлюсь туда с рекомендацией Лауры, не могу ли я надеяться получить там какую-нибудь работу: сделаться репетитором, надзирателем или чем-нибудь в этом роде? Мне нужен заработок. За то, что я буду там делать, я много не спрошу, удовлетворюсь столом и комнатой… Софроницкая питает ко мне доверие, а с Борисом я прекрасно умею ладить. Я буду оказывать ему покровительство, помогать ему, сделаюсь его наставником, другом. В то же время я мог бы остаться в вашем распоряжении, работал бы для вас в свободные часы и отвечал бы на малейший зов с вашей стороны. Что вы на это скажете? – И, как бы для того, чтобы придать слову «это» больший вес, прибавил: – Я думаю над этим уже целых два дня.
Это была неправда. Если бы он сочинил этот прекрасный проект не сию минуту, он уже рассказал бы о нем Лауре. Правда, которой он не высказывал, заключалась в том, что со времени нескромного прочтения дневника Эдуарда и встречи с Лаурой он часто думал о пансионе Веделей; он желал познакомиться с Арманом, другом Оливье, о котором Оливье никогда ему не говорил; еще больше он желал познакомиться с Сарой, младшей сестрой; но его любопытство было глубоко затаено; из уважения к Лауре он не признавался в нем даже самому себе.
Эдуард ничего не отвечал; однако проект, предлагаемый Бернаром, нравился ему, если бы он обеспечил молодому человеку жилье. Ему мало улыбалась необходимость дать ему приют у себя. Бернар потушил свечу и снова заговорил:
– Не думайте, будто я ничего не понял из того, что вы рассказывали о своей книге и о конфликте, который, по-вашему, имеет место между голой реальностью и…
– Я не выдумываю этого конфликта, он существует в жизни.
– Но именно поэтому не будет ли очень кстати, если я стану снабжать вас фактами, чтобы дать вам возможность бороться с ними? Я буду наблюдать за вас.
Эдуард не был уверен, что в словах его собеседника не заключена скрытая издевка над ним. По правде говоря, он чувствовал себя несколько посрамленным Бернаром. Бернар выражал свои намерения слишком отчетливо…
– Мы обсудим этот вопрос, – сказал Эдуард. Наступило продолжительное молчание. Бернар тщетно пытался уснуть. Письмо Оливье мучило его. В конце концов он не выдержал и, услышав, что Эдуард ворочается в своей постели, сказал вполголоса:
– Если вы не спите, то разрешите мне обратиться к вам еще с одним вопросом… что вы думаете о графе Пассаване?
– Черт, вы это отлично знаете, – отвечал Эдуард. Затем, через несколько мгновений: – А вы?
– Я… – прошептал Бернар с ненавистью, – я бы убил его.
VII
Путник, достигший вершины холма, садится и всматривается в даль, прежде чем продолжать свой путь, который теперь пойдет под гору; он старается разглядеть, куда же приведет его избранная им извилистая тропа, которая, кажется ему, теряется в сумраке и – так как спускается ночь – даже во мраке. Так и непредусмотрительный автор останавливается на мгновение, переводит дух и с беспокойством спрашивает себя, куда же приведет его рассказ.
Боюсь, что, доверяя маленького Бориса Азаисам, Эдуард совершает оплошность. Как уберечь его от этого поступка? Каждое живое существо действует по своим собственным законам, а законы, управляющие поведением Эдуарда, заставляют его без конца экспериментировать. Сердце у него доброе, это верно, но для спокойствия других я часто предпочел бы, чтобы в своих поступках он руководился расчетом, ибо великодушие, увлекающее его, часто является лишь спутником любопытства, которое может стать жестоким. Он знает пансион Азаисов; знает отравленный воздух, которым в нем дышат под удушающим покровом морали и религии. Он знает Бориса, его нежность, его хрупкость. Ему следовало бы предвидеть, какого рода воздействиям он его подвергает. Но он соглашается принимать в расчет только покровительство, помощь и поддержку, которые неустойчивая чистота ребенка может найти в суровости старика Азаиса. К каким софизмам он прислушивается? Наверное, дьявол нашептывает ему их, ибо он не стал бы слушаться, если бы они исходили от других.
Эдуард не раз раздражал меня (хотя бы своими отзывами о Дувье), даже приводил в негодование; надеюсь, что я не слишком обнаруживал свои чувства; но теперь я могу откровенно в этом признаться. Его поведение по отношению к Лауре, подчас столь благородное, не раз казалось мне возмутительным.
Мне совсем не нравятся доводы, которыми Эдуард оправдывает свои поступки. Зачем он пытается убедить себя, что заботится о благе Бориса? Лгать другим куда ни шло, но лгать самому себе! Разве поток, в котором тонет ребенок, утоляет его жажду, как он утверждает?.. Я не отрицаю, что в мире существуют поступки благородные, великодушные и даже бескорыстные; я утверждаю только, что за самым высоким мотивом часто прячется хитрый чертенок, который умеет извлечь выгоду из того, что мы, казалось, у него отвоевали.
Воспользуемся периодом летнего отдыха, разбросавшего наших героев, и на досуге разглядим их повнимательнее. К тому же мы достигли того срединного момента нашей истории, когда течение ее замедлилось и как будто набирается новой энергии, чтобы устремиться вперед с большей скоростью. Бернар, несомненно, слишком еще молод, чтобы взять на себя руководящую роль в интриге. Он взялся охранять Бориса; он будет в состоянии самое большое наблюдать за ним. Мы видели уже перемену, происшедшую в Бернаре; страсти могут еще больше изменить его. Я нахожу в своей записной книжке несколько фраз, в которых выражено то, что я думал о нем раньше:
«Мне следовало бы отнестись с недоверием к тому слишком резкому поступку, который совершил Бернар в начале этой истории. Мне кажется, если судить по его последующим настроениям, он как бы истощил в этом поступке все свои анархические наклонности, которые, вероятно, продолжали бы жить в нем, если бы он, как ему приличествовало, остался прозябать под гнетом своей семьи. Совершив этот поступок, он испытывал в дальнейшем как бы реакцию, ощущал в себе протест против него. Приобретенная им привычка к бунту и противоречию приводит его к мятежу против самого бунта. Несомненно, он не является тем из моих героев, которые доставили бы мне большое разочарование, потому что он не был, пожалуй, тем, на кого я возлагал слишком большие надежды. Пожалуй, он слишком рано положился на собственные силы».
Но эти соображения больше не кажутся мне справедливыми. Я думаю, Бернару следует оказать некоторое доверие. Рыцарское отношение к нему его ободряет. Я чувствую в нем мужество, силу, он способен исполниться негодованием. Он, пожалуй, слишком любуется своими речами, но нужно признать, говорит он хорошо. Я отношусь с недоверием к чувствам, которые чересчур быстро находят для себя выражение. Это прекрасный ученик, но новые чувства не очень легко отливаются в заученные формы. Проявление собственного творчества сделало бы его косноязычным. Он уже много прочитал, много запомнил и гораздо больше узнал из книг, чем из жизни.
Я крайне огорчен капризом судьбы, поставившим его на место Оливье подле Эдуарда. События сложились неудачно. Эдуард любил Оливье. С какой заботливостью он следил бы за его духовным развитием! С каким любовным вниманием он руководил бы им, поддерживал его, приобщал к своим замыслам! Пассаван испортит его, в этом нет сомнения. Ничто так не губительно для Оливье, как эта беззастенчивая лесть. Я надеялся, что Оливье сумеет лучше защищаться; но душа у него нежная и чувствительная. Лесть туманит его мысли. Более того, по отдельным нюансам его письма к Бернару мне показалось, что он немного тщеславен. Чувственность, досада, тщеславие, сколько поводов для нарекания на него! Когда Эдуард снова встретится с ним, боюсь, будет слишком поздно. Но Оливье еще молод, и мы вправе на него надеяться.
Пассаван… о нем говорить не стоит, не правда ли? Нет людей столь отпетых и в то же время окруженных таким всеобщим одобрением, как мужчины его типа, разве что женщины, подобные леди Гриффитс. Первоначально, сознаюсь, она казалась мне довольно содержательной. Но я раскусил ее и понял свою ошибку. Такие персонажи выкроены из материала крайне непрочного. Во множестве их поставляет Америка, но не она одна производит их. Богатство, ум, красота – все, кажется, у них есть, кроме души. Винценту, конечно, скоро придется убедиться в этом. Их не сдерживают никакие традиции, никакие ограничения; для них нет законов, нет авторитетов, нет угрызений совести; свободные и полные прихотей, они приводят в отчаяние романиста, которому удается добиться от них лишь пустых капризов, обусловленных минутой. Надеюсь, я надолго расстаюсь с леди Гриффитс. Мне жаль, что она похитила у нас Винцента, который возбуждал во мне большой интерес; от частого общения с ней он пошлеет; обработанный ею, он утрачивает свою угловатость. Жаль: именно в ней и заключалась известная прелесть.
Если мне случится когда-нибудь сочинить еще роман, я населю его только закаленными характерами, которых жизнь не притупляет, а, напротив, изощряет. Лаура, Дувье, Лаперуз, Азаис… что делать со всеми этими людьми? Я не искал их; следуя за Бернаром и Оливье, я просто встретился с ними на своем пути. Тем хуже для меня; отныне я перед ними в долгу.
Часть третья ПАРИЖ
Когда мы будем обладать еще несколькими хорошими новыми монографиями, посвященными изучению отдельных областей, тогда, и только тогда, группируя их данные, сравнивая и самым тщательным образом сопоставляя их, мы будем в состоянии снова поставить вопрос об общей картине, сообщить ему новое и плодотворное движение. Поступать иначе – значило бы мчаться в курьерском поезде со скудным багажом из двух или трех простых и грубых идей. Это значило бы проходить в большинстве случаев мимо частного, индивидуального, неправильного, словом, мимо самого интересного.
Люсьен Февр.Земля и эволюция человекаI
Возвращение в Париж не доставило ему никакого удовольствия.
Флобер. Воспитание чувствДневник Эдуарда
22 сентября
Жара, скука. Возвратился в Париж на неделю раньше. Моя торопливость всегда будет до призыва гнать меня под знамена. Скорее любопытство, чем усердие; желание предвосхищать события. Я никогда не умел совладать со своей жаждой.
Привел Бориса к дедушке. Софроницкая, предупредившая накануне старика, сообщила мне, что госпожа Лаперуз поступила в богадельню. Уф!
Позвонил и оставил мальчика на площадке лестницы, решив, что будет деликатнее не присутствовать на первом свидании: боялся благодарности старика. Расспрашивал потом мальчика, но не мог добиться от него ни слова. Софроницкая, с которой я тоже виделся, сказала мне, что и ей Борис ничего не сказал. Когда час спустя она пришла за ним, как было условлено, ей открыла дверь служанка; Софроницкая застала старика сидящим за партией в шашки; мальчик стоял надувшись в противоположном углу комнаты.
– Странно, – сказал Лаперуз, совершенно растерявшись, – мне казалось, что игра развлекает его, но он вдруг заупрямился. Боюсь, что он немного нетерпелив…
Было ошибкой оставлять их одних на столь продолжительное время.
27 сентября
Сегодня утром встретил Молинье под галереями Одеона. Полина и Жорж возвращаются только послезавтра. Находясь в Париже еще со вчерашнего дня, Молинье подобно мне скучал в одиночестве; поэтому нет ничего удивительного, что он очень обрадовался нашей встрече. Мы решили позавтракать вместе и в ожидании часа завтрака отправились посидеть в Люксембургский сад.
В моем обществе Молинье напустил на себя игривость и заговорил шутливым тоном, который, видимо, по его мнению, больше всего должен был прийтись по вкусу писателю. Он желал еще показать себя бодрым и крепким.
– В сущности, я человек страстный, – заявил он. Я понял, что он хочет сказать «похотливый». Я улыбнулся, как мы улыбаемся, когда слышим от женщины заявление, что у нее красивые ноги; улыбка, которая обозначает: «Поверьте, я в этом никогда не сомневался». До сего дня я видел в Молинье только чиновника; он впервые представал передо мной без мундира.
Я подождал, пока мы усядемся за столик у Фуайо, и заговорил с ним об Оливье; сказал, что получил недавно известия о его сыне от одного из его товарищей, который сообщал мне, что мальчик путешествует по Корсике с графом де Пассаваном.
– Да, это друг Винцента, предложивший Оливье поехать с ним. Так как Оливье только что с успехом выдержал выпускные экзамены, мать не сочла себя вправе отказать ему в небольшом удовольствии… Этот граф де Пассаван – литератор. Вы, вероятно, его знаете.
Я не скрыл от Молинье, что мне не очень нравятся его книги и он сам.
– Собратья по перу часто судят друг друга чересчур строго, – возразил он. – Я дал себе труд прочитать его последний роман, который до небес превозносят некоторые критики. Не скажу, чтобы я нашел в нем что-то особенное, но, вы знаете, я в этом мало смыслю…
Затем, в ответ на мои опасения относительно дурного влияния, которое Пассаван может оказать на Оливье, он промямлил:
– По правде сказать, лично я не одобрял этого путешествия. Но нужно всегда помнить, что начиная с известного возраста дети ускользают от нашего влияния. Это в порядке вещей, и ничего с этим не поделаешь. Полина хотела бы вечно присматривать за ними. Я говорю ей иногда: «Ты только раздражаешь своих сыновей. Оставь их в покое. Ты сама внушаешь им всякие мысли своими расспросами…» Я держусь того мнения, что от долгого присмотра за ними нет никакого проку. Важно, чтобы первоначальное воспитание привило им добрые принципы. Особенно важно, чтобы у них были крепкие задатки. Видите ли, дорогой мой, наследственность торжествует над всем. Есть дурные субъекты, которых ничто не способно исправить; те, кого мы называем «неисправимыми». Их необходимо держать в большой строгости. Но когда имеешь дело с добрыми натурами, можно немного ослабить вожжи.
– Вы сказали мне, однако, – продолжал я, – что не давали согласия на эту поездку Оливье.
– Ах, мое согласие… мое согласие, – сказал он, уткнув нос в тарелку, – иногда обходятся и без моего согласия! Нужно принять во внимание, что в семьях – даже в тех, где супруги живут душа в душу, – решающее слово не всегда принадлежит мужу. Вы не женаты, вас это не интересует…
– Извините, пожалуйста, – сказал я со смехом, – но я романист.
– В таком случае вы, несомненно, должны были заметить, что не всегда по слабости характера мужчина позволяет жене вертеть собой.
– В самом деле, – согласился я, чтобы ему польстить, – есть твердые и даже властные мужчины, которые в семейной жизни проявляют кротость ягненка.
– Знаете, чем это объясняется?.. – спросил он. – Если муж уступает жене, это в девяти случаях из десяти признак того, что за ним водятся грешки. Добродетельная жена, дорогой мой, извлекает выгоду из всего. Стоит мужу немного нагнуться, как она садится ему на шею. Ах, друг мой, бедные мужья иногда тоже достойны сожаления! Когда мы молоды, мы желаем целомудренных супруг, не зная того, во что нам обойдется их добродетель.
Облокотившись на стол и подперев рукой подбородок, я наблюдал Молинье. Бедняга не подозревал, насколько согбенное положение, на которое он жаловался, казалось естественным для его спины; он часто вытирал лоб, много ел, будучи похож не столько на гурмана, сколько на обжору, и, казалось, особенно смаковал заказанное нами старое бургундское. Очень довольный тем, что его слушали, понимали и, по его мнению, вероятно, одобряли, он изливался в признаниях.
– Особенности судебного чиновника, – продолжал он, – привели меня к знакомству с женщинами, которые отдавались своим мужьям против воли, скрепя сердце… и которые, однако, приходят в негодование, когда несчастный отверженный начинает искать себе «пищу» на стороне.
Судебный чиновник начал фразу в прошедшем времени; муж закончил ее в настоящем, ясно свидетельствовавшем о желании самооправдаться. Он прибавил тоном поучения, между двумя глотками:
– Аппетит другого легко кажется чрезмерным, когда его не разделяешь. – Выпив большую рюмку вина, он продолжал: – Вот вам, дорогой друг, объяснение, как муж утрачивает главенство в семейной жизни.
Но я слышал больше и угадывал в кажущейся несвязности его речей желание переложить ответственность за свои грешки на добродетель жены. Таким развинченным, как этот паяц, существам, думал я, недостаточно всего их эгоизма, чтобы как-то скреплять несогласующиеся друг с другом элементы их личности. Стоит им только немного забыться, и они разваливаются на куски. Он замолчал. Мне захотелось подбавить несколько своих замечаний, как подливают масло в машину, которая только что совершила перегон; поэтому, чтобы побудить его продолжать, я отважился сказать:
– К счастью, Полина рассудительна.
Он произнес: «Да…», но так протяжно, что оно прозвучало у него как сомнение, затем продолжал:
– Есть, однако, вещи, которых она не понимает. Знаете, как бы ни была рассудительна женщина… Впрочем, я согласен, что в данном случае я действовал не особенно ловко. Я вздумал рассказать ей о маленьком приключении, когда сам считал, даже был убежден, что история не зайдет слишком далеко. Однако она имела продолжение… а вместе с ней стали все больше расти подозрения Полины. Я совершил ошибку, пустив ей, как говорится, блоху в ухо. Пришлось притворяться, лгать… Вот что значит не вовремя распускать язык. Что поделаешь! Я от природы откровенен… Но Полина страшно ревнива, и вы не можете представить, как мне пришлось хитрить.
– И давно это? – спросил я.
– О, это длится уже около пяти лет, и я думаю, что мне удалось совершенно успокоить ее. Но все грозит повториться сначала. Представьте себе, что позавчера… Не спросить ли нам еще бутылку помара, а?
– Только не для меня, прошу вас.
– Может быть, они подают и не целыми бутылками? Я сосну потом часок. Жара одолевает меня… Так вот позавчера, возвратившись домой, открываю я свой письменный стол, чтобы привести в порядок бумаги. Выдвигаю ящик, в котором прячу письма… особы, о которой идет речь. Представьте себе мой ужас, дорогой мой: ящик пуст. Ах, черт возьми, для меня ясно, как все произошло! Две недели тому назад Полина приезжала с Жоржем в Париж на свадьбу дочери одного из моих коллег; я не имел возможности присутствовать на этой свадьбе, так как, вы знаете, находился в Голландии… кроме того, все эти церемонии, скорее, женское дело. Праздная, в пустой квартире, под предлогом уборки… вы знаете, что женщины всегда немного любопытны… она, наверно, начала рыться… о, ничего дурного я не хочу подозревать. Я не обвиняю ее. Просто у Полины всегда была священная потребность наводить порядок… Как, по-вашему, я должен теперь объяснить ей все, когда у нее в руках доказательства? Если бы еще крошка не называла меня по имени! Такое согласное супружество! Когда я думаю о том, что мне следует предпринять…
Бедняга путался в своих признаниях. Он вытирал себе лоб, обмахивался платком. Я выпил гораздо меньше, чем он. Сердце не обладает способностью соболезновать по заказу; я испытывал к нему лишь отвращение. Я соглашался видеть в нем отца семейства (хотя мне и тяжело было сознавать, что он отец Оливье), порядочного и честного буржуа, отставного чиновника; но влюбленный он был мне только смешон. Особенно неприятное впечатление на меня производили нескладность и тривиальность его объяснений, его жалкая мимика; ни его лицо, ни его голос, казалось, не были созданы для передачи чувств, которые он выражал; впечатление контрабаса, пытающегося передать эффекты альта: его инструмент издавал лишь сиплые звуки.
– Вы сказали, что с ней был Жорж…
– Да, она не хотела оставить его одного. Но, понятно, в Париже он не всегда висел у нее на шее… Могу вас уверить, дорогой мой, что за все двадцать шесть лет нашего супружества у нас не было ни одной ссоры, ни одной размолвки… Когда я начинаю думать о том, что мне предстоит… ведь Полина возвращается через два дня… Давайте лучше поговорим о другом. Да! Что вы скажете о Винценте? Князь Монако, прогулка на яхте… Черт возьми!.. Как, вы не знаете?.. Да, он недавно отправился наблюдать измерение морских глубин и морские промыслы подле Азорских островов. Ах, о нем мне нечего беспокоиться, уверяю вас! Этот сам пробьет себе дорогу.
– Как его здоровье?
– Совершенно восстановилось. Будучи обладателем такого ума, он, по-моему, добьется славы. Граф де Пассаван не скрыл от меня, что считает его одним из самых замечательных людей, с кем ему приходилось встречаться. Он даже сказал: самым замечательным… но это, конечно, преувеличение…
Завтрак подходил к концу; он закурил сигару.
– Могу я спросить у вас, – снова обратился он ко мне, – что это за друг Оливье передал вам известия о нем? Замечу вам, что я придаю огромное значение знакомствам моих детей. Я полагаю, в этом отношении нужно быть крайне бдительным. Мои дети, к счастью, обладают естественной склонностью сходиться только с самыми лучшими людьми. Смотрите: Винцент дружит с князем, Оливье – с графом де Пассаваном… Даже Жорж отыскал в Ульгате своего одноклассника, юного Адаманти, который к тому же поступит вместе с ним в пансион Ведель-Азаис; мальчик очень надежный: отец его сенатор с Корсики. Но, заметьте, до какой степени нужно быть осмотрительным: у Оливье был друг, по-видимому из хорошей семьи: некий Бернар Профитандье. Нужно вам сказать, что Профитандье-отец – мой сослуживец: один из самых замечательных людей, и я питаю к нему особенное уважение. Но… пусть это останется между нами… я узнал недавно, что он не является отцом мальчика, носящего его имя! Что вы скажете на это?
– Как раз этот самый Бернар Профитандье и сообщил мне новости об Оливье, – сказал я.
Молинье несколько раз затянулся сигарой и, высоко подняв брови, от чего его лоб покрылся морщинами, произнес:
– Я предпочитаю, чтобы Оливье не слишком общался с этим мальчиком. Я получил компрометирующие сведения о нем, которые, впрочем, не очень меня удивили. Согласитесь, что нет основания ожидать добра от ребенка, рожденного при таких печальных обстоятельствах. Я не хочу сказать, что незаконный ребенок не может обладать крупными достоинствами, даже добродетелями; но, будучи плодом самовольства и неподчинения, он обязательно носит в себе зародыши анархии… Да, дорогой мой, то, что должно было случиться, случилось. Юноша Бернар внезапно покинул семейный очаг, возврат куда отныне ему заказан. Он отправился «жить своей жизнью», как говорил Эмиль Ожье; жить неизвестно как и неизвестно где. Несчастный Профитандье, сам рассказавший мне об этой передряге, вначале, казалось, был сильно потрясен. Я постарался убедить его, что дело не следует принимать столь близко к сердцу. В общем, уход этого мальчика все поставил на свои места.
Я возразил, что достаточно знаю Бернара, чтобы поручиться в его благородстве и порядочности (понятно, я воздержался от рассказа об истории с чемоданом). Но Молинье тотчас же набросился на меня:
– Оставьте! Я вижу, что мне придется рассказать вам еще кое о чем.
Затем, придвинувшись ко мне, продолжал вполголоса:
– Моему сослуживцу Профитандье было поручено следствие по одному крайне грязному и щекотливому делу, оно таково как по существу, так и по шуму, который может вызвать, и последствиям, какое может иметь. Совершенно фантастическая история, которой так не хотелось бы верить… Дело идет, дорогой мой, о настоящем притоне разврата, о… нет, не хочу употреблять непотребные слова, скажем, о чайном домике, чьей скандальной особенностью является то, что завсегдатаи его гостиных состоят по большей части и почти исключительно из совсем зеленой школьной молодежи. Говорю вам, это совершенно невероятно. Дети, наверное, не отдают себе отчета в серьезности своих поступков, потому что они почти не пытаются их скрывать. Это происходит по окончании классов. Они закусывают, разговаривают, развлекаются с этими дамами; и развлечения находят себе продолжение в комнатах, примыкающих к гостиным. Понятно, туда нет доступа всем желающим. Нужно быть представленным, отрекомендованным. Кто несет издержки по устройству этих оргий? Кто платит за помещение? Обнаружить это было, по-видимому, не так трудно, но необходимо было вести расследование с крайней осторожностью из опасения узнать слишком много и быть вынужденным в итоге привлечь к допросу и скомпрометировать почтенные семьи, на детей которых пало подозрение как на главных клиентов заведения. Вследствие этого я сделал все возможное, чтобы умерить пыл Профитандье, который набросился как разъяренный бык на это дело, не подозревая, что первым ударом рогов… ах, извините меня, я сказал это не нарочно, ха! ха! смешно, вырвалось у меня нечаянно… он рискует проткнуть собственного сына. К счастью, каникулы привели к перерыву собраний; школьники разъехались, и я надеюсь, все это дело будет замято и потушено без скандала после кое-каких предупреждений и не подлежащих огласке санкций.
– Вы вполне уверены, что Бернар Профитандье замешан в этом деле?
– Не вполне, но…
– Что же заставляет вас предполагать это?
– Прежде всего тот факт, что он незаконнорожденный. Вы понимаете, конечно, что мальчик его лет способен порвать с семьей, только потеряв всякий стыд… Кроме того, у меня есть основания предполагать, что Профитандье собрал некоторые улики, так как его пыл вдруг остыл; больше того, он как будто даже забил отбой, и в последний раз, когда я спрашивал его о состоянии дела, он обнаружил замешательство. «Я думаю, что мое следствие окончится безрезультатно», – сказал он мне и тотчас же переменил тему разговора. Бедняга Профитандье! Честное слово, он не заслужил того, что с ним стряслось. Это порядочный человек и, что, может быть, встречается реже, славный малый. Да, кстати, дочь его только что очень удачно вышла замуж. Я не мог присутствовать на свадьбе, потому что был в Голландии, но Полина и Жорж специально приезжали в Париж. Я ведь уже говорил вам об этом? Ну, мне пора пойти вздремнуть… Как, вы хотите заплатить за все? Бросьте! Разделим по-товарищески… Не стоит? Ну, до свидания. Не забывайте, что Полина приезжает через два дня. Заходите к нам. И потом, не называйте меня больше Молинье, говорите просто Оскар!.. Я уже давно хотел просить вас об этом.
Сегодня вечером получил записку от Рашели, сестры Лауры:
«Мне нужно поговорить с вами по важному делу. Можете ли вы, если это не доставит вам неудобства, прийти в пансион завтра после двенадцати? Вы окажете мне большую услугу».
Если бы Рашель желала поговорить со мной о Лауре, она не стала бы ждать. Она пишет мне в первый раз.
II
Дневник Эдуарда
(продолжение)
28 сентября
Я встретил Рашель на пороге большой классной комнаты на первом этаже пансиона. Два служителя подметали пол. Она тоже была в переднике, с тряпкою в руке.
– Я знала, что могу рассчитывать на вас, – сказала она мне, подавая руку, с выражением нежной грусти и покорности, но с улыбкой более трогательной, чем красота. – Если вы не очень спешите, то лучше поднимитесь сначала наверх и поздоровайтесь с дедушкой и мамой. Если они узнают, что вы приходили и не навестили их, они будут огорчены. Но не задерживайтесь, мне непременно нужно поговорить с вами. Вы меня найдете здесь, видите, я наблюдаю за уборкой.
Из какого-то ложного стыда она никогда не говорит «я работаю». Всю жизнь Рашель держалась в тени; нет ничего более деликатного и скромного, чем ее добродетель. Ее самоотречение таково, что ни один из членов семьи не чувствует к ней благодарности за ее вечное самопожертвование. Это самая прекрасная женская душа, какую я знаю.
Поднялся на третий этаж к Азаису. Теперь старик почти не покидает своего кресла. Он усадил меня подле себя и сразу же завел речь о Лаперузе.
– Меня очень беспокоит его одиночество, и я хотел бы убедить его переехать к нам в пансион. Вы знаете, мы старые друзья. Я заходил к нему недавно. Боюсь, что переезд его дорогой жены в Сент-Перин очень расстроил его. По моему мнению, обыкновенно мы едим слишком много; но во всем нужно соблюдать меру, и можно пересолить в ту или другую сторону. Он считает излишней роскошью, чтобы для него одного стряпали обед; но если бы он обедал с нами, то вид обедающих возбуждал бы у него аппетит. Он был бы здесь подле своего прелестного внука, между тем, при теперешних условиях, ему представится очень мало случаев видеться с ним, ибо улица Вавен в предместье Сент-Оноре – это дальний путь. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы ребенок ходил один по Парижу. Я давно уже знаком с Анатолем Лаперузом. Он всегда был чудаком. Это не упрек, но он от природы немного горд и не принял бы, наверное, гостеприимства, которое я ему предлагаю, не внося плату за свое содержание. Поэтому мне пришла в голову мысль предложить ему присматривать за занятиями учеников, что будет для него не слишком утомительно и, кроме того, доставит ему некоторое развлечение, отвлечет от мыслей о себе. Он хороший математик и мог бы, в случае надобности, давать уроки по геометрии или по алгебре. Теперь, когда у него нет учеников, обстановка и рояль больше не нужны ему; ему следовало бы бросить свою квартиру; и так как после переезда сюда ему не пришлось бы платить за помещение, я подумал, что мы, пожалуй, согласились бы брать с него маленькую плату за пансион, чтобы его подбодрить и чтобы он не чувствовал себя всем обязанным мне. Вы должны постараться убедить его и сделать это не откладывая, потому что при его теперешнем образе жизни, боюсь, он скоро ослабеет. Кроме того, через два дня возобновятся занятия в пансионе; было бы полезно знать, чего держаться и можно ли также рассчитывать на него… как он может рассчитывать на нас.
Я обещал поговорить с Лаперузом завтра же. Словно почувствовав облегчение, он продолжал:
– Какой славный мальчик ваш протеже Бернар! Он так любезно изъявил готовность оказывать нам небольшие услуги; он предложил наблюдать за занятиями младших учеников; но боюсь, что сам он немного молод и не сумеет заставить их относиться к себе с почтением. Я долго разговаривал с ним и нашел его весьма симпатичным. Как раз из характеров такого закала и выковываются лучшие христиане. Крайне прискорбно, что первоначальное воспитание направило эту душу по ложному пути. Он сознался мне, что неверующий; но он сказал это таким тоном, который исполнил меня доброй надеждой. Я ответил ему, что надеюсь найти в нем все качества, необходимые для образования храброго Христова воина, и что он должен приложить все усилия, чтобы пустить в дело вверенные ему Богом таланты. Мы вместе перечитали притчу, и я думаю, что доброе семя упало не на бесплодную почву. Он был взволнован моими словами и обещал мне подумать над ними.
Бернар уже рассказал мне об этой беседе со стариком: мне было известно, что он о ней думал, поэтому разговор становился для меня в достаточной мере тягостным. Я поднялся уже, чтобы уйти, но Азаис не выпускал протянутую мною руку и продолжал:
– Да, вот еще что! Я виделся с нашей Лаурой. Я узнал, что моя милая внучка провела с вами целый месяц в горах, по-видимому, это принесло большую пользу ее здоровью. Я рад, что она снова подле мужа, который, должно быть, уже страдал от ее долгого отсутствия. Очень жаль, что занятия не позволили ему приехать к вам туда.
Я рвался уйти, испытывая все большее замешательство, так как не знал, что могла сказать ему Лаура, но он привлек меня к себе порывистым и повелительным движением руки и нагнулся к моему уху:
– Лаура сообщила мне по секрету, что питает надежды, но, тс!.. Она желает пока скрывать это. Я говорю вам потому, что знаю – вы в курсе дела, а мы оба умеем молчать. Бедная девочка была совсем сконфужена, доверяя мне свою тайну, и вся раскраснелась; она так скромна. Она бросилась на колени передо мной, и мы вместе возблагодарили Бога за то, что он благословил этот союз. Мне кажется, Лаура лучше сделала бы, если бы отложила свое признание, к которому не принуждало еще ее состояние. Если бы она обратилась за советом ко мне, я предложил бы ей подождать встречи с Дувье, прежде чем говорить о чем-либо. Азаис видит здесь только пылкость, но другие члены семьи вряд ли окажутся такими простаками.
Старик исполнил еще несколько вариаций на разные пасторские темы, затем сказал, что его дочь будет рада увидеться со мной, и я спустился на этаж, который занимали Ведели.
Перечитал только что написанное. Говоря так об Азаисе, не его, а себя изображаю я в невыгодном свете. Я отлично это понимаю и прибавляю несколько строчек в назидание Бернару на тот случай, если его очаровательная нескромность снова побудит его сунуть нос в эту тетрадь. Несмотря на недолгое свое знакомство со стариком, он поймет, что я хочу сказать. Я очень люблю старика и «сверх того», как он говорит, уважаю его; но едва я оказываюсь подле него, мне становится как-то не по себе; вследствие этого его общество в достаточной степени меня тяготит.
Я очень люблю его дочь, пасторшу. Госпожа Ведель похожа на Эльвиру Ламартина, правда, состарившуюся. Разговор ее не лишен прелести. Ей довольно часто случается не заканчивать произносимых фраз, отчего мысль окутывается как бы поэтической дымкой. Неточность и незаконченность она превращает в бесконечность. Она от будущей жизни ожидает всего, чего ей недостает на земле; это позволяет ей безгранично расширять область своих надежд.
Самая узость ее кругозора способствует ее устремлению ввысь. Достаточно ей редко встречаться с Веделем, чтобы вообразить, будто она его любит. Достойный человек постоянно в отлучке: тысяча всяких дел, забот, проповеди, съезды, посещение бедных и больных вынуждают его лишь изредка бывать дома. Он всегда пожимает вам руку на ходу, но тем более сердечно.
– Очень тороплюсь и не могу поговорить с вами.
– Встретимся на небесах, там и наговоримся, – отвечаю я ему, но он не успевает меня услышать.
– Ни минуточки свободной, – вздыхает госпожа Ведель. – Если бы вы знали, сколько работы он взваливает на себя, с тех пор как… Так как всем известно, что он никогда не отказывается, то… Вечером, когда он возвращается, он бывает иногда таким усталым, что я почти не осмеливаюсь заговаривать с ним из страха, что… Он столько отдает другим, что у него ничего не остается для своих.
Когда она говорила это, мне вспомнились некоторые возвращения Веделя во времена, когда я жил в пансионе. Вспомнилось, как он охватывал голову руками и громко зевал. Но уже тогда мне казалось, что он, пожалуй, скорее страшился этого краткого отдыха, чем желал его, и что больше всего ему был бы тягостен досуг, который позволил бы ему привести в порядок свои мысли.
– Вы не откажетесь выпить чашку чаю? – обратилась ко мне госпожа Ведель, когда служанка принесла поднос с чайным прибором.
– Мадам, у нас сахару нет.
– Я уже сказала, что вы должны обращаться за этим к барышне Рашель. Ступайте живо… Вы звали наших молодых людей?
– Мсье Бернар и мсье Борис ушли.
– А мсье Арман?.. Живее!
Затем, не дожидаясь, когда служанка выйдет:
– Эта бедная девушка родом из Страсбурга. У нее нет никакой… Все приходится растолковывать ей… Ну, чего же вы ждете?
Служанка обернулась, словно змея, которой наступили на хвост.
– Внизу ждет репетитор, он хотел подняться сюда. Говорит, что не уйдет, пока ему не заплатят.
Лицо госпожи Ведель приняло трагическое выражение.
– Ну сколько раз мне повторять, что не я занимаюсь денежными делами. Скажите ему, чтобы он обращался к барышне. Ступайте!.. Ни минуты покоя! Ей-богу, не понимаю, о чем думает Рашель.
– Мы не будем ждать ее к чаю?
– Она никогда не пьет чаю… Ах, это начало занятий нам причиняет столько беспокойства! Репетиторы, предлагающие свои услуги, требуют непомерной платы, а когда их требования приемлемы, они сами оказываются никуда не годными. Папа принужден был выразить последнему свое неудовольствие; он проявил слишком большую слабость по отношению к нему; теперь этот репетитор нам угрожает. Вы слышали, что говорила девушка. У всех этих людей на уме только деньги… словно в мире нет ничего более важного… Пока мы не знаем, кем его заменить. Проспер всегда того мнения, что нужно только помолиться Богу и все устроится…
Служанка принесла сахар.
– Вы позвали мсье Армана?
– Да, барыня, он сейчас придет.
– А Сара? – спросил я.
– Она возвращается только через два дня. Она гостит у друзей в Англии – у родителей той молодой девушки, которую вы видели у нас. Они были очень любезны, и я рада, что Сара может немного… Лаура тоже. Я нашла, что она выглядит гораздо лучше. Это пребывание в Швейцарии после юга принесло ей много пользы, и вы были очень любезны, что уговорили ее. Один лишь несчастный Арман не покидал Парижа все каникулы.
– А Рашель?
– Ах да, вы правы: она тоже. У нее было много предложений, но она предпочла остаться в Париже. К тому же дедушка нуждался в ее помощи. И затем, в этой жизни не всегда удается делать то, что хочешь. Время от времени я должна повторять детям эту истину. Нужно помнить и о других. Неужели вы думаете, что мне самой не доставило бы удовольствия прокатиться в Саас-Фе? Или что Проспер, отправляясь в путешествие, делает это ради удовольствия? Арман, ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда ты приходишь сюда без воротничка, – прибавила она, увидя входящего в комнату сына.
– Дорогая мама, вы мне внушили, как религиозную обязанность, не придавать значения внешности, – сказал он, подавая мне руку. – И очень кстати, потому что прачка приходит только во вторник, а оставшиеся у меня воротнички все изорваны.
Я вспомнил то, что Оливье говорил мне о своем приятеле, и мне действительно показалось, что за его злой иронией скрывалось выражение глубокой тревоги. Черты лица Армана обострились; длинный крючковатый нос нависал над тонкими бесцветными губами. Он продолжал:
– Вы сообщили вашему знатному гостю, что наша постоянная труппа к открытию зимнего сезона пополнилась несколькими новыми звездами: сыном одного глубокомысленного сенатора и юным виконтом де Пассаваном, братом знаменитого писателя? Не считая двух рядовых артистов, которых вы уже знаете, но которые от этого являются не менее почтенными: князя Бориса и маркиза де Профитандье; а также еще нескольких, титулы и достоинства которых еще предстоит установить.
– Вы видите, он все такой же, – сказала бедная мать, с улыбкой слушавшая эту насмешливую речь.
Боясь, чтобы он не заговорил о Лауре, я поспешил откланяться и спустился к Рашели.
Она, засучив рукава блузки, помогала убирать классную комнату, но поспешно опустила их, заметив мое приближение.
– Мне очень тяжело обращаться к вам за помощью, – начала она, увлекая меня в соседнюю комнату, служившую для занятий с учениками. – Я хотела было обратиться к Дувье, который просил меня об этом; но когда я увиделась с Лаурой, то поняла, что не могу больше этого сделать…
Рашель была очень бледна, и, когда она произносила последние слова, ее губы и подбородок конвульсивно задрожали, так что на несколько мгновений она принуждена была замолчать. Не желая ее смущать, я отвернулся. Она прислонилась к двери, прикрывши ее за собой. Я хотел тихонько пожать ей руку, но она вырвалась. Наконец, сделав над собой огромное усилие, она спросила сдавленным голосом:
– Можете вы одолжить мне десять тысяч франков? Набор у нас нынче хороший, и я надеюсь, что скоро буду в состоянии возвратить вам долг.
– Когда вам нужны деньги?
Она не ответила.
– Тысяча франков с лишним сейчас при мне, – продолжал я. – Завтра утром я принесу вам всю сумму… Даже сегодня вечером, если необходимо.
– Нет, можно и завтра. Но если бы вы могли оставить мне сейчас тысячу франков…
Я вынул деньги из бумажника и протянул ей:
– Хотите тысячу четыреста?
Она опустила голову и сказала «да» так тихо, что я едва расслышал, затем, шатаясь, подошла к парте, тяжело опустилась на нее, облокотилась обеими руками на пюпитр, закрыла лицо и сидела несколько минут неподвижно. Мне показалось, она плачет, но, когда я положил ей руку на плечо, она подняла голову, и я увидел, что глаза у нее сухие.
– Рашель, – сказал я, – не стыдитесь вашей просьбы. Я счастлив, что могу оказать вам услугу.
Она пристально посмотрела на меня:
– Мне особенно тяжело просить вас не говорить об этом ни дедушке, ни маме. С тех пор как они поручили мне ведение хозяйства пансиона, я держу их в уверенности, что… словом, они ни о чем не знают. Не говорите им ничего, умоляю вас. Дедушка стар, а у мамы столько неприятностей.
– Рашель, вам, а вовсе не ей приходится терпеть все эти неприятности!
– Она уже столько натерпелась. Теперь она устала. Пришла моя очередь. Мне только и осталось что заботы по хозяйству.
Она совсем просто произносила эти простые слова. Я не чувствовал в ее самоотречении никакой горечи, скорее какую-то спокойную ясность.
– Не подумайте, что дела у нас плохи, – продолжала она. – Просто сейчас трудный момент, потому что некоторые кредиторы проявляют нетерпение.
– Я слышал сейчас от вашей служанки о каком-то репетиторе, требующем уплаты жалованья.
– Да, он устроил дедушке очень тяжелую сцену, которую я, к несчастью, не могла предотвратить. Это дерзкий и грубый человек. Мне необходимо тотчас же расплатиться с ним.
– Хотите, я пойду вместо вас?
Некоторое время она была в нерешительности, тщетно пытаясь улыбнуться.
– Спасибо вам. Нет, лучше я сама… Только выйдите, пожалуйста, вместе со мной. Я немножко его боюсь. В вашем присутствии он не посмеет говорить мне дерзости.
Двор пансиона возвышается на несколько ступенек над садом, который составляет его продолжение и отделяется от него балюстрадой; репетитор опирался об эту балюстраду откинутыми назад локтями. Он был в широкополой фетровой шляпе и курил трубку. Пока Рашель вела с ним переговоры, ко мне снова подошел Арман.
– Рашель выклянчила у вас денег, – сказал он цинично. – Вы пришли весьма кстати, чтобы выручить ее из больших неприятностей. Скотина Александр, мой братец, наделал долгов в колониях. Рашель пожелала скрыть это от родителей. Она уже пожертвовала половиной своего приданого, чтобы немного увеличить приданое Лауры; теперь же пошла прахом и другая половина. Бьюсь об заклад, она ничего не сказала вам об этом. Ее скромность меня бесит. Жизнь жестоко издевается над людьми: можно быть уверенным, что всякий жертвующий собой для других стоит большего, чем они… Сколько она сделала для Лауры! Славно ей отплатила эта девка!
– Арман, – вскричал я с негодованием, – вы не имеете права осуждать вашу сестру.
Но он возразил резким, прерывающимся тоном:
– Напротив, я осуждаю ее именно потому, что я не лучше, чем она. Я себя знаю. Рашель – та не осуждает нас. Она никогда никого не осуждает… Да, Лаура – шлюха, шлюха… То, что я думаю о ней, я никому не поручал передавать ей, клянусь вам… И вы покрыли все это, взяли под свою защиту! Между тем как вы знали… Дедушка видит во всем этом только темперамент. Мама всячески старается ничего не понимать. Что касается папы, то он полагается на Господа: так удобнее. При каждом затруднении он молится Богу и предоставляет выпутываться Рашели. Больше всего он боится смотреть действительности прямо в глаза. Он мечется, разрывается на части, почти никогда не бывает дома. Я понимаю, что он задыхается здесь: я сам здесь подыхаю. Он старается одурманить себя, черт возьми! А мама в это время сочиняет стихи. О, я не смеюсь над ней; я тоже пишу стихи. Но я, по крайней мере знаю, что я мерзавец, и никогда не пытался выдавать себя за что-либо другое. Ну, скажите, разве не отвратительно: дедушка, который «проявляет милосердие» к Лаперузу, потому что нуждается в репетиторе… – Потом вдруг Арман спросил: – Что этот негодяй смеет там говорить моей сестре? Если он не поклонится ей уходя, я заеду ему кулаком в рыло…
Он бросился к человеку в широкополой шляпе, и я уже думал, что он сейчас его ударит. Но репетитор при его приближении снял шляпу и отвесил глубокий театральный и иронический поклон, затем направился к воротам. В этот момент калитка открылась, и показался пастор. Он был в длиннополом сюртуке, в цилиндре и черных перчатках, словно возвращался с крестин или похорон. Экс-репетитор и пастор обменялись церемонными поклонами.
Рашель и Арман подошли ко мне. Когда Ведель поравнялся с нами, Рашель сказала:
– Все устроилось.
Пастор поцеловал ее в лоб:
– Вот видишь, дитя мое, Бог никогда не оставляет уповающих на него.
Затем, подавая мне руку:
– Вы уже уходите?.. До скорого свидания, не так ли?
III
Дневник Эдуарда
(продолжение)
29 сентября
Визит к Лаперузу. Служанка не решалась впускать меня. «Барин никого не принимает». Я настаивал, и она провела меня в гостиную. Ставни были закрыты; в полумраке я едва различил моего старого учителя, неподвижно сидевшего в глубоком кресле. Он не встал. Не глядя на меня, он протянул мне свою вялую руку, которая тотчас упала, после того как я ее пожал. Я сел с ним рядом, так что мне виден был только его профиль. Черты его оставались жесткими и неподвижными. Губы иногда шевелились, но он молчал. Я начинал сомневаться, узнал ли он меня. Часы пробили четыре; тогда точно заведенный он медленно повернул голову и сказал голосом торжественным, громким, но глухим и как бы загробным:
– Почему вас впустили? Я ведь наказал служанке, чтобы всякому, кто придет меня спрашивать, она отвечала, что господин де Лаперуз умер.
На меня произвели тяжелое впечатление не столько эти нелепые слова, сколько тон, каким они были сказаны: тон театральный, чрезвычайно напыщенный, к которому мой старый учитель, обыкновенно столь естественный и непринужденный со мной, меня не приучил.
– Ваша девушка просто не захотела лгать, – ответил я наконец. – Не браните ее за то, что она мне открыла. Я очень рад вас повидать.
Он тупо повторил: «Господин де Лаперуз умер». Затем снова погрузился в немоту. Я раздраженно встал, решив уйти и отложить до другого дня попытку отыскать смысл этой печальной комедии. Но в эту минуту в комнату вошла служанка, неся чашку дымящегося шоколаду:
– Пусть барин постарается, барин сегодня еще ничего не кушал.
Лаперуз нетерпеливо дернулся, словно актер, весь эффект выступления которого погублен каким-нибудь неловким статистом:
– Потом. Когда уйдет этот господин.
Но едва горничная закрыла дверь:
– Друг мой, будьте добры, принесите мне стакан воды, прошу вас. Стакан простой воды. Я умираю от жажды.
Я отыскал в столовой графин и стакан. Он налил воды в стакан, залпом выпил и вытер губы рукавом своего старенького люстринового пиджака.
– Вас лихорадит? – спросил я его.
Мои слова тотчас исполнили его сознанием разыгрываемой роли.
– Нет, господина де Лаперуза не лихорадит. Он ничего больше не чувствует. Со среды господин де Лаперуз перестал жить.
Я решил, что, пожалуй, лучше будет попасть ему в тон:
– Не в среду ли как раз маленький Борис приходил к вам в гости?
Он повернулся ко мне лицом; при имени Бориса улыбка, словно тень его прежних улыбок, осветила его черты, и он согласился наконец прекратить разыгрывать эту роль:
– Друг мой, могу сказать вам, доверить вам: среда была последним днем, который остался мне. – Затем продолжал, понизив голос: – Последним днем, который я дарил себе перед тем, как… кончить все.
Мне было очень больно слышать, что Лаперуз возвращается к своему мрачному замыслу. Признаться, я никогда не принимал всерьез его речей на эту тему, так что совсем позабыл о них; теперь я упрекал себя за это. Я вспомнил все, но был удивлен, потому что раньше старик говорил мне о более отдаленном сроке; когда я обратил его внимание на это, он признался мне тоном, снова ставшим естественным и даже несколько ироническим, что он обманул меня относительно срока и несколько отодвинул его из боязни, как бы я не попытался удержать его и не ускорил своего приезда, но несколько вечеров подряд он на коленях молил Бога дать ему возможность перед смертью увидеть Бориса.
– Я даже условился с Богом, – прибавил он, – что в случае надобности отложу на несколько дней свой уход… вследствие данного вами ручательства привезти его, помните?
Я взял его руку; она была ледяная, и я принялся согревать ее в своих ладонях. Он монотонно продолжал:
– Затем, когда я увидел, что вы возвратились, не дожидаясь конца каникул, и я могу увидеть мальчика, не откладывая из-за свидания с ним свой уход, я подумал, что… мне показалось, Бог услышал мою молитву. Я подумал, что он одобряет мое решение. Да, я подумал это. Я не сразу понял, что Господь насмехается надо мною, как всегда.
Он отнял свою руку и продолжал более живым тоном:
– Итак, я назначил осуществление своего решения на вечер среды, а в среду днем вы привели ко мне Бориса. Должен вам сознаться, что при виде его я не испытал всей радости, которую предвкушал. Я размышлял об этом потом. Очевидно, я был не вправе надеяться, что этому мальчику может доставить удовольствие свидание со мной. Мать его никогда не говорила ему обо мне.
Он остановился; губы его дрожали, и я думал, что он сейчас разрыдается.
– Борис очень расположен любить вас, но дайте ему время поближе вас узнать, – рискнул я заметить.
– После того как мальчик покинул меня, – продолжал Лаперуз, не слушая меня, – и вечером я снова остался один (ведь вы знаете, что госпожи де Лаперуз здесь больше нет), я сказал себе: итак, час настал! Нужно вам заметить, что мой покойный брат завещал мне пару пистолетов, которые я всегда держу в ящике у изголовья постели. Так вот, я отправился за этим ящиком. Сел в кресло, вот как сейчас сижу. Зарядил один из пистолетов…
Он повернулся ко мне и повторил резко, грубо, словно я сомневался в его словах:
– Да, зарядил. Вы можете проверить: он и сейчас заряжен. Что произошло? Не могу понять. Я поднес пистолет ко лбу. Долго держал его, приставив к виску. И не выстрелил. Не мог… В последнее мгновение, стыдно сказать… у меня не хватило храбрости.
Разговор воодушевил его. Взгляд стал более живым, и кровь слегка подрумянила щеки. Он смотрел на меня, качая головой.
– Как это объяснить? Вещь, на которую я решился, о которой уже много месяцев непрестанно думал… Может быть, как раз поэтому. Может быть, постоянно думая о ней, я истощил все свое мужество…
– Так же, как перед возвращением Бориса вы истощили радость свидания с ним, – сказал я ему; но он продолжал:
– Я долго сидел так с пистолетом, приставленным к виску. Палец мой лежал на курке. Я слегка нажимал, но недостаточно сильно. Я говорил себе: «Через мгновение я нажму сильнее, и раздастся выстрел». Я чувствовал холод металла и повторял: «Через мгновение я больше ничего не буду чувствовать. Но сначала услышу страшный шум…» Подумайте только: у самого уха! Это главным образом и удержало меня: боязнь шума… Нелепо, ведь с момента, когда умрешь… Да, но я надеялся, что смерть придет как сон, а гром выстрела не усыпляет, он пробуждает… Да, я испугался именно этого грома. Я испугался, что не усну, а, напротив, буду внезапно разбужен.
Он, казалось, старался совладать с собой или, вернее, привести в порядок свои мысли, и несколько мгновений губы его снова беззвучно шевелились.
– Все это, – продолжал он, – я сказал себе лишь потом. На самом же деле я не убил себя потому, что не был свободен. Я говорю теперь: я испугался; но это неправда: тут было не то. Нечто совершенно чуждое моей воле, более сильное, чем моя воля, удержало меня… Словно Бог не пожелал, чтобы я отправился на тот свет. Вообразите марионетку, которая захотела бы уйти со сцены до конца спектакля… Стой! Ты еще нужна для финала. Ах, вам казалось, будто вы можете положить конец вашей жизни, когда вам будет угодно!.. Я понял, что то, что мы называем своей волей, есть только ниточка, приводящая в движение марионетку, ниточка, за которую дергает Бог. Вы улавливаете мою мысль? Я поясню вам. Вот я говорю себе сейчас: «Я подниму правую руку» – и поднимаю ее. – Он действительно поднял правую руку. – Но это произошло оттого, что ниточка уже была дернута, чтобы заставить меня подумать и сказать: «Я хочу поднять правую руку…» И доказательством, что я несвободен, служит то, что, если бы я должен был поднять другую руку, я сказал бы вам: «Я собираюсь поднять левую руку…» Нет, я вижу, что вы не понимаете меня. Вы несвободны понять меня… О, теперь я ясно сознаю, что Бог забавляется. Когда он заставляет нас делать что-нибудь, он забавляется тем, что предоставляет нам думать, будто мы сами хотели это сделать. В этом и заключается его гнусная игра… Вы думаете, я схожу с ума? Кстати, представьте себе, что госпожа де Лаперуз… Вы знаете, что она поступила в богадельню… Так вот, представьте себе, что она вбила себе в голову, что это дом сумасшедших и я засадил ее туда, чтобы отделаться от нее, с намерением выдать за сумасшедшую… Согласитесь, что это странно: любой прохожий, с которым встречаешься на улице, понял бы вас лучше, чем та, которой вы отдали жизнь… В первое время я ходил к ней каждый день. Но едва она замечала меня, как сейчас же заводила: «Ах, опять вы! Вы пришли, чтобы шпионить за мной…» Я принужден был отказаться от этих посещений, которые ее раздражали. Как можно чувствовать привязанность к жизни, если утрачена возможность делать добро?
Рыдания заглушили его голос. Он опустил голову, и мне показалось, что он снова впадет в оцепенение. Но он заговорил с внезапным оживлением:
– Знаете, что она сделала перед отъездом? Взломала мой письменный стол и сожгла все письма моего покойного брата. Она всегда была ревнива к моему брату, особенно с тех пор, как он умер. Устраивала мне сцены, когда застигала меня ночью за чтением его писем. Кричала: «Ах, вы ждали, чтобы я легла! Вы прячетесь от меня». И затем: «Будет гораздо лучше, если вы пойдете спать. Вы утомляете глаза». Со стороны можно было подумать, будто она окружила меня заботой; но я знаю ее: она ревновала. Она не хотела оставлять меня наедине с братом.
– Это оттого, что она вас любит. Не бывает ревности без любви.
– Но согласитесь, что печально положение вещей, когда любовь вместо того, чтобы составлять счастье жизни, становится ее бедствием… Несомненно, такой любовью и любит нас Бог. – Он очень оживился, говоря это, и вдруг заявил: – Я голоден. Когда я хочу есть, служанка постоянно приносит мне шоколад. Госпожа де Лаперуз, должно быть, сказала ей, что я не ем ничего другого. Вы оказали бы мне большую любезность, если бы пошли в кухню… вторая дверь направо по коридору… и посмотрели, нет ли там яиц. Помнится, она говорила мне, что у нее есть яйца.
– Вы хотели бы, чтобы она приготовила вам яичницу?
– Мне кажется, я съел бы даже два яйца. Вы будете настолько добры? Если я пойду сам, она меня не послушается.
– Дорогой друг, – сказал я ему, возвратившись, – ваша яичница будет готова через несколько минут. Если вы позволите, я останусь и посмотрю, как вы будете кушать; да, это доставит мне удовольствие. Мне было очень тяжело слышать, когда вы сказали сейчас, будто вы больше никому не в силах делать добро. Вы как будто забываете о вашем внуке. Ваш друг, господин Азаис, предлагает вам переехать к нему в пансион. Он поручил мне передать вам это. Он полагает, что теперь, когда госпожи де Лаперуз больше нет здесь, ничто вас не удерживает.
Я ожидал от него сопротивления, но он лишь осведомился о предлагаемых ему условиях.
– Хотя я и не застрелился, я все же мертв. Здесь ли, там ли, мне безразлично, – сказал он. – Можете перевозить меня.
Я условился, что приду за ним послезавтра, а до тех пор предоставлю в его распоряжение два сундука, чтобы он мог уложить в них необходимые ему костюмы, белье и все, что ему хотелось бы с собой взять.
– Впрочем, – прибавил я, – поскольку за вами сохранится право распоряжаться квартирой до истечения срока контракта, то вы всегда успеете забрать отсюда все, что вам понадобится.
Служанка принесла яичницу, которую он с жадностью проглотил. Я заказал для него обед, с облегчением видя, что природа снова вступает в свои права.
– Я причиняю вам много хлопот, – повторил он, – вы страшно добры.
Я хотел было, чтобы он отдал мне свои пистолеты, с которыми, сказал я ему, ему больше нечего делать, но он не согласился.
– Теперь вам нечего бояться. Я знаю, я никогда не буду в силах сделать то, чего не сделал в тот день. Но они являются теперь единственной вещью, которая осталась у меня от брата, и мне необходимо, чтобы они напоминали, что я только игрушка в руках Божьих.
IV
В день начала занятий было очень жарко. Через открытые окна пансиона Ведель видны были верхушки деревьев в саду; над ними плавало лето, конца которого еще не ощущалось.
Этот день послужил для старика Азаиса поводом для произнесения речи. Он, как подобает, стоял у кафедры, лицом к ученикам. На кафедре восседал старик Лаперуз. Он встал, когда вошли ученики, но Азаис дружеским жестом пригласил его сесть. Его беспокойный взгляд устремился сначала на Бориса и поверг мальчика в замешательство, тем более что Азаис, представляя детям в своей речи их нового учителя, счел своим долгом намекнуть на родство последнего с одним из мальчиков. Лаперуз, однако, был огорчен тем, что не встретил взгляда Бориса. «Равнодушие, холодность», – думал он.
«О, если бы, – думал Борис, – он оставил меня в покое! Если бы не обращал на меня внимания!» Товарищи внушали ему ужас. Выйдя из лицея, ему пришлось идти вместе с ними и по дороге в пансион выслушивать замечания, которыми они обменивались. Испытывая потребность в симпатии, он хотел бы попасть им в тон, но его слишком деликатная натура этому противилась; слова замирали у него на губах; он сердился на себя за свое замешательство, старался не выдать его, пытался даже смеяться, чтобы предупредить насмешки; но все напрасно: среди других он выглядел как девочка, чувствовал это и был в отчаянии.
Почти сразу же образовались группы. Некий Леон Гериданизоль составлял центральную фигуру и уже внушал к себе почтение. Немного старше других и более успевающий, смуглый, черноволосый и черноглазый, он не был особенно высок и не отличался большой силой, но был, что называется, «малый с перцем». Настоящая чертова перечница. Даже маленький Жорж Молинье признавал, что Гериданизоль «утрет ему нос, а, ты знаешь, утереть мне нос – это не так просто!». Разве не видел он, не видел собственными глазами, как тот подошел сегодня утром к одной молодой женщине, державшей на руках ребенка.
– Это ваш ребенок, сударыня? – спросил он, отвешивая глубокий поклон. – Он порядочный урод, ваш мальчишка. Но успокойтесь: долго он не проживет.
Жорж все еще хохотал над этой «шуткой».
– Правда? Ты не врешь? – спрашивал Филипп Адаманти, его друг, которому Жорж рассказал эту историю.
Эта наглая выходка очень их веселила; она казалась им верхом остроумия. Леон, уже достаточно тертый калач, просто повторял своего двоюродного брата Струвилу, но Жорж об этом не подозревал.
В пансионе Молинье и Адаманти добились того, чтобы сидеть рядом с Гериданизолем, на пятой скамейке, и не быть, таким образом, слишком на виду у надзирателя. Налево от Молинье помещался Адаманти, направо – Гериданизоль, которого товарищи называли Гери; с краю сидел Борис. На следующей скамейке было место Пассавана.
После смерти отца Гонтран де Пассаван вел печальную жизнь, да и прежде его жизнь не была особенно веселой. Он давно уже понял, что ему не следует ожидать от брата никакой любви, никакой поддержки. Каникулы он провел в Бретани, в семье старой своей няни, верной Серафины. Он замкнулся в себе и работал. Его подстегивает тайное желание доказать своему брату, что он лучше его. Он сам по собственному решению поступил в пансион, руководимый отчасти нежеланием жить у брата, в особняке на улице Бабилон, с которым у него связаны одни грустные воспоминания. Серафина, не захотевшая расставаться с ним, сняла себе отдельную квартирку: ей позволяет это маленькая пенсия, которую выплачивают сыновья покойного графа на основании особой статьи духовного завещания. У Гонтрана есть там комната, где он поселяется в дни отпуска; он обставил ее по своему вкусу. Дважды в неделю он обедает с Серафиной; последняя ухаживает за ним и следит, чтобы он ни в чем не терпел недостатка. Приходя к ней, Гонтран охотно болтает, хотя и не может говорить с ней почти ни на одну из интересующих его тем. В пансионе он не позволяет товарищам задевать себя; он выслушивает их насмешливые замечания краем уха и нередко отказывается от участия в их играх. Играм в закрытом помещении он предпочитает чтение. Он любит спорт, все виды спорта, но оказывает предпочтение тем из них, которыми можно заниматься в одиночестве; он горд и водится далеко не со всеми. По воскресеньям, в зависимости от времени года, он катается на коньках, плавает, гребет или отправляется в далекие экскурсии за город. У него есть антипатии, и он не старается преодолеть их; вообще он стремится не столько расширить свой ум, сколько закалить его. Он, может быть, далеко не так прост, как думает и как желает быть; мы видели его у изголовья смертного ложа отца; но он не любит таинственного; после того как он обнаружил свое несходство с отцом, ему стало скучно об этом думать. Когда ему случается занять первое место в классе, то это объясняется его прилежанием, а не способностями. Борис нашел бы в нем защитника, если б умел искать, но его влечет к соседу, Жоржу. Что касается Жоржа, то он обращает внимание только на Гери, которому на всех плевать.
У Жоржа было важное дело к Филиппу Адаманти, но он считал более благоразумным не писать ему о нем.
Сегодня, в день возобновления занятий, он пришел в лицей за четверть часа до начала уроков и тщетно поджидал Филиппа у ворот. Как раз во время этого ожидания, прохаживаясь около ворот, он услышал упомянутое выше остроумное обращение Гериданизоля к молодой женщине; затем между обоими мальчишками завязался разговор, который обнаружил, к великой радости Жоржа, что они будут товарищами по пансиону.
Только по выходе из лицея Жоржу удалось наконец встретиться с Фифи. Они направились в пансион Азаиса вместе с другими школьниками, но немного поотстали, чтобы иметь возможность говорить откровеннее.
– Ты бы хорошо сделал, если бы спрятал это, – начал Жорж, показывая пальцем на желтую розетку, которая по-прежнему торчала в петличке у Фифи.
– Почему? – спросил Филипп, заметив, что Жорж больше не носит своей розетки.
– Ты рискуешь попасться. Я хотел сказать тебе об этом, мой милый, перед классами; тебе следовало только прийти пораньше. Я поджидал тебя у ворот, чтобы предупредить.
– Но я не знал, – сказал Филипп.
– «Не знал», «не знал», – передразнил его Жорж. – Ты должен был, кажется, смекнуть, что у меня есть кое-что для тебя, после того, как мы расстались в Ульгате.
Эти два мальчика постоянно озабочены желанием одержать верх друг над другом. Фифи обладает некоторыми преимуществами благодаря положению и состоянию своего отца; но Жорж сильно превосходит его дерзостью и цинизмом. Фифи приходится немного надсаживаться, чтобы не отстать от него. Он мальчик незлой, но бесхарактерный.
– Ну, выкладывай твои новости, – сказал он.
Подошедший к ним Леон Гериданизоль слышал их разговор. Жорж был доволен этим обстоятельством; если Гери удивил его давеча, то и он тоже держал про запас нечто способное поразить Гери; он сказал поэтому Фифи самым обыкновенным тоном:
– Пралиночка посажена.
– Пралина! – вскричал Фифи, испуганный хладнокровием Жоржа. Так как на лице у Леона изобразился интерес, то Фифи спросил Жоржа: – Можно ему сказать?
Жорж только выругался, пожав плечами. Тогда Фифи сказал Гери, показывая на Жоржа:
– Это его цыпка. – Затем, обращаясь к Жоржу: – Откуда ты знаешь?
– Мне сказала Жермена, которую я недавно встретил. И он рассказал Фифи, как во время своего приезда в Париж, двенадцать дней тому назад, пожелал зайти в ту квартиру, которую прокурор Молинье назвал давеча «ареной, где совершаются эти оргии», и нашел дверь запертой; рассказал, как, бродя потом по кварталу, встретил Жермену, цыпку Фифи, которая осведомила его о событиях: в начале каникул был обыск. Но этим женщинам и этим детям осталось неизвестно, что для производства сей операции Профитандье терпеливо дождался времени разъезда несовершеннолетних преступников, желая исключить возможность их захвата при обыске и избавить от скандала родителей.
– Ну, слава богу, старина!.. – только и повторил Фифи, считая, что они с Жоржем счастливо отделались.
– Это бросает тебя в холод, а? – насмешливо спросил Жорж. Признаваться в собственном испуге ему казалось совершенно излишним, особенно в присутствии Гериданизоля.
На основании изложенного диалога может показаться, будто эти дети более испорченны, чем это есть на самом деле. Они говорят так главным образом из желания казаться испорченными, я в этом уверен. В их поведении много бахвальства. Что нужды: Гериданизоль слушает их; слушает и подстрекает одним своим присутствием. Этот разговор весьма позабавит его кузена Струвилу, которому он передаст его сегодня вечером.
Вечером Бернар пришел к Эдуарду.
– Как прошло начало занятий?
– Недурно. – Бернар замолчал.
Тогда Эдуард обратился к нему:
– Мсье Бернар, если у вас нет настроения рассказывать, не рассчитывайте, что я буду вытягивать из вас ответы. Мне противны допросы. Но позвольте мне напомнить, что вы предложили мне свои услуги и я вправе надеяться на получение от вас кое-каких сведений…
– Что же вы хотите знать? – спросил Бернар весьма нелюбезным тоном. – Что папаша Азаис произнес торжественную речь, в которой он предлагал детям «одушевиться общим порывом и приступить к исполнению своих обязанностей с юношеским жаром»?.. Я запомнил эти слова, потому что они были повторены трижды. Арман уверяет, будто старик вставляет их в каждую свою речь. Мы уселись с ним на последней скамейке, в самой глубине класса, наблюдая, как собираются мальчишки, на манер того, как Ной наблюдал сбор животных в ковчег. Там были все породы: жвачные, толстокожие, моллюски и другие беспозвоночные. Когда после речи они принялись говорить друг с другом, мы с Арманом заметили, что каждые четыре фразы из десяти начинались у них: «Держу пари, что ты не…»
– А остальные шесть?
– «А вот я…»
– Боюсь, очень правильное наблюдение. А что еще?
– Некоторые из них, показалось мне, обладают штампованными физиономиями.
– Что вы разумеете под этим? – спросил Эдуард.
– Я имею в виду особенно одного из них, сидевшего рядом с маленьким Пассаваном (сам Пассаван показался мне заурядным скромным мальчиком). Сосед его, которого я долго наблюдал, по-видимому, избрал себе в качестве правила жизни «Ne quid nimis»[28] древних. Не кажется ли вам, что в его возрасте этот девиз нелеп? Костюмчик в обтяжку, скромненький галстук; он весь таков, вплоть до шнурков на ботинках, завязанных аккуратными бантиками. Как ни мало я говорил с ним, он все же нашел время сказать, что видит всюду напрасную трату сил, и повторил несколько раз, словно припев: «Не нужно лишних усилий».
– Черт бы побрал расчетливых, – сказал Эдуард. – В искусстве из них выходят самые многословные.
– Почему?
– Потому что они боятся упустить что-либо. Ну а что еще? Вы ничего не рассказываете об Армане.
– Любопытный экземпляр, этот Арман. Правду сказать, он не особенно мне нравится. Я не люблю исковерканных людей. Он, конечно, не глуп, но ум его направлен только на разрушение; впрочем, он, кажется, больше всего озлоблен на самого себя; он стыдится всего, что есть в нем хорошего, великодушного, благородного, нежного. Ему следовало бы заняться спортом, проветриться. Он ожесточается, сидя взаперти весь день. Как будто ищет моего общества, я не бегу от него, но не могу приспособиться к его характеру.
– Не кажется ли вам, что его сарказмы и ирония скрывают повышенную чувствительность и, может быть, большое страдание? Так думает Оливье.
– Может быть, я подумал об этом. Я еще плохо его знаю. Остальные мои мысли еще не созрели. Мне нужно разобраться в них, я их вам сообщу, но потом. Вы меня извините, что сегодня я вас покину. Через два дня экзамен, и, кроме того, признаться… мне что-то взгрустнулось.
V
С каждой вещи, если не ошибаюсь, следует срывать только цветок…
ФенелонПосле вчерашнего возвращения в Париж Оливье проснулся совсем отдохнувшим. Воздух был теплый, небо чистое. Когда он выходил, свежевыбритый, принявший душ, изящно одетый, с сознанием своей силы, молодости и красоты, Пассаван еще спал.
Оливье торопится к Сорбонне. Сегодня утром у Бернара должен быть письменный экзамен. Откуда Оливье знает об этом? Но он, может быть, вовсе и не знает. Он идет узнать. Он спешит. Он не виделся со своим другом с той ночи, когда Бернар приходил искать приюта в его комнате. Как все изменилось с тех пор! Кто знает: может быть, он больше сгорает от желания показать себя, чем повидать друга? Досадно, что Бернар так равнодушен к изяществу! Но вкус к нему появляется иногда вместе с достатком. Оливье узнал это на опыте, благодаря графу де Пассавану.
Бернар держит сегодня письменный экзамен. Он выйдет только в полдень. Оливье ожидает его во дворе. Он узнает нескольких товарищей, пожимает им руку; затем отходит в сторону. Он немножко смущен своим элегантным костюмом и смущается еще больше, когда Бернар, наконец освободившийся, спускается во двор и восклицает, протягивая руку:
– Ну и красавчик!
Оливье, думавший, что он уже никогда не будет краснеть, краснеет. Как не заметить иронии в этих словах, несмотря на их очень сердечный тон? Ведь на Бернаре все тот же костюм, какой был на нем в день его бегства из дому.
Он не ожидал встречи с Оливье. Засыпая его вопросами, он уводит его с собой. Радость встречи у него самая неподдельная. Если он слегка улыбнулся при виде изысканного костюма Оливье, то в улыбке его не было заключено никакого коварства; у него доброе сердце; он незлопамятен.
– Ты позавтракаешь со мной, не правда ли? Да, в половине второго я должен возвратиться на экзамен по латинскому языку. Утром был экзамен по французскому.
– Доволен?
– Я – да. Но не знаю, придется ли высиженное мною по вкусу экзаменаторам. Нужно было высказать свое мнение о четырех стихах Лафонтена:
Парнасский мотылек, пчела, которой свойства Платон примеривал для нашего устройства. Созданье легкое, порхаю много лет Я на цветок с цветка, с предмета на предмет[29].– Скажи, пожалуйста, что бы ты сделал с этим?
Оливье не мог удержаться от желания блеснуть:
– Я сказал бы, что, изображая самого себя, Лафонтен дал портрет художника, который соглашается брать от мира только внешнее, поверхностное, срывать цветы. Затем параллельно я нарисовал бы портрет ученого, исследователя, человека, который копает в глубину, и показал бы в заключение, что, в то время как ученый ищет, художник находит; что тот, кто копает, забирается вглубь, а кто забирается вглубь, слепнет; показал бы, что истина – видимость, что тайна – в форме и что самое глубокое у человека – это его кожа.
Последнюю фразу Оливье заимствовал у Пассавана, который, в свою очередь, сорвал ее с уст Поль-Амбруаза, когда тот ораторствовал в каком-то салоне. Пассаван считал позволительным присваивать все, что не было напечатано; он называл это идеями, «носящимися в воздухе»; попросту говоря, это были чужие идеи.
По какому-то неуловимому оттенку в тоне Оливье Бернар почувствовал, что эта фраза не принадлежала его другу. В голосе Оливье слышалась какая-то нерешительность. Бернар чуть было не спросил: «Это откуда?» Но помимо того, что он не желал обижать друга, он боялся услышать имя Пассавана, которое его собеседник до сих пор остерегался произнести. Бернар ограничился тем, что пристально и испытующе посмотрел на него; Оливье снова покраснел.
Изумление Бернара при виде чувствительного Оливье, выражающего мысли, совершенно отличные от тех, которые были ему свойственны, почти сразу же сменилось крайним негодованием; чувством внезапным и неожиданным, непреодолимым, как циклон. Он вскипел негодованием не столько против самих этих мыслей, хотя они и показались ему нелепыми. В конце концов, они, быть может, вовсе не так уж нелепы. В своей тетрадке противоречивых мнений он мог бы поместить их рядом со своими собственными. Если бы они были подлинными мыслями Оливье, он не пришел бы в ярость ни против него, ни против них; но он чувствовал, что за ними кто-то таится; он вознегодовал против Пассавана.
– Подобными идеями отравляют Францию! – пылко вскричал он. Он хватил слишком высоко из желания затмить Пассавана. Сказанное им удивило его самого, словно слова обогнали его мысль, ту самую мысль, что он развил сегодня утром в экзаменационном сочинении; из-за какого-то стыда он никогда не решался в дружеской беседе, в частности разговаривая с Оливье, выставлять напоказ то, что он называл «высокими чувствами». Будучи выражены в словах, чувства эти тотчас же начинали казаться ему менее искренними. Поэтому Оливье никогда не приходилось слышать, чтобы его друг говорил об «интересах Франции»; пришла его очередь изумляться. Он сделал большие глаза и даже не подумал улыбнуться. Он не узнавал своего Бернара; в каком-то столбняке Оливье переспросил:
– Францию?.. – Затем, снимая с себя ответственность за сказанное, потому что Бернар явно не шутил: – Но, старина, это не мои мысли, так думает Лафонтен.
Бернар вошел в раж.
– Черт возьми! – вскричал он. – Я отлично, черт возьми, знаю, что это не твои мысли, но они не принадлежат и Лафонтену. Если бы он обладал одной этой легковесностью, о которой, впрочем, он в конце своей жизни сожалеет и в которой раскаивается, он никогда не стал бы художником, которым мы восхищаемся. Как раз это самое я высказал в своем сочинении и постарался доказать множеством цитат, ты ведь знаешь, у меня довольно приличная память. Но, оставив вскоре Лафонтена и допустив право некоторых поверхностных умов думать, будто они могут найти опору в его стихах, я оплатил это тирадой против духа беспечности, бахвальства и иронии; словом, против того, что именуется «французским духом», который иногда стоит нам столь прискорбной репутации у иностранцев. Я сказал, что в нем нужно видеть даже не улыбку, но гримасу Франции; что подлинным духом Франции был дух пытливости, логики, любви и терпеливого проникновения; что если бы этот дух не оживлял Лафонтена, он написал бы, может быть, свои сказки, но никогда бы не создал басен, а также того изумительного послания (я показал, что знаю его), из которого заимствовано четверостишие, предложенное в качестве темы для сочинения. Да, старина, этот бурный натиск обойдется мне, может быть, дорого. Но мне плевать, я чувствовал, что мне нужно высказать это.
Оливье не слишком дорожил только что высказанными соображениями. Попросту он не устоял против желания блеснуть и процитировал как бы вскользь фразу, которая, казалось ему, должна была поразить Бернара. Теперь, когда Бернар заговорил с ним таким тоном, ему оставалось только пойти на попятный. Его слабой стороной было то, что он испытывал гораздо большую потребность в любви Бернара, нежели последний в его любви. Тирада Бернара унижала, позорила его. Он сердился на себя – за свои слишком необдуманные слова. Теперь было уже поздно оправдываться, возражать, как он, наверное, поступил бы, если бы предоставил Бернару высказаться первым. Но как мог он предвидеть, что Бернар, который был так полон задора, когда они расстались, выступит теперь на защиту чувств и мыслей, на кои Пассаван учил его смотреть не иначе как с улыбкой? Однако он положительно не чувствовал больше никакого желания смеяться; ему было стыдно. И не будучи в состоянии ни отречься от своих слов, ни выступить против Бернара, неподдельное волнение которого производило на него сильное впечатление, он заботился только о том, как бы защититься, выпутаться из ложного положения.
– Ну, если ты это навалял в своем сочинении, то не в меня были выпущены твои стрелы… Я, скорее, согласен с тобой.
Оливье говорил уязвленным тоном, не так, как ему хотелось.
– Но сейчас я говорю это тебе, – сказал Бернар.
Эта фраза ударила Оливье в самое сердце. Бернар сказал ее, должно быть, без враждебного намерения; но можно ли было понять ее иначе? Оливье замолчал. Между ним и Бернаром разверзалась пропасть. Он искал вопросов, которые мог бы перебросить с одного края пропасти на другой, чтобы восстановить общение. Искал безнадежно. «Неужели он не чувствует моего к себе отвращения?» – думал он; и это отвращение все росло. Ему, может быть, не приходилось сдерживать слезы, но он убеждал себя, что было от чего заплакать. Вот еще один промах: это свидание показалось бы ему менее печальным, если бы он ожидал от него меньше радости. Когда два месяца тому назад он спешил навстречу Эдуарду, он испытывал такое же настроение. С ним всегда будет так, говорил он себе. Ему захотелось бросить Бернара, убежать куда глаза глядят, забыть Пассавана, Эдуарда… Неожиданная встреча нарушила грустное течение его мыслей.
В нескольких шагах перед ними, на бульваре Сен-Мишель, куда они сворачивали, Оливье вдруг заметил Жоржа, своего младшего брата. Он схватил Бернара под руки и, круто повернув назад, поспешно увлек его за собой.
– Как ты думаешь, заметил он нас?.. Мои не знают, что я в Париже.
Жорж был не один, Леон Гериданизоль и Филипп Адаманти сопровождали его. Между тремя мальчиками шел очень оживленный разговор; но интерес, проявляемый к нему Жоржем, не мешал ему «быть начеку», как он говорил. Чтобы послушать их, оставим ненадолго Оливье и Бернара; тем более что, зайдя в ресторан, наши друзья больше занялись едой, чем разговором, к великому облегчению Оливье.
– Ну, в таком случае ступай туда ты, – говорит Фифи Жоржу.
– О, трусишь, трусишь! – отвечает тот, вкладывая в свои слова все ироническое презрение, на какое только способен, чтобы подзадорить Филиппа.
Гериданизоль говорит покровительственно:
– Деточки мои, если вы не хотите, скажите об этом прямо. Мне не составит труда отыскать других ребят, которые будут похрабрее вас. Ну-ка, дай ее мне!
Он поворачивается к Жоржу, который зажимает в ладони монету.
– Ладно, иду! – восклицает Жорж, внезапно охваченный решимостью. – Ступайте со мной. – Они стоят перед табачной лавочкой.
– Нет, – говорит Леон, – мы подождем на углу. Пойдем, Фифи.
Минуту спустя Жорж выходит из лавочки с пачкой папирос «Люкс»; угощает друзей.
– Ну? – с тревогой спрашивает Фифи.
– Что «ну»? – произносит Жорж тоном напускного равнодушия, словно поступок, только что им совершенный, столь естествен, что не стоит утруждать себя рассказом о нем. Но Филипп настаивает:
– Сбыл?
– Еще бы!
– Тебе ничего не сказали?
Жорж пожимает плечами:
– Что, по-твоему, должны были мне сказать?
– И сдачу дали?
На этот раз Жорж даже не удостаивает его ответом. Но так как Филипп все еще с некоторым недоверием и опаской настаивает: «Покажи», – Жорж вытаскивает из кармана деньги. Филипп считает: семь франков серебром. Он сгорает от желания спросить: «Ты вполне уверен, что они настоящие?» – но сдерживается.
Жорж заплатил один франк за фальшивую монету. Мальчики условились поделить сдачу. Он протягивает три франка Гериданизолю. Что касается Фифи, то он не получит ни су; самое большее – папиросу; пусть это послужит ему уроком.
Ободренный первым успехом, Фифи теперь тоже хотел бы рискнуть. Он обращается к Леону с просьбой продать ему другую монету. Но Леон считает Фифи хвастунишкой и, чтобы охладить его пыл, выражает презрение за проявленную им трусость и притворяется рассерженным. «Ему следовало бы решиться чуть раньше; теперь игра будет идти без него». К тому же Леон считает неблагоразумным рисковать еще раз. Наконец, уже поздно. Кузен Струвилу ждет его к завтраку.
Гериданизоль – парень, который себе на уме и сумеет сам сбыть монеты; но, следуя инструкциям своего взрослого кузена, заботится о том, чтобы иметь соучастников. Он даст ему отчет в отлично выполненном задании.
– Мальчишки из хороших семей, понимаешь, это именно то, что нам нужно, потому что, если нас накроют, родители постараются замять дело – так говорит ему за завтраком кузен Струвилу, на чьем попечении он временно находится. – Однако система продажи монет по одной замедляет сбыт. Я хочу сплавить пятьдесят две коробочки, по двадцать монет в каждой. Их нужно продавать по двадцати франков, но, понятно, не первому встречному. Самое лучшее было бы образовать общество, при вступлении в которое каждый должен вносить известный залог. Нужно, чтобы мальчишки скомпрометировали себя и дали нам штуки, которые позволили бы держать в руках их родителей. Прежде чем пускать в оборот монеты, постарайся дать им это понять; только не пугай. Детей никогда не нужно запугивать. Ты говорил, что отец Молинье – судебный чиновник. Прекрасно. А отец Адаманти?
– Сенатор.
– Еще лучше. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понять – нет семьи без тайны; заинтересованные лица дрожат, как бы кто ее не выведал. Нужно науськивать мальчишек на охоту: это займет их. Дома, в семье, они ведь чертовски скучают! Кроме того, это может приучить их к наблюдательности, к поискам. Это так просто: кто ничего не принесет, ничего и не получит. Когда родители поймут, что их держат в руках, некоторые из них дорого заплатят за молчание. Черт возьми, у нас вовсе нет намерения шантажировать, мы – люди честные! Мы просто хотим держать их в руках. Их молчание в обмен на наше. Пусть они молчат и заставляют молчать других, тогда и мы будем молчать. Выпьем за их здоровье!
Струвилу наполнил два бокала. Они чокнулись.
– Было бы хорошо, – продолжал он, – даже необходимо – создать круговую поруку между гражданами, так складываются крепкие общества. Все держат друг друга! Мы держим малышей, малыши – своих родителей, а родители – нас. Идеально! Улавливаешь?
Леон улавливал с полуслова и хихикал.
– Жоржик… – начал он.
– Какой Жоржик?..
– Молинье. Думаю, он созрел. Он выкрал у отца письма от певички из «Олимпии».
– Ты их видел?
– Да, он показывал. Я подслушал его разговор с Адаманти. Мне кажется, они были польщены, что я их слушаю; во всяком случае, не прятались; я принял меры и сервировал им блюдо в твоем вкусе, чтобы завоевать их доверие. Жорж говорил Фифи (чтобы пустить ему пыль в глаза): «У моего отца есть любовница». На что Фифи, не желая остаться в долгу, заявил: «А у моего – две». Это было глупо, и тут нечем хвастаться; но я подошел к ним и сказал Жоржу: «Откуда ты знаешь?» «Я видел письма», – ответил он. Я изобразил на роже сомнение и сказал: «Ну и вранье…» Словом, заставил его быть откровенным до конца; потом он сказал, что письма при нем; вытащил их из большого бумажника и показал.
– Ты прочел их?
– Не успел. Заметил только, что написаны они одним и тем же почерком; одно адресовано «моему милому толстенькому котеночку».
– Как подписано?
– «Твоя беленькая мышка». Я спросил Жоржа: «Где ты их раздобыл?» Он расхохотался и, вытащив из кармана брюк огромную связку ключей, сказал: «Тут есть чем открыть любой замочек».
– А что сказал мсье Фифи?
– Ничего. Думаю, завидовал.
– Жорж тебе даст письма?
– Если нужно, я могу его убедить. Не хотелось бы отнимать силой. Он сам отдаст, если Фифи поступит так же. Они друг друга подзадоривают.
– Да, это и есть то, что называется соревнованием. Ну а нет ли еще подходящего материала среди пансионеров? Не заметил?
– Поищу.
– Я хотел сказать тебе вот что… В числе пансионеров должен находиться некий Боря. Оставь его в покое. – Он помедлил, затем прибавил, понизив голос: – До поры до времени.
Оливье и Бернар сидят уже за столиком в ресторане на бульваре. Под теплой улыбкой друга подавленное настроение Оливье тает, как иней на солнце. Бернар избегает произносить имя Пассавана; Оливье это чувствует; какой-то тайный инстинкт оберегает его, но имя Пассавана у него на устах; ему нужно произнести его, будь что будет.
– Да, мы возвратились немного раньше, чем я писал домой. Вечером «Аргонавты» устраивают банкет. Пассаван очень хочет присутствовать. Он желает, чтобы наш новый журнал был в хороших отношениях со своим старшим братом и не вступал с ним в соперничество… Ты должен прийти и, знаешь ли… приведи Эдуарда… Может быть, не на сам банкет, потому что для этого нужно иметь приглашение, но сейчас же по его окончании. Соберутся в одном из залов второго этажа, в ресторане «Пантеон». Будут главные редакторы «Аргонавтов», несколько будущих сотрудников «Авангарда». Наш первый номер почти готов, но… скажи, почему ты ничего мне не прислал?
– Потому, что у меня не было ничего готового, – отвечает Бернар несколько суховато.
Голос Оливье становится почти умоляющим.
– Я поставил твою фамилию рядом с моей в содержании… Можно будет немного подождать, если надо… Все равно что, но дай что-нибудь… Ты же обещал…
Бернару тяжело огорчать Оливье, но он проявляет твердость:
– Послушай, старина, лучше сказать откровенно: боюсь, мне не удастся столковаться с Пассаваном.
– Но ведь редактор я! Он дает мне полную свободу.
– Кроме того, мне очень не нравится твое предложение прислать «что-нибудь». Не хочу я писать «что-нибудь».
– Я сказал «что-нибудь», потому что отлично знаю, что все тобою написанное будет всегда превосходно… что оно никогда не окажется «чем-нибудь»…
Он не знает, что сказать. Бормочет что-то бессвязное. Если он не чувствует подле себя друга, то журнал перестает его интересовать. Такой заманчивой была мечта дебютировать вместе.
– Кроме того, старина, хотя я начинаю неплохо понимать, чего я не хочу делать, все же недостаточно отчетливо представляю, что я должен делать. Не знаю, право, буду ли я писать.
Это заявление повергает Оливье в уныние. Но Бернар продолжает:
– Ничего из того, что я мог бы легко написать, меня не прельщает. Суть в том, что фразы легко мне удаются, а я питаю отвращение к ловко составленным фразам. Отсюда не следует, что я люблю трудность ради трудности; но я нахожу, что современные литераторы слишком уж далеки от всяких усилий. Написать роман я не могу: очень мало я знаю жизнь других людей, да и сам еще не жил. Стихи надоели мне. Александрийский стих затаскан до дыр, свободный размер – бесформен. Единственный поэт, способный сейчас доставить мне наслаждение, – Артюр Рембо.
– Именно об этом я пишу в манифесте.
– В таком случае, мне не стоит повторяться. Нет, дружище, я не знаю, буду ли я писать. Мне кажется иногда, что писательское ремесло мешает жить и что можно лучше выражать себя в действиях, чем в словах.
– Произведения искусства суть действия, которые остаются навсегда, – робко осмелился заметить Оливье, но Бернар его не слушал.
– Больше всего Рембо восхищает меня тем, что литературе он предпочел жизнь.
– И продал ее за бесценок.
– Откуда ты знаешь?
– Ах, молчи, старина…
– Никогда нельзя судить о жизни других со стороны. Но допустим даже, что она ему не удалась; он изведал несчастье, нищету, болезнь… Я завидую жизни, которую он прожил; да, даже несмотря на ее жалкий конец, завидую ей больше, чем, скажем, жизни…
Бернар не кончил фразы; он затруднялся выбрать из множества знаменитых современников. Пожав плечами, он продолжал:
– Я смутно ощущаю в душе необыкновенные порывы, своего рода зыбь, движение, волнение, которые мне непонятны, – я не хочу их понимать, не хочу даже видеть, из страха им помешать, прогнать их. Еще не так давно я беспрестанно копался в себе. У меня была привычка постоянно разговаривать с самим собою. Теперь, если бы я даже захотел сделать это, не мог бы. Эта мания исчезла у меня так внезапно, что я даже и не заметил. Мне кажется, что этот монолог, «диалог человека со своей душой», как говорил наш преподаватель, требовал своего рода раздвоения, на которое я уже не способен с того дня, как полюбил больше всего на свете существо, которое отлично от меня.
– Ты имеешь в виду Лауру? – спросил Оливье. – Ты по-прежнему ее любишь?
– Нет, – отвечал Бернар, – с каждым днем люблю ее все больше. Мне кажется, что основным свойством любви является невозможность оставаться неизменной; она обязана расти, иначе пойдет на убыль; в этом ее отличие от дружбы.
– Однако и дружба может ослабевать, – печально заметил Оливье.
– По-моему, в дружбе нет таких широких возможностей.
– Скажи… ты не рассердишься, если я задам тебе один вопрос?
– Посмотрим.
– Я не хотел бы злить тебя.
– Если ты будешь темнить, я разозлюсь еще больше.
– Мне хотелось бы знать, испытываешь ли ты к Лауре… влечение?
Бернар вдруг посерьезнел.
– Ну, раз уж ты… – начал он. – Да, дружище, больше всего странно то, что после знакомства с ней я вовсе перестал испытывать желания. Недавно я, помнишь, воспламенялся любовью сразу к двадцати женщинам, которых встречал на улице (это и было причиной, мешавшей мне остановить свой выбор на ком-нибудь), теперь же мне кажется, что я больше никогда не могу быть чувствителен к другой форме красоты; что никогда я не смогу полюбить другой лоб, другие губы, другой взгляд. Но я питаю к ней благоговение, и всякая плотская мысль кажется мне святотатством. Мне теперь кажется, что я заблуждался относительно себя, что по природе я очень целомудрен. Благодаря Лауре мои инстинкты сублимировались. Я чувствую в себе огромные нерастраченные силы. Мне хотелось бы найти им применение. Я завидую монаху-картезианцу, смиряющему гордыню и подчиняющемуся правилам устава; человеку, которому говорят: «Я рассчитываю на тебя». Завидую солдату… Нет, вернее, не завидую никому; но буйство скрытых во мне сил угнетает меня, и я стремлюсь их дисциплинировать. Они подобны пару, который может либо вырваться со свистом (это и есть поэзия), либо привести в движение поршни и рычаги, либо, наконец, разнести машину. Знаешь, при помощи какого поступка, мне иногда кажется, лучше всего я мог бы выразить себя? Какого?.. О, я прекрасно знаю, что не лишу себя жизни, но я превосходно понимаю Дмитрия Карамазова, когда тот спрашивает брата, понимает ли тот, что причиной самоубийства может стать восторг, просто избыток жизни… чрезмерность.
Бернар словно лучился каким-то неземным светом. Как прекрасен был он, выражая эти мысли! Оливье созерцал его в каком-то экстазе.
– Я тоже, – робко пробормотал он, – понимаю, отчего лишают себя жизни; но для этого нужно раньше изведать радость, столь сильную, что в сравнении с ней вся дальнейшая жизнь покажется бледной; такую радость, что думаешь, хватит, я доволен, никогда больше я не…
Но Бернар его не слушал. Он молчал. Зачем говорить в пустоту? Весь горизонт его души вновь омрачался тучами. Бернар вынул часы:
– Мне пора. Так ты говоришь, сегодня вечером… в котором часу?
– О, думаю, часов в десять будет совсем не поздно. Ты придешь?
– Да, и постараюсь вытащить Эдуарда. Но ты знаешь: он недолюбливает Пассавана и собрания литераторов ему несносны. Он придет только для того, чтобы повидаться с тобой. Скажи: нельзя ли мне будет снова встретиться с тобой после экзамена по латинскому языку?
Оливье ответил не сразу. Он с отчаянием подумал, что обещал Пассавану встретиться с ним в будущей типографии «Авангарда» в четыре часа. Чего бы он не дал за возможность быть свободным!
– Я очень хочу, но уже дал слово.
Его подавленность ничем себя не обнаружила; Бернар ответил:
– Тем хуже.
На этом друзья расстались.
Оливье не сказал Бернару ни одной из заготовленных им для него фраз. Он боялся не понравиться ему. Он не нравился себе самому. Еще утром полный задора, он теперь шел опустив голову. Дружба Пассавана, которой он в первое время так гордился, угнетала его; он чувствовал, что над ней тяготеет осуждение Бернара. Если сегодня вечером, на банкете, он снова встретится со своим другом, он не в силах будет заговорить с ним на глазах у всех. Этот банкет мог бы доставить ему удовольствие лишь в том случае, если бы предварительно им удалось восстановить согласие. В довершение всего какая нелепая мысль была продиктована ему тщеславием: пригласить на вечеринку и дядю Эдуарда! Подле Пассавана, в обществе старших, собратьев, будущих сотрудников «Авангарда», ему придется ломать комедию; за это Эдуард еще больше его осудит, осудит, вероятно, навсегда… Если бы, по крайней мере, он мог повидаться с ним до банкета! Встретиться с ним немедленно; он бросился бы ему на шею; может быть, зарыдал бы; рассказал бы о себе все… До четырех часов есть еще время. Живо, такси.
Он называет адрес шоферу. С бьющимся сердцем подходит к дверям, звонит… Эдуарда нет дома.
Бедный Оливье! Вместо того чтобы прятаться от родителей, почему бы ему не возвратиться к ним не мешкая? Он нашел бы Эдуарда у своей матери.
VI
Дневник Эдуарда
Романисты вводят нас в заблуждение, когда изображают развитие индивидуума, не принимая в расчет давления на него окружающей среды. Лес дает форму деревьям. Как мало места предоставлено каждому из них! Сколько побегов атрофируется! Каждое дерево ветвится как может. Таинственным своеобразием человек чаще всего бывает обязан тесноте. Он может вырваться на простор, только устремившись в высоту. Не понимаю, как Полина может обходиться без этого устремления ввысь, каких еще давлений со стороны окружающего она ожидает. Она разговаривала со мною более доверительно, чем когда-либо раньше. Признаюсь, я не подозревал, сколько таится в ней горечи и безропотной покорности судьбе под маскою внешнего благополучия. Я согласен, однако, что ей нужно было бы обладать слишком уж пошлой душой, чтобы не быть разочарованной в Молинье. Во время своего позавчерашнего разговора с ним я мог измерить его возможности. Как могла Полина выйти за него замуж?.. Увы! Самое жалкое убожество – убожество характера – часто глубоко скрыто и обнаруживается лишь при длительном общении.
Полина всячески старается замаскировать недостатки и слабости Оскара, скрыть их от чужих глаз, особенно от глаз детей. Она умудряется заставить их относиться с уважением к отцу; ей действительно приходится преодолевать огромные трудности; но она делает это так искусно, что я сам этого не замечал. Она говорит о своем муже без презрения, но с какой-то снисходительностью, которая свидетельствует о многом. Она сожалеет, что он теряет авторитет у детей; когда же я выразил огорчение по поводу того, что Оливье проводит каникулы в обществе Пассавана, то понял, что, если бы решение зависело только от нее, поездка Оливье на Корсику не состоялась бы.
– Я не одобряла этой поездки, – сказала она, – и этот мсье Пассаван, по правде говоря, не особенно мне нравится. Но что поделаешь? Если я вижу, что не в состоянии помешать чему-либо, я предпочитаю добровольно дать свое согласие. Оскар, тот всегда уступает; уступает и мне. Но когда я считаю долгом выступить с возражением против какого-нибудь плана детей, воспрепятствовать им, проявить характер, я не нахожу у него поддержки. Даже Винцент вмешался в это дело. При таких обстоятельствах какое противодействие могла я оказать Оливье, не рискуя потерять его доверие ко мне? А доверием его я дорожу больше всего.
Она штопала старые носки; те носки, которые, сказала она, Оливье больше не носит. Она замолчала, чтобы продеть нитку в иголку, затем продолжала, несколько понизив голос, тоном более интимным и печальным:
– Его доверие… Будь, по крайней мере, я еще убеждена в том, что он питает его ко мне! Но нет, я его утратила…
Возражение, которое я рискнул сделать без особого убеждения, вызвало у нее улыбку. Она уронила свою работу на колени и сказала:
– Послушайте, я знаю, что он сейчас в Париже. Жорж встретил его сегодня утром, он сказал об этом вскользь, и я притворилась, будто не слышу его, потому что мне не нравится, когда он доносит на брата. Так или иначе, я знаю об этом. Оливье скрывается от меня. Когда я увижу его, он будет вынужден лгать мне, и я буду делать вид, будто верю ему, как делаю вид, будто верю его отцу каждый раз, когда он прячется от меня.
– Он боится причинить вам огорчение.
– Но, поступая так, он огорчает меня еще больше. Я вовсе не такая нетерпимая. Есть множество маленьких провинностей, с какими я мирюсь, закрываю на них глаза.
– О ком говорите вы сейчас?
– О, об отце и сыновьях в равной мере.
– Притворяясь, что вы не замечаете этих провинностей, вы тоже им лжете.
– Но как же прикажете мне поступать? Мне дорого стоит уже то, что я не жалуюсь; не могу же я, однако, одобрять их! Видите ли, я пришла к убеждению, что рано или поздно любимый человек ускользает от вас и что самая нежная любовь ничего не может поделать с этим. Да что я говорю? Она вызывает раздражение, досаждает. Я дошла до того, что даже скрываю эту любовь.
– Теперь вы говорите о сыновьях.
– Почему вы так считаете? Полагаете, что я больше не способна любить Оскара? Иногда я действительно так думаю, но я думаю также, что недостаточно люблю его из боязни причинить себе большие страдания… И… да, вы, пожалуй, правы: если дело идет об Оливье, я предпочитаю терпеть.
– А Винцент?
– Несколько лет тому назад я сказала бы о Винценте все, что я говорю вам об Оливье.
– Бедная… Скоро вам придется говорить это о Жорже.
– Но мало-помалу покоряешься. Между тем я не предъявляла больших требований к жизни. Теперь я приучаюсь требовать от нее еще меньше… с каждым годом все меньше. – Помолчав, она прибавила с мягкой улыбкой: – А к себе с каждым годом становишься все более требовательной.
– С такими мыслями вы стали уже почти христианкой, – промолвил я улыбаясь.
– Как раз об этом я иногда думаю. Но, чтобы быть христианином, их недостаточно.
– Точно так же, как недостаточно быть христианином, чтобы их иметь.
– Я часто думала – разрешите мне сказать об этом вам, – что, за неспособностью отца, поговорить с детьми могли бы вы.
– Винцент далеко.
– Ну, тут уже слишком поздно. Я имею в виду Оливье. У меня было желание, чтобы он отправился в поездку с вами.
При этих словах, которые вдруг заставили меня живо представить себе, что могло бы быть, если бы я не бросился так необдуманно в авантюру, сильное волнение сдавило мне горло, и в первую минуту я не мог вымолвить ни слова; но, когда слезы выступили у меня на глазах, я сказал со вздохом, желая придать моему волнению видимость объяснения:
– Боюсь, как бы тут тоже не было слишком поздно.
При этих словах Полина схватила меня за руку.
– Как вы добры! – воскликнула она.
Чувствуя замешательство от неправильно истолкованного моего порыва и не будучи в состоянии вывести ее из заблуждения, я пожелал, по крайней мере, отвлечь разговор от этой слишком чувствительной для меня темы.
– А Жорж? – спросил я.
– Он причиняет мне гораздо больше хлопот, чем старшие, – ответила она. – Не могу сказать, чтобы он ускользал от меня, потому что он никогда не был близок мне и никогда меня не слушался.
Несколько мгновений она была в нерешительности. Несомненно, ей стоило большого труда рассказать мне следующее:
– Этим летом произошло одно тяжелое событие; мне очень неприятно рассказывать вам о нем, тем более что по поводу его у меня остались кое-какие сомнения… Из шкафа, в который я обыкновенно запирала свои деньги, исчез вдруг стофранковый билет. Боязнь ошибиться в своих подозрениях удержала меня от каких-либо конкретных обвинений; совсем молоденькая девушка, которая служила нам в гостинице, казалась мне честной. Я сказала в присутствии Жоржа, что потеряла эти деньги, так как, признаюсь вам, мои подозрения падали на него. Он не смутился, не покраснел… Мне стало стыдно своих подозрений; я захотела проверить, не ошиблась ли я; произвела заново подсчет расходов. Увы! Не оставалось места для сомнений: недоставало ста франков. Я не решалась подвергнуть Жоржа допросу и не без колебаний оставила его в покое. Боязнь быть свидетельницей, что воровству сопутствует еще и ложь, удержала меня. Допустила ли я ошибку, поступив таким образом?.. Да, теперь я упрекаю себя за то, что действовала без достаточного упорства; может быть, я также испугалась необходимости проявить большую строгость или, наоборот, своей неспособности быть слишком строгой. И вот я еще раз притворилась, что ничего не знаю, но это дорого обошлось мне, уверяю вас. Я упустила время и подумала, что будет уже слишком поздно и что наказание последует через слишком большой промежуток времени после преступления. Да и как наказать его? Я ничего не сделала: я упрекаю себя за это… но что я могла бы сделать? Я думала послать его в Англию; хотела даже обратиться к вам за советом по этому поводу, но не знала, где вы… По крайней мере, я не скрыла от него огорчения и беспокойства и думаю, что он не останется нечувствительным к этому, потому что у него доброе сердце, вы ведь знаете. Я придаю большое значение упрекам, которые он сам будет предъявлять себе, если только он действительно виноват, чем острастке, которую могла бы сделать ему я. Он больше не станет воровать, я в этом уверена. Он находится в обществе одного очень богатого товарища, который, несомненно, толкал его на расходы. Конечно, если я буду оставлять шкаф открытым… Еще раз повторяю, я не вполне уверена, что это сделал он. Много случайных людей заходило в гостиную…
Я удивлялся, с какой изобретательностью она отыскивала всевозможные оправдания своему сыну.
– Я желал бы, чтобы он положил деньги туда, откуда взял, – сказал я.
– Я тоже думала об этом. Так как он этого не сделал, то я склонна видеть в этом доказательство его невиновности. Впрочем, у него могло не хватить решимости.
– Вы говорили об этом его отцу?
В течение некоторого времени она оставалась в нерешительности.
– Нет, – сказала она наконец. – Я предпочитаю, чтобы отец ничего об этом не знал.
Тут ей, вероятно, послышался шум из соседней комнаты, потому что она отправилась удостовериться, нет ли там кого-нибудь; затем снова села подле меня.
– Оскар мне сказал, что на днях вы вместе завтракали. Он так расхвалил мне вас, что я подумала, уж не пришлось ли вам выслушивать его излияния. – Она печально улыбнулась, произнося эти слова. – Если он делал вам признания, я не требую от вас неделикатности… хотя я знаю о его частной жизни гораздо больше, чем ему кажется… Но со времени моего возвращения я не понимаю, что с ним. Он так ласков со мной, я чуть было не сказала: подобострастен… Я почти обеспокоена этим. Такое впечатление, точно он меня боится. Он, право, ошибается. Уже давно я в курсе отношений, которые он поддерживает… я знаю даже с кем. Он считает, что они мне неизвестны, и принимает огромные предосторожности, чтобы скрыть их от меня; но эти предосторожности так бьют в глаза, что чем больше он прячется, тем больше себя выдает. Каждый раз, когда, собираясь уходить, он напускает на себя деловой, недовольный и озабоченный вид, я знаю, что он бежит к своей любовнице. Мне очень хочется сказать ему: «Друг мой, ведь я тебя не удерживаю; неужели ты боишься, что я ревную?» Я смеялась бы над ним, если бы была злой. Я боюсь единственно только, как бы дети чего не заметили: он так рассеян, так неловок! Он не подозревает об этом, но иногда я, право, бываю вынуждена приходить ему на помощь, как если бы была его соучастницей. В результате это почти забавляет меня, уверяю вас; я придумываю для него извинения; кладу ему обратно в карман пальто письма, которые он всюду забывает.
– Вот именно, – сказал я, – он боится, что вы перехватываете его письма.
– Он сказал вам это?
– Поэтому он так робок.
– Неужели вы думаете, что я интересуюсь их содержанием?
Своего рода уязвленная гордость заставила ее выпрямиться. Я должен был прибавить:
– Речь идет не о тех письмах, которые он мог обронить по рассеянности, но о письмах, спрятанных им в ящик письменного стола; по его словам, он их там больше не находит. Он думает, что вы их похитили.
При этих словах я увидел, что Полина бледнеет, и ужасное подозрение, которое зародилось у нее, вдруг овладело моим умом. Я пожалел, что сказал об этом, но было уж слишком поздно. Она отвернулась от меня и пробормотала:
– Боже, если бы это было так!
Она казалась раздавленной.
– Что делать? – повторяла она. – Что делать? – Затем, снова повернувшись ко мне: – Скажите, вы не могли бы поговорить с ним?
Хотя она, подобно мне, избегала произносить имя Жоржа, было очевидно, что она думала о нем.
– Попытаюсь. Подумаю об этом, – сказал я, вставая. Провожая меня в переднюю, она снова обратилась ко мне:
– Не говорите ничего Оскару, прошу вас. Пусть он продолжает подозревать меня, думать то, что думает… Так будет лучше. Приходите поскорее.
VII
Между тем Оливье, огорченный тем, что не застал дядю Эдуарда дома, был не в силах переносить одиночество и в поисках дружбы решил обратить свое сердце к Арману. Он направился к пансиону Ведель.
Арман принял его в своей комнате. Туда нужно было подниматься по черной лестнице. Комната была маленькая и узкая, с окном, выходящим во внутренний двор, в который выходили также окна туалетов и кухонь соседнего дома. Дневной свет, посылаемый покоробившимся цинковым рефлектором, был совсем серым и тусклым. Комната плохо проветривалась; ее пропитывал тяжелый запах.
– Ко всему привыкаешь, – сказал Арман. – Мои родители, понятно, отводят лучшие комнаты для платных пансионеров. Это в порядке вещей. Комнату, которую я занимал в прошлом году, я уступил одному виконту: брату твоего знаменитого друга Пассавана. Комната княжеская; но все, что в ней делается, слышно в комнате Рашели. Здесь масса комнат, но все они сообщаются одна с другой. Так, бедная Сара, приехавшая сегодня утром из Англии, чтобы попасть в свою новую каморку, принуждена проходить через комнату родителей (что мало ее устраивает) или через мою, которая, говоря правду, первоначально была какой-нибудь уборной или кладовой. Здесь я, по крайней мере, обладаю тем преимуществом, что могу входить и выходить, когда мне угодно, не боясь, что за мной будут подглядывать. Я предпочел это мансардам, куда помещают прислугу. Честно сказать, я не в большой претензии за невзрачность обстановки; мой отец назвал бы это склонностью к умерщвлению плоти и объяснил бы тебе, что все, что причиняет ущерб телу, способствует спасению души. Впрочем, он никогда не заходит сюда. У него, видишь ли, есть другие заботы и некогда уделять внимание обиталищу своего сына. Мой папа презанятнейший тип. Он знает наизусть массу утешительных фраз на главнейшие события жизни. Приятно послушать. Жаль, что у него никогда нет времени поговорить… Ты рассматриваешь мою картинную галерею? Утром она бывает более выгодно освещена. Вот эта гравюра в красках ученика Паоло Учелло; предназначена для ветеринаров. В мощном творческом усилии артист сконцентрировал на одной лошади все бедствия, с помощью которых провидение очищает лошадиную душу; обрати внимание на одухотворенность взгляда… Вот это символическое изображение возрастов человека, начиная от колыбели и кончая могилой. В отношении рисунка вещь не особенно сильная; в ней ценен главным образом замысел. Дальше полюбуйся фотографией, сделанной с одной куртизанки Тициана, которую я повесил над своей кроватью, чтобы возбуждать у себя похотливые видения. Вот эта дверь в комнату Сары.
Жалкая комната произвела тягостное впечатление на Оливье; постель не убрана, и вода из умывальной чашки на туалетном столике не вылита.
– Да, мою комнату я убираю сам, – сказал Арман в ответ на его тревожный взгляд. – Вот здесь мой рабочий стол. Ты представить не можешь, на что вдохновляет меня атмосфера этой комнаты:
О воздух милого приюта…Ей обязан я идеей моего последнего стихотворения «Ночной сосуд».
Оливье пришел к Арману с намерением поговорить с ним о своем журнале и получить у него согласие на сотрудничество; теперь у него пропала охота. Но Арман сам заговорил на эту тему:
– «Ночной сосуд»! Не правда ли, прекрасное заглавие? Со следующим эпиграфом из Бодлера:
Что это: погребальная урна, ждущая капелек слез?Я пользуюсь там (вечно юным) античным сравнением с демиургом-горшечником, который лепит каждое человеческое существо как сосуд, предназначенный хранить в себе неведомое содержимое. В лирическом порыве я сравниваю себя самого с вышеупомянутым сосудом; мысль, которая, как я тебе говорил, возникла у меня вполне естественно при вдыхании запахов этой комнаты. Особенно я доволен началом стихотворения:
Без геморроя кто дожил до сорока…Чтоб успокоить читателя, я хотел сначала сказать: «до пятидесяти…», но это никак не вмещалось в размер. Что касается «геморроя», то это, несомненно, одно из самых благозвучных слов… даже независимо от его значения, – со смешком прибавил он.
Оливье молчал, испытывая гнетущее впечатление от слов Армана.
– Излишне говорить, – продолжал Арман, – что ночной сосуд особенно польщен посещением горшка, подобно тебе, доверху наполненного ароматами.
– И ты ничего не написал, кроме этого? – с отчаянием спросил наконец Оливье.
– Я собирался предложить мой «Ночной сосуд» в твой славный журнал, но по тону, каким ты только что сказал «кроме этого», ясно вижу, что у него не много шансов тебе понравиться. Правда, в таких случаях поэт всегда может заявить: «Я пишу не для того, чтобы нравиться» – и остаться в убеждении, что он одарил мир шедевром. Но не стану скрывать от тебя, что нахожу свое стихотворение гнусным. Впрочем, я написал только первый стих. Я говорю «написал», но это неточное выражение, потому что я лишь сию минуту сварганил его в твою честь… Нет, в самом деле, у тебя была мысль напечатать что-нибудь из моих стихотворений? Ты хотел привлечь меня в число сотрудников? Не считал, значит, меня не способным написать что-нибудь чистоплотное? Различил на моем бледном челе печать гения? Я знаю, что здесь недостаточно светло, чтобы увидеть свое изображение в зеркале; но когда мне, этакому Нарциссу, случается созерцать себя в нем, я вижу только лицо неудачника. Конечно, это, может быть, всего-навсего эффект дурного освещения… Нет, дорогой мой Оливье, нет, я ничего не написал этим летом, и если ты рассчитывал на меня для твоего журнала, то можешь разувериться. Но довольно болтовни… Значит, на Корсике все было благополучно? Ты вволю насладился путешествием? Извлек из него пользу? Отдохнул от трудов? Набрался…
Оливье наконец не выдержал:
– Замолчи, пожалуйста, перестань ерничать. Если ты думаешь, что это меня веселит…
– Неужели ты думаешь, что это веселит меня! – воскликнул Арман. – Нет, дорогой мой, нисколько не забавляет! Я вовсе не такой дурак. У меня еще достаточно ума, чтобы понять, что все сказанное мной тебе – паясничество.
– Ты не можешь, значит, говорить серьезно?
– Мы начнем сейчас говорить серьезно, раз тебе нравится серьезный жанр. Моя старшая сестра Рашель слепнет. Ее зрение сильно ослабело в последнее время. Уже два года, как она не может читать без очков. Я думал сначала, что ей просто нужно переменить стекла. Этого оказалось недостаточно. По моему настоянию она пошла к специалисту. По-видимому, у нее ослабляется чувствительность сетчатки. Ты понимаешь, что это две различные вещи; при несовершенной аккомодации хрусталика приходят на помощь очки. Но даже после того как они удалили или приблизили зрительный образ, он может производить недостаточно сильное раздражение сетчатки и вследствие этого передаваться в мозг в очень смутном виде. Ясно тебе? Ты почти не знаешь Рашели, так что не подумай, будто я желаю растрогать тебя ее участью. Зачем же, в таком случае, я рассказываю тебе все это?.. Затем, что, размышляя над ее болезнью, я пришел к убеждению: подобно зрительным образам, представления тоже могут доходить до мозга с большей или меньшей отчетливостью. Тупая башка получает только смутные восприятия; но именно поэтому она не способна отдать себе ясный отчет, что она тупая. Ее тупость могла бы причинить ей страдание только в том случае, если бы она сознала ее; но, чтобы сознать свою тупость, она должна поумнеть. Теперь представь себе на одно мгновение такого урода: дурака, который достаточно умен, чтобы ясно понять, что он дурак.
– Если он поймет это, то, право же, не будет больше дураком!
– Будет, дорогой мой, поверь мне. Я отлично знаю это, потому что этот дурак – я сам.
Оливье пожал плечами. Арман продолжал:
– Дурак в подлинном смысле слова не сознает мыслей, превосходящих его разумение. Я сознаю их. Но тем не менее я дурак, так как я знаю, что никогда не буду в силах овладеть ими…
– Но бедняга Арман, – промолвил Оливье в порыве симпатии, – мы все так созданы, что могли бы быть лучше, и я думаю, что величайшим умом является как раз тот, который больше всего страдает от своей ограниченности.
Арман оттолкнул руку, которую Оливье с дружеским участием положил ему на плечо.
– У других есть чувство того, чем они обладают, – сказал он, – я же чувствую только свои недостатки. Недостаток денег, недостаток сил, недостаток ума, недостаток любви. Недостаток во всем; таким я останусь всегда.
Он подошел к туалетному столику, намочил головную щетку в грязной воде умывальника и нелепо начесал себе волосы на лоб.
– Я сказал тебе, что ничего не написал; однако в эти последние дни у меня родилась идея трактата, который я назвал бы трактатом о неполноценности. Но, понятно, у меня недостаточно сил, чтобы его написать. Я сказал бы в нем… Но я раздражаю тебя.
– Нисколько; ты раздражаешь меня своими шутками; теперь, напротив, меня очень интересует все, что ты говоришь.
– Я занялся бы там отысканием, в мировом масштабе, пограничной точки, за пределами которой нет ничего. Пример пояснит тебе, в чем здесь дело. Недавно газеты писали о смерти одного рабочего, убитого электрическим током. Не приняв мер предосторожности, он возился с электрическими проводами; напряжение было не очень высокое; но все его тело было, по-видимому, покрыто потом. Смерть его объясняется этим влажным покровом, который позволил току окутать его тело. Если бы его тело было менее влажно, несчастья не произошло бы. Но прибавим пот, капелька за капелькой… Еще одна капелька: готово.
– Не понимаю, – сказал Оливье.
– Это оттого, что я выбрал неудачный пример. Я всегда выбираю неудачно свои примеры. Ну, вот тебе другой: в одной лодке собралось шестеро потерпевших кораблекрушение. Десять дней буря носит их по океану. Трое умерли, двоих спасли. Шестой был в обмороке. Надеялись еще возвратить его к жизни. Организм достиг пограничной точки.
– Да, да, понимаю, – сказал Оливье, – часом раньше его удалось бы спасти.
– Часом! Эка ты хватил! Я принимаю в расчет крайнее мгновение: еще можно; еще можно… больше нельзя! Мой ум движется по узкой грани. Вот эту-то демаркационную линию между бытием и небытием я стараюсь провести повсюду. Граница сопротивления… возьмем, например, то, что мой отец назвал бы искушением. Человек еще крепится; веревка, за которую тянет дьявол, натянута до предела… Еще одно маленькое усилие, и веревка разрывается: человек осужден. Понятно тебе теперь? Чуть-чуть меньше – и небытие. Бог не создал бы мира. Ничего не было бы… «Лицо мира изменилось бы», – говорит Паскаль. Но я не довольствуюсь мыслью: «Если бы нос Клеопатры был покороче». Я требую точности. И я спрашиваю: короче… насколько? Ведь, в конце концов, он мог бы быть короче на самую малость, не правда ли?.. Постепенный переход; постепенный переход; потом внезапный скачок… «Natura non fecit saltus»[30] – пустая болтовня! Я словно араб в пустыне, изнемогающий от жажды. Я достигаю той строго определенной точки, где, понимаешь ли, одна капля воды могла бы еще спасти его… или одна слеза…
Голос его прерывался, приобретая патетическую интонацию, удивившую и взволновавшую Оливье. Он продолжал мягким, почти ласковым тоном:
– Помнишь: «Я пролил эту слезу за тебя…»
Да, Оливье помнил фразу Паскаля; ему даже было неприятно, что его друг процитировал неточно, и он не мог удержаться, чтобы не поправить: «Я пролил эту каплю крови…»
Возбуждение Армана внезапно спало. Он пожал плечами:
– Что мы можем тут? Есть такие, которые будут приняты без труда… Понимаешь теперь, что такое чувствовать себя всегда «на грани»? Мне всегда будет недоставать маленькой малости.
Он принялся хохотать. Оливье почувствовал, что смех этот был средством заглушить рыдания. Ему очень хотелось высказаться самому, сказать Арману, как он взволнован его словами и сколько душевной боли слышится ему в этой раздражающей иронии. Но он торопился на свидание с Пассаваном.
– Я должен расстаться с тобой, – сказал он, вынув часы. – Ты сегодня вечером свободен?
– А что?
– Я хочу пригласить тебя в ресторан «Пантеон». «Аргонавты» устраивают там банкет. Приезжай к концу. Будет масса типов, более или менее знаменитых и подвыпивших. Бернар Профитандье обещал прийти. Может получиться очень занятно.
– Я небрит, – мрачно сказал Арман. – Да и что мне делать среди знаменитостей? Но знаешь что? Пригласи Сару, утром она вернулась из Англии. Я уверен, это доставит ей большое удовольствие. Хочешь, я передам ей приглашение от твоего имени? Бернар ее проводит.
– Ладно, идет, – ответил Оливье.
VIII
Итак, было условлено, что Бернар и Эдуард, пообедав вместе, заедут за Сарой около десяти часов. Сара с радостью приняла переданное Арманом приглашение. В половине десятого она удалилась в свою комнату, куда проводила ее мать. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через комнату родителей; но другая дверь, которая считалась заколоченной, вела из комнаты Сары в комнату Армана и выходила, как мы уже сказали, на черную лестницу.
В присутствии матери Сара притворилась, что собирается лечь спать, и попросила оставить ее; но едва дверь за матерью закрылась, она подошла к туалетному зеркалу, чтобы подкрасить себе губы и подрумянить щеки. Туалетный столик маскировал закрытую дверь и был не настолько тяжел, чтобы Сара не могла бесшумно его отодвинуть. Она открыла потайную дверь.
Сара боялась встречи с братом, насмешки которого были ей неприятны. Арман, правда, оказывал содействие самым рискованным ее затеям; казалось, даже находил в этом удовольствие; но снисходительность его была весьма условна, ибо потом он еще суровее осуждал ее; в результате Сара не могла бы сказать с уверенностью, не является ли в конце концов любезность брата только издевательской игрой блюстителя нравов.
Комната Армана была пуста. Сара села на низенький табурет и в ожидании предалась размышлениям. Из духа протеста она давно уже культивировала в себе презрительное отношение ко всем домашним добродетелям. Семейный гнет напрягал ее энергию, раздражал ее бунтарские инстинкты. Во время пребывания в Англии она сумела раскалить добела свою смелость. Подобно мисс Абердин, молоденькой пансионерке-англичанке, Сара решила завоевать себе свободу, обеспечить возможность делать что угодно, отважиться на все. Она чувствовала себя готовой выдержать любое презрение и любое порицание, способной на любой вызов. В своих авансах Оливье она одержала уже победу над природной скромностью и врожденной стыдливостью. Пример старших сестер послужил ей уроком; она рассматривала благочестивую покорность Рашели как надувательство; соглашалась видеть в браке Лауры только жалкую сделку, приводящую к рабству. Образование, которое она получила, которое дала себе сама, которого добилась, весьма мало предрасполагало ее, как ей казалось, к тому, что она называла супружеской преданностью. Она совершенно не понимала, чем мог бы превосходить ее человек, за которого она вышла бы замуж. Разве она не получила аттестата зрелости так же, как и мужчина? Разве у нее не было о любом предмете своих мнений и своих идей? В частности, о равенстве полов; ей даже казалось, что в практической жизни, а при случае и в политике женщина часто обнаруживает больше здравого смысла, чем многие мужчины…
Шаги на лестнице. Сара насторожилась, затем тихонько отворила дверь.
Бернар и Сара еще не были знакомы. Коридор не освещался. В полутьме они едва различали друг друга.
– Мадемуазель Сара Ведель? – тихо спросил Бернар.
Она бесцеремонно взяла его под руку.
– Эдуард ожидает нас в авто на углу. Он предпочел не выходить из автомобиля, боясь встретиться с вашими родителями. Ну а мне это не страшно, вы ведь знаете, я здесь живу.
Бернар позаботился оставить калитку полуоткрытой, чтобы не привлечь внимания привратника. Через несколько минут автомобиль подкатил всех троих к ресторану «Пантеон». Когда Эдуард расплачивался с шофером, часы пробили десять.
Банкет окончился. Кушанья были убраны, но стол был заставлен чашками кофе, бутылками и рюмками. Все курили; становилось нечем дышать. Госпожа де Брусс, жена редактора «Аргонавтов», требовала свежего воздуха. Ее резкий голос отчетливо раздавался среди шума разговоров. Открыли окно. Но Жюстиньен, собравшийся произнести речь, велел тотчас же снова закрыть его – «для акустики». Поднявшись, он начал стучать ложечкой по рюмке, но ему не удалось привлечь к себе внимание. Вмешался редактор «Аргонавтов», которого называли президент де Брусс, и сумел добиться относительной тишины; голос Жюстиньена начал изливать целые моря скуки. Банальность мысли он прикрывал потоками образов. Остроумие заменял напыщенностью и ухитрялся каждому присутствующему отпустить тяжеловесный комплимент. После первой паузы, когда в зал входили Эдуард, Бернар и Сара, раздались снисходительные аплодисменты; некоторые хлопали дольше, чем требовали приличия, иронически, без сомнения, и как бы в надежде положить конец речи; но тщетно: Жюстиньен начал снова; ничто не в силах было охладить жар его красноречия. Теперь он стал осыпать цветами риторики графа де Пассавана. Он говорил о «Турнике» как о новой «Илиаде». Стали пить за здоровье Пассавана. У Эдуарда, Бернара и Сары не было рюмок, что избавило их от обязанности чокаться с ним.
Речь Жюстиньена закончилась пожеланием процветания новому журналу и несколькими комплиментами его будущему редактору, «юному и талантливому Молинье, любимцу муз, благородному и чистому челу которого недолго придется дожидаться лавров».
Оливье сидел около входной двери, чтобы иметь возможность встретить своих друзей. Преувеличенные комплименты Жюстиньена явно были ему неприятны, но он не мог уклониться от маленькой овации, последовавшей за этим.
Трое вновь прибывших пообедали слишком скромно, чтобы чувствовать себя настроенными в тон собранию. На такого рода пиршествах опоздавшие плохо или же слишком хорошо объясняют себе возбуждение остальных. Они судят, тогда как судить не следовало бы, и предаются, хотя бы невольно, безжалостной критике; так, по крайней мере, было с Эдуардом и Бернаром. Что касается Сары, для которой все в этом обществе было ново, то она хотела только поучиться, заботилась только о том, чтобы попасть в тон.
Бернар никого не знал. Оливье, который взял его под руку, хотел представить его Пассавану и де Бруссу. Бернар отказался. Выручил Пассаван: подойдя, он протянул ему руку, которую Бернар не мог, конечно, не пожать.
– Я слышу о вас так давно, что мне кажется, будто уже знаком с вами.
– Я тоже, – сказал Бернар таким тоном, который сразу охладил пыл Пассавана. Отвернувшись, он подошел к Эдуарду.
Несмотря на свои частые путешествия и очень замкнутый образ жизни в Париже, Эдуард был достаточно хорошо знаком с несколькими из присутствующих и не чувствовал никакого стеснения. Эдуарда его собратья мало любили, но уважали, он мирился со своей репутацией гордеца, хотя на самом деле лишь держался на расстоянии. Он охотнее слушал, чем говорил.
– Ваш племянник обрадовал меня известием, что вы придете, – начал Пассаван вкрадчивым и тихим голосом. – Я был весьма польщен, потому что…
Иронический взгляд Эдуарда заставил его прервать фразу. Искусный льстец, привыкший всем нравиться, Пассаван, чтобы блистать, чувствовал потребность иметь перед глазами снисходительное зеркало. Однако он овладел собою, так как не принадлежал к числу тех, кто надолго теряет уверенность и примиряется с поражением. Он поднял голову, и в его глазах снова появилась наглость. Если Эдуард не согласится участвовать в его игре добровольно, он найдет способ его заставить.
– Я хотел вас спросить… – сказал Пассаван, как бы продолжая свою мысль, – нет ли у вас известий от вашего другого племянника, моего друга Винцента? Я был близок главным образом с ним.
– Нет, – сухо ответил Эдуард.
Это «нет» снова поставило в тупик Пассавана, который толком не понимал, должен ли он принимать его как вызов или как простой ответ на вопрос. Замешательство его длилось не более мгновения. Эдуард помимо своей воли вернул Пассавану самообладание, прибавив почти тотчас же:
– Я лишь узнал от его отца, что он путешествует с князем Монако.
– Да, я просил одну даму, с которой у меня дружеские отношения, представить его князю. Я счастлив, что мне удалось придумать для него эту прогулку; мне очень хотелось развлечь его после несчастной авантюры с госпожой Дувье… с которой, по словам Оливье, вы знакомы. Винцент чуть было не испортил себе жизнь.
Пассаван чудесно мог изобразить пренебрежение, презрение, снисходительность; но для него было достаточно выйти победителем из этого состязания и держать Эдуарда на почтительном расстоянии. Эдуард старался придумать какой-нибудь хлесткий ответ. У него до странности не хватало присутствия духа. Это обстоятельство было, несомненно, одной из причин его нелюбви бывать в обществе: он был вовсе лишен качеств, необходимых, чтобы блистать в гостиных. Брови его, однако, нахмурились. У Пассавана был нюх: как только ему собирались сказать что-либо неприятное, он сразу это чувствовал и делал крутой поворот. Не переводя дыхания и резко меняя тон, он улыбнулся и спросил:
– Кто эта прелестная девушка, пришедшая с вами?
– Это, – отвечал Эдуард, – мадемуазель Сара Ведель, сестра упомянутой вами госпожи Дувье, моего друга.
За неимением ничего лучшего он заострил «моего друга» как стрелу; но она не попала в цель, и Пассаван, подождав, когда она упадет, сказал:
– Вы были бы очень любезны, если бы познакомили меня с ней.
Он сказал эти последние слова и предшествующую фразу достаточно громко, чтобы Сара могла их услышать; так как она повернулась к ним, то Эдуард не мог увильнуть и сказал с натянутой улыбкой:
– Сара, граф де Пассаван желает удостоиться чести познакомиться с вами.
Пассаван велел принести три новые рюмки и наполнил их кюммелем. Все четверо выпили за здоровье Оливье. Бутылка была почти пуста, и так как Сару поразили кристаллы, оставшиеся на дне, то Пассаван сделал попытку извлечь их при помощи соломинок. Тут подошел к ним какой-то странный тип, похожий на паяца, с нарумяненными щеками, подведенными глазами и прилизанными, словно молескиновая ермолка, волосами; с явным усилием выжимая из себя каждый слог, тип этот произнес:
– Так вам не вытащить. Дайте, я ее разобью.
Он схватил бутылку и одним ударом разбил о подоконник. Преподнося дно Саре, он сказал ей:
– С помощью этих маленьких острых многогранников очаровательная барышня без труда пробьет…
– Кто это чучело? – спросила Сара Пассавана, который усадил ее и сам сел рядом.
– Это Альфред Жарри, автор «Короля Юбю». «Аргонавты» произвели его в гении на том основании, что публика недавно освистала его пьесу. Все же она самое любопытное из всего, что написано для театра за последние годы.
– «Король Юбю» мне очень нравится, – сказала Сара, – и я очень довольна встречей с Жарри. Мне говорили, что он всегда пьян.
– Да, сейчас он, должно быть, пьян. Я видел, как он выпил за обедом два больших бокала чистого абсента. Незаметно, чтобы он чувствовал себя плохо. Хотите папиросу? Нужно курить самому, чтобы не задохнуться в табачном дыму.
Он наклонился к ней, поднося зажженную спичку. Она принялась грызть кристаллы.
– Да ведь это обыкновенный леденец, – сказала она, несколько разочарованная. – А я думала что-нибудь особенное.
Разговаривая с Пассаваном, она улыбалась Бернару, который оставался подле нее. Глаза ее блестели от возбуждения. Бернар не мог разглядеть ее в темноте и был теперь поражен ее сходством с Лаурой. Тот же лоб, те же губы… Черты ее, правда, не дышали такой ангельской грацией, и взгляды рождали какое-то смятение в его сердце. В каком-то замешательстве он обратился к Оливье:
– Познакомь же меня с твоим другом Беркаем.
Он встречался уже с Беркаем в Люксембургском саду, но никогда с ним не разговаривал. Робкий Беркай, чувствовавший себя слегка не по себе в обществе, куда его только что ввел Оливье, краснел каждый раз, когда его друг представлял его как одного из главных сотрудников «Авангарда». Дело в том, что его аллегорическое стихотворение, о котором он говорил Оливье в начале нашей повести, должно было появиться в первом номере нового журнала, сразу же после манифеста.
– На месте, которое я приберегал для тебя, – сказал Оливье Бернару. – Я уверен, что оно тебе понравится. Оно лучше всего, что есть в номере. И так оригинально!
Оливье доставляло больше удовольствия хвалить своих друзей, чем выслушивать похвалы себе. При приближении Бернара Люсьен Беркай встал; он так неловко держал чашку кофе, что в волнении пролил полчашки себе на жилет. В этот момент совсем близко от него раздался деревянный голос Жарри:
– Малютка Беркай сейчас отравится, потому что я насыпал яду в его чашку.
Жарри забавлялся робостью Беркая, и ему доставляло удовольствие смущать его. Но Беркай не боялся Жарри. Он пожал плечами и спокойно допил свою чашку.
– Кто это? – спросил Бернар.
– Как! Ты не знаешь автора «Короля Юбю»?
– Не может быть! Это Жарри? Я принял его за лакея.
– Ну что ты, – немного обиженно сказал Оливье: он гордился своими знаменитостями. – Приглядись к нему получше. Разве ты не находишь, что он необыкновенен?
– Он из кожи лезет, чтобы казаться таким, – сказал Бернар, который ценил только естественность, хотя относился с большим уважением к «Юбю».
Начиная от традиционного жокейского костюма, все в Жарри было нарочито; особенно его манера говорить, которой изо всех сил подражали некоторые «аргонавты»; манера, заключавшаяся в отчеканивании слогов, изобретении странных слов, причудливом коверкании некоторых других; но нужно признать, что только Жарри удалось добиться этого голоса без тембра, без теплоты, без интонации, без выражения.
– Когда узнаешь его ближе, уверяю тебя, находишь очаровательным, – сказал Оливье.
– Предпочитаю не знакомиться с ним. У него зверский вид.
– Это у него напускное. Пассаван думает, что в глубине души он очень нежен. Но он сегодня дьявольски пил; не воду, уверяю тебя, и даже не вино: только чистейший абсент и крепкие ликеры. Пассаван боится, как бы он не выкинул какого-нибудь фортеля.
Вопреки его желанию имя Пассавана то и дело навертывалось ему на язык, и тем упорнее, чем больше он стремился его избегать.
Раздраженный неумением владеть собой, словно человек, сам себя загнавший в западню, Оливье переменил тему:
– Тебе следует поговорить немного с Дюрмером. Боюсь, что он в смертельной обиде на меня за то, что я отбил у него редактуру «Авангарда»; но это не моя вина; я не мог поступить иначе и должен был дать свое согласие. Постарайся растолковать ему, успокоить его. Пасс… Мне сказали, что он просто взбешен от гнева на меня.
Он споткнулся, но на этот раз не упал.
– Надеюсь, что он взял обратно свою рукопись. Не люблю того, что он пишет, – сказал Беркай; затем, обращаясь к Профитандье: – Но вы, мсье, я думаю, что…
– Не называйте меня, пожалуйста, мсье… я отлично знаю, что у меня громоздкая и смешная фамилия… Если я буду писать, то придумаю себе псевдоним.
– Почему вы ничего нам не дали?
– Потому что у меня не было ничего готового.
Оливье, оставив своих друзей, подошел к Эдуарду:
– Как мило с вашей стороны, что вы пришли! Я не мог дождаться встречи с вами. Но мне хотелось увидеться с вами где-нибудь в другом месте… Сегодня днем я заходил к вам. Вам передали? Я был очень огорчен, что не застал вас дома, и если бы знал, где можно вас найти…
Он был приятно поражен, что ему удалось найти такой непринужденный тон: ведь еще недавно волнение, охватывавшее его в присутствии Эдуарда, лишало его речи. Он обязан был этой непринужденностью – увы! – банальности своих слов, а также выпитому вину. Эдуард с грустью это констатировал.
– Я был у вашей матери.
– Я узнал об этом, придя домой, – сказал Оливье, которого больно резануло «вы» Эдуарда. Он думал, как бы сказать ему об этом.
– И в этом обществе вы собираетесь жить? – спросил Эдуард, пристально на него глядя.
– О, я не поддаюсь его влиянию!
– Вы вполне в этом уверены?
Это было сказано таким серьезным, таким нежным, таким братским тоном… Оливье почувствовал, что его уверенность поколеблена.
– Вы находите, что мне не следует водиться с этими людьми?..
– Не со всеми, пожалуй, но с некоторыми из них, конечно.
Оливье принял это множественное число за единственное. Ему показалось, что Эдуард имеет в виду исключительно Пассавана, и это было, на его внутреннем небе, как бы ослепительной и болезненно ранящей молнией, рассекавшей тяжелую тучу, которая уже с утра грозно сгущалась в его сердце. Он любил Бернара, любил Эдуарда, любил слишком сильно, чтобы перенести их неодобрение. Подле Эдуарда в нем загоралось все, что в нем было лучшего. Подле Пассавана пробуждались самые худшие инстинкты; он это теперь сознавал; да и переставал ли когда-либо сознавать? Но разве его ослепление в обществе Пассавана не было добровольным? Его признательность графу за все, что тот сделал для него, обращалась в озлобление. Всеми силами души он отрекался от Пассавана. То, что он увидел, окончательно исполнило его ненависти к нему.
Пассаван, наклонившись к Саре, охватил рукой ее талию и проявлял все большую и большую настойчивость. Осведомленный о грязных сплетнях по поводу его отношений с Оливье, он пытался дать наглядное доказательство их необоснованности. И, чтобы еще больше обратить на себя внимание, он решил добиться от Сары согласия сесть к нему на колени. Сара до сих пор оказывала очень слабое сопротивление, но взгляды ее искали взглядов Бернара, и когда она их встречала, то улыбалась, как бы говоря ему: «Посмотрите, что можно позволить со мной».
Однако Пассаван боялся действовать слишком поспешно. Ему не хватало практики. «Если только мне удастся убедить ее выпить еще немного, я рискну», – говорил он себе, протягивая свободную руку к бутылке кюрасао.
Оливье, наблюдавший за ним, предупредил его движение. Он схватил бутылку, просто чтобы отнять ее у Пассавана; но в этот момент он вообразил, что ликер придаст ему больше храбрости; храбрости, в которой он как раз ощущал недостаток и которая была нужна ему, чтобы громко высказать Эдуарду жалобу, наворачивавшуюся ему на язык:
– Стоило только вам…
Оливье наполнил свою рюмку и залпом выпил ее. В этот момент он услышал, как Жарри, бродивший от группы к группе, сказал вполголоса, проходя мимо Беркая:
– А теперь мы пристрелим малютку Беркая.
Беркай резко повернулся к нему:
– Повторите вслух, что вы сказали.
Жарри был уже далеко. Обогнув стол, он повторил фальцетом:
– А теперь мы пристрелим малютку Беркая. – Затем вытащил из кармана большой пистолет, который «Аргонавты» часто видели у него в руках, и стал целиться.
Жарри пользовался репутацией отличного стрелка. Раздались протестующие возгласы. Никто не был уверен, что в его теперешнем состоянии опьянения он сумеет удержаться в пределах шутки. Но Беркай решил показать свое бесстрашие, взобрался на стул и, заложив руки за спину, принял наполеоновскую позу. Он был немного смешон; кое-кто действительно засмеялся, но смех был мигом заглушен аплодисментами.
Пассаван торопливо сказал Саре:
– Это может плохо кончиться. Он совершенно пьян. Спрячьтесь под стол.
Де Брусс пытался было удержать Жарри, но тот, вырвавшись, в свою очередь, взобрался на стул (тут Бернар заметил, что он был обут в лакированные бальные туфли). Оказавшись прямо против Беркая, Жарри протянул руку и стал целиться.
– Потушите свет! Живее! – крикнул де Брусс.
Эдуард, стоявший у двери, повернул выключатель. Сара встала, повинуясь приказанию Пассавана; едва только наступила темнота, она прижалась к Бернару, чтобы потащить его с собою под стол.
Раздался выстрел. Пистолет был заряжен холостыми. Но все же послышался чей-то крик: пыж угодил Жюстиньену прямо в глаз.
Когда снова был дан свет, все пришли в восторг от выдержки Беркая, который по-прежнему неподвижно стоял на своем стуле, все в той же позе, и разве лишь немного побледнел.
С супругой президента де Брусс сделалась истерика. Кругом все засуетились.
– Каким нужно быть идиотом, чтобы устраивать подобные развлечения!
Так как на столе не было воды, то Жарри, сойдя со своего пьедестала, намочил в вине носовой платок и в знак извинения принялся растирать виски госпоже де Брусс.
Бернар оставался под столом только мгновение; как раз столько времени, чтобы почувствовать на своих губах страстный поцелуй горячих губ Сары. Оливье последовал за ними, из дружбы, из ревности… Опьянение пробудило в нем то отвратительное чувство, которое он так хорошо знал, – боязнь остаться незамеченным. Когда он вылез изпод стола, голова у него немного кружилась. Тут он услышал восклицание Дюрмера:
– Поглядите-ка на Молинье! Он труслив, как баба.
Это было слишком. Не сознавая хорошенько, что он делает, Оливье с поднятой рукой бросился на Дюрмера. Ему казалось, что он производит движения во сне. Дюрмер от удара увернулся. Как во сне, рука Оливье встретила лишь пустоту.
Смятение сделалось всеобщим, и в то время как одни хлопотали подле госпожи де Брусс, которая продолжала жестикулировать, издавая пронзительный визг, другие окружили Дюрмера, кричавшего: «Он даже не прикоснулся ко мне! Он даже не прикоснулся ко мне!..»; третьи – Оливье, который с пылающим лицом собирался броситься еще раз, так что стоило большого труда его успокоить.
Прикоснулся к нему Оливье или нет, Дюрмер все равно должен был считать себя получившим пощечину; это старался растолковать ему Жюстиньен, растиравший свой обожженный глаз. Это был вопрос чести. Но Дюрмер обращал мало внимания на уроки чести, преподаваемые ему Жюстиньеном. Он упорно повторял:
– Не прикоснулся… Не прикоснулся…
– Оставьте его в покое, – сказал де Брусс. – Нельзя заставлять людей драться, если они этого не желают.
Оливье между тем заявлял во всеуслышание, что если Дюрмер не считает себя удовлетворенным, он готов влепить ему еще одну пощечину; решив вызвать Дюрмера на дуэль, он просил Бернара и Беркая быть его секундантами. Ни тот ни другой ничего не смыслили в так называемых вопросах чести, но Оливье не решался обратиться к Эдуарду. Галстук его развязался; волосы растрепались; лоб был весь потный; по рукам пробегала конвульсивная дрожь.
Эдуард взял его под руку:
– Ступай смочи немного лицо. Ты словно с ума сошел.
Он повел его в уборную.
Только выйдя из зала, Оливье понял, насколько он пьян. Когда он почувствовал у себя под мышкой руку Эдуарда, ему показалось, что он лишается сознания, и он без всякого сопротивления дал себя увести. Из всего сказанного ему Эдуардом он понял только, что тот обращался к нему на «ты». Как грозовая туча проливается дождем, так и сердце его, казалось, истаивало в слезах. Намоченное полотенце, которое Эдуард приложил к его лбу, окончательно его протрезвило. Что произошло? У него сохранилось смутное сознание, что он действовал как ребенок, как животное. Он чувствовал, что был смешон, отвратителен… Тогда в порыве сокрушения и любви он бросился на шею Эдуарду и, прижавшись к нему, зарыдал:
– Уведи меня.
Эдуард крайне разволновался.
– К родителям? – спросил он.
– Они не знают, что я в Париже.
Когда они проходили через кафе, направляясь к выходу, Оливье шепнул своему спутнику, что ему нужно написать несколько слов.
– Если сейчас бросить письмо в ящик, оно дойдет завтра в первом часу.
Сев за столик, он написал:
«Дорогой Жорж!
Да, это пишу я; я хочу просить тебя оказать мне маленькую услугу. Для тебя, конечно, не будет новостью, если я сообщу, что нахожусь в Париже, так как уверен, что сегодня утром ты видел меня около Сорбонны. Я остановился у графа де Пассавана (он дал адрес); мои вещи еще у него. По соображениям, которые очень долго излагать и которые мало для тебя интересны, я решил к нему не возвращаться. Кроме тебя, мне некого попросить привезти упомянутые вещи. Ты окажешь мне, не правда ли, эту услугу? Я не останусь в долгу. Там находится запертый сундук. Что касается остальных вещей, то ты сам уложишь их в мой чемодан и привезешь мне все к дяде Эдуарду. Я заплачу за авто. Завтра, к счастью, воскресенье; ты сможешь сделать это сейчас же по получении этого письма. Я рассчитываю на тебя, идет?
Твой старший брат
Оливье.
P.S. Я знаю, что ты малый расторопный, и не сомневаюсь, что справишься со всем как нельзя лучше. Но если тебе придется иметь дело непосредственно с Пассаваном, будь, пожалуйста, с ним как можно более холоден. До завтрашнего утра».
Те из гостей, которые не слышали оскорбительного заявления Дюрмера, не могли понять причину внезапного гнева Оливье. Казалось, что он потерял рассудок. Если бы он сумел сохранить хладнокровие, Бернар одобрил бы его поведение: он не любил Дюрмера; но не мог и не признать, что Оливье действовал как безумный и казался кругом виноватым. Бернар страдал, слыша, как все строго осуждали поведение Оливье. Он подошел к Беркаю и условился насчет свидания с ним. Как ни нелепо было это дело, им обоим необходимо было соблюсти корректность. Они решили повидаться со своим клиентом завтра, в девять часов утра.
После ухода друзей у Бернара не было больше никаких оснований и никакого желания оставаться. Он отыскал глазами Сару и весь задрожал от бешенства, увидя ее сидящей на коленях у Пассавана. Оба казались пьяными, Сара, однако, встала при приближении Бернара.
– Пошли домой, – сказала она, беря его под руку.
Она пожелала идти пешком. Путь был недолгий; они прошли его, не сказав друг другу ни слова. В пансионе все огни были потушены. Боясь привлечь к себе внимание, они ощупью добрались до черной лестницы, а затем стали освещать себе дорогу спичками. Арман не спал. Услышав их шаги, он вышел на площадку лестницы с лампой в руке.
– Возьми лампу, – сказал он Бернару (со вчерашнего дня они говорили друг другу «ты»). – Посвети Саре, у нее в комнате нет свечи… Дай мне спички, я хочу зажечь у себя огонь.
Бернар проводил Сару во вторую комнату. Не успели они войти туда, как Арман, наклонившись над лампой, задул ее и сказал насмешливо:
– Спокойной ночи! Только не шумите, пожалуйста, в соседней комнате спят родители.
Затем, вбежав в свою комнату, закрыл за ними дверь на задвижку.
IX
Арман лег не раздеваясь. Он знает, что ему не удастся заснуть. Он ожидает рассвета. Размышляет. Слушает. Все спят: дом, город, вся природа; ни звука.
Как только слабый свет, который рефлектор посылает сверху, из узкой щели, в его комнату, позволяет ему снова различить ее мерзость, он встает. Направляется к двери, которую запер вчера на задвижку; тихонько приоткрывает ее…
Но на пороге двери оборачивается. Ему нужно разбудить Бернара. Последний должен возвратиться в свою комнату до того, как встанет кто-нибудь из живущих в пансионе. При легком шуме, который производит Арман, Бернар открывает глаза. Арман убегает, оставив дверь открытой. Он покидает свою комнату, спускается по лестнице; он где-нибудь спрячется; его присутствие будет стеснять Бернара; он не хочет с ним встречаться.
Несколько мгновений спустя он увидит из окна классной комнаты, как Бернар прошмыгнет, прижимаясь к стенам, словно вор…
Бернар спал недолго. Но он вкусил в эту ночь забвение более целительное, чем сон: и экстаз, и уничтожение своего существа. Он вступает в новый день чужой самому себе, ошеломленный, легкий, обновленный, спокойный и трепещущий, как бог. Он оставил Сару спящей, украдкой высвободившись из ее объятий. Как? Без нового поцелуя, без последнего взгляда, без нового объятия? Он покидает ее так из-за своей бесчувственности? Не знаю. Он и сам не знает. Он старается вовсе не думать об этом, обеспокоенный необходимостью вплести эту необыкновенную ночь в ткань своей предшествующей жизни. Нет; это придаток, приложение, которое не может найти места в книге – книге, где повесть его жизни будет, не правда ли, продолжаться, как если бы ничего не случилось, будет идти своим чередом.
Он поднялся в комнату, которую занимает вместе с Борисом. Тот спит крепким сном. Какое дитя! Бернар откидывает одеяло на своей постели. Мнет простыни, чтобы создать впечатление, будто он спал. Подходит к умывальнику, обливает себя водой, умывается. Но вид Бориса приводит ему на память Саас-Фе. Он припоминает сказанные там Лаурой слова: «Я могу принять от вас только благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут удовлетворяться в другом месте». Эта фраза возмущала его. Ему кажется, что она до сих пор звучит в ушах. Он не думал больше о ней, но сегодня утром память у него удивительно свежа и деятельна. Помимо его воли мозг работает великолепно. Бернар прогоняет образ Лауры, хочет заглушить эти воспоминания; чтобы отвлечь свое внимание, он схватывает учебник и принуждает себя готовиться к экзамену. Но в комнате духота. Он идет заниматься в сад. Ему хочется выйти на улицу, ходить, бегать, выйти на простор, проветриться. Он наблюдает за калиткой; как только привратник открывает ее, он убегает.
Он приходит с книгой в Люксембургский сад и садится на скамью. Мысль его разматывается, как шелковинка; но она непрочная; стоит ему потянуть сильнее, и нитка разрывается. Как только он хочет приняться за чтение, между его глазами и книгой тотчас начинают проноситься нескромные воспоминания; вспоминаются не острые моменты экстаза, но мелкие смешные и неловкие подробности, которые задевают его самолюбие, ранят и терзают его. Впредь он не проявит такой неопытности.
Около девяти часов он встает и направляется к Люсьену Беркаю. Затем они отправляются к Эдуарду.
Эдуард жил в Пасси, в верхнем этаже доходного дома. Комната его выходила в обширный рабочий кабинет. Когда на рассвете Оливье встал, Эдуард сперва не проявил беспокойства.
– Пойду прилягу на диване, – сказал Оливье. Боясь, как бы он не простудился, Эдуард велел ему взять с собою одеяла. Вскоре после этого поднялся и Эдуард. Положительно он не заметил, как заснул, потому что с удивлением увидел, что уже совсем рассвело. Он захотел посмотреть, как устроился Оливье; захотел снова увидеть его; может быть, им руководило какое-то неясное предчувствие…
Кабинет был пуст. Одеяла лежали на диване неразвернутыми. Удушливый запах газа заронил в Эдуарде страшное подозрение. К кабинету примыкала маленькая комнатка, служившая ванной. Запах, несомненно, шел оттуда. Эдуард подбежал к этой комнатке, но сначала не мог открыть дверь; мешал какой-то предмет; это было лежавшее у ванны тело Оливье, раздетое, холодеющее, посиневшее, отвратительно выпачканное блевотиной.
Эдуард мгновенно закрыл кран горелки, из которой шел газ. Что произошло? Несчастный случай? Удушье?.. Он не верил своим глазам. Ванна была пуста. Эдуард взял Оливье на руки, перенес в кабинет, положил на ковер перед широко раскрытым окном. Став на колени, наклонился над ним и стал осторожно выслушивать. Оливье еще дышал, но слабо. Тогда Эдуард сделал отчаянную попытку раздуть еле тлеющую и готовую потухнуть искорку жизни в этом теле; он стал ритмично поднимать безжизненные руки, сжимать бока, растирать грудную клетку, словом, делать все, что – как он припоминал – полагается делать при удушье; сокрушался лишь тем, что он не может делать все это сразу. Глаза Оливье были по-прежнему закрыты. Эдуард приподнял пальцем веки, но они снова опустились над безжизненным взглядом. Сердце, однако, билось. Поиски коньяка, лекарств остались безрезультатны. Эдуард согрел воду и вымыл верхнюю часть тела и лицо. Затем уложил безжизненное тело на диван и укрыл его одеялами. Он хотел позвать врача, но не решался уйти из дому. Каждое утро квартиру убирала служанка, но она приходила только в девять часов. Едва Эдуард услышал ее звонок, так тотчас же послал ее за врачом; затем передумал и вернул ее, опасаясь необходимости подвергнуться допросу.
Между тем Оливье медленно возвращался к жизни. Эдуард сел подле дивана у изголовья больного. Он разглядывал это неподвижное лицо и становился в тупик перед заключавшейся в нем загадкой. Почему? Почему? Можно действовать безрассудно вечером, в состоянии опьянения; но решения, принятые на рассвете, являются вполне зрелыми. Он отказывался понимать что-либо до той минуты, когда Оливье будет в состоянии наконец разговаривать с ним. Впредь он больше с ним не расстанется. Он взял Оливье за руку и вложил в это пожатие все свое недоумение, всю свою мысль, всю жизнь свою. Наконец ему показалось, что рука Оливье слабо отвечает на пожатие… Тогда он нагнулся и прижался губами к этому лбу, который хмурился от какого-то огромного, непонятного Эдуарду страдания.
Раздался звонок. Эдуард пошел открыть. Это были Бернар и Люсьен Беркай. Эдуард принял их в передней и сообщил им о случившемся; затем, отведя Бернара в сторону, спросил его, не знает ли он за Оливье каких-нибудь внезапных головокружений, припадков?.. Бернар вдруг вспомнил их разговор накануне, и в частности несколько фраз Оливье, которые тогда почти пропустил мимо ушей, теперь же расслышал с необыкновенной отчетливостью.
– Это я заговорил с ним о самоубийстве, – сказал он Эдуарду. – Я спросил его, понимает ли он, что можно убить себя от одного избытка жизни, «от восторга», как говорил Дмитрий Карамазов. Я был весь поглощен своей мыслью и сосредоточил все внимание на своих собственных словах; но сейчас вспоминаю, что он мне ответил.
– Что же он ответил? – нетерпеливо спросил Эдуард, потому что Бернар остановился и, казалось, не желал продолжать.
– Ответил, что ему понятно, как можно дойти до самоубийства, но лишь после достижения такой вершины радости, когда вся дальнейшая жизнь кажется падением.
Тут оба они переглянулись и замолчали. Свет загорался в их уме. Эдуард отвел взгляд в сторону, Бернар же рассердился на себя за то, что сказал это. Они снова подошли к Беркаю.
– Досадно, – сказал Беркай, – что могут подумать, будто он захотел покончить с собой, чтобы уклониться от дуэли.
Эдуард больше не думал об этой дуэли.
– Поступайте так, словно ничего не случилось, – сказал он. – Отправляйтесь к Дюрмеру и попросите его свести вас с его секундантами. Объясняться будете уже с ними, если это идиотское дело не уладится само собою. Дюрмер не обнаруживал тогда большой готовности защищать свою честь.
– Мы не расскажем ему ничего, – сказал Люсьен, – чтобы на него пал весь стыд за то, что он идет на попятный. Потому что, я уверен, он увильнет.
Бернар спросил, нельзя ли ему увидеть Оливье. Но Эдуард хотел, чтобы его оставили сейчас в покое.
Бернар и Люсьен собирались уже уходить, как вдруг пришел Жорж. Он был только что у Пассавана, но ему не удалось получить вещи брата.
«Господина графа нет дома, – был дан ему ответ. – Он не оставил нам никаких распоряжений».
И лакей захлопнул дверь перед его носом.
Серьезность тона Эдуарда и поведение двух юношей обеспокоили Жоржа. Он почуял что-то неладное и начал расспрашивать. Эдуарду пришлось рассказать ему все.
– Только не говори ничего родителям.
Жорж был в восторге, что его посвятили в тайну.
– Мы умеем держать язык за зубами, – сказал он. Так как ему было нечего делать, то он предложил Бернару и Люсьену сопровождать их к Дюрмеру.
Когда трое посетителей ушли, Эдуард позвал служанку. Он попросил ее приготовить комнату, смежную с его спальней, чтобы можно было поместить в ней Оливье. Затем на цыпочках вошел в кабинет. Оливье спал. Эдуард сел подле него. Он взял книгу, но тотчас же отшвырнул ее не раскрывая и стал глядеть на своего спящего друга.
X
Ничто не просто из того, что дается душе; и душа никогда не дается как нечто простое.
Паскаль– Я думаю, он будет рад увидеться с вами, – сказал Эдуард Бернару на другой день. – Он спрашивал сегодня утром, приходили ли вы вчера. Он, должно быть, слышал ваш голос, когда мне казалось, что он лежит без сознания… Глаза у него закрыты, но он не спит. Молчит. Часто подносит руку ко лбу от внутреннего страдания. Когда я обращаюсь к нему, лоб его хмурится, но, стоит мне уйти, он тотчас зовет меня и требует, чтобы я сидел подле… Нет, он больше не в кабинете. Я поместил его в комнате, смежной с моей спальней, чтобы иметь возможность принимать посетителей, не беспокоя его.
Они вошли к Оливье.
– Я пришел осведомиться о твоем здоровье, – ласковым тоном сказал Бернар.
Черты лица Оливье оживились при звуках голоса друга. Это была уже почти улыбка.
– Я тебя ждал.
– Я уйду, если мой приход утомляет тебя.
– Оставайся.
Но, произнося это слово, Оливье приложил палец к губам. Он просил, чтобы с ним не разговаривали. Бернар, которому через три дня предстояло явиться на устные экзамены, не расставался теперь с руководствами, где сосредоточен экстракт премудрости, которой он должен был владеть на экзамене. Он расположился у изголовья друга и погрузился в чтение. Оливье повернулся лицом к стене и, казалось, уснул. Эдуард ушел в свою комнату; иногда он показывался в двери, которая оставалась открытой. Через каждые два часа он заставлял Оливье выпивать чашку молока, но делал это только с сегодняшнего утра. Весь вчерашний день желудок больного не принимал никакой пищи.
Прошло много времени. Бернар поднялся, чтобы уходить. Оливье обернулся, протянул ему руку и сказал, стараясь улыбнуться:
– Ты придешь завтра?
В последний момент он подозвал его, сделал ему знак нагнуться, словно боясь, что его голос не будет услышан, и сказал совсем тихо:
– Нет, подумай, каким я был дураком!
Затем, желая предупредить возражение Бернара, он снова поднес палец к губам:
– Нет, нет… Потом я объясню все.
На другой день Эдуард получил письмо от Лауры; когда пришел Бернар, он ему дал прочесть его.
«Мой дорогой друг!
Спешу написать Вам, чтобы предупредить нелепейшее несчастье. Я уверена, Вы мне поможете, если только письмо придет вовремя.
Феликс уехал в Париж с намерением повидаться с Вами. Он желает получить от Вас сведения, которые я отказываюсь ему дать; он желает от Вас узнать имя человека, которого собирается вызвать на дуэль. Я сделала все возможное, чтобы удержать его от этого шага, но решение его остается непоколебимым, и все, что я ему говорю по этому поводу, только еще более укрепляет его в нем. Вам одному, может быть, удастся переубедить его. Он доверяет Вам и, я надеюсь, послушается Вас. Подумайте, ведь он никогда не держал в руках ни пистолета, ни рапиры. Мысль, что из-за меня он может подвергнуть опасности свою жизнь, мне невыносима, но больше всего я боюсь – мне стоит большого труда признаться в этом, – как бы он не поставил себя в смешное положение.
После моего возвращения Феликс чрезвычайно ласков со мной, предупредителен, любезен, но я не в силах притворяться, будто люблю его больше, чем на самом деле. Он страдает от этого; и мне кажется, именно его желание увеличить мое уважение к нему, мое восхищение им толкает его на этот шаг, который Вы сочтете опрометчивым; но он думает о нем каждый день, и после моего возвращения это положительно стало у него навязчивой идеей. Конечно, он простил меня, но он смертельно ненавидит своего соперника.
Умоляю Вас оказать ему такой же сердечный прием, какой Вы оказали бы мне; это будет самым лучшим доказательством дружбы, какое Вы можете мне дать. Извините, что я до сих пор не написала Вам, не выразила всей признательности, которую чувствую за участие и заботы, которыми Вы меня окружили во время нашего пребывания в Швейцарии. Воспоминание об этом времени согревает меня и помогает мне жить.
Вечно беспокойный и всегда преданный Вам друг
Лаура».
– Что вы собираетесь предпринять? – спросил Бернар, возвращая письмо.
– Что же мне, по-вашему, предпринять? – отвечал Эдуард тоном, в котором слышалось раздражение, вызванное не столько вопросом Бернара, сколько тем, что он сам уже задавал его себе. – Если он придет, то я окажу ему наилучший прием. Я дам ему превосходный совет, если он обратится ко мне за советом, и постараюсь убедить его, что самое лучшее, что он может сделать, – это сидеть спокойно дома. Люди, подобные бедняге Дувье, всегда совершают большую ошибку, стремясь выдвинуться на первый план. Поверьте, что и вы были бы того же мнения, если бы его знали. Лаура же рождена для первых ролей. Каждый из нас переживает драму в меру своих сил и получает свою долю трагического. Что мы тут можем? Драма Лауры в том, что она стала женой статиста. С этим ничего не поделаешь.
– А драма Дувье в том, что он женился на особе, которая всегда останется выше его, что бы он ни делал, – заметил Бернар.
– Что бы он ни делал… – повторил Эдуард как эхо, – и что бы ни делала Лаура. Замечательнее всего то, что, сожалея о своей вине, раскаиваясь в ней, Лаура хотела унизиться перед ним; но он тотчас же распростерся перед ней еще ниже; все, что ни делали он и она, в результате только умаляло его и возвеличивало ее.
– Мне очень его жаль, – сказал Бернар. – Но почему вы не допускаете, что, повергаясь ниц перед ней, он может духовно вырасти?
– Потому что у него не хватает лиризма, – отрезал Эдуард тоном, не допускающим возражений.
– Что вы хотите сказать?
– Что он никогда не находит забвения в том, что испытывает, и потому никогда не испытывает ничего великого. Не заставляйте меня слишком углубляться в эту тему. У меня есть свои мысли, но они не поддаются измерению, да я и не стараюсь измерить их. Поль-Амбруаз обыкновенно говорит, что он не хочет принимать в расчет ничего, что не может быть выражено в цифрах; но я думаю, что он играет словами «принимать в расчет», потому что «из этого расчета», как он говорит, приходится выбросить Бога. К этому, правда, он и стремится, этого и желает… Слушайте: мне кажется, я называю лиризмом состояние человека, который дает Богу возможность одержать над собой победу.
– Но не это ли состояние как раз означает слово «энтузиазм»?
– Может быть, еще и слово «вдохновение». Да, это как раз то, что я хочу сказать: Дувье – человек, не способный на вдохновение. Я согласен признать правоту Поль-Амбруаза, когда он рассматривает вдохновение как явление, причиняющее наибольший вред искусству, и я охотно верю, что художником человек бывает только при условии совладания с лирическим порывом; чтобы подчинить этот порыв своей власти, все же необходимо предварительно его пережить.
– А не кажется ли вам, что это состояние наития можно объяснить физиологически, при помощи…
– Та, та, та! – перебил Эдуард. – Такие соображения, хотя они совершенно правильны, способны привести в замешательство только дураков. Конечно, нет ни одного душевного движения, которое не имело бы материального соответствия. А дальше? Чтобы проявиться, дух не может обойтись без материи. Отсюда – тайна воплощения.
– Напротив, материя превосходно обходится без духа.
– Ну, об этом мы ничего не знаем, – со смехом сказал Эдуард.
Бернару было очень забавно слышать от Эдуарда такие речи. Обыкновенно тот не любил высказываться. Проявляемое им сегодня возбуждение объяснялось присутствием Оливье. Бернар понял это.
«Он говорит со мной, как если бы говорил с Оливье, – подумал он. – Ему следовало бы сделать своим секретарем Оливье. Как только Оливье выздоровеет, я уйду от него: мне здесь не место».
Он думал об этом без горечи, весь поглощенный теперь мыслями о Саре, с которой он виделся прошлую ночь и рассчитывал увидеться в будущую.
– Мы совсем уклонились от нашего разговора о Дувье, – сказал он, тоже рассмеявшись. – Вы скажете ему о Винценте?
– Нет. На кой черт?
– Не кажется ли вам, что для Дувье очень мучительно не знать, кого он должен подозревать?
– Вы, может быть, правы. Но сказать ему об этом – дело Лауры. Я не мог бы взять на себя роль осведомителя, не предав ее… К тому же я не знаю даже, где он.
– Винцент?.. Пассаван, наверное, должен знать.
Звонок прервал их разговор. Это была госпожа Молинье, пришедшая осведомиться о здоровье сына, Эдуард принял ее в кабинете.
Дневник Эдуарда
Визит Полины. Я был в затруднении, как предупредить Полину, и в то же время не мог оставить ее в неведении относительно болезни сына. Я счел излишним рассказывать о его непонятном покушении на самоубийство; сказал, что у него был просто сильный приступ печени, который действительно остается наиболее явным результатом этого покушения.
– Я успокоилась, когда узнала, что Оливье у вас, – сказала мне Полина. – Я не могла бы ухаживать за ним лучше, чем вы, так как я ясно чувствую, что вы любите его не меньше меня.
Произнося эти последние слова, она посмотрела на меня как-то слишком уж пристально. Или же я выдумал намек, который, как показалось мне, она вложила в свой взгляд? Я чувствовал, что перед Полиной у меня, как говорится, «совесть нечиста», и мог пробормотать в ответ только что-то бессвязное. Нужно признаться, что после сильного нервного напряжения последних двух дней я утратил всякую способность владеть собой; мое волнение было, должно быть, слишком заметным, потому что она прибавила:
– Ваш румянец говорит красноречивее слов… Мой бедный друг, не ждите от меня упреков. Я бы осыпала вас ими, если бы вы не любили Оливье… Могу я видеть его?
Я провел ее к Оливье. Бернар, услышав наши шаги, удалился.
– Как он прекрасен! – прошептала она, наклонившись над постелью. Затем, обернувшись ко мне: – Вы поцелуете его от меня? Боюсь разбудить его.
Полина положительно необыкновенная женщина. Я думаю так уже давно. Но я никак не мог предположить, что ее понятливость зайдет столь далеко. Все же мне показалось, что за сердечностью ее слов и своего рода добродушной легкостью, которую она вкладывала в тон своего голоса, кроется некоторая принужденность (может быть, благодаря моим усилиям скрыть охватившее меня замешательство); мне припомнилась одна фраза из нашего последнего разговора, которая уже тогда показалась мне очень мудрой, хотя не в моих интересах было признавать ее такой: «Я предпочитаю добровольно давать свое согласие на то, чему все равно не могла бы воспрепятствовать». Полина явно принуждала себя к добровольному согласию; когда мы возвратились в кабинет, она сказала как бы в ответ на мою тайную мысль:
– Боюсь, не оскорбила ли я вас тем, что не выказала сейчас себя оскорбленной. Есть вольности мысли, на которые мужчины хотели бы сохранять монополию. Я не в состоянии, однако, притворяться и делать вид, будто испытываю возмущение. Жизнь научила меня. Я поняла, насколько хрупкая вещь – чистота мальчиков, даже когда она охраняется как будто самым заботливым образом. Больше того: я не думаю, чтобы целомудренные юноши становились впоследствии наилучшими мужьями; ни даже – увы! – самыми верными, – прибавила она, печально улыбаясь. – Словом, пример отца заставил меня желать других добродетелей для сыновей. Но меня страшит перспектива распущенности или компрометирующих связей. Оливье так легко поддается увлечению. Вы, наверное, удержите его. Мне кажется, что вы можете сделать ему добро. Стоит вам только…
Эти слова наполнили меня смущением.
– Вы представляете меня лучшим, чем я есть на самом деле.
Это все, что я нашелся сказать ей, как нельзя более банальным и деланым тоном. Она отвечала с чрезвычайной деликатностью:
– Оливье сделает вас лучшим. Чего только мы не способны добиться от себя из любви!
– Оскар знает, что он у меня? – спросил я, чтобы немного разрядить атмосферу.
– Он не знает даже, что Оливье в Париже. Я ведь сказала вам, что он не слишком занимается своими сыновьями. Вот почему я просила вас переговорить с Жоржем. Вы исполнили мою просьбу?
– Нет, не успел еще.
Лицо Полины сразу же омрачилось.
– Я беспокоюсь все больше и больше. Он напустил на себя крайнюю уверенность, но я вижу в ней только беспечность, цинизм и самонадеянность. Он хорошо учится, преподаватели довольны им; моя тревога как будто ни на чем не основана…
Вдруг она утратила спокойствие и заговорила с такой горячностью, что я едва узнавал ее:
– Вы отдаете себе отчет в том, во что превратилась моя жизнь? Я оставила свои мечты о счастье; из года в год я принуждена была становиться все менее требовательной; одну за другой хоронила свои надежды. Я уступала, терпела, притворялась, что не понимаю, не вижу… Наконец осталось только одно, и вот это последнее ускользает от меня!.. Вечером он приходит заниматься ко мне, садится подле моей лампы; когда ему случается поднимать голову от книги, я встречаю в его взгляде не любовь: я встречаю вызов. Я так мало заслужила это… По временам мне вдруг кажется, что вся моя любовь к нему обращается в ненависть; в такие минуты я не желала бы вовсе иметь детей.
Голос ее дрожал. Я взял ее за руку.
– Оливье вознаградит вас, ручаюсь вам.
Она сделала усилие, чтобы овладеть собой.
– Да, я не соображаю, что говорю, ведь у меня трое сыновей. Когда я думаю об одном, забываю остальных… Вы сочтете меня совсем безрассудной, но временами действительно разума бывает недостаточно.
– Между тем разум есть качество, которым я больше всего восхищаюсь в вас, – плоско заметил я в надежде ее успокоить. – Несколько дней тому назад вы говорили мне об Оскаре так рассудительно…
Полина вдруг порывисто выпрямилась. Она взглянула на меня и пожала плечами.
– Всегда бывает так: когда женщина совершенно безропотно покоряется судьбе, она кажется наиболее рассудительной! – вскричала она запальчиво.
Это рассуждение раздосадовало меня благодаря именно его справедливости. Чтобы не выдать своего чувства, я тотчас же спросил:
– Что нового в истории с письмами?
– Нового? Нового!.. Что нового, по-вашему, может произойти между Оскаром и мной?
– Он ждал объяснения.
– Я тоже ждала. Всю жизнь мы ждем объяснений.
– Но ведь, – перебил я, слегка задетый, – Оскар чувствовал себя в ложном положении.
– Друг мой, вы отлично знаете, что ничто так не затягивается, как ложные положения. Эта ваша задача, задача романистов, находить для них развязку. В жизни ничто не разрешается, все длится. Пребываешь в неуверенности и остаешься в ней до самой смерти, не зная, чего держаться; а в ожидании развязки жизнь идет, проходит, словно ничего не случилось. И с этим также примиряешься, как и со всем вообще… со всем. Ну, до свидания.
На меня произвели очень тягостное впечатление новые нотки, которые я уловил в ее голосе; своего рода агрессивность, внушившая мне мысль (может быть, не во время самого разговора, но когда я припоминал его), что Полина примирялась с моими отношениями с Оливье совсем не так легко, как о том говорила; совсем не так легко, как она примирялась со всем прочим. Я хочу верить, что она не осуждает их и даже в какой-то степени приветствует, как она дает мне понять; но, не признаваясь, может быть, в этом себе самой, она все-таки ревнует ко мне.
Этим только и объясняется, по-моему, ее внезапное резкое возмущение, в сущности, по куда более безразличному для нее поводу. Можно было подумать, что, дав мне с самого начала согласие на то, что стоило ей гораздо дороже, она истощила весь запас своей душевной доброты и внезапно оказалась обессиленной. Отсюда ее несдержанные, почти сумасбродные реплики, в которых прорывалась ее ревность и которым, вероятно, она сама будет удивляться, когда станет вспоминать наш разговор.
Я задаюсь вопросом, каким может быть состояние женщины, которая отказывается покоряться судьбе? Я подразумеваю состояние «честной женщины»… Как будто то, что называют «честностью» у женщин, не заключает в себе всегда покорности судьбе!
К вечеру Оливье стало значительно лучше. Но возвращающаяся жизнь снова наполняет нас тревогами. Я всячески стараюсь успокоить его.
– Как быть с дуэлью?
– Дюрмер сбежал в деревню. Нельзя же искать его там.
– А журнал?
– Им занимается Беркай.
– Вещи, оставленные у Пассавана?
Это самый деликатный пункт. Мне пришлось признаться, что Жоржу не удалось получить их; но я дал ему слово, что завтра сам отправлюсь за ними.
Как мне показалось, он боится, чтобы Пассаван не удержал их в качестве залога; я не могу допустить этого ни на мгновение.
Вчера, написав эти страницы, я сидел в кабинете, как вдруг услышал, что меня зовет Оливье. Я подбежал к нему.
– Я сам бы пришел к тебе, если бы не чувствовал себя таким слабым, – сказал он. – Я хотел встать, но у меня закружилась голова, и я испугался, что упаду. Нет, нет, сейчас мне совсем неплохо, наоборот… Но мне хочется поговорить с тобой. Обещай, пожалуйста… никогда не стараться узнать, почему позавчера я хотел лишить себя жизни. Мне кажется, я сам уже не знаю почему. Я хотел бы сказать это – правда! – но не мог бы… Только не думай, пожалуйста, что причиной является какое-нибудь таинственное событие в моей жизни, что-нибудь такое, чего ты не знаешь. – Затем, понизив немного голос: – Не воображай также, что я сделал это из стыда…
Хотя в комнате было темно, он спрятал свое лицо у меня на плече.
– Или если я стыжусь, то стыжусь этого банкета, стыжусь своего опьянения, своей горячности, своих слез и этих летних месяцев… и того, что так плохо ждал тебя.
Потом он стал уверять меня, что теперь он отказывается узнавать себя во всем этом, что именно это он и решил убить, убил, вычеркнул из своей жизни.
В самом его возбуждении я чувствовал слабость и, не говоря ни слова, стал баюкать его, как ребенка. Он испытывал, вероятно, потребность в покое, замолчал, и я подумал, что он заснул; но спустя некоторое время я услышал его шепот:
– С тобой я слишком счастлив, чтобы заснуть.
Он не позволял мне покинуть его до утра.
XI
В это утро Бернар пришел очень рано. Оливье еще спал. Как и в предшествующие дни, Бернар расположился с книгой у изголовья друга, что позволило Эдуарду прервать свое бдение и отправиться к графу Пассавану, как он обещал. В такой ранний час графа, наверное, можно застать дома.
Солнце светило ярко; свежий ветер очищал деревья от последней листвы; все казалось ясным, лучезарным. Эдуард не выходил на улицу три дня. Безмерная радость наполняла его сердце; ему казалось даже, что все его существо, словно открытая и пустая раковина, плавает по необъятному морю, по божественному океану блаженства. Так любовь и хорошая погода настежь распахивают наши души.
Эдуард знал, что ему нужно будет авто, чтобы привезти вещи Оливье; но он не торопился его нанимать; ему доставляла удовольствие прогулка пешком. Состояние доброжелательности, которое он испытывал ко всей природе, не очень располагало его к нападкам на Пассавана. Он убеждал себя, что ему следует негодовать на него; мысленно перебирал все сделанное им зло, но больше не чувствовал от этого боли. Соперника, которого Эдуард проклинал еще вчера, он теперь вытеснил из сердца Оливье, вытеснил так основательно, что не мог больше питать к нему ненависти. По крайней мере, не мог сегодня утром. С другой стороны, Эдуард считал, что происшедшая перемена ничем не должна быть обнаружена, ибо это грозило бы погубить его счастье; поэтому ему не столько хотелось предстать перед соперником со сложенным оружием, сколько вовсе уклониться от свидания с ним. В самом деле, какого дьявола шел к Пассавану именно он, Эдуард? По какому праву он явится в особняк на улице Бабилон и потребует вещи Оливье? Очень неосмотрительно принятое поручение, говорил он себе по дороге: сразу видно будет, что Оливье избрал себе пристанище в его квартире – обстоятельство, которое он как раз хотел бы скрыть… Однако слишком поздно идти на попятный: он дал обещание Оливье. Важно хотя бы быть с Пассаваном холодным и твердым. Он окликнул проезжавшее мимо такси.
Эдуард плохо знал Пассавана. Ему не была известна одна из особенностей характера графа. Пассаван, которого никогда нельзя было застать врасплох, терпеть не мог, чтобы его водили за нос. Не желая признавать своих неудач, он всегда притворялся, будто сам избрал выпавшее на его долю; что бы с ним ни случилось, он делал вид, что сам хотел этого. Как только он понял, что Оливье ускользает от него, так тотчас приложил все старания скрыть свое бешенство. Он не стал гоняться за ним и подвергать себя риску попасть в смешное положение, он сделал над собой усилие и притворился, что ему все безразлично. Его чувства никогда не отличались такой силой, чтобы он не мог с ними справиться. Некоторые люди очень радуются такому умению владеть собой, не соглашаясь признать, что часто бывают обязаны этой способностью не столько силе характера, сколько известной вялости темперамента. Я остерегаюсь делать обобщения; допустим, что сказанное мною относится к одному Пассавану. Этому последнему, значит, не стоило большого труда убедить себя, что сейчас он пресыщен Оливье; что в течение этих двух месяцев он использовал до конца все привлекательные стороны приключения, которое грозило внести большие осложнения в его жизнь; что вдобавок он переоценил красоту этого мальчика, его грацию и умственные способности и что даже пришло время принять в соображение все неудобства поручать ведение журнала такому еще незрелому и неопытному юноше. Хорошенько взвесив все эти соображения, он решил, что Струвилу гораздо лучше справится с задачей, то есть окажется более подходящим редактором журнала. Он написал ему, приглашая зайти сегодня утром.
Добавим, что Пассаван неправильно истолковывал причину бегства Оливье. Он думал, что возбудил в нем ревность своим слишком настойчивым ухаживанием за Сарой, и находил утешение в этой мысли, столь лестной для его тщеславия; она успокаивала его досаду.
Итак, Пассаван ждал Струвилу; им было отдано распоряжение, чтобы гостя сейчас же провели к нему; Эдуард невольно воспользовался этим и без доклада вошел в кабинет Пассавана.
Пассаван не выказал ни малейшего удивления. К счастью для него, роль, которую ему предстояло играть, соответствовала его характеру и не нарушала привычного хода мыслей.
– Как я рад слышать то, что вы сказали мне! – воскликнул он после того, как Эдуард изложил ему цель своего визита. – Значит, вы в самом деле хотите заняться им? Это не очень обеспокоит вас?.. Оливье прелестный мальчик, но его присутствие здесь начинало ужасно стеснять меня. Я не решался дать ему почувствовать это, он так мил… И я знал, что он не хочет возвращаться к родителям… Родители, если их покинули… Но ведь, насколько мне помнится, его мать – ваша единокровная сестра?.. Или что-то в этом роде?.. Оливье как будто говорил мне об этом. В таком случае, чрезвычайно естественно, что он поселился у вас. Никто не может найти тут повода для насмешек. – Он, впрочем, не удержался от улыбки, произнося эти слова. – У меня, вы понимаете, его присутствие носило более двусмысленный характер. Это, между прочим, является одной из причин, заставивших меня желать, чтобы он покинул мой дом… Правда, обычно я очень мало забочусь об общественном мнении. Нет, это было скорее в его интересах, чем…
Начало беседы было недурно, но Пассаван не удержался от удовольствия подлить несколько капель яда в счастье Эдуарда. Он всегда хранил их про запас: мало ли что может случиться…
Эдуард чувствовал, что терпение его истощается. Но тут он вдруг вспомнил о Винценте, о котором Пассаван, наверное, должен был иметь сведения. Конечно, он твердо решил не говорить о Винценте Дувье, если тот станет спрашивать о нем; но, чтобы лучше уклониться от расспросов мужа Лауры, ему самому, думал он, следовало быть осведомленным; осведомленность только укрепит его позицию. Он воспользовался предлогом, чтобы переменить тему разговора.
– Винцент не писал мне, – отвечал Пассаван, – но я получил письмо от леди Гриффитс – вы, наверное, знаете заместительницу госпожи Дувье, – в котором она очень много говорит о нем. Вот оно… В конце концов, не вижу, почему бы вам не ознакомиться с его содержанием.
Он протянул письмо Эдуарду. Тот прочел:
25 августа
«My dear![31]
Яхта князя уйдет из Дакара без нас. Кто знает, где мы будем, когда вы получите это письмо, которое она увезет с собою? Может быть, на берегах Казамансы, где Винцент хочет собирать гербарии, я – охотиться. Не знаю хорошенько, я ли его увожу или он меня увозит; вернее, нас обоих влечет демон приключений. Нас познакомил с ним демон скуки, порядком одолевавший нас во время плавания на яхте… Ах, dear, нужно пожить на яхте, чтобы узнать, что такое скука. Во время шквала жизнь еще выносима: качаешься вместе с судном. Но, начиная с Тенерифа, – ни ветерка, ни морщинки на море,
…огромном зеркале Отчаянья души.И знаете, чем я занялась после этого? Принялась ненавидеть Винцента. Да, дорогой мой, любовь показалась нам слишком пресной, нам захотелось возненавидеть друг друга. По правде говоря, началось это несколько раньше; да, с момента, как мы сели на яхту; сначала просто раздражение, глухая злоба, которая не мешала телам соединяться. С наступлением хорошей погоды злоба превратилась в жестокую ненависть. Ах, я теперь знаю, что значит воспылать к кому-нибудь страстью…»
Письмо было длинное.
– Не хочется читать дальше, – сказал Эдуард, отдавая письмо Пассавану. – Когда он возвращается?
– Леди Гриффитс ничего о возвращении не пишет.
Пассаван был глубоко оскорблен тем, что Эдуард не обнаружил большого интереса к этому письму. Это отсутствие любопытства должно было восприниматься им как обида. Сам он нередко отвергал предлагаемое ему, но не выносил пренебрежительного отношения к собственным предложениям. Это письмо наполнило его чувством удовлетворения. Пассаван питал некоторую привязанность к Лилиан и Винценту; он даже доказывал себе, что может быть обязательным по отношению к ним, способным оказать услугу, но его привязанность тотчас ослабевала, как только обходились без нее. Теперь он радовался, что друзья его, расставшись с ним, не приплыли к счастью; думал: как это вышло удачно.
Что касается Эдуарда, то его утреннее радостное возбуждение было слишком искренно, чтобы он не почувствовал некоторой неловкости, прочитав об этих взвинченных чувствах. Возвращение письма нисколько не являлось надуманным жестом.
Пассавану важно было тотчас же отпарировать удар.
– Ах, я хотел сказать вам еще одно. Вы знаете, что я думал было поручить Оливье ведение журнала? Понятно, об этом теперь не может быть речи.
– Само собой разумеется, – поспешно отвечал Эдуард, которого Пассаван, сам того не подозревая, освобождал от тяжелого бремени. По тону Эдуарда тот понял, что сыграл ему на руку, и, не дав себе даже времени обидеться, сказал:
– Вещи, оставленные Оливье, находятся в комнате, которую он занимал. У вас есть такси, не правда ли? Вам их вынесут. Кстати, как он себя чувствует?
– Прекрасно.
Пассаван встал. Эдуард последовал его примеру. Они расстались, обменявшись довольно холодным поклоном.
Визит Эдуарда вывел Пассавана из себя.
– Уф! – воскликнул он, увидя входящего Струвилу.
Хотя Струвилу держался с ним независимо, Пассаван чувствовал себя в его обществе легко или, вернее, ничуть не стесняясь. Конечно, он имел дело с сильным противником, он знал это, но считал себя еще сильнее и не без тщеславия выставлял это напоказ.
– Мой дорогой Струвилу, пожалуйста, садитесь, – сказал он, пододвигая ему кресло. – Я искренно рад вас видеть.
– Господин граф просил меня прийти. Я весь к его услугам.
Струвилу любил брать по отношению к Пассавану тон подобострастного лакея; но Пассаван привык к его уловкам.
– Прямо к делу; настало, как говорится, время выйти из состояния ничтожества. Вы выступали уже на многих поприщах… Я хотел предложить вам сегодня пост настоящего диктатора. Поспешим прибавить, что речь идет только о литературе.
– Очень жаль. – Затем, так как Пассаван протянул ему свой портсигар: – Если вы позволите, я предпочитаю…
– Нет, нет, не позволяю. Своими ужасными контрабандными сигарами вы провоняете мне всю комнату. Для меня всегда было непонятно, какое можно находить удовольствие в курении этой дряни.
– О, я не могу сказать, чтобы я был в восторге от них. Но они беспокоят соседей.
– По-прежнему фрондируете?
– Меня не следует все же принимать за болвана.
И, не давая прямого ответа на предложение Пассавана, Струвилу счел уместным разъяснить и надлежащим образом обосновать свою точку зрения; читатель сейчас познакомится с ней. Он продолжал:
– Филантропия никогда не была моей слабостью.
– Знаю, знаю, – сказал Пассаван.
– Так же как и эгоизм. Этого вы, конечно, не знаете… Нас хотят уверить, что единственным избавлением от эгоизма является нечто еще более отвратительное, именно – альтруизм! Что до меня, то я утверждаю: если есть вещь более гнусная и презренная, чем человек, то таковой является множество людей. Никакое рассуждение не может убедить меня, что сложение негодных единиц дает в сумме доброкачественное целое. Всякий раз, садясь в трамвай или в поезд, я горячо желаю, чтобы произошло какое-нибудь громадное крушение, которое превратило бы в кашу весь этот живой навоз; о, черт возьми, и меня заодно! Входя в театральный зал, я желаю, чтобы обрушилась люстра или разорвалась бомба, хотя бы мне пришлось взлететь на воздух вместе со всеми; я охотно принес бы эту бомбу под полой, если бы не берег себя для более высокого назначения. Вы что-то сказали?..
– Нет, ничего, продолжайте, я вас слушаю. Вы не принадлежите к числу тех ораторов, которые нуждаются в кнуте противоречия, чтобы погонять их.
– Это оттого, что мне послышалось, будто вы мне предлагаете стаканчик вашего несравненного портвейна.
Пассаван улыбнулся.
– Пускай бутылка стоит подле вас, – сказал он, подавая ее Струвилу. – Выпейте ее всю, если вам угодно, только, пожалуйста, говорите.
Струвилу наполнил свой бокал, развалился в глубоком кресле и начал:
– Не знаю, действительно ли у меня, как говорится, черствое сердце, я чувствую в себе слишком много негодования и отвращения, чтобы поверить этому; впрочем, мне все равно. Я действительно уже давно подавил в этом органе все, что таит угрозу его размягчить. Но я не лишен способности восхищаться и быть слепо преданным: поскольку я человек, я презираю и ненавижу себя наравне с другими. Всюду и везде я слышу, как твердят, будто литература, искусство, науки в конечном итоге работают на благо человечества; одного этого было бы мне достаточно, чтобы проникнуться отвращением к ним. Но ничто мне не препятствует перевернуть это, и тогда я начинаю дышать свободно. Да, меня прельщает как раз противоположная картина: картина человечества, рабски работающего над осуществлением какой-нибудь жестокой цели: Бернар Палисси[32] (нам достаточно прожужжали им уши!), обжигающий жену, детей и самого себя, чтобы получить глазурь для красивого блюда. Я люблю переворачивать проблемы; что прикажете делать: мой ум так уж устроен, что они приобретают устойчивое равновесие, лишь будучи опрокинуты вниз головой. И если мне невыносима мысль о Христе, жертвующем собой для ненужного спасения всех этих ужасных людей, которых я толкаю, то я нахожу некоторое удовлетворение и даже своего рода успокоение, воображая, как вся эта толпа обливается потом, чтобы произвести такого Христа, который… хотя я предпочитал бы не Христа, а что-нибудь другое, потому что все учение Христа лишь усугубило бедственное положение человечества. Несчастье проистекает от эгоизма сильных и жестоких людей. Жертвенная жестокость – вот что способно было бы привести к грандиозным результатам. Покровительствуя несчастным, слабым, рахитичным, оскорбленным, мы идем по ложному пути; вот почему я ненавижу религию, которая учит нас этому. Великий мир, который даже филантропы черпают в созерцании природы – фауны и флоры, – объясняется тем, что в диком состоянии преуспевают одни только сильные особи; все прочие – отбросы, служат лишь навозом. Но мы не видим этого, не хотим это признавать.
– Как это верно, как верно! Я охотно соглашаюсь с вами. Продолжайте.
– И скажите, разве не стыдно, не достойно жалости… что человек, столько сделавший для получения сильных пород лошадей, домашнего скота, птицы, злаков, цветов, сам все еще ищет в медицине – облегчения, в благотворительности – смягчения, в религии – утешения, в опьянении – забвения своих страданий? Улучшение породы – вот над чем нужно работать. Но всякий подбор предполагает уничтожение неподходящего людского материала, на что наше христианское общество не может решиться. Оно ведь не решается даже на кастрирование дегенератов, которые между тем отличаются чрезвычайной плодовитостью. Нам нужны вовсе не больницы, а заведения вроде питомников.
– Черт возьми, ваши мысли мне очень по сердцу, Струвилу!
– Боюсь, до сих пор вы заблуждались на мой счет, господин граф. Вы принимали меня за скептика, а на самом деле я идеалист, мистик. Скептицизм никогда не давал ничего хорошего. Отлично известно, что он приводит… к терпимости. Я считаю скептиков людьми без идеала, без воображения, попросту дураками… И я вовсе не закрываю глаза на все то огрубение в области чувства, к которому приведет появление крепкой людской породы; ведь тогда некому будет жалеть об уничтожении всяких тонкостей, потому что вместе с ними будут уничтожены утонченные натуры. Будьте покойны, у меня есть то, что называется культурой, и я хорошо знаю, что некоторые греки провидели мой идеал; по крайней мере, мне доставляет удовольствие думать так и вспоминать, что Кора, дочь Цереры, низошла в преисподнюю, исполненная жалости к теням; но, ставши царицей, супругой Плутона, она называется Гомером не иначе как «неумолимой Прозерпиной». Смотри «Одиссея», песнь шестая. «Неумолимой»; как раз таким неумолимым и должен стать человек, претендующий быть добродетельным.
– Я рад, что вы возвращаетесь к литературе… если только вы вообще покидали ее область. Итак, я спрашиваю вас, добродетельный Струвилу, согласны вы стать неумолимым редактором журнала?
– По правде говоря, дорогой граф, должен признаться, что из всех тошнотворных человеческих выделений литература для меня – самое отвратительное. Я не вижу в ней ничего, кроме угодливости и лести. И я начинаю сомневаться, чтобы она могла стать чем-нибудь другим, по крайней мере до тех пор, пока ею не будет выметено прошлое. Мы живем в атмосфере выдуманных чувств; читатель верит всякому напечатанному слову и потому воображает, будто испытывает эти чувства; писатель спекулирует на них как на условностях, которые он считает основами своего искусства. Эти чувства звучат фальшиво, как медные бляшки, но они имеют хождение. А так как известно, что «худшая монета вытесняет лучшую», то писатель, который вздумал бы предлагать публике полноценную монету, показался бы ей пустословом. В обществе, где каждый плутует, честный человек производит впечатление шарлатана. Предупреждаю вас: если я возьму на себя руководство журналом, то лишь для того, чтобы бороться с условностями, вскрывать фальшь всех красивых чувств и обесценивать те долговые обязательства, которые называются словами.
– Черт возьми, очень хотел бы знать, как вы возьметесь за это.
– Предоставьте мне свободу, и вы тотчас увидите. Я много размышлял над этим.
– Вы останетесь непонятым, и никто не пойдет за вами.
– Глупости! Молодежь, которая посмышленее и побойчее, ныне весьма настроена против поэтической инфляции. Ей отлично известно, сколько пустоты скрывается за учеными ритмами и звучными лирическими банальностями. Стоит только кликнуть клич, и руки, готовые разрушать, всегда найдутся. Хотите, учредим школу, единственной целью которой будет изничтожение всего? Этот план вас пугает?
– Нет… если не будет вытоптан мой огород.
– Найдется много других дел… пока дойдет очередь до вашего огорода. Момент благоприятен. Я знаю многих, которые ждут только знака, чтобы собраться: все молодежь… Да, это нравится вам, я знаю, но предупреждаю вас, что они не дадут заговорить себе зубы… Я часто задавался вопросом, благодаря какому чуду живопись оказалась впереди и почему литература позволила так себя обогнать? В какую немилость попало сейчас в живописи то, что обыкновенно рассматривалось как «мотив»! Красивый сюжет – да ведь эти слова вызывают смех! Живописцы отваживаются теперь браться за портрет лишь при условии исключения всякого сходства. Если мы хорошо поведем наше дело – а в этом отношении вы можете на меня положиться, – то достаточно будет каких-нибудь двух лет, и завтрашний поэт сочтет себя опозоренным, если читатели поймут, что он хочет сказать. Да, господин граф, хотите держать пари? Всякий смысл, всякое значение будут рассматриваться как нечто антипоэтическое. Я предлагаю работать под флагом иррациональности. Какое прекрасное название для журнала – «Чистильщики»!
Пассаван выслушал не моргнув глазом.
– В числе ваших сподвижников, – спросил он после некоторого молчания, – находится также ваш юный племянник?
– Да, Леон – мальчик способный, он никогда нигде не пропадет. Настоящее удовольствие руководить его развитием. Весной ему пришла в голову блажь заткнуть за пояс своих прилежных одноклассников и получить все награды. После возобновления занятий он ничем не брезгает; не знаю, что такое он замышляет, но я оказываю ему доверие, и мне не особенно хочется приставать к нему с расспросами.
– Вы приведете его ко мне?
– Господин граф шутит, я полагаю… Как все-таки с журналом?
– Мы еще поговорим о нем. Я чувствую потребность дать отстояться в себе вашим планам. А пока вы должны позаботиться о подыскании мне секретаря, мой бывший оказался никуда не годным.
– Я пришлю вам завтра Коб-Лафлера, с которым должен сейчас увидеться и который, я полагаю, как раз то, что вам нужно.
– Из породы «чистильщиков»?
– До известной степени.
– Ex uno…[33]
– Нет, не судите обо всех по нему. Он весьма умеренный. Вы останетесь очень довольны.
Струвилу встал.
– Кстати, – сказал Пассаван, – мне кажется, я не дарил вам моего романа. Мне очень жаль, что у меня не осталось больше экземпляра первого издания…
– Так как я не собираюсь продавать его, то это не имеет никакого значения.
– Просто печать лучше.
– О, я ведь не собираюсь и читать его… До свидания. До свидания… Если вам угодно, я к вашим услугам. Честь имею кланяться.
XII
Дневник Эдуарда
Привез вещи Оливье. Сейчас же после возвращения от Пассавана засел за работу. Спокойное и светлое возбуждение. Радость, до сих пор не испытанная. Написал тридцать страниц «Фальшивомонетчиков» без запинки, без помарок. Как ночной пейзаж при внезапной вспышке молнии, вся драма всплывает из мрака, совсем отличная от того, что я тщетно силился сочинить. Книги, написанные мной до сих пор, кажутся мне похожими на водоемы в общественных садах, четко очерченные, совершенные, может быть, но чья плененная вода лишена жизни. Теперь я хочу пустить ее по склону, то крутому, то покатому, и очертания русла, в котором она потечет, я не способен предвидеть.
X. утверждает, что хороший романист, прежде чем начать свою книгу, должен знать, как она окончится. Я же предоставляю действию развиваться самому и считаю, что жизнь никогда не дает нам ничего, что, подобно стыку, нельзя было бы рассматривать как новую отправную точку. «Могло бы быть продолжено…» – такими словами я хотел бы закончить моих «Фальшивомонетчиков».
Визит Дувье. Положительно он очень славный парень.
Так как я выразил слишком горячую симпатию к нему, мне пришлось выслушать в достаточной мере стеснявшие меня излияния. Разговаривая с ним, я все время повторял себе слова Ларошфуко: «Я мало подвержен жалости и хотел бы не быть вовсе подверженным ей… Я считаю, что нужно ограничиваться засвидетельствованием ее и тщательно остерегаться испытывать ее на самом деле». Однако моя симпатия была подлинная, бесспорная, и я взволновался до слез. По правде говоря, мне показалось, что мои слезы утешили его больше, нежели слова. Я думаю даже, что печаль его прошла, едва он увидел, как я плачу.
Я твердо решил не открывать ему имени соблазнителя, но, к моему удивлению, он не спросил о нем. Мне кажется, что ревность его угасает, как только он перестает чувствовать на себе взгляд Лауры. Во всяком случае, обращение ко мне несколько истощило энергию его ревности.
Какая непоследовательность в его поведении; он негодует, что другой бросил Лауру. Но ведь, не брось ее Винцент, Лаура не возвратилась бы к нему. Он обещает любить ребенка как своего собственного. Не будь соблазнителя, кто знает, мог ли бы он вообще познать радость отцовства? Я остерегся высказать ему это предположение, так как при воспоминании о своих недостатках он еще больше воспламеняется ревностью. Но тогда ревность становится уже делом самолюбия и перестает интересовать меня.
Понятно, почему Отелло ревнив: его неотступно преследует картина наслаждения, испытанного его женой с другим. Но какой-нибудь Дувье, чтобы стать ревнивым, должен внушить себе, что он должен ревновать.
И он, несомненно, подогревает в себе эту страсть из тайной склонности придать большее значение своей весьма жалкой персоне. Счастье было бы естественно для него, но он чувствует потребность восхищаться собой и ценит не то, что естественно, а то, что достается с трудом. Поэтому я приложил все усилия, чтобы изобразить ему нехитрое счастье заслуживающим большего одобрения, чем мучение, и труднее достижимым. Я дал ему уйти лишь после того, как увидел, что лицо его проясняется.
Непоследовательность характера. Персонажи, действующие с начала и до конца романа или драмы в точности так, как можно заранее предвидеть… Нам предлагают это постоянство для изящного удивления, но я вижу в нем, напротив, свидетельство их искусственности и надуманности.
Я не хочу утверждать, что непоследовательность является верным признаком естественности, так как нередко можно встретить, особенно у женщин, нарочитую непоследовательность; с другой стороны, я способен восхищаться в отдельных исключительных случаях тем, что называют «духом постоянства»; но чаще всего эта последовательность в поступках достигается лишь при помощи руководимого тщеславием упорства и ценой утраты естественности. Чем богаче одарен человек, чем больше он таит в себе возможностей, тем больше предрасположен он к изменениям, тем с меньшей охотой он позволяет своему прошлому определять будущее. «Justum et tenacem propositi virum»[34], которого выставляют нам как нравственный образец, чаще всего представляет собою почву каменистую и непригодную для возделывания.
Я знаю «твердые» характеры еще и другого рода: это люди, усердно выдумывающие себе сознательную оригинальность, люди, главную заботу которых составляет никогда не уклоняться от однажды выработанной привычки; они всегда остаются начеку и ни при каких обстоятельствах не позволяют себе забыться. (Мне вспоминается X., который постоянно отказывался от предлагаемого ему мною монраше 1904 года. «Я признаю только бордо», – говорил он. Как только я стал подносить ему монраше в качестве бордо, монраше показалось ему отменным вином.)
Когда я был помоложе, то принимал решения, которые казались мне похвальными. Я заботился не столько о том, чтобы быть тем, кем я был, сколько о том, чтобы стать тем, кем я призван был быть. Теперь же я почти готов видеть в нерешительности секрет сохранения молодости.
Оливье спросил меня, над чем я работаю. Я поддался соблазну поговорить с ним о моей книге и стал рассказывать о ней; он проявил такой интерес, что я даже прочел ему только что написанные страницы. Я страшился его суждения, зная нетерпимость юности и то, как трудно ей принять точку зрения, отличную от ее собственной. Но несколько замечаний, на которые он робко отважился, показались мне весьма справедливыми, так что я тотчас же воспользовался ими.
Им, сквозь него, я чувствую и дышу.
Он все время беспокоится по поводу журнала, который должен был редактировать, и особенно по поводу рассказа, написанного им по просьбе Пассавана: он не желает, чтобы рассказ этот был напечатан. Я сказал ему, что новые распоряжения, отданные Пассаваном, приведут к изменению содержания подготовленных к выпуску номеров; он будет иметь возможность взять обратно свою рукопись.
Очень неожиданный визит господина судебного следователя Профитандье. Входя ко мне, он вытирал лоб и тяжело дышал, как показалось мне, не столько оттого, что запыхался, поднимаясь на шестой этаж, сколько от смущения. Он держал в руках шляпу и сел только после моего приглашения. Это человек приятной внешности, статный и бесспорно представительный.
– Насколько мне известно, вы шурин председателя палаты Молинье, – сказал мне он. – Я позволил себе побеспокоить вас по поводу его сына Жоржа. Пожалуйста, извините мне поступок, могущий с первого взгляда показаться вам нескромным, но надеюсь, что привязанность и уважение, которые я питаю к моему коллеге, в достаточной степени объяснят вам его.
Он помедлил. Я встал и опустил портьеру из боязни, как бы не подслушала моя горничная, женщина очень нескромная, которая, по моим предположениям, находилась в соседней комнате. Профитандье одобрительно улыбнулся.
– По должности судебного следователя, – продолжал он, – мне приходится заниматься одним делом, которое приводит меня в крайнее замешательство. Ваш юный племянник уже и раньше скомпрометировал себя участием в деле… – пусть это останется между нами, не правда ли? – деле достаточно скандальном; принимая во внимание его весьма юный возраст, я хочу верить, что он был вовлечен в него исключительно по своему простодушию и неопытности; но, чтобы… локализовать это дело без вреда для интересов правосудия, мне, признаюсь, понадобилось проявить определенную ловкость. Но сейчас, когда речь идет о рецидиве… совсем другого характера, тороплюсь добавить… я не могу поручиться, что Жорж отделается так дешево. Сомневаюсь даже, в интересах ли мальчика делать попытку его выгородить, несмотря на все мое дружеское желание избавить от скандала вашего зятя. Приложу, однако, старание, но, вы понимаете, у меня есть агенты, которые проявляют рвение, и я не всегда могу сдержать их. Или, если вам угодно, пока мне удается это, но завтра больше не удастся. Вот почему мне пришла в голову мысль, что вам следовало бы поговорить с вашим племянником, объяснить, чему он себя подвергает…
Визит Профитандье – почему не сознаться в этом? – сначала ужасно меня встревожил; но после того как я понял, что он пришел не с враждебными намерениями и не в качестве судебного чиновника, я, скорее, почувствовал облегчение, особенно тогда, когда он снова заговорил:
– С некоторого времени в обращении появились фальшивые деньги. Я осведомлен об этом. Мне еще не удалось обнаружить их источник. Но я знаю, что Жорж Молинье, – не подозревая об этом, я хочу так думать, – является одним из тех, кто пользуется ими и пускает в обращение. Компания, занимающаяся этим постыдным промыслом, – мальчики в возрасте вашего племянника. Я ни минуты не сомневаюсь, что тут просто злоупотребляют их неведением и эти дети, сами того не сознавая, играют роль дурачков в руках нескольких преступных взрослых. Мы могли бы уже схватить малолетних преступников и без труда заставить их сознаться, откуда у них эти деньги, но я отлично знаю, что в известной своей стадии дело, так сказать, ускользает от нас… то есть следствие не может повернуть вспять, и мы бываем вынуждены знать то, что мы предпочли бы иногда не замечать. В данном случае, я надеюсь, мне удастся открыть настоящих преступников, не прибегая к показаниям этих юнцов. Поэтому я сделал распоряжение, чтобы их не беспокоили. Но мое распоряжение условное. Мне хотелось бы, чтобы ваш племянник не заставил меня его отменить. Хорошо было бы, если бы он знал, что за ним следят. Нехудо бы вам даже немного попугать его, он на скользком пути…
Я заявил, что приложу все старания, чтобы предостеречь Жоржа, но Профитандье, казалось, не слышал меня. Взгляд его устремился куда-то вдаль. Он повторил два раза: «Да, как говорится, на скользком пути», – и замолчал.
Не знаю, сколько времени длилось его молчание. Хотя он не высказал своих мыслей, мне казалось, что я вижу, как они шевелятся в нем; и еще прежде, чем он раскрыл рот, я уже услышал его слова:
– Я тоже отец, сударь…
И вот все сказанное им сначала исчезло: между нами был только Бернар. Прочее служило лишь предлогом, поговорить со мной о Бернаре – такова была настоящая цель его визита.
Если излияния приводят меня в замешательство, если утрированные чувства для меня невыносимы, то ничто, напротив, не способно было в большей степени тронуть меня, чем это сдерживаемое волнение. Он всячески старался подавить его; но ему потребовалось для этого столь значительное усилие, что губы и руки его задрожали. Он не мог продолжать. Вдруг он закрыл лицо руками, и все его тело сотрясли рыдания.
– Вы видите, – всхлипывал он, – вы видите, сударь, что наши дети могут сделать нас совершенно несчастными.
К чему было лукавить? Крайне взволнованный, я тоже воскликнул:
– Если бы Бернар вас видел, сердце его смягчилось бы, ручаюсь вам!
Однако я по-прежнему был в большом замешательстве. Бернар почти никогда не говорил со мной о своем отце. Я не высказал ему порицания за то, что он покинул семью, так как очень склонен был считать подобное бегство вполне естественным, и не только не видел в нем ничего предосудительного, но, напротив, полагал, что оно принесет большую пользу для мальчика. Вдобавок Бернар был незаконнорожденным… Но вот его мнимый отец охвачен чувствами тем более сильными, что они вырывались у него, несомненно, помимо воли, и тем более искренними, что ничто его к этому не вынуждало. Видя такую любовь, такое горе, я не мог не задаться вопросом, да были ли действительно у Бернара основания уходить из дому. Я не склонен был больше одобрять его.
– Располагайте мной, если считаете, что я могу быть вам полезен, – сказал я ему, – если считаете, что я должен поговорить с ним. У него доброе сердце.
– Знаю. Знаю… Да, вы можете сделать многое. Я знаю, что он провел с вами лето. Моя агентура достаточно хороша… Я знаю также, что сегодня он держит устные экзамены. Я нарочно выбрал момент для визита к вам, когда, по моим сведениям, он должен находиться в Сорбонне. Я боялся с ним встретиться.
Эти слова подействовали на меня успокоительно, так как я заметил, что слово «знать» повторялось почти в каждой его фразе. Очень скоро внимание мое стало сосредоточиваться не столько на том, что он говорил, сколько на этой его манере, выработанной, вероятно, профессией.
Он сказал мне, что «знает» также о блестящем успехе Бернара на письменном экзамене. Благодаря любезности экзаменатора, с которым у него дружеские отношения, он имел даже возможность познакомиться с французским сочинением своего сына, являвшимся, по-видимому, одним из самых замечательных. Он говорил о Бернаре со сдержанным восхищением, так что у меня возникло даже предположение, не считает ли он себя все же в конце концов его настоящим отцом.
– Только ради бога, – прибавил он, – не рассказывайте ему об этом! У него такой гордый, такой недоверчивый характер!.. Если у него возникнет подозрение, что со времени его ухода я не переставая думал о нем, следил за ним… Однако вы можете сказать ему, что видели меня. – Он тяжело вздыхал после каждой фразы. – Вы можете сказать ему только, что я на него не сержусь… – Затем, понизив голос: – Что я никогда не переставал любить его… как сына. Да, я хорошо знаю, что вы знаете… Вы можете сказать ему также… – И, не глядя на меня, с большим усилием, в состоянии крайнего замешательства: – Что мать его бросила меня… да, окончательно, этим летом, и что если он хочет вернуться, то я…
Он не мог закончить.
Крупный сильный мужчина, основательный, с хорошим общественным и служебным положением, вдруг, пренебрегая всякими приличиями, обнажающий свою душу перед человеком посторонним, каковым был для него я, представляет собою зрелище в достаточной мере необычайное. Тут я лишний раз мог констатировать, что признания незнакомого способны легче взволновать меня, чем излияния человека, мне близкого. Попытаюсь на досуге уяснить себе это явление.
Профитандье не утаил от меня предубеждения, которое первоначально имел против меня, плохо уяснив себе, – и до сих пор плохо уясняя, – причины, заставившие Бернара покинуть семейный очаг и бежать ко мне. Это обстоятельство удерживало его сначала от желания навестить меня. Я, понятно, не решился рассказать историю с чемоданом и сообщил только о дружбе его сына с Оливье, благодаря которой мы очень быстро сошлись.
– Эта молодежь, – снова заговорил Профитандье, – бросается в жизнь, не имея представления о том, чему она себя подвергает. Игнорирование опасностей составляет ее силу, это правда. Но мы, отцы, знающие жизнь, мы дрожим за детей. Наша заботливость их раздражает, и лучше им не слишком ее показывать. Я знаю, что она проявляется иногда чересчур назойливо и неуклюже. Вместо того чтобы беспрестанно повторять ребенку, что огонь жжется, позволим ему лучше немного обжечься. Опыт научает вернее, чем добрый совет. Я всегда предоставлял Бернару полную свободу. Вплоть до того – увы! – что у него создалось убеждение, будто я вовсе не обращаю на него внимания.
Боюсь, что это ложное убеждение как раз и послужило причиной его бегства. Даже и после этого я счел благоразумным оставить его в покое; я ограничился лишь наблюдением за ним издали, так что он и не подозревает о нем. Слава богу, в моем распоряжении есть для этого средства. – Очевидно, Профитандье гордился этим обстоятельством и не пропускал случая подчеркнуть прекрасную организацию своей агентуры; уже третий раз он напоминал мне о ней. – Я рассудил, что мне не следует умалять в глазах моего мальчика опасность его затеи. Нужно ли вам говорить, что, несмотря на боль, причиненную им мне, этот акт непокорности только еще сильнее привязал меня к нему? Я сумел разглядеть в нем доказательство мужества, доблести…
Теперь, когда к нему возвратилось самообладание, превосходный человек готов был говорить без умолку. Я постарался перевести разговор на первоначальную тему, которая больше интересовала меня; оборвав его, я спросил, видел ли он те фальшивые монеты, о которых говорил. Мне очень хотелось знать, похожи ли они на стеклянную монету, которую показывал нам Бернар. Едва только я упомянул о ней, как Профитандье переменился в лице: глаза его сощурились, и в них загорелся странный огонек; на висках набежали морщинки; губы поджались; внимание обострило все его черты. Он точно вдруг позабыл все сказанное им до сих пор. Судья затмил отца, и все перестало существовать для него, кроме профессиональных обязанностей. Он забросал меня вопросами, стал делать заметки и сказал, что необходимо послать агента в Саас-Фе, чтобы записать фамилии постояльцев по книгам гостиниц.
– Хотя, по всей вероятности, – прибавил он, – эта фальшивая монета была вручена вашему лавочнику каким-нибудь пройдохой, который не останавливался в упомянутом вами местечке.
На это я заметил, что Саас-Фе расположено в глубине тупика и вряд ли можно приехать туда и уехать в течение дня. Профитандье был особенно удовлетворен последним замечанием и распрощался с озабоченным и восхищенным видом, горячо поблагодарив и не сказав больше ни слова ни о Жорже, ни о Бернаре.
XIII
В это утро Бернару пришлось убедиться, что для таких щедрых натур, как он, нет большей радости, чем радовать другого. Эта радость была ему заказана. Он только что блестяще выдержал экзамен, но так как подле него не было никого, с кем он мог бы поделиться этим приятным известием, то оно тяготило его. Бернар хорошо знал, что самое большее удовлетворение оно доставило бы его отцу. У него мелькнула даже мысль, не пойти ли сейчас к Профитандье и не рассказать ли ему о своем успехе; однако гордость его удержала. Эдуард? Оливье? Но им показалось бы, что он придает слишком большое значение аттестату. Он стал бакалавром. Эка невидаль! Самое трудное теперь только начиналось.
Во дворе Сорбонны он увидел одного товарища, который, подобно ему, только что выдержал экзамен, но теперь стоял в стороне от других и плакал. Этот юноша был в трауре. Бернар знал, что недавно он потерял мать. Невольный порыв симпатии увлек его к сироте; он приблизился к нему, но потом, из-за ложного стыда, прошел мимо. Товарищ, увидев, что Бернар подходит и затем удаляется, устыдился своих слез; он уважал Бернара, и его огорчило то, что он принял за презрение.
Бернар отправился в Люксембургский сад. Он сел на скамейку в той самой части сада, где встретился с Оливье в день, когда просил у него ночлега. Было еще почти тепло, и лазурь улыбалась Бернару сквозь голые уже ветви деревьев. Было совсем непохоже, что дело идет к зиме; весело щебетали птицы, введенные в заблуждение погодой. Но Бернар не глядел на сад; он видел перед собой необъятный океан жизни. Поверхность океана бороздят морские пути, но глаз не в состоянии различить их, и Бернар не знал, по какому ему придется плыть.
Так сидел он, погруженный в раздумья, как вдруг увидел ангела, приближавшегося к нему поступью скользящей и столь легкой, что, чувствовалось, его способна выдержать поверхность вод. Бернар никогда не видел ангелов, но он не усомнился ни на минуту и, когда ангел сказал ему: «Пойдем», встал и послушно последовал за ним. Он чувствовал не большее изумление, чем если бы это происходило во сне. Впоследствии он старался припомнить, взял ли его ангел за руку; в действительности, однако, они не прикасались друг к другу и даже шли не сближаясь. Они возвратились вместе во двор Сорбонны, где Бернар оставил сироту; теперь он твердо решил заговорить с ним, но двор был пуст.
В сопровождении ангела Бернар направился в церковь Сорбонны, куда ангел вошел первым и где Бернар никогда не бывал. По церкви блуждали еще и другие ангелы, но Бернар не мог узреть их. Неведомый покой снизошел на Бернара. Ангел подошел к главному алтарю и преклонил колени; Бернар последовал примеру ангела и опустился на колени рядом с ним. Он не верил ни в какого Бога и поэтому не мог молиться, но сердце его было исполнено любовной потребности принести дар, жертву; он предлагал себя. Волнение его было так смутно, что никакие слова не могли бы выразить его; но вдруг раздалось пение органа.
«Ты точно так же предлагал себя Лауре, – сказал ангел, и Бернар почувствовал, что у него по щекам катятся слезы. – Пойдем, следуй за мной».
Когда ангел увлекал его, Бернар чуть не наткнулся на одного из своих прежних товарищей, который тоже выдержал устный экзамен. Бернар считал его тупицей и удивлялся, что его приняли. Тупица не заметил Бернара; Бернар же увидел, как тот сунул церковному сторожу в руку серебряную монетку на свечку. Бернар пожал плечами и вышел.
Когда он оказался на улице, то заметил, что ангел покинул его. Бернар зашел в табачную лавку – ту самую, где Жорж неделю назад сбыл свою фальшивую монету. С тех пор ему удалось сбыть их еще немало. Бернар купил пачку папирос и закурил. Почему ангел скрылся? Значит, ему не о чем было говорить с ним?..
Пробил полдень. Бернар чувствовал голод. Возвратиться в пансион? Пойти к Оливье и разделить с ним завтрак Эдуарда?.. Он ощупал карман и, убедившись, что денег у него достаточно, зашел в ресторан. Когда он позавтракал, нежный голос прошептал:
«Пришло время подвести итог».
Бернар обернулся. Ангел снова был подле него.
«Нужно будет решиться, – говорил он. – До сих пор ты жил на авось. Что же, и впредь предоставишь случаю располагать тобой? Ты хочешь отдать свои силы на служение какому-то делу. Нужно выяснить, какому именно».
«Научи меня, веди меня», – попросил Бернар.
Ангел привел Бернара в зал, полный народу. В глубине зала стояла эстрада, а на эстраде – стол, покрытый красным сукном. Сидящий за столом еще молодой человек держал речь.
– Огромное безумие, – говорил он, – думать, будто мы способны что-то открыть. Мы обладаем только тем, что получили. Каждый из нас еще в юности должен понять, что мы зависим от прошлого и прошлое это нас обязывает. Им определено все наше будущее.
Когда он развил до конца эту мысль, его место заступил другой оратор, который сначала рассыпался в похвалах по адресу своего предшественника, а затем обрушился на тех самонадеянных людей, которые отваживаются жить без доктрины и руководиться собственным умом.
– Одна доктрина завещана нам, – говорил он. – Она просуществовала уже много веков. Это, несомненно, лучшая из всех доктрин и единственная; каждый из нас должен исполниться сознанием ее правоты. Это доктрина нашей страны, которой приходится дорого платить за свою ошибку всякий раз, как она отрекается от нее. Нельзя быть добрым французом, не зная ее, нельзя добиться настоящего успеха, не действуя в ее духе.
За вторым оратором последовал третий, который поблагодарил первых двух за то, что ими так хорошо была очерчена их программа; затем установил, что эта программа требовала не более и не менее как возрождения Франции усилиями каждого члена их партии. Он называл себя человеком действия, утверждал, что всякая теория находит завершение и доказательство своей правильности в практике и что всякий истинный француз должен быть борцом.
– Но увы! – прибавил он. – Сколько распыленных, погубленных сил! Какого величия достигла бы наша родина, каким блеском покрыла бы она себя, как возросла бы ценность каждого из ее сынов, если бы эти силы были упорядочены, если бы деятельность каждого подчинялась правилам, если бы каждый знал свое место в стройных рядах!
Во время его речи присутствующих стали обходить молодые люди, раздавая листки с заявлением о желании вступить в партию, которые нужно было только подписать.
«Ты хотел предложить себя, – сказал тогда ангел. – Что же ты медлишь?»
Бернар взял один из листков, текст которых начинался словами: «Торжественно обязуюсь…» Он прочел, затем взглянул на ангела и увидел, что тот улыбается; затем взглянул на собрание и узнал среди молодых людей новоиспеченного бакалавра, который несколько времени тому назад ставил в церкви свечку в благодарность за успешно выдержанный экзамен; и вдруг, немного подальше, заметил своего старшего брата, которого не видел с тех пор, как покинул отчий дом. Бернар не любил его, и в нем возбуждало некоторую ревность внимание, которое как будто оказывал ему отец. Он нервно скомкал листок.
«Ты находишь, что мне нужно подписаться?»
«Да, конечно, если ты сомневаешься в себе», – отвечал ангел.
«Теперь у меня исчезли всякие сомнения», – сказал Бернар и далеко отшвырнул бумажку.
Оратор между тем продолжал свою речь. Когда Бернар начал снова слушать его, он обучал собравшихся верному средству никогда не заблуждаться, заключавшемуся в полном отказе от собственных суждений и в постоянном подчинении суждениям старших.
«Кто такие эти старшие? – спросил Бернар и вдруг загорелся страшным негодованием. – Если ты поднимешься на эстраду, – сказал он ангелу, – и схватишься с ним врукопашную, ты, наверное, одолеешь его…»
Но ангел с улыбкой сказал:
«Это с тобой я хочу побороться. Сегодня вечером, хочешь?»
«Да», – ответил Бернар.
Они покинули зал и вышли на большие бульвары. Толпа, которая толкалась там, состояла с виду исключительно из богатых людей, каждый казался уверенным в себе, равнодушным к другим, но озабоченным.
«Неужели это картина счастья?» – спросил Бернар, который почувствовал, что сердце его наполняется слезами.
Затем ангел повел Бернара в бедные кварталы, о степени нищеты которых Бернар раньше не подозревал. Спускался вечер. Они долго блуждали между высокими мрачными домами, которые населяли болезнь, проституция, стыд, преступление и голод. Тогда только Бернар взял ангела за руку, но ангел отвернулся от него и заплакал.
В этот день Бернар не обедал; придя в пансион, он не пошел к Саре, как все последние вечера, а отправился прямо в комнату, которую занимал с Борисом.
Борис уже лежал в кровати, но не спал. Он перечитывал при свече полученное им утром письмо Брони.
«Боюсь, – писала его подруга, – что больше никогда не увижусь с тобой. Вернувшись в Польшу, я простудилась. У меня кашель, и, хотя доктор скрывает, я чувствую, что дни мои сочтены».
Услышав шаги Бернара, Борис спрятал письмо под подушку и поспешно задул свечу.
Бернар ощупью разыскал свою кровать. Ангел вошел в комнату вместе с ним, но, хотя ночь не была очень темная, Борис видел только Бернара.
– Ты спишь? – тихо спросил Бернар. Так как Борис не ответил, Бернар решил, что он спит.
«Теперь давай вступим в единоборство», – сказал Бернар ангелу.
И всю ночь до рассвета они боролись.
Борис смутно видел, как Бернар ворочается. Он подумал, что это его манера молиться, и решил не прерывать его. Между тем ему очень хотелось поговорить, потому что он был сильно подавлен. Он встал и опустился на колени у кровати. Ему хотелось молиться, но он мог только прорыдать:
– О Броня, ты, которая зришь ангелов, ты, которая должна была открыть мне глаза, ты покидаешь меня! Броня, что будет со мной без тебя? Что со мной будет?
Бернар и ангел были слишком заняты, чтобы услышать его. Они боролись до зари. Ангел ушел, не будучи побежденным, но и не одержав победы.
Когда позже Бернар тоже вышел из комнаты, он встретился в коридоре с Рашелью.
– Мне нужно поговорить с вами, – сказала она ему. Голос ее был так печален, что Бернар сразу понял, что она собиралась сказать ему. Он ничего не ответил, опустил голову и вследствие вспыхнувшей в нем жалости к Рашели вдруг возненавидел Сару, и наслаждение, которое он испытывал с нею, стало ему отвратительным.
XIV
Часов в десять утра Бернар явился к Эдуарду с саквояжем в руке, который вмещал все его имущество: костюмы, белье и книги. Он попрощался с Азаисом и госпожой Ведель, но постарался избежать встречи с Сарой.
Бернар был серьезен. Борьба с ангелом сделала его более зрелым. Он не был больше похож на укравшего чемодан беспечного юношу, который считал, что в этом мире нужно только обладать смелостью. Он начинал понимать, что отвага оплачивается часто счастьем другого.
– Я пришел искать у вас приюта, – сказал он Эдуарду. – Я опять остался без крова.
– Почему вы покидаете Веделей?
– По причинам деликатного свойства… разрешите мне не говорить вам о них.
Эдуард достаточно внимательно наблюдал Бернара и Сару во время банкета, так что догадывался о причинах этого молчания.
– Ладно, – сказал он, улыбаясь. – Диван моего кабинета в вашем распоряжении на сегодняшнюю ночь. Но должен сказать вам сначала, что вчера ко мне приходил ваш отец. – И он передал Бернару ту часть их разговора, которая, по его мнению, способна была тронуть его. – Не у меня вам следовало бы ночевать сегодня, а у него. Он вас ждет.
Бернар, однако, молчал.
– Я подумаю об этом, – сказал он наконец. – Разрешите пока оставить здесь мои вещи. Могу я видеть Оливье?
– Погода так хороша, что я убедил его пойти погулять. Я хотел сопровождать его, потому что он еще очень слаб, но он пожелал выйти один. Впрочем, он отправился уже час тому назад и должен скоро возвратиться. Подождите его… Однако что ж это я?.. Как ваш экзамен?
– Выдержал, но это не важно. Гораздо важнее решить вопрос, что же мне делать. Знаете, что меня главным образом удерживает от возвращения к отцу? То, что я не хочу жить на его средства. Вы находите, вероятно, глупым, что я пренебрегаю этим счастливым случаем, но я дал себе слово обойтись без его помощи. Мне важно доказать себе, что я человек, способный держать слово, человек, на которого можно положиться.
– Я усматриваю здесь главным образом гордость.
– Называйте это как вам будет угодно: гордостью, высокомерием, самодовольством… Вы не обесцените одушевляющего меня чувства. Но вот что я хотел бы знать сейчас: когда мы пускаемся в жизнь, должны ли мы непременно иметь перед глазами какую-либо цель?
– Объясните.
– Я размышлял об этом всю ночь. Чему посвятить силу, которую я чувствую в себе? Как лучше применить ее? Руководствуясь в своих действиях какой-нибудь целью? Но как избрать эту цель? Как узнать ее, пока она не достигнута?
– Жить без цели – значит отдать себя на волю случая.
– Боюсь, что вы не понимаете меня как следует. Когда Колумб открывал Америку, знал ли он, куда плывет? Его целью было идти вперед, прямо перед собой. Его целью был он сам, эту цель он всегда имел перед глазами…
– Я часто думал, – перебил Эдуард, – что в искусстве, и в частности в литературе, стоят чего-нибудь лишь те, кто бросается в неизвестное. Невозможно открыть новую землю, не решившись сразу же и надолго потерять из виду всякие берега. Но наши писатели боятся открытого моря, все они держатся у берегов.
– Вчера, покинув Сорбонну, – продолжал Бернар, не слушая его, – я зашел, увлекаемый каким-то демоном, в зал, где происходило публичное собрание. Там шла речь о национальной чести, о служении родине, о множестве вещей, которые заставляли биться мое сердце. Я совсем готов был подписать бумажку, в которой обязывался честью посвятить свои силы служению делу, признаваемому мной прекрасным и благородным.
– Я рад, что вы не подписали. Что же, однако, вас удержало?
– По всей вероятности, какой-то тайный инстинкт… – Бернар подумал несколько мгновений. Затем продолжал со смехом: – Я думаю, главным образом лица членов партии, начиная от лица моего старшего брата, которого я узнал в толпе. Мне показалось, что все эти молодые люди были одушевлены наилучшими чувствами и что они поступали прекрасно, отказываясь от своей инициативы, потому что она не привела бы их далеко, от своих суждений, потому что они убоги, и от своей духовной независимости, потому что никаких горизонтов она бы им не открыла. Я подумал также, что для страны хорошо, если она может рассчитывать на волю множества слепо преданных граждан, ее населяющих; но моя собственная воля никогда не станет таковой. Вот тогда-то я и задался вопросом, как выработать правило, ибо я не согласен жить без правила и в то же время не согласен получить это правило от других.
– Ответ, по-моему, очень прост: найти это правило в самом себе, поставить целью собственное развитие.
– Да… это как раз то, что я сказал себе. Но это ни капельки не подвинуло меня вперед. Добро бы еще я был уверен, что предпочту в себе лучшее, тогда я не задумываясь принес бы в жертву все остальное. Но я не способен даже понять, что во мне лучшее… Я размышлял над этим всю ночь, говорю вам. Под утро я так устал, что подумал было, не поступить ли мне на военную службу, не дожидаясь года моего призыва?
– Уклониться от вопроса – не значит разрешить его.
– Это самое и я сказал себе: и хотя решение этого вопроса будет, таким образом, отсрочено, он с еще большей серьезностью встанет передо мной по отбытии воинской повинности. После этого я отправился к вам послушать вашего совета.
– Я не вправе давать вам совет. Вы можете найти этот совет только в себе самом, и равным образом вы можете научиться, как надо жить, лишь изведав жизнь на собственном опыте.
– А если я буду жить дурно в ожидании решения вопроса, как следует жить?
– Это как раз и послужит вам уроком. Можно покатиться по наклонной плоскости, лишь бы только иметь силу подняться.
– Вы шутите? Нет, мне кажется, я понимаю вас, и я принимаю эту формулу. Но, развиваясь так, как вы говорите, я должен все же зарабатывать. Какого мнения вы о кричащем объявлении в газетах: «Молодой человек с большим будущим, пригодный для всего»?
Эдуард расхохотался:
– Нет ничего труднее, как получить все. Лучше бы уточнить.
– Я думал об одном из многочисленных колесиков в механизме большой газеты. О, я согласился бы занять самую незначительную должность: корректора, наборщика… какую угодно. У меня совсем скромные требования!
Он говорил недостаточно искренно. В действительности ему хотелось получить место секретаря, но он боялся сказать об этом Эдуарду благодаря уже проделанному неудачному опыту. В конце концов, полный провал этой попытки работать в качестве секретаря произошел не по вине Бернара.
– Мне, может быть, удастся устроить вас в «Гран журналь», с редактором которого я знаком…
В то время как Бернар и Эдуард вели эту беседу, у Сары происходило очень тяжелое объяснение с Рашелью. Сара быстро сообразила, что причиною внезапного ухода Бернара были упреки Рашели; и вот она негодовала на сестру за то, что та, по ее словам, убивала вокруг себя всякую радость. Она не имела права навязывать другим добродетель, которую один ее пример способен был сделать ненавистной.
Рашель, всегда жертвовавшая собой для счастья других, была потрясена этими обвинениями; мертвенно побледнев, она говорила дрожащим голосом:
– Я не могу позволить тебе погубить себя.
Но Сара, громко рыдая, восклицала:
– Не верю я в твое небо! Не хочу быть спасенной!
Она решила немедленно уехать в Англию, где ей окажет гостеприимство подруга. Ведь «в конце концов, она была свободна и желала устроить свою жизнь, как ей нравится». Рашель совсем выбило из себя это невеселое объяснение.
XV
Эдуард позаботился прийти в пансион до возвращения учеников из школ. Он не виделся с Лаперузом со времени возобновления занятий и хочет поговорить прежде всего с ним. Старый преподаватель музыки справляется с новыми обязанностями надзирателя по мере своих сил, то есть очень плохо. Сначала он пытался снискать любовь воспитанников, но ему не хватает авторитета; дети пользуются этим; его снисходительность они принимают за слабость и позволяют себе вольности. Лаперуз прибегает к строгости, но уже поздно; его выговоры, угрозы, внушения только восстанавливают против него учеников. Когда он повышает голос, они хихикают; когда он стучит кулаком по гулкому пюпитру, они испускают крики притворного ужаса; его передразнивают; называют «папаша Лапер»; по скамьям ходят карикатуры, где этот кроткий человек изображен страшилищем, вооруженным огромным пистолетом (этот пистолет Гериданизоль, Жорж и Фифи сумели найти во время бесцеремонного обыска его комнаты) и беспощадно избивающим учеников; или же стоящим на коленях перед ними со сложенными руками и умоляющим, как он делал это в первые дни: «Будьте чуточку потише, пожалуйста». Он производил впечатление жалкого старого оленя, затравленного озверелой сворой. Ничего этого Эдуард не знает.
Дневник Эдуарда
Лаперуз принял меня в маленьком зале нижнего этажа, этой, насколько мне известно, самой неуютной комнате пансиона. Вся обстановка состояла из четырех парт, черной доски на стене и стула с соломенным сиденьем, на который Лаперуз силою усадил меня. Сам же он бочком примостился на одной из парт после тщетных усилий засунуть под пюпитр свои слишком длинные ноги.
– Нет, нет. Мне так удобно, уверяю вас.
Но тон его голоса и выражение лица говорили: «Мне ужасно неудобно, и я надеюсь, что это бросается в глаза, но мне нравится быть в таком положении; и чем неудобнее мне будет, тем меньше вы услышите от меня жалоб».
Я сделал попытку отшутиться, но не мог вызвать у него улыбку. Он напускал на себя вид церемонный и исполненный достоинства, как бы желая сохранить дистанцию между нами и заставить меня понять: «Это вам я обязан своим пребыванием здесь».
Однако он утверждал, что чрезвычайно доволен всем; больше того, старался уклониться от ответа на мои вопросы и раздражался моей настойчивостью. Все же когда я спросил его, где его комната, он сказал вдруг:
– Немножко далековато от кухни. – И пояснил, увидя на моем лице удивление: – Иногда ночью у меня появляется большое желание поесть… когда не могу уснуть.
Я сидел близко от него; теперь еще больше придвинулся и мягко положил руку ему на плечо. Он продолжал более натуральным тоном:
– Нужно вам сказать, что сплю я очень плохо. Когда мне случается уснуть, я не утрачиваю сознания, что я сплю. Это ведь не значит спать по-настоящему, не правда ли? Тот, кто спит по-настоящему, не сознает, что спит; просто замечает по пробуждении, что проснулся.
Затем с какой-то упорной настойчивостью, наклонившись ко мне:
– Иногда я пытаюсь убедиться, что это простая иллюзия и что я все же сплю по-настоящему, когда мне кажется, будто я не сплю. Но доказательством, что я не сплю, в действительности служит то, что, когда я хочу открыть глаза, я их открываю. Обыкновенно я не хочу делать этого. Вы понимаете, не так ли, что у меня нет никакого интереса это делать. С какой стати я буду доказывать себе, что не сплю? Я всегда храню надежду заснуть, убеждая себя, что уже сплю…
Он еще больше наклонился и сказал совсем тихо:
– Кроме того, есть одна вещь, которая беспокоит меня. Молчите… Я не жалуюсь на это, потому что ничего с этим не поделаешь, да и какой толк жаловаться на то, что изменить нельзя, не правда ли?.. Представьте себе, что рядом с моей кроватью, в стене, как раз на уровне головы, есть какая-то вещь, производящая шум.
Он оживился, говоря это. Я предложил ему свести меня в его комнату.
– Да! Да! – сказал он, поспешно вставая. – Вы, может быть, разъясните мне, что это такое… Сам я никак не могу понять. Пойдемте.
Мы поднялись на третий этаж, затем пошли по довольно длинному коридору. Я никогда не бывал в этой части дома.
Комната Лаперуза выходила окнами на улицу. Она была маленькая, но чистенькая. Я заметил на ночном столике, рядом с молитвенником, ящик с пистолетами, с которым он упорно не расставался. Он схватил меня под руку и сказал, немножко отодвигая кровать:
– Вот тут. Слушайте… Приложите ухо к стене… Ну, что, слышите?
Я приложил ухо и долго с напряжением вслушивался. Но, несмотря на все мое доброе намерение, не мог услышать ровно ничего. Лаперуз сердился. В этот момент проехал ломовик, сотрясая стены; в окнах задребезжали стекла.
– В этот час дня, – сказал я в надежде успокоить его, – шорох, который так раздражает вас, заглушается уличным шумом…
– Заглушается для вас, потому что вы не способны отличать его от других шумов! – запальчиво вскричал он. – Я же, представьте, слышу его. Несмотря ни на что, продолжаю слышать. Иногда он до такой степени изводит меня, что я даю себе слово поговорить о нем с Азаисом или домовладельцем… О, у меня вовсе нет намерения его прекратить… Но мне хотелось бы, по крайней мере, знать, что это такое.
Он помолчал некоторое время, затем продолжал:
– Словно кто-то скребется. Я делал различные попытки избавиться от него. Отодвигал кровать от стены. Затыкал уши ватой. Вешал свои часы (вы видите, я вбил там гвоздик) как раз в том месте, где, по моему мнению, проходит труба, чтобы тиканье часов заглушало тот шум… Но это еще больше утомляет меня, так как мне приходится делать усилие, чтобы его расслышать. Глупо, не правда ли? Теперь я предпочитаю ясно его слышать, потому что все равно знаю, что мне его не заглушить… Ах, мне не следовало рассказывать вам об этом! Видите, каким я стал стариком.
Он сел на кровать и застыл в каком-то оцепенении. Злосчастное действие возраста сказывается у Лаперуза не столько на умственных способностях, сколько на более глубоких душевных пластах. Червь подтачивает самую сердцевину плода, подумал я при виде того, как этот недавно еще такой крепкий и гордый человек предавался ребяческому отчаянию. Я сделал попытку вывести его из этого состояния, заговорив о Борисе.
– Да, его комната совсем рядом, – сказал он, поднимая голову. – Сейчас я покажу вам ее. Пойдемте.
Он вывел меня в коридор и открыл соседнюю дверь.
– Вот эта другая кровать, которую вы видите, принадлежит Бернару Профитандье. – Я счел излишним сообщать ему, что с сегодняшнего вечера Бернар не будет больше спать на ней. – Борис доволен своим товарищем и, мне кажется, хорошо уживается с ним. Но, знаете, он мало разговаривает со мной. Он очень замкнут… Боюсь, что у этого ребенка несколько черствое сердце.
Он говорил это с такой грустью, что я почел своим долгом запротестовать и поручиться в чувствах его внука.
– В таком случае, он мог бы не так скупиться на их выражение, – возразил Лаперуз. – Например, слушайте: утром, когда он уходит в лицей вместе с остальными учениками, я высовываюсь из окна, чтобы посмотреть на него. Он знает об этом… И вот, представьте, не оборачивается!
Я хотел растолковать ему, что Борис, по всей вероятности, боится привлечь внимание товарищей и вызвать их насмешки, но в этот момент во дворе раздались шумные возгласы.
Лаперуз схватил меня под руку и сказал изменившимся голосом:
– Слушайте! Слушайте! Вот они возвращаются.
Я взглянул на него. Он затрясся всем телом.
– Эти сорванцы повергают вас в трепет? – спросил я.
– Нет, нет, – ответил он смущенно, – как у вас могло возникнуть такое предположение… – Затем очень торопливо: – Мне необходимо спуститься вниз. Перемена продолжается всего несколько минут, а вы ведь знаете, что я наблюдаю за занятиями. До свидания. До свидания.
Он помчался по коридору, даже не пожав мне руку. Минуту спустя я услышал, как он засеменил по лестнице. Я выждал несколько минут, не желая показываться перед учениками. Раздавались их крики, смех, пение. Затем удар колокола, и внезапно вновь наступила тишина.
Я отправился к Азаису и получил от него записку, разрешившую Жоржу покинуть классную комнату и выйти ко мне. Я имел свидание с ним в том самом маленьком зале, где сначала меня принял Лаперуз.
Едва оставшись со мной наедине, Жорж счел долгом принять развязный вид. Это была его манера маскировать свое смущение. Но не поручусь, что он был более смущен, чем я. Он занял оборонительную позицию, так как, несомненно, ожидал, что его начнут песочить. Мне показалось, что он хочет как можно скорее пустить в ход заготовленное им против меня оружие, потому что не успел я раскрыть рот, как он спросил меня о состоянии Оливье таким насмешливым тоном, что я охотно дал бы ему пощечину. Он получил преимущество надо мной. «Кроме того, вы знаете, я не боюсь вас», казалось, говорили его иронические взгляды, насмешливая складка губ и тон голоса. Я тотчас же потерял всякую уверенность и стал заботиться лишь о том, чтобы не выдать ему этого. Речь, которую я заготовил, показалась мне вдруг неуместной. Я не обладал солидностью, необходимой для исполнения роли блюстителя нравов. В сущности, Жорж сильно занимал меня.
– Я пришел не для того, чтобы тебя ругать, – сказал я наконец. – Мне хотелось только предупредить тебя. – Против моей воли лицо у меня расплылось в улыбке.
– Скажите прежде всего: это мама вас посылает?
– И да и нет. Я говорил о тебе с твоей матерью, но с тех пор прошло уже несколько дней. Вчера же у меня был очень важный разговор о тебе с одним весьма важным лицом, которого ты не знаешь; лицо это приходило ко мне специально для этого разговора. Судебный следователь… По его-то поручению я и пришел к тебе… Тебе известно, что такое судебный следователь?
Жорж вдруг побледнел, и сердце его, должно быть, на мгновение перестало биться. Правда, он пожал плечами, но голос его немного дрожал:
– Ладно, выкладывайте, что сказал вам папаша Профитандье.
Наглость этого малыша положительно сбивала меня с толку. Несомненно, проще всего было бы перейти прямо к делу, но мой ум как раз питает отвращение к самому простому и неудержимо избирает окольный путь. Для объяснения поступка, который сейчас же по его совершении показался мне нелепым, но был совершен мной невольно, я могу сказать только, что мой последний разговор с Полиной произвел на меня необыкновенно сильное впечатление. Он навел меня на ряд размышлений, которые я тотчас же вставил в мой роман в форме диалога, в точности подошедшего к моим действующим лицам. Мне редко случается извлекать непосредственную пользу из материала, доставляемого жизнью, но на этот раз проделка Жоржа стала полезной; казалось, что моя книга ожидала ее, настолько она пришлась к месту; мне лишь понадобилось изменить самые несущественные подробности. Но эту проделку (я имею в виду кражу писем) я не описывал прямо. О ней, а равно об ее последствиях можно было лишь заключить на основании разговора. Я занес этот разговор в записную книжку, которая в тот момент была при мне. Напротив, история с фальшивой монетой, в том виде, как она была рассказана Профитандье, не могла, по-моему, сослужить мне никакой службы. Вот почему, вместо того чтобы сразу же завести с Жоржем разговор о фальшивой монете, то есть обратиться к главной цели моего прихода, я пошел окольным путем.
– Мне хотелось бы, чтобы сначала ты прочел вот эти строки, – сказал я. – Сам поймешь почему. – И я протянул Жоржу свою книжечку, развернув на той странице, которая могла его заинтересовать.
Повторяю: этот жест кажется мне сейчас нелепым. Но в моем романе как раз при помощи подобного чтения я считал необходимым предупредить об опасности самого юного из моих героев. Мне важно было знать, как будет реагировать Жорж; я очень надеялся, что его поведение будет для меня поучительно… даже в отношении качества написанного мной.
Привожу отрывок, о котором идет речь.
«В этом мальчике были темные глубины, к которым влеклось страстное любопытство Одибера. Ему недостаточно было знать, что юный Эдольф украл; он хотел бы, чтобы Эдольф рассказал ему, как он до этого дошел и что испытывал, воруя в первый раз. Впрочем, даже будучи откровенным, мальчик не мог бы, конечно, признаться ему в этом. И Одибер не решался спросить его из боязни услышать ложные уверения, что никакого воровства не было.
Однажды вечером, обедая с Гильдебрандом, он рассказал ему о поступке Эдольфа, не назвав, впрочем, имени последнего и так расположив факты, что Гильдебранд не мог узнать виновника.
– Обратили ли вы внимание, – сказал тогда Гильдебранд, – что самые решающие поступки нашей жизни, то есть те, которые в наибольшей степени способны определить все наше будущее, являются чаще всего поступками опрометчивыми?
– Я очень склонен этому верить, – отвечал Одибер. – Они словно поезд, в который садишься, не подумав и не спросив, куда он идет. И даже чаще всего соображаешь, что поезд увозит тебя, слишком поздно, и сойти уже невозможно.
– Но, может быть, мальчик, о котором мы говорим, вовсе и не желал сходить?
– Конечно, он пока еще не хочет сходить. В данную минуту он упоен ездой. Его занимает пейзаж, и ему безразлично, куда он едет.
– Вы будете читать ему нравоучение?
– Разумеется, нет! Из этого не выйдет толку. Он сыт нравоучениями по горло.
– Что побудило его совершить кражу?
– Не знаю в точности. Конечно, не нужда в настоящем смысле слова. Он желал, вероятно, обеспечить себе кое-какие выгоды, не хотел отставать от более состоятельных товарищей… почем я знаю? Может быть, его толкнула прирожденная склонность к воровству: украл, потому что воровство доставляло ему удовольствие.
– Это самое худшее.
– Да, тогда он не остановится.
– Он даровитый мальчик?
– Долгое время мне казалось, что в умственном отношении он стоит ниже своих братьев. Но сейчас я думаю, что, пожалуй, допустил ошибку и мое отрицательное впечатление объяснялось тем, что мальчик не уяснил еще, чего он может добиться от самого себя. Любопытство его было направлено до сих пор по ложному пути или, вернее, пребывало в эмбриональном состоянии, в стадии бессознательного.
– Вы будете говорить с ним на эту тему?
– Я предложу ему сопоставить ничтожность выгоды, получаемой им от украденного, с огромным ущербом, который причинит ему бесчестность: с утратой доверия к нему близких, утратой уважения к нему, моего в частности… словом, с утратой вещей, которые не поддаются измерению и чья цена познается лишь по тому усилию, какое приходится затрачивать впоследствии, чтобы вновь их завоевать. Есть люди, потратившие на это всю свою жизнь. Я расскажу ему то, в чем он по молодости своей еще не отдает себе отчета: что, стоит случиться сейчас чему-нибудь сомнительному, грязному, подозрения отныне всегда будут падать на него. Очень возможно, что ему неправильно будут поставлены в вину какие-нибудь серьезные проступки и он не будет в состоянии оправдаться. Сделанное им ляжет на него клеймом. Он станет, как говорится, «отпетым». Наконец, мне хотелось бы сказать ему… Но боюсь, он станет возражать.
– Что вам хотелось бы сказать ему?
– Что сделанное им создает прецедент и что если для первого воровства требуется некоторая решимость, то для следующих достаточно уступить влечению. Все дальнейшие проступки суть не что иное, как подчинение естественному ходу вещей… Мне хотелось бы сказать ему, что первый жест, совершаемый нами в достаточной степени необдуманно, часто кладет неизгладимую печать на весь наш облик и проводит черту, которую все наши последующие усилия никогда не будут в состоянии стереть. Мне хотелось бы… но у меня не хватит искусства поговорить с ним.
– Почему бы вам не записать нашего сегодняшнего разговора? Вы дадите ему прочесть.
– Это идея, – сказал Одибер. – Почему не сделать попытку?»
Я не сводил глаз с Жоржа все время, пока он читал; но мысли, возникавшие у него при этом, никак не отражались на его лице.
– Читать дальше? – спросил он, собираясь перевернуть страницу.
– Не стоит, разговор на этом кончается.
– Очень жаль.
Он возвратил мне записную книжку и спросил почти веселым тоном:
– Мне хотелось бы знать, что отвечает Эдольф после прочтения этого разговора.
– Это как раз то, что я сам ожидаю узнать.
– Эдольф – смешное имя. Вы не могли бы окрестить его иначе?
– Это несущественно.
– То, что он может ответить, тоже несущественно. Что с ним потом станет?
– Не знаю еще. Это зависит от тебя. Увидим.
– Значит, если я правильно понимаю вас, я должен помочь вам писать вашу книгу. Но сознайтесь, что…
Он замолчал, словно затруднялся найти подходящие слова.
– Что «что»? – спросил я, чтобы подбодрить его.
– Сознайтесь, что вы были бы очень разочарованы, – произнес он наконец, – если бы Эдольф…
Он снова замолчал. Мне показалось, я угадал то, что он хотел сказать, и я закончил за него:
– Если бы Эдольф стал честным мальчиком?.. Нет, мой милый. – И вдруг на глазах у меня выступили слезы. Я положил руку ему на плечо. Но он отстранился, промолвив:
– Ведь в конце концов, если бы он не совершил кражу, вы бы не написали всего этого.
Только тогда я понял свою ошибку. Жорж, оказывается, был польщен тем, что так долго занимал мои мысли. Он чувствовал себя интересным. Я позабыл о Профитандье; мне напомнил о нем Жорж.
– Что же рассказал вам ваш следователь?
– Он поручил мне предупредить тебя, что ему известно, как ты сбываешь фальшивые деньги…
Жорж снова переменился в лице. Он понял, что запирательство было бы бесполезно, но все же смущенно заявил:
– Не я один.
– …и что, если вы не бросите сейчас же этого промысла, – продолжал я, – он принужден будет посадить тебя и твоих дружков в тюрьму.
Сначала Жорж страшно побледнел. Затем щеки его вспыхнули. Он пристально смотрел перед собой, нахмурив брови, так что на лбу у него выступили две морщины.
– Прощай, – сказал я ему, подавая руку. – Советую тебе предупредить также и товарищей. Что же касается тебя, то пусть это послужит тебе предостережением.
Он молча пожал мне руку и вышел из комнаты не оборачиваясь.
Перечитывая показанные мной Жоржу страницы «Фальшивомонетчиков», я нашел их довольно неудачными. Я привожу их здесь в том виде, как они были прочитаны Жоржем, но всю эту главу нужно будет переделать. Положительно лучше было бы, чтобы разговор происходил прямо с мальчиком. Я должен найти, чем тронуть его. Конечно, сейчас Эдольфа (я изменю это имя: Жорж прав!) трудно возвратить на путь честности. Но я ставлю своей целью сделать это; что бы там ни думал Жорж, это самая интересная задача, потому что самая трудная. (Вот и я начинаю думать, как Дувье!) Предоставим романистам-реалистам описывать людей, безвольно отдавшихся течению событий.
Сейчас же по возвращении в классную комнату Жорж передал своим друзьям сведения, полученные от Эдуарда. Все, что последний говорил ему по поводу кражи, скользнуло по нему, не взволновав его. Что же касается фальшивых монет, то тут дело грозило принять опасный оборот и важно было поэтому как можно скорее от них отделаться. У каждого из троих приятелей было при себе несколько таких монет, которые они рассчитывали сбыть при ближайшей отлучке из пансиона. Гериданизоль собрал их и побежал спустить в раковину клозета. В тот же вечер он доложил о событиях Струвилу, который немедленно принял меры.
XVI
В этот самый вечер, когда Эдуард разговаривал со своим племянником Жоржем, Оливье после ухода Бернара навестил Арман.
Арман Ведель был неузнаваем: свежевыбритый, улыбающийся, с высоко поднятой головой, в новенькой, тщательно отглаженной паре, немного смешной, быть может, чувствующий это и дающий понять, что он это чувствует.
– Я бы давно уже навестил тебя, но у меня было столько дел!.. Известно ли тебе, что я сейчас секретарь Пассавана? Или, если ты предпочитаешь, главный редактор издаваемого им журнала. Я не буду предлагать тебе сотрудничества, потому что, мне кажется, Пассаван в большом гневе на тебя. К тому же наш журнал делает решительный поворот влево. Вот почему для начала он выбросил за борт Беркая и его пастушеские идиллии…
– Тем хуже для него, – сказал Оливье.
– Вот почему он, напротив, принял в свое лоно мой «Ночной сосуд», который, замечу в скобках, будет посвящен тебе, если разрешишь.
– Тем хуже для меня.
– Пассаван хотел даже, чтобы мое гениальное стихотворение было напечатано на первой странице первого номера, но этому воспротивилась моя природная скромность, которую его похвалы подвергли жестокому испытанию. Если бы я был уверен, что не утомлю твоих выздоравливающих ушей, я дал бы тебе подробный отчет о моем первом свидании со знаменитым автором «Турника», которого я до тех пор знал с твоих слов.
– У меня сейчас нет лучшего занятия, чем слушать твой отчет.
– Дым не беспокоит тебя?
– Я сам закурю, чтобы ты не смущался.
– Нужно сказать, – начал Арман, закуривая папиросу, – что твоя измена поставила нашего дорогого графа в затруднительное положение. Сказать без лести, не так-то легко найти заместителя, в ком букет дарований, добродетелей, достоинств, которые делают тебя одним из…
– Короче, – перебил Оливье, которого раздражала тяжеловесная ирония Армана.
– Короче, Пассаван испытывал большую нужду в секретаре. В числе его знакомых есть Струвилу, с которым я знаком, так как он дядя и опекун одного типа из нашего пансиона, и знаком, в свою очередь, с Жаном Коб-Лафлером, которого знаешь и ты.
– С ним я не знаком, – сказал Оливье.
– Ну, значит, старина, должен познакомиться. Это необыкновенная, удивительная личность, что-то вроде увядшего, сморщенного, подрумяненного ребенка; он живет исключительно крепкими напитками и, когда пьян, пишет прелестные стихи. Ты прочтешь их в первом номере нашего журнала. Итак, Струвилу осеняет идея послать его к Пассавану в качестве твоего заместителя. Можешь себе представить его появление в особняке на улице Бабилон. Нужно сказать тебе, что Коб-Лафлер ходит в грязном белье и засаленном костюме, что по плечам его развевается грива всклокоченных волос и у него вид человека, неделю не умывавшегося. Пассаван, который всегда стремится показать себя властелином положения, утверждает, будто Коб-Лафлер очень ему понравился. Коб-Лафлер сумел прикинуться учтивым, улыбающимся, робким. Когда он хочет, он может сделать себя похожим на Гренгуара Банвиля. Словом, Пассаван был очарован и собирался уже договориться с ним. Нужно тебе сказать, что у Лафлера нет ни гроша… Вот он встает, чтобы попрощаться. «Прежде чем расстаться с вами, я считаю своим долгом предупредить вас, господин граф, что у меня есть кое-какие недостатки». – «У кого из нас их нет?» – «И кое-какие пороки. Я курю опиум». – «Какие пустяки! – сказал Пассаван, которого не способны смутить подобные мелочи. – Хотите, я угощу вас превосходным опиумом?» – «Да, но когда я курю, – продолжает Лафлер, – я утрачиваю всякое представление об орфографии». Пассаван принимает его слова за шутку, пытается засмеяться и подает ему руку. Лафлер продолжает: «Кроме того, я чувствую слабость к гашишу». «Я сам иногда прибегаю к нему», – отвечает Пассаван. «Да, но под действием гашиша я не могу удержаться от воровства». Пассаван начинает соображать, что его собеседник издевается над ним; Лафлер же, войдя в раж, с каким-то упоением продолжает: «Кроме того, я нюхаю эфир; тогда я все крушу, все ломаю». Хватает хрустальную вазу и делает вид, будто хочет швырнуть ее в камин. Пассаван вырывает ее у него из рук: «Благодарю вас за то, что предупредили меня».
– И выставил его за дверь?
– Затем стал наблюдать в окно, как бы Лафлер, уходя, не бросил ему бомбу в подвал.
– Зачем же твой Лафлер выкинул эту штуку? – спросил Оливье, помолчав. – Ведь если тебе верить, он очень нуждался в этом месте?
– Приходится, друг мой, допустить, что есть люди, испытывающие потребность действовать вопреки своим собственным интересам. Кроме того, знаешь ли, что я скажу тебе: Лафлер… роскошь Пассавана вызвала в нем отвращение; элегантность графа, его любезные манеры, снисходительность, напущенный на себя вид превосходства, – да, от всего этого его затошнило. И я отлично понимаю его… Твой Пассаван в самом деле способен вызвать рвоту.
– Почему ты говоришь «твой Пассаван»? Ты прекрасно знаешь, что я больше с ним не вижусь. И потом, зачем ты соглашаешься идти на это место, раз ты находишь Пассавана таким противным?
– Потому что я люблю именно то, что мне противно… начиная с собственной грязной личности. Затем Коб-Лафлер, в сущности, трус: он не сказал бы ничего этого, если бы не почувствовал смущения.
– Ну уж извини…
– Конечно. Он был смущен, и ему стало противно чувствовать смущение перед человеком, которого он, в сущности, презирал. Чтобы скрыть свое смущение, он и стал фанфаронить.
– Я нахожу это глупым.
– Мой милый, не все так умны, как ты.
– Ты уже однажды говорил это.
– Какая память!
Оливье выказывал твердую решимость не поддаваться.
– Я пропускаю мимо ушей твои шуточки, – сказал он. – В прошлое наше свидание, помнишь, ты под конец заговорил со мною серьезно. Ты сказал мне вещи, которые я не могу забыть.
Взор Армана помрачнел; он принужденно засмеялся:
– Ах, старина, в прошлое наше свидание я уступил твоему желанию и разговаривал с тобой так, как ты хотел. Ты, словно мальчик, требовал лакомства, и вот, чтобы доставить тебе удовольствие, я спел мою жалобную песню, наполненную душевными терзаниями в духе Паскаля… Что поделаешь! Я бываю искренним, лишь когда издеваюсь.
– Никогда тебе не убедить меня, будто ты был неискренним во время нашего последнего разговора. Напротив, ты сейчас ломаешь комедию.
– О существо, исполненное наивности, о ангельская душа! Как будто бы каждый из нас не играет роли, с большей или меньшей искренностью и сознательностью. Жизнь, старина, не больше чем комедия. Но различие между тобой и мной состоит в том, что я знаю, что разыгрываю паяца, между тем как…
– Между тем как… – задиристо повторил Оливье.
– Между тем как мой отец, например, чтобы не говорить о тебе, совершенно забывается, когда играет роль пастора. Что бы я ни говорил и ни делал, всегда какая-то часть меня остается где-то в стороне и смотрит, как другая часть компрометирует себя, наблюдает, как она ведет себя, насмехается над ней, освистывает ее или аплодирует ей. Когда носишь в себе такую раздвоенность, можно ли, посуди сам, быть искренним? Я дошел до того, что даже не понимаю, что, собственно, хотят обозначить словом «искренность». С этим ничего не поделаешь: если я печален, то нахожу себя уродливо забавным, и это смешит меня; когда весел, то отпускаю такие нелепые шутки, что у меня появляется желание плакать.
– Мне тоже ты внушаешь желание плакать, бедняга Арман. Я не думал, что ты до такой степени болен.
Арман пожал плечами и сказал совсем другим тоном:
– Чтобы утешиться, хочешь знать содержание первого номера нашего журнала? В нем будет, значит, мой «Ночной сосуд», четыре песенки Коб-Лафлера, диалог Жарри, стихотворения в прозе маленького Гериданизоля, нашего пансионера, и наконец, «Утюг», обширная критическая статья, в которой точно определяется направление журнала. Этот шедевр был высижен соединенными усилиями всех нас.
Оливье, не знавший, что сказать, заметил невпопад:
– Ни один шедевр не является результатом сотрудничества.
Арман покатился со смеху:
– Но, дорогой мой, я сказал «шедевр» в шутку. Тут даже нет речи о произведении искусства в собственном смысле слова. Нам прежде всего хотелось знать, что мы подразумеваем под «шедевром». «Утюг» как раз и ставит своей задачей выяснение этого вопроса. Есть множество произведений, которыми мы восхищаемся, так сказать, по доверию, оттого что все восхищаются ими и никто до сих пор не догадался или не посмел сказать, что они бездарны. Так, например, на первой странице номера мы собираемся поместить репродукцию Джоконды, которой подмалюем усы. Вот увидишь, старина, эффект будет потрясающий.
– Неужели сие должно означать, что ты считаешь Джоконду бездарным произведением?
– Нисколько, дорогой мой (хотя и нахожу ее славу незаслуженной). Ты меня не понимаешь. Бездарны восторги, которые расточаются перед ней. По привычке принято говорить о так называемых «шедеврах» не иначе, как с благоговейно обнаженной головой. «Утюг» (это название журнала) ставит целью высмеять это почтение, дискредитировать его… Хорошим средством для этого является также предложить на радость читателю какое-нибудь бездарное произведение (например, мой «Ночной сосуд») автора, совершенно лишенного здравого смысла.
– Пассаван одобряет все это?
– Это очень забавляет его.
– Вижу, что я хорошо сделал, уйдя от него.
– Уйти… Рано или поздно, старина, хотим ли мы этого или нет, уходить всегда нужно. Это мудрое рассуждение, естественно, приводит меня к тому, чтобы распрощаться с тобой.
– Посиди еще минутку, шут гороховый… Что побудило тебя сказать, что твой отец играет в пастора? Ты не считаешь его, следовательно, человеком убеждений?
– Мой почтеннейший папаша устроил свою жизнь таким образом, что не имеет больше ни права, ни возможности не быть человеком убеждений. Да, он убежденный благодаря своей профессии. Профессор убеждения. Он вдалбливает веру; в этом смысл его существования; это роль, которую он взял на себя и должен исполнять до конца своих дней. Что же, однако, происходит в той инстанции, которую он называет «судом своей совести»? Понятно, было бы нескромностью спрашивать его об этом. И мне кажется, что он сам никогда себя об этом не спрашивает. Он распределяет свои занятия так, чтобы никогда не иметь возможности задать себе этот вопрос. Он загромоздил свою жизнь множеством обязанностей, которые потеряют всякий смысл, если его убежденность ослабеет; выходит, таким образом, что эта убежденность требуется и поддерживается ими. Он воображает, будто он верующий, потому что продолжает вести себя так, как если бы он действительно веровал. Он больше не свободен не веровать. Если его вера поколеблется, дружище, это будет катастрофой! Землетрясением! Подумай только, моя семья лишится средств существования. Это очень важно, старина: ведь папина вера – наш хлеб. Мы все живем папиной верой. Итак, спрашивать, действительно ли папа человек верующий, согласись, не слишком деликатно с твоей стороны.
– Я думал, вы живете главным образом на доход с пансиона.
– Это отчасти верно. Но уничтожить таким образом мой лирический эффект тоже не очень деликатно.
– Значит, ты ни во что больше не веришь? – печально спросил Оливье, потому что он любил Армана и страдал от его выходок.
– «Jubes renovare dolorem»[35]… Ты, по-видимому, забыл, дорогой мой, что мои родители собирались сделать меня пастором. Меня подогревали с этой целью, пичкали благочестивыми наставлениями, желая добиться своего рода расширения веры, если можно так выразиться… Пришлось, конечно, признать, что у меня нет призвания. Жаль. Я мог бы стать превосходным проповедником. Но мое призвание – писать «Ночной сосуд».
– Бедняга, если бы ты знал, как мне жаль тебя!
– Ты всегда был то, что мой отец называет «золотое сердце»… которым я не хочу больше злоупотреблять.
Он взял шляпу и уже подходил к двери, как вдруг обернулся:
– Почему же ты не спрашиваешь меня о Саре?
– Потому, что ты не сообщишь мне ничего, что не было бы мне уже известно от Бернара.
– Он сказал тебе, что покинул пансион?
– Он сказал, что твоя сестра Рашель предложила ему уехать.
Одна рука Армана лежала на ручке двери; в другой была палка, которой он поддерживал приподнятую портьеру.
– Объясняй это, как тебе будет угодно, – сказал он, и лицо его приняло очень серьезное выражение. – Рашель, мне кажется, единственный человек на этом свете, кого я люблю и уважаю. Я уважаю ее за то, что она добродетельна. И я всегда веду себя так, что оскорбляю ее добродетель. Что же касается отношений Бернара и Сары, то у нее не было никаких подозрений. Это я рассказал ей все… зная, что окулист рекомендует ей не плакать! Вот какой я паяц.
– Что ж, можно считать, что сейчас ты искренен?
– Да, я думаю, что самое искреннее во мне – это отвращение, ненависть ко всему, что называется Добродетелью. Не старайся понять. Ты не знаешь, что может сделать из нас пуританское воспитание. Оно оставляет в нашем сердце такое озлобление, от которого никогда уже нельзя излечиться… если судить по мне, – закончил он с горькой усмешкой. – Кстати, скажи мне, пожалуйста, что у меня такое здесь?
Он положил шляпу на стул и подошел к окну.
– Взгляни-ка, на губе, внутри.
Он наклонился к Оливье и приподнял пальцем губу.
– Я ничего не вижу.
– Вот здесь, в углу.
Оливье действительно различил на внутренней стороне губы беловатое пятнышко. Оно внушило ему беспокойство.
– Это чирей, – сказал он, чтобы успокоить Армана.
Тот пожал плечами:
– Не говори, пожалуйста, глупостей, серьезный мужчина. Чирей мягкий и быстро проходит. Мой же прыщ твердый и с каждой неделей увеличивается. Кроме того, от него у меня дурной привкус во рту.
– Давно это у тебя?
– Уже больше месяца, как я заметил. Но, как говорят в «шедеврах»: источник моей болезни глубже.
– Но, друг мой, если тебя тревожит прыщ, то нужно обратиться к доктору.
– Неужели ты думаешь, я ждал твоего совета?
– Что же сказал доктор?
– Я не дожидался твоего совета, чтобы сказать себе, что я должен показаться доктору. Но я все же не пошел к нему, потому что если прыщ окажется тем, что я предполагаю, то я предпочитаю не знать.
– Это глупо.
– Не правда ли, ужасно глупо! И все-таки понятно с человеческой точки зрения, слишком понятно…
– Я хочу сказать, глупо не лечиться.
– И иметь возможность сказать себе, когда начинаешь лечиться: «Слишком поздно!» Это то, что так хорошо выражено Коб-Лафлером в одном стихотворении, которое ты скоро прочтешь:
Что сомневаться в несомненном: Ведь сплошь да рядом в мире тленном Танцуют раньше, чем сыграть.– Всякую тему можно сделать предметом литературных экзерсисов.
– Ты правильно сказал – «всякую тему». Но, старина, это не так-то легко. Ну, до свидания… Да, вот что я хотел еще сказать тебе: я получил письмо от Александра… ты его знаешь, это мой старший брат, который удрал в Африку, где начал свою деятельность неудачной торговлей и растратой всех денег, посланных ему Рашелью. Теперь он перенес свои операции на берега Казамансы. Он пишет мне, что торговля его процветает и скоро он даже возвратит весь свой долг.
– Торговля чем?
– Почем я знаю? Каучуком, слоновой костью, неграми, может быть, словом, всякими пустяками… Он предлагает мне приехать к нему.
– Ты поехал бы?
– Хоть завтра, если бы скоро не наступал срок моего призыва. Александр – человек шальной, вроде меня. Мне кажется, что я прекрасно ужился бы с ним… Хочешь почитать? Письмо при мне.
Он вытащил из кармана конверт, а из него несколько листочков; выбрал один и протянул Оливье:
– Все читать не стоит. Начни отсюда.
Оливье прочел:
«Уже две недели я живу в обществе странного субъекта, которого приютил в своей хижине. Должно быть, ему ударило в голову солнце этих стран. Сначала я принял за бред то, что, вне всякого сомнения, является безумием. Этот странный молодой человек – тип лет тридцати, высокий и сильный, довольно красивый и, наверное, из «хорошей семьи», как обыкновенно говорят, если судить по его манерам, языку и рукам, слишком изящным для того, чтобы предположить, что они занимались когда-нибудь черной работой, – считает себя одержимым дьяволом; или, вернее, он считает себя самим дьяволом, если я правильно понимаю то, что он говорит. С ним, вероятно, приключилось что-то тяжелое, так как во сне и в состоянии полусна, в которое он часто впадает (и тогда он разговаривает сам с собой, не замечая моего присутствия), он не переставая говорит об отсеченных руках. Так как в этих случаях он сильно жестикулирует и страшно вращает глазами, то я предусмотрительно убрал подальше от него всякое оружие. В остальное время это славный парень, очень приятный собеседник, – что, понятно, я очень ценю после долгих месяцев одиночества, – деятельно помогающий мне в моих хлопотах. Он никогда не говорит о своей прошлой жизни, так что мне не удается открыть, кто он, собственно, такой. Особенно большой интерес он проявляет к насекомым и растениям, и некоторые его замечания свидетельствуют о его обширных познаниях в этой области. По-видимому, он чувствует себя у меня очень хорошо и не собирается уезжать; я решил позволить ему оставаться здесь, сколько ему будет угодно. Как раз в последнее время мне нужен был помощник, так что, в общем, он явился очень кстати.
Уродливый негр, прибывший вместе с ним по Казамансе, говорит о какой-то женщине, которая сопровождала их и, если я правильно его понял, утонула, когда их лодка однажды опрокинулась. Я не удивился бы, если б узнал, что мой компаньон помог этому. В этой стране, когда мы хотим отделаться от кого-нибудь, в нашем распоряжении есть большой выбор средств, и никто никогда на этот счет не стесняется. Если когда-нибудь я узнаю больше подробностей, то напишу тебе или расскажу, когда ты приедешь ко мне. Да, я знаю… скоро тебе нужно будет отбывать воинскую повинность… Ну что ж! Я подожду. Но помни, что, если ты хочешь увидеться со мной, тебе нужно будет решиться приехать сюда. Что до меня, то мое желание вернуться все больше слабеет. Я веду здесь жизнь, которая мне нравится и подходит мне, как костюм, сшитый на заказ. Торговля моя процветает, и крахмальный воротничок кажется ошейником, который я никогда больше не буду в силах носить.
При сем прилагаю новый чек, который ты используешь, как тебе заблагорассудится. Прежний предназначался для Рашели. Сохрани этот для себя…»
– Остальное неинтересно, – сказал Арман.
Оливье возвратил письмо, не говоря ни слова. Ему не пришло в голову, что убийца, о котором здесь шла речь, был его брат. Винцент давно уже не подавал о себе вестей; родители считали, что он уехал в Америку. По правде говоря, Оливье мало интересовался им.
XVII
Борис узнал о смерти Брони только от госпожи Софроницкой, которая навестила пансион спустя месяц после похорон. Со времени печального письма своей подруги Борис не получал никаких известий. Однажды, находясь, по своему обыкновению, в гостиной госпожи Ведель в перерыве между занятиями, он увидел, что открывается дверь и входит госпожа Софроницкая; так как она была в глубоком трауре, то он понял все еще прежде, чем она заговорила. Они были одни в комнате. Софроницкая заключила Бориса в свои объятия, и оба они разрыдались. Софроницкая лишь повторяла: «Мой бедный мальчик… Мой бедный мальчик…», – словно один Борис нуждался в участии и словно позабыв свое материнское горе перед огромным горем этого мальчика.
Появилась госпожа Ведель, за которой послали, и Борис, еще весь сотрясаемый рыданиями, отошел в сторону, чтобы дать поговорить дамам. Ему хотелось, чтобы они не говорили о Броне. Госпожа Ведель, которая не была знакома с ней, говорила о ней так, словно та была обыкновенной девочкой. Самые вопросы, которые она задавала, казались Борису неделикатными благодаря их банальности. Ему хотелось, чтобы Софроницкая на них не отвечала, и он страдал, видя, как она выставляет напоказ свое горе. Свое собственное он запрятал глубоко в душе, как сокровище.
Конечно, это о нем думала Броня, когда спросила за несколько дней до смерти:
«Мама, я хотела бы столько знать… Скажи, что значит идиллия?»
Борис хотел, чтобы ему одному стали известны эти слова, пронзавшие сердце.
Госпожа Ведель предложила чай. На столе стояла чашка для Бориса, которую он наспех выпил, потому что перемена кончилась; затем попрощался с Софроницкой, и та на другой день уехала в Польшу, куда ее звали дела.
Весь мир показался ему пустыней. Мать была очень далека, всегда в отлучках, дедушка слишком стар; подле него не было больше даже Бернара, в присутствии которого он чувствовал себя увереннее. Только нежная душа испытывает потребность в существе, которому она могла бы принести в дар свои благородство и чистоту. Борис не был настолько горд, чтобы любоваться этими своими душевными качествами. Он слишком сильно любил Броню, чтобы иметь надежду вновь найти когда-нибудь тот повод для любви, который он терял вместе с ней. Как теперь, без нее, верить в ангелов, которых он желал видеть? Теперь его небо опустело.
Борис возвратился в классную комнату с таким чувством, с каким он спустился бы в ад. Несомненно, он мог бы сделаться другом Гонтрана де Пассавана; это славный мальчик, и они ровесники, но ничто не способно отвлечь Гонтрана от занятий. Филипп Адаманти тоже не злой мальчик; он не желал бы ничего лучшего, как только привязаться к Борису; но он до такой степени подпал под влияние Гериданизоля, что не решается больше испытывать ни единого личного чувства; едва Гериданизоль ускоряет шаг, как он уже стремится идти с ним в ногу; между тем Гериданизоль терпеть не может Бориса. Его музыкальный голос, его грация, девичья наружность – все в нем раздражает, бесит Гериданизоля. Кажется, будто при виде Бориса он испытывает то инстинктивное отвращение, которое в стаде натравляет сильного на слабого. Может быть, он наслушался наставлений своего кузена, и его ненависть является немного надуманной, потому что в его глазах она приобретает характер осуждения. Он находит основания радоваться своей ненависти. Он отлично понял, насколько Борис чувствителен к презрению, с которым он к нему относится, это забавляет, и он притворяется, будто у него существует сговор с Жоржем и Фифи; его единственная цель – видеть, как Борис тоскливо вопрошающе на него смотрит.
– Как он, однако, любопытен, – говорит тогда Жорж. – Можно сказать ему?
– Не стоит. Он не поймет.
«Он не поймет». «Он не посмеет». «Он не сумеет». То и дело ему бросают в лицо такие упреки. Он ужасно страдает от того, что его не допускают в компанию. Он действительно не понимает толком данного ему оскорбительного определения: «Не способен»; или же приходит в негодование от его смысла. Чего только не дал бы он за возможность доказать, что он вовсе не такое ничтожество, как они думают!
– Терпеть не могу Бориса, – сказал Гериданизоль Струвилу. – Почему ты просил меня оставить его в покое? Он вовсе не хочет, чтобы его оставляли в покое. Вечно посматривает в мою сторону… Недавно он очень развеселил всех нас, так как думал, что «баба с волосиками» означает «бородатая женщина». Жорж стал над ним потешаться. Когда Борис понял свою ошибку, мне показалось, что он расплачется.
Затем Гериданизоль забросал вопросами своего кузена; в заключение тот вручил ему «талисман» Бориса и рассказал, как им пользоваться.
Через несколько дней Борис, войдя в классную комнату, нашел на своей парте бумажку, о существовании которой стал уже забывать. Он выбросил ее из своей памяти вместе со всем тем, что касалось пресловутой «магии» лет, проведенных им в варшавской гимназии; теперь он стыдился всего этого. Сначала он не узнал бумажки, потому что Гериданизоль позаботился окружить магическую формулу
Газ. Телефон. Сто тысяч рублей
двухцветной – черной и красной – широкой рамкой, которую размалевал непристойными чертенятами, мастерски нарисованными. Все это придавало бумажке какой-то фантастический, таинственно-зловещий вид, который, по мнению Гериданизоля, способен был взволновать Бориса. Может быть, все это было простой шуткой, но успех ее превзошел все ожидания. Борис сильно покраснел, не сказал ни слова, посмотрел по сторонам и не заметил Гериданизоля, который, спрятавшись за дверью, наблюдал за ним. Борис не мог сообразить, каким образом талисман очутился здесь; казалось, он упал с неба или, вернее, выскочил из преисподней. Борис, конечно, был теперь в возрасте, когда мальчики презрительно пожимают плечами перед такого рода ребяческой чертовщиной, но она разбудила в нем воспоминания о мрачном прошлом. Борис взял талисман и сунул его в карман куртки. Весь остаток дня его неотступно преследовало воспоминание о занятиях «магией». До вечера он боролся с темным искушением, но так как ничто больше не поддерживало его в этой борьбе, то, оставшись один в своей комнате, он не устоял.
Ему казалось, что он губит себя, совсем удаляется от Брони, но он находил удовольствие в этом, сама его гибель доставляла ему наслаждение.
И однако, несмотря на свое отчаяние, он хранил в глубине души такие запасы нежности, испытывал столь острое страдание от подчеркнуто пренебрежительного отношения к нему товарищей, что решился бы на самый рискованный и нелепый поступок, лишь бы приобрести их уважение.
Случай скоро представился.
После вынужденного отказа от сбыта фальшивых монет Гериданизоль, Жорж и Фифи недолго оставались праздными. Мелкие каверзные проделки, которыми они занялись в первые дни, были лишь интермедией. Воображение Гериданизоля снабдило их вскоре гораздо более пряным блюдом.
Единственной целью, что первоначально ставили себе члены «Братства сильных людей», было удовольствие держаться в стороне от Бориса. Но очень скоро Гериданизолю показалось, что будет, напротив, гораздо пикантнее допустить его в их число; это позволит им заставить его взять на себя такие обязательства, при помощи которых можно будет впоследствии довести его до какого-нибудь гнусного поступка. С того момента эта идея прочно засела в Гери; и, как часто случается в такого рода затеях, Гериданизоль куда меньше думал о самом существе дела, чем о способах обеспечить его успех; это кажется мелочью, но такая мелочь объясняет немало преступлений. Вдобавок Гериданизоль был жесток; но он ощущал потребность скрывать эту жестокость, по крайней мере от взоров Фифи. Фифи, напротив, был вовсе чужд жестокости; до последней минуты он пребывал в убеждении, что дело идет о простой шутке.
Всякое братство нуждается в девизе. Гериданизоль, у которого была своя мысль, предложил: «Сильный человек не дорожит жизнью». Девиз был принят и приписан Цицерону. В качестве отличительного знака Жорж предложил татуировку на правой руке; но Фифи, боявшийся боли, стал утверждать, что татуировкой занимаются только матросы. Гериданизоль поддержал его, возразив Жоржу, что татуировка оставляет неизгладимый след, который потом может причинить им неприятности. В конце концов, отличительный знак не является такой настоятельной необходимостью; членам братства достаточно будет дать торжественную клятву.
Когда дело касалось сбыта фальшивых монет, возникла мысль о залогах, и в качестве такого залога Жорж представил письма своего отца. Вскоре, однако, об этом забыли. Дети, к счастью, не отличаются большим постоянством. В результате не было принято почти никаких решений ни по части «условий приема в братство», ни по части «требуемых качеств». На кой черт, раз считалось само собой разумеющимся, что трое были «настоящими членами», а Борис – «не в счет». Напротив, было постановлено, что «кто струсит, тот будет считаться предателем, навсегда выброшенным из братства». Гериданизоль, задавшийся целью привлечь в братство Бориса, особенно настаивал на этом пункте.
Нужно признать, что без Бориса игра была бы довольно скучной и доблести братства не находили применения. Для завлечения мальчика Жорж обладал более подходящими качествами, чем Гериданизоль; этот последний легко мог возбудить его недоверие; что касается Фифи, тот не отличался достаточной ловкостью и предпочитал не срамиться.
Самым чудовищным в этой отвратительной истории мне представляется, пожалуй, комедия дружбы, которую согласился разыграть Жорж. Он притворился, будто вдруг охвачен порывом нежной симпатии к Борису; до тех пор казалось, что он вовсе даже и не смотрел на него. И я склонен думать, уж не был ли он сам обманут своей игрой, не был ли он близок к тому, чтобы его притворные чувства обратились в искренние, и даже не стали ли они действительно таковыми с мгновения, когда Борис ответил на них.
Он обращался к Борису с видом нежного участия; наученный Гериданизолем, подолгу говорил с ним… И после первых же его слов Борис, который так жаждал хотя бы капли уважения и любви, был покорен.
Тогда Гериданизоль выработал план действий и посвятил в него Фифи и Жоржа. План этот сводился к тому, чтобы придумать «испытание», которому должен будет подвергнуться тот из членов братства, кто вытянет брошенный жребий; чтобы успокоить Фифи, он дал понять, что все будет устроено таким образом, что жребий может выпасть только Борису. Испытание должно будет иметь целью удостовериться в его бесстрашии.
В чем именно будет заключаться это испытание, Гериданизоль пока не сообщал. Он подозревал некоторое противодействие со стороны Фифи.
– Ах, только не это! Я не согласен, – действительно заявил Фифи, когда немного позже Гериданизоль стал намекать, что здесь мог бы найти отличное применение пистолет папаши Лапера.
– Какой же ты, однако, дурак! Ведь мы хотим только посмеяться над ним, – возразил Жорж, уже пришедший в восторг от этой идеи.
– Кроме того, – прибавил Гери, – если тебе доставляет удовольствие валять дурака, заяви об этом откровенно. Никто в тебе не нуждается.
Гериданизоль знал, что этот аргумент всегда оказывает действие на Фифи; так как им был уже заготовлен листок с обязательствами, который должен был подписать каждый из членов братства, то он сказал:
– Нужно только заявить об этом сразу, потому что, когда подпишешься, будет слишком поздно.
– Ну, не сердись, – ответил Фифи. – Дай мне листок. – И подписался.
– Я, милый, очень хотел бы, – говорил Жорж, нежно обвив шею Бориса, – но Гериданизоль не хочет принимать тебя в братство.
– Почему?
– Потому, что не доверяет. Говорит, что ты сдрейфишь.
– Почему он знает?
– Говорит, что сбежишь после первого испытания.
– Посмотрим.
– Правда, что ты решишься тянуть жребий?
– Черт возьми!
– Но ты знаешь, к чему это обязывает?
Борис не знал, но хотел знать. Тогда Жорж объяснил ему: «Сильный человек не дорожит жизнью». Предстоит в этом убедиться.
Борис почувствовал, что голова у него пошла кругом. Но он поборол себя и спросил, скрывая волнение:
– Правда, что вы все подписались?
– На, смотри. – И Жорж протянул ему листок, на котором Борис мог прочесть все три фамилии.
– Ну а… – начал было он робко.
– Ну а… что? – перебил Жорж так грубо, что Борис не осмелился продолжать. Жорж отлично понимал, о чем он хотел спросить его: дали ли подобное обязательство также и другие и можно ли быть уверенным, что и они не сдрейфят?
– Нет, ничего, – сказал он; но с этой минуты в него закралось сомнение относительно других; он начал подозревать, что другие что-то замышляют и игра нечиста. «Ну и пусть, – тотчас же подумал он, – какое мне дело до того, что они плутуют; я докажу, что храбрее их всех». Затем, глядя Жоржу прямо в глаза: – Скажи Гери, что он может на меня положиться.
– Значит, подписываешься?
О, в этом не было больше необходимости; он ведь дал слово. Он сказал просто:
– Если тебе угодно. – И под подписью троих «сильных людей» вывел на злополучном листке размашистым четким почерком свою фамилию.
Жорж с торжеством принес листок приятелям. Все согласились, что Борис совершил очень смелый поступок, и стали обсуждать подробности выполнения плана.
Конечно, пистолет не будет заряжен! К тому же у них не было патронов. Страх Фифи объяснялся тем, что он слышал как-то, что смерть иногда может последовать от очень сильного волнения. Его отец, утверждал он, приводил случай одной инсценировки казни, которая… Но Жорж послал его к черту:
– Твой отец южанин.
Нет, Гериданизоль не станет заряжать пистолет. В этом не было надобности. Патрон, который однажды вложил в него Лаперуз, не был вынут. Факт этот был обнаружен Гериданизолем, но он не счел нужным сообщать о нем приятелям.
Четыре одинаковые бумажки с фамилиями были опущены в шапку. Гериданизоль, который должен был «тянуть», позаботился о том, чтобы написать фамилию Бориса и на пятой бумажке, зажатой у него в кулаке; и вот «случайно» была вытянута именно эта бумажка. Борис сильно подозревал, что тут было плутовство, но смолчал. К чему было протестовать? Он знал, что погиб. Он не сделал ни малейшего движения в свою защиту; и, если бы даже жребий выпал кому-нибудь другому, он готов был заменить его, настолько сильна была в нем решимость отчаяния.
– Бедняжка, тебе не везет, – счел своим долгом заметить Жорж. Но тон его голоса звучал так фальшиво, что Борис печально посмотрел на него.
– Я был уверен в этом, – сказал он.
После этого решено было приступить к репетиции. Но так как существовала опасность быть застигнутыми, то условились, что пистолетом сейчас пользоваться не будут. Его похитят из ящика в самый последний момент, когда начнется «настоящая игра». Не нужно навлекать на себя подозрений.
Итак, в тот день договорились лишь относительно времени и места, причем последнее отметили мелом на полу. Оно находилось в классной комнате, направо от кафедры, в нише, образованной заколоченной дверью, выходившей под свод подъезда. Что касается времени, то был избран час занятий. Это должно будет произойти на глазах у всех учеников: мы им утрем нос!
Репетиция была проделана в пустой комнате в присутствии троих заговорщиков. В общем, однако, она не имела большого смысла. Просто констатировали, что от места, занимаемого Борисом, до намеченного мелом пункта было ровно двенадцать шагов.
– Если ты не струсишь, то не сделаешь ни шагу больше, – сказал Жорж.
– Я не струшу, – заявил Борис, оскорбленный этим упорным сомнением. Его твердость начала производить впечатление на «сильных людей». Фифи считал, что на этом следует остановиться. Но Гериданизоль обнаруживал решимость довести затею до конца.
– Ладно, до завтра, – сказал он, странно улыбнувшись уголком рта.
– Давайте расцелуем его! – вскричал с энтузиазмом Фифи. Он вспомнил об обряде посвящения в рыцари и вдруг заключил Бориса в объятия. Борису с большим трудом удалось сдержать слезы, когда Фифи запечатлел на его щеках два звучных детских поцелуя. Ни Жорж, ни Гери не последовали его примеру; жест Фифи показался Жоржу не вполне достойным. Что же касается Гери, то он только презрительно пожал плечами…
XVIII
На другой день, вечером, звонок собрал пансионеров в классной комнате.
Борис, Гериданизоль, Жорж и Фифи сидели на одной скамейке. Гериданизоль вынул часы и положил их между собой и Борисом. Часы показывали тридцать пять минут шестого. Занятия начались в пять часов и должны были продолжаться до шести. Было условлено, что Борис должен все покончить без пяти шесть, как раз перед уходом учеников; так было лучше: можно было сейчас же улизнуть. Вынув часы, Гериданизоль сказал Борису вполголоса и не глядя на него, что, по его мнению, сообщало его словам большую фатальность:
– Ну, старина, тебе осталось всего четверть часа.
Борис вспомнил, как в одном недавно прочитанном им романе бандиты, перед тем как убить женщину, предложили ей помолиться, желая дать ей понять, что она должна приготовиться к смерти. Подобно иностранцу, приводящему в порядок свои бумаги на границе страны, которую он должен покинуть, Борис стал искать в своем сердце и в голове молитвы, но не нашел ничего; он, однако, так устал и в то же время был в таком напряженном состоянии, что не испытал от этого большого огорчения. Он попытался собрать свои мысли, но не мог думать ни о чем. Пистолет оттягивал ему карман; не нужно было ощупывать рукой, чтобы почувствовать его.
– Только десять минут.
Жорж, сидевший слева от Гериданизоля, искоса наблюдал сцену, но делал вид, что не обращает на нее внимания. Он лихорадочно занимался. Никогда в классной комнате не царило такое спокойствие. Лаперуз не узнавал своих сорванцов и в первый раз вздохнул свободно. Фифи, однако, спокоен не был: Гериданизоль внушал ему страх; он не был вполне уверен, что затея кончится благополучно; сердце его замирало, так что он чувствовал боль в груди и по временам испускал глубокие вздохи. В заключение он не выдержал и вырвал листок из лежавшей перед ним тетрадки по истории, – он должен был готовиться к экзамену, но строчки прыгали перед глазами, факты и даты путались в голове, – и торопливо написал: «Ты хотя бы уверен, что пистолет не заряжен?» – затем протянул записку Жоржу, который передал ее Гери. Однако последний, прочтя ее, только пожал плечами, даже не взглянув на Фифи, потом скомкал и бросил щелчком как раз на место, обведенное мелом. После этого, довольный тем, что так ловко попал в цель, улыбнулся. Эта вымученная улыбка так и осталась у него до самого конца сцены; она, казалось, застыла на его лице.
– Еще пять минут.
Это было сказано почти вслух. Даже Филипп услышал. Сердце у него нестерпимо сжалось, и, хотя занятия должны были сейчас окончиться, он притворился, будто ощущает настоятельную потребность выйти, а может быть, и действительно почувствовал позывы; он поднял руку и щелкнул пальцами, как это обыкновенно делали ученики, испрашивая у учителя разрешения выйти; затем, не дожидаясь ответа Лаперуза, сорвался со скамейки. Чтобы достигнуть двери, он должен был пройти мимо кафедры; он почти бежал, шатаясь.
Почти сразу же после ухода Филиппа поднялся со скамейки Борис. Гонтран Пассаван, прилежно занимавшийся на следующей скамейке, поднял глаза. Он рассказывал потом Серафине, что Борис был «ужасно бледен»; но так всегда говорят в подобных случаях. К тому же он тотчас же перестал смотреть на Бориса и снова погрузился в занятия. Он сильно упрекал себя за это впоследствии. Если бы он мог предвидеть, что произойдет, он, наверное, помешал бы, со слезами говорил он потом. Но он ничего не подозревал.
Между тем Борис дошел до намеченного мелом места. Он двигался медленно, как автомат, неподвижно устремив взор в одну точку: был похож на сомнамбулу. Правой рукой он схватил пистолет, но держал его в кармане куртки; он вытащил его в самый последний момент. Фатальное место находилось, как я уже сказал, у самой заколоченной двери, которая образовывала направо от кафедры своего рода нишу, так что учитель мог увидеть происходящее там, лишь наклонившись с кафедры.
Лаперуз наклонился. Сначала он не понял, что делает его внук, хотя странная торжественность его жестов способна была внушить беспокойство. Он начал было как можно громче и стараясь придать тону своего голоса властность:
– Мсье Борис, прошу вас немедленно сесть на ваше…
И вдруг он увидел пистолет: Борис в эту секунду приставил его к виску. Лаперуз понял и мгновенно похолодел, словно кровь застыла у него в жилах. Он хотел встать, подбежать к Борису, удержать его, закричать… Что-то вроде глухого хрипа вырвалось у него; он остался стоять неподвижно, парализованный, сотрясаемый мелкой дрожью.
Грянул выстрел. Борис не сразу рухнул на пол. Одно мгновение тело его держалось, словно пригвожденное к нише; затем голова, упав на плечо, нарушила равновесие; труп тяжело опустился.
На полицейском дознании, имевшем место вскоре после происшествия, все были поражены тем, что подле Бориса – я хочу сказать, подле места, где он упал, так как почти тотчас же труп был перенесен на постель, – не нашли пистолета. В суматохе, последовавшей после выстрела, Гериданизоль остался сидеть на месте, между тем как Жорж, перепрыгнув через скамейку, успел незаметно подобрать оружие: сначала он отшвырнул пистолет ногою и, когда все устремились к Борису, проворно схватил его, спрятал под курткой, затем украдкой передал Гериданизолю. Внимание присутствующих было настолько поглощено Борисом, что никто и не заметил, как Гериданизоль сбегал в комнату Лаперуза и положил пистолет на то место, откуда он его взял. Когда во время обыска полиция нашла пистолет в ящике, то могло бы даже возникнуть сомнение, что его брали оттуда и что Борис пользовался им, если бы Гериданизоль позаботился вынуть гильзу. Он, несомненно, совсем растерялся. Кратковременное помрачение, в котором он впоследствии упрекал себя. Увы, гораздо больше, чем раскаивался в совершенном преступлении. Между тем как раз это самое помрачение его спасло. Ибо, когда он снова спустился вниз, чтобы присоединиться к другим, то вид трупа Бориса, который в это время выносили из классной комнаты, вызвал у него сильную судорогу, настоящий нервный припадок, в котором госпожа Ведель и Рашель, прибежавшие на шум, усмотрели свидетельство крайнего волнения. В существе столь еще юном мы готовы предположить все, что угодно, только не бесчеловечность; поэтому когда Гериданизоль стал уверять, будто он невиновен, ему поверили. Переданная ему Жоржем записочка от Фифи, которую он отшвырнул щелчком и которую потом нашли под скамейкой, – эта маленькая скомканная бумажка послужила ему на пользу. Конечно, он был виновен – наравне с Жоржем и Фифи – в том, что принял участие в жестокой шутке; но он утверждал, что не согласился бы принять в ней участия, если бы знал, что пистолет заряжен. Один Жорж остался убежден, что вся ответственность за преступление падает на него.
Жорж не был настолько испорчен, чтобы его восхищение Гериданизолем не сменилось отвращением. Когда в тот вечер он вернулся к родителям, он бросился в объятия матери, и Полина была горячо признательна судьбе, которая с помощью этой страшной драмы возвратила ей сына.
Дневник Эдуарда
Не притязая давать фактам исчерпывающее объяснение, я все же не хотел бы приводить их без достаточной мотивировки. Вот почему я не воспользуюсь для моих «Фальшивомонетчиков» самоубийством Бориса; мне стоит большого труда понять его. Кроме того, я не люблю фактов из газетной рубрики «Происшествия». В них есть что-то непоправимое, непререкаемое, грубое, оскорбительно реальное… Я согласен, чтобы реальность подтверждала мою мысль, доказывала ее, но я решительно не допускаю, чтобы она ей предшествовала. Я не люблю быть захваченным врасплох. Самоубийство Бориса кажется мне прямо-таки неприличным, потому что оно явилось для меня неожиданностью.
В каждом самоубийстве всегда есть какой-то элемент малодушия вопреки убеждению Лаперуза, который, несомненно, считает, что его внук обладал большим мужеством, чем он. Если бы этот мальчик мог предвидеть беды, которые его роковой жест накликал на семейство Веделей, то ему нельзя было бы найти оправдания. Азаису пришлось распустить пансион – на короткое время, говорит он, но Рашель боится, что дело кончится крахом. Четыре семьи уже забрали своих детей. Мне не удалось отговорить Полину взять домой Жоржа, тем более что этот мальчик, глубоко потрясенный смертью товарища, как будто намерен исправиться. Сколько откликов вызывает это прискорбное событие! Даже Оливье очень взволнован. Несмотря на свой напускной цинизм, Арман тоже озабочен разорением, которое грозит его семье, и предлагает отдавать пансиону свободное время, которое, наверное, согласится предоставить ему Пассаван, ибо старик Лаперуз стал явно не пригодным для исполнения возложенных на него обязанностей.
Я боялся навестить его. Он принял меня в своей маленькой комнате, на третьем этаже пансиона. Едва я вошел, он взял меня под руку и сказал с таинственным видом, почти улыбаясь, что очень изумило меня, так как я ожидал увидеть его в слезах.
– Шум, помните?.. Шум, о котором я давеча говорил вам…
– Ну?
– Прекратился. С ним покончено. Я больше его не слышу. Напрасно я напрягаю все свое внимание…
Я ответил ему тоном, каким взрослые говорят с детьми, когда хотят подстроиться к затеянным ими играм:
– Держу пари, что теперь вы жалеете о том, что больше не слышите его.
– О нет, нет!.. Теперь наступило такое спокойствие! Я чувствую такую потребность в тишине… Знаете, о чем я думал? О том, что в течение этой жизни мы не можем постичь по-настоящему, что такое тишина. Даже наша кровь производит в нас непрерывный шум; мы не различаем его, потому что с детства к нему привыкли… Но, мне кажется, есть вещи, есть гармонии, которые нам не удается слышать в течение нашей жизни… оттого, что их заглушает этот шум. Да, мне кажется, что лишь после нашей смерти мы будем в состоянии слышать по-настоящему.
– Вы мне говорили, что не верите…
– В бессмертие души? Я говорил вам это?.. Да, вы, вероятно, правы. Но я, понимаете ли, не верю также и в обратное.
И, видя, что я молчу, он, качая головой, продолжал наставительным тоном:
– Заметили ли вы, что в этом мире Бог всегда молчит? Говорит только дьявол. Или, по крайней мере… как мы ни напрягаем наше внимание, нам удается услышать только дьявола. У нас нет ушей, чтобы воспринять голос Бога. Слово Бога! Задавались вы когда-нибудь вопросом, чем оно может быть?.. О, я не говорю вам о тех словах, которые переведены на человеческий язык… Помните, на первой странице одного из Евангелий сказано: «В начале было слово». Я часто думал, что слово Бога и было самим творением. Но дьявол завладел им. Производимый им шум заглушает теперь голос Бога. Скажите мне, пожалуйста: как, по-вашему, останется все же за Богом последнее слово?.. И если времени после смерти не существует, если мы сразу вступаем в вечность, то не кажется ли вам, что тогда мы будем в состоянии слышать Бога… прямо?
Охваченный каким-то исступлением, он затрясся всем телом, готовый, казалось, забиться в эпилептическом припадке; вдруг рыдания стали душить его:
– Нет! Нет! – глухо восклицал он. – Дьявол с Богом заодно, они действуют сообща. Мы стараемся убедить себя, будто все зло, существующее на земле, идет от дьявола, но это объясняется тем, что иначе мы не нашли бы в себе сил простить Богу. Он играет с нами, как кошка с мышью, которую она мучит… И после этого он еще требует от нас быть признательными ему. Признательными за что? за что?..
Затем, наклонившись ко мне:
– Знаете, что самое ужасное из всего сделанного им?.. Принести в жертву собственного сына для нашего спасения. Собственного сына! Собственного сына!.. Жестокость – вот первое из свойств Бога.
Он бросился на кровать и повернулся лицом к стене. Еще несколько мгновений его корчила судорога, затем он как будто забылся, и я покинул его.
Он не сказал мне ни слова о Борисе; но мне показалось, что в этом бездонном отчаянии следует видеть косвенное выражение его горя, слишком огромного, чтобы у него хватило сил смотреть на него в упор.
Я узнал от Оливье, что Бернар возвратился к отцу; право, это лучшее, что он мог сделать. Узнав от Калу, с которым случайно тот встретился, что здоровье старого следователя неважно, Бернар послушался голоса собственного сердца. Мы должны увидеться завтра вечером, так как Профитандье пригласил меня на обед вместе с Молинье, Полиной и двумя мальчиками. Мне очень любопытно познакомиться с Калу.
8. VI.1925 г.
Примечания
1
Позвольте? (ит.)
(обратно)2
Обманных шкатулок (нем.).
(обратно)3
В общих чертах (лат.).
(обратно)4
На крупе лошади (англ.).
(обратно)5
Здесь начинается книга новой жизни и высочайшей доблести (ит.).
(обратно)6
Столько, сколько отрежется. Боккаччо (ит.).
(обратно)7
Прежде всего надо узнать, кто это (ит.).
(обратно)8
Но кто знает, жив ли он? (ит.)
(обратно)9
Теперь дело другое, к этому надо привыкнуть (ит.).
(обратно)10
Пора спускать корабль на воду (англ.).
(обратно)11
Compte rendu de la Delivrance de Sa Saintete Leon XIII emprisonne dans les cahots du Vatican (Saint-Malo, imprimerie Y. Billois, rue de l’Orme, 4), 1893 <Отчет об освобождении его святейшества Льва XIII из заключения в казематах Ватикана. Сен-Мало, типография И. Биллуа, улица Вязов, 4. 1893>. – Примеч. авт.
(обратно)12
«Пластический римский картон, – гласит каталог, – изобретен не так давно; изготовляется особым способом, секрет которого сохраняет фирма «Блафаффас, Лилиссуар и Левикуан», и великолепно заменяет картон под камень, папье-маше и другие аналогичные составы, несовершенство которых уже вполне доказано опытом». (Следует описание разновидностей продукта.) – Примеч. авт.
(обратно)13
Ничего! ничего! (ит.)
(обратно)14
Ступайте! Ступайте! (ит.)
(обратно)15
Это совершил тот, кому выгодно (лат.).
(обратно)16
– Есть только одно средство! Только одно может исцелить нас: перестать быть собой!
– Да, строго говоря, вопрос не в том, как излечиться, а в том, как жить (англ.).
(обратно)17
Сынок, миленький! (ит.)
(обратно)18
Два ястреба в небе, две рыбы в волнах не так беззаконны, как мы… (У. Уитмен. «Запружены реки мои…». Пер. К. Чуковского.)
(обратно)19
Сердце болит; оцепененьем дремы
Томятся чувства…
Дж. Китс. Ода соловью
(обратно)20
Оливье подразумевает, вероятно, стихотворение Шарля Бодлера. – Примеч. пер.
(обратно)21
О! Я понимаю… (англ.)
(обратно)22
Эдуард имеет в виду известную теорию Стендаля, изложенную в книге «О любви». – Примеч. пер.
(обратно)23
Непереводимая игра слов: dessale означает «опресненный», а также «пройдоха», «плут» и т. д.
(обратно)24
Беззаконным; здесь: свободным от жанровых правил (англ.).
(обратно)25
Изгоя (англ.).
(обратно)26
Как принято; аристократически; изысканно (фр.).
(обратно)27
До ленча (англ.).
(обратно)28
«Ничего слишком» (лат.).
(обратно)29
Перевод этих стихов Лафонтена, заимствованных из «Послания мадам де ла Саблиер», принадлежит В. Левику. Содержащийся в нем намек на Платона касается следующего места из диалога «Ион»: «Подобно корибантам, пляшущим в исступлении, подлинные песнотворцы не в здравом уме творят свои прекрасные песни, но войдя в действие гармонии и ритма и ставши вакхантами и одержимыми; как вакханки черпают из рек мед и молоко в состоянии одержимости, а находясь в здравом уме – нет, так бывает и с душой песнотворцев. Ведь говорят же нам поэты, что, летая как пчелы, они собирают свои песни у медовых источников в садах и рощах муз и приносят их нам; и правду говорят: ведь поэт – существо легкое, крылатое и священное, и творить он способен не прежде, чем станет вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка: пока же у человека есть это достояние, он не способен творить и вещать». – Примеч. пер.
(обратно)30
«Природа не совершает скачков» (лат.).
(обратно)31
Мой дорогой! (англ.)
(обратно)32
Основатель керамического производства во Франции. – Примеч. пер.
(обратно)33
Ex nuo disce omnes – по одному составить представление обо всех (лат.).
(обратно)34
«Человек справедливый и твердый в своих намерениях» (лат.). (Начало оды Горация.)
(обратно)35
«(Невыразимую) скорбь велишь обновить ты…» (лат.) – слова Энея Дидоне (Вергилий. Энеида).
(обратно)
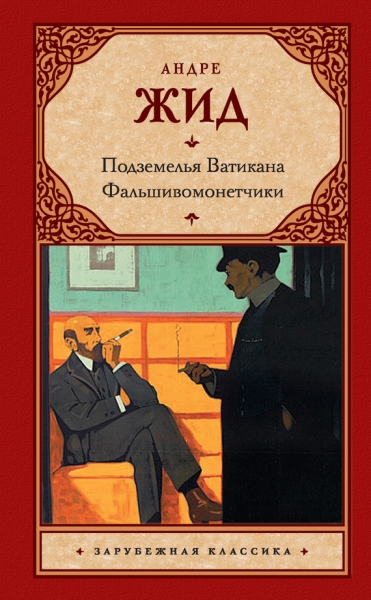

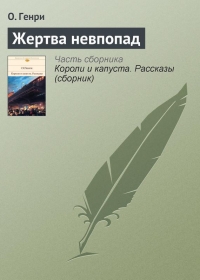


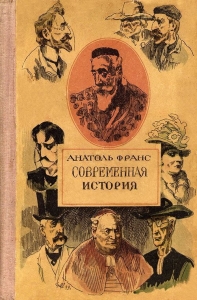
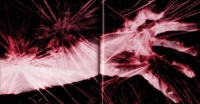

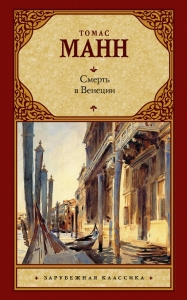
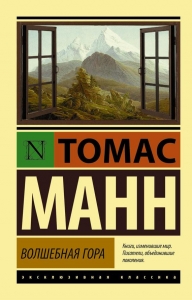
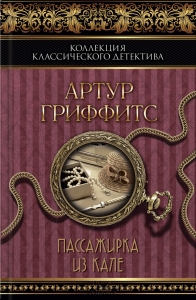
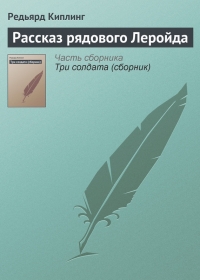

Комментарии к книге «Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики», Андре Жид
Всего 0 комментариев