Габриэль Гарсиа Маркес Вспоминая моих грустных шлюх
— Он не должен был позволять себе дурного вкуса, — сказала старику женщина с постоялого двора. — Не следовало вкладывать палец в рот спящей женщины или делать что-нибудь в этом же духе.
Ясунари Кавабата. «Дом спящих красавиц»I
В день, когда мне исполнилось девяносто лет, я решил сделать себе подарок — ночь сумасшедшей любви с юной девственницей. Я вспомнил про Росу Кабаркас, содержательницу подпольного дома свиданий, которая в былые дни, заполучив в руки «свеженькую» девочку, тотчас же оповещала об этом своих добрых клиентов. Я не соблазнялся на ее гнусные предложения, она же не верила в чистоту моих принципов. Мораль — дело времени, говаривала она со злорадной усмешкой, придет пора, сам убедишься. Роса была чуть моложе меня, и я много лет ничего о ней не слышал, так что вполне могло случиться, что она уже умерла. Но с первых же звуков я узнал ее голос в телефонной трубке и безо всяких предисловий выпалил:
— Сегодня — да.
Она вздохнула: ах, мой печальный мудрец, пропадаешь на двадцать лет и возвращаешься только за тем, чтобы попросить невозможное. Однако ее ремесло взяло верх, и она предложила мне на выбор полдюжины восхитительных вариантов, но, увы, — все бывшие в употреблении. Я стоял на своем, это должна быть девственница и именно на сегодняшнюю ночь. Роса встревоженно спросила: «А что ты собираешься испытать?» — «Ничего, — ответил я, раненый в самое больное, — я сам хорошо знаю, что могу и чего не могу». Она невозмутимо заметила, что мудрецы знают все, да не все: «Единственные Девы, которые остались на свете, это — вы, рожденные в августе под этим знаком. Почему ты не известил меня заранее?» — «Вдохновение не оповещает», — сказал я. «Но может и подождать», — парировала она, всегда знающая все лучше любого мужчины, и попросила: нельзя ли дать ей хотя бы дня два, чтобы хорошенько «прочесать» рынок. Я совершенно серьезно возразил ей, что в таких делах, как это, в моем возрасте каждый день равняется году. «Нельзя так нельзя, — сказала она без колебаний, — но ничего, так даже интереснее, черт возьми, я позвоню тебе через часик».
Я мог бы этого и не говорить, потому что и так за версту видно: я некрасив, робок и старомоден. Но, не желая быть таким, я стал притворяться, будто все как раз наоборот. До сегодняшнего рассвета, когда я решил, наконец, сказать сам себе, каков я есть, на самом деле, хотя бы для облегчения совести. И начал с необычного звонка Росе Кабаркас. Потому что, как я теперь понимаю, это было началом новой жизни. В том возрасте, когда большинство смертных, как правило, уже покойники.
***
Я живу в доме колониального стиля, на солнечной стороне парка Сан Николас, где и провел всю жизнь без женщины и без состояния; здесь жили и умерли мои родители, и здесь я решил умереть в одиночестве, на той же самой кровати, на которой родился, в день, который я хотел бы, чтобы пришел не скоро и без боли. Мой отец купил этот дом на распродаже, в конце XIX века, нижний этаж сдал под роскошную лавку консорциуму итальянцев, а второй этаж оставил для себя, чтобы жить там счастливо с дочерью одного из них, Флориной де Диос Каргамантос, прекрасно исполнявшей Моцарта, полиглоткой и гарибальдийкой. И к тому же самой красивой женщиной с потрясающим свойством, какого не было ни у кого во всем городе: она была моей матерью.
Дом просторный и светлый, с гипсовыми оштукатуренными арками, с полами флорентийской мозаики, набранными шахматным узором; четыре застекленные двери выходят на балкон, который опоясывает дом, куда моя мать мартовскими вечерами выходила со своими итальянскими кузинами петь любовные арии. С балкона виден парк Сан Николас, собор и статуя Христофора Колумба, еще дальше — винные подвалы на набережной, а за ними — широкий простор великой реки Магдалены, разлившейся в устье на двадцать лиг. Единственное неудобство в доме — солнце, которое в течение дня поочередно заглядывает во все окна, и приходится занавешивать их все, чтобы в сиесту попытаться заснуть в раскаленной полутьме. Когда в тридцать два года я остался один, то перебрался в комнату, которая была родительской спальней, открыл проходную дверь в библиотеку и начал распродавать все, что виделось мне лишним для моей жизни, и оказалось, что это почти все, за исключением книг и пианолы с валиками.
Сорок лет я занимался составлением новостей в «Диарио де-ла-Пас», работа заключалась в том, чтобы донести до местного населения мировые новости, которые мы перехватывали на лету в небесном пространстве на коротких волнах или по азбуке Морзе. Сегодня я скорее выживаю, чем живу на пенсию положенную мне за то, уже умершее, занятие; еще меньше средств мне дает преподавание латинской и испанской грамматики, почти совсем ничего — воскресные заметки, которые я строчу без устали вот уже более полувека, и совсем ничего — коротенькие заметочки о музыке и театре, которые я публикую задаром каждый раз, когда сюда приезжают знаменитые исполнители. Я никогда не занимался ничем другим, только писал, но у меня нет ни особых способностей, ни призвания к этому, я совершенно не знаю законов драматургической композиции и ввязался в это дело только лишь потому, что верю в силу знания, которое черпал из множества за жизнь прочитанных книг. Грубо говоря, я — последыш рода, без блеска и достоинств, которому нечего было бы оставить потомкам, если бы не то, что со мной случилось и о чем я рассказываю в этих воспоминаниях — о моей великой любви.
О своем дне рождения в день девяностолетия я вспомнил, как всегда, в пять утра. Единственным делом, которым мне предстояло заняться в этот день, была статья для воскресного номера «Диарио де-ла-Пас». Утренние симптомы были идеальны для того, чтобы не чувствовать себя счастливым: кости болели с самого рассвета, в заднем проходе жгло, да еще грохотал гром после трех месяцев засухи. Я помылся, пока готовился кофе, потом выпил чашку кофе, подслащенного пчелиным медом, перекусил двумя лепешками из маниоки, и надел домашний льняной костюм.
Темой статьи в тот день, конечно же, было мое девяностолетие. Я никогда не думал о возрасте, как привыкают не думать о не дырявой крыше. Сколько воды утекло… Сколько лет, сколько зим…
Ребенком я услышал, что когда человек умирает, вши, гнездившиеся в его волосах, в ужасе расползаются по подушке, к стыду близких. Это так поразило меня, что я дал остричь себя наголо, когда пошел в школу, а ту жиденькую растительность, которая у меня осталась, я мою свирепым мылом, каким моют собак. Другими словами, как я теперь понимаю, чувство стыда с детских лет у меня сформировалось лучше, чем представление о смерти.
Уже несколько месяцев я думал о том, что моя юбилейная статья будет не общепринятым стенанием по поводу ушедших лет, а восславлением старости. Я начал вспоминать, в какой момент я осознал, что уже стар, и вышло, что совсем незадолго до этого дня. Мне было сорок два года, когда заболела спина, стало трудно дышать, и я пошел к врачу. Тот не придал этому значения: «Это нормально для вашего возраста», — констатировал он. — «В таком случае, — возразил я ему, — ненормален мой возраст». Врач улыбнулся мне с жалостью. «Я вижу, вы философ», — сказал он. Тогда я в первый раз подумал о старости применительно к своему возрасту, но потом довольно скоро об этом забыл. Я привык просыпаться каждый день с какой-нибудь новой болью, годы шли, и каждый раз болело иначе и в ином месте. Иногда казалось, это стучится смерть, а на следующий день боли как не бывало. Именно в ту пору кто-то сказал, что первый симптом старости — человек начинает походить на своего отца. Я, должно быть, приговорен к вечной молодости, подумалось мне тогда, потому что мой лошадиный профиль никогда не станет похожим ни на жесткий карибский профиль моего отца, ни на профиль моей матери, похожий на профиль римского императора. Дело в том, что первые изменения проявляются так медленно, что они почти незаметны для человека, он продолжает видеть себя изнутри таким, каким был, а другие, глядя на него, замечают эти изменения.
На пятом десятке я начал понимать, что такое старость, когда заметил первые провалы в памяти. Я шарил по дому в поисках очков, пока не обнаруживал их на себе, или залезал в очках под душ, а то надевал очки для чтения, не сняв очков для дали. Однажды я позавтракал второй раз, забыв, что уже сделал это, и заметил, как встревожились друзья, когда я рассказал им то же самое, что они слышали от меня неделей раньше. К тому времени в моей памяти хранился список знакомых лиц и другой — с именами каждого из них, но в тот момент, когда я здоровался, мне не удавалось соединить лица с именами.
В сексуальном плане возраст никогда меня не заботил, потому что мои возможности зависели не столько от меня, сколько от женщин, — они знают что и как, когда хотят. Сегодня мне смешны восьмидесятилетние мальчишки, которые, чуть какой-нибудь срыв, испуганно бегут к врачу, не ведая, что в девяносто будет еще хуже, но станет уже не важно: этот риск — расплата за то, что ты жив. И торжество жизни как раз в том, что память стариков не удерживает вещи несущественные и лишь очень редко изменяет нам в чем-то по-настоящему важном. Цицерон выразил это одной фразой: «Нет такого старика, который бы забыл, где спрятал сокровище».
Этими размышлениями и еще некоторыми я закончил первый черновик своих записок, когда августовское солнце брызнуло сквозь миндалевые деревья парка, и речной почтовый пароход, задержавшийся на неделю из-за засухи, с ревом вошел в портовый канал. Я подумал: вот они, вплывают мои девяносто лет. Я не могу сказать почему, и никогда этого не узнаю, но, наверное, это было вроде заклятия против все сокрушающего воспоминания, когда я решил позвонить Росе Кабаркас, чтобы она помогла мне в честь моего юбилея устроить разнузданную ночь. Я уже годы жил в мире со своим телом, блуждая по страницам моих любимых (читаных-перечитаных) латинских авторов и погружаясь в классическую музыку, но в тот день меня охватило такое желание, что я счел его знаком Божьим. После телефонного разговора я уже не мог писать. Я повесил гамак в том углу библиотеки, куда по утрам не заходит солнце, и лег, а грудь теснило мучительное ожидание.
Я был избалованным ребенком у мамы, разносторонне одаренной и в пятьдесят лет сгинувшей от чахотки, и у отца, очень правильного, ни разу в жизни не совершившего ни единой ошибки и умершего на рассвете в своей вдовьей постели в день, когда был подписан Неерландский пакт, который положил конец Тысячедневной войне и еще множеству гражданских войн прошлого века. Мир изменил город совершенно неожиданно и нежеланно. Толпы свободных женщин, как в бреду, заполонили старые винные погребки на Широкой улице, ставшей потом улицей Абельо, а теперь — проспектом Колумба, в этом столь милом моему сердцу городе, который любят и свои, и чужие за добрый нрав местных жителей и ясный свет.
Никогда ни с одной женщиной я не спал бесплатно, а в тех редких случаях, когда имел дело не с профессионалками, все равно добивался, убеждением или силой, чтобы они взяли деньги, пусть даже для того, чтобы выкинуть их на помойку. С двадцати лет я начал вести им счет, записывал имя, возраст, место свидания и вкратце — обстоятельства и стиль каждого. К пятидесяти годам в моем списке значилось пятьсот четырнадцать женщин, с которыми я был хотя бы один раз. И перестал записывать, когда тело уже было не способно на такую прыть и я мог продолжить счет без бумажки, в уме. У меня была своя этика. Я никогда не участвовал ни в групповухах, ни в прилюдных совокуплениях, никогда ни с кем не делился секретами и никому не рассказывал о приключениях своего тела или души, ибо с юных лет знал, что ни то ни другое не остается безнаказанным.
Единственная странная связь длилась у меня годы с верной Дамианой. Она была почти девочкой, с индейской кровью, крепкая и диковатая, говорила коротко и решительно и по дому ходила босой, чтобы не беспокоить меня, когда я пишу. Помню, я лежал в гамаке, в коридоре, читал «Андалузскую стать» и случайно увидел, как она наклонилась над стиркой, и коротенькая юбчонка задралась, обнажив ее аппетитные подколенки. Меня ударило в жар, я набросился на нее, сдернул ей до колен панталоны и пробуравил ее сзади. «Ай, сеньор, — жалобно всхлипнула она, — это не для входа, это для выхода». Дрожь сотрясла ее тело, но она выстояла. Почувствовав себя униженным от того, что унизил ее, я хотел заплатить ей в два раза больше, чем тогда стоили самые дорогие шлюхи, но она не взяла ничего, так что мне пришлось увеличить ей жалованье с тем, чтобы раз в месяц пользовать ее, когда она стирает белье, и всегда — сзади.
Как-то я подумал, что эта постельная арифметика могла бы стать крепкой основой для повествования о моей заблудшей жизни, и название мне словно с неба упало: «Вспоминая моих грустных шлюх». Моя публичная жизнь, наоборот, была мало интересна: сирота, ни отца, ни матери, холостяк без будущего, заурядный журналист, четырежды финалист на Цветочных играх в Картахене де-Индиас и излюбленный объект карикатуристов в силу моей беспримерной некрасивости. Короче: пропащая жизнь, и пошла она скверно с того самого дня, когда мать отвела меня за руку, девятнадцатилетнего, в «Диарио де-ла-Пас», чтобы узнать, не опубликуют ли мою хронику школьной жизни, которую я написал на уроке испанского языка и риторики. Ее напечатали в воскресном номере с многообещающим директорским предисловием. Годы спустя, когда я узнал, что мать заплатила за ту публикацию и за семь последующих, мучиться стыдом было поздно, моя еженедельная колонка к тому времени обрела собственные крылья, и, кроме того, я уже был составителем новостей и музыкальным критиком.
Как только я получил степень бакалавра и диплом с отличием, я начал преподавать испанский и латынь сразу в трех колледжах. Я был плохим учителем, без надлежащего образования, без призвания и без капли жалости к несчастным детям, для которых школа — самый легкий способ уйти от тирании родителей. Единственное, что я мог для них сделать, — это постоянно держать под страхом моей деревянной линейки, чтобы они вынесли из моих уроков, по крайней мере, мои любимые поэтические строки: «Все, что ты видишь ныне, Фабио, о горе, унылый холм, долина в запустенье, в былые дни звалось Италикою славной». Только состарившись, я случайно узнал гнусное прозвище, каким мои ученики называли меня за моею спиной: Унылый Холм.
Вот и все, что дала мне жизнь, а я ничего не сделал, чтобы извлечь из нее больше. Я обедал один в перерыве между уроками и в шесть приходил в редакцию ловить сигналы в межзвездном пространстве. А в одиннадцать вечера, когда редакция закрывалась, начиналась моя настоящая жизнь. Два или три раза в неделю я проводил ночь в Китайском квартале, да в таком разнообразном обществе, что дважды был коронован как клиент года. Поужинав в ближайшем кафе «Рим», я наугад выбирал какой-нибудь бордель и входил в него тайком, через черный ход. Я ходил туда ради удовольствия, но со временем это стало частью моей работы, поскольку в этом заведении у политических бонз развязывались языки, и они выкладывали своим любовницам на одну ночь государственные тайны, не думая о том, что сквозь картонные перегородки их слушает широкая общественность. Таким же способом, а как же иначе, я узнал, что мою безутешную холостяцкую жизнь объясняют пристрастием к педерастии, которую я удовлетворяю посредством мальчиков-сироток с улицы Кармен. Мне посчастливилось забыть это, как и многое другое, поскольку там же я услышал о себе и много хорошего и оценил это по достоинству.
У меня никогда не было близких друзей, а те немногие, с которыми удалось сблизиться, уже были в Нью-Йорке. Другими словами, умерли, потому что именно туда, полагаю, отправляются скорбящие души, чтобы не пережевывать правду своей прошедшей жизни. После того как я вышел на пенсию, дел у меня стало немного, по пятницам во второй половине дня отнести статью в газету, и еще некоторые довольно важные занятия: концерты в зале «Белль Артес», выставки живописи в Художественном центре, где я — член-основатель, лекция в Обществе общественного благоустройства, а то и какое-нибудь крупное событие вроде показа фильмов Фабрегаса в театре «Аполло». В молодости я ходил в кинотеатры под открытым небом, где с одинаковым успехом можно было как наблюдать лунное затмение, так и подхватить двустороннее воспаление легких под внезапным ливнем. Но куда больше фильмов меня интересовали ночные пташки, отдававшиеся по цене входного билета, а то и даром или в долг. Короче говоря, кино — не мой жанр. А культ непристойности Ширли Темпл и вовсе стал последней каплей, переполнившей чашу.
Путешествовал я всего четыре раза — на Цветочные игры в Картахену де-Индиас, когда мне еще не было и тридцати, да еще однажды плыл целую скверную ночь на моторке в Сайта Марию по приглашению Сакраменто Монтьеля на торжественное открытие его борделя. Что касается моей домашней жизни, то я и непривередлив и мало ем. Когда Дамиана состарилась, она перестала приходить готовить, и с тех пор моей постоянной едой стала картофельная тортилья в кафе «Рим» после закрытия редакции.
Итак, в канун своего девяностолетия, ожидая звонка Росы Кабаркас, я не стал обедать и никак не мог сосредоточиться на чтении. В два часа пополудни в адской жаре оглушительно трещали цикады, и солнце катило в открытые окна, так что мне пришлось трижды перевешивать гамак. Мне всегда казалось, что день моего рождения — самый жаркий в году, и я свыкся с этим, но в тот день выносить жару не было сил. В четыре часа я попытался придти в себя с помощью шести сюит для виолончели Иоганна Себастьяна Баха, в исполнении Пабло Казальса. Я считаю их самым мудрым, что есть в музыке, однако вместо того, чтобы, как обычно, успокоить, они ввергли меня в состояние тяжелейшей прострации. Я задремал на второй, которая кажется мне немного суматошной, и во сне жалоба виолончели смешалась с тоскливым гудком отчалившего судна. И почти тотчас же я проснулся от телефонного звонка, и ржавый голос Росы Кабаркас вернул меня к жизни. «Везет дуракам, — сказала она. — Я нашла курочку, даже лучше, чем ты хотел, но с одной закавыкой: ей только-только четырнадцать». — «Ничего, поменяю ей пеленки», — пошутил я, не поняв, к чему та клонит. «Да не в тебе дело, — сказала женщина, — а кто мне оплатит три года тюрьмы?»
Никто и ничего не должен был платить, а она — и подавно. Она собирала свой урожай именно на малолетках, они были товаром в ее лавке, у нее они делали свой первый шаг, а потом она жала из них сок до тех пор, пока они не переходили к более суровой жизни дипломированных проституток в знаменитый бордель Черной Эуфемии. Роса Кабаркас никогда не платила штрафов, потому что ее дом был аркадией для местных властей, начиная губернатором и кончая последней канцелярской крысой из мэрии, и трудно было вообразить, что хозяйке этого заведения не хватает власти, чтобы нарушать закон в свое удовольствие. Так что ее запоздалые угрызения, по-видимому, означали всего лишь намерение выгоднее продать свои услуги: тем дороже, чем опаснее. Затруднение было улажено с помощью двух дополнительных песо, и договорились, что в десять часов я приду в ее дом с пятью песо наличными и уплачу вперед. И ни минутой раньше, поскольку девочка должна успеть накормить и уложить спать младших братьев, и еще приготовить ко сну разбитую ревматизмом мать.
Оставались четыре часа. По мере того как они шли, сердце мое наполнялось едкой пеной, от которой трудно было дышать. Я сделал тщетное усилие укротить время процедурой одевания. Ничего особенного, разумеется, уж если даже Да-миана говорит, что одеваюсь я как сеньор епископ. Я побрился опасной бритвой, еще пришлось подождать в душе, пока сойдет горячая вода, нагретая в трубах солнцем. Но пока вытирался полотенцем, снова вспотел. Я оделся в соответствии с предстоящим мне ночью событием: белый полотняный костюм, рубашка в синюю полоску с крахмальным воротником, галстук китайского шелка, штиблеты, подновленные цинковыми белилами, и часы червонного золота на цепочке, застегнутой в петлице лацкана. И под конец завернул внутрь обшлага брюк, чтобы не было заметно, что я стал ниже на пядь.
Я слыву скрягой, потому что никто не может и представить себе, как я беден, раз я живу там, где живу, но, по правде говоря, такая ночка, как эта, была мне не по карману. Из сундучка под кроватью, где я хранил свои сбережения, я достал два песо для уплаты за комнату, четыре — для содержательницы притона, три — для девочки и пять — себе на ужин и другие мелкие расходы. Другими словами, те самые четырнадцать песо, которые мне платит газета в месяц за мои воскресные заметки. Спрятал их в потайной карман на поясе и опрыскал себя одеколоном «Агуа де Флорида» фирмы «Lanman and Kemp-Barclay and Co». И тут ужас накатил на меня, но при первом же ударе колокола, отбивавшего восемь часов, я, потный от страха, в темноте, на ощупь, спустился по лестнице и вышел в сияющую ночь больших ожиданий.
На улице посвежело. На проспекте Колумба, меж застывшей на середине проезжей части шеренги порожних такси, мужчины, сбившись в группки, на крик спорили о футболе. Медный духовой оркестрик наигрывал вальс в аллее из цветущих олеандров-крысоморов. Несчастная проститутка, из тех, кто охотится за солидным клиентом на улице Нотариусов, как всегда, попросила у меня сигаретку, и я ответил ей, как всегда: бросил курить вот уже тридцать три года, два месяца и семнадцать дней назад. Проходя мимо «Золотого Колокольчика», я посмотрелся в освещенную витрину и увидел себя не таким, каким ощущал, а намного более старым и скверно одетым.
Незадолго до десяти я взял такси и попросил шофера отвезти меня к Общему кладбищу, чтобы он не понял, куда я на самом деле направляюсь. Водитель поглядел на меня в зеркальце и, развеселившись, произнес: «Не пугайте меня так, мудрый дон, дай Бог мне быть таким же живым, как вы». Мы вместе вышли из машины напротив кладбища, потому что у него не было сдачи, и пришлось разменять деньги в «Могиле», захудалой закусочной, где загулявшие до рассвета пьянчужки оплакивают своих дорогих покойников. Когда мы рассчитались, шофер очень серьезно сказал: «Будьте осторожны, дон, дом Росы Кабаркас уже давно не тот, что был раньше». Мне не оставалось ничего, как поблагодарить его, свято уверовав, как и все, что нет такого секрета, которого бы не знали таксисты с проспекта Колумба.
Я вошел в квартал бедноты, который не имел ничего общего с тем, каким я его знал в мое время. Те же самые широкие раскаленные песчаные улицы, дома с распахнутыми дверями, стены из неструганых досок, крыши из листьев горькой пальмы и посыпанные щебнем внутренние дворики. Но здешние обитатели забыли, что такое тишина и покой. В большинстве домов гудело пятничное веселье, музыканты своими барабанами и тарелками сотрясали домишки. Кто угодно мог за пятьдесят сентаво войти в любую дверь, но мог наплясаться до упаду и перед дверью, на улице. Я шел и мечтал провалиться сквозь землю в этом моем хлыщеватом костюме, но никто и не заметил меня, кроме тощего мулата, дремавшего на пороге дома.
— С Богом, почтенный, — приветствовал он меня сердечно. — Счастливо перепихнуться!
Что я мог ответить ему? Только поблагодарить. Мне пришлось останавливаться три раза, чтобы перевести дух, прежде чем я добрался до верха. И оттуда увидел огромную медную луну, поднимавшуюся на горизонте, но тут у меня схватило живот, я испугался, однако обошлось. В конце улицы, где квартал переходит в сплошные заросли фруктовых деревьев, я вошел в лавку Росы Кабаркас.
Эта была уже не та Роса Кабаркас. Раньше это была мама-сан, бандерша самая осмотрительная, а потому самая известная. Женщина огромных размеров, мы даже хотели возвести ее в чин сержанта пожарной службы, как за ее могучее телосложение, так и за ту ловкость, с какой она справлялась с любовными пожарами в своем приходе. Но одиночество съежило ее тело, сморщило кожу и истончило голос так, что великанша стала похожа на старенькую девочку. От прежней Росы у нее остались только великолепные зубы, и один из них из кокетства был одет в золотую коронку. Женщина носила глубокий траур по мужу, скончавшемуся после пятидесяти лет совместной жизни, и этот траур дополнила черной траурной шляпкой — по единственному сыну, который помогал ей в ее хлопотных делах. Живыми оставались только глаза, прозрачные и жестокие, и по ним я понял, что по сути своей она не изменилась.
В лавке на стене еле светилась слабая лампочка, и на полках не видно было никаких товаров, хотя бы для прикрытия ее такого расхожего промысла, о котором все знали, но которого никто не признавал. Роса Кабаркас провожала клиента, когда я тихонько вошел. Не знаю, на самом ли деле она не узнала меня или притворилась, чтобы соблюсти видимость. Я сел на скамью в ожидании, когда она освободится, и попытался восстановить в памяти, как все было. Пару раз, когда мы оба еще были в соку, она сама выручала меня в трудную минуту. Наверное, Роса прочла мои мысли, потому что обернулась и посмотрела на меня так пристально, что я забеспокоился. «Время тебя не коснулось», — вздохнула она грустно. Я решил польстить ей: «А тебя — коснулось, но к лучшему». — «Я серьезно, — сказала она, — у тебя даже стала живее твоя физиономия дохлой лошади». — «Может, потому, что я стал пастись в других домах», — подколол я ее. Она встрепенулась. «Насколько я помню, кувалда у тебя была отменная. Как она себя ведет нынче?» Я ушел от ответа: «Единственно, что изменилось с тех пор, как мы не виделись, это то, что иногда у меня жжет зад». Диагноз она поставила немедленно: «Мало им пользуешься». — «Он у меня только для того, для чего его создал Бог, — ответил я, — но, по правде сказать, это уже довольно давно и всегда в полнолуние». Роса где-то порылась и достала маленькую коробочку с зеленой мазью, пахнувшую арникой. «Скажешь девочке, чтобы она пальчиком помазала тебе вот так», — и она для ясности непристойно подергала указательным пальцем. Я ответил ей, что пока еще, слава Богу, могу обходиться и без ее знахарских притираний. Роса съязвила: «Ах, маэстро, прости великодушно». И перешла к делу.
«Девочка находится в комнате с десяти часов, — сказала она. — Девочка красивая, чистая, хорошо воспитана, но умирает от страха, потому что одна ее подружка, убежавшая с грузчиком из Гайры, два часа истекала кровью. Но оно и понятно, — допустила Роса, — у этих, из Гайры, такая слава, они ослиц дерут. — И вернулась к делу: — Бедняжке, кроме всего, приходится еще и горбатиться на фабрике, пришивать пуговицы». Мне не показалось, что это такое уж тяжелое занятие. «Так думают мужчины, — возразила она, — это еще хуже, чем дробить камень». И еще призналась, что дала девочке питье — валерьянку с бромидом, и та сейчас спит. Я подумал, что эти жалостливые сетования — еще одна уловка, чтобы поднять цену, но нет, сказала она, мое слово — золото. И твердое правило: за каждую услугу — плата отдельная, звонкой монетой и вперед. Вот так.
Я пошел за ней через двор, размягчившись видом ее увядшей кожи и тем, как трудно Роса переступала распухшими ногами в простых хлопчатобумажных чулках. Полная луна добралась до центра неба, и мир казался погруженным в зеленые воды. Неподалеку от ее дома был устроен настил из пальмовых ветвей для музыкантов, приглашаемых городскими властями, вокруг стояло множество табуретов с кожаными сидениями, висели гамаки. Во двор, за которым начинались заросли фруктовых деревьев, выходила галерея из небеленого кирпича с шестью спальнями и окошками, затянутыми сеткой от птиц. Единственная занятая комната тонула в полумраке, и Тоня-Негритянка по радио пела о несчастной любви. Роса Кабаркас перевела дух: «Болеро — это жизнь». Я был с ней согласен, но по сей день не решался этого написать. Она толкнула дверь, вошла в комнату и тут же вышла. «Все еще спит, — сказала женщина. — Хорошо сделаешь, если дашь поспать вдоволь, сколько просит ее тело, твоя ночь длиннее, чем ее». Я был в замешательстве: «А что, по-твоему, я должен делать?» — «Сам поймешь, — ответила она с неподходящей случаю невозмутимостью, — на то ты и мудрец». Роса повернулась ко мне спиной и оставила меня наедине с ужасом.
Бежать было некуда. Я вошел в комнату, — сердце готово было выскочить из груди, — и увидел спящую девочку, голую, в чем мать родила, такую неприкаянную, на огромной, чужой постели. Она лежала на боку, лицом к двери, освещенная ярким верхним светом, не скрывавшим ни одной подробности. Я сел на край кровати и, завороженный, смотрел на нее, впитывал всеми пятью чувствами. Она была смуглая и тепленькая. Ее, видно, готовили, мыли и прихорашивали, от макушки до нежного пушка на лобке. Завили волосы, ногти на руках и ногах покрыли лаком натурального цвета, но кожа медового оттенка была обветренной и неухоженной. Грудки, только-только наметившиеся, были еще похожи на мальчишеские, но чувствовалась в них готовая вот-вот брызнуть скрытая энергия. Самое лучшее в ней были ноги, наверное, мягко ступавшие, с длинными и чувственными пальцами, как на руках. Даже под работавшим вентилятором она вся светилась капельками пота, жара к ночи стала совсем невыносимой. Невозможно было представить себе ее лицо под густым слоем рисовой пудры, густо накрашенное, с двумя пятнышками румян, накладными ресницами, чернеными бровями и веками, и с губами, щедро размалеванными помадой шоколадного цвета. Но ни одежда, ни косметика не могли скрыть ее характерa: гордо очерченный нос, сросшиеся брови, хорошо вылепленный рот. Я подумал: нежный боевой бычок.
В одиннадцать я пошел по моим обычным делам в ванную комнату, где она оставила свою жалкую одежонку, но разложила ее на стуле так, словно это был богатый наряд: платьице из синтетической ткани в бабочках, желтые мадаполамовые трусики, веревочные сандалии. Поверх одежды лежал дешевенький браслет и тонкая цепочка с изображением Пресвятой Девы на медальоне. Тут же, на полке, находилась сумочка с губной помадой, румянами, ключом и мелкими монетами. Все такое дешевое, стертое и заношенное, я и представить себе не мог такую бедность.
Я разделся и постарался повесить вещи на вешалку так, чтобы не помялась шелковая рубашка и отутюженный полотняный костюм. Помочился в унитаз, расположенный под сливным бачком с цепочкой, помочился сидя, как меня, еще ребенка, научила Флорина де Диос, чтобы не пачкать края, и, — к чему скромничать, — струя была тугой и ровной, как у вольного жеребца. Прежде чем выйти, я пoсмотрелся в зеркало над раковиной. Лошадиная морда, которая глянула на меня из зеркала, не была дохлой, но была мрачной, с отвисшим подбородком, как у Папы Римского, набрякшими веками и жиденькой растительностью, которая когда-то была буйной гривой.
— Дерьмо, — сказал я ему. — Что я могу поделать, если ты меня не любишь?
Стараясь не разбудить ее, я, раздетый, сел на кровать и глазом, привычным к обманам красного света, стал разглядывать ее пядь за пядью. Скользнул указательным пальцем по влажному от пота затылку, и она отозвалась дрожью, точно аккорд арфы, повернулась ко мне, бормоча что-то, и окутала меня горьковатым теплом своего дыхания. Большим и указательным пальцем я чуть зажал ей нос, и она вздрогнула, отодвинула голову и повернулась ко мне спиной, но не проснулась. Внезапно на меня накатило, и я попытался коленом раздвинуть ее ноги. На две мои первые попытки девочка только крепче сжала колени. Я пропел ей в ушко: «У кроватки Дельгадины ангелы стоят». Она немножко расслабилась. Горячий ток взметнулся в венах, и мой медлительный, отошедший от дел зверь проснулся после долгого сна.
Дельгадина, душа моя, умолял я ее, сгорая от желания. Дельгадина. Она грустно всхлипнула, высвободилась из моих ног, повернулась ко мне спиной и свернулась, как улитка в раковине. Питье из валерьянки, видимо, успешно действовало не только на нее, но и на меня, потому что ничего не произошло ни с ней и ни с кем. Но не важно. Я подумал, зачем будить ее, когда я чувствую себя таким ничтожным, когда мне так грустно и к тому же я холоден, как моллюск.
Четко и неотвратимо на колокольне пробило двенадцать ночи, и начался новый день — 29 августа, день великомученика Хуана Баутисты. Кто-то плакал в голос на улице, и никто не обращал на него внимания. Я помолился за него, если он в этом нуждался, и за себя с благодарностью за все благодеяния: «Не обманывайтесь, не думайте, что то, чего ждете и надеетесь, будет длиться дольше, чем это видят ваши глаза». Девочка застонала во сне, и я помолился и за нее: «Пусть все так и будет». Потом выключил радио и свет, чтобы заснуть.
Проснулся я с рассветом, не помня, где нахожусь. Девочка продолжала спать, спиною ко мне, свернувшись, как зародыш во чреве матери. Было смутное ощущение, что я слышал, как она ночью вставала в темноте, и шум спускаемой воды в ванной, но вполне могло быть, что это мне приснилось. Что-то новое появилось во мне. Я никогда не признавал уловок соблазнения, любовницу на одну ночь выбирал наугад, больше ориентируясь на цену, чем на ее прелести, и занимались мы любовью без любви, в большинстве случаев полуодетые и всегда — в потемках, чтобы казаться себе лучше, чем мы есть. В ту ночь я открыл невероятное наслаждение — я смотрел на тело спящей женщины, и мне не мешали ни стыд, ни гнетущее желание.
Я поднялся в пять озабоченный, потому что моя воскресная статья должна была быть на редакционном столе до двенадцати часов дня. В урочное время освободил кишечник, испытывая обычное в полнолуние жжение, и когда дернул за цепочку, спуская воду, почувствовал, что всю мою прошлую злость и обиды смыло в канализацию. Когда я, свежий и одетый, вернулся в комнату, девочка спала в умиротворяющем рассветном свете, поперек кровати, раскинув руки, полновластная хозяйка своей девственности. «Храни тебя Бог», — сказал я ей. Все деньги, что у меня были, и ее, и мои, я положил ей на подушку и поцеловал ее в лоб, прощаясь навсегда. Дом, как всякий бордель на рассвете, был ближе всего к раю. Я вышел через дверь, ведущую в сад, чтобы ни с кем не встретиться. На улице, под палящим солнцем, я снова почувствовал груз моих девяноста лет и начал отсчитывать, миг за мигом, минуты ночи, остававшиеся мне до смерти.
II
Я пишу эти вспоминания окруженный немногим, что осталось от родительской библиотеки, где полки того и гляди обрушатся под терпеливым напором моли и древоточцев. В конце концов, для того, что мне нужно сделать в этом мире, мне довольно было бы моих разнообразных словарей, первой серии «Национальных эпизодов» дона Бенито Переса Гальдоса и «Волшебной горы», научившей меня понимать болезненные настроения моей матери, порожденные чахоткой.
В отличие от остальной мебели и от меня самого, огромный стол, за которым я пишу, похоже, находится в отличном состоянии и не тронут временем, поскольку его сработал из благородной древесины мой дед по отцу, бывший судовым плотником. Даже если мне нечего писать, я каждое утро сажусь за этот стол с упорством, достойным лучшего применения, поскольку из-за него я пропустил столько любовей. Под рукой у меня мои книги-сообщники: два тома «Первого иллюстрированного словаря Королевской академии Испании» 1903 года издания; «Сокровища кастильского, или испанского языка» дона Себастьяна Каваррубиаса; грамматика дона Андреса Бельо, на случай, если возникнет какое-нибудь семантическое сомнение, для точности; новейший «Идеологический словарь» дона Хулио Касареса, главным образом из-за его антонимов и синонимов; «Vocabolario della Lingua Italiana» Николы Зингарелли, помогающий мне с языком моей матери, который я знаю с колыбели, и словарь латинского языка, который, будучи прародителем двух других, почитается мною за родной язык.
Слева на письменном столе у меня всегда пять листов льняной бумаги конторского размера, для моих воскресных заметок, и песочница для чернил, потому что я предпочитаю ее современным подушечкам из промокательной бумаги. Справа — calamaio [1] и подставка из легкой древесины для золотого пера, поскольку я все еще пишу от руки изящным почерком, как научила меня Флорина де Диос, чтобы я не сбился на канцелярский почерк ее супруга, который был нотариусом и присяжным поверенным до последнего своего вздоха. Некоторое время назад в газете нас обязали печатать на машинке, чтобы легче было подсчитывать объем свинцовых литер на линотипе и верстать текст, но я этой дурной привычки не усвоил. Я продолжал писать от руки, пользуясь обременительным правом старейшего сотрудника, а затем яростно, точно дятел, долбил текст на машинке. Ныне, вышедший на пенсию, но не в тираж, я пользуюсь священной привилегией работать дома при выключенном телефоне, чтобы меня не беспокоили, и без цензора, который бы высматривал из-за моего плеча, что я пишу.
***
Я живу один — ни собак, ни птиц, ни прислуги, за исключением верной Дамианы, которая выручала меня из внезапных затруднений и продолжает приходить раз в неделю что-нибудь поделать, хотя близорука она не меньше, чем тупа. Моя мать на смертном одре умоляла меня, чтобы я женился молодым на белой женщине и чтобы у нас было, по меньшей мере, трое детей и одна из них — девочка, кою нарекли бы ее именем, именем, которое носили ее мать и бабушка. Я не забывал просьбу матери, но понятие о молодости у меня было такое растяжимое, что всегда казалось: жениться никогда не поздно. До того жаркого полудня, когда в Прадомаре, в доме семейства Паломарес де Кастро, я ошибся дверью и застал Химену Ортис, их младшую дочь, отдыхающей в сиесту, в спальне, совершенно обнаженной. Она лежала спиной к двери и обернулась ко мне через плечо так быстро, что я не успел скрыться. «Ой, прошу прощения», — наконец произнес я, а душа застряла в горле. Девушка улыбнулась, перевернулась с грацией газели и показала мне себя всю, целиком. Комната словно наполнилась ее близостью. Она была не совсем голой, потому что за ухо у нее был заткнут ядовитый цветок с оранжевыми лепестками, как у Олимпии Манэ, на правом запястье виднелся золотой браслет, а на шее — бусы мелкого жемчуга. Я и представить себе не мог, что когда-либо увижу что-нибудь более волнующее, и теперь могу поручиться, оказался прав.
Устыдясь своей неловкости, я захлопнул дверь в намерении раз и навсегда забыть ее. Но Химена Ортис не позволила мне этого. Через общих знакомых подружек она передавала мне послания, зазывные записочки, грубые угрозы и распустила слух, будто мы без ума друг от друга при том, что мы не обменялись с ней ни единым словом. Сопротивление стало невозможным. У нее были глаза дикой кошки, тело, в одежде такое же соблазнительное, как и без нее, а густые волосы буйного золота испускали такой женский дух, что от ярости я по ночам плакал в подушку. Я знал, что любви тут никакой не получится, но ее сатанинская влекущая сила меня жгла, и я пытался найти облегчение с любой попадавшейся мне на пути зеленоглазой шлюшкой. Но не смог погасить огня того воспоминания о постели в Прадомаре, а потому сложил оружие — с официальной просьбой руки, обменом кольцами и объявлением широкой свадьбы до Троицы.
Новость наделала гораздо больше шуму в Китайском квартале, чем в светских клубах. Мое жениховство прошло с соблюдением всех норм христианской морали на террасе, в доме моей суженой, среди горшков с амазонскими орхидеями и папоротниками. Я приходил к семи вечера в белом полотняном костюме и с подарком — какой-нибудь безделушкой или швейцарским шоколадом, и мы разговаривали, полунамеками и полусерьезно, до десяти часов под приглядом тетушки Архениды, которая клевала носом, как дуэньи из романов той поры.
Химена, чем больше мы знакомились, становилась все откровеннее страстной, а с наступлением летней жары лифы и юбки на ней делались все легче и короче, так что нетрудно было представить себе, какой разрушительной мощью должно было обернуться все это в темноте. Через два месяца после помолвки нам уже не о чем было говорить, и она поставила вопрос о детях, без единого слова, просто начала крючком вязать из шерсти пинетки для новорожденных. Я, как благовоспитанный жених, тоже научился вязать, и так мы бессмысленно убивали часы, остававшиеся до свадьбы, я плел голубые пинетки для мальчиков, она — розовые для девочек, кто из нас угадает, пока не навязали целую гору, на полсотни детишек. Не успевали часы пробить десять, как я садился в экипаж на конной тяге и отправлялся в Китайский квартал прожить ночь в райском блаженстве.
Бурные холостяцкие прощания там, которые мне устраивали в Китайском квартале, были полной противоположностью гнетущим вечерам в Общественном клубе. Этот контраст помогал мне понять, какой из двух миров был истинно моим, и возникла иллюзия, что оба, но каждый в свой час, оказавшись в одном из них, я чувствовал, как другой начинал отдаляться с надрывными вздохами, с какими выходит судно в открытое море. Бал в канун свадьбы в заведении «Сила Господня» закончился церемонией, которая могла прийти в голову только пропадающему от вожделения испанскому священнику. Он обрядил весь женский персонал в фату и флердоранж, чтобы все до одной сочетались со мною законным браком в едином, универсальном, священном обряде. Это была ночь великого святотатства, потому что двадцать две из них пообещали мне свою любовь и повиновение, а я им — свою верность и поддержку по гроб жизни.
Ночью я не смог заснуть в предчувствии непоправимого. Забрезжил рассвет, а я, проживая уходящее время, считал число ударов, которые отбивали часы на колокольне, пока не пробило семь ужасных ударов — час, когда я должен был находиться в церкви. Телефон начал звонить в восемь, длинно, настойчиво, непредсказуемо, больше часа. Я не только не ответил, я не дышал. Около десяти начали стучать в дверь, стучали кулаком, потом загудели голоса, знакомые и ненавистные. Я боялся, что под горячую руку дверь разнесут, но около одиннадцати дом наполнила колючая тишина, какая предшествует великим катастрофам. И тогда я заплакал, и по ней, и по себе, и молился всем сердцем, чтобы мне никогда, до конца дней моих, не встретиться с нею. Какой-то святой, должно быть, услышал меня вполуха, потому что Химена Ортис уехала из страны той же ночью и вернулась лишь через двадцать лет, благополучно выйдя замуж и народив семерых детей, которые могли быть моими.
Мне стоило труда удержаться на работе и сохранить за собой колонку в «Диарио де-ла-Пас» после вызова, который я бросил обществу. Однако вовсе не по этой причине мои заметки переместили на одиннадцатую страницу, просто в жизнь напролом вторгся XX век. В городе только и говорили о прогрессе. Все изменилось; полетели самолеты, и какой-то предприимчивый человек сбросил с «Юнкерса» мешок с письмами и изобрел авиапочту.
Единственно, что оставалось неизменным, были мои воскресные заметки в газете. Молодое поколение постоянно нападало на них, представляя их некоей мумией прошлого, которую следует испепелить, но я продолжал писать в том же духе, не сдаваясь и не поддаваясь новаторским веяниям. Я оставался глух ко всему. Мне было сорок лет, и молодые редакторы называли мои заметки Колонкой Пустобреха. Директор пригласил меня к себе в кабинет и попросил привести тон моих заметок в соответствие с новыми веяниями. Торжественно, как будто только что сам придумал, он изрек: «Мир идет вперед». — «Да, — сказал я ему, — идет вперед, по-прежнему, но крутится вокруг солнца». Он оставил мои воскресные заметки, потому что не нашел другого составителя новостей. Сегодня я понимаю, что он был прав и вот почему. Юноши моего поколения, подхваченные водоворотом жизни, забылись, душою и телом, в мечтах о будущем, пока жесткая реальность не показала, что будущее вовсе не такое, о котором они мечтали, и тогда они впали в ностальгию. Такими были и мои воскресные заметки, подобные археологическим реликвиям, раскопанным среди обломков прошлого, они годились не только старикам, но и молодым, чтобы те не боялись стариться. Мои заметки снова перешли в разряд самых читаемых, а подчас помещались даже на первую полосу.
Тем, кто меня спрашивают, я всегда отвечаю правду: продажные женщины не оставили мне времени, чтобы жениться. Однако, надо признать, это объяснение не приходило мне в голову до дня моего девяностолетия, до той минуты, когда я вышел из дома Росы Кабаркас, твердо решив никогда больше не искушать судьбу. Я почувствовал себя другим. Настроение изменилось, когда я увидел мундиры у железной ограды парка. Дамиану я застал за мытьем полов в зале, на четвереньках, и при виде ее ляжек, таких молодых для ее возраста, по телу у меня пробежала давно забытая дрожь. Наверное, она это почувствовала, потому что одернула юбку. Я не удержался от искушения и спросил ее: «Скажите мне, Дамиана, вы о чем-нибудь вспоминаете?» — «Я не вспоминала ни о чем, — ответила она, но ваш вопрос напомнил мне об этом». Я почувствовал, как сдавило мне грудь. «Я никогда не влюблялся», — признался я. Она отреагировала немедля: «А я — да. — И заключила, не прерывая своего занятия: — Я двадцать два года проплакала по вам». У меня сердце подпрыгнуло в груди. Пытаясь достойно выйти из положения, я произнес: «Мы могли бы стать неплохой парой». — «К чему вы говорите мне это теперь, — возмутилась она, теперь это даже и в утешение не годится». И когда я выходил из дому, — она сказала очень просто: «Вы мне не поверите, но я до сих пор девушка, слава Господу».
Позже я обнаружил, что по всему дому она оставила в вазах красные розы, а на подушке — открытку: «Желаю жить до ста годов». С этим неприятным осадком я засел за свои заметки, которые накануне написал до половины. Я завершил их на одном дыхании, да так, как будто мне пришлось свернуть шею лебедю, чтобы вывернуть душу наизнанку и при этом не было бы слышно рыданий. В припадке запоздалого вдохновения я решил закончить статью заявлением, что ею отмечаю счастливый конец долгой и достойной жизни, не имея, однако, ни малейшего намерения умирать.
Я собирался оставить статью в редакционной приемной и вернуться домой. Но не смог. Сотрудники редакции в полном составе ждали меня, чтобы отпраздновать день моего рождения. В здании шел ремонт, повсюду громоздились леса, горы мусора, но работы прервали ради праздника. На столярном верстаке стояли напитки, чтобы выпить за именинника, лежали завернутые в нарядную бумагу подарки. Я совершенно ослеп и оглох от вспышек фотоаппаратов, пока снимался на память со всеми по очереди.
Но обрадовался, увидев там журналистов с радио и из городской прессы: консервативной утренней газеты «Пренса», либеральной утренней «Эральдо» и «Насьональ», вечерней газеты, специализирующейся на сенсациях и пытающейся снять общественное напряжение, печатая романчики о душераздирающих страстях. Неудивительно, что они были здесь вместе. Так настроен был город: всегда хорошо принималось, что простые воины сохраняют дружбу в то время, как маршалы развязывают издательские войны.
Был там в свое нерабочее время официальный цензор, дон Херонимо Ортега, которого мы называли Гнусный Снежный Человек, потому что он точно в назначенный час, ночью, приходил со своим кровавым карандашом готского сатрапа. И сидел до тех пор, пока в завтрашнем выпуске не оставалось ни одной крамольной буквы. Ко мне он испытывал сугубо личную неприязнь за мои грамматические изыски или за то, что я, употребляя итальянские слова, которые казались мне более выразительными, чем испанские, не брал их в кавычки и не выделял курсивом, как должно быть при нормальном пользовании двумя неразрывно связанными, как сиамские близнецы, языками. Перестрадав этим чувством года четыре, мы оба, в конце концов, отнесли его за счет несовершенства собственного сознания.
Секретарши внесли в зал пирог с девяноста горящими свечами, впервые заставившими меня прочувствовать количество прожитых лет. Я глотал слезы, когда пели мне поздравление, и безо всякой причины вдруг вспомнил девочку. Без досады, а с запоздалым состраданием к существу, о котором я даже и не думал, что когда-нибудь вспомню. Когда ангел пролетел, кто-то вложил мне в руку нож, чтобы я разрезал пирог. Опасаясь шуток, никто не решился произнести речь. А мне легче было бы умереть, чем ответить на нее. В заключение праздника заведующий редакцией, к которому я никогда не питал особой симпатии, безжалостно вернул нас на землю. А теперь, сиятельный именинник, скажите, где ваша статья?
Говоря по правде, все это время статья, точно горячие угли, жгла мне карман, но праздник так взволновал меня, что не хватило духу испортить его заявлением об отставке. Я сказал: «На этот раз ее нет». Заведующий редакцией был крайне недоволен совершенно недопустимым промахом, не случавшимся с прошлого века. «Поймите же, — объяснил ему, — у меня была очень трудная ночь, я проснулся с тяжелой головой». — «Вот бы и написали об этом, — произнес он в свойственном ему едком тоне. — Читателю интересно было бы узнать из первых рук, какова жизнь в девяносто лет». Вмешалась какая-то секретарша. «А вдруг это пикантный секрет, — сказала она и посмотрела на меня лукаво. — Я ошибаюсь?» Жаркая краска залила мне лицо. «Проклятье, — подумал я, — какая предательская штука». Другая секретарша, сияя, указала на меня пальцем. «Какая прелесть! У него еще осталась восхитительная способность краснеть». От ее бесцеремонности я покраснел еще больше. «Наверное, бурная была ночь, — не унималась первая секретарша. — Вот завидую!» И влепила мне поцелуй в щеку, который на ней и отпечатался. Фотографы совершенно озверели. Ослепший от вспышек, я отдал рукопись заведующему редакцией, сказав, что пошутил, статья — вот она, и бежал, оглушенный последним взрывом аплодисментов, чтобы не присутствовать в минуту, когда они обнаружат, что это — мое прошение об отставке с галер, на которых я пробыл полвека.
Ощущение тревоги не оставляло меня и дома, вечером, когда я разворачивал подарки. Линотиписты промахнулись, подарив мне электрическую кофеварку, точно такую же, как три других, подаренных на предыдущие дни рождения. Типографы преподнесли мне разрешение на то, чтобы взять ангорского кота из муниципального питомника. Руководство дало символическую скидку на что-то. Секретарши подарили три пары шелковых трусов со следами губной помады от поцелуев и открыточку, в которой предлагали свои услуги, чтобы снимать их с меня. Мне подумалось, одна из прелестей старости — это те заигрывания, которые позволяют себе молоденькие приятельницы, считая, что ты уже вне игры.
Я не понял, кто прислал мне пластинку с двадцатью четырьмя прелюдиями Шопена в исполнении Ашкенази. Редакторы по большей части подарили модные книжки. Я еще не успел развернуть подарков, как зазвонил телефон, и Роса Кабаркас задала вопрос, которого мне не хотелось услышать: «Что у тебя произошло с девочкой?» — «Ничего», — ответил я, не задумываясь. «Ты считаешь, это ничего, что ты ее даже не разбудил? — спросила Роса Кабаркас. — Женщина никогда не простит, если мужчина пренебрег ею в первую ночь». Я парировал, сказав, что девочка не могла быть такой измученной только оттого, что пришивала пуговицы, и, скорее всего, притворялась спящей, поскольку боялась дурного обращения. «Плохо только, — сказала Роса, — что она и вправду решила, будто ты уже ничего не можешь, а я не хочу, чтобы она растрезвонила об этом всему свету».
Я не доставил ей удовольствия застать меня врасплох. «Как бы то ни было, настаивал я, — девочка такая жалкая, что неизвестно, что с ней делать, хоть со спящей, хоть с разбуженной: по ней больница плачет». Роса Кабаркас сбавила тон: «Виновата спешка, с какой обделывалось дело, но все можно поправить, вот увидишь». Она пообещала заставить девочку рассказать все как на духу, и если это действительно так, то обязать ее вернуть деньги, согласен? «Оставь как есть, — возразил я ей, — ничего страшного, наоборот, мне это послужило проверкой, и я теперь знаю, что эти бравые затеи не для меня. Тут девочка права: уже не гожусь». Я положил трубку, и чувство освобождения, какого я не испытывал в жизни, переполняло меня: наконец-то я спасся от рабства, в котором томился с тринадцати моих отроческих лет.
К семи часам вечера я был приглашен в качестве почетного гостя на концерт Жака Тибо и Альфреда Корто в Зал изящных искусств на знаменитое исполнение сонаты для скрипки с фортепиано Сезара Франка и в антракте выслушал невероятные похвалы. Маэстро Педро Биава, наш грандиозный музыкант, чуть ли не волоком притащил меня за кулисы представить исполнителям. Я так смешался, что поздравил их с исполнением сонаты Шумана, которой они не исполняли, и кто-то прилюдно и довольно грубо поправил меня. Ощущение, что я спутал две сонаты просто по невежеству, так и осталось у присутствовавших, и когда я в воскресной статье о концерте довольно путано попытался поправить его, оно лишь усугубилось.
В первый раз за всю мою долгую жизнь я почувствовал, что способен кого-нибудь убить. Я возвратился домой в мучительном беспокойстве, дьявол нашептывал мне на ухо сокрушительные ответы, которые не пришли на ум вовремя, и ни книга, ни музыка не могли усмирить моей ярости. К счастью, крик Росы Кабаркас в телефонной трубке вывел меня из этого кошмара: «Какое счастье, я прочитала в газете, что тебе стукнуло девяносто, а я-то думала сто». Я взвился: «Я что — кажусь тебе такой развалиной?» — «Наоборот, — ответила она, — я удивилась, как хорошо ты выглядишь. Это здорово, что ты не похож на молодящихся старичков, которые набавляют себе годы, чтобы все удивлялись, как хорошо они сохранились.
— И без перехода: — У меня для тебя подарочек». Я искренне удивился: «Какой?»
— «Девочка», — услышал в ответ. Я не задумался ни на миг. «Спасибо, — сказал я, — эта морока уже не для меня». Она гнула свое: «Я пришлю ее тебе на дом, завернутую в серебряную фольгу, хорошо прожаренную, под соусом, с сандаловыми палочками, и все бесплатно». Я стойко держался, но Роса отстаивала свое, как мне показалось, искренне. Сказала, что девочка в ту пятницу так вымоталась, пришивая двести пуговиц иголкой с ниткой и с наперстком. Это правда, она боялась, что ее снасильничают до крови, но ее наставляли, как положено, и она была к этому готова. Действительно, ночью она просыпалась, чтобы пойти в ванную, но я спал так крепко, что ей стало жаль будить меня, а когда утром она проснулась, я уже ушел.
Меня возмутило это, на мой взгляд, бесполезное вранье. «Ладно, — продолжала Роса Кабаркас, — пусть даже так, девочка раскаивается. Бедняжка здесь, рядом со мной. Хочешь, передам ей трубку?» — «Нет, нет, Бога ради», — запротестовал я.
Я начал писать, когда позвонила секретарша из редакции. И сказала, что директор хотел бы видеть меня завтра в одиннадцать утра. Я пришел точно. Во всем здании стоял невыносимый грохот, воздух раздирал треск молотков, заполняла цементная пыль, битумный чад, но редакция уже научилась мыслить в рутине хаоса. Административные помещения, напротив, были прохладными и тихими, оставались в какой-то другой, идеальной стране, не нашей.
Марк Туллий Третий, смахивающий на подростка, увидев меня в дверях, поднялся на ноги, не прерывая телефонного разговора, через стол протянул мне руку и жестом предложил сесть. Я было подумал, что на другой стороне провода никого нет и что он устроил этот театр, чтобы произвести на меня впечатление, но скоро понял: он разговаривает с губернатором и разговор этот — трудный, разговор закадычных врагов. Но все-таки думаю, директор старался выглядеть передо мной деловым, хотя и разговаривал с начальством стоя.
Похоже, скрупулезность была его пороком. В свои двадцать девять лет он уже знал четыре языка и обладал тремя международными дипломами, в отличие от первого пожизненного президента, его деда по отцовской линии, который сделался журналистом эмпирически, после того как сколотил состояние на торговле проститутками. Директор был раскован, выглядел красивым и спокойным, единственное, что вносило диссонанс в его образ, были фальшивые нотки, проскальзывавшие в голосе. Пиджаки он носил спортивного покроя, с живой орхидеей в петлице, и все на нем сидело так, словно было частью его существа, ничто в нем не было создано для уличного ненастья, все исключительно для сияющей весны его кабинетов. Мне, потратившему почти два часа на одевание к этому визиту, вдруг стало стыдно моей бедности, и оттого я разозлился еще больше.
А ко всему прочему, смертельный яд источала панорамная фотография сотрудников редакции, сделанная в честь 25-летия газеты, где над головами некоторых из них стояли крестики — над головами умерших. Я был третьим справа, в шляпе-канотье, в галстуке, завязанном широким узлом и заткнутом булавкой с жемчужиной, в бравых усах, как штатский полковник, их я носил до сорока лет, и очочках в металлической оправе, точно у подслеповатого семинариста, в которых полвека спустя я уже не нуждался. Я видел эту фотографию в разные годы в разных кабинетах, но только на этот раз до меня дошел ее посыл: из сорока восьми человек, работавших здесь с самого начала, только четверо были еще живы, и младший из нас отбывал двадцатилетний срок за серийные убийства.
Директор закончил разговор и, заметив, что я смотрю на фотографию, улыбнулся. «Крестики ставил не я, — сказал он. — По-моему, это дурной вкус. — Он сел за стол и заговорил другим тоном: — Позвольте сказать вам, что вы — самый непредсказуемый человек из всех, кого я знал. — И на мое удивление — взял быка за рога: — Я имею в виду ваше заявление об уходе. — Я едва успел сказать: „Это — вся жизнь“. Он возразил, что потому-то это — не выход. А статья показалась ему замечательной, и все размышления о старости — лучшее, что приходилось ему читать, а потому никакого смысла не было заканчивать ее решением, более похожим на гражданскую смерть. „К счастью, — сказал директор, — Гнусный Снежный Человек прочитал ее, когда та уже была сверстана, и она показалась ему неприемлемой. Не посоветовавшись ни с кем, он вымарал ее своим карандашом Торквемады. Когда я узнал об этом сегодня утром, велел направить властям ноту протеста. Это мой долг, однако, между нами, признаюсь, что я благодарен цензору за самоуправство. Но не намерен допускать, чтобы нота осталась без внимания“. Он умоляет всем сердцем. Не покидайте корабль в открытом море. И закончил в высоком стиле: „Нам с вами еще говорить и говорить о музыке“.
Директор был настроен так решительно, что я побоялся углубить наши расхождения какой-нибудь отговоркой. На самом деле у меня не было достойной причины покидать галеры, и меня привела в ужас мысль, что я еще раз скажу да, только затем, чтобы выиграть время. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не заметно было, как позорно, до слез, я расчувствовался. И мы еще раз, как всегда, по прошествии стольких лет, остались каждый при своем.
На следующей неделе, отмеченной скорее суматохой, чем весельем, я зашел в питомник забрать кота, которого мне подарили печатники. У меня с животными очень плохая совместимость, равно как и с детьми, пока они не начинают говорить. Мне кажется, у них немая душа. Не могу сказать, что я их не люблю, просто не переношу, потому что не научился общаться с ними. Мне кажется противоестественным, что мужчина со своей собакой находит лучшее понимание, чем с женой. Он учит жизни есть или не есть в определенные часы, беседует с ней и делит с ней свои печали. Но не забрать подаренного типографами животное значило бы обидеть их. К тому же это был прелестный ангорский котик с блестящей розоватой шерсткой и горящими глазами, а мяукал он так, что казалось, вот-вот заговорит. Мне отдали его в плетеной корзинке вместе с сертификатом породы и с инструкцией, по пользованию, словно для складного велосипеда.
Военный патруль проверял документы у прохожих, прежде чем разрешить им войти в парк Сан Николас. Ничего подобного я никогда не видел, а тягостное впечатление, которое на меня это произвело, счел симптомом старости. Патруль состоял из четырех человек под командой офицера, почти подростка. Патрульные были крепкие, молчаливые ребята с сурового высокогорья, и пахло от них стойлом. Офицер, на щеках которого лежал загар взморья, внимательно следил за ними. Проверив мое удостоверение личности и журналистское удостоверение, он спросил, что у меня в корзинке. «Кот», — ответил я. Он захотел посмотреть. Боясь, как бы кот не выскочил, я очень осторожно открыл корзинку, но патрульный решил удостовериться, нет ли чего на дне, и кот цапнул его. «Великолепный ангорец», — вступился офицер. Погладил кота, что-то шепча, и тот его не тронул, но и внимания на него не обратил. «Сколько ему лет?» — поинтересовался офицер. «Не знаю, — сказал я, — мне его только что подарили». — «Я спрашиваю потому, что вижу, он очень старый, лет десять, наверное». Мне хотелось разузнать, откуда это ему известно, и еще много чего, но, несмотря на его хорошие манеры и изящную речь, у меня не было сил разговаривать с ним. «По-моему, он брошенный и побывал уже у многих, — сказал офицер. — Понаблюдайте за ним, не переучивайте его под себя, а наоборот, подстройтесь под него и подождите, пока заслужите его доверие». Он закрыл крышку корзинки и спросил: «А чем вы занимаетесь?» — «Я журналист». — «Давно?» — «Целый век», — ответил я. «Я так и подумал», — сказал он. Пожал мне руку и попрощался словами, которые вполне могли быть как добрым советом, так и предостережением:
— Берегите себя.
В полдень я отключил телефон, чтобы «уйти» в изысканно подобранную музыку: рапсодия для кларнета с оркестром Вагнера, рапсодия для саксофона Дебюсси и квинтет для струнных Брукнера, райское отдохновение в катаклизме его музыкальных творений. Я погрузился в полумрак комнаты. И вдруг почувствовал, как что-то скользнуло под столом, мне показалось, что это не живое существо, а некая сверхъестественная субстанция, она коснулась моих ног, раздался крик — и последовал прыжок. Это был кот, с красивым распушенным хвостом, загадочно-неторопливый, мифическое существо, и у меня мороз пробежал по коже: я в доме один на один с живым существом, которое не было человеком.
Когда на колокольне пробило семь и на розовевшем небе осталась всего одна звезда, одинокая и ясная, а какое-то судно, отчалив, дало безутешный прощальный гудок, я почувствовал на горле гордиев узел всех тех Любовей, которые могли случиться, но не случились. Дольше я не мог терпеть. Я поднял трубку, сердце вот-вот выскочит, набрал четыре цифры, очень медленно, чтобы не ошибиться, и после третьего гудка узнал голос. «Ладно, — сказал я ей со вздохом облегчения, — прости, что утром вспылил». Роса, как ни в чем не бывало: «Ничего, я ждала твоего звонка». Я предупредил: пусть девочка будет в том виде, в каком Бог выпустил ее в мир, и никакой краски на лице. Она гулко хохотнула. «Как скажешь, но ты лишаешь себя удовольствия снять с нее одежду, вещичку за вещичкой, как обожают делать старики, уж не знаю почему». — «А я — знаю, — ответил я: — С каждым таким разом они старятся все больше». Она согласилась. «Идет, — сказала она, — значит, ровно в десять вечера, да поспей, пока она тепленькая».
III
Как ее звали? Роса мне не сказала. Она всегда называла ее просто «нинья» — девочка. И я нарек ее нинья, как «Нинья, свет очей моих», или как «Нинья», меньшая каравелла Колумба. К тому же Роса Кабаркас давала своим подопечным разные имена для разных клиентов. Я, бывало, забавлялся, стараясь угадать имя по лицу, и с самого начала был уверен, что у девочки длинное имя, что-нибудь вроде Филомены, Сатурнины или Николасы. Об этом я думал, когда она повернулась на другой бок, спиною ко мне, а мне почудилось, что под нею — лужа крови, по форме и размерам как ее тело. Я содрогнулся и пришел в себя, только когда убедился, что на простыне всего лишь влажное пятно пота.
Роса Кабаркас наставляла меня обращаться с ней осторожно, она все еще боится, все-таки в первый раз. И более того, торжественность ритуала страх усилила, пришлось дать девочке побольше валерьянки, так что она теперь спит мирно и спокойно, жаль будить ее. И я принялся полотенцем отирать ей пот, тихонько напевая ей песенку про Дельгадину, Худышку, младшую дочку короля, которой не хватало отцовской любви. Я вытирал ее, а она, в такт песенки, поворачивалась ко мне то одним, то другим боком: «Дельгадина, Худышка, будешь самой любимой». Это было такое наслаждение, потому что не успевал я вытереть один бок, как она поворачивалась ко мне другим, снова вспотевшим боком, так что песенка не кончалась. «Поднимайся, Худышка, одевайся, Худышка», — пел я ей на ухо. А к концу песенки, когда слуги короля находят ее в постели умершей от жажды, мне показалось, что моя девочка вот-вот проснется при звуке своего имени. Потому что она и была: Дельгадина-Худышка. Я лег в постель в своих разукрашенных поцелуями трусах и пристроился рядом с девочкой. Я проспал до пяти часов под тихий шелест ее дыхания. Оделся быстро, не помывшись, и только тогда увидел на зеркале написанную губной помадой фразу: «Тигр за едой далеко не ходит». Я знаю, что прошлой ночью я тут не был, и никто не мог в эту комнату войти, а, потому воспринял эти слова, как послание дьявола. Чудовищный раскат грома застал меня в дверях, и комната наполнилась вещим запахом мокрой земли. Я не успел убежать невредимым. Пока я искал такси, разразился страшный ливень, такие ливни, падающие на город с мая по октябрь, погружают его в хаос, раскаленные песчаные улицы, сбегающие к реке, превращаются в бурные потоки, уносящие все, что попадается им на пути. Дожди того необычного сентября, обрушившиеся на город после трех месяцев засухи, могли стать как спасительными, так и разрушительными.
Едва я открыл дверь дома, как на меня нахлынуло физическое ощущение, что я не один. Я увидел только промельк кота, вскочившего с дивана и выскользнувшего на балкон. На тарелке лежали остатки еды, которой я туда не клал. Прогорклый запах мочи и свежих какашек пропитал все. Я изучал его, как в свое время изучал латынь. Из инструкции я узнал, что коты закапывают свои испражнения в землю, а в домах, где нет двора, как мой, закапывают в цветочные горшки или ищут какой-нибудь укромный угол. Лучше всего в первый же день поставить коту ящик с песком, чтобы ориентировать его, что я и сделал. Говорилось также, что перво-наперво в новом доме кот метит свою территорию, мочится повсюду, и, должно быть, именно в этом и было дело, но инструкция умалчивала о том, как с этим бороться. Он вел свою линию, приучая меня к своим обычаям и привычкам, но не раскрывал ни своих укромных мест, ни тайничков, где отлеживался, ни причин своих переменчивых настроений. Я хотел научить его есть в определенные часы, пользоваться ящиком с песком на террасе, не прыгать ко мне на постель, когда я сплю, и не обнюхивать еду на столе, но мне так и не удалось внушить ему, что дом — его по праву собственности, а вовсе не по закону военных трофеев. Кончилось тем, что я предоставил кота самому себе.
Под вечер хлынул ливень, ураганный ветер грозил снести дом. Я расчихался, болела голова, поднялась температура, но в меня словно вселилась сила и решимость, каких я не знал ни в каком возрасте и ни при каких обстоятельствах. На полу я расставил тазы под капелью с потолка и обнаружил, что с прошлой зимы появились новые протечки. Самая большая уже начала заливать правую сторону библиотеки. Я поспешил спасать греческих и латинских авторов, обитавших там, но когда снял с полки книги, из стены забила струя, оказывается, прорвало трубу. Я, как мог, заткнул ее тряпками, чтобы выиграть время и спасти книги. Вода и ветер все злее лютовали в парке. Вдруг чудовищная молния и раскат грома распороли воздух и наполнили его густым запахом серы, порыв стихии выбил балконные стекла, и штормовой морской ветер, сорвав запоры, ворвался в дом. Однако не прошло и десяти минут, как все разом стихло. Засияло солнце, высушило усеянные обломками и мусором улицы, и вернулась жара. Ливень прошел, а у меня осталось ощущение, будто я в доме не один. Объяснение единственное: точно так же, как одни, реально случившиеся, вещи забываются, другие, никогда не случавшиеся, могут оставаться в памяти так, словно они на самом деле были. И теперь, стоило мне вызвать в памяти тот ливень, как я уже находился в доме не один, а со мной всегда была Худышка. Ночью я чувствовал девочку так близко, что ощущал ее дыхание и как подрагивает ее щека на моей подушке.
Только тогда я понял, как много мы успели бы сделать вместе за такое короткое время. Я помню, как я в библиотеке влезал на табурет, а она, проснувшаяся, в цветастом платьице, собирала книги, чтобы они не намокли. Я видел, как она бегала по дому, сражаясь с грозой, промокшая до нитки, по щиколотку в воде. И вспоминаю, как потом, наутро, она приготовила завтрак, которого не было, и накрыла на стол, пока я вытирал полы и приводил в порядок дом после ночного потопа. И никогда не забуду, как за завтраком она хмуро посмотрела на меня: «Почему ты познакомился со мной таким старым?» Я ответил ей правду: возраст — это не то, сколько тебе лет, а как ты их чувствуешь.
И с тех пор я помнил ее так ясно, что мог делать с ней все, что мне вздумается. Менял цвет ее глаз в зависимости от моего настроения. Они были цвета морской воды, когда она просыпалась, медовые, когда смеялась, и огненные, когда злилась. И так же, по настроению, одевал ее в соответствии с возрастом или с обстоятельствами: в двадцать лет -влюбленная скромница, в сорок — дама полусвета, в семьдесят — царица Вавилонская, а в сто — святая. Мы вместе пели любовные дуэты Пуччини, болеро Агустина Лары, танго Карлоса Гарделя и снова убеждались, что те, кто не поет, и представить себе не могут, какое это счастье — петь. Теперь я точно знаю: то было не помрачение рассудка, а чудо первой в моей жизни любви, пришедшей в девяносто лет.
Когда дом был приведен в порядок, я позвонил Росе Кабаркас. «Святой Боже! — воскликнула она, услыхав мой голос, — а я думала, ты потонул». Она не могла взять в толк, как это я снова провел ночь с девочкой и не тронул ее. «Она может тебе не нравиться, ты в своем праве, но хотя бы веди себя, как взрослый». Я пытался ей объяснить, но Роса резко переменила тему: «Ладно, у меня есть для тебя другая, постарше, красивая и тоже девственница. Папаша хочет обменять ее на дом, но можно поторговаться». У меня заледенело сердце. «Еще чего, — испуганно запротестовал я, — хочу ту же самую, и, как всегда, чтобы все было, как договорено, без ссор и без неприятностей». В трубке наступила тишина, и наконец, смиренный голос проговорил как будто для себя: «Да, видно, это доктора и называют старческим слабоумием».
Я приехал ровно в десять со знакомым шофером, которого запомнил за необыкновенную деликатность не задавать вопросов. Я привез с собой портативный вентилятор и любимую картину Орландо Риверы-Фигуриты, а также молоток и гвоздь, чтобы повесить ее. По дороге я остановился, чтобы купить зубную щетку, пасту, туалетное мыло, туалетную воду «Агуа де-Флорида» и леденцы с лакрицей. Я хотел купить еще вазу для цветов и букет чайных роз, чтобы затмить горшок с бумажными цветочками, но все уже было закрыто, и пришлось украсть в чьем-то саду несколько только что распустившихся астромелий.
Памятуя наставления хозяйки, я подошел к дому сзади, по параллельной улице, со стороны акведука, чтобы никто не увидел меня у дверей, выходящих в сад. Шофер предупредил: «Осторожно, почтенный, в этом доме убивают». Я ответил: «Если из-за любви, то пусть убивают». Во дворе было темно, но в окнах светилась жизнь, а в шести комнатах бурлила музыкальная мешанина. В моей, чуть громче, чем в других, звучал теплый голос дона Педро Варгаса, американского тенора, исполнявшего болеро Мигеля Матамороса. Я почувствовал, что сейчас умру. Дыхание перехватило, я толкнул дверь и увидел Дельгадину на постели такой, какой я все время вспоминал ее: обнаженная, она сладко спала на левом боку, на том, где сердце.
Прежде чем лечь, я выложил туалетные принадлежности, поставил новый вентилятор на место ржавого и повесил картину так, чтобы она могла видеть ее из постели. Потом лег рядом с ней и пядь за пядью узнал ее всю. Она была та самая, что ходила по моему дому: те же руки, которые в темноте ощупью узнавали меня, те же ноги, с такой мягкой поступью, что ее можно было спутать с кошачьей, тот же запах пота, что был на моих простынях, и палец, на который она надевала наперсток. Но вот что невероятно: та, которую я видел во плоти, которой касался рукой, казалась мне менее реальной, чем та, которая жила в моей памяти. «На стене, напротив тебя, картина, — сказал я ей. — Ее нарисовал Фигурита, мы его очень любили, это был лучший на свете танцовщик в борделях, человек такого доброго сердца, что жалел даже дьявола. Он нарисовал ее красками, какими красят суда, на отработавшем полотне с самолета, разбившегося в горах Сьерра Невада-де-Санта-Мария, и кистями, сделанными им самим из шерсти его собаки. Женщина, нарисованная на ней, — монахиня, которую он выкрал из монастыря и на которой женился. Я повесил картину там, пусть это будет первое, что ты увидишь, когда проснешься».
Она лежала все в той же позе, когда я погасил свет, в час ночи, и дыхание ее было таким тихим, что я даже пощупал пульс — убедиться, жива ли она. Кровь струилась по ее венам, как тихая песня, доходила до самых потаенных мест ее тела и возвращалась к сердцу, очищенная любовью.
В прошлый раз, перед уходом, я срисовал на бумагу линии ее руки и дал прочесть их Диве Сахиби, чтобы узнать душу девочки. И получилось: говорит она только то, что думает. Очень способна к ручным работам. Находится в контакте с умершим человеком, ожидая от него помощи, но напрасно: помощь, на которую она рассчитывает, — рядом. У нее не было связи, умрет она в солидном возрасте и в замужестве. Сейчас у нее есть мужчина, брюнет, но это не мужчина ее жизни. У нее может быть восемь детей, но она решится только на трех. В тридцать пять лет, если будет делать то, что ей подсказывает сердце, а не разум, в ее руках окажется много денег, а в сорок она получит наследство. Будет много путешествовать. У нее двойная жизнь и двойная судьба, и она может влиять на свою судьбу. Ей нравится пробовать все, из любопытства, но она будет раскаиваться, если не станет слушаться своего сердца.
В любовной горячке я привел в порядок разоренный грозою дом, а заодно починил и много разных вещей, до которых целые годы не доходили руки или на которые никогда не было денег. Я переставил книги в библиотеке в том порядке, в каком читал их когда-то. И наконец распростился с исторической реликвией, пианолой и более чем сотней валиков с записью классической музыки, и купил проигрыватель, не новый, но лучше того, что был у меня, с динамиками HiFi, от чего дом сразу приобрел некую величественность. Я оказался на грани полного разорения, но все искупало чудо: в свои годы я еще был жив.
Дом возрождался из пепла, а я купался в своей любви к Дельгадине, любви такой полной и счастливой, какой никогда раньше не знал. Благодаря ей я первый раз за девяносто лет жизни встретился лицом к лицу с самим собой. И обнаружил, что маниакальная страсть к тому, чтобы каждая вещь имела свое место, каждое дело — свое время, каждое слово— свой стиль, вовсе не была заслугой упорядоченного ума, но наоборот — придуманной мною системой для сокрытия беспорядочности моей натуры. Я обнаружил, что дисциплинированность — вовсе не мое достоинство, но всего лишь реакция на собственную бесшабашность; что я выгляжу щедрым, чтобы скрыть свою мелочность, что слыву осторожным, потому что таю зломыслие, что умиротворитель я не по натуре, а из боязни дать волю подавляемым порывам бешенства, и что пунктуален лишь затем, чтобы не знали, как мало я ценю чужое время. И наконец, я открыл, что любовь — вовсе не состояние души, но знак Зодиака.
Я стал другим. Я попытался перечитать классиков, которыми руководствовался в отрочестве, и не смог. Я погрузился в литературу романтиков, которую терпеть не мог, когда мать твердой рукой пыталась ее навязывать мне, а теперь именно благодаря ей понял, что необоримая сила, которая движет миром, вовсе не счастливая любовь, а любовь несчастная. А когда кризис поразил и мои музыкальные вкусы, я почувствовал себя старым и отсталым и открыл свое сердце радостям слепого случая.
Я спрашиваю себя, как мог я поддаться этому непрекращающемуся помрачению, которого так боялся и которое сам вызвал. Я витал в обманных облаках и сам с собой разговаривал перед зеркалом в тщетной надежде понять, кто я есть. Я был как в бреду, и однажды, увидев демонстрацию студентов, бросающих камни и бьющих бутылки, с трудом взял себя в руки, чтобы не пойти в первом ряду под транспарантом, который освятил бы мою правду: «Я сошел с ума от любви».
Образ спящей Дельгадины неотступно стоял передо мной, и я безо всякого умысла совершенно изменил характер моих воскресных заметок. О чем бы я ни писал теперь, я писал для нее, я смеялся и плакал для нее, и с каждым написанным мною словом уходила частичка моей жизни. Вместо привычной газетной манеры, в какой я писал всегда, я стал писать в виде любовных писем, так что каждый мог читать их как свои. Я предложил редакции не набирать текст типографским шрифтом, а публиковать их написанными от руки моим каллиграфическим почерком. Заведующий редакцией, конечно же, увидел в этом очередной приступ старческого тщеславия, но генеральный директор убедил его всего лишь одной фразой, которая сразу стала крылатой в редакции:
— Не заблуждайтесь: тихие сумасшедшие приближают будущее.
Публика незамедлительно откликнулась множеством восторженных писем от влюбленных читателей. Некоторые письма даже читали по радио, как важные новости, в прайм-тайм, с них делали всевозможные копии на мимеографах или через копировальную бумагу и продавали, как контрабандные сигареты на углах улицы Сан Блас. С самого начала они были продиктованы страстным желанием выразить себя, я их писал от имени девяностолетнего человека, который не научился думать как старик. Интеллектуальная среда, по обычаю, повела себя ханжески. И даже графологи, от которых этого меньше всего ожидали, пустились в противоречивые рассуждения, основываясь на ошибочных заключениях связанных с моей каллиграфией. Именно они посеяли раздор в мыслях и настроениях, разожгли костер полемики и ввели моду на ностальгию.
Я договорился с Росой Кабаркас, что до конца года в комнате останется электрический вентилятор, туалетные принадлежности и все, что я еще сочту необходимым для жизни. Я приходил в десять и всегда приносил что-нибудь для девочки, или для нас обоих, и несколько минут занимался тем, что ставил декорации для театра наших ночей. А прежде чем уйти, всегда не позднее пяти утра, снова прятал все под замок. И спальня снова становилась убогой, какой она и была с самого начала, предназначенная для унылых любовей случайных клиентов. В одно прекрасное утро я услышал, что Маркос Перес, самый популярный голос на радио, решил читать мои воскресные заметки в понедельник в своем выпуске новостей. Преодолев брезгливость и испуг, я сказал: «Знаешь, Дельгадина, слава — это толстая сеньора, которая не спит с тобой, но когда просыпаешься, она стоит у постели и смотрит».
Как-то утром я остался позавтракать с Росой Кабаркас, казавшуюся мне уже не такой дряхлой развалиной, несмотря на ее глубокий траур и надвинутую на брови черную шляпку. Ее завтраки славились своим великолепием и обилием перца, от которого у меня катились слезы из глаз. Откусив первый же кусок живого огня, я изрек, обливаясь слезами: «Сегодня ночью у меня и без полнолуния будет гореть задница». — «Брось жаловаться, — сказала она. — Если задница горит, значит, она у тебя пока еще, слава Богу, есть».
Роса удивилась, когда я назвал Дельгадину. «Ее не так зовут», — сказала бандерша. «Не говори как, — перебил я ее, — для меня она — Дельгадина-Худышка». Та пожала плечами: «Ладно, какая разница, она — твоя, просто это имя мне кажется каким-то рахитичным». Я рассказал ей про слова о тигре, которые девочка написала на зеркале. «Не может такого быть, — удивилась женщина, — она не умеет ни читать, ни писать». — «В таком случае — кто же?» Роса пожала плечами: «Должно быть, кто-то, кто умер в этой комнате».
Я воспользовался этими завтраками, чтобы облегчить душу с Росой Кабаркас и попросить у нее разные малости для Дельгадины, чуть улучшить условия, чуть приодеть. Она соглашалась охотно, даже лукаво, точно школьница. «Смешно! — сказала Роса мне как-то. — У меня такое ощущение, будто ты просишь у меня ее руки. Кстати, — вдруг пришло ей в голову, — почему бы тебе на ней не жениться, в самом деле?» Я остолбенел. «Серьезно, — настаивала она, — дешевле бы вышло. В конце концов, в твоем возрасте главное — годишься ты или не годишься, а ты сказал, что у тебя с этим — порядок». Я перехватил инициативу: «Безлюбый секс — утешение для тех, кого не настигла любовь».
Она расхохоталась: «Ах, мудрый ты мой, я всегда знала, ты — настоящий мужчина, всегда таким был, и рада, что таким остался, в то время как твои враги уже сложили оружие. Не зря о тебе столько разговоров. Ты слышал Маркоса Переса?» — «Кто ж его не слышал», — сказал я, чтобы свернуть разговор. Но она гнула свое: «А профессор Камачо и Кано вчера в передаче „Обо всем понемножку“ сказал, что мир теперь уже не тот потому, что мало осталось таких, как ты».
К концу той недели я обнаружил, что Дельгадина кашляет и у нее жар. Я разбудил Росу Кабаркас, и та принесла мне в комнату аптечку для первой помощи. Два дня спустя она все еще была слаба и не могла вернуться к своему обычному занятию — пришивать пуговицы. Врач прописал ей домашние средства как для обычного гриппа, который проходит за неделю, однако был встревожен ее общим истощением. Я не видел Дельгадину, чувствовал, что мне ее не хватает, и пока решил воспользоваться случаем и устроить все по-своему в комнате.
Я принес сделанный пером рисунок Сесилии Поррас к книге рассказов Альваро Сепеды «Мы все ждали». Еще шесть томов Жана Кристофа, Ромена Роллана, чтобы украсить мои ночные бдения. Словом, когда Дельгадина смогла вернуться сюда, комната имела достойный вид и была вполне пригодна для здешнего счастья: воздух, очищенный душистым инсектицидом, стены розового цвета, матовые плафоны на лампах, свежие цветы в вазах, мои любимые книги, хорошие картины моей матери, повешенные иначе, в соответствии с сегодняшними вкусами. Я поменял старый приемник на новый, коротковолновый, и поставил на программу классической музыки, чтобы Дельгадина научилась спать под квартеты Моцарта, но в один прекрасный вечер обнаружил, что он настроен на волну, передающую модные болеро. Таков был ее вкус, никаких сомнений, и я принял его без сожаления, потому что и я в свое время, в лучшие мои дни, искренне увлекался ими. На следующий день перед тем, как уйти домой, я губной помадой написал на зеркале: «Девочка моя, мы одиноки в этом мире».
В те дни у меня появилось странное ощущение, будто она взрослеет раньше времени. Я поделился этим впечатлением с Росой Кабаркас, и ей это показалось естественным. Пятнадцатого декабря Дельгадине исполняется пятнадцать лет. Она типичный Стрелец. Я испугался: девочка настолько реальна, что каждый год ей прибавляется по году. Что бы я мог ей подарить? «Велосипед», — сказала Роса Кабаркас. — Ей приходится два раза в день через весь город добираться до своих пуговиц». Она показала мне в кладовке ее велосипед, и я подумал, что, пожалуй, женщине, столь любимой, не подобает ездить на такой кастрюле. Однако я был растроган столь осязаемым доказательством того, что Дельгадина, и в самом деле, существует в реальной жизни.
Я отправился покупать для нее самый лучший велосипед и не смог удержаться от искушения проверить его, сделать несколько кругов по магазину. Продавцу, поинтересовавшемуся, сколько мне лет, ответил с кокетством старости: скоро исполняется девяносто один. Он сказал именно то, что я хотел услышать: «Выглядите на двадцать лет моложе». Я и сам не понимал, как могли сохраниться у меня школьные замашки, но почувствовал, что радость бьет из меня ключом. И я запел. Сперва про себя, тихонько, а потом всей грудью, заливался, точно великий Карузо, петляя между пестрыми магазинными прилавками, в сумасшедшем людском водовороте. Люди забавлялись, глядя на меня, кричали мне вслед, советовали принять участие в гонке «Вокруг Колумбии в инвалидной коляске». Я, не прерывая пения, махал им рукой, посылая прощальный привет от счастливого путешественника. На той же неделе, я написал еще одну отчаянную статью: «Как быть счастливым на велосипеде в девяносто лет».
В день ее рождения, ночью, я спел Дельгадине песню всю, от начала до конца, и исцеловал все ее тело так, что задохнулся от поцелуев: позвоночник, позвоночек за позвоночком, до самых ее худеньких ягодиц, бок, где родинка, и там, где бьется ее бессонное сердце. Я целовал, а ее тело все больше согревалось и начинало испускать диковатый аромат. Каждый дюйм ее кожи отвечал мне нежной дрожью, и каждый мой поцелуй встречал иное тепло, и свой особый вкус, и новый стон, и вся она отзывалась изнутри стройным созвучием, и сосцы ее открывались навстречу моим пальцам, не касавшимся их. Я засыпал уже на рассвете и вдруг почувствовал, будто взметнулся рокот морских волн, паника пробежала по деревьям и прошла сквозь мое сердце. И тогда я пошел в ванную комнату и написал на зеркале: «Дельгадина-Худышка, любовь моя, вот и налетели рождественские ветры».
Одно из самых счастливых моих воспоминаний — воспоминание о душевной сумятице, испытанной однажды вот таким же утром, выйдя из школы. Что со мной? Учительница растерянно сказала мне: «Ах, сынок, это же ветры». Восемьдесят лет спустя я пережил то же ощущение, когда проснулся в постели Дельгадины, и снова был декабрь, наставший точно в свое время, декабрь, с его прозрачным, чистым небом, песчаными бурями и вихрями на улицах, срывавшими крыши с домов и поднимавшими юбки у школьниц. Город наполнялся призрачным гулом. В ветреные ночи крики городского рынка были слышны в самых далеких кварталах так, словно он находился за углом. И не удивительно, что декабрьские ветры позволяли нам по голосам находить друзей, разбредшихся по самым далеким борделям.
Но с этими же ветрами мне пришло и дурное известие о том, что Дельгадина не сможет провести со мной рождественские праздники, а будет со своей семьей. Если я что-то презираю в этом мире, то это праздничные сборища по обязанности, где люди плачут от радости, и все эти искусственные огни, дурацкие рождественские песни и бумажные гирлянды, которые не имеют ничего общего с младенцем, родившимся две с половиной тысячи лет назад в убогих яслях. Однако, когда наступила Рождественская ночь, я не смог побороть тоски и отправился в комнату без нее. Я спал хорошо, а когда проснулся, рядом был плюшевый медвежонок, ходивший на задних лапах, как северный, полярный, и открытка с надписью: «Гадкому папе». Роса Кабаркас говорила мне, что Дельгадина учится писать по моим урокам письма на зеркале, и меня восхитили ее ровные буквы. Но сама она огорчила меня еще одним известием, медвежонок — ее подарок. В новогоднюю ночь я остался дома, в постели с восьми вечера, и заснул безо всякой горечи. Я был счастлив, потому что когда пробило двенадцать, то — за яростным трезвоном колоколов, фабричными гудками, пожарными сиренами, надрывными стонами отчаливающих судов, взрывом пороха и треском петард — я почувствовал, как на цыпочках вошла Дельгадина, легла рядом со мною и поцеловала меня. Почувствовал так отчетливо, что во рту у меня остался запах лакрицы от ее поцелуя.
IV
В начале нового года мы начали узнавать друг друга, как будто жили вместе и наяву, я приноровился тихонечко напевать ей так, что она слышала, не просыпаясь, и отвечала мне, отзываясь природным языком тела. Ее настроения можно было понимать по тому, как она спала. Изможденная и грубоватая вначале, Дельгадина постепенно словно обретала внутренний покой, отчего лицо ее становилось красивее, а сны богаче. Я рассказывал ей свою жизнь, я читал ей на ухо черновики своих воскресных заметок, в которых всегда присутствовала она, не названная, но только она.
Как-то я оставил ей на подушке серьги с изумрудами, серьги моей матери. Она надела их к следующему нашему свиданию, но они ей не шли. Тогда я принес ей другие, более подходящие к цвету ее кожи. И объяснил: первые тебе не шли, ни к лицу, ни к стрижке. Эти будут хороши. В последующие два свидания она не надела ни те, ни другие, но на третье появилась в тех, на которые я ей указал. Мне стало понятно: она не повиновалась моим указаниям, но ждала случая сделать мне приятное. В те дни я так свыкся с домашней жизнью, что перестал спать голышом и начал на ночь облачаться в пижамы из китайского шелка, которыми уже давно не пользовался, поскольку не для кого было их снимать.
Я начал читать «Маленького принца» Сент-Экзюпери, французского автора, которым весь мир восхищается больше, чем сами французы. Это было первое, что ее заинтересовало, хотя она и не проснулась, но заинтересовало настолько, что мне пришлось приходить два дня подряд, чтобы дочитать книгу до конца. Потом мы читали «Сказки» Перро, Священную историю, «Тысячу и одну ночь», в дезинфицированном варианте для детей, и по разнице между тем и другим я понял, что ее сон имеет разные степени глубины в зависимости от того, насколько ей интересно прочитанное мною. Когда я чувствовал, что, как говорится, коснулся донышка, я гасил свет и, обняв ее, спал до петухов.
Я был счастлив, я целовал ее нежно-нежно в веки, и однажды ночью, словно луч блеснул в небе: она улыбнулась в первый раз. А потом, ни с того ни с сего, повернулась в постели спиной ко мне и проговорила недовольно: «Это Исабель виновата, что улитки плакали». Я воодушевился надеждой, что может завязаться разговор, и в тон ей спросил: «А чьи они?» Она не ответила. Голос и тон у нее были плебейские, как будто вовсе не ее, как будто внутри скрывался кто-то чужой. И тогда в душе у меня исчезла даже тень сомнения: она мне больше нравилась спящей.
Единственной проблемой был кот. Он совершенно потерял интерес к жизни, два дня угрюмо сидел в своем углу, не поднимая головы, и цапнул меня, точно раненый зверь, когда я хотел посадить его в корзинку, чтобы Дамиана отнесла его к ветеринару. Она с трудом засунула дрыгающего лапами кота в плетеную сумку и унесла из дома. Через некоторое время она позвонила мне из питомника, чтобы сообщить: выхода нет, придется усыпить, но требуется мое распоряжение. Почему усыпить? «Потому что очень старый», — сказала Дамиана. Я подумал с яростью, что так и меня можно зажарить живьем в печке для котов. Я почувствовал себя безоружным между двух огней: я не научился любить кота, однако душа не лежала приказать усыпить его только за то, что он старый. Где эта инструкция, что в ней говорится?
Это происшествие так меня взволновало, что я написал воскресную статью под заголовком, заимствованным у Неруды: «Кот — это маленький комнатный тигр?» Статья породила новую кампанию, в очередной раз разделившую общество на тех, кто за котов, и тех, кто против. Через пять дней возобладало мнение, что вполне законно усыпить кота в целях общественного здоровья, но не по причине его старости.
После смерти матери меня всегда мучил страх, что кто-то может дотронуться до меня, когда я сплю. Однажды ночью я это почувствовал, но голос матери вернул мне покой: Figlio mio poveretto [2]. Снова я ощутил это на рассвете в комнате Дельгадины и чуть не подскочил от радости, решив, что это она ко мне прикоснулась. Но нет: то была Роса Кабаркас в полной темноте, появившаяся из кромешной тьмы «Одевайся скорее и пошли со мной, — сказала она, — у меня серьезная проблема». Проблема была гораздо более серьезная, чем можно себе представить. Одного из важных клиентов заведения убили, зарезали, в первой комнате дома. Убийца скрылся. Труп, огромный, голый, но в туфлях, бледный, как вареная курица, лежал на постели, залитой кровью. Я узнал его с порога: это был Х.М.Б., крупный банкир, осанистый и симпатичный, известный умением хорошо одеваться, а главное, — славившийся непорочностью своего домашнего очага. Две багровые раны на шее, точно губы, и здоровая дыра в животе, из которой шла кровь. Трупное окоченение еще не наступило. Но больше, чем раны, поразило меня то, что на съеженный смертью член был надет презерватив, похоже, не использованный.
Роса Кабаркас не знала, с кем был банкир, потому что он тоже обладал привилегией входить в дом через дверь из сада. Не исключала она и вероятности, что его парой был мужчина. Хозяйка заведения хотела от меня одного — чтобы я помог ей одеть труп. Она держалась так спокойно и уверенно, что меня царапнула мысль, не является ли смерть для нее обычным, кухонным делом. «Нет ничего труднее, чем одевать покойника», — сказал я. «С Божьей помощью, я это делала, — заметила Роса. — Это легко, если есть кому его поддерживать». Я усомнился: «Думаешь, кто-нибудь поверит в труп, исполосованный ножом, но в целехоньком костюмчике, как у английского джентльмена?»
И тут я испугался за Дельгадину. «Лучше всего тебе увести ее», — посоветовала Роса Кабаркас. «Сначала — труп», — сказал я, холодея от страха. Она это заметила и не смогла скрыть презрения: «Да ты дрожишь!» — «За нее», — настаивал я, но это была только половина правды. «Скажи девочке, пусть уходит, пока сюда не нагрянули». — «Хорошо, — пообещала Роса, — но тебе-то, журналисту, ничего не будет». — «Как и тебе, — заметил я не без злости. — Ты — единственный политик-либерал, который имеет вес в этом правительстве».
Над городом, наслаждавшимся мирной природой и исконной безопасностью, как проклятье, нависала беда — каждый год его сотрясало известие об убийстве, жестоком и скандальном. На этот раз было иначе. Официальное сообщение с броским заголовком и скупыми подробностями гласило, что молодой банкир подвергся нападению и был убит ударами ножа на шоссе Прадомар; мотивы преступления непонятны. У него не было врагов. В сообщении властей предполагаемыми убийцами назывались переселенцы из внутренних областей страны, которые породили волну преступности, совершенно не свойственной миролюбивому характеру местного населения. В первые же часы были задержаны более пятидесяти человек.
Я, возмущенный, пришел к редактору криминального отдела, типичному журналисту двадцатых годов в кепочке с зеленым целлулоидовым козырьком и в резинках-подтяжках на рукавах, который полагал, что знает все до того, как оно произойдет. Однако на этот раз в руках у него были лишь обрывки нитей преступления, и я дополнил картину, с осторожностью для себя. В четыре руки мы написали пять страниц для восьми колонок новостей на первую полосу, ссылаясь, как всегда, на некие источники, заслуживающие полного доверия. Однако у Гнусного Снежного Человека, цензора, не дрогнула рука, чтобы навязать газете официальную версию, что речь якобы идет о бандитском нападении либералов. Угрызения совести сменились у меня мрачной досадой во время погребения, самого циничного и многолюдного погребения века.
Вернувшись домой, тем же вечером я позвонил Росе Кабаркас узнать, что с Дельгадиной, но телефон не отвечал четыре дня. На пятый, сжав зубы, я пошел к ней домой. Двери оказались запечатанными, но не полицией, а санитарной инспекцией. Соседи ничего не знали. От Дельгадины не осталось никаких следов, и я пустился на поиски, отчаянные, а порою и смешные, так что выбился из сил. Целыми днями я наблюдал за юными велосипедистками, сидя на пыльной скамейке в парке, где дети играли, карабкались на облупившуюся статую Симона Боливара. Мимо ездили, крутя педалями эдакие шлюшки, красивые, доступные, лови-хватай хоть с закрытыми глазами, как в жмурки. Когда надежда иссякла, я укрылся в спокойном мире болеро. Но это действовало словно отравленное питье: там каждое слово было ею. Раньше мне нужна была тишина, чтобы писать, потому что разум мой всегда больше тянулся к музыке, чем к рукописи. А тут стало все наоборот: я мог работать только под звуки болеро. Моя жизнь наполнилась ею. Статьи, которые выходили из-под моего пера в те две недели, были чистыми образцами любовных писем. Заведующий редакцией, раздраженный валом пришедших откликов, попросил меня чуть убавить любовный пыл, пока не придумаем, как утешить эту массу влюбленных читателей.
Я не находил покоя, и от этого день шел кувырком. Я просыпался в пять и лежал в потемках, представляя Дельгадину в ее ирреальной жизни: как она будит братьев, как одевает их в школу, кормит, если есть чем, на велосипеде едет через весь город отбывать приговор — пришивать пуговицы. И я спросил себя с удивлением: «О чем думает женщина, когда пришивает пуговицы? Думала ли она обо мне? Искала, как и я, Росу Кабаркас, чтобы выйти на меня?» Целую неделю я не снимал домашнего балахона ни днем, ни ночью, не мылся, не брился, не чистил зубы, так как любовь слишком поздно научила меня, что человек приводит себя в порядок, одевается и душится духами для кого-то, а у меня никогда не было — для кого. Дамиана решила, что я заболел, когда увидела меня в десять утра в гамаке голым. Я окинул ее замутненным вожделением взглядом и предложил вместе покачаться голышом. Она сказала пренебрежительно:
— А вы подумали, что станете делать, если я соглашусь?
Тут я понял, до чего же страдание подкосило меня. Я не узнавал сам себя в этих отроческих переживаниях. Я не покидал дом, боясь отойти от телефона.
Писал, никому не звонил и при первом же звонке бросался к телефону, думая, что это может быть Роса Кабаркас. То и дело отрывался от занятий и звонил целыми днями, день за днем, пока не понял, что у этого телефона нет сердца.
Однажды, дождливым вечером, вернувшись домой, я обнаружил на лестнице у дверей свернувшегося клубочком кота. Он был грязный и ободранный, на него было жалко смотреть. Из инструкции я понял, что кот болен, и я выполнил все указания, чтобы вернуть его к жизни. А днем, когда я просыпался после сиесты, мне вдруг взбрело в голову, что кот может привести меня к дому Дельгадины. Я понес его в рыночной корзинке к дому Росы Кабаркас, который стоял все еще опечатанный и без признаков жизни, но кот стал биться в корзинке и в конце концов выскочил, перепрыгнул через изгородь и исчез в саду меж деревьев. Я постучал кулаком в дверь; из-за двери, не открывая ее, голос по-военному спросил: «Кто идет?» — «Свои, — ответил я в том же духе. — Я ищу хозяйку». — «Нет хозяйки», — сказал голос. «Откройте хотя бы, чтобы забрать кота». — «Нет кота», — сказал голос. Я спросил: «Вы — кто?»
— Никто, — ответил голос.
Я всегда считал, что выражение «умереть от любви» — не более чем поэтическая вольность. Но в тот вечер, возвращаясь домой без кота и без нее, я убедился, это не так, я сам, старый и одинокий, умираю из-за любви. И еще я понял, что правда и другое: ни на что на свете я не променял бы наслаждения своим страданием. Я потерял более пятнадцати лет, пытаясь перевести «Песни» Леопарди, и только в тот вечер я прочувствовал их по-настоящему: «Горе мне, если это любовь, то какие терзанья».
В редакции мое появление в домашней одежде и небритым породило сомнения относительно моего умственного здоровья. Перестроенное помещение, разделенное стеклянными перегородками на индивидуальные кабинки, свет под потолком сделали редакцию похожей на родильный дом. Атмосфера искусственной тишины и комфорта побуждала говорить шепотом и ходить на цыпочках. В вестибюле, точно покойные вице-короли, красовались три пожизненных директора на портретах маслом и фотографии знаменитостей, посещавших редакцию. В огромном парадном зале на почетном месте висела гигантская фотография нынешнего состава редакции, сделанная в день моего рождения. Я не удержался, мысленно сравнил ее с другой, где мне тридцать лет, и еще раз с ужасом убедился, что на фотографиях стареют больше и хуже, чем в действительности. Секретарша, та, что целовала меня на юбилее, спросила, не болен ли я. И я был счастлив сказать ей правду, чтобы она не поверила: «Болен от любви». Женщина воскликнула: «Какая жалость, что от любви не ко мне!» Я ответил комплиментом: «Напрасно вы так уверены».
Редактор криминального отдела вышел из своей кабинки, крича, что обнаружены два трупа — девушки, не идентифицированы. Я испугался: «Какого возраста?» — «Молодые, — ответил он. -Возможно, бежали сюда из внутренних районов, спасаясь от убийц, наемников режима». Я вздохнул с облегчением. «Ситуация разрастается тихо, как пятно крови, и захлестывает нас», — сказал я. Редактор, уже издали, крикнул:
— Не кровью, маэстро, а дерьмом.
Еще хуже было через несколько дней, когда у книжного магазина Мундо мимо меня стремительно прошла девушка с корзинкой, точно такой же, как моя для кота. Меня бросило в озноб. Я кинулся за ней, расталкивая локтями шумную полуденную толпу. Девушка была очень красива и легко скользила в людском потоке, сквозь который мне удавалось пробираться с трудом. Наконец я догнал ее, зашел спереди и посмотрел ей в лицо. Она отстранила меня рукой, не останавливаясь и не извинившись. Это была не та, что я думал, но ее гордая стать сразила меня так, словно это была Дельгадина. И я понял, что не узнаю ее, не спящую и в одежде, как и ей не узнать, кто я, раз она меня никогда не видела. В припадке безумия я за три дня связал двенадцать пар пинеток, голубых и розовых, силясь не слушать, не петь и не вспоминать песен, которые напоминали бы мне о ней.
Я никак не мог справиться с душевным волнением и начал понимать, что я стар, коль скоро так слаб и бессилен перед любовью. Еще более драматическое доказательство этому получил я, когда в людном торговом районе автобус сбил велосипедистку. Ее только что отнесли в машину скорой помощи, но о трагичности ситуации можно было судить по луже свежей крови и груде искореженного металла, в которую превратился велосипед. Но подействовал на меня не столько вид смятого велосипеда, сколько его марка, модель и цвет. Это мог быть только тот самый, который я подарил Дельгадине.
Все очевидцы говорили, что сбитая велосипедистка была молодая, высокая, худенькая, с короткими вьющимися волосами. Обезумев, я схватил первое же проходившее мимо такси и велел везти меня в больницу Милосердия, разместившуюся в старом здании с охряными стенами, похожем на застрявшую в песках тюрьму. Полчаса я метался, чтобы войти в клинику, и еще полчаса — чтобы выйти в благоухавший цветущими фруктовыми деревьями сад, где страдающая женщина преградила мне путь и, глядя прямо в глаза, воскликнула:
— Я — та, которую ты не ищешь.
Только тогда я вспомнил, что здесь вольно содержатся помешанные из муниципального сумасшедшего дома. Мне пришлось сказать в дирекции, что я журналист, чтобы служащий провел меня в отделение скорой помощи. В журнале поступлений значилось: Росальба Риос, шестнадцати лет, занятия не известны. Диагноз: сотрясение мозга. Состояние: средней тяжести. Я спросил заведующего отделением, могу ли я ее увидеть, в тайной надежде, что мне не разрешат, но меня с радостью повели, надеясь, что я напишу, в каком плачевном состоянии находится больница.
Мы прошли через большой зал, пропитанный запахом карболки, где на койках скрючились больные. В глубине, в закутке, на железной каталке лежала та, которую мы искали. Голова была скрыта бинтами, лица не разобрать, страдающая, в кровоподтеках, но мне довольно было увидеть ее ноги, и я уже знал: это не Дельгадина. И только тогда я вдруг подумал: «А что бы я стал делать, окажись это она?»
На следующий день, еще не стряхнув с себя ночного мрака, я собрался с духом и отправился на рубашечную фабрику, где, как сказала мне однажды Роса Кабаркас, работала девочка, и попросил хозяина показать его предприятие, которое мы хотим взять за образец для континентального проекта Организации Объединенных Наций. Хозяин, толстокожий и меланхоличный ливанец, с готовностью распахнул двери своего царства в надежде стать примером для мирового сообщества.
Три сотни девушек смиренно пришивали пуговицы в огромном освещенном искусственным светом помещении. При виде нас они все выпрямились, как школьницы, и поглядывали на нас краем глаза, пока управляющий рассказывал о вкладе их предприятия в бессмертное искусство пришивания пуговиц. Я вглядывался в лица девушек, страшась узнать Дельгадину, одетую и не спящую. Но узнала меня девушка с испуганным от беспощадного восхищения лицом:
— Скажите, сеньор, это вы пишете в газете любовные письма?
Я и представить себе не мог, что спящая женщина могла так сокрушительно повлиять на человека. Я убежал с фабрики, не попрощавшись, уже не думая о том, что одна из этих девственниц из чистилища и была той, которую я искал. Когда я вышел оттуда, единственным желанием, оставшимся у меня в жизни, было желание плакать.
Роса Кабаркас позвонила в конце месяца и дала невероятное объяснение: удалось провести заслуженный отдых в Картахене де-Индиас после убийства банкира. Разумеется, я ей не поверил, но поздравил с такой удачей и позволил ей вдоволь навраться, прежде чем задал вопрос, клокотавший у меня в сердце:
— А она?
Роса Кабаркас надолго замолчала. «Она здесь, — произнесла наконец Роса, но голос ее поплыл. — Надо подождать немного». — «Сколько?» — «Понятия не имею, я тебя извещу». Я почувствовал, что она уходит от ответа, и резко оборвал ее: «Погоди, дай хотя бы след». — «Нет следа, — сказала женщина и заключила: — Будь осторожен, ты можешь навредить себе, а главное — навредить ей». Мне было не до экивоков. Я умолял ее дать мне хотя бы возможность приблизиться к правде. «В конце концов, — не унимался я, — мы — сообщники». Она не отступила ни на шаг. «Успокойся, — сказала Роса, — девочка в порядке и ждет, когда я ее позову, но вот сейчас пока не надо ничего делать, и больше ты от меня ничего не услышишь. Прощай».
Я так и остался с телефонной трубкой в руке, не зная, как поступить, потому что Роса Кабаркас мне была знакома достаточно хорошо, чтобы понимать: не по-доброму от нее ничего не добьешься. После полудня я потихоньку прошелся вокруг ее дома, больше полагаясь на случай, чем на доводы рассудка, но дом по-прежнему был заперт и опечатан санитарной инспекцией. Я подумал, что Роса Кабаркас звонила мне из какого-то другого места, может быть, даже из другого города, и одна эта мысль наполнила меня тревожными предчувствиями. Однако в шесть часов, когда я меньше всего ожидал, по телефону, как пароль, прозвучали почти точь-в-точь мои слова:
— Вот, теперь — да.
И в десять вечера, дрожа и кусая губы, чтобы не плакать, я пошел, нагруженный коробками со швейцарским шоколадом, халвою и карамелью и с корзиной пылающих роз, чтобы усыпать ими всю постель. Дверь была приоткрыта, свет включен, и из радио тихо лилась соната номер один Брамса для скрипки и фортепиано. Дельгадина в постели была такая великолепная и непохожая на себя, что я с трудом узнал ее.
Она выросла: не то чтобы стала выше, но заметно созрела, так что казалось, будто ей на два или три года больше и что она обнажена как никогда. Ее высокие скулы, кожа, загоревшая под солнцем у бурного моря, тонкие губы и короткие вьющиеся волосы придавали ее облику андрогинное великолепие праксителевского Аполлона. Однако спутать было невозможно, потому что ее груди налились так, что уже не умещались в моей ладони, бедра округлились, а костяк стал крепче и гармоничнее. Меня изумило, как удачно распорядилась природа, однако искусственные ухищрения ошеломили: накладные ресницы, ногти на руках и ногах, покрытые перламутровым лаком, и дешевые духи, не имеющие никакого отношения к любви. Но что меня совершенно вывело из себя, это украшения, которые были на ней: золотые серьги с гроздьями изумрудов, ожерелье натурального жемчуга, золотой браслет, сверкавший бриллиантами, и перстни с драгоценными камнями на каждом пальце. На стуле лежал ее ночной наряд с вышивкой и блестками, и атласные тапочки. Внутри у меня все вскипело:
— Блядь! — выкрикнул я.
Потому что дьявол шепнул мне на ухо страшную догадку. Было так: в ночь убийства у Росы Кабаркас, наверное, не хватило ни времени, ни выдержки, чтобы предупредить девочку, и полиция нашла ее в комнате, одну, несовершеннолетнюю и без алиби. Нету равных Росе Кабаркас в таких ситуациях: она продала девственность девочки какому-нибудь местному бонзе в обмен на то, что тот вытащит ее из этого преступления незапятнанной. Первым делом, разумеется, надо было исчезнуть на время, пока не утихнет скандал. Какая прелесть! Медовый месяц втроем, они, двое, в постели, и Роса Кабаркас на роскошной террасе упивается счастливой безнаказанностью. Слепой от безумной ярости, я метал в стену одно за другим все, что было в комнате: лампы, радиоприемник, вентилятор, зеркала, кувшины, стаканы. Я делал это без спешки, но не останавливаясь, со страшным грохотом, методично и трезво, и это спасло мне жизнь. Девочка при первом же громком звуке подскочила, но не взглянула на меня, а только сжалась в комочек, спиною ко мне, и так лежала, вздрагивая, пока я не прекратил грохотать. Куры во дворе и предрассветные собаки загомонили еще пуще. В ослепляющей ясности гнева меня посетило последнее вдохновение — поджечь дом, но тут в дверях появилась невозмутимая фигура Росы Кабаркас в ночной рубашке. Она не сказала ничего. Только взглядом оценила размеры бедствия и удостоверилась, что девочка свернулась в клубочек, как улитка, закрыла голову руками: перепуганная, но целая и невредимая.
— Боже мой! — воскликнула Роса Кабаркас. — Что бы я отдала за такую любовь!
Она смерила меня взглядом, с состраданием, и приказала: «Пошли». Я последовал за нею в дом, Роса молча налила мне стакан воды, жестом указала сесть напротив нее и приготовилась к моей исповеди. «Ладно, — сказала она, — веди себя как взрослый и расскажи мне, что с тобой?»
Я выложил ей все, что представилось мне правдой. Роса Кабаркас выслушала меня молча, без удивления и как будто бы наконец-то поняла. «Ну, просто чудо, — сказала она. — Я всегда говорила: ревность знает больше, чем правда». И тогда Роса поведала мне то, что было на самом деле, без утайки. Действительно, в сумятице той ночи она совершенно забыла о спящей в комнате девочке. Один из ее клиентов, к тому же адвокат покойника, умасливал и подмазывал всех направо и налево и пригласил Росу Кабаркас в Картахену де-Индиас, отдохнуть в отеле, пока не утихнет скандал. «Поверь, — сказала Роса Кабаркас, — все это время я не переставала ни на минуту думать о тебе и о девочке. Позавчера вернулась и первым делом позвонила тебе по телефону, но никто не ответил. А девочка пришла тотчас же, но была в таком ужасном виде, что я отмыла ее для тебя, одела, послала в салон красоты и велела убрать ее как королеву. И ты видел: она великолепна. Роскошный наряд? Эти наряды я даю на время моим самым бедным птичкам, когда им надо пойти потанцевать с клиентом. Драгоценности? Мои. Достаточно приглядеться к ним, чтобы понять: бриллианты — стекляшки, а металл — жесть. Так что не дури, — заключила она: — Иди, разбуди ее, попроси прощенья и, в конце-то концов, сделай с ней то, что положено. Вы, как никто, достойны быть счастливыми». Я сделал сверхъестественное усилие поверить ей, но любовь перемогла рассудок. «Бляди, — закричал я, оглушенный живым огнем, который сжигал меня изнутри. — Вот вы кто! Грязные бляди! Не хочу больше знать ни тебя, ни всех твоих блядушек, а главное — ее». И от дверей я прощально махнул рукой — навсегда. Росу Кабаркас это не поколебало. — Ступай с Богом, — произнесла она с гримасой жалости и вернулась к реальной жизни. — А счет за то, что ты натворил в комнате, я тебе пришлю.
V
Читая «Мартовские иды», я наткнулся на фразу, приписанную автором Юлию Цезарю: «Невозможно в конце концов не стать тем, кем тебя считают другие». Я не смог найти подтверждения авторства этих слов ни в трудах самого Юлия Цезаря, ни в текстах его биографов, от Светония до Каркопино, однако слова эти стоило знать. Их роковой смысл стал ясен в последующие месяцы моей жизни, он внес определенность, которой мне не хватало не просто для того, чтобы писать эти воспоминания, но и чтобы приступить к ним с любовью к Дельгадине, отбросив всякую стыдливость.
Я не знал ни минуты покоя, перебивался бутербродами и похудел так, что брюки сваливались. Блуждающие боли осели в костях, настроение беспричинно и резко менялось, ночи мои проходили в лихорадочной бессоннице, так что я не мог ни читать, ни слушать музыку, а днем, наоборот, клевал носом от тупой сонливости, не приносящей сна.
Облегчение пришло нежданно-негаданно. В набитом автобусе в районе Лома Фреска, сидевшая рядом женщина, — я не заметил, когда она вошла, — шепнула мне на ухо: «Все еще можешь?» Это была Касильда Армента, старая любовь, которая принимала и терпела меня как постоянного клиента еще с той поры, когда была горделивой и юной. Уйдя от дел, полубольная и нищая, она вышла замуж за огородника-китайца, который дал ей свое имя, поддержку, а может быть, и немножко любви. В семьдесят три года Касильда сохранила тот же вес, красоту, сильный характер и свободные манеры, свойственные ее профессии.
Она привела меня к себе в дом, расположившийся среди китайских огородов, на холме, у шоссе к морю. Мы сели с ней в пляжные шезлонги на тенистой террасе среди папоротников, разросшихся астромелий и птичьих клеток, висящих под крышей. На склоне холма повсюду виднелись огородники-китайцы в конусообразных шляпах, засеивающие свои огороды под палящим солнцем. Внизу распласталось серое пространство Бокас де-Сениса с двумя скалистыми дамбами, меж которыми, как по каналу, на протяжении нескольких лиг река добирается до моря. Мы разговаривали, а в это время белый океанский пароход вошел в устье, и мы молча следили за ним, пока не услышали его мрачный бычий рев из речного порта. Она вздохнула. «Представляешь? За более чем полвека первый раз я принимаю тебя не в постели». — «Мы уже не те», — сказал я. Женщина продолжала, не слыша меня: «Каждый раз, когда тебя передают по радио, когда расхваливают, как тебя любят люди, и называют тебя учителем любви, представляешь, я всегда думаю, что никто не знает так, как я, какой ты щедрый и какой умелый в любви. Серьезно, — сказала она, — никто бы не смог лучше меня быть с тобою».
Дальше сопротивляться я был не в силах. Касильда это почувствовала, увидела мои увлажнившиеся глаза, и только тогда, наверное, поняла, что я уже не тот, что был когда-то, а я выдержал ее взгляд с мужеством, на которое и не думал, что способен. «Я становлюсь старым», — признался я. «Мы уже старые, — вздохнула она. — Просто этого не чувствуешь изнутри, а те, кто смотрит на тебя снаружи, видит это».
Невозможно было не открыть ей сердце, и я рассказал ей всю сжигавшую меня изнутри историю, начиная с первого звонка Росе Кабаркас в канун моего девяностолетия, до той трагической ночи, когда я вдребезги разгромил все в комнате и больше туда не вернулся. Она слушала, как я изливал душу, так, как будто сама переживала это, потом неспешно обдумывала и, наконец, улыбнулась.
— Делай, конечно, что хочешь, но не теряй это создание, — сказала мне Касильда. — Нет горше несчастья, чем умереть одному.
Мы поехали в Пуэрто-Коломбиа на маленьком игрушечном поезде, медленном, как конный экипаж. Пообедали напротив изъеденного деревянного мола, через который в страну входил весь мир, до того как вычистили дно в Бокас де-Сениса. Мы сели под пальмовым навесом, где дородные негритянские матроны подавали жареную рыбу-парго, рис с кокосом и дольки зеленого банана. Подремали в душном зное двух часов пополудни, а потом разговаривали, пока огромное пылающее солнце не утонуло в море. Жизнь представлялась мне фантастической. «Смотри, как она распорядилась — подарила нам медовый месяц, — пошутила Касильда. И продолжила серьезно: — Оглядываюсь сейчас назад и вижу шеренгу из тысяч мужчин, которые прошли через мою постель, но я отдала бы душу за то, чтобы один, пусть самый захудалый, остался со мной. Слава Богу, вовремя нашла моего китайца. Это все равно как выйти замуж за мизинец, но зато он — только мой».
Она посмотрела мне в глаза, оценила мою реакцию на только что сказанное и заключила: «Так что иди, разыщи сейчас же эту беднягу, даже если то, что тебе нашептывает твоя ревность, правда, все равно, как говорится, что сплясал, того у тебя уже никто не отнимет. И, конечно, стариковский романтизм — по боку. Разбуди ее и всади в нее по самые уши свою оглоблю, которой тебя наградил дьявол за твою трусость и низость. А серьезно, — закончила она душевно, — не дай себе умереть, не испытав этого чуда — спать с тем, кого любишь».
Пульс у меня дрожал и рвался на следующий день, когда я набирал номер телефона. И потому, что страшился новой встречи с Дельгадиной, и потому, что не знал, что мне ответит Роса Кабаркас. У нас с ней произошел серьезный спор, когда она за разгром, учиненный мною в ее комнате, посчитала с большой выгодой для себя. Мне пришлось продать одну из самых любимых картин моей матери, которая стоила целое состояние, но в момент истины она не оправдала и десятой доли моих иллюзий. Я добавил к вырученному остатки своих сбережений и отнес все Росе Кабаркас, сказав окончательно и бесповоротно: «Или берешь это, или ничего». Поступок, что и говорить, был самоубийственный, ей довольно было продать всего одну мою тайну, чтобы уничтожить мое доброе имя. Но она не упиралась, а оставила себе картины, которые в ночь разбирательства взяла в залог. Одним ударом я потерял все: Дельгадину, Росу Кабаркас и последние мои сбережения. Однако вдруг услыхал телефонный звонок: один, два, три, и в трубке — она: «Ну, как?» Мне изменил голос. Я повесил трубку. Лег в гамак, попытался успокоиться асептической лирикой Сати, но вспотел так, что намок даже полотняный гамак. И не смог собраться с духом, чтобы позвонить, до следующего дня.
— Ладно, — проговорил я твердым голосом. — Сегодня — да.
Роса Кабаркас, а как же иначе, отозвалась как ни в чем не бывало. «Ах, мой печальный мудрец, — и вздохнула непобедимо, — пропадаешь на два месяца, а потом появляешься и просишь несбыточного». Она сказала, что не видела Дельгадину больше месяца, та, похоже, оправилась от страха, которого натерпелась, когда я громил комнату, оправилась настолько, что не вспомнила об этом и не спросила про меня, и вообще довольна своей новой работой, она лучше прежней, и платят за нее больше, чем за пришивание пуговиц. Внутри у меня полыхнуло огнем. «Не иначе как проституткой стала», — сказал я. Роса возразила, не моргнув: «Если бы так, она была бы здесь. Где бы еще ей было лучше?» Быстрота, с какой она привела этот логический довод, усугубила мои подозрения: «Откуда мне знать, что ее там нет?» — «В таком случае, — парировала она, — тебе лучше вообще не знать ничего. Или не так?» Я ее возненавидел снова. Но после некоторых препирательств Роса пообещала поискать девочку. Без особых надежд, потому что телефон соседки, по которому она ей звонила, все еще отключен, а где живет девочка, ей не ведомо. «Ну, ладно, это не смертельно, черт возьми, — сказала она, — я тебе позвоню через часик».
Часик затянулся на три дня, но девочку она нашла, здоровенькую и свободную. И я вернулся, пристыженный, и исцеловал ее всю, каясь, целовал с двенадцати ночи до ранних петухов. Как долгое покаяние, которому я обещал предаваться вечно, и было так, словно все началось с самого начала. Комната стояла голая, нежилая, и все, что я принес когда-то, пришло в упадок. Роса оставила все в запустении и сказала: если я хочу что-нибудь улучшить, то за мой счет, поскольку я у нее в долгу. Но моя экономическая ситуация шла к полному нулю. Пенсии с каждым разом хватало все на меньшее и меньшее. То немногое в доме, что можно было продать, — исключая священные для меня драгоценности матери, — не имело рыночной ценности, поскольку ничто не было достаточно старым, чтобы считаться антикварным. В лучшие времена губернатор делал мне соблазнительное предложение купить целым блоком книги классиков — греческих, латинских и испанских — для Библиотеки департамента, но тогда у меня к этому не лежала душа. А потом случилось столько политических перемен, и вообще мир стал хуже, так что власти уже не думали ни об искусстве, ни о литературе. Устав искать достойный выход, я сунул в карман драгоценности, которые мне вернула Дельгадина, и пошел закладывать их на мрачную улочку, которая вела к городскому рынку. С видом рассеянного мудреца я несколько раз прошелся мимо битком набитых захудалых кабачков, лавчонок со старыми книгами и ломбардов, но честь Флорины Диос преградила мне путь: я не отважился. Тогда я решил продать драгоценности с высоко поднятой головой в старинном и достойном доверия ювелирном магазине.
Рассматривая их через увеличительное стекло, продавец задавал мне вопросы. У него были манеры и повадки врача, и такое же свойство внушать страх. Я рассказал ему, что эти украшения достались мне в наследство от матери. На каждое мое объяснение он отзывался, согласно бурча, и, наконец, отложил свой монокль.
— Очень сожалею, — изрек он. — Но это все — бутылочные донца.
На мое удивление он пояснил с мягким состраданием: «Хорошо еще, что золото — это золото, а платина — платина». Я пощупал карман, желая убедиться, что принес счета за покупку драгоценностей, и сказал вполне миролюбиво:
— Но они были приобретены в этом почтенном магазине более ста лет назад.
Продавец и бровью не повел. «Случается, — пояснил он, — что с фамильных драгоценностей со временем исчезают наиболее ценные камни; они заменяются или домашними отщепенцами, или ворами-ювелирами, и подлог раскрывается, только когда их пытаются продать. Однако позвольте, одну секундочку», — сказал продавец и унес драгоценности за дверь в глубине магазина. Через некоторое время он вернулся и, ничего не объясняя, указал мне на стул — сесть и подождать, — а сам продолжал работать.
Я оглядел лавку. Мне случалось несколько раз приходить сюда с матерью, и запомнилась фраза, которую она повторяла: «Не говори папе». Неожиданно пришла мысль, заставившая меня передернуться: а что, если Роса Кабаркас с Дельгадиной сговорились и продали настоящие камни, а мне вернули украшения с поддельными?
Сомнения сжигали меня, но тут секретарша пригласила меня последовать за ней в ту самую дверь в глубине, в небольшой кабинет с длинными полками, уставленными толстыми томами. Колоссального роста араб поднялся из-за письменного стола в глубине кабинета, пожал мне руку, называя на ты с жаром старого друга. «Мы вместе учились на бакалавров», — сказал он мне вместо приветствия. Я без труда вспомнил великана: он был лучшим футболистом в школе и чемпионом в наших первых походах по борделям. Потом я потерял его из виду, а он, увидев меня, такого дряхлого, должно быть, спутал с каким-нибудь своим однокашником.
На стеклянной поверхности письменного стола лежала открытой учетная книга из архива, в которой значились и драгоценности моей матери. Точная запись с датами и подробностями свидетельствовали о том, что она сама, лично, заменила драгоценные камни двух поколений красивых и достойных женщин рода Каргамантос и продала их этой самой лавке. Это случилось, когда хозяином, вершившим дела, был отец нынешнего владельца, с которым мы еще учились в школе. И он успокоил меня: эти уловки — обычное дело для знатных семей, попадавших в беду, чтобы разрешить денежные затруднения без ущерба для чести. Пред лицом жестокой реальности я решил сохранить то, что услышал, как память об иной Флорине де Диос, которой я не знал.
В начале июля я почувствовал истинное расстояние, отделявшее меня от смерти. Ход моего сердца ослабел, и я повсюду начал видеть безошибочные признаки конца. Самое четкое ощущение пришло во время концерта в Обществе изящных искусств. В зале испортился кондиционер, и сливки всей литературы и искусства томились, как в парилке, в битком набитом зале, но магическая сила музыки возносила к небу. А в конце, на Allegretto poco mosso меня потрясло прозрение, что я слушаю последний концерт, отпущенный мне судьбою в этой жизни. Я не испытал ни боли, ни страха, а только всесокрушающее чувство: мне довелось это пережить.
Когда наконец мне, мокрому от пота, удалось пробиться сквозь объятия и фотографов, я столкнулся носом к носу с Хименой Ортис, восседавшей, точно столетняя богиня, в кресле на колесах. Само ее присутствие навалилось на меня ощущением смертного греха. Она была в шелковой тунике цвета слоновой кости, такой же гладкой, как ее кожа, нитка настоящего жемчуга трижды обвивала ее шею, волосы, как перламутр, подстриженные по моде двадцатых годов, ложились на щеку завитком, точно ласточкино крыло, а огромные желтые глаза светились, оттененные натуральными тенями подглазий. Все в ней противоречило слухам, будто ее разум с каждым днем все более уподоблялся чистому листу из-за необратимой эрозии памяти. Я окаменел, без сил перед нею, но превозмог душный жар, бросившийся мне в лицо, и молча приветствовал ее галантным поклоном. Она улыбнулась улыбкой королевы и вцепилась мне в руку. Я понял, что это — подачка судьбы, и не упустил случая, чтобы вытащить вечно саднившую меня занозу. «Об этом мгновении я мечтал всю жизнь», — сказал я ей. «Да что ты! — услышал я в ответ. — А ты — кто?» Я так и не узнал, вправду ли она все забыла, или это была ее последняя месть.
Мысль о том, что я смертен, поразила меня незадолго до того, как мне исполнилось пятьдесят, в похожей ситуации, ночью на карнавале я танцевал танго-апачи с потрясающей женщиной, лица которой не видел; она была потяжелее меня фунтов на сорок и выше на две пяди, но шла в танце легко, как перышко на ветру. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу, так что чувствовался ток крови в жилах, и я был словно в полусне, разомлев от ее натруженного дыхания, терпкого запаха пота, от ее астрономических размеров грудей, как вдруг первый раз в жизни меня сотряс так, что я чуть не рухнул на землю, зов смерти. Как будто запредельный оракул пророкотал мне в ухо: «Что бы ты ни делал, но в этом году или через сто лет ты умрешь навечно». Она испуганно отстранилась: «Что с вами?» — «Ничего», — ответил я, пытаясь унять сердце:
— Это вы заставляете меня дрожать.
С тех пор я начал отсчитывать дни моей жизни не годами, а десятилетиями. Пятый десяток был решающим, потому что я вдруг осознал, что почти все — моложе меня. Шестой — самый насыщенный, так как я заподозрил, что у меня уже не остается времени на ошибки. Седьмой — страшный, из-за того, что эти десять лет вполне могли оказаться последними. Однако, когда я проснулся живым в утро моего девяностолетия в счастливой постели Дельгадины, меня посетила услужливая мысль, что жизнь — вовсе не то, что протекает подобно бурной реке Гераклита, но представляет собой уникальную возможность перевернуться на раскаленной плите, чтобы поджариваться с другой стороны еще девяносто лет.
Слезы у меня теперь были близко. Стоило пробиться капле нежности, как в горле застревал комок, с которым я не всегда мог совладать, и я решил отказаться от наслаждения караулить сон Дельгадины даже не из-за неясности, сколько мне осталось до смерти, а потому что больно было представлять ее без меня на всю ее оставшуюся жизнь. В один из таких смутных дней я пошел прогуляться-развеяться на благородную улицу Нотариусов и был поражен, увидев груду обломков на месте старой гостиницы для свиданий, где я насильно был приобщен к знакомству с искусством любви в возрасте неполных двенадцати лет. В давние времена этот дом принадлежал судовладельцам и был великолепен, как немногие в городе, с колоннами, облицованными алебастром, золочеными фризами, а в центре — внутренний дворик под семицветным стеклянным куполом, заливавшим радужным сиянием оранжерею. На нижнем этаже, за готическим порталом, выходившим на улицу, более века помещались колониальные нотариальные конторы, в которых работал, процветал, а потом разорился мой отец, всю жизнь витавший в облаках. Постепенно знатные семейства покинули верхние этажи, и их в конце концов заполонили полчища попавших в беду ночных тружениц, которые за полтора песо до рассвета поднимались и спускались с клиентами, подхваченными в кабачках расположенного неподалеку речного порта.
В двенадцать лет, еще в коротких штанишках и школьных башмаках, я не мог устоять против искушения познакомиться с верхними этажами, пока мой отец бился на очередном нескончаемом совещании, и мне предстало божественное зрелище. Женщины, до рассвета торговавшие своим телом, с одиннадцати утра начинали жить домашней жизнью; жара под стеклянным куполом была невыносимой, и они бродили по всему дому в чем мать родила, громко, в полный голос обмениваясь впечатлениями о ночных похождениях. Я испугался. Единственное, что пришло мне в голову, — это убежать тем же путем, каким пришел, но тут одна из этих голых, плотная и мясистая, пахнувшая горным мылом, обхватила меня сзади, так что я не мог ее видеть, и потащила в свой картонный закуток под радостные крики и аплодисменты нагих постоялиц.
Швырнула меня навзничь на постель для четверых, мастерски сдернула с меня штанишки и оседлала, но холодный ужас, сковавший мое тело, не дал принять ее, как подобает мужчине. Ночью, дома, мучаясь стыдом за пережитый налет, я не мог ни на минуту заснуть от желания снова увидеть ее. И на следующее утро, когда ночные работяги еще спали, я, дрожа, поднялся в ту каморку и, рыдая, разбудил женщину, обезумев от любви, которая длилась до тех пор, пока ее не смел безжалостный ураган реальной действительности. Звали женщину Касторина, и она была в том доме королевой.
Комнатушки стоили один песо за любовь мимоходом, но лишь немногие из нас знали, что столько же стоили и сутки. А кроме того, Касторина ввела меня в свой злопечальный мир, в котором они приглашали бедных клиентов на свои завтраки-пиры, одалживали им мыло, лечили зубную боль, а в самых крайних случаях и дарили им свою милосердную любовь.
Но в пору моей глубокой старости уже никто не помнил бессмертной Касторины, неизвестно когда умершей и успевшей подняться с обшарпанных углов речного мола к священному трону главной мама-сан, со своей пиратской заплаткой на глазу, потерянном в кабацкой потасовке. Ее последним сожителем был, — пока не потерял своей широкой улыбки в железнодорожной катастрофе, — счастливый негр из Камагуэя по имени Хонас-Каторжник, слывший когда-то одним из лучших корнетистов в Гаване.
После той горькой прогулки у меня стало колоть в сердце, и никакие домашние отвары и притирания не приносили облегчения. Врач, к которому я по необходимости пошел, был из рода выдающихся и внуком того, который смотрел меня в сорок два года; я испугался, так он был похож на своего деда, такой же старый, как тот в семьдесят лет: преждевременная лысина, очки бесповоротно близорукого человека и безутешная грусть в глазах. Врач обследовал все мое тело с тщанием ювелира. Прослушал грудь и спину, измерил давление, проверил коленные рефлексы, глазное дно и цвет нижнего века. В промежутках, пока я переворачивался на кушетке, он задавал мне вопросы, такие неясные и быстрые, что у меня не было времени обдумать ответ. По прошествии часа он посмотрел на меня со счастливой улыбкой. «Ну вот, — изрек он, — я полагаю, что тут мне ничего делать». — «Что это значит?» — «Что у вас прекрасное состояние здоровья для вашего возраста». — «Как интересно, — сказал я, — в точности то же самое сказал мне ваш дед, когда мне было сорок два, как будто время не движется». — «Такое можно сказать всегда, — заметил внук, — потому что возраст есть возраст». А я, провоцируя его на пугающее заявление, сказал: «Однако все кончается смертью». — «Да, — подтвердил он, — но нелегко придти к ней в таком хорошем состоянии, как ваше. Я искренне сожалею, что не могу быть вам полезен».
Все эти воспоминания хороши, однако накануне 29 августа, переступая чугунными ногами вверх по ступенькам своего дома, я почувствовал невероятную тяжесть столетия, которое бесстрастно ожидало меня. И я снова увидел Флорину де Диос, мою мать, в постели, которая была ее постелью до самой ее смерти, и она благословила меня так же, как сделала это в последний раз, когда я ее видел, за два часа до смерти. Я разволновался, поняв это как последнее предвестье, и позвонил Росе Кабаркас, чтобы она сегодня же вечером привела мне девочку, поскольку вижу теперь, что не сбудутся мои мечты прожить до последнего дыхания мой девятый десяток. Я еще раз noзвонил ей в восемь часов, и она повторила, что сделать это невозможно. «Нужно сделать во что бы то ни стало», — прокричал я ей перепуганно. Роса положила трубку не попрощавшись, но через пятнадцать минут позвонила снова:
— Ладно, она тут.
Я пришел в двадцать минут одиннадцатого и сдал Росе Кабаркас последние карты моей жизни, распорядился относительно девочки после моего ужасного конца. Она решила, что на меня произвело такое впечатление убийство в ее доме, и поддела: «Если собрался умирать, то, сделай одолжение, не здесь». Но я ответил: «Случись что, скажешь, что меня сбил поезд на Пуэрто-Коломбиа, хотя эта жалкая жестянка, не способная сбить даже комара».
Готовый ко всему, в ту ночь я лег на спину в ожидании последней боли в первый миг моего девяносто первого года. Услышал далекие удары колокола, почувствовал аромат души Дельгадины, спавшей на боку, услыхал чей-то крик у горизонта и рыдания того, кто, возможно, умер в этой комнате сто лет назад. И тогда я погасил свет с последним вздохом, сплел свои пальцы с ее, чтобы повести ее за руку, и сосчитал двенадцать ударов полуночи на колокольне, глотая последние слезы, пока не запели ранние петухи, и тогда разлился благовест и взвились праздничные фейерверки во славу и честь того, что я жив и здоров в мои девяносто лет.
Первое, что я сказал Росе Кабаркас, было: «Я покупаю тебе дом, вместе с лавкой и садом». Она ответила: «Давай заключим уговор стариков: тому, кто переживет, остается все, что принадлежало другому, и подпишем у нотариуса». — «Нет, когда я умру, все должно достаться ей». — «Какая разница, — сказала Роса Кабаркас, — я позабочусь о девочке, а потом оставлю ей все, и твое, и мое, у меня никого больше нет в этом мире. А пока давай поставим в твоей комнате кондиционер, оборудуем хорошую туалетную комнату, и чтобы были твои книги, и твоя музыка».
— Думаешь, она согласится?
— Ах, мой грустный мудрец, ты, конечно, старый, но ведь не идиот, — захохотала Роса Кабаркас. — Эта бедняжка с ума сходит от любви к тебе.
Я вышел на сияющую улицу и первый раз в жизни узнал самого себя у горизонта моего первого столетия. Мой дом, тихий и убранный, в четверть седьмого утра начинал заливаться радужным светом счастливой зари. На кухне в полный голос пела Дамиана, и кот, живой и здоровый, как никогда, обвил хвостом мои щиколотки и пошел со мной к письменному столу. Я приводил в порядок стол — пожелтевшие бумаги, чернильница, гусиное перо, — когда солнце прорвалось сквозь миндалевые деревья парка, и почтовое речное судно, задержавшееся на неделю из-за засухи, с ревом вошло в портовый канал. Наконец-то настала истинная жизнь, и сердце мое спасено, оно умрет лишь от великой любви в счастливой агонии в один прекрасный день, после того как я проживу сто лет.
Май, 2004 г.
1
Чернильница, письменный прибор (итал.)
(обратно)2
Бедненький мой сыночек (итал.)
(обратно)
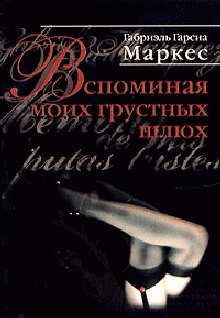
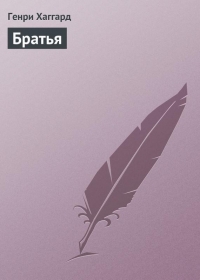
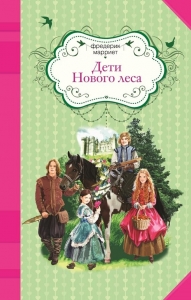




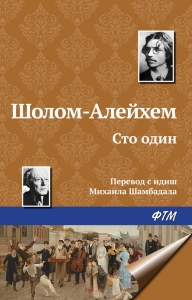
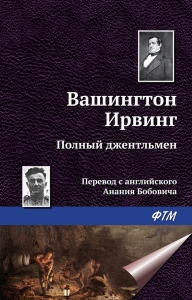



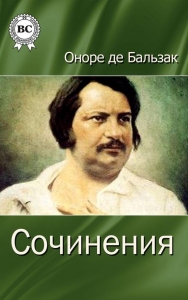
Комментарии к книге «Вспоминая моих грустных шлюх», Габриэль Гарсия Маркес
Всего 0 комментариев