Виктор Гюго Гаврош. Козетта
© Перевод Д.Г. Лившиц, насл., 2017
© Перевод Н.А. Коган, насл., 2017
© Перевод Н.Д. Эфрос, насл., 2017
© Перевод К.Г. Локса, насл., 2017
© Перевод М.В. Вахтеровой, насл., 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Козетта
Часть I Фантина[1]
Книга четвёртая
Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы
Глава 1, в которой одна мать встречает другую мать
В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопёков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалёвано что-то похожее на человека, который нёс на спине другого человека, причём на последнем красовались широкие золочёные генеральские эполеты с большими серебряными звёздами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Ватерлооский сержант».
Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.
Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и брёвен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжёлое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Всё вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колёса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо – под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная пленённого Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир – Калибана.
Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того чтобы загородить ее, а во-вторых – чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.
Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на верёвочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»
Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щёчки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – тёмные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окроплёнными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной верёвки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.
Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:
– Так надо, – рыцарь говорил…Поглощённая пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.
Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошёл к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:
– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.
– Прекрасной, нежной Иможине, —ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.
Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребёнок; она держала его на руках.
Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжёлый дорожный мешок.
Её ребёнок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у неё был чудесно розовый и здоровый. Щёчки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.
Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным её возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.
Что касается матери, то она казалась печальной. Её убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у неё были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза её, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у неё был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у неё на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребёнка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Её загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.
Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она всё ещё была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на её правой щеке. Что касается её наряда, её воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, – наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звёздочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается чёрная ветка.
Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».
Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.
Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для неё уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец её ребёнка уехал – увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, причём привычка её к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к её скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для неё закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне её научили только подписывать своё имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по её поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на её ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьёз таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своём ребёнке и не принимал всерьёз это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдётся кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у неё возникло неясное предчувствие новой разлуки, ещё более тяжкой, чем первая. Сердце её сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь – единственный оставшийся у неё повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала всё, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у неё осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках своё дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребёнка, а у этого ребёнка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.
Нам не придётся больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.
К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трёх до четырёх су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопёков.
Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили её, и она остановилась перед этим радостным видением.
Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.
Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что, когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:
– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.
Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детёнышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.
– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.
И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:
– Так надо, – рыцарь повторил, — Я уезжаю в Палестину.Мамаша Тенардье была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь – на лице её лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишёнными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была ещё молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то её высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы её доверие, и тогда не случилось бы того, о чём нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.
Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив её.
Она работница; муж её умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идёт искать её в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребёнка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало – она ведь ещё такая крошка. Пришлось снова взять её на руки, и её сокровище уснуло.
Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила её. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть… На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то что мать удерживала её, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.
Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:
– Поиграйте втроем.
В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.
Эта гостья оказалась очень весёлой; весёлость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив её в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится весёлым, когда за него берется ребёнок.
Женщины продолжали беседу.
– Как зовут вашу крошку?
– Козетта…
Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.
– Сколько ей?
– Скоро три.
– Как моей старшей.
Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк – сколько страха и сколько счастья!
Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.
– Как быстро сходится эта детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!
Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардье за руку, впилась в неё взглядом и сказала:
– Согласны вы оставить у себя моего ребёнка?
Тенардье сделала изумлённое движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.
Мать Козетты продолжала:
– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребёнком не найдёшь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?
– Надо будет подумать, – ответила Тенардье.
– Я стала бы платить по шесть франков в месяц.
Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:
– Не меньше семи франков. И за полгода вперёд.
– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.
– Я заплачу, – согласилась мать.
– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.
– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчёт всё той же песенкой:
– Так надо, – рыцарь говорил…
– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Мне ещё хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.
– Есть у девочки одёжа? – раздался снова мужской голос.
– Это мой муж, – сказала Тенардье.
– Разумеется, есть, у неё целое приданое, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И ещё какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шёлковые платьица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.
– Вам придётся отдать всё это, – снова сказал мужской голос.
– А как же иначе! – удивилась мать. – Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!
Хозяин просунул голову в дверь.
– Ладно, – сказал он.
Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребёнка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаяния.
Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:
– Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.
Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:
– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.
– А ведь я и думать об этом не думала, – ответила жена.
Глава 2 Беглая характеристика двух тёмных личностей
Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.
Что представляли собой эти Тенардье?
Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.
Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.
Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь зловещее пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа – прирождённая подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперёд, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, всё больше развращаясь и всё больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.
Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете тёмные провалы в их прошлом и тёмные тайны в их будущем.
Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом – сержантом, как он говорил, – по-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В своё время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал её сам, так как с грехом пополам умел делать всё, – и намалевал скверно.
То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но всё более опошляясь и переходя от м-ль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартелеми-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял своё разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были её пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости, за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сантиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда её романтически спускающиеся локоны начали седеть, когда в Памеле проглянула мегера, Тенардье превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему её старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в её судьбе, произведённому появлением романа Дюкре-Дюминиля, она отделалась именем Азельма.
Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идёт речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если ещё существуют виконты – зовут Тома€, Пьером или Жаком. Это перемещение имён, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.
Глава 3 Жаворонок
Чтобы благоденствовать, еще недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.
Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы супругу Тенардье удалось избежать протеста векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственным образом. У неё не было теперь никакой одежды, и её стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря – в лохмотья. Кормили её объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были её постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.
Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своём ребёнке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».
Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги из месяца в месяц. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она облагодетельствовала нас! Что для нас значат её семь франков?» И он написал ей, требуя двенадцать. Мать, которую они убедили, что её ребенок счастлив и «растёт отлично», покорилась и стала присылать по двенадцать франков.
Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Печально думать, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той всё казалось, что это место отнято у её детей и что девочка ворует воздух, принадлежащий её дочерям. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у неё Козетты, её собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на её голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданьице! Она не имела ещё никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрёкам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от неё самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.
Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте – копия матери. Формат меньше, вот и вся разница.
Прошёл год, потом другой.
В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардье. Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»
Все думали, что мать бросила Козетту.
Между тем папаша Тенардье, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребёнок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» всё растет и ест, и пригрозив отправить её к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! – восклицал он. – Не то я швырну ей назад её отродье и выведу на чистую воду все её секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить по пятнадцать франков.
Ребёнок рос, и вместе с ним росло его горе.
Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух других девочек; как только она немножко подросла – то есть едва достигнув пятилетнего возраста, – она стала служанкой в доме.
– В пять лет! – скажут нам. – Да ведь это неправдоподобно!
Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не знаем о недавнем процессе некоего Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал».
Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардье тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.
Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы ни за что не узнала своего ребёнка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех её движениях чувствовалась насторожённость. «Она себе на уме!» – говорили про неё Тенардье.
Несправедливость сделала её угрюмой, а нищета – некрасивой. От неё не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали.
Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было ещё и шести лет, когда зимним утром, дрожа в старых дырявых обносках, с полными слёз глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.
В околотке её прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое созданьице, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.
Только этот бедный жаворонок никогда не пел.
Часть II Козетта[2]
Книга третья
Исполнение обещания, данного умершей
Глава 1 Вопрос о водоснабжении в Монфермейле
Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням – и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелёными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие ещё не набрели на неё. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешёвый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.
За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.
Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжёлой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.
Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель, быть может, не забыл, – для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.
Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживлённо. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было ещё ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопёков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и весёлую струю жизни в эту глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трёхцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Саrасаrа Polyborus; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трёхцветная кокарда – исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.
В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардье. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору среди горожан предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узорчатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг её пил с гостями, толкуя о политике.
Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:
– Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, – кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. – Как же так? Виноград-то ведь ещё не поспел? – В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. – Стало быть, это совсем слабое вино? – У них вина ещё послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зелёный.
И т. д.
Потом слышались выкрики мельника:
– Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копаться с ними нам недосуг, вот и приходится пускать всё как есть под жёрнов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.
В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:
– Что трава сырая, беды никакой нет. Её даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но всё одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.
И т. д.
Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одетая в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардье. Под стульями играл котёнок. Из соседней комнаты доносились смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонина и Азельма.
В углу, возле печи, на гвозде висела плеть.
Порой пронзительный плач ребёнка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, – говорила она, – вероятно, из-за холода». Ему шёл четвёртый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». – «А ну его! Надоел он мне!» – отвечала мать. И покинутый ребёнок продолжал кричать в потемках.
Глава 2 Два законченных портрета
До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.
Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардье приближалась к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.
Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил ещё некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардье. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала всё по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала – одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Её единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Всё дрожало при звуке голоса Тенардье: стекла, мебель, люди. Её широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У неё росла борода. Это был настоящий крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать её женщиной. Эта Тенардье являлась как бы сочетанием рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.
Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, – с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой – старый чёрный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Подобного рода разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду – прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внёс своё имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.
Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже – французом, в Брюсселе – бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечёт за собой неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей – муж, жена и дети – в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.
Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, не представляли всё же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.
В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснобай и выдавал себя за учёного. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них иногда орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитёр. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный жёлтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.
Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид – наихудший; ему свойственно лицемерие.
Это не означает, что при случае Тенардье не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют всё окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!
Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлён. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.
Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардье, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был её супруг. Она исполняла, он придумывал. Путём какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт повиновался. Для жены Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчёта, её муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу её поведение: никогда, даже если б и возникло у неё какое-либо разногласие с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чём бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жёны и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушие их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардье своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искажённой и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажжённым светильником; в иные – она чувствовала лишь его когти.
Эта женщина была ужасным существом; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, её материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина – тот был поглощён только одной мыслью: разбогатеть.
Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.
Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.
В 1823 году Тенардье имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.
Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных – предметом торговли, – иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.
Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, – толковал он ей однажды яростным шёпотом, – уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребёнка; ставить в счёт окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за всё, даже за мух, которых проглотила его собака!»
Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, – омерзительный и ужасный союз.
В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далёких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.
Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнёт: её словно дробили мельничным жёрновом и терзали клещами. Муж и жена мучили её каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти – в этом виновата была жена; она ходила зимой босая – в этом виноват был муж.
Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, тёрла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжёлую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.
Бедный ребёнок терпел всё и молчал.
Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?
Глава 3 Людям вино, а лошадям вода
Приехали ещё четыре новых путешественника. Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.
Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила её Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»
Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, тёмная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало её: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И всё же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребёнок, подняв голову, следил за её движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.
– Вот тебе и на! – проговорила хозяйка. – Воды больше нет! – и помолчала.
Девочка затаила дыхание.
– Ба! – продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. – Хватит и этого.
Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа ещё чувствовала, как сильно колотится у неё в груди сжавшееся в комок сердце.
Она считала каждую протёкшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.
Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.
Вдруг вошёл один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:
– Почему моя лошадь не поена?
– Как не поена? Её поили, – ответила Тенардье.
– А я вам говорю нет, хозяйка! – возразил торговец.
Козетта вылезла из-под стола.
– О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.
Это была неправда. Козетта лгала.
– Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! – воскликнул торговец. – Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то её повадки отлично знаю.
Козетта настаивала на своём и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:
– Пила, даже вволю пила.
– Хватит! – гневно возразил торговец. – Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!
Козетта залезла обратно под стол.
– Что верно, то верно, – сказала трактирщица, – если скотина не поена, то её следует напоить.
Она огляделась по сторонам:
– А где же другая скотина?
Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.
– Ну-ка вылезай! – крикнула она.
Козетта выползла из своего убежища.
– Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!
– Но, сударыня, – робко возразила Козетта, – ведь больше нет воды.
Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:
– Так беги принеси. Ну, живо!
Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.
Ведро было больше её самой, девочка могла бы свободно поместиться в нём.
Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлёбку, кипевшую в кастрюле, отведала её и проворчала:
– Хватит ещё воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила.
Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:
– На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.
На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула её в этот карман.
С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придёт ли кто-нибудь на помощь.
– Ну, пошла живей! – крикнула трактирщица.
Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.
Глава 4 На сцене появляется кукла
Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.
Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всём Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребёнку. Эпонина и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет да и взглядывала на неё.
Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла её. Бедное дитя замерло на месте. Козетта ещё не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла – сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, чёрную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую её от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели ещё куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим господом богом.
Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всём, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул её к действительности.
– Как! Ты все ещё тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! – кричала Тенардье, которая, выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.
Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.
Глава 5 Малютка одна
Харчевня Тенардье находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.
Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопёков и вблизи церкви, её путь освещали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы громыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял её одиночество.
Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Всё же ей встретилась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идёт такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! – сказала она. – Да это Жаворонок!»
Таким образом, Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока её путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи – то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало её. Однако по мере того как она подвигалась вперёд, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почёсывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Тёмная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела всё пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! – воскликнула она. – Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.
Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почёсывать голову. Теперь представилась ей тётка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребёнок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди – призрак хозяйки, позади – все духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.
Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.
Ночной шум леса охватил её со всех сторон. Она больше ни о чём не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой – пылинка.
От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.
Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окружённое мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.
Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьём и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за неё, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы её утроились. Нагибаясь над ручьём, она не заметила, как из кармашка её фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала её падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.
Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей ей надо было отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.
Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.
Над её головой небо было затянуто тяжёлыми тёмными тучами, напоминавшими дымные полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребёнком.
Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, которая пугала её. Планета действительно в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.
Холодный ветер дул с равнины. Мрачен был лес, не шелестели в нём листья, и не брезжил там тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооружённые когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Сухой вереск, гонимый ветром, быстро пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.
От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью один не проходит по лесу без страха. Тени и деревья – два опасных сгустка темноты. Призрачная действительность возникает в смутной глуби. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчётливостью привидения. Видишь, как в пространстве – или в собственном мозгу – проплывает нечто смутное и неуловимое, словно грёзы задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной чёрной пустоты. И боязно, и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи – отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное покачивание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, – против всего этого чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребёнка.
Леса – обители тайны и ужаса, и трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.
Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как её обволакивает этот безмерный мрак природы. Её охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало её сердце. В глазах у неё появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что, наверно, она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.
Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало её, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло её к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели её руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил её, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею – бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажжённым свечам. Её взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была боязнь перед хозяйкой, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватилась обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.
Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжёлым, она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватилась за дужку. На этот раз она шла дольше, но пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понурив голову, словно старуха; тяжёлое ведро оттягивало и напрягало её худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; от времени до времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплёскиваясь из ведра, обливала её голые ножки. Это происходило в глубине леса, зимней ночью, вдали от людского взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это раздирающее душу зрелище.
Видела это, конечно, и мать её, увы!
Ибо в мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.
Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания сжимали ей горло, но плакать она не смела, так сильно боялась она своей хозяйки даже вдали от неё. Она привыкла всегда и везде представлять её рядом с собою.
Однако, идя очень медленно, она мало подвигалась вперёд. Напрасно старалась она сокращать время своих стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардье опять прибьёт её. Эта тревога примешивалась к её ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Достигнув знакомого ей старого каштанового дерева, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, и, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И всё же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»
В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая чёрная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший её. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.
Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.
Ребёнок не испугался.
Глава 6, которая, быть может, доказывает сообразительность Башки
После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.
В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединённом квартале.
Как по своей одежде, так и по всему своему облику он воплощал тот тип, который можно назвать благородным нищим. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью – довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто столь беден и столь полон достоинства. На нём была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протёртый до ниток редингот из грубого тёмно-желтого сукна – этот цвет не казался в те времена слишком странным, – закрытый старомодный жилет с карманами, чёрные панталоны, посеревшие на коленях, чёрные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернёра в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, по морщинистому лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, сквозившей во всех движениях, ему не дали бы и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он нёс маленький свёрток, завязанный в носовой платок, а правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно отделана и не казалась слишком грубой: сучки были обрублены, а набалдашник сделан из красного сургуча – под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.
Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.
В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа – вон король возвращается в Тюильри».
И одни выбегали навстречу, другие отходили в сторону, ибо проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило даже известное впечатление. Это было мимолётно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; не в силах ходить, он хотел мчаться; этот хромой человек охотно бы взнуздал молнию. Он проезжал, спокойный и суровый, среди обнажённых сабель охраны. Тяжёлая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди лишь мельком успевали заглянуть в неё. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, крепкое, румяное лицо, свеженапудренные волосы со взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисающей на штатское платье, орден Золотого руна, крест Святого Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Св. Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, надевал её, редко отвечая на приветствия. Холодно глядел он на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то весь успех, который он там стяжал, выразился в словах одного мастерового, обращённых к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».
Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.
Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не подозревал об этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окружённая эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлён и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д’Авре его заметить. В этот день герцог д’Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству: «Вот довольно подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и так как уж начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции, графа Англеса.
Сбив с толку полицейского, человек в жёлтом рединготе ускорил шаги, но не раз ещё оглядывался, желая убедиться, что за ним никто не следует. В четверть пятого, то есть когда уже стало совсем темно, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещённая театральными фонарями, видимо, поразила его: хотя он и шёл торопливо, однако остановился прочитать её. Спустя мгновение он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана.
Пешеход спросил:
– Есть свободное место?
– Только одно, рядом со мной, на козлах, – ответил кучер.
– Я беру его.
– Садитесь.
Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его лёгкий багаж и потребовал плату вперед.
– Вы едете до Ланьи? – спросил кучер.
– Да, – ответил человек.
Он уплатил за проезд до Ланьи.
Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать своих лошадей.
Он закутался в свой плащ. Было холодно. Но пассажир, казалось, не замечал ничего. Таким образом проехали Гурне и Нельи-на-Марне.
Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.
– Я сойду здесь, – сказал пассажир.
Он взял свой сверток и палку и соскочил с дилижанса.
Минуту спустя он пропал из виду.
В трактир он не вошёл.
Когда через некоторое время дилижанс снова тронулся в путь, держа на Ланьи, то не повстречал этого человека и на главной улице Шеля.
Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.
– Этот человек не здешний, я не знаю его, – сказал он. – У него такой вид, точно он без гроша в кармане, а между тем он не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты в домах, в харчевню он не вошёл, но его нигде не видно. Не иначе как сквозь землю провалился.
Но человек не провалился сквозь землю, а торопливо шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на просёлочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как будто он очень хорошо знал его окрестности и уже не раз бывал здесь.
Он быстро пошёл по этой дороге. В том месте, где её пересекает старое, окаймленное деревьями шоссе, ведущее из Ганьи в Ланьи, он услыхал шаги прохожих. Поспешив укрыться во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла тёмная декабрьская ночь. Лишь две или три звезды светились на небе.
Именно в этом месте и начинается подъём на холм. Но путник не пошёл по дороге в Монфермейль. Он взял направо, пересёк поля и быстрым шагом дошёл до леса.
Оказавшись в лесу, он замедлил шаги и стал внимательно присматриваться к каждому дереву, медленно подвигаясь вперёд, словно искал что-то, и держался таинственной, ему одному известной дороги. Было мгновение, когда ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался он до прогалины, где лежала груда больших, белевших в темноте камней. Поспешно подойдя к ним, он окинул их внимательным взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к этому дереву и провёл рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.
Против дерева – это был ясень – рос каштан, болевший отпаданием коры. К нему взамен повязки была прибита полоска цинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до этой цинковой полоски.
Затем он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрытой.
Сделав это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес.
Это и был тот самый человек, который только что встретился с Козеттой.
Пробираясь сквозь лесную поросль по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала её вновь и брела дальше. Он подошёл ближе и увидел, что это была совсем маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он тут же очутился возле неё и молча взялся за дужку ведра.
Глава 7 Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем
Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.
Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.
– Дитя мое, твоя ноша слишком тяжела для тебя.
Козетта подняла голову и ответила:
– Да, сударь.
– Дай мне, – сказал он, – я понесу.
Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошёл рядом с ней.
– Это действительно очень тяжело, – пробормотал он сквозь зубы. Потом спросил: – Сколько тебе лет, малютка?
– Восемь лет, сударь.
– И ты идешь издалека?
– От ручья, который в лесу.
– А далеко тебе ещё идти?
– Добрых четверть часа.
Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:
– Значит, у тебя нет матери?
– Я не знаю, – ответила девочка. И прежде чем он успел вновь заговорить, она добавила: – Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. – И помолчав, продолжала: – Наверно, никогда и не было.
Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи ребёнка, стараясь в темноте разглядеть лицо.
Худенькое и жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете неба.
– Как тебя зовут?
– Козетта.
Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на неё, затем снял свои руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал вперёд.
Спустя мгновение он спросил:
– Где ты живешь, малютка?
– В Монфермейле, – может, вы знаете, где это?
– Мы идём туда?
– Да, сударь.
Немного погодя он снова спросил:
– Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?
– Госпожа Тенардье.
Незнакомец продолжал голосом, которому силился придать равнодушие, но который, однако, странно дрожал:
– А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается?
– Она моя хозяйка, – ответил ребёнок. – Она содержит постоялый двор.
– Постоялый двор? – переспросил путник. – Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.
– А мы туда идем, – ответила девочка.
Человек шёл довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Её никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на чувство радости и надежды, обращённое к небесам.
Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:
– Разве у госпожи Тенардье нет служанки?
– Нет, сударь.
– Разве ты у неё одна?
– Да, сударь.
Вновь наступило молчание. Потом Козетта сказала:
– Правда, у неё есть ещё две маленькие девочки.
– Какие маленькие девочки?
– Понина и Зельма.
Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.
– Кто же это Понина и Зельма?
– Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто её дочери.
– А что же они делают?
– О! – воскликнул ребёнок. – У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.
– Весь день?
– Да, сударь.
– А ты?
– А я работаю.
– Весь день?
Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слёзы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:
– Да, сударь. – С минуту помолчав, Козетта добавила: – Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.
– Как же ты играешь?
– Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла их куклами. У меня есть только оловянная сабелька, вот такой длины. – И девочка показала на мизинец.
– Ею ничего нельзя резать?
– Можно, сударь, – ответила девочка, – например, салат и головы мухам.
Они дошли до деревни; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать её и хранил теперь мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:
– Тут что же, ярмарка?
– Нет, сударь, это Рождество.
Когда они подходили уже к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки:
– Сударь.
– Да, дитя мое?
– Вот мы уже совсем близко от дома.
– И что же?
– Можно мне теперь у вас взять ведро?
– Зачем?
– Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьёт.
Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.
Глава 8 Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом
Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все ещё красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем она постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица, держа в руке свечу.
– А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!
– Сударыня, – сказала, задрожав, Козетта, – вот господин, который хотел бы переночевать у нас.
Угрюмое выражение на лице тётки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой – это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, желая разглядеть вновь прибывшего.
– Это вы, сударь?
– Да, сударыня, – ответил человек, притронувшись рукой к шляпе.
Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также осмотр одежды и багажа путешественника, который бегло произвела хозяйка, заставили исчезнуть её любезную гримасу, снова сменившуюся угрюмым выражением. Она сухо произнесла:
– Входите, милейший.
«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особенное внимание его изрядно потёртому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в подобном случае обозначает: «голь перекатная». Тогда трактирщица воскликнула:
– Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.
– Поместите меня, куда вам будет угодно – на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, – сказал путник.
– Сорок су.
– Сорок су? Ладно.
– В добрый час.
– Сорок су! – шепнул один из возчиков кабатчице. – Но ведь комната стоит только двадцать су.
– А с него сорок, – ответила она тоже шёпотом. – Дешевле я не беру с бедняков.
– Правильно, – кротким голосом заметил её муж, – пускать к себе такой народ – только портить добрую славу заведения.
Тем временем человек, положив на скамью свой узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился сам напоить её. Козетта опять уселась на обычное место под кухонным столом и взялась за свое вязание.
Человек налил себе вина и, едва пригубив из стакана, с каким-то странным вниманием разглядывал ребёнка.
Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливой, она была бы миловидной. Мы уже набросали в общих чертах этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шёл восьмой год. Её большие глаза, окружённые синевой, казались почти тусклыми от постоянных слёз. Уголки её рта были опущены с тем выражением привычного страдания, которое наблюдаешь у приговоренных к смерти и у безнадёжно больных. Руки её, как предугадала мать, «потрескались от мороза». Огонь, освещавший Козетту в это мгновение, выдавал её резко выступающие кости и подчёркивал её ужасную худобу. Так как её постоянно знобило, то у неё образовалась привычка тесно сжимать колени. Вся её одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Её прикрывала лишь дырявая холстина; ни лоскутка шерсти. Там и сям просвечивало тело, на котором можно было разглядеть синие или чёрные пятна – следы прикосновения хозяйской длани. Голые тонкие ножки покраснели от холода. Глубокие впадины над ключицами были жалостны до слёз. Весь облик этого ребёнка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест – всё выражало и обличало лишь одно: страх.
Козетта была вся проникнута этим страхом, он её как бы окутывал. Страх вынуждал её тесно прижимать к себе локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой её тела, способной лишь усиливаться. В глубине её зрачков притаился ужас.
Этот страх был так велик, что, возвратясь домой совершенно измокшей, Козетта не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько уселась за свою работу.
Взгляд этого восьмилетнего ребёнка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные мгновения казалось, что она на пути к слабоумию или к помешательству.
Никогда, мы уже упоминали об этом, не знала она, что такое молитва, никогда не переступала порога церкви. «Разве у меня есть для этого время?» – говорила её хозяйка.
Человек в жёлтом рединготе не спускал глаз с Козетты.
Вдруг трактирщица воскликнула:
– Постой! А хлеб где?
Козетта, как всегда, стоило только хозяйке повысить голос, быстро вылезла из-под стола.
Она совершенно забыла об этом хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала:
– Сударыня, булочная была уже заперта.
– Надо было постучаться.
– Я стучалась, сударыня.
– Ну и что же?
– Мне не отперли.
– Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, – сказала Тенардье, – и если ты соврала, то попляшешь у меня как следует. А покамест дай-ка сюда пятнадцать су.
Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки в пятнадцать су там не было.
– Ну, – крикнула трактирщица, – ты оглохла, что ли?
Козетта вывернула карман. Пусто. Но куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.
– Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? – прохрипела Тенардье. – А может, ты вздумала их у меня украсть?
С этими словами она протянула руку к плётке, висевшей на гвозде возле очага.
Это грозное движение вернуло Козетте силы, она закричала: «Простите! Простите! Я больше не буду!»
Тенардье сняла плеть.
В это время человек в жёлтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.
Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать своё жалкое полуобнажённое тельце. Трактирщица занесла руку.
– Виноват, сударыня, – вмешался неизвестный, – я сейчас видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилось по полу. Не эти ли деньги?
Он тут же наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.
– Так и есть, вот она, – сказал он, выпрямляясь.
И он протянул тётке Тенардье серебряную монетку.
– Та самая! – воскликнула тётка Тенардье.
Отнюдь не «та самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребёнка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»
Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тётка Тенардье, и её большие глаза, устремлённые на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчётная доверчивость.
– Ну как, вы будете ужинать? – спросила трактирщица у приезжего.
Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.
– Кто он, этот человек? – процедила она сквозь зубы. – Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову украсть деньги, валявшиеся на полу.
Тут открылась дверь, и вошли Эпонина и Азельма.
Это были две прехорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, очень миленькие, одна – с блестящими каштановыми косичками вокруг головы, другая – с длинными чёрными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Сверх того они были здесь повелительницами. В их одежде, в их весёлости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливым, но полным обожания голосом: «А, вот, наконец, и вы пожаловали!»
Притянув поочерёдно каждую к себе на колени, она пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила, воскликнув: «Нечего сказать, хороши!»
Девочки уселись в углу, возле очага. В руках они держали куклу, которую тормошили на все лады, укладывая её то у одной, то у другой на коленях, и весело щебетали. От времени до времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.
Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трём девочкам всем вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны – зависть, с другой – пренебрежение.
Кукла сестёр Тенардье была совсем полинявшая, совсем старая и вся поломанная, но тем не менее она казалась Козетте восхитительной: ведь у неё за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, – употребляя выражение, понятное для всех детей.
Вдруг тётка Тенардье, продолжавшая ходить взад и вперёд по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.
– А вот я тебя и поймала! – закричала она. – Так-то ты работаешь? Погоди, вот возьму плётку, она-то уж заставит тебя поработать!
Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.
– Сударыня, – промолвил он, улыбаясь почти робко, – чего уж там, пусть её поиграет!
Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был подобный редингот, смел бы выражать свою волю, – этого трактирщица допустить не могла. Она резко возразила:
– Девчонка должна работать, раз она ест мой хлеб. Я кормлю её не для того, чтобы она бездельничала.
– А что же это она делает? – спросил незнакомец мягким голосом, странно противоречившим его нищенской одежде и широким плечам носильщика.
Трактирщица снизошла до ответа:
– Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Прежние, можно сказать, все износились, и дети скоро останутся совсем босыми.
Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:
– А когда же она окончит эту пару?
– Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре, этакая лентяйка!
– И сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?
Трактирщица окинула его презрительным взглядом.
– Не меньше тридцати су.
– А уступили бы вы их за пять франков? – снова спросил человек.
– Черт возьми! – грубо засмеявшись, вскричал один возчик, слышавший этот разговор. – Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!
Тут Тенардье решил, что пора вмешаться в разговор.
– Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы не умеем ни в чём отказывать путешественникам.
– Но денежки на стол! – резко и решительно заявила его супруга.
– Я покупаю эти чулки, – ответил незнакомец, затем, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: – И плачу за них. – Потом он повернулся к Козетте: – Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя моё.
Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на неё.
– И вправду, гляди-ка! – воскликнул он. – Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!
Тенардье подошёл и молча положил деньги в жилетный карман.
Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо её исказилось злобой.
Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:
– Сударыня, это правда? Я могу поиграть?
– Играй! – бешеным голосом ответила тётка Тенардье.
– Спасибо, сударыня, – ответила Козетта.
И в то время как её уста благодарили хозяйку, вся её маленькая душа возносила благодарность приезжему.
Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:
– Кем он может быть, этот жёлтый человек?
– Мне приходилось встречать миллионеров, – величественно ответил Тенардье, – которые носили такие же рединготы.
Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади неё, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.
Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Они только что успешно завершили очень ответственное дело – завладели кошкой. Бросив на пол куклу, Эпонина, которая была постарше, пеленала котёнка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой серьёзной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, лишь только хочешь его запечатлеть.
– Знаешь, сестричка, эта вот кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тёпленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду дама. Я приду к тебе в гости, а ты на неё посмотришь. Потом ты понемножку увидишь её усики и удивишься. А потом ты увидишь её ушки, а потом ты увидишь её хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «О боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».
Азельма с восхищением слушала Эпонину.
Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.
Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпонина пеленали котёнка, Козетта пеленала свою саблю. Потом она взяла её на руки и, тихо напевая, стала её убаюкивать.
Кукла – одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов в девочке. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто – есть некто, – в этом всё будущее женщины. Мечтая и болтая, заготовляя игрушечное приданое и маленькие пелёнки, нашивая платьица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка – в девушку, девушка – в женщину. Первый ребёнок – последняя кукла.
Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей.
Козетта сделала себе куклу из сабли.
Тем временем тётка Тенардье подошла к «жёлтому человеку». «Мой муж прав, – решила она, – может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»
Она облокотилась на стол.
– Сударь… – сказала она.
При слове «сударь» мужчина обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».
– Видите ли, сударь, – продолжала она со своей слащавой вежливостью, которая была ещё неприятней, чем её грубость, – мне очень хочется, чтобы этот ребёнок играл, я не возражаю, если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у неё никого нет. Она должна работать.
– Значит, это не ваш ребёнок? – спросил человек.
– Бог с вами, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У неё, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у неё большая голова. Мы делаем для нее всё, что можем, но мы сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, как мы напрасно пишем к ней на родину, нам не отвечают ни слова. Её мать, надо думать, умерла.
– Вот как? – ответил человек и снова задумался.
– Хороша была эта мать, – добавила трактирщица. – Бросила собственное дитя.
В продолжение всей этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз со своей хозяйки. Но слушала она рассеянно, до неё долетали лишь обрывки фраз.
Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли свой гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда приплели Пресвятую Деву и младенца Иисуса. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в её неподвижных глазах; она опять принялась укачивать то подобие младенца в пелёнках, которое соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»
После новых настояний хозяйки жёлтый человек, «миллионер», согласился наконец поужинать.
– Что прикажете подать, сударь?
– Хлеба и сыру, – ответил он.
«Наверно, нищий», – решила тётка Тенардье.
Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребёнок под столом продолжал петь свою.
Вдруг Козегта умолкла: обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую девочки позабыли, занявшись кошкой, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.
Тогда она выпустила из рук запелёнутую саблю, лишь наполовину удовлетворявшую её сердце, затем медленно обвела глазами комнату. Тётка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с кошкой; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, – на неё никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила её. Мгновение спустя она снова была на своём месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было столь редким для неё, что таило в себе всё неистовство наслаждения.
Никто ничего не заметил, кроме проезжего, медленно поглощавшего свой скудный ужин.
Это блаженство длилось с четверть часа.
Но как осторожна ни была при этом Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выходит из тени и ярко освещена огнем очага. Эта розовая и блестящая нога, выступавшая из темноты, вдруг поразила взгляд Азельмы, которая сказала Эпонине: «Погляди-ка, сестрица!»
Обе девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!
Эпонина встала и, не выпуская кошки, подошла к матери и стала дергать её за юбку.
– Да оставь ты меня в покое. Ну, что тебе надо? – спросила мать.
– Мама, – ответила девочка, – да посмотри же!
И указала пальцем на Козетту.
А Козетта, вся охваченная восторгом, ничего не видела и ничего не слышала.
Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое вызывается сильнейшей яростью по поводу мелочей жизни и которое заслужило подобного рода женщинам прозвище «мегеры».
На этот раз уязвленная гордость ещё сильнее разожгла её гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет синюю орденскую ленту её августейшего сына, была бы разгневана не больше.
Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:
– Козетта!
Козетта так вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.
– Козетта! – повторила кабатчица.
Козетта взяла куклу и с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием, осторожно положила её на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки, и – страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребёнка – она заломила их. Наконец пришло то, к чему ни одно переживание дня не могло вынудить её, – ни её путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже мрачные, услышанные ею слова хозяйки, – пришли слезы. Она захлёбывалась от рыданий.
Приезжий встал из-за стола.
– Что случилось? – спросил он.
– Да разве вы не видите? – воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.
– Ну, и что же? – снова спросил человек.
– Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! – ответила Тенардье.
– И только-то? – сказал человек. – Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?
– Но она трогала её своими грязными руками! Своими отвратительными руками! – продолжала кабатчица.
При этих словах рыдания Козетты усилились.
– Ты замолчишь или нет! – крикнула тётка Тенардье.
Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл её и вышел.
Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.
Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нёс в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил её перед Козеттой и сказал:
– Возьми, это тебе.
По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погружённый в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещённую плошками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.
Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на неё солнцем, её сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», – она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.
Она больше не плакала, не кричала, – казалось, она не осмеливалась даже дышать.
Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами. Пьяницы и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.
Тётка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое – то есть вор?»
На физиономии супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчёркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нём во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»
Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.
– Ну что же, Козетта, – сказала Тенардье кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, – почему же ты не берёшь свою куклу?
Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.
– Козетточка, – ласково подхватил Тенардье, – господин дарит тебе куклу. Бери её. Она твоя.
Козетта глядела на волшебную куклу с чувством какого-то ужаса. Её лицо было ещё залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.
Ей казалось, что, лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.
До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьёт её и выругает.
Однако сила притяжения победила. Козетта наконец приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:
– Можно, сударыня?
Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищённый.
– Понятно, можно! – ответила кабатчица. – Она твоя. Ведь господин дарит её тебе.
– Правда, сударь? – переспросила Козетта. – Разве это правда? Она моя, эта дама?
У проезжего глаза были полны слёз. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в её ручонку.
Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла её, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту язык у неё высовывался самым неумеренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.
– Я буду звать ее Катериной, – сказала она.
Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и перемешались с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.
– Сударыня, – спросила она, – а можно мне посадить её на стул?
– Да, дитя мое, – ответила кабатчица.
Теперь пришёл черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.
Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.
– Играй же, Козетта, – сказал проезжий.
– О, я играю! – ответил ребёнок.
Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось, само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступкам мужа, но сейчас это было свыше её сил. Поспешно отправила она дочерей спать и спросила у жёлтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», – с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта отправилась спать, унося в объятиях Катерину.
Время от времени тётка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел её муж, чтобы, по собственному её выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не решалась произносить их громко.
– Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Ещё немного, и он начнет величать её «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?
– Ничего не рехнулся! Всё это очень просто, – возразил Тенардье. – А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать всё, что хочет. Если этот старичина – филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?
Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот ни другой не терпели возражений.
Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринуждённо из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.
Протекло несколько часов. Полуночная служба отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, нижняя зала опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть всё на том же месте, в той же позе. Порой он менял только руку, на которую опирался. Вот и всё. Но с тех пор как ушла Козетта, он не произнёс ни слова.
Супруги Тенардье из любопытства и приличия оставались в зале. «Он всю ночь, что ли, собирается этак провести?» – ворчала Тенардье. Когда пробило два, она сдалась, заявив мужу: «Я иду спать. Делай с ним что хочешь». Супруг уселся около стола в углу, зажёг свечу и принялся читать «Французский вестник».
Так прошёл добрый час. Достойный трактирщик прочёл по крайней мере раза три «Французский вестник» от даты газеты до имени издателя включительно. Проезжий не трогался с места.
Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек оставался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» – подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло пробудить его от дум.
Наконец Тенардье, сняв свой колпак, осторожно подошёл к нему и отважился спросить:
– Не угодно ли вам, сударь, идти почивать?
Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась какая-то пышность и одновременно почтительность. Подобные слова обладают таинственным и замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счёта. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.
– Да, – сказал незнакомец, – вы правы. Где ваша конюшня?
– Сударь, – усмехаясь, произнес Тенардье, – я провожу вас, сударь.
Он взял подсвечник, незнакомец взял свой свёрток и палку, и Тенардье повёл его в комнату первого этажа, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в форме лодки и занавески из красного коленкора.
– Это что такое? – спросил путник.
– Это наша собственная спальня, – ответил трактирщик. – Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.
– Мне больше по душе конюшня, – резко сказал незнакомец.
Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтивого замечания.
Он зажёг две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно сильный огонь.
На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и померанцевых цветов.
– А это что такое? – спросил проезжий.
– Сударь, – ответил Тенардье, – это подвенечный убор моей супруги.
Незнакомец окинул этот предмет взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»
Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот жалкий домишко, чтобы открыть в нём кабак, то уже нашёл эту комнату подобным образом обставленною; он купил эту мебель и сторговал померанцевые цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».
Когда путешественник обернулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.
Трактирщик удалился в свою комнату. Жена уже лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:
– Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.
– Прыткая какая! – холодно ответил Тенардье.
Больше они не обменялись ни словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.
Путешественник же, лишь только хозяин ушел, положил в угол свой сверток и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом он снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору, который вывел его на лестницу. Тут он услыхал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребёнка. Он пошёл на этот звук и очутился возле какого-то трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей. Это углубление было не чем иным, как обратной стороной ступеней. Там, среди всевозможных старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.
Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на неё.
Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.
Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. От времени до времени Козетта тяжко вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.
Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная тёмная комната. Проезжий вошёл в нее. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, очень беленькие кроватки. Это были кроватки Эпонины и Азельмы. Позади этих кроваток, наполовину скрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, кричавший весь вечер.
Проезжий предположил, что эта комната была смежной с комнатой супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит такой скудный огонь, если он вообще горит, и от которых веет холодом. В этом камине не было огня, в нем не было даже золы; но то, что стояло в нём, привлекло, однако, внимание путешественника. То были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Проезжий вспомнил прелестный старинный обычай детей ставить в камин в рождественский сочельник свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него какой-нибудь ослепительный подарок. Эпонина и Азельма не упустили такого случая, и каждая поставила в камин по башмачку.
Проезжий нагнулся.
Фея, то есть мать, уже побывала здесь, и в каждом башмачке блестела великолепная монета в десять су, совершенно новенькая.
Человек выпрямился и уже собирался удалиться, но заметил в глубине, в сторонке, в самом тёмном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, самое грубое, ужасное деревенское сабо, наполовину разбитое, всё в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта, с той трогательной детской доверчивостью, которая, никогда не отчаиваясь, способна постоянно терпеть разочарования, поставила – и она тоже – своё сабо в камин.
Как божественна и трогательна была эта надежда в ребёнке, который знавал одно лишь горе!
В этом сабо ничего не лежало.
Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.
Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.
Глава 9 Тенардье за делом
На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардье, сидя в нижней зале трактира за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счёт путешественника в жёлтом рединготе.
Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Они не произносили ни слова. Он сосредоточенно размышлял, она же испытывала то благоговейное чувство, с которым человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним чудесное творение человеческого ума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.
Спустя добрых четверть часа, после нескольких поправок, Тенардье создал следующий шедевр:
СЧЕТ ГОСПОДИНУ ИЗ № 1
Ужин 3 фр.
Комната 10 фр.
Свеча 5 фр.
Топка 4 фр.
Услуги 1 фр.
Итого 23 фр.
Вместо «услуги» написано было «усслуги».
– Двадцать три франка! – воскликнула жена с восторгом, к которому всё же примешивалось некоторое сомнение.
Тенардье, как все великие артисты, не был, однако, удовлетворен.
– Пфа! – пыхнул он.
То было восклицание Кастльри, составлявшего на Венском конгрессе счёт, по которому должна была уплатить Франция.
– Ты прав, господин Тенардье, он действительно нам столько должен, – пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии её дочерей. – Это справедливо, но многовато. Он не захочет платить.
Тенардье засмеялся своим холодным смехом и ответил:
– Заплатит.
Этот смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось подобным тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперёд по комнате. Немного погодя он добавил:
– Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!
Он уселся возле камина и, положив ноги на тёплую золу, отдался размышлениям.
– Кстати, – опять заговорила жена, – ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня прямо сердце разорвётся из-за этой её куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть её в доме!
Тенардье закурил трубку и сказал между двумя затяжками:
– Ты подашь счёт этому человеку.
Затем он вышел.
Только он скрылся за дверью, как в залу вошёл проезжий.
Тенардье тут же показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.
Жёлтый человек держал в руке свою палку и сверток.
– Так рано и уже на ногах? – воскликнула кабатчица. – Разве вы покидаете нас, сударь?
Она в замешательстве вертела в руках счёт, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Её грубая физиономия выражала несвойственные ей чувства смущения и беспокойства.
Представить подобный счёт человеку, похожему «точь-в-точь на нищего», казалось ей неудобным.
У проезжего был озабоченный и рассеянный вид. Он ответил:
– Да, сударыня, я ухожу.
– Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?
– Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?
Тенардье молча подала ему сложенный счёт.
Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.
– Сударыня, – спросил он, – а хорошо ли идут ваши дела здесь, в Монфермейле?
– Так себе, сударь, – ответила кабатчица, изумленная тем, что счёт не вызвал взрыва возмущения. – Ах, сударь, – продолжала она жалобным и плаксивым тоном, – тяжёлое время теперь! Вдобавок и людей-то зажиточных в нашей округе очень мало. Всё, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, ещё и эта девчонка влетает нам в копеечку!
– Какая девчонка?
– Ну, девчонка-то, помните? Козетта. Жаворонок, как её тут в деревне прозвали.
– А-а! – протянул незнакомец.
Она продолжала:
– И дурацкие же у этих мужиков клички! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Вы сами знаете, сударь, какие ужасные деньги дерёт с нас правительство. А кроме того, у меня ведь есть свои дочери. Очень мне надо кормить чужого ребёнка.
Тогда незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, спросил:
– А что, если бы вас освободили от неё?
– От кого? От Козетты?
– Да.
Красная и свирепая физиономия кабатчицы расплылась в омерзительной улыбке.
– О, возьмите её, сударь, оставьте у себя, уведите её, унесите, осыпьте её сахаром, начините трюфелями, выпейте её, скушайте, и да благословит вас Пресвятая Дева и все святые угодники!
– Хорошо.
– Правда? Вы возьмете её?
– Я возьму её.
– Сейчас?
– Сейчас. Позовите ребёнка.
– Козетта! – закричала Тенардье.
– А пока, – продолжал путник, – я уплачу вам по счёту. Сколько с меня следует?
Взглянув на счёт, он не мог скрыть удивления:
– Двадцать три франка! – Он посмотрел на трактирщицу и повторил: – Двадцать три франка? – В том, как произнесены были во второй раз эти три слова, скрывался оттенок, проводящий грань между восклицанием и вопросом.
У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к удару. Она ответила твердо:
– Ну да, сударь! Двадцать три франка.
Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.
– Приведите малютку, – сказал он.
В это мгновение на середину комнаты выступил сам Тенардье.
– Этот господин должен двадцать шесть су, – сказал он.
– Как двадцать шесть су? – вскричала жена.
– Двадцать су за комнату, – холодно ответил Тенардье, – и шесть су за ужин. Что же касается малютки, то на этот счёт мне надо потолковать немного с господином проезжим. Оставь нас одних, жена.
Тётка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослеплённый внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что великий актер вступил на подмостки, и, не возразив ни слова, удалилась.
Как только они остались одни, Тенардье предложил проезжему стул. Проезжий сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло непривычно добродушное и простоватое выражение.
– Сударь, – сказал он, – послушайте, скажу вам прямо: я обожаю это дитя.
Незнакомец пристально взглянул на него.
– Какое дитя?
Тенардье продолжал:
– Смешно просто! А вот привязываешься к ним. На что мне все эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.
– Да кого же? – переспросил незнакомец.
– А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти её от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребёнком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел её совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у неё есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной её болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать во имя божье. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я её вырастил. У меня хватит хлеба и на неё, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребёнку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит её. Девочка для нас, видите ли вы, всё равно что родной ребёнок. Я привык к её лепету в доме.
Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.
– Прошу меня простить, сударь, – продолжал Тенардье, – но своего ребёнка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека очень порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье… но мне надо знать. Вы понимаете? Предположим, я отпущу её и пожертвую собой, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять её из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать её: пусть она чувствует, что её добрый названый отец недалеко, что он охраняет её. Одним словом, есть вещи, которые превышают наши силы. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете её, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, так ведь?
Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьёзным и решительным тоном:
– Господин Тенардье, отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу её, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я порываю нити, связывающие её с этим домом, она исчезает. Согласны вы? Да или нет?
Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так и Тенардье понял, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, и изучая его, словно математик. Он выслеживал его из личного расчета, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже угадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребёнка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто был этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кем же он был? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал всё и не знал ничего. Как бы там ни было, завязав разговор с этим человеком и, уверенный в том, что тут кроется какая-то тайна, что проезжий не без умысла желает остаться в тени, он чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была проста при всей её загадочности, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он взвесил всё это в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямолинейно и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решающий момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.
– Сударь, – заявил он, – мне нужны полторы тысячи франков.
Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил их на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:
– Приведите Козетту.
Что же делала всё это время Козетта?
Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времён Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой её стороне вместо лаврового венка изображен был прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Её судьба начинала опьянять её. Она не знала, что такое золотой, она никогда их не видела, и поспешно спрятала монету в карман передника, словно украла её. Между тем она чувствовала, что этот золотой – неоспоримая её собственность, она догадалась, чей дар это был, однако испытывала какое-то смешанное чувство и радости, и страха. Она была довольна; ещё более она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед всем этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нём уже успокаивала её. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом размышляла об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле – таком богатом и добром. С момента встречи с этим стариком в лесу всё для неё словно изменилось. Козетта, испытавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка небесная, никогда не знала, что значит жить, приютившись под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студёным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде её душе было холодно, теперь – тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже не была одинока; кто-то стоял подле неё.
Она проворно принялась за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого накануне выпала монета в пятнадцать су, отвлекал её. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и, надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, неподвижная, позабыв о своей метёлке, обо всём на свете, уйдя в созерцание этой звезды, блистающей в глубине её кармашка.
В такую-то минуту и застигла её тётка Тенардье.
По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила её ни одним тумаком и не обругала её.
– Козетта, – сказала она почти кротко, – иди скорее.
Спустя минуту Козетта входила в нижнюю залу.
Незнакомец взял принесённый им сверток и развязал его. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки – одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были чёрного цвета.
– Дитя моё, – сказал незнакомец, – возьми всё это и пойди скорее переоденься.
День ещё только занимался, когда те из жителей Монфермейля, которые начали отпирать свои двери, увидели, как по Парижской улице шёл бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.
Это были наш незнакомец и Козетта.
Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и её.
Козетта уходила. С кем? Она не ведала. Куда? Она не знала. Лишь одно ей было понятно: она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.
Бедное, кроткое существо, чьё сердце до сей поры знало одно лишь горе!
Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя на небо. Свой луидор она положила в кармашек нового передника. От времени до времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею сам господь бог.
Глава 10 Кто ищет лучшего, может найти худшее
Тётка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда проезжий и Козетта ушли, то Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвёл жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.
– И только-то? – удивилась она.
Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки.
Удар попал в цель.
– Ты права, конечно! – ответил он. – Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу.
Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и поспешно вышел, но сначала ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал по указанному ему пути.
«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в жёлтое, а я – болван, – рассуждал он сам с собой. – Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все с одинаковой лёгкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, – всё это весьма странно; под этим скрывается немало тайн. Но уловленную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей – это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать. – Все эти мысли вихрем кружились в его голове. – Я болван», – повторял он.
Когда выходишь из Монфермейля и достигаешь поворота, образуемого дорогой, ведущей в Ливри, то далеко вперёд видно, как эта дорога бежит по плато. Дойдя до этого места, Тенардье рассчитывал увидеть старика и девочку. Он всматривался вдаль, сколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и ребёнок, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил в ту же сторону.
Правда, они опередили его, но ведь ребёнок идёт медленно, а Тенардье шёл быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.
Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.
– Надо было захватить с собой ружьё, – пробормотал он.
Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые иногда незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя лишь наполовину. При спокойной и ровной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» – мы не говорим «быть» – честным, как принято выражаться, торговцем, порядочным гражданином. И в то же время, при иных условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана в иные мгновения, сидя на корточках в каком-нибудь углу трущобы, где жил Тенардье, предавался размышлениям перед этим высочайшим образцом человеческой низости.
После минутного колебания Тенардье подумал: «Ну нет! А то они успеют скрыться!»
И он продолжал свой путь вперёд быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьём лисицы, которая выследила стайку куропаток.
И в самом деле, когда он, миновав пруды, пересёк наискосок большую прогалину, что направо от лесной дороги на Бельвю, и достиг той заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил уже такое множество догадок. Эта шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели под ним отдохнуть. Ребёнок был так мал, что его не было видно, зато видна была голова куклы.
Тенардье не ошибся. Незнакомец уселся там, чтобы дать Козетте немного передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого искал.
– Прошу прощения, сударь, – проговорил он, запыхавшись, – извольте получить ваши полторы тысячи франков.
С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.
Тот взглянул на него.
– Что это значит?
Тенардье ответил почтительно:
– Сударь, это значит, что я беру Козетту обратно.
Козетта вздрогнула и прижалась к старику.
А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отделяя каждый слог:
– Вы бе-рё-те об-рат-но Козетту?
– Да, сударь, я беру её. Сейчас я объясню вам почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдавать её вам. Видите ли, я честный человек. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. И мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы ответите мне: «Но мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребёнка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребёнка предъявителю этой записки. Ясно?
Человек, не отвечая, порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.
Трактирщик задрожал от радости.
«Прекрасно! – подумал он. – Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить».
Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было совершенно пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Он открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а простой клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику, сказав: «Вы правы. Прочтите».
Тенардье взял бумажку и прочёл:
«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.
Господин Тенардье,
Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь с уважением,
Фантина».– Вам знакома эта подпись, – добавил путник.
Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал её.
Возражать было нечего. Он был сильно и вдвойне раздосадован: тем, что приходится отказаться от денег, на которые он рассчитывал, и тем, что был побеждён.
– Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, – сказал незнакомец.
Тенардье пришлось отступать по всем правилам.
– Подпись довольно ловко подделана, – проворчал он сквозь зубы. – Ну да ладно!
Затем он сделал ещё одну безнадёжную попытку.
– Пускай будет так, сударь, – сказал он, – поскольку вы являетесь подателем этого письма. Но надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.
Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:
– Господин Тенардье, в январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков; но в феврале вы послали ей счет на пятьсот франков; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; согласно условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остаётся долгу тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.
Тенардье испытал то же чувство, что волк, схваченный стальными челюстями капкана.
«Что за чёрт этот человек!» – подумал он.
И поступил так, как поступает волк: рванулся вон из капкана. Ведь однажды его уже выручило нахальство.
– Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать, – сказал он решительно, оставляя на этот раз в стороне вежливые свои приёмы, – я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.
Незнакомец спокойно сказал:
– Идём, Козетта.
Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал свою палку, лежавшую на земле.
Тенардье отметил про себя увесистость дубинки и уединенность местности.
Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.
Они уходили всё дальше. Тенардье глядел на его широкие, слегка согбенные плечи и на его внушительные кулаки.
Потом он перевёл взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, – подумал он, – пошёл на охоту без ружья!»
И все же он не хотел сдаваться до конца.
– Мне надо знать, куда он пойдёт, – пробормотал он. И, держась всё время поодаль, последовал за ними. В руках у него оставались две вещи: насмешка – клочок бумажки с подписью «Фантина», и утешение – полторы тысячи франков.
Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шёл медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зима сделала лес сквозным, и потому Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался от них на довольно значительном расстоянии. От времени до времени человек оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в лесную поросль, среди которой им легко было скрыться.
– Тьфу ты пропасть! – воскликнул Тенардье и ускорил шаг.
Густота лесной чащи принудила его близко подойти к ним. Когда человек вошел в самую её глубь, то обернулся. Напрасно Тенардье старался укрыться среди кустов, ему не удалось спрятаться от старика. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг человек снова оглянулся и снова заметил трактирщика. На этот раз его взгляд, обращённый на Тенардье, был так мрачен, что тот счёл «бесполезным» дальнейшее преследование. Тенардье круто повернулся домой.
Гаврош
Часть III Мариус[3]
Книга первая
Париж, изучаемый по атому
Глава 1 Parvulus[4]
У Парижа есть ребёнок, а у леса – птица; птица зовётся воробьём, ребёнок – гаменом.
Сочетайте оба эти понятия – пещь огненную и утреннюю зарю, дайте обеим этим искрам – Парижу и детству – столкнуться, – возникнет маленькое существо. Homuncio[5], сказал бы Плавт.
Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не всякий день случается поесть, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит всякий вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нём одна подтяжка с жёлтой каёмкой; он вечно рыщет, что-то ищет, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чём свет стоит, шляется по кабачкам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поёт непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина – невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек ещё ребёнок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.
Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» – он ответил бы: «Моё дитя».
Глава 13 Маленький Гаврош
Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д’О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который вполне подошёл бы под нарисованный нами выше портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как всякий в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Ребёнок этот был наряжён в мужские брюки, но не отцовские, и в женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были и отец, и мать. Но отец не желал его знать, а мать его не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.
Лучше всего ребёнок этот чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жёсткой, чем сердце матери.
Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он, не прекословя, покорился.
Это был шумливый, бойкий, смышлёный, задорный мальчик, с живым, но болезненным выражением бледного лица. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавках, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли пострелёнком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был радостен, потому что был свободен.
Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего социального порядка и размалываются им. Но пока они дети и малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.
Однако, как ни заброшен был этот ребёнок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаюсь с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил – куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50–52, к лачуге Горбо.
В ту пору лачуга № 50–52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась – редкий случай – заселённой несколькими личностями, впрочем, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношений. Все они принадлежали к тому неимущему классу, что начинается с мелкого, стеснённого в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку всё ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарём, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.
«Главная жилица» времён Жана Вальжана уже умерла, и её сменила совершенно такая же. Кто-то из философов, не припомню кто, сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».
Эта новая старуха звалась тётушкой Бюргон, и в жизни её не было ничего примечательного, если не считать династии трёх попугаев, последовательно царивших в её сердце.
Из всех живущих в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырёх лиц: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трёх чердаков, которые были уже нами описаны.
На первый взгляд семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Немного времени спустя после своего водворения, весьма напоминавшего, по столь памятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и её предшественница, одновременно исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте – это я».
Это и была семья весёлого оборвыша. Он приходил сюда, но видел здесь лишь нищету и уныние и – что ещё печальнее – не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его: «Зачем ты сюда ходишь?»
Этот ребёнок, лишённый ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.
Впрочем, мать любила его сестёр.
Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему звался он Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему отец его звался Жондретом.
Инстинктивное стремление разорвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим.
Комната в лачуге Горбо, в которой жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.
Расскажем теперь, кто такой этот г-н Мариус.
Часть IV Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени[6]
Книга четвёртая
Помощь снизу может быть помощью свыше
Глава 2 Тётушка Плутарх без труда объясняет некое явление
Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдётся. Он добрался до какого-то поселка, ему показалось, что это деревня Аустерлиц.
Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, и в этом саду – довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко – это ужин; яблоко – это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. К саду примыкала пустынная немощёная улочка, за отсутствием домов окаймлённая кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.
Гаврош направился к этому саду, нашёл улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? – раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.
В двух шагах от него, по другую сторону изгороди, как раз против того места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.
– Господин Мабеф! – сказала старуха.
«Мабеф! – подумал Гаврош. – Да это прямо смех».
Старик не шевельнулся. Старуха повторила:
– Господин Мабеф!
Старик, не поднимая глаз, наконец ответил:
– Что скажете, тётушка Плутарх?
«Тётушка Плутарх! – подумал Гаврош. – Да это прямо умора».
Тётушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.
– Хозяин недоволен.
– Почему?
– Мы ему должны за девять месяцев.
– Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.
– Он говорит, что выставит нас на улицу.
– Что ж, я пойду.
– Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас совершенно нет дров.
– Зато есть солнце.
– Мясник больше не даёт в долг и не хочет отпускать говядину.
– Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Оно для меня слишком тяжело.
– Что же подавать на обед?
– Хлеб.
– Булочник требует по счёту и говорит, что, раз нет денег, не будет и хлеба.
– Хорошо.
– Что же вы будете есть?
– У нас есть яблоки.
– Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.
– У меня их нет.
Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Уже почти совсем стемнело.
Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней – таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.
«Смотри-ка, – воскликнул про себя Гаврош, – да тут настоящая спальня!» И, забравшись поглубже, свернулся в комочек. Спиной он почти прислонился к скамье дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.
Затем, вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.
Сон кошки – сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.
Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами тёмных кустов.
Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шёл впереди, другой – на некотором расстоянии сзади.
– А вон и ещё двое, – пробормотал Гаврош.
Первый силуэт напоминал старого, согбенного и задумчивого буржуа, одетого более чем просто, ступавшего медленно, по-стариковски и вышедшего побродить вечерком под звёздным небом.
Другой был тонкий, стройный, подобранный. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство, вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, чёрный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозили сила и изящество, а под шляпой в сумерках можно было различить бледный юношеский профиль с розой во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.
Что же касается первого, то о нём нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.
Гаврош тотчас уставился на них.
Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то намерения относительно другого. Гаврош мог отлично видеть, что произойдёт дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.
Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте – это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.
Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребёнком в два счёта.
Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, сжал руками и повис на нём. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из этих людей лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Всё это произошло в нескольких шагах от Гавроша.
Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом с такой страшной силой, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.
«Ай да старик!» – подумал Гаврош.
И, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушённых друг другом.
Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»
Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:
– Вставай.
Монпарнас поднялся, но старик продолжал его держать. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.
Гаврош смотрел и слушал во все глаза и во все уши. Он забавлялся от души.
Он был вознаграждён за своё добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел следующий разговор, приобретавший в ночной тьме какой-то трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал.
– Сколько тебе лет?
– Девятнадцать.
– Ты силён и здоров. Почему ты не работаешь?
– Ну, это скучно.
– Чем же ты занимаешься?
– Бездельничаю.
– Говори серьёзно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?
– Вором.
Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.
Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.
Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука:
– Дитя моё, из-за своей лени ты начинаешь самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Видел ли ты одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует её остерегаться – она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу платья, как он весь будет втянут в неё. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока ещё есть время, и спасайся! Иначе конец; ты не успеешь оглянуться, как попадёшь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг – ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа – закон; кто отказывается от неё, видя в ней скуку, узнает её как мучительное наказание. Ты не хочешь быть тружеником, так станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; ты не хочешь быть его другом, так будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости, так будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы – какое наслаждение! Барка на свободе под ветром – ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать – это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без чувства изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. То, что для других будет лёгким, как пёрышко, для тебя будет каменной глыбой. Вещи самые простые обернутся крутым откосом. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать – какая ужасная работа! Твои лёгкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь ли пройти или там – станет для тебя трудноразрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово – он на улице. Для тебя же выйти из дому – значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвёшь простыни, совьёшь полоска за полоской верёвку, потом ты вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, – и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же верёвка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься – упасть. Упасть как придётся. Или же тебе придётся карабкаться в дымовой трубе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно маскировать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять по двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в своем тюфяке. Допустим, перед тобой замок, у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречён на изготовление страшной и диковинной вещи. Ты возьмёшь монету в два су и разрежешь её на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретёшь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить наружной их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, – ведь за тобой будут следить, – это просто монета в два су, для тебя – ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку и спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпения, что ты получишь в награду, если обнаружат твоё изобретение? Карцер. Вот твоё будущее. Лень, удовольствие – да ведь это бездонный омут! Ничего не делать – печальное решение, знаешь ли ты об этом? Жить праздно за счёт общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль – хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть чёрный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твоё тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьёшь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползёшь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как звери лесные. И ты будешь пойман. И тогда ты проведёшь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы даже собаки, и будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты ещё совсем молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя ещё жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Так ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни – на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину – получишь удар палкой. Ты войдёшь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдёшь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подаёт тебе дурной совет! Воровство – самая тяжёлая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд – лень. Быть мошенником нелегко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелёк? На, бери.
И старик, выпустив Монпарнаса, положил ему в руку кошелёк. Монпарнас сразу взвесил его на руке и с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман своего сюртука.
Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.
– Дуралей! – пробормотал Монпарнас.
Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.
Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезал в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.
В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.
Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что дедушка Мабеф, по-видимому задремавший, все ещё сидит на скамье. Тогда мальчишка вылез из кустов и потихоньку пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелёк, вытащил руку и снова пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся в первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел дедушка Мабеф, перекинул кошелёк через изгородь и пустился бежать со всех ног.
Кошелёк упал на ногу дедушки Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелёк. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелёк с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом – шесть золотых монет.
Господин Мабеф, совсем растерявшись, отнёс находку своей домоправительнице.
– Это упало с неба, – сказала тётушка Плутарх.
Книга шестая
Маленький Гаврош
Глава 2, в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона
Весной в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачавшие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как те холодные дуновения, которые проникают в тёплую комнату через щели окна или плохо притворённую дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года – время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии огромная эпидемия, – ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота ещё более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.
С точки зрения метеорологической особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И в ту весну разражались частые грозы с громом и молнией.
Однажды вечером, когда ветер дул с такой силою, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели тёплые плащи, маленький Гаврош, весёлый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, словно замирая от восхищения, стоял перед лавочкой парикмахера близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжён в женскую шерстяную неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флердоранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом же деле он наблюдал за лавочкой, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».
Созерцая невесту и всё время посматривая на кусок мыла, он бормотал сквозь зубы: «Во вторник… Нет, не во вторник… Разве во вторник?.. А может, и во вторник… Да, во вторник».
Так и осталось неизвестным, к чему относился этот монолог.
Если бы он случайно имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сейчас была пятница.
Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной лавочке, время от времени косо поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.
Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чистенько одетые, на вид один семи лет, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и вошли в лавочку, попросив чего-то, может быть, милостыни, жалобным шёпотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь со словами:
– Только холоду зря напустили!
Дети, плача, отправились дальше. Тем временем надвинулась туча и заморосил дождь.
Гаврош догнал их и спросил:
– Что с вами стряслось, птенцы?
– Мы не знаем, где нам спать, – ответил старший.
– Только-то? – удивился Гаврош. – Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Вот так глупыши!
И, сохраняя все тот же вид несколько насмешливого превосходства, принял покровительственный мягкий тон растроганного начальства:
– Пошли за мной, малявки.
– Хорошо, сударь, – сказал старший.
И двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.
Гаврош поднялся с ними на улицу Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.
На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на лавку цирюльника.
– Экий бесчувственный, настоящая вобла! – разразился он. – Верно, англичанишка какой-нибудь.
Гулящая девица, увидев трёх мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом. Смех указывал на отсутствие уважения к этой компании.
– Здравствуйте, мамзель Для-всех, – приветствовал её Гаврош.
Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:
– Я ошибся насчёт той скотины, это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!
Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:
– Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади?
И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.
– Шалопай! – крикнул взбешённый прохожий.
Гаврош высунул нос из своей шали.
– На кого изволите жаловаться?
– На тебя, – ответил прохожий.
– Контора закрыта, – выпалил Гаврош. – Я больше не принимаю жалоб.
Между тем, продолжая подниматься по улице, он заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были её колени. Она уже слишком выросла из своих нарядов. Рост может сыграть такую штуку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.
– Бедняжка! – сказал Гаврош. – У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На-ка, держи!
Размотав на своей шее тёплую шерстяную ткань, он накинул её на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.
Девочка изумлённо посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.
– Бр-р-р, – застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.
При этом «бр-р-р» дождь, словно ещё сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.
– Ах, так? – воскликнул Гаврош. – Это ещё что такое? Опять полилось? Господь бог, если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!
И он снова зашагал.
– Всё равно, – прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, – у ней-то надёжная шкурка.
И, взглянув на тучу, крикнул:
– Вот тебя и провели!
Дети старались поспевать за ним.
Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решёткой, указывающей на булочную, – ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решёткой, – Гаврош обернулся:
– Да, вот что, малыши, вы обедали?
– Сударь, – ответил старший, – мы не ели с самого сегодняшнего утра.
– Значит, у вас нет ни отца, ни матери? – величественно спросил Гаврош.
– Прошу извинить, сударь, у нас есть и папа, и мама, только мы не знаем, где они.
– Иной раз это лучше, чем знать, – заметил Гаврош, который был мыслителем.
– Вот уже два часа, как мы идём, – продолжал старший, – мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.
– Знаю, – сказал Гаврош. – Собаки подобрали, они всё пожирают.
И, помолчав, прибавил:
– Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Людям в летах просто глупо вдруг заблудиться. Да, вот что! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.
Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья – что может быть проще?
Старший мальчуган, почти совсем вернувшись к свойственной детству беззаботности, воскликнул:
– Как смешно! Ведь мама-то говорила, что в Вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой…
– Для порки, – закончил Гаврош.
– Моя мама, – начал снова старший, – настоящая дама, она живет с мамзель Мисс…
– Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, – подхватил Гаврош.
Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.
Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.
– Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.
Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул своё су на прилавок и крикнул:
– Продавец, на пять сантимов хлеба!
«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.
– Три куска, продавец! – снова крикнул Гаврош.
И он прибавил с достоинством:
– Нас трое.
Заметив, что булочник, внимательно оглядев трёх покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо:
– Этшкое?
Тех из наших читателей, которые имели бы поползновение счесть восклицание Гавроша русским или польским словом или тем воинственным кличем, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу «Это что такое?». Булочник это прекрасно понял и ответил:
– Ну и что ж? Это хлеб очень хороший, хлеб второго сорта.
– Вы хотите сказать – железняк? – возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе. – Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.
Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.
– Эй вы, хлебопёк, – сказал он, – с чего это вы вздумали снимать с нас мерку?
Если бы их всех трёх поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.
Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:
– Лопайте.
Мальчики с недоумением посмотрели на него.
Гаврош рассмеялся:
– А, вот что! Верно, они этого ещё не понимают, не выросли. – И затем прибавил: – Ешьте.
И протянул каждому из них по куску хлеба.
Решив, что старший, по его мнению, более достойный беседовать с ним, заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он прибавил, сунув ему самый большой кусок:
– Залепи-ка это себе в дуло.
Один кусок был меньше других; он взял его себе.
Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.
– Выйдем на улицу, – сказал Гаврош.
Они снова пошли по направлению к Бастилии.
Время от времени, если им случалось проходить мимо освещённых лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.
– Ну не глупыши разве? – говорил Гаврош.
Потом, задумавшись, он бормотал сквозь зубы:
– Как-никак, будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.
Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая и зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:
– Смотри-ка, это ты, Гаврош?
– Смотри-ка, это ты, Монпарнас? – ответствовал Гаврош.
К нему подошёл какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.
– Вот так штука! – продолжал Гаврош. – Твоя хламида как раз такого цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки – точь-в-точь докторские. Всё как следует, одно к одному, верь старику!
– Тише, – одернул его Монпарнас, – не ори так громко!
И он быстро оттащил Гавроша подальше от освещённых лавочек.
Двое малышей машинально пошли за ними, держась за руки.
Когда они оказались под чёрным сводом каких-то ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:
– Знаешь, куда я иду?
– В монастырь Вознесение-Поневоле[7], – ответил Гаврош.
– Шутник! – И Монпарнас продолжал: – Я хочу разыскать Бабета.
– Ах, её зовут Бабетой! – ухмыльнулся Гаврош.
Монпарнас понизил голос:
– Не она, а он.
– Ах, так это ты насчёт Бабета?
– Да, насчёт Бабета.
– Я думал, он попал в конверт.
– Он его распечатал, – ответил Монпарнас.
И он быстро рассказал мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».
Гаврош подивился его ловкости.
– Ну и мастак! – сказал он.
Монпарнас прибавил несколько подробностей относительно бегства Бабета и окончил так:
– О, это ещё не всё!
Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.
– Ого! – сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. – Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.
Монпарнас подмигнул.
– Черт возьми! – продолжал Гаврош. – Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?
– Как знать, – с равнодушным видом ответил Монпарнас, – никогда не мешает иметь при себе булавку.
Гаврош настаивал:
– Что же ты думаешь делать сегодня ночью?
Монпарнас снова напустил на себя важность и сказал, цедя сквозь зубы:
– Так, кое-что. – И сразу, переменив разговор, воскликнул: – Да, кстати!
– Ну?
– На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелёк. Я кладу всё это в карман. Минуту спустя я шарю рукой в кармане, а там – ничего.
– Кроме проповеди, – добавил Гаврош.
– Ну а ты, – продолжал Монпарнас, – куда ты сейчас идешь?
Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:
– Иду укладывать спать этих ребят.
– Где же ты их уложишь?
– У себя.
– Где это у тебя?
– У себя.
– Значит, у тебя есть квартира?
– Есть.
– Где же это?
– В слоне, – ответил Гаврош.
Хотя Монпарнас по своей натуре и мало чему удивлялся, но невольно воскликнул:
– В слоне?
– Ну да, в слоне! – подтвердил Гаврош. – Штотуткоо?
Вот ещё одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» обозначает: «Что ж тут такого?»
Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.
– А в самом деле! – сказал он. – Слон так слон. А что, там удобно?
– Очень удобно, – ответил Гаврош. – Там и вправду отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.
– Как же ты туда входишь?
– Так и вхожу.
– Значит, там есть лазейка? – спросил Монпарнас.
– Чёрт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики её не заметили.
– И ты взбираешься наверх? Так, я понимаю.
– Простой фокус. Раз, два – и готово, тебя уж нет.
Помолчав, Гаврош прибавил:
– Для этих малышей у меня найдётся лестница.
Монпарнас расхохотался:
– Где, чёрт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?
Гаврош просто ответил:
– Это мне один цирюльник подарил на память.
Вдруг Монпарнас задумался.
– Ты узнал меня слишком легко, – пробормотал он.
И, вынув из кармана две маленькие штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.
– Это тебе к лицу, – сказал Гаврош, – сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Оставь это навсегда.
Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.
– Без шуток, – сказал Монпарнас, – как ты меня находишь?
И голос тоже у него стал совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.
– Покажи-ка нам Петр-р-рушку! – воскликнул Гаврош.
Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были сами заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.
К сожалению, Монпарнас был озабочен.
Он положил руку на плечо Гавроша и произнёс, подчёркивая каждое слово:
– Слушай, парень, следи глазом, ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, – так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не Масленица.
Эта странная фраза произвела на мальчика особое впечатление. Он живо обернулся, с глубоким вниманием оглядел всё вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: «Вон оно что!» – но он сразу сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:
– Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае если я тебе понадоблюсь ночью, ты можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.
– Ладно, – ответил Монпарнас.
И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош – к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого, в свою очередь, тащил Гаврош, несколько раз обернулся назад, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».
Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуковое сочетание диг, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог диг не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были ещё литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг – выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.
Лет двадцать тому назад в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, теперь уже исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».
Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими каждый раз всё дальше от нас, стал историческим и приобрёл нечто завершённое, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зелёный цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в чёрный. В этом пустынном и открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, чёрные, подобные колоннам ноги вырисовывались ночью на звёздном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал – неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии.
Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нём с 1814 года. Он стоял здесь, в своём углу, угрюмый больной, разрушающийся, окружённый сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него всё выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязнённый, непризнанный, отталкивающий и надменный – безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.
Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь – это подлинная стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.
Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но, несомненно, величественный и отмеченный печатью какой-то великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдёт, она уже прошла; начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперёд и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.
Как бы там ни было, но, возвращаясь к площади Бастилии, скажем одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.
Эта печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска был в 1832 году ещё закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.
К этому-то углу площади, едва освещённому отблеском далёкого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».
Да будет нам дозволено здесь прервать наш рассказ и напомнить о том, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребёнка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение общественного памятника.
Отметив этот факт, продолжаем.
Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:
– Птенцы, не бойтесь!
Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.
Вдоль забора здесь лежала лестница, которою днём пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош, с неожиданной в нем силой, поднял её и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса чёрную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру и сказал:
– Взбирайтесь и входите.
Мальчики испуганно переглянулись.
– Вы боитесь, малыши! – вскричал Гаврош. – И прибавил: – Сейчас увидите.
Он плотно обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в неё наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.
– Ну вот, – крикнул он, – лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! – крикнул он старшему. – Я подам тебе руку.
Дети подталкивали друг друга. Гаврош одновременно внушал им и страх, и доверие, а кроме того, шёл сильный дождь. Старший осмелился. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его совсем одного между лап этого огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.
Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош тем временём подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования – своего ученика или погонщик – своего мула:
– Не трусь!
– Так, правильно!
– Лезь же, лезь!
– Ставь ногу сюда!
– Руку туда!
– Смелей!
И когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.
– Попался! – сказал Гаврош.
Малыш проскочил в трещину.
– Теперь, – сказал Гаврош, – подожди меня. Сударь, потрудитесь присесть.
И, выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в неё, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:
– Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе.
В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:
– Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!
После этого взрыва веселья он прибавил:
– Ну, карапузы, вы у меня дома!
Гаврош на самом деле был у себя дома.
О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнёздышком гамена. Ребёнок был принят под защиту великаном. Разряжённые буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, что жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осуждённый, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим – над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооружённом, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него весёлыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нём пристанище ребёнку.
Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь неё могли пролезть только кошки и дети.
– Начнем вот с чего, – сказал Гаврош, – скажем привратнику, что нас нет дома.
И, нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего своё жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.
Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда ещё не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.
Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.
Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку, или, ещё точнее, что должен был испытать Иона во чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запылённую диафрагму. Там и сям, в углах, можно было заметить большие, кажущиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.
Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.
Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:
– Тут темно.
Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.
– Что вы мне голову морочите? – воскликнул он. – Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолочённой клетки!
Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.
Гаврош, растроганный таким доверием, перешёл «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему.
– Дуралей, – сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, – это на дворе темно. На дворе идёт дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь ни ветерка; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, чёрт возьми!
Дети смелее начали осматривать помещение; но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.
– Живо! – крикнул он.
И подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать существенной частью комнаты.
Там находилась его постель.
Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.
Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом – довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень тёплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.
Три довольно длинные жерди, воткнутые – две спереди и одна позади – в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший изнутри брюхо слона, и связанные верёвкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял её к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решётки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Всё вместе походило на чум эскимоса.
Эта сетка и служила пологом.
Гаврош отодвинул немного в сторону камни, придерживающие её спереди, и два её полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.
– Ну, малыши, на четвереньки! – скомандовал Гаврош.
Он осторожно ввёл своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.
Все втроём растянулись на циновке.
Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош всё ещё держал в руке «погребную крысу».
– Теперь, – сказал он, – дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.
– Сударь, – спросил старший, показывая на сетку, – а что это такое?
– Это, – важно ответил Гаврош, – от крыс. Дрыхните!
Всё же он счёл нужным прибавить несколько слов в поучение этим младенцам и продолжал:
– Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.
Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего, который пролепетал:
– Как хорошо! Как тепло!
Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.
– Это тоже из Ботанического сада, – сказал он. – У обезьян забрал.
И, указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетённую, прибавил:
– А это было у жирафа.
Помолчав, он продолжал:
– Всё это принадлежало зверям. Я отобрал у них. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».
Снова немного помолчав, он заметил:
– Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.
Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но в каком-то смысле изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.
– Сударь, – робко сказал старший, – а разве вы не боитесь полицейских?
Гаврош ограничился ответом:
– Малыш, не говорят: «полицейские», а говорят: «фараоны»!
Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:
– Ну как? Хорошо тут?
– Очень! – ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасённого ангела.
Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.
– Кстати, – снова заговорил Гаврош, – почему же это вы давеча плакали? – И, показав на младшего, продолжал: – Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь, это совсем глупо: точь-в-точь телёнок.
– Ну да! – ответил тот. – Ведь у нас не было никакой квартиры, и некуда было деваться.
– Птенец! – заметил Гаврош. – Не говорят: «квартира», а говорят: «домовуха».
– А потом мы боялись остаться ночью одни.
– Не говорят: «ночь», а говорят: «потьмуха».
– Благодарю вас, сударь, – ответил ребёнок.
– Послушай, – снова начал Гаврош, – никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду заботиться о вас. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдём с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдём смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских Полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдём в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актёрами. Один раз я даже играл в пьесе. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого мы отправимся в оперу. Войдём туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошёл бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А ещё мы пойдём посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живёт на улице Марэ. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово поразвлечься!
В это время на палец Гавроша упала капля смолы, это и вернуло его к действительности.
– Ах, чёрт! – воскликнул он. – Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лёг, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поля де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.
– А потом, – робко вставил старший, один только и осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, – уголёк может упасть на солому, надо быть осторожным, чтобы не сжечь дом.
– Не говорят: «сжечь дом», – поправил Гаврош, – а говорят: «подсушить мельницу».
Ненастье усиливалось. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.
– Обставили мы тебя, дождик! – сказал Гаврош. – Забавно слышать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.
Вслед за этим дерзким намёком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск её через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что сетка почти слетела; но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:
– Спокойно, ребята! Не толкайте так наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.
После этого он привёл в порядок сетку, тихонько толкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:
– Раз боженька зажёг свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать – это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь-ка хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?
– Да, – прошептал старший, – мне хорошо. Под головой словно пух.
– Не говорят: «голова», – крикнул Гаврош, – а говорят: «сорбонна».
Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:
– Дрыхните!
И погасил фитилёк.
Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Всё это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.
Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:
– Сударь!
– Что? – спросил уже засыпавший Гаврош.
– А что это такое?
– Это крысы, – ответил Гаврош.
И снова опустил голову на циновку.
Действительно, крысы, сотнями кишевшие в остове слона, – они-то и были теми живыми чёрными пятнами, о которых мы говорили, – держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались до самой верхушки и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.
Между тем мальчуган не засыпал.
– Сударь! – снова начал он.
– Ну?
– А что это такое – крысы?
– Это мыши.
Объяснение Гавроша немного успокоило ребёнка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он ещё раз спросил:
– Сударь!
– Ну?
– Почему у вас нет кошки?
– У меня была кошка, – ответил Гаврош, – я её сюда принёс, но они её съели.
Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвёртый раз.
– Сударь!
– Ну?
– А кого же это съели?
– Кошку.
– А кто съел кошку?
– Крысы.
– Мыши?
– Да, крысы.
Ребёнок, изумляясь, что здешние мыши едят кошек, продолжал:
– Сударь, значит, такие мыши и нас могут съесть?
– Понятно! – ответил Гаврош.
Страх ребёнка достиг предела. Но Гаврош прибавил:
– Не бойся! Они до нас не доберутся. И кроме того, я здесь! На, возьми мою руку. Молчи и дрыхни!
И Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и почувствовал себя успокоенным. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, – трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего больше не слышали.
Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождём дул порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и, в поисках ночных бродяг, молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей трёх беглых спящих детишек.
Чтобы понять всё нижеследующее, нелишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и всё происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.
На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, бегом пересёк площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провёл ночь под дождём. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное понятие о котором может дать следующее начертание:
– Кирикикиу!
На второй крик из брюха слона ответил звонкий и весёлый детский голос:
– Здесь!
Почти тут же дощечка, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребёнка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.
Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Ты спросишь господина Гавроша».
Услышав этот крик, он сразу вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, затем открыл люк и спустился вниз.
Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас ограничился словами:
– Ты нам нужен. Поди помоги нам.
Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.
– Ладно, – сказал он.
И оба отправились к Сент-Антуанской улице, откуда и появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную цепь тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.
Сидящие в своих тележках меж грудами салата и овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.
Книга десятая
5 июня 1832 года
Глава 5 Своеобразие Парижа
Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышатся барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник ограничивается тем, что говорит:
– Кажется, на улице Сен-Мартен заварилась каша.
Или:
– В предместье Сент-Антуан.
Часто он беззаботно прибавляет:
– Где-то в той стороне.
Позже, когда уже можно различить мрачную и раздирающую душу трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:
– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!
Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки быстро закрывает её и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.
Пальба на перекрёстке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течёт кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.
Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.
Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен маленький хилый старичок, тащивший увенчанную трёхцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим её войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.
Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; ни в одной из других столиц её не встретишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его весёлость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.
Однако на этот раз, в вооружённом выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдалённых и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный, и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадёжны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил им: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдётся место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят к центру восстания – первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвёртая от рынков; что, впрочем, возможно, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит несомненно серьёзно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было очевидно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке какое-то неведомое чудовище.
Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам были задержаны более восьмисот человек; полицейская префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В частности, в Консьержери длинное подземелье, именовавшееся «Парижской улицей», было всё покрыто охапками соломы, на которых валялись множество арестованных; некто Лагранж, лионец, мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под этими копошащимися на ней людьми казалось шумом ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Повсюду чувствовалась тревога и какой-то мало свойственный Парижу трепет.
В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство, только и слышалось: «Боже мой, он ещё не вернулся!» Изредка доносился отдалённый грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому и неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего к надрывному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем всё это кончится?» С минуты на минуту, по мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, всё гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.
Книга одиннадцатая
Атом братается с ураганом
Глава 1 Несколько разъяснений относительно корней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию
В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Всё это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, уходить, спасаться – одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, покрывавшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как бишь тебя звать, я забираю твою машинку!» – убежал с пистолетом.
Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, встретила мальчика, который размахивал пистолетом и напевал:
Днём видно всё, зато ночами Мы ни черта не видим с вами! Любой забористый стишок Для буржуа – что вилы в бок. Эй, колпаки! Господь – свидетель, Вы позабыли добродетель.То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.
На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.
Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и все другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, они были его собственные. Помимо того, Гаврош хорошо знал все ходячие народные песенки и присоединял к ним своё собственное щебетание. Проказливый гном и уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял все песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение для господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.
Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для собственных братьев. Братья вечером, отец утром – вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешно вернулся к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретённый им завтрак, затем ушел, доверив их той доброй матери-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнёс следующую речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдёте папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Оба мальчика, подобранные полицейским сержантом и уведённые в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромной китайской головоломке Парижа, не возвратились. На дне нашего общества полно таких исчезнувших следов. Гаврош больше их не видел. Два с половиной или три месяца протекло с той ночи. Не раз Гаврош почёсывал себе затылок, приговаривая: «Куда, к чёрту, девались мои ребята?»
Между тем он прибыл с пистолетом в руке на улицу Капустный мост. Он заметил, что на этой улице осталась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть ещё разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ничего, даже одного су, закричал: «Караул!»
Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!
Это не помешало, однако, Гаврошу продолжать свой путь.
Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя улицу Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.
Немного подальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:
– До чего они жирные, эти самые рантье! Знай едят. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они и сами не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут сколько влезет в брюхо.
Глава 2 Гаврош в походе
Размахивать среди улицы пистолетом без собачки – занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:
– Всё идёт отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, чёрт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете. Друзья мои, я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальёт! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, чёрт побери! Хватит с меня деспотизма!
В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошёл дальше.
На улице Ториньи всё было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Марэ, представляло резкий контраст с огромным возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже – квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету – в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.
Но кумушки с улицы Ториньи – три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком – занимались только собственными делами.
Казалось, все четыре стоят у четырёх углов старости – одряхления, немощи, нужды и печали.
Тряпичница была смиренной. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница валяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают её привратницы, скоромной или постной, – по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.
Тряпичница была благодарна поставщицам её мусорной корзинки, она улыбалась трём привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:
– А ваша кошка всё такая же злюка?
– Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки – вот кто может на них пожаловаться.
– Да и люди тоже.
– Однако кошачьи блохи не переходят на людей.
– Это пустяки, вот собаки – те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили маленькую колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?
– А мне больше нравился герцог Бордоский.
– А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.
– Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!
– Ах, и не говорите, мясники эти просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.
Тут вмешалась тряпичница:
– Да, сударыни мои, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдёшь. Ничего больше не выкидывают. Всё поедают.
– Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.
– Что правда, то правда, – угодливо согласилась тряпичница, – у меня всё-таки есть профессия.
После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:
– Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетёнку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И всё раскладываю по кучкам у меня в комнате. Потом я убираю тряпки в корзину, огрызки фруктов – в лохань, простые лоскутья – в шкаф, шерстяные – в комод, бумагу – в угол под окном, съедобное – в миску, осколки стаканов – в камин, стоптанные башмаки – за двери, кости – под кровать.
Гаврош, остановившись позади, слушал.
– Старушки, – спросил он, – по какому это случаю вы завели разговор о политике?
Целый залп ругательств, учетверённый силой четырёх глоток, обрушился на него.
– Ещё один злодей тут как тут!
– Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?
– Скажите на милость, этакий негодный мальчишка!
– Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!
Гаврош, исполненный презрения, ограничился вместо всякого возмездия тем, что щедро, всей пятерней, сделал им нос.
Тряпичница крикнула:
– Ах ты, бездельник босопятый!
Та, что именовалась мамашей Патагон, яростно всплеснула руками:
– Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бородёнкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, – уж у него ружьё под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в… в… – ну, там, где этот телёнок! – в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же ещё может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как её везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж наверное увижу на гильотине!
– Ты сопишь, старушенция, – ответил Гаврош. – Высморкай получше свой хобот.
И отправился дальше.
Когда он дошёл до Мощёной улицы, он вспомнил о тряпичнице и разразился следующим монологом:
– Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.
Внезапно он услышал шум позади: погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и кричала:
– Ублюдок несчастный!
– Плевать мне на это с высокого дерева, – ответил Гаврош.
Немного погодя он прошёл мимо особняка Ламуаньона. Здесь он испустил следующий клич:
– Вперёд, на бой!
Но тут его охватила тоска. С упрёком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.
– Я иду биться, – сказал он, – а ты вот не бьёшь!
Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделёк. Гаврош разжалобился.
– Бедненький мой тяв-тяв, – сказал он ему, – ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.
Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.
Глава 3 Справедливое негодование парикмахера
Достойный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во время Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он его приукрасил бы и назвал: «Диалог бритвы и сабли».
– Сударь, – спросил парикмахер, – а как император держался на лошади?
– Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.
– А хорошие кони были у него? Должно быть, прекрасные?
– В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. То была рысистая кобыла, вся белая. У неё были очень широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с чёрной звёздочкой, очень длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.
– Славная лошадка, – сказал парикмахер.
– Да, это была верховая лошадь его величества.
Парикмахер почувствовал, что после таких значительных слов подобает немного помолчать; он сообразовался с этим, затем снова начал:
– Император был ранен только раз, не правда ли, сударь?
Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который присутствовал при этом:
– В пятку. Под Ратисбоном. Я его никогда не видел так хорошо одетым, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.
– А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?
– Я? – спросил солдат. – Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем – пулю в правую руку, другую – в левую ляжку под Иеной, под Фридландом – удар штыком, вот сюда, под Москвой – семь или восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец… Ах да, еще в битве при Ватерлоо я получил картечную пулю в бедро. Вот и всё.
– Как прекрасно умереть на поле боя! – с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. – Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, понемногу, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочёл бы получить в живот пушечное ядро!
– У вас губа не дура, – сказал солдат.
Едва он это сказал, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной.
Парикмахер побледнел как полотно.
– О боже, – воскликнул он, – это то самое!
– Что?
– Пушечное ядро.
– Вот оно, – сказал солдат.
И он поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.
Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавочки парикмахера, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать его по-своему и швырнул камнем в окно.
– Понимаете ли, – прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, – они делают пакости, лишь бы напакостить! Чем его обидели, этого мальчишку?
Книга двенадцатая
«Коринф»
Глава 4 Попытка утешить тётушку Гюшлу
Баорель, в восторге от баррикады, кричал: – Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!
Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:
– Тётушка Гюшлу, вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?
– Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность!
– Вот видите, тётушка Гюшлу, мы мстим за вас.
Но тётушка Гюшлу, кажется, не слишком понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощёчину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец, – сказала она, – ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щёку он ударил тебя?» – «В левую». Отец ударил её в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощёчину его жене».
Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два или три карнавальных факела и плетёнку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их один лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоящий против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах – Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.
Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, обе опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая – улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собрались около пятидесяти рабочих; тридцать из них были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заём» в лавке оружейника.
Трудно представить себе что-либо более причудливое и пёстрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе и с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружён шилом шорника. Был один, который кричал: «Истребим всех до последнего и умрём на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнажённых рук, несколько пик. Прибавьте к этому все возрасты, всё разнообразие лиц бледных подростков, загорелых портовых рабочих. Все торопились и, помогая друг другу, говорили о своей надежде на успех: о том, что к трём часам утра подойдёт помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что весь Париж поднимется. То были страшные слова, к которым примешивалось какое-то сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали имён друг друга. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.
На кухне развели огонь, и в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсюли и крупная дробь. В бильярдной тётушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившиеся от страха – одна отупев, другая запыхавшись, третья проснувшись, – рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев – трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.
Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.
Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить всё дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, – его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, – его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своём хребте. Он приставал к бездельникам, подстёгивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку – настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.
Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики:
– Смелей! Давай ещё булыжника! Ещё бочек! Ещё какую-нибудь штуку! Где бы её взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнём эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в неё всё, швыряй в неё всё, втыкай в неё всё! Ломайте дом. Баррикада – это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застеклённая дверь!
Один из работавших воскликнул:
– Застеклённая дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?
– Подумаешь, сам богатырь! – отпарировал Гаврош. – Застеклённая дверь на баррикаде – превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!
Впрочем, он был взбешён своим пистолетом без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал: «Ружьё, давайте ружьё! Почему мне не дают ружья?»
– Ружьё, тебе? – удивился Комбефер.
– Вот те на! – возмутился Гаврош. – А почему бы нет? Было ведь у меня ружьё в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.
Анжольрас пожал плечами.
– Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.
Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:
– Если тебя убьют раньше меня, я возьму твоё.
– Мальчишка! – крикнул Анжольрас.
– Молокосос! – не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щёголь, бродивший в конце улицы, отвлёк его внимание. Гаврош крикнул: – Идите к нам, молодой человек! Как насчёт нашей старушки родины? Неужели нет желания ей помочь?
Щёголь поспешно скрылся.
Книга четырнадцатая
Величие отчаяния
Глава 1 Знамя. Действие первое
Всё ещё никто не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять часов. Анжольрас и Комбефер уселись с карабинами в руках возле прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы даже самый глухой, самый отдалённый шум шагов.
Внезапно в этой зловещей тишине раздался звонкий, молодой, весёлый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчётливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:
Друг Бюго, не спишь ли? Я от слёз опух. Ты жандармов вышли Поддержать мой дух. В голубой шинели, Кивер на боку. Пули засвистели! Ку-кукурику!Они сжали друг другу руки.
– Это Гаврош, – сказал Анжольрас.
– Он нас предупреждает, – добавил Комбефер.
Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:
– Где мое ружьё? Они идут!
Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох рук, нащупывающих ружья.
– Хочешь взять мой карабин? – спросил мальчика Анжольрас.
– Я хочу большое ружьё, – ответил Гаврош.
И он взял ружьё Жавера.
Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один – стоявший на посту в конце улицы, другой – дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, – очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.
Пролёт улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными чёрными воротами, смутно зиявшими в тумане.
Каждый занял своё боевое место.
Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне её гребня, с ружьями и карабинами, наведёнными на мостовую словно из бойниц, насторожённые, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицеле, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».
Прошло ещё несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчётливый, затем тяжёлый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание, и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о какой-то толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились ещё и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещённые далеким отблеском факела.
Опять настало молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, – казалось, заговорила сама тьма, – крикнул:
– Кто идёт?
В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.
– Французская революция, – взволнованно и гордо ответил Анжольрас.
– Огонь! – скомандовал голос.
Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.
Ужасающий грохот пронёсся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвёл жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было очевидно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.
– Товарищи, – крикнул Курфейрак, – не будем зря тратить порох. Подождём отвечать, пока они не продвинутся дальше по улице.
– И прежде всего, – сказал Анжольрас, – поднимем снова знамя!
Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов в стволах; отряд снова заряжал ружья.
– У кого из вас хватит отваги? – продолжал Анжольрас. – Кто водрузит знамя над баррикадой?
Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять была взята на прицел, – попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил:
– Никто не возьмётся?
Часть V Жан Вальжан[8]
Книга первая
Война в четырёх стенах
Глава 8 Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи
Гавроша окружили. Но он не успел ничего рассказать. Мариус отвел его в сторону, весь дрожа.
– Зачем ты сюда пришёл?
– Вот те на! – воскликнул мальчик. – А вы-то сами? – И он смерил Мариуса пристальным, спокойно-дерзким взглядом. Его глаза казались больше от сиявшей в них гордости.
Мариус продолжал строгим тоном:
– Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?
По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принуждён был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ – начал бессовестно врать.
– Гражданин, я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснётся.
Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель – проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться лишь половиной задуманного.
Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием г-на Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на г-на Фошлевана, он спросил:
– Ты знаешь этого человека?
– Нет, – ответил Гаврош.
Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только в ту ночь.
Смутные и болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения г-на Фошлевана? Может быть, г-н Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою совершенно понятно.
Между тем Гаврош, уже успев удрать на другой конец баррикады, кричал: «Где мое ружьё?»
Курфейрак приказал отдать ему оружие.
Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.
Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:
– Разрешаю вам всыпать им как следует.
Между тем Анжольрас, стоя у своей бойницы, с напряжённым вниманием следил за противником.
Осаждавшие, видимо, не слишком довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли.
Подошёл пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.
Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевёл прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднёс к запалу.
– Нагните головы, прижмитесь к стене! – крикнул Анжольрас. – Станьте на колени вдоль баррикады!
Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздались выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.
Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.
Было ясно, что, если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали её.
Послышались тревожные возгласы.
– Попробуем-ка помешать второму выстрелу! – сказал Анжольрас.
И, опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.
Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.
Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.
– Как жаль! – сказал он. – Какая отвратительная вещь бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Представь себе, быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы – народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблён, ему самое большее – двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом.
– Он и есть мой брат, – произнёс Анжольрас.
– Ну да, и мой тоже, – продолжал Комбефер. – Послушай, давай пощадим его.
– Оставь. Так надо.
И по бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.
В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперёд и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, как по спине его, между лопатками, текла струя крови. Пуля пробила ему грудь навылет. Он был мёртв.
Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.
Глава 15 Вылазка Гавроша
Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень.
Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чём не бывало принялся опустошать набитые патронами сумки национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.
– Что ты там делаешь? – закричал Курфейрак.
Гаврош задрал нос кверху:
– Наполняю свою корзинку, гражданин.
– Да ты не видишь картечи, что ли?!
– Эка невидаль, – отвечал Гаврош. – Дождь идёт. А что дальше?
– Ступай обратно! – крикнул Курфейрак.
– Сию минуту, – ответил Гаврош.
И одним прыжком он очутился посреди улицы.
Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил за собой длинный ряд трупов.
Не менее двадцати убитых лежало на мостовой на всём протяжении улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов – для баррикады.
Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облака в горном ущелье меж двух крутых откосов, может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотнённую двумя темными рядами высоких домов. Она медленно поднималась кверху, непрестанно появляясь снова; от этого всё постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся лишь с трудом могли различить друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.
Такая мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная их командирами, которые должны были руководить штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.
Под покровом этой дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он довольно далеко пробрался по улице, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.
Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял сумки и патронташи с проворством мартышки, щёлкающей орехи.
С баррикады, от которой он отошёл не так уж далеко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.
На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашёл пороховницу.
– Пригодится вина напиться, – сказал он, пряча её в карман.
Продвигаясь вперёд, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залёгшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.
В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.
– Что за чёрт! – фыркнул Гаврош. – Они убивают моих покойников.
Вторая пуля высекла искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.
Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.
Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:
Все обитатели Нантера Уроды по вине Вольтера. Все старожилы Палессо Болваны по вине Руссо.Затем подобрал корзинку, уложил в неё рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, отправился опустошать следующую патронную сумку. Четвёртая пуля снова пролетела мимо. Гаврош распевал:
Не удалась моя карьера, И это по вине Вольтера. Судьбы сломалось колесо, И в этом виноват Руссо.Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:
Я не беру с ханжей примера, И это по вине Вольтера, А бедность мною, как в серсо, Играет по вине Руссо.Так продолжалось довольно долго.
Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал стрелков. Казалось, ему было очень весело. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывая ей длинный нос, и в то же время не переставал искать патроны, опустошать патронташи и наполнять свою корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он – он распевал песенки. Казалось, это не ребёнок, не человек, а какой-то маленький чародей. Какой-то сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.
Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош пошатнулся и потом упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел:
Я пташка малого размера, И это по вине Вольтера. Но могут на меня лассо Накинуть по вине…Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала её навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Эта детская и великая душа отлетела.
Глава 17 Mortuus pater filium moriturum expectat[9]
Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мёртв. Комбефер принёс на баррикаду корзинку с патронами, Мариус принёс ребёнка.
«Увы, – думал он, – я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему мой долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принёс его мальчика мёртвым».
Когда Мариус взошёл в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребёнка.
Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.
Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.
Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа чёрной шалью. Её хватило и на старика и на ребёнка.
Комбефер разделил между всеми патроны из принесённой им корзинки.
На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.
Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.
– Вот так чудак! – шепнул Комбефер Анжольрасу. – Быть на баррикаде и не сражаться!
– Что не мешает ему защищать баррикаду, – возразил Анжольрас.
– Среди героев тоже попадаются оригиналы, – заметил Комбефер.
– Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф, – прибавил Курфейрак, услышав их разговор.
Необходимо отметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди её защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, не может даже представить себе, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперёд, разговаривают, шутят. Один мой знакомый сам слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем, редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положение стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадёжным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма всё ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.
Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны при помощи пороховницы, найдённой Гаврошем на трупе капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придётся нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружьё, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тётушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», – объяснял он. Юноши из Кугурды города Экс весело болтали меж собой, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своём родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озабочен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.
Примечания
1
Перевод Д.Г Лившиц.
(обратно)2
Перевод Н.А. Коган.
(обратно)3
Перевод Н.Д. Эфрос.
(обратно)4
Дитя (лат.).
(обратно)5
Человечек (лат.).
(обратно)6
Перевод К.Г. Локса.
(обратно)7
Эшафот. (Прим. автора.)
(обратно)8
Перевод М.В. Вахтеровой.
(обратно)9
Умерший отец ждёт идущего на смерть сына (лат.).
(обратно)
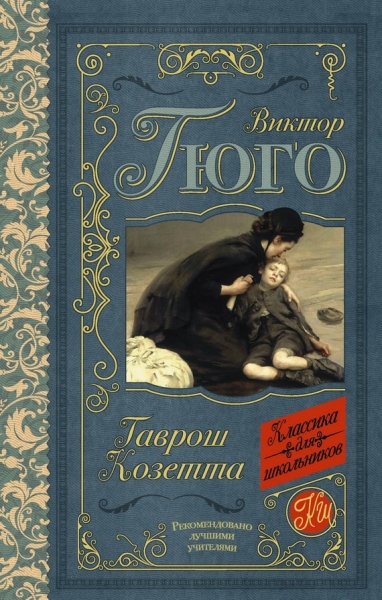
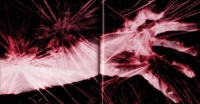





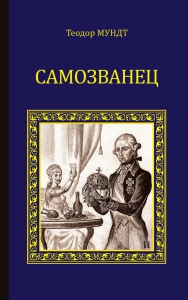

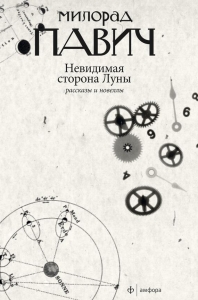
Комментарии к книге «Гаврош. Козетта», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев