Эдгар Аллан По Похищенное письмо (сборник)
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
© Shutterstock.com \ CreativeHQ, Sibrikov Valery, Stocksnapper, LiliGraphie, обложка 2017
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2017
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2017
* * *
Сумрачный волшебник
Эдгар Аллан По (1809–1849) был первым и, пожалуй, самым важным для детективного жанра автором. Блестящий прозаик, поэт, эссеист, он далеко опередил свое время и внес в мировую литературу такие присущие ему самому черты, как иррациональность, мистицизм, чувство обреченности, аномальные состояния человеческого духа. Сама жизнь этого уникально одаренного писателя, по печальному стечению обстоятельств, могла бы послужить материалом для произведений в этом жанре. При этом сам По настаивал: детектив должен быть одновременно увлекательным и скучным, сентиментальным и ужасающим, а главное: он должен состоять из города, зависеть от него, быть его самой точной, самой полезной и в то же время самой невероятной картой.
Эдгар По родился в Бостоне, США, в семье бродячих актеров. Семья эта вскоре распалась – отец исчез, а мать спустя пару лет умерла от чахотки, и осиротевший мальчик был взят на воспитание в семью Джона Аллана, состоятельного и бездетного торговца из Ричмонда. Эдгар рос в самой благоприятной атмосфере, получая домашнее образование. В 1826 году он стал студентом Виргинского университета в Шарлоттсвилле, где впервые оказался на долгое время предоставлен самому себе.
Статус «истинного джентльмена» подразумевал времяпровождение за карточным столом и пристрастие к дорогим напиткам. В результате к концу первого учебного года долги Эдгара составили две с половиной тысячи долларов – громадную по тем временам сумму. Джон Аллан отказался признать эти долги, и Эдгару, несмотря на блестящие успехи в учебе, пришлось оставить университет.
Именно в это время Эдгар По впервые серьезно погрузился в творчество. Однако отношения с приемным отцом были напрочь испорчены, и в 1827 году Джон Аллан выгнал приемыша из дома. Эдгар, не имея ни цента в кармане, отправился в Норфолк, а затем и в Бостон. Там он познакомился с молодым издателем Кэлвином Томасом и опубликовал свой первый сборник стихотворений – тиражом в пятьдесят экземпляров. Они продавались по 12 центов за штуку, а в 2009 году один из чудом сохранившихся экземпляров был приобретен коллекционером за рекордную для американской литературы сумму – шестьсот шестьдесят две тысячи долларов.
В том же 1827 году нужда заставила Эдгара По завербоваться в армию. Местом его службы в качестве рядового-артиллериста был остров Салливан, чья природа стала фоном событий, изображенных в новелле «Золотой жук». Все свободное от службы время девятнадцатилетний юноша тратил на чтение и сочинительство. Лишь с большим трудом Эдгару удалось расторгнуть армейский контракт.
В ожидании поступления в военную академию Вест-Пойнт Эдгар поселился у родственников в Балтиморе. В это время писатель завязал отношения с издателями и опубликовал еще один стихотворный сборник, оставшийся практически незамеченным критикой. В Вест-Пойнт Эдгар По был зачислен в 1830 году, но вскоре решил вырваться из стен этого почтенного заведения. Это оказалось непросто, и тогда он прибег к бойкоту – начал игнорировать занятия, поверки и караулы, в результате угодил под суд, провел некоторое время под арестом и был окончательно уволен со службы.
В 1831 году Эдгар По отправился в Нью-Йорк, где начал сотрудничать с различными издательствами в качестве критика и эссеиста, но безденежье вынудило его обратиться к прозе. Он принял участие в литературном конкурсе на лучший рассказ, отправив туда только что написанные новеллы «Метценгерштейн», «На стенах иерусалимских», «Существенная потеря» и «Несостоявшаяся сделка», однако не получил награды, составлявшей ровно сто долларов. Зато в следующем году все эти новеллы были опубликованы, а По продолжал создавать рассказ за рассказом. Вскоре его «Рукопись, найденная в бутылке» все же получила первую премию на конкурсе и удостоилась превосходных отзывов. Фактически, это было первым признанием таланта Эдгара По.
Его новеллы начали публиковать на страницах ричмондского ежемесячника «Southern Literary Messenger», а вскоре издатель предложил ему должность помощника редактора. Однако благополучие длилось недолго: приступ глубокой депрессии и тяжелый запой привели к увольнению и потере единственного источника доходов.
16 мая 1836 года Эдгар По женился на Вирджинии Клемм, которая приходилась ему двоюродной сестрой. В день бракосочетания ей было всего тринадцать лет.
Как раз в тот период Эдгар По начал свой самый большой прозаический текст – «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима». Время это было не лучшим для того, чтобы жить литературным трудом. Из-за кризиса закрывались многие газеты и журналы, а уцелевшие резко сокращали штат. Но вынужденная безработица позволила По полностью сосредоточиться на творчестве. Из-под его пера один за другим выходят шедевры – «Лигейя», «Черт на колокольне», «Падение дома Эшеров», «Вильям Вильсон».
Летом 1838 года Эдгар По с семьей переехал в Филадельфию и стал сотрудником только что созданного ежемесячника «American Museum», а после скорой «кончины» этого издания получил должность редактора в журнале «Burton’s Gentleman’s Magazine» – с окладом десять долларов в неделю, что позволяло семье наконец-то снять приличное жилье.
В декабре 1839 года были опубликованы «Гротески и арабески» – двухтомное собрание, включавшее двадцать пять новелл, написанных к тому времени Эдгаром По. Эта книга впервые была замечена рецензентами и получила положительные отклики. Но публика не оценила «сумрачного гения» – сборник плохо продавался. Зато в 1841 году в новом журнале «Graham’s Magazine» увидела свет новелла, которая впоследствии принесла По славу родоначальника детективного жанра – «Убийство на улице Морг». Вскоре у журнала было уже 40 тысяч подписчиков, чему способствовала и публикация новеллы «Низвержение в Мальстрём».
В январе 1842 года у юной жены писателя случился первый тяжелый приступ туберкулеза, сопровождавшийся горловым кровотечением. По снова потерял душевное равновесие и способность работать. Начался период частых и длительных запоев, и владелец журнала вынужден был с ним расстаться. Последним произведением По, опубликованным в «Graham’s Magazine», была повергающая в трепет «Маска Красной смерти».
Болезнь жены надломила душевное здоровье писателя. Его терзания нашли отражение в рассказах «Колодец и маятник» и «Сердце-обличитель». По искал выход в творчестве, но даже публикация нашумевшей новеллы «Тайна Мари Роже» не спасла положение – долги продолжали расти, в январе 1843 года окружной суд Филадельфии признал Эдгара По банкротом, хотя тюремного заключения ему удалось избежать.
Несмотря на невыносимое финансовое положение и депрессии, литературная слава Эдгара По неуклонно росла. Его произведения публиковались во многих американских изданиях, критики наконец-то заметили незаурядный талант автора и гипнотическую мощь его воображения. Даже литературные враги не могли отрицать очевидного. В течение двух лет увидели свет блистательные новеллы «Черный кот», «Очки», «Повесть Крутых гор», «Преждевременное погребение», «Месмерическое откровение» и «Ангел необъяснимого». Новелла «Золотой жук» была перепечатана десятки раз в различных изданиях в США и Европе. А знаменитое стихотворение «Ворон», написанное уже после того, как По с женой поселились в окрестностях Нью-Йорка, сделало его литературной фигурой поистине национального масштаба.
В 1845 году По опубликовал рассказ, получивший название «Бес противоречия». В нем отразилась природа исключительно противоречивой натуры самого автора. Одержимый собственным «бесом», писатель на протяжении всей жизни совершал спонтанные и нелогичные поступки, неизбежно приводившие его к катастрофам. Так случилось и тогда, когда он, казалось бы, достиг вершины славы.
Погрузившийся в борьбу с недругами По почти утратил способность писать, а состояние его жены, прикованной к постели, тем временем ухудшалось день ото дня, и призрак нищеты снова маячил на пороге их дома. Тридцатого января 1847 года Вирджиния По скончалась. Эдгар едва пережил ее смерть и сам надолго слег.
Последние два года его жизни превратились в мучительный поединок выдающегося таланта, воли к жизни и физической деградации. Смерть писателя последовала 7 октября 1849 года и до сих пор окутана массой тайн, недомолвок и мифов. Доподлинно известно только то, что 3 октября Эдгар По, одетый в рваную и грязную одежду, был обнаружен практически в невменяемом состоянии на скамье близ избирательного участка четвертого округа в Балтиморе. Он не мог самостоятельно передвигаться и связно говорить, не мог вспомнить, как оказался в этом городе. Несмотря на усилия врачей, его состояние к шестому октября еще ухудшилось, и утром седьмого он скончался. Последними словами Эдгара Аллана По были: «Господи, помоги моей бедной душе!»
А. КлимовНадувательство как точная наука пер. В. Михалюка
Гули-гули, кошки дули. Было твое, стало мое!
Со дня сотворения мира было два Иеремии. Один сочинил иеремиаду о ростовщичестве, и звали его Иеремия Бентам[1]. Этим человеком премного восхищался мистер Джон Нил[2], и в некотором смысле он был велик. Второй дал имя[3] одной из важнейших точных наук и был великим человеком в прямом смысле, я бы даже сказал, в прямейшем из смыслов.
Что такое надувательство (либо абстрактная идея, которую означает глагол «надувать»), в общем-то, понятно каждому. Тем не менее довольно сложно дать определение факту, поступку или процессу надувательства как таковому. Можно получить более-менее удовлетворительное представление о данном понятии, определив не само надувательство, а человека как животное, которое занимается надувательством. Если бы до этого додумался Платон, он бы не стал жертвой шутки с ощипанной курицей.
Платону задали вполне справедливый вопрос: почему, если он определяет человека как «двуногое существо, лишенное перьев», ощипанная курица не является человеком? Впрочем, я не собираюсь сейчас искать ответы на подобные вопросы. Человек – существо, которое надувает, и нет ни одного другого животного, которое способно надувать. И с этим ничего не поделать даже целому курятнику отборных куриц.
Если говорить по существу, сама идея, принцип надувательства является характерной чертой того класса живых существ, которые носят сюртуки и панталоны. Сорока ворует, лиса плутует, хорек хитрит, а человек надувает. Ему на роду написано надувать. «Людской удел – страданья»[4], – сказал поэт. Но это не так, людской удел – надувать. Таково его предназначение, его цель, его судьба. И именно поэтому, когда человек кого-то надувает, о нем говорят, что он «отпетый».
Надувательство, если рассматривать его в правильном свете, это структура, составными компонентами которой являются: мелкий масштаб, интерес, настойчивость, находчивость, смелость, бесстрастность, оригинальность, дерзость и веселость.
Мелкий масштаб. Надувала мелочен. Масштаб его действий незначителен. Дела его сводятся к наличным деньгам или чекам на предъявителя. Если он решается перейти к большему, и масштаб его действий увеличивается, такой человек сразу же утрачивает отличительные признаки и становится тем, кого мы называем «дельцом». Этот термин во всех отношениях совпадает с понятием надувательства за одним исключением – размах. Таким образом, надувалу можно рассматривать, как банкира in petto[5], а его «финансовые операции» – как надувательство в Бробингнеге. Один соотносится с другим, как Гомер соотносится с «Флакком»[6], как мастодонт соотносится с мышью, или хвост кометы соотносится с хвостиком свиньи.
Интерес. Надувала преследует собственные интересы. Он с презрением относится к надувательству ради надувательства. У него есть определенная цель: карман, как собственный, так и ваш. Он всегда корыстен и заботится только о Номере Первом. Ваш номер второй, и о себе вы должны позаботиться сами.
Настойчивость. Надувала настойчив. Его не так-то просто обескуражить. Даже если разоряются банки, это его ничуть не смущает, он продолжает упорно добиваться своих целей, и «Ut canis a corio nunquam absterrebitur»[7], поэтому добычу свою он никогда не упустит.
Находчивость. Надувала находчив. В нем заложено большое конструктивное начало. Он полностью понимает, что происходит. Он изобретает и выдумывает. Если бы он не был Александром, он бы хотел быть Диогеном[8]. Если бы он не был надувалой, он был бы изобретателем крысоловок или ловцом форели.
Смелость. Надувала смел. Это отважный человек. Он может начать войну в Африке, он берет приступом. Он не испугается кинжалов Фрея Херрена[9]. Хорошим надувалой мог бы стать Дик Терпин[10], будь у него чуть больше благоразумия, или Даниел О’Коннел[11], не будь он таким подхалимом, или Карл Двенадцатый, будь у него побольше мозгов.
Бесстрастность. Надувала бесстрастен. Он не испытывает нервного волнения. У него вообще нет нервов. Он никогда не суетится. Его ничто не выводит из себя, разве что, когда его выводят за дверь. Он не теряет хладнокровия. Он всегда спокоен… «спокоен, как улыбка леди Бэри»[12]. Он держится просто и свободно, как старая перчатка или как девицы античного Байи[13].
Оригинальность. Надувала оригинален. Честно, без подвохов. Его мысли – это его собственные мысли. Он считает ниже своего достоинства пользоваться чужими. Избитая хитрость ему противна. Я уверен, он вернет кошелек, если узнает, что способ, которым он его получил, не оригинален.
Дерзость. Надувала дерзок. Он держится развязно, стоит подбоченясь или засунув руки в карманы брюк. Глядя на вас, он презрительно усмехается. Он наступает на любимые мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, водит вас за нос. Он может пнуть вашего пуделя и поцеловать вашу жену.
Веселость. Настоящий надувала все делает с усмешкой. Но кроме него самого, этого не видит никто. Он усмехается, заканчивая дневную работу, когда дело сделано, усмехается дома в своем кабинете и делает это для собственного удовольствия. Он идет домой, запирает дверь, раздевается, зажигает свечку, ложится в кровать, кладет голову на подушку, и на устах его появляется усмешка. Это не предположение, это истинный факт. Это следует a priori[14], и без усмешки надувала не будет надувалой.
Можно говорить о том, что надувательство зародилось, когда человечество пребывало еще в младенчестве. Первым надувалой, возможно, был Адам. Во всяком случае, следы этой науки мы видим даже в самые ранние периоды истории. Однако современные надувалы довели ее до такой степени совершенства, которая и не снилась нашим тупоголовым прародителям. Поэтому, не отвлекаясь на «мудрость древних», я сразу перехожу к «примерам наших дней».
Вот прекрасный пример надувательства. Скажем, домохозяйке нужен новый диван. Объездив несколько мебельных магазинов, она наконец находит тот, в котором представлен самый большой выбор. У двери ее приветствует и приглашает войти вежливый и словоохотливый господин. Она находит диван по своему вкусу и, справившись о цене, приятно удивляется услышанной цифре, которая как минимум на двадцать процентов ниже той суммы, которую она ожидала. Она спешит оформить покупку, платит, получает квитанцию, называет адрес, просит доставить товар побыстрее и уходит. Не скупящийся на поклоны продавец провожает ее до самой двери. День подходит к концу, но диван так и не везут. Посылается слуга, чтобы выяснить причину задержки. Но в магазине ничего не знают о сегодняшней сделке. Никакого дивана они не продавали, и денег никто не получал… кроме надувалы, который выдал себя за продавца.
В наших мебельных магазинах обычно никого нет, и они являются прекрасным местом для подобного рода хитростей. Посетители в них заходят, смотрят на мебель, уходят, и за этим даже никто не следит. Если покупатель присмотрит товар или захочет узнать цену, у него под рукой звонок, и это считается очень удобным.
Еще один весьма ловкий способ надуть ближнего. Хорошо одетый человек заходит в магазин, совершает покупку на доллар, с досадой обнаруживает, что оставил бумажник в кармане другого пальто и говорит продавцу:
– Ничего страшного! Я ведь могу попросить доставить пакет мне домой, не так ли? Вы меня весьма обяжете. Впрочем, постойте, у меня дома, кажется, есть только пятидолларовые купюры. Да не беда, просто сразу пошлите с пакетом четыре доллара сдачи.
– Разумеется, сэр, – отвечает продавец, проникшийся предусмотрительностью своего покупателя, а про себя думает: «Другой бы на его месте просто взял свою покупку и ушел, пообещав занести доллар днем».
Посылается мальчик-курьер с пакетом и сдачей. По дороге совершенно случайно его встречает покупатель, который восклицает:
– О, это никак мой пакет? А я думал, его уже давно доставили. Ладно, несите дальше, моя жена, миссис Троттер отдаст вам пять долларов… я оставил ей указания на этот счет. Сдачу можете отдать мне, мне как раз нужна мелочь, чтобы на почту зайти. Очень хорошо! Один, два – это не фальшивый четвертак? – три, четыре… Все верно. Передайте миссис Троттер, что встретили меня по дороге. И я вас очень попрошу больше нигде не задерживаться.
Курьер и не думает задерживаться, но все же в магазин он возвращается очень нескоро, потому что… никакой миссис Троттер по указанному адресу найти ему не удается. Впрочем, утешая себя мыслью, что не такой он дурак, чтобы оставить товар, не получив за него деньги, мальчишка заходит в магазин с гордым видом и чувствует некоторую обиду и даже возмущение, когда хозяин спрашивает, что он сделал со сдачей.
Еще одно очень простое надувательство. Капитану судна, которое готовится к отплытию, некий официального вида господин вручает необычайно скромный счет портовых пошлин. Капитан, у которого голова забита тысячей навалившихся одновременно других дел, радуясь, что удалось так легко отделаться, незамедлительно выплачивает указанную сумму. Через пятнадцать минут еще один, на этот раз не такой скромный счет, предъявляет ему человек, который вскоре убеждает капитана, что его надули, и первый сборщик был липовым.
Еще один пример из того же разряда. Пароход уже отчаливает от берега, когда в порту показывается пассажир, который мчится со всех ног к пристани с дорожной сумкой в руках. Вдруг он останавливается, наклоняется и с очень взволнованным видом что-то подбирает с земли. Это бумажник. Запоздавший пассажир кричит:
– Кто потерял бумажник?
У всех бумажники как будто на месте, но среди пассажиров возникает большое волнение, когда выясняется, что в бумажнике довольно значительная сумма. Однако отплытие нельзя откладывать.
– Мы не можем ждать, – говорит капитан.
– Господи Боже, ну задержитесь хотя бы на несколько минут, – говорит ему человек, нашедший бумажник. – Его хозяин наверняка сейчас появится.
– Семеро одного не ждут, – отвечает командир судна. – Эй вы там, отдать швартовы!
– Что же мне делать? – в волнении и растерянности восклицает запоздавший пассажир. – Я уезжаю из страны на несколько лет и не могу так надолго оставлять себе этакую сумму. Прошу прощения, сэр, – обращается он к господину на берегу, – но вы похожи на честного человека. Могу я попросить вас взять на хранение этот бумажник… я уверен, на вас можно положиться… и дать объявление о его находке? Понимаете ли, здесь очень большая сумма. Его хозяин наверняка отблагодарит вас за неудобства…
– Меня? Нет, вас! Это же вы нашли бумажник.
– Ну, если вы так считаете… Хорошо, я приму небольшое вознаграждение… Исключительно ради того, чтобы вас не мучила совесть. Посмотрим… Но тут одни сотни! Черт, я не могу взять целую сотню… Я думаю, пятидесяти вполне хватит…
– Отдать швартовы! – кричит капитан.
– Но у меня не будет сдачи с сотни. Пожалуй, будет лучше, если вы…
– Не беспокойтесь! – кричит господин на берегу, который последнюю минуту или около того роется в собственном бумажнике. – Не беспокойтесь! У меня есть полтинник… Бросайте бумажник.
И сознательный пассажир, смущаясь, с явной неохотой принимает пятьдесят долларов и бросает господину на берегу найденный бумажник. Пароход, шипя и выпуская клубы пара, отправляется в путь. Примерно через полчаса после отправления выясняется, что вместо «крупной суммы» в бумажнике лежит «кукла», и становится понятно, что все это дело – чистой воды надувательство.
А вот пример смелого надувательства. Проводится какая-нибудь лагерная встреча с проповедником – или нечто в этом роде – в месте, до которого можно добраться, только пройдя по мосту. Надувала становится на мосту и вежливо сообщает всем, кто по нему проходит, что, согласно новому указу властей графства, за проход по мосту отныне будет взиматься плата: один цент с человека, два цента с лошади и осла, и так далее. Кому-то это не нравится, кто-то ворчит, но все исправно платят, и в результате надувала становится богаче на пятьдесят-шестьдесят честно заработанных долларов. Подобный обман большой группы людей – дело довольно хлопотливое.
Следующий пример можно назвать изящным. Кто-то из знакомых надувалы дает ему взаймы деньги. Заполняются обычные напечатанные красными чернилами бланки, все подписывается как положено. Затем надувала покупает пару дюжин таких бланков и каждый день берет один листок, макает в суп, дразнит им свою собаку, а потом скармливает его ей в качестве bonne bouche[15]. Когда подходит срок платежа, надувала вместе с собакой отправляется к этому знакомому и заводит разговор о выплате долга. Но едва знакомый успевает достать из escritoire[16] заверенный подписями долговой бланк, как на него бросается собака и сжирает долговую расписку. Надувала не только озадачен, но и возмущен подобным поведением своей собаки, можно сказать, даже приходит в ярость, но выражает полную готовность погасить долг, как только будут представлены доказательства его задолженности.
А вот мелкое надувательство. Некую леди на улице оскорбляет сообщник надувалы. Сам надувала спешит ей на помощь и делает вид, что задает трепку хулигану, после чего настаивает на том, чтобы на всякий случай проводить леди домой. У ее двери он, приложив руку к сердцу, вежливо прощается. Но леди приглашает спасителя зайти к ней, чтобы представить старшему брату и отцу. Со вздохом он отклоняет предложение. Тогда леди смущенно произносит:
– Сэр, могу ли я как-то иначе выразить вам свою благодарность?
– Если вы настаиваете, сударыня… Может быть, вы одолжите мне пару шиллингов?
Первым делом леди решает тотчас лишиться чувств, однако, немного подумав, все же раскрывает кошелек и достает означенную сумму. Но я бы сказал, что это очень мелкое надувательство, поскольку добрую половину полученной суммы надувала должен будет отдать тому господину, который изображал хулигана и подставлял бока под его удары.
А вот небольшое надувательство с научным подходом. Надувала заходит в буфет трактира и просит пару скруток табаку. Получив их, он окидывает взглядом свой заказ и говорит:
– Что-то не очень мне нравится этот табак. Заберите-ка его обратно, а взамен дайте стакан бренди с водой.
Бренди с водой налито, он выпивает и спокойно направляется к выходу. Однако голос хозяина трактира заставляет его задержаться.
– Сэр, по-моему, вы забыли расплатиться за бренди с водой.
– Расплатиться за бренди с водой? А разве я не отдал вам табак за бренди с водой? Что вам еще нужно?
– Но позвольте, сэр, я не припомню, чтобы вы заплатили мне за табак.
– Это что же вы хотите сказать? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не он все еще лежит перед вами на стойке? Вы что же, хотите, чтобы я заплатил за то, чего не брал? Каков наглец!
– Но, сэр! – восклицает в растерянности трактирщик. – Но, сэр…
– Никаких «но», сэр, – возмущенно прерывает его надувала и, добавив: – А подобные штучки с посетителями могут для вас плохо кончиться! – хлопнув дверью, уходит.
Теперь очень умное надувательство, не последней рекомендацией которому служит сама его простота. Потерян настоящий кошелек или бумажник. Потерявший дает объявление в городской газете с его подробным описанием. Наш надувала дает точно такое же объявление, изменив заголовок, порядок слов и адрес. Например, подлинное объявление, длинное и многословное, идет под заголовком «Утерян бумажник!», и находку в нем просят доставить в дом № 1 по Том-стрит. Фальшивое объявление короче, озаглавлено «Потеря» и в нем указано, что владельца потерянного бумажника можно найти в доме № 2 по Дик-стрит или № 3 по Гарри-стрит. Далее, это объявление размещается в пяти-шести ежедневных газетах и выходит из печати всего через несколько часов после появления подлинного объявления. Если оно и попадется на глаза тому, кто на самом деле потерял бумажник, вряд ли он заподозрит связь между ним и собственным несчастьем. Но, конечно же, шансы пять или шесть к одному, что тот, кто найдет бумажник, принесет его надувале, а не истинному владельцу. Получив бумажник, наш надувала платит обещанное вознаграждение и снимается с якоря, только его и видели.
Следующее надувательство очень похоже на предыдущее. Какая-нибудь светская модница теряет на улице очень дорогое кольцо с бриллиантом. Тому, кто его найдет, она обещает сорок-пятьдесят долларов вознаграждения и в объявлении дает подробнейшее описание камня и оправы, добавляя, что вознаграждение будет выплачено тотчас и без расспросов, как только потерю доставят в такой-то дом на такой-то авеню. Дня через два в таком-то доме на такой-то авеню, когда леди нет дома, раздается звонок. Дверь открывает слуга, гость справляется о леди, но, узнав, что ее нет, немало огорчается, поскольку дело у него важное и касается самой леди. Выясняется, что ему посчастливилось найти потерянное ею бриллиантовое кольцо. Впрочем, посетитель высказывает желание зайти в другой раз.
– Ни в коем случае! – восклицает слуга.
– Ни в коем случае! – восклицают призванные сестра и золовка леди.
После чего кольцо осматривают, шумно признают подлинным, выплачивают обещанное вознаграждение и человек, его нашедший, чуть ли не бегом удаляется. Через какое-то время возвращается леди и выражает некоторое неудовольствие тем фактом, что ее сестра и золовка заплатили сорок-пятьдесят долларов за копию ее кольца, копию, изготовленную из томпака и стразов.
Поскольку способам надувательства нет счета, очерк этот затянется до бесконечности, если я даже захочу перечислить всего лишь половину видов или вариаций, которые допускает эта наука. Посему мне приходится заканчивать это исследование, и лучше всего будет завершить его общим рассказом о том простом, но искусно исполненном надувательстве, ареной для которого не так давно послужил наш город и которое впоследствии с таким же успехом повторилось и в других местах Штатов, где живут еще более простодушные люди.
Из неведомых краев в город прибывает степенный мужчина средних лет. В своих привычках он очень аккуратен, предусмотрителен и нетороплив. На нем добротный, но простой и неброский костюм: белый галстук, свободный жилет, покрой которого продиктован исключительно заботой об удобстве, мягкие туфли на толстой подошве и панталоны без штрипок. Больше всего он похож на основательного, преуспевающего, сдержанного и уважаемого «делового человека» par excellence[17], одного из той категории суровых и непреклонных внешне, но мягких в душе людей, наподобие тех, которых мы видим в заумных комедиях, на чье слово можно положиться, и которые известны тем, что одной рукой раздают на благотворительные цели гинеи, но другой, когда доходит до деловых интересов, готовы вытрясти из человека последний грош.
Вселяясь в пансион, он успевает наделать много шума. Он не любит детей. Он привык к тишине. У него строгий распорядок дел, и он хотел бы жить у тихой, уважаемой и желательно набожной семьи. Впрочем, остальные условия его не интересуют, единственное, на чем он настаивает, это, чтобы счет ему предоставляли первого числа месяца (сейчас второе). Выбрав наконец комнату, он просит хозяйку строго соблюдать его инструкции: счет должен предоставляться ему ровно в десять часов утра в первый день месяца, и переносить оплату на второе число нельзя ни в коем случае.
Итак, обсудив условия и договорившись с хозяевами, наш деловой человек снимает помещение под контору скорее в респектабельном, чем фешенебельном районе города. Ничто не вызывает большего отвращения у нового постояльца, чем притворство и показуха. «В том, что броско, редко можно сыскать истинную глубину», – говорит он, и изречение это оказывает такое впечатление на его хозяйку, что она даже записывает его карандашом в толстой семейной Библии, на широком поле страницы рядом с Притчами Соломона.
Следующий шаг – размещение такого объявления в главных шестицентовых деловых газетах города (одноцентовые газеты отвергаются на том основании, что они не достаточно «респектабельны», и в них требуют плату за выход объявления вперед, а наш деловой человек свято верит в то, что нечего платить за работу, пока она не выполнена):
«ТРЕБУЮТСЯ
Податели сего объявления, намеревающиеся проводить в этом городе крупные деловые операции, готовы принять на работу трех-четырех грамотных и опытных клерков, каковым будет выплачиваться значительное жалование. Желающим получить должность необходимо иметь лучшие рекомендации, в которых основное внимание следует уделить не рабочим навыкам, а честности претендента. Поскольку обязанности, которые предстоит выполнять принятым на должность, связаны с большой ответственностью и через руки сотрудников будут проходить весьма значительные денежные суммы, каждый принятый на работу клерк должен будет внести гарантийный залог в размере пятидесяти долларов. Поэтому господ, которые не готовы предоставить означенную сумму на хранение подателям сего заявления, или не имеют исчерпывающих гарантий относительно своей честности, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдаваться молодым людям религиозного склада ума. Заявки будут приниматься между 10 и 11 часами утра и 16–17 часами вечера, обращаться в фирму “Трах, Бах, Крах, Прах и Ко” по адресу: Швах-стрит, дом № 110».
К тридцать первому дню месяца объявление приводит в контору господ Траха, Баха, Краха, Праха и Ко около пятнадцати – двадцати молодых людей религиозного склада ума. Но наш деловой человек не спешит заключать контракты (деловые люди вообще не любят спешки), и лишь после того как будут проведены самые строгие проверки относительно благочестия каждого из претендентов, избранные смогут приступить к выполнению обязанностей и будут выписаны расписки в получении пятидесяти долларов, которые необходимы уважаемой фирме «Трах, Бах, Крах, Прах и Ко» исключительно в качестве надлежащей меры предосторожности. Утром первого дня следующего месяца хозяйка пансиона вопреки договоренности не предоставляет счет за услуги, за что наверняка получила бы самый строгий выговор от глубокоуважаемого главы «аховой» компании, если бы что-то смогло убедить его задержаться в городе хотя бы еще на один-два дня, что дало бы ему возможность узнать о ее проступке.
Ну а пока констебли сбились с ног, бегая по всему городу, но все, что они могут сделать, – это объявить, что нашего делового человека «и след простыл», что некоторые люди воспринимают как объявление его n. e. i., что в свою очередь должно означать классическую фразу non est inventus[18]. А тем временем все до единого молодые люди в значительной степени утрачивают былую религиозность, а хозяйка пансиона тратит шиллинг на покупку самой лучшей резинки, чтобы стереть карандашную надпись, которую какой-то дурак оставил в толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.
Черный кот пер. В. Михалюка
История, о которой я собираюсь поведать, совершенно чудовищна и в то же время очень проста. Я не жду, что кто-то поверит, будто такое могло случиться, и не прошу об этом. С моей стороны было бы истинным безумием ожидать доверия, ибо мой собственный разум отказывается верить свидетельствам чувств. И все же я не безумен… и уж точно то, что произошло, мне не приснилось. Но завтра я умру и сегодня я хочу облегчить душу. Моя цель – в простых словах, кратко и без комментариев поведать миру о череде самых обычных событий, произошедших у меня дома. О череде событий, которые вселили в меня страх… заставили страдать… привели к гибели. Но я не стану пытаться объяснить, что произошло, ибо для меня то, что было, – неизъяснимый ужас… хотя многим это покажется не столько страшным, сколько baroque[19]. Когда-нибудь, возможно, сыщется интеллект, который лишит пережитое мною иллюзий… какой-нибудь более сдержанный, более логический и гораздо менее возбудимый разум, чем мой, разум, который в тех обстоятельствах, о которых я вспоминаю с трепетом, увидит всего лишь обычную череду естественных причин и следствий.
С малых лет я отличался восприимчивостью и добротой. Мое мягкосердие было столь очевидно, что я даже превратился в своего рода посмешище для друзей. Особенно я любил животных, и благодаря потакавшим мне родителям у меня всегда были домашние любимцы, с которыми я проводил почти все время, и для меня не было большего удовольствия, чем кормить их и играть с ними. Эта особенность характера росла вместе со мной, и когда я повзрослел, животные стали для меня одним из главных источников удовольствия. Тем, кто знает, что такое любовь преданной и умной собаки, не нужно объяснять, какую радость это может приносить. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть что-то такое, что не может не волновать сердце того, кто имел возможность познать жалкую дружбу и призрачную привязанность, существующие между людьми.
Женился я рано и был рад узнать, что моя супруга разделяет мое увлечение. Видя, насколько для меня важно иметь домашнего любимца, она постоянно приносила в дом разных животных. У нас были птицы, золотая рыбка, породистый пес, кролики, обезьянка и кот.
Последний был большим и удивительно красивым животным, полностью черным и невероятно умным. Что касается его ума, то жена моя, хоть суеверностью и не отличалась, не раз вспоминала о старом поверье, будто каждая черная кошка – это принявшая облик животного ведьма. Не то чтобы она когда-либо относилась к этому серьезно, и я привожу эту подробность лишь потому, что сейчас есть повод об этом вспомнить.
Плутон (так звали кота) был моим любимцем. С ним я проводил больше всего времени. Только я кормил его, и он всегда сопровождал меня, когда я ходил по дому. Более того, мне даже стоило больших трудов не давать ему следовать за мной, когда я выходил на улицу.
Эта дружба продлилась несколько лет, но за это время мой характер и нрав полностью переменились, и перемена была недоброй, причиной чему стало (хоть мне и стыдно это признавать) неумеренное пристрастие к спиртному. С каждым днем я становился все мрачнее, все раздражительнее, меня все меньше беспокоили чувства других. Я стал позволять себе несдержанные высказывания в адрес жены. Со временем дошло даже до рукоприкладства. Питомцы мои, естественно, не могли не чувствовать, что со мной происходит. Я не только забросил их, но даже стал поднимать на них руку. Только к Плутону я сохранил уважение, не позволявшее мне обижать его, как я не моргнув глазом обижал кроликов, обезьянку и даже собаку, когда те случайно попадались мне на пути или ласкались. Но болезнь моя захватывала меня все сильнее (есть ли болезнь страшнее алкоголизма!), и со временем даже Плутон, который к тому времени уже начал стареть и сделался несколько капризен, даже Плутон начал страдать от моего испортившегося характера.
Однажды ночью, когда я сильно выпивший вернулся домой после очередной «вылазки» в город, мне показалось, что кот избегает меня. Все же я поймал его, и он, боясь, что я причиню ему боль, слегка укусил меня за руку. И тогда в меня будто вселился демон. Я перестал быть самим собой. Истинная душа моя в один миг покинула тело, и дьявольская злоба, подогреваемая выпитым джином, овладела мною. Я достал из кармана жилета перочинный нож, раскрыл его, взял несчастное животное за горло и вырезал ему один глаз. Когда я вспоминаю об этом чудовищном поступке, я сгораю от стыда, меня трясет и бросает в жар.
Наутро, когда разум вернулся ко мне, когда сон выветрил из моей головы винные пары ночной попойки, вспомнив о своем злодеянии, я испытал чувство, похожее одновременно на ужас и на раскаяние, но даже это чувство было слабым и каким-то смутным. Душа моя осталась холодна. Я снова взялся за бутылку и вскоре утопил в вине все воспоминания об этом поступке.
Со временем кот медленно пошел на поправку. Пустая глазница, правда, выглядела ужасно, но боли он, похоже, уже не испытывал. Он как и раньше разгуливал по всему дому, но, о чем нетрудно догадаться, едва заметив меня, тут же убегал в страхе. Какая-то частица прежнего меня еще сохранилась в моем сердце, поэтому очевидная неприязнь, которую теперь испытывало ко мне существо, раньше меня так любившее, поначалу очень печалила меня, но вскоре это чувство уступило место раздражению. А потом, словно в подтверждение моего окончательного упадка, мною овладел дух противоречия. Философы не задумываются над этим понятием. Но ничто не заставит меня усомниться в том, что дух этот является одним из главных побуждающих начал в человеческом сердце… одним из неотделимых первичных качеств или чувств, которые превращают человека в то, что он есть. Кто не совершал тысячу злых или глупых поступков только лишь потому, что знал, что так поступать не следует? Разве не заложено в нас неискоренимое желание вопреки здравому разуму нарушать то, что зовется «Законом» по той единственной причине, что мы его считаем таковым? Я повторю еще раз, пробуждение духа противоречия ознаменовало мое окончательное падение. Это был тот непостижимый душевный порыв «сделать хуже самому себе», совершить насилие над собственной природой… сотворить зло ради самого зла, который заставил меня продолжить и в конечном итоге довести до конца издевательство над безобидным животным. Однажды утром я хладнокровно накинул ему на шею петлю и повесил на ветке дерева… Когда я это делал, слезы текли у меня по щекам, сердце разрывалось на части… Я повесил его, так как знал, что он любил меня, и так как чувствовал, что он не дал мне ни единого повода так поступить с ним… Я повесил его, поскольку знал, что, делая это, я совершаю грех, страшный грех, который заставит, если такое вообще возможно, отвернуться от моей бессмертной души даже самого всемилостивого, самого страшного Бога.
Ночью того дня, когда был совершен этот жестокий поступок, меня разбудили крики о пожаре. Полог моей кровати был охвачен пламенем. Горел весь дом. Мне, моей жене и слуге лишь каким-то чудом удалось спастись от огня, но разрушение было полным. Погибло все, что у меня было, и с тех пор меня не покидало отчаяние.
Я не настолько слабодушен, чтобы усмотреть причину и следствие в своем злодеянии и случившейся беде. Но я излагаю факты в их последовательности, и не хочу, чтобы из этой цепочки выпало хотя бы одно звено. На следующий день после пожара я пришел на руины. Все стены дома, кроме одной, рухнули. Осталась стоять лишь одна из внутренних стен между комнатами, изголовьем к которой стояла моя кровать. Штукатурка на ней большей частью выдержала воздействие огня. Я приписал этот факт тому, что недавно эту стену чинили, и штукатурка на ней была еще свежей. У этой стены собралась довольно большая группа людей, которые, похоже, очень внимательно и с особым интересом рассматривали какую-то ее отдельную часть. Восклицания «Странно!», «Необычно!» и другие, подобные им, пробудили во мне любопытство. Я подошел к толпе и увидел на белой поверхности стены изображение огромного кота, которое, словно bas-relief[20], въелось в штукатурку. Изображение было в самом деле поразительно достоверным. На шее животного была четко видна веревка.
Едва я узрел этот призрак (а другим словом я не могу это назвать), необычайное удивление и ужас охватили меня. Но позже разум пришел мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду, примыкающем непосредственно к дому. Как только началась вызванная пожаром суматоха, в этом саду собралось множество людей, из которых кто-то, должно быть, перерезал веревку и бросил животное в открытое окно моей комнаты. Возможно, это было сделано для того, чтобы разбудить меня. При падении остальные стены могли впечатать жертву моей жестокости в свежую штукатурку. Содержащаяся в ней известь вместе с огнем и аммиаком, выделяемым мертвым телом и привели отпечаток в тот вид, в котором я его увидел.
Объяснив подобным образом этот удивительный факт, я успокоил свой разум (но не совесть), и все же все это произвело на меня очень большое впечатление. Несколько месяцев меня преследовал призрак этого кота, и я снова испытал некое смутное чувство, которое было похоже на раскаяние, но не было им. Я дошел до того, что пожалел о том, что лишился этого кота, и в грязных притонах, где проводил теперь все больше времени, стал подыскивать другое животное того же вида и сходной наружности, которое могло бы занять его место.
Однажды вечером, когда, доведя себя почти до беспамятства, я сидел в пивной более чем сомнительной репутации, мое внимание неожиданно привлек какой-то черный предмет, лежащий на огромной бочке то ли джина, то ли рома, которая была главным предметом мебели в этом помещении. Я уже несколько минут смотрел на эту бочку и сильно удивился, что не заметил лежащего на ней предмета раньше. Я подошел и прикоснулся к нему рукой. Это был кот… огромный черный кот, не меньше Плутона и очень на него похожий, с одним лишь различием. У Плутона на всем теле не было ни одной белой шерстинки, а у этого кота было большое, хотя и нечеткое белое пятно почти во всю грудь. Как только я прикоснулся к нему, он сразу встал, громко заурчал и потерся о мои пальцы. Похоже, ему было приятно, что я обратил на него внимание. Это было именно то, что я искал, поэтому я тут же предложил хозяину заведения купить животное, но он ответил, что это кот не его, он о нем ничего не знает и никогда раньше не видел.
Я еще немного погладил его, а когда собрался уходить, животное явно вознамерилось составить мне компанию. Я позволил ему следовать за мной, и, пока мы шли домой, я время от времени наклонялся и ласкал его. Дома он освоился сразу и быстро стал любимцем моей жены.
Я же вскоре почувствовал, что во мне растет неприязнь к этому существу, хотя ожидал я отнюдь не этого. Хоть я и не знаю, как или почему, но его явная любовь ко мне сделалась мне противна и скоро начала сильно раздражать. Мало-помалу ощущение отвращения и раздражения переросло в злость и ненависть. Я стал избегать кота, но некоторое чувство вины и воспоминания о своем прошлом жестоком поступке удерживали меня от того, чтобы обижать его. Несколько недель я его не бил и вообще не прикасался к нему, но постепенно, очень постепенно, его вид стал вызывать у меня непередаваемое отвращение. Я избегал его навязчивого присутствия, бежал от него, как от дыхания чумы.
Одной из причин, по которой я возненавидел кота еще больше, несомненно, стало то, что на следующее утро после того, как я привел его к себе домой, выяснилось, что у него, как и у Плутона, нет одного глаза. Впрочем, это обстоятельство сделало его только дороже для моей жены, которая, как я уже говорил, была в большой степени наделена той душевной добротой, которая когда-то была моей главной отличительной чертой и благодаря которой раньше я столько раз испытывал простую и чистую радость.
Но похоже, что по мере того, как росло мое отвращение к этому коту, его привязанность ко мне только усиливалась. Он не отступал от меня ни на шаг, с упрямством, которое трудно описать, следовал за мной буквально повсюду. Если я садился, он забирался под стул или запрыгивал мне на колени и начинал тошнотворно ластиться. Если я вставал, чтобы пойти на прогулку, он путался у меня под ногами, из-за чего я чуть не падал, а то и впивался длинными острыми когтями в одежду и вскарабкивался по ней мне на грудь. В такие минуты, хоть меня и терзало жгучее желание уничтожить его одним ударом, я не делал этого, частично из-за воспоминания о своем прошлом преступлении, но в основном – лучше признаться в этом сразу, – потому что я жутко боялся этого создания.
Страх мой не был боязнью какого-то определенного несчастья… хотя, как иначе его определить, я не знаю. Мне почти стыдно признаться… да, даже здесь, в тюремной камере, я почти испытываю стыд, говоря о том, что страх и ужас, внушаемые мне этим животным, были приумножены одной из самых незначительных химер, которые можно себе представить. Жена не раз указывала мне на белую отметину на груди кота, о которой я упоминал и которая была единственным видимым различием между этим странным существом и тем, которое я погубил. Читатель помнит, что пятно это хоть и было большим, имело неопределенную форму, однако постепенно, настолько незаметно, что долгое время разум мой отказывался верить в то, что это не игра воображения, тем не менее через какое-то время пятно это оформилось в четкий контур. Теперь по форме оно было неотличимо от предмета, название которого заставляет меня содрогнуться – и за одно это я больше всего ненавидел, боялся его и избавился бы от этого чудовища, если бы осмелился – теперь это было изображение отвратительной… жуткой вещи… теперь на груди кота было отчетливо видно изображение ВИСЕЛИЦЫ! Мрачного и жуткого орудия ужаса и преступления… устройства, несущего агонию и смерть!
Отныне жизнь моя превратилась в муку, невыносимее самых страшных страданий, кои когда-либо испытывал смертный. Жалкая тварь, собрата которой я уничтожил с презрением, тварь эта причинила мне – мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, столько неизъяснимого горя! Увы, с тех пор ни днем, ни ночью я не испытывал покоя, я навсегда утратил это благословение. Днем это существо ни на миг не оставляло меня, а по ночам, пробуждаясь ежечасно от мучавших меня нестерпимых кошмаров, я ощущал его жаркое дыхание у себя на лице и чувствовал огромный вес тела – воплощенный ужас, который сбросить с себя я был не в силах, – я чувствовал огромный вес тела, возлежащего на моем сердце!
Под тяжестью подобных адовых мучений ничтожные остатки добра, которые еще оставались у меня в душе, умерли. Злые помыслы, самые темные и отвратительные думы стали моими единственными спутниками. Привычная для меня угрюмость обернулась ненавистью ко всему и ко всем; и самой частой и самой безропотной жертвой моих многочисленных и внезапных приступов безотчетной ярости, которым я слепо поддавался, увы, была моя несчастная жена.
Однажды по какой-то хозяйственной надобности она спустилась вместе со мной в подвал старого здания, в котором нужда вынудила нас ютиться. На ступеньках крутой лестницы меня догнал кот и стал крутиться под ногами, из-за чего я едва не свалился вниз. Это привело меня в бешенство. Не помня себя и позабыв тот детский страх, который до сих пор сдерживал меня, я схватил топор и замахнулся. Удар, конечно же, стал бы для животного смертельным, если бы достиг цели, но мою руку остановила жена. Ее вмешательство привело меня в какое-то адское исступление. Я выдернул руку и вонзил топор ей в голову. Она упала, не издав ни звука.
Совершив это жуткое убийство, я тотчас стал думать, как избавиться от тела. Понятно было, что ни днем, ни ночью вынести его из дома я не мог, потому что в любое время меня могли увидеть соседи. Разные мысли приходили мне в голову. Поначалу я думал изрубить тело на куски и сжечь. Потом подумал было закопать его в подвале. Затем я решил бросить труп в колодец во дворе. Еще у меня возник план запаковать его в коробку, оформить как посылку и вызвать носильщика, который вынес бы его из дома. Наконец я остановился на том, что показалось мне гораздо лучшей идеей, чем все остальные. Я вознамерился замуровать его в стенах подвала, как это делали средневековые монахи со своими жертвами.
Для подобной цели подвал подходил как нельзя лучше. Стены в нем были шаткие, и совсем недавно их покрыли грубой штукатуркой, которая еще не успела высохнуть из-за влажности воздуха. Более того, в одной из стен имелась ниша: раньше там, должно быть, находилось нечто вроде фальшивого дымохода или очага, но сейчас это место было заложено и ничем не отличалось от остальных стен подвала. Я не сомневался, что смогу легко разобрать кладку, поместить туда труп и снова заложить стену так, что никто не заметит ничего подозрительного. И в своих расчетах я не ошибся. Вооружившись ломом, я легко разобрал кирпичи, потом аккуратно поместил в нишу тело, прислонил его к внутренней стене и подпер его в таком положении. Выстроить стену так, как она выглядела раньше, было нетрудно. Соблюдая всяческие предосторожности, я принес в подвал известку, песок и паклю, приготовил штукатурку, неотличимую от прежней, и замазал ею новую кладку. Закончив, я остался доволен своей работой. Ничто во внешнем виде стены не указывало на то, что ее недавно разбирали. Строительный мусор на полу я тщательно убрал. Осмотревшись вокруг, я в полном восторге сказал себе: «Ну вот, по крайней мере, мой труд не прошел даром».
Следующим моим делом было найти создание, ставшее причиной стольких бед, потому что наконец я решил казнить его. Если бы в тот миг кот попался мне под руку, участь его была бы определена, но, похоже, коварное животное, испугавшись моего припадка ярости, спряталось. Невозможно описать и даже представить, какое благословенное облегчение принесло мне отсутствие этой мерзкой твари. Ночью кот не пришел, так что, по крайней мере, один раз со дня его появления в моем доме, я получил возможность выспаться. Сон был глубоким и спокойным, даже несмотря на тяжесть убийства на душе!
Прошел еще день, за ним еще один, а мой мучитель так и не появлялся. Я снова начал дышать свободно. Чудовище в страхе навсегда покинуло мой дом! Больше я его не увижу! Радость моя не знала границ. Чувство вины за совершенный поступок почти не тревожило меня. Кое-кто меня спрашивал, куда запропастилась моя супруга, но я заранее приготовил ответы, так что отделаться от любопытствующих было нетрудно. Дом даже подвергся обыску, но, разумеется, ничего найдено не было. Я не сомневался, что в будущем меня ждет полное благоденствие. На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянула полиция. Они еще раз тщательно осмотрели весь дом и прилегающий участок. Впрочем, полностью уверенный в том, что труп спрятан надежно, я не чувствовал ни малейшего смущения. По настоянию офицеров во время обыска я держался рядом с ними. Они осмотрели каждый уголок, каждую нишу. Наконец в третий или четвертый раз они спустились в подвал. Я пошел с ними, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось спокойно, как у спящего праведника. Сложив руки на груди, я неторопливо прохаживался по подвалу. Полностью удовлетворившись, офицеры приготовились уходить. Радость, которую я ощущал на сердце, была слишком сильна, чтобы я мог ее сдержать. Для полноты торжества меня так и подмывало что-нибудь сказать, чтобы их уверенность в моей невиновности удвоилась.
– Господа, – когда офицеры стали подниматься по лестнице, произнес наконец я, – я рад, что сумел развеять ваши подозрения. Желаю вам всего наилучшего, будьте здоровы и чуточку повежливее. Кстати, господа… а дом у меня очень надежный, – испытывая непреодолимое желание произнести что-нибудь непринужденным тоном, я почти не задумывался над тем, что говорю. – Я бы даже сказал изумительно надежный. Эти стены… Вы торопитесь, господа? Эти стены строились на совесть…
И тут, опьяненный бравадой, я с силой постучал тростью по той самой кладке, за которой стоял замурованный труп моей жены.
Да защитит меня Господь от клыков врага рода человеческого! Едва звук удара стих, из глубины склепа мне ответил голос. Плач… Поначалу приглушенный и прерывистый, как нытье ребенка, он быстро превратился в один долгий, громкий, непрекращающийся вопль… совершенно нечеловеческий и жуткий. Пронзительный, исполненный не то безраздельного ужаса, не то безудержного ликования, визг, который мог исходить только из преисподней… Вой, который могут исторгнуть лишь глотки проклятых, обреченных на вечные мучения, и демонов, упивающихся их страданиями.
Глупо говорить, что я почувствовал в тот миг. Покачнувшись, я отпрянул и вжался в противоположную стену. На какой-то миг люди на лестнице замерли, охваченные безотчетным страхом. А в следующее мгновение дюжина крепких рук навалилась на свежую кладку. Стена рухнула, и взору полицейских во весь рост предстал труп, уже сильно разложившийся и весь покрытый запекшейся кровью. На голове его, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседало адское создание, чьи происки подтолкнули меня к убийству и чей предательский голос отправил меня в руки палача. Я замуровал чудовище в склеп вместе с телом!
Делец пер. В. Михалюка
«Во всяком деле нужен порядок»
Старая пословицаЯ – деловой человек, и я люблю, чтобы во всем был порядок. В конце концов, это ведь основа основ. Но больше всего на свете я презираю непроходимых дураков, которые ратуют за порядок, не понимая самой его сути, заботятся о его букве, забывая про его дух. Эти господа постоянно делают что-то из ряда вон, но, как они сами говорят, «по порядку». И я глубоко убежден, что в этом и заключен настоящий парадокс. Истинный порядок присущ обыденному, и не применим ни к чему outré[21]. Могут ли иметь какой-нибудь смысл выражения наподобие «методичный вертопрах» или «систематически блуждающий огонек»?
Мое понимание этого вопроса не было бы столь полным, если бы не один счастливый случай, произошедший со мной в детстве, когда я был еще совсем маленьким. Моя ирландская няня, добрейшая старушка (которую я не забуду упомянуть в своем завещании), однажды, когда я стал производить больше шума, нежели того требовали обстоятельства, взяла меня за лодыжки, прокрутила пару раз в воздухе, да так удачно, что проломила мне голову о стойку кровати. Это решило мою судьбу и в конце концов принесло мне состояние. Удар пришелся как раз в темечко, рядом с тем местом, где расположен орган, отвечающий за порядок. Отсюда и та любовь к системе и порядку, которая превратила меня в того уважаемого делового человека, которым я являюсь сегодня.
Если есть в этом мире что-либо такое, что я действительно ненавижу, так это гении. Все эти гении – настоящие ослы, и чем больше гений, тем больший он осел. Сие правило не содержит исключений. Сделать из гения делового человека так же невозможно, как выпросить у еврея денег или из еловой шишки получить мускатные орехи. Эти существа имеют привычку постоянно перескакивать с одного на другое, посвящая себя тем или иным совершенно фантастическим занятиям, или же предаваясь каким-нибудь смехотворным рассуждениям, что не имеет ничего общего с тем, что называется «слаженностью», и даже противно этому, но только не занимаются делом, что бы мы ни вкладывали в это понятие. Таким образом, этих людей можно без труда определить по характеру их занятий. Если вы когда-нибудь познакомитесь с лавочником или фабрикантом, либо встретите человека, который торгует хлопком, табаком или занимается чем-то подобным, либо человека, который разыгрывает из себя адвоката, кузнеца или врача – иными словами, занимается чем-то необычным, – знайте, что перед вами гений, из чего по тройному правилу[22] следует, что он – осел.
Я никоим образом не отношусь к гениям, я – обычный делец. Мои ежедневник и гроссбух могут это легко подтвердить. Хоть я и говорю сам о себе, но поверьте, они ведутся очень аккуратно, в полном соответствии с моей всегдашней пунктуальностью и любовью к порядку. Замечу, что в этом отношении со мной не сравниться ни одному часовому механизму. Более того, род моих занятий всегда согласуется с привычками моих близких. Не то чтобы я в этом отношении чувствовал себя в долгу перед своими недалекими родителями, которые, вне всякого сомнения, в конце концов сделали бы из меня отъявленного гения, если бы в нужное время мне на помощь не пришел мой ангел-хранитель. Все, что пишут в биографиях, – сущая правда, а в автобиографиях – тем паче. И все же, какими бы искренними ни были мои слова, я не жду, что мне поверят, скажи я, что мой бедный отец, когда мне было всего-то лет пятнадцать от роду, отправил меня в бухгалтерскую контору, где всем заправлял, как он выражался, «очень уважаемый торговец скобяными изделиями, большой человек!». Большой мошенник! Эта затея закончилась тем, что дня через два-три меня отправили обратно к моим тупоголовым родственничкам с жуткой и весьма опасной болью в области темени, как раз вокруг моего органа порядка. Надо сказать, что тогда я чуть не отдал концы. Шесть недель я находился между жизнью и смертью, и врачи отказывались меня лечить. И все же, хоть я и страдал, я был очень благодарным мальчиком. Провидение не позволило мне стать «уважаемым торговцем скобяными изделиями, большим человеком», и я был очень признателен шишке на голове, ставшей моим средством спасения, а также и той доброй женщине, которая снабдила меня этим средством.
Большинство мальчишек сбегают из дому лет в десять – двенадцать, я же дождался, когда мне исполнилось шестнадцать. Но я не могу ручаться, что даже в этом возрасте пошел бы на такой шаг, не услышь я однажды, как моя старенькая матушка выказала желание приучить меня к самостоятельности, определив меня «по бакалейной части». По бакалейной части! Вдумайтесь только! И тогда я твердо решил покинуть отчий дом и заняться каким-нибудь достойным делом, а не плясать под дудку этих стариков, рискуя превратиться в гения. В начинании этом я преуспел с первой же попытки и к восемнадцати годам уже занимался солидным и доходным делом – работал ходячей рекламой одной портновской мастерской.
Я получил возможность влиться в это непростое дело исключительно благодаря своей строгой приверженности к системе, которая являлась моей отличительной чертой. Скрупулезная методичность отличала как мои поступки, так и мою отчетность. В моем случае не деньги, а метод делал человека, по крайней мере, ту его часть, которая не была сделана портными, на которых я работал. Каждое утро ровно в девять я заходил к ним за одеждой, которую должен был носить в тот день. В десять часов утра я уже совершал променад в каком-нибудь парке или другом месте, где любила проводить время модная публика. Исключительная систематичность, с которой я являл на всеобщее обозрение свою статную персону, чтобы, извиваясь то так, то этак, последовательно и в наилучшем свете выставить каждую часть костюма, обтягивающего мою спину и другие части тела, была предметом зависти всех, кто разбирался в этом деле. Еще не наступал полдень, а я уже приводил моим работодателям, господам Пир и Горой[23] свежего заказчика. Говорю я об этом с гордостью, но и со слезами на глазах, потому что за все мои старания они отплатили мне черной неблагодарностью. Ни один человек, который действительно сведущ в этом деле, не назвал бы небольшой счет, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались, завышенным. Впрочем, что касается этого вопроса, я испытываю гордое удовлетворение от того, что могу позволить читателю судить самому. Мой счет выглядел так:
От господ Пир и Горой, портных,
Питеру Наварру, ходячей рекламе. (долл.)
Июля 10 – за променад, как обычно, и привод одного клиента – $ 00,25
Июля 11 – то же, то же, то же – $ 00,25
Июля 12 – за одну ложь второго сорта (всучил клиенту выцветшую черную ткань, выдав ее за желтовато-зеленую) – $ 00,25
Июля 13 – за одну ложь первого сорта экстра-класса (выдал мятую сермягу за шерстяную ткань) – $ 00,75
Июля 20 – за покупку нового бумажного воротничка для рубашки, чтобы лучше оттенить серый шерстяной костюм – $ 00,02
Августа 15 – за ношение короткого сюртука с двойной подкладкой (температура в тени +41°) – $ 00,25
Августа 16 – за три часа стояния на одной ноге для показа нового покроя брюк со штрипками (по 121/2 цента за одну ногу в час) – $ 00,371/2
Августа 17 – за променад, как обычно, и привод большого клиента (толстый мужчина) – $ 00,50
Августа 18 – за то же, то же, то же (средней упитанности) – $ 00,25
Августа 19 – за то же, то же, то же (щуплый и скупой) – $ 00,06
Итого – $ 02,951/2.
Главный спор возник из-за весьма скромной суммы в два цента за бумажный воротничок. Но честью клянусь, тот воротничок стоил этих денег. Я в жизни не видел более чистого и изящного воротничка, к тому же у меня есть основания полагать, что благодаря ему было продано три шерстяных костюма. Старший партнер фирмы соглашался выплатить только один цент, да еще и взялся показывать, как из обычного листа бумаги можно сделать четыре воротничка такого же размера, но стоит ли говорить, что я твердо стоял на своих принципах. Дело есть дело, и подходить к его выполнению надо по-деловому. Какой же это порядок, если тебя надувают на цент? Чистой воды обман на пятьдесят процентов! Системой тут и не пахнет. Разумеется, я немедля покинул заведение господ Пир и Горой и занялся бельмованием. Это одно из самых доходных, уважаемых и независимых занятий, доступных обычному человеку.
И снова мне пригодились мои прямота, расчетливость и холодная деловая хватка. Дело мое процветало, и вскоре я сделался довольно известным человеком в определенных кругах. Все дело в том, что я никогда не опускался до вульгарных приемов в погоне за легкой наживой, а всегда четко придерживался общепринятых правил, существующих в этой почтенной профессии… Профессии, которой я несомненно, занимался бы и по сей день, если бы не один досадный случай, который произошел со мной, когда я проводил очередные обычные деловые операции. Когда какой-нибудь престарелый скупердяй или богатенький наследник-транжира, или разорившееся акционерное общество решает отгрохать себе дворец, ничто в мире не может им в этом помешать, о чем известно каждому умному человеку. Именно благодаря этому факту и существует бельмование, как род деятельности. Когда одна из вышеуказанных сторон приступает к возведению новых чертогов и строительство в самом разгаре, мы, мастера своего дела, покупаем в непосредственной близости от будущей постройки небольшой симпатичный клочок земли или местечко прямо у них под боком, а лучше – перед самым фасадом. Потом дожидаемся, когда дворец будет выстроен наполовину, и платим какому-нибудь архитектору с тонким вкусом, чтобы он построил на нашем участке симпатичную глинобитную хибарку или азиатско-голландскую пагоду, или свинарник, или любой другой живописный домик в эскимосском, кикапусском[24] или готтентотском стиле. Разумеется, мы не можем позволить себе снести это строение даже за вознаграждение в размере пятисот процентов от суммы, потраченной на его постройку и покупку участка, не так ли? Скажите на милость, прав я или нет? Я хочу услышать ответ делового человека. Совершенно неразумно даже предполагать, что мы могли бы принять подобное предложение. И все же сыскалась одна корпорация, свора мошенников, которая предложила мне такое. Да-да, верьте или нет! Разумеется, я не удостоил ответа их абсурдное предложение, и для меня было делом чести той же ночью пойти и вымазать весь их дворец сажей, за что эти пустоголовые мерзавцы меня же еще и упекли за решетку, после чего мои коллеги, занимающиеся бельмованием, когда я вышел, вынуждены были прервать со мной знакомство.
Боконаминательство, которым мне после этого пришлось заняться, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, не очень подходило мне по причине деликатности моего телосложения. И все же я взялся за это дело с душой и с все той же методичностью и аккуратностью, которую вбила мне в голову моя чудесная няня (в самом деле, я сам перестану себя уважать, если не упомяну ее хорошенько в моем завещании). Так вот, подчиняя строжайшей системе все свои поступки и неукоснительно соблюдая правила ведения отчетности, я сумел избежать многих серьезных трудностей и в скором времени добился признания в этой области. По правде говоря, если уж я брался за какое-то дело, мало кто мог со мной тягаться. Но я лучше приведу пару страниц из своего журнала, чтобы не петь дифирамбы самому себе (сие презренное занятие не достойно человека возвышенного). Журнал – это ведь такая штука, которая не обманет.
«Января 1 – Новый год. Встретил на улице Хлопа, навеселе. Памятка: подойдет. Вскоре встретил Груба, в стельку. Памятка: тоже ответит. Записал обоих господ в гроссбух и открыл каждому текущий счет.
Января 2 – Увидел Хлопа у биржи, подошел и наступил на палец. Кулаком сбил меня с ног. Отлично! Поднялся. Небольшие затруднения с Кошелем, моим адвокатом. Хочу за ущерб тысячу, но он говорит, что за простое сбитие с ног больше пятисот с них не взять. Памятка: надо избавиться от Кошеля – не систематичен.
Января 3 – Пошел в театр найти Груба. Увидел его в ложе во втором ряду между толстой дамой и тощей дамой. Разглядывал всех троих через театральный бинокль, пока толстая дама не покраснела и не прошептала что-то Г. После этого пошел в ложу и подставил нос ему под руку. Не сработало – не дернул. Высморкался и снова подставил. Опять не сработало. Тогда сел и начал подмигивать тощей даме. На этот раз повезло – к моему величайшему удовлетворению он поднял меня за шиворот и вышвырнул в партер. Вывих шеи и отменный перелом правой ноги. Вернулся домой в прекрасном настроении, выпил бутылку шампанского и записал на молодого человека пять тысяч. Кошель думает, что дело выгорит.
Февраля 15 – Пошел на уступки с мистером Хлопом. Пятьдесят центов оприходовано. (См. гроссбух.)
Февраля 16 – Сброшен с лестницы этим негодяем Грубом, который заплатил пять долларов. Судебные издержки – четыре доллара двадцать пять центов. Общий доход – двадцать пять центов (см. гроссбух)».
То есть, чистый доход, за очень короткое время, ни много ни мало, один доллар двадцать пять центов, и это только по Хлопу и Грубу! Я клятвенно заверяю читателя, что эти примеры были взяты из моего журнала наугад.
Но, как истинно глаголет старая пословица, лучше быть здоровым, чем богатым. Вскоре я понял, что издержки, связанные с этой профессией, не слишком полезны для моего хрупкого тела. Поняв в один прекрасный день, насколько я уже измочален, так что друзья, встречаясь со мной на улице, перестали узнавать во мне Питера Наварра, я пришел к выводу, что лучше всего для меня – это заняться другим делом. И тогда я обратил свое внимание на грязеляпанье, которому и посвятил несколько следующих лет.
Самое худшее в этой профессии то, что слишком много людей находит ее привлекательной, в связи с чем существует очень сильная конкуренция. Каждый неуч, поняв, что у него не достаточно мозгов, чтобы сделать себе карьеру в качестве ходячей рекламы, преуспеть в бельмовании или достичь высот на ниве боконаминательства, конечно же, решает, что он без труда справится с грязеляпаньем. Но нет заблуждения более серьезного, чем думать, будто для того, чтобы ляпать грязью, не нужны мозги. И особенно в этом деле важна методичность. Сам я занимался этим от случая к случаю, тем не менее, благодаря свойственному мне системному подходу дела у меня шли как по маслу. Во-первых я очень тщательно подобрал уличный переход и ни разу не поднял метлу ни в одном другом месте города, кроме как там. К тому же я позаботился, чтобы под рукой всегда имелась симпатичная лужица, которой я мог воспользоваться в любую секунду. Благодаря этому я сделался человеком, которому стали доверять, а для занятия грязеляпаньем – это залог успеха, уж вы мне поверьте. Не было такого прохожего, который, бросив мне медяк, не перешел бы мою улицу с совершенно чистыми панталонами. Поскольку всем были известны мои деловые привычки в этом отношении, жульничать не пытался никто. Подобного я бы не потерпел. Я сам никого не обманывал, поэтому и со мной считались все. Но, когда тебе на пятки наступают банки, разве тут развернешься? Они доставляли мне страшные неудобства. Но это ведь не люди, это безликие корпорации, у которых, как хорошо известно, нет ни тел, которые можно было бы поколотить, ни душ, которые можно было бы предать проклятию.
Я продолжал трудиться на этом поприще, пока в один злосчастный день мне не пришлось соединить его с собакообтирательством, весьма сходным, но далеко не таким уважаемым занятием. Правда работал я в капитальном месте – самый центр города, вакса и щетка у меня были отменные, а собачонка – лучше и не надо, толстая и привычная ко всем видам обнюхивания. Этот пес уже давно был в деле и явно понимал это. Обычно мы с Помпи работали по такой схеме: он, хорошенько вывалявшись в грязи, садился чуть поодаль у двери в магазин и дожидался, пока не появится какой-нибудь щеголь в начищенных сапогах. Затем направлялся ему навстречу и пару раз хорошенько вытирался о его ноги. После этого щеголь сильно ругался, начинал крутить головой в поисках чистильщика обуви и видел меня, с ваксой и щетками. Минута работы, и я получал шесть центов. Какое-то время дело у нас спорилось. Я работал честно и не жадничал… Чего нельзя сказать о моей собаке. Поначалу я отдавал ему треть дохода, но кто-то посоветовал ему требовать половину. Я на это пойти не мог, поэтому мы разругались и в конечном итоге расстались.
Потом я какое-то время крутил шарманку и могу сказать, весьма преуспел в этом деле. Это честная, простая профессия, не требующая особенных навыков или мастерства. Все что нужно, это раздобыть механизм, играющий какую-нибудь приятную мелодию, и довести его до ума: открыть коробку и три-четыре раза хорошенько стукнуть по нему молотком. Вы представить себе не можете, насколько это улучшает звучание инструмента с точки зрения прибыльности! После этого все, что от вас требуется, это с шарманкой на плече выйти на улицу и гулять, пока вам не попадется дом с дверным молотком, обтянутым кожей, перед которым мостовая засыпана соломой. Тут вы останавливаетесь и крутите шарманку, причем делаете это с таким видом, будто намерены простоять там до Судного дня. Через какое-то время открывается окно, и вам бросают шестипенсовик с просьбой: «Заткнись и проваливай» и так далее. Мне известно, что некоторые шарманщики действительно «проваливают» за означенную сумму, но, что касается меня, то лично я считаю, что занятие таким родом деятельности требует слишком больших вложений, чтобы можно было позволить себе «провалить» менее чем за шиллинг.
С работой этой я справлялся очень даже неплохо, но она не приносила мне должного удовлетворения, и в конце концов я от нее отказался. Правда в том, что трудился я в невыгодных условиях: у меня не было обезьянки. К тому же американские улицы ужасно грязны и полны несносных озорных мальчишек, не говоря уже о том, насколько навязчива демократическая чернь.
На несколько месяцев я остался без работы, но через какое-то время устроился при фальшивой почте, ибо уж очень меня это дело интересовало. Занятие это не сложное и приносит кое-какой доходец. Ну вот, к примеру, рано утром я готовлю партию фальшивых писем. В каждом пишу несколько строчек на любую отвлеченную тему (каждое послание я подписывал «Том Добсон» или, скажем, «Бобби Томпкинс» или что-либо в таком духе), потом складываю листики, запечатываю их сургучом, ставлю фальшивые штемпели каких-нибудь далеких мест, наподобие Нового Орлеана, Бенгалии или Ботани-Бея, и отправляюсь на обход. Выбирая дома побольше, я вручаю письма, получаю плату за доставку и, делая вид, что очень тороплюсь, удаляюсь. Все платят, не задумываясь, особенно за двойные письма (люди такие доверчивые!), и, пока конверт распечатывается, у меня предостаточно времени, чтобы завернуть за угол. Самое неприятное в этой профессии – это то, что нужно все время много и быстро ходить и постоянно менять маршрут. Кроме того, меня мучили угрызения совести. Я терпеть не могу, когда поносят ни в чем не повинных людей, и для меня было настоящей пыткой слышать, как весь город призывает громы небесные на головы Тома Добсона и Бобби Томпкинса. В конце концов занятие это у меня стало вызывать отвращение и я оставил его.
Мое восьмое и последнее предприятие связано с разведением кошек. Это занятие я нашел весьма приятным и доходным, и, право же, оно не доставляет мне ровным счетом никаких хлопот. Как известно, наша страна просто наводнена кошками. Дело дошло до того, что на недавнем собрании Законодательный совет получил петицию, подписанную многими уважаемыми членами общества, с просьбой навести порядок с засильем этих зверьков. Ассамблея на сей раз оказалась прекрасно информирована о состоянии дел и, приняв несколько других умных и важных постановлений, увенчала заседание принятием «Кошачьего акта». В первоначальном варианте законопроекта награду предлагалось выплачивать за кошачьи головы (четыре пенса за штуку), однако сенат внес поправку, согласно которой слово «головы» было заменено на слово «хвосты». Поправка показалась столь уместной, что совет принял ее nem. con.[25]
Как только губернатор штата подписал билль, я тут же вложил все свое состояние в приобретение котов и кошек. Сначала я мог кормить их только мышами (они дешевы), но питомцы мои так усердно принялись исполнять известное библейское предписание, что в скором времени мне уже не было нужды экономить, и я перевел их на устриц и черепашье мясо. Теперь их хвосты, которые я сдаю по цене, оговоренной в законе, приносят мне весьма недурной доходец, поскольку я нашел способ при помощи макассарского масла собирать по три урожая в год. Более того, к моей великой радости, животные вскоре привыкли к отрезанию хвостов и теперь охотнее обходятся без этих совершенно ненужных им придатков, чем с ними. Теперь я считаю себя человеком состоявшимся и сейчас занят тем, что торгую себе теплое местечко на Гудзоне.
Бес противоречия пер. В. Михалюка
В рассмотрении способностей и импульсов, этих prima mobila[26] человеческой души, френологи[27] оставили без внимания ту предрасположенность, которая, хоть, несомненно, и существует в виде коренного, примитивного, неодолимого чувства, так же была не замечена предшествующими им моралистами. Надменность, присущая разуму, никому из нас не позволяет замечать ее. Сия предрасположенность проявляется, когда возникает необходимость освободиться от чувств, исключительно посредством нехватки доверия… веры, будь то вера в Откровение или вера в Каббалу. Мысль эта не приходит нам в голову просто по причине ее избыточности. Мы даже не видим надобности в побуждении к этой предрасположенности. Ее необходимость для нас непостижима. Мы не понимаем, вернее сказать, не смогли бы понять, если бы этот перводвигатель каким-то образом проявил себя; не смогли бы понять, как, каким образом его работа может способствовать исполнению предназначения человечества, как сиюминутного, так и вечного. Нельзя отрицать, что френология, и еще в большой степени вся метафизика, были состряпаны a priori[28]. Интеллектуал, или человек, мыслящий логически, скорее, чем человек сообразительный или наблюдательный, принимается строить планы… иными словами, диктует Богу свою волю. Удовлетворившись полученным подобным образом представлением о намерениях Иеговы, на основании этих намерений он выстраивает многочисленные системы разума. К примеру, с позиций френологии, вначале мы (и это вполне естественно) определили, что по замыслу Создателя человек должен питаться. Исходя из этого, мы установили наличие у человека органа, отвечающего за аппетит, и орган этот является тем бичом, которым Бог принуждает человека, независимо от его собственной воли, хотеть есть. Затем, решив, что по Божьей воле человек должен продолжать свой род, мы незамедлительно обнаружили орган, отвечающий за эротизм. То же самое произошло с воинственностью, воображением, причинностью, творческим началом, короче говоря, со всеми органами, отвечающими либо за склонности, либо за нравственность, либо за чистый разум. И в этом разнообразии principia[29], отвечающих за поведение человека, последователи Шпурцгейма[30] (правы они или не правы, частично или полностью), в принципе, всего лишь идут по тропе, протоптанной их предшественниками: выводят и устанавливают наличие всего из предначертанной заранее судьбы человека и на основании целей, преследуемых его Создателем.
Было бы мудрее и безопаснее классифицировать (если мы обязаны классифицировать) на основании того, что человек обычно или порой совершал в прошлом и совершает всегда, чем на основании того, что, как мы считаем, суждено ему по замыслу Бога. Если мы не в состоянии понять Господа по его зримым творениям, можем ли мы уразуметь его по тем непостижимым помыслам, которые вызвали к жизни сии творения? Если мы не в состоянии понять Господа по его объективным созданиям, можем ли мы уразуметь его по свободным настроениям и фазам созидания?
Сие введение a posteriori[31] могло бы заставить френологов принять как врожденный и примитивный принцип человеческого поведения парадоксальное нечто, которое за неимением более подходящего термина можно назвать извращенностью. В том смысле, который в это вкладываю я, фактически, это – mobile[32] без мотива, мотива, а не motivirt[33]. По его подсказке мы действуем без какой-либо видимой цели; или (хоть это и покажется противоречием в терминах) утверждение это можно выразить иными словами: по его подсказке мы совершаем поступки, потому что понимаем, что так поступать нельзя. В теории нет ничего более бессмысленного, но на практике мотива более сильного не существует. Некоторые умы при определенных обстоятельствах совершенно не в состоянии этому противиться. Я ни капли не сомневаюсь в том, что уверенность в неправедности или ошибочности каких-либо поступков часто является той неодолимой силой, которая побуждает нас к действию. Также эта поразительная склонность творить зло (если называть злом все то, что не входит в рамки «правильности») ради самого зла не поддается анализу, или расчленению на скрытые элементы. Это врожденный импульс, которому невозможно противиться. Знаю, мне возразят, что, когда мы упорствуем в поступках, поскольку знаем, что упорствовать в них нельзя, поведение наше является ничем иным, как порождением того, что во френологии зовется воинственностью. Но эта идея ошибочна, в чем не трудно убедиться. Френологическая воинственность обусловлена необходимостью самозащиты. Это – забрало, предохраняющее нас от травм и ран. Ее суть имеет отношение к нашему здоровью, поэтому желание быть здоровым возбуждается одновременно с ее развитием. Из этого следует, что желание быть здоровым неизменно должно сопровождаться тем или иным принципом, который будет всего лишь модификацией воинственности, но в том случае, когда речь идет о том, что я называю извращенностью, не только не возникает желания быть здоровым, но и имеет место стремление совершенно противоположное.
Впрочем, обращение к собственному сердцу будет лучшим ответом всей этой софистике. Любой, кто доверяет своей душе и ищет в ней ответы, не станет отрицать радикальный характер обсуждаемой предрасположенности. Она так же непостижима, как и очевидна. Нет такого человека, которого, к примеру, никогда не терзало страстное желание измучить слушателя многоречивостью. Говорящий понимает, что этим доставит неудовольствие; он искренне желает радовать, обычно он выражается коротко, четко и понятно, слова, готовые сорваться с его языка, лаконичны и доходчивы, но лишь с большим трудом ему удается сдерживать себя. Его страшит гнев того, к кому он обращается, душа его противится этому, и все же у него появляется мысль, что выспренностью слога и отступлениями от темы гнев этот можно пробудить. Одной этой мысли достаточно. Импульс превращается в охоту, охота – в желание, желание – в неудержимую жажду, и жажда эта (к огромному сожалению и величайшей досаде говорящего, и невзирая на последствия) удовлетворяется.
Перед нами задача, которую нужно выполнить как можно быстрее. Мы знаем, что откладывать это губительно. Важнейший миг нашей жизни громогласно взывает, требуя немедленного действия. Мы загораемся, нас снедает смертная охота исполнить эту работу прямо сейчас, и душа наша кипит в предвкушении великолепного результата. Работу обязательно надо выполнить именно сегодня! И все же мы откладываем ее до завтра. Почему? Другого ответа нет, кроме как: потому что в нас просыпается дух извращенности, если использовать это слово, не понимая принципа, который за ним стоит. Наступает следующий день, и с ним возникает еще более жгучее стремление исполнить свой долг, но с возросшей жаждой действий приходит безымянное и вселяющее страх своей непостижимостью желание снова отложить дело до завтра. Желание это с каждой секундой набирает силу. Близок тот час, когда отведенное нам время истечет, и уже будет поздно браться за работу. Мы трепещем от страшной борьбы, происходящей внутри нас, от противостояния определенного и неопределенного, от борьбы вещества и тени. Однако, если противоборство не закончилось до сих пор, то побеждает тень… Борьба была напрасной. Часы бьют урочный час, и мы слышим похоронный звон по нашему благоденствию. В то же время это chanticleer[34], сигнал призраку, который так долго держал нас в благоговейном страхе. Он улетучивается, исчезает, мы свободны. Былая энергичность возвращается. Мы готовы взяться за работу… Но увы! Уже слишком поздно.
Мы стоим на краю пропасти. Мы всматриваемся в бездну… У нас начинает кружиться голова, подступает тошнота. Наш первый порыв – отпрянуть от опасного места. Но почему-то мы остаемся. Понемногу тошнота, головокружение и ужас сливаются в единое облако не имеющего названия ощущения. Постепенно, так что превращения и не заметишь, облако это начинает принимать определенные очертания, как в сказках «Тысячи и одной ночи» дым из бутылки сгущается в джинна. Но наше облако на краю бездны принимает образ, приобретает очертания несоизмеримо более страшные, чем любой джинн, любой сказочный демон, и все же это не более, чем мысль, хоть и пугающая, хоть и заставляющая сжаться сердце от невыносимого ожидания сладости ее ужаса. Это мысль о том, какие мы испытаем ощущения во время головокружительного падения с подобной высоты. Именно по той причине, что во время этого низвержения, этого стремительно приближающегося полного уничтожения, возникает тот самый отвратительный, самый жуткий из всех отвратительных и жутких образов гибели и страданий, который являлся нам в помыслах, именно по этой причине мы желаем его больше всего на свете. И поскольку разум наш яростно пытается оттолкнуть нас от края пропасти, мы, охваченные порывом, делаем еще один шаг вперед. В природе не существует чувства более неистового, чем та демоническая страсть, которая безраздельно охватывает стоящего на краю пропасти и борющегося с желанием броситься вниз. Хоть на миг поддаться желанию означает гибель. Здравый смысл требует воздержаться от этого, и именно поэтому мы не можем не поддаться искушению. Если нас не одернет рука друга, или если мы последним напряжением воли не сумеем вырваться из этих объятий и не падем навзничь перед лицом бездны, мы делаем последний шаг вперед и погибаем.
Можно по-разному анализировать подобные действия, но неизменно мы будем приходить к выводу, что причиной их является дух извращения. Мы совершаем их, потому что понимаем, что не должны этого делать. За ними не стоит никакого другого постижимого умом принципа, и мы могли бы приписывать сию извращенность прямому наущению злого духа, если бы иногда они не содействовали добру.
Я сказал все это, дабы в какой-то мере ответить на ваш вопрос, дабы объяснить, почему я здесь, и оставить вам хотя бы призрачное понимание того, почему на мне эти оковы, и почему я нахожусь в этой камере смертников. Не будь я столь многословен, вы могли бы либо вовсе не понять меня, либо вслед за толпой счесть меня сумасшедшим. Но теперь вы наверняка поймете, что я – всего лишь очередная жертва демона извращенности.
Никакое дело не продумывалось основательнее. Недели, месяцы я готовился к убийству. Я измыслил и отмел тысячи планов, потому что их выполнение могло навлечь подозрение на меня. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я наткнулся на описание едва не закончившейся смертью болезни мадам Пило, причиной которой была случайно оставленная свеча. Мое воображение тотчас разыгралось. Я знал о привычке моей жертвы читать в постели. К тому же мне было известно, что у него небольшая и плохо проветриваемая спальня. Впрочем, мне нет нужды утомлять вас неуместными подробностями. Мне нет нужды описывать те несложные приемы, при помощи которых я подменил подсвечник и оставил в его комнате восковую свечу собственного изготовления. На следующее утро его нашли мертвым в кровати, и вердикт коронера[35] гласил: «Скончался волей Божией».
Я унаследовал его состояние, и несколько лет все было спокойно. За все это время мысль о том, что меня раскроют, ни разу не посещала меня. Остатки смертоносной свечи я уничтожил собственноручно. Я не оставил ни единой улики, которая могла бы вывести на мой след или даже бросить на меня хотя бы тень подозрения. Невозможно описать, какое радостное удовлетворение испытывал я, думая о том, насколько безопасно мое существование. За долгое время я привык наслаждаться этой мыслью. Она приносила мне куда больше радости, чем все те мирские удовольствия, которые стали доступны мне благодаря моему греху. Но через время наступила пора, когда приятное ощущение незаметно превратилось в навязчивую, изнуряющую мысль. Она изматывала, потому что не покидала меня, не оставляла ни на секунду. Часто мы испытываем подобное раздражение от звона в ушах или зуда в памяти, когда снова и снова вспоминаем какую-нибудь примитивную песенку или невыразительный фрагмент из оперы. Мы бы меньше страдали, если хотя бы песня та была хорошей или опера – достойной. Наконец я стал все чаще замечать, что все время думаю о безопасности и постоянно повторяю про себя: «Мне ничто не грозит».
Однажды, прогуливаясь по улице, я поймал себя на том, что бормочу вполголоса эти ставшие привычными слова. В раздражении я переиначил их: «Мне ничто не грозит… Ничто… Да… Если я не совершу глупость и сам не сознаюсь в содеянном!»
И едва слова эти сорвались с моих уст, я почувствовал, как ледяной холод стал вползать в мое сердце. Не впервой мне было чувствовать эти припадки извращенности (природу которой я так старательно объяснял), и я прекрасно помнил, насколько бессилен я перед ними. С тех пор подброшенная самому себе мысль совершить глупость и сознаться в убийстве превратилась в наваждение, стала преследовать меня, словно призрак того, кого я погубил… и привела к смерти.
Сначала я попытался стряхнуть с души этот ужас. Я решительно пошел вперед… быстрее… потом еще быстрее… наконец я побежал. Внутри возникло бешенное желание закричать во все горло. Каждая новая волна мыслей наполняла меня все большим ужасом, ибо я слишком хорошо понимал, что думать в моем положении было равносильно смерти. Я все еще ускорял шаг, я словно безумный мчался через запруженные улицы, расталкивая людей, пока не поднялась тревога, и за мной не бросились в погоню. И тогда я почувствовал, что наступил конец. Если бы я мог вырвать себе язык, я бы вырвал его, но грубый голос опять зазвучал у меня в ушах. Еще более грубые руки впились мне в плечи. Задыхаясь, я повернул голову. На короткий миг я почувствовал муки удушья. Я побледнел, перестал слышать, у меня закружилась голова, и тогда мне показалось, что какой-то невидимый дьявол хлопнул меня широкой ладонью по спине. Тайна, так долго хранившаяся, вылетела из моей души.
Рассказывают, что слова я произносил очень отчетливо, только слишком громко и в безудержной спешке, словно боясь, что меня прервут, прежде чем я успею произнести все короткие, емкие предложения, которые привели меня к палачу и скоро отправят в ад.
Высказав все, что было необходимо для того, чтобы на суде меня признали виновным, в беспамятстве я распростерся на земле.
Но зачем мне еще что-то говорить? Сегодня я здесь, и в цепях! Завтра я буду свободен… Но где?
Ты еси муж, сотворивший сие пер. В. Михалюка
Сейчас я сыграю роль Эдипа[36] для загадки Гвалтвилла. Я открою вам… поскольку кроме меня этого сделать некому… тайные механизмы чуда, случившегося в Гвалтвилле; неповторимого, истинного, признанного, бесспорного и неоспоримого чуда, которое положило конец недоверию жителей Гвалтвилла и ввергло в старушечье суеверие всех тех преисполненных плотских помыслов, которые прежде упорствовали в скептицизме.
Событие это… которое мне не хотелось бы обсуждать неуместным приподнятым тоном… произошло летом 18… года. Итак, суть дела такова. Мистер Барнабас Челнокс, один из самых богатых и уважаемых людей города, исчез на несколько дней, что породило волну недобрых слухов. Одним субботним утром, очень рано, мистер Челнокс верхом выехал из Гвалтвилла, объявив, что собирается съездить в расположенный в полутора десятках миль соседний городок и вернуться в тот же день вечером. Однако спустя два часа лошадь его прискакала обратно одна, без седока и без седельных вьюков, которые изначально были пристегнуты к ее спине. Кроме того, животное было ранено и все в грязи. Это обстоятельство, разумеется, очень взволновало друзей пропавшего, и когда он не объявился и в воскресенье, весь городок en masse[37] отправился на поиски его тела.
В первых рядах шел человек, громче других ратовавший за организацию поисков, это был близкий друг мистера Челнокса, некий мистер Чарлз Друггинс, которого все называли не иначе, как «Чарли Друггинс» или «старина Чарли Друггинс». И то ли это чудесное совпадение, то ли имя в самом деле оказывает какое-то влияние на характер человека (мне пока что не удалось этого выяснить), но не вызывает сомнения тот факт, что в мире нет ни одного Чарлза, который не был бы открытым, мужественным, честным и добрым малым с большим сердцем, густым и чистым голосом, слушать который – одно удовольствие, и прямым взором, словно бы возвещавшим: «Совесть моя чиста, бояться мне нечего, и вообще я выше всякой низости». Посему в театрах всех приветливых, беззаботных статистов чаще всего и зовут Чарлз.
Так вот, «старине Чарли Друггинсу», хоть он и объявился в Гвалтвилле не больше шести месяцев или около того назад и до этого никто о нем и слыхом не слыхивал, было совсем не трудно перезнакомиться со всеми уважаемыми людьми в городе. Любой мужчина под честное слово готов был ссудить ему хоть тысячу, а уж, что касается женщин, трудно сказать, на что они ни были готовы, лишь бы угодить ему. И все это из-за того, что звали его Чарлз, и, соответственно, лицо у него было того своеобразного типа, который, как говорится, «лучше любого рекомендательного письма».
Я уже упоминал, что мистер Челнокс был одним из самых уважаемых людей в Гвалтвилле, но, кроме этого, он, вне всякого сомнения, был и самым богатым среди них, что не помешало «старине Чарли Друггинсу» сойтись с ним на такую короткую ногу, будто он был ему родным братом. Жили они по соседству, и хоть мистер Челнокс редко когда бывал у «старины Чарли» и даже ни разу не вкусил с его стола, это не мешало двум джентльменам водить весьма тесную дружбу, как я только что отметил, поскольку «старина Чарли» каждый божий день по три-четыре раза наведывался к соседу узнать, как у него дела, и частенько задерживался у него на завтрак или на чай, а уж на обед – так почти всегда, и я не берусь определить, сколько вина выпивали закадычные друзья во время этих встреч. «Старина Чарли» всем остальным маркам предпочитал «Шато Марго», и мистеру Челноксу, похоже, доставляло истинное удовольствие видеть, как он поглощает его кварта за квартой, поэтому в один прекрасный день, когда вино текло рекой, а разум, что вполне естественно, с такой же скоростью улетучивался, он обратился к товарищу, хлопнув его по спине:
– Вот что я тебе скажу, старина Чарли, ты – самый душевный парень из всех, кого я встречал на своем веку, и, раз уж вино это тебе так по нраву, гореть мне в аду, если я не подарю тебе целый ящик «Шато Марго», черт тебя дери! – Мистер Челнокс имел нехорошую привычку сопровождать свою речь крепким словцом, хотя и редко когда выходил за рамки «Черт тебя дери!», «Дьявол!» или «Пропади все пропадом!». – Да провалиться мне, – восклицает он, – если я сегодня же не закажу в городе двойной ящик и не сделаю тебе подарок!.. И не возражай, я это сделаю!.. Слово даю, пропади оно пропадом! Так что будь готов, жди посылочку. И придет она как раз тогда, когда ты будешь меньше всего ее ждать!
Я привожу этот небольшой пример проявления щедрости мистера Челнокса исключительно ради того, чтобы показать вам, насколько полным было взаимопонимание двух друзей.
Итак, утром означенного воскресенья, когда стало окончательно ясно, что с мистером Челноксом что-то случилось, я не видел никого, кто был бы более взволнован, чем «старина Чарли Друггинс». Услышав, что лошадь вернулась домой без хозяина, без седельных вьюков и вся в крови от пистолетного выстрела (пуля насквозь пробила грудь несчастного животного, но не убила его на месте), услышав все это, он побледнел так, будто пропавший был его любимым братом или отцом, весь задрожал и затрясся, словно в приступе лихорадки.
Поначалу горе его было слишком велико, он оказался просто не в состоянии что-либо предпринять или составить какой-нибудь план действий, почему и стал убеждать других друзей мистера Челнокса не поднимать шума и выждать какое-то время – скажем, недельку-другую или месяц-другой – авось, что-то прояснится, или сам мистер Челнокс объявится естественным путем и разъяснит, что случилось с его лошадью, и почему он отправил ее домой одну в таком виде. Осмелюсь заметить, что довольно часто люди, охваченные глубоким душевным страданием, занимают подобную выжидательную позицию и тянут до последнего. Разум их как будто впадает в спячку, из-за чего ничто не страшит их больше, чем необходимость действовать, и все, чего им больше всего хочется в такие минуты, – это лечь в постель и «предаться горю», как говорят старухи, иными словами, обдумать что произошло.
Жители Гвалтвилла придерживались столь высокого мнения о мудрости и прозорливости «старины Чарли», что большинство посчитало за лучшее с ним согласиться и не поднимать шума, пока «что-то не прояснится», как высказался сей почтенный господин. Я полагаю, что его настроение передалось бы всем остальным, если бы не весьма подозрительное вмешательство племянника мистера Челнокса, молодого человека беспорядочных привычек, наделенного к тому же прескверным характером. Племянник этот, фамилия которого была Пошл, отказался «предаваться горю» и стал настаивать на организации незамедлительных поисков «трупа убитого». Именно так он и выразился, на что мистер Друггинс резко заметил, что это «мягко говоря, весьма странное выражение». Слова самого мистера Друггинса возымели большое действие на собравшихся, и кто-то из толпы значительным голосом поинтересовался: «А откуда это юному мистеру Пошлу столько известно обо всех обстоятельствах исчезновения богатого дядюшки, что он берет на себя смелость во всеуслышание и с полной уверенностью утверждать, что он-де убит?» Тут среди собравшихся наметился некоторый раскол, послышались даже несдержанные слова, особенно со стороны «старины Чарли» и мистера Пошла, чему, впрочем, никто не удивился, поскольку последние три или четыре месяца отношения между этими господами были очень натянутыми. Дело дошло даже до того, что мистер Пошл как-то сбил с ног друга своего дяди за чрезмерную вольность, которую тот якобы позволил себе в доме дяди, где племянник квартировал. Говорят, что, когда это произошло, «старина Чарли», проявил исключительную выдержку и христианское смирение. Он поднялся, оправил костюм и не стал отвечать обидчику, всего лишь пробормотал несколько недовольных слов, что-то вроде «ну ничего, ты у меня еще попляшешь» – естественное и вполне оправданное в данной ситуации проявление гнева, – которые, впрочем, наверняка ничего не значили и, вне всякого сомнения, через минуту забылись.
Как бы то ни было, все это не имеет никакого отношения к рассматриваемому происшествию. Жители Гвалтвилла, в основном по наущению мистера Пошла, в конце концов решили разойтись и незамедлительно приступить к поискам пропавшего мистера Челнокса. Я хочу сказать, что таково было их первоначальное решение. Когда стало окончательно понятно, что поиски все же начнутся, все посчитали как бы само собой разумеющимся, что для более тщательного осмотра округи нужно разойтись, другими словами, разбиться на группы. Однако, хоть я и не могу припомнить, какими были его доводы, но «старине Чарли» каким-то образом удалось убедить собрание, что более неразумного плана действий нельзя и придумать. Тем не менее он их убедил (всех, кроме мистера Пошла), и в конечном итоге было принято решение, что очень тщательные и внимательные поиски будут проводиться en masse, и под предводительством самого «старины Чарли».
Ну а уж лучшего разведчика, чем «старина Чарли» было не сыскать – все прекрасно знали, что глаз у него острее орлиного. Однако, хоть он и провел их по самым потаенным уголкам и провалам, о существовании которых никто до этого даже и не подозревал, несмотря на то что поиски почти неделю не прекращались ни днем, ни ночью, следов мистера Челнокса так и не нашли. Когда я говорю «следов», меня не надо понимать буквально, поскольку следы-то как раз были. Путь несчастного господина удалось проследить по отпечаткам подков его лошади (они несколько отличались от обычных подков) до места примерно в трех милях к востоку от Гвалтвилла на главной дороге, ведущей к соседнему городу. Там следы сворачивали на тропинку, которая шла через рощу и, сокращая путь примерно на полмили, снова выводили на основную дорогу. Следуя по этой тропинке, отряд искателей наконец вышел к стоячему озерцу по правую руку от пути следования, добрая половина которого была скрыта зарослями ежевики, и рядом с этим озером следы подков терялись. Однако определенные знаки указывали на то, что в этом месте произошла какая-то борьба, похоже, какое-то большое и тяжелое тело (намного больше человеческого) оттащили с тропинки к озеру. Дно озера дважды было прочесано, но безрезультатно, в нем ничего так и не нашли, и отряд, отчаявшись, уже хотел было уходить, но тут провидение подсказало мистеру Друггинсу мудрую мысль – полностью осушить озеро. План этот был воспринят на ура, а «старина Чарли» прозорливостью и смекалкой заслужил немало лестных слов. Поскольку многие из горожан захватили с собой лопаты, посчитав, что им, возможно, придется эксгумировать тело, осушение прошло без затруднений и времени отняло немного. Как только обнажилось дно, в оставшейся грязи, в самой середине илистой воронки, был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствующие сразу признали собственность мистера Пошла. Жилет этот был сильно изодран и весь в пятнах крови. Кое-кто из искателей совершенно точно вспомнил, что он был на своем владельце в то утро, когда мистер Челнокс отправился в соседний город. Нашлись и те, кто был готов в случае надобности под присягой подтвердить, что не видели на мистере П. этого предмета одежды в течение остальной части того памятного дня, и не было положительно никого, кто сказал бы, что видел его на мистере П. за все время, прошедшее с исчезновения мистера Челнокса.
Для мистера Пошла дело начало приобретать очень нехороший оборот. Было замечено и воспринято как неоспоримое подтверждение возникших на его счет подозрений то, что он сильно побледнел, а когда его спросили, что он может сказать в свою защиту, молодой человек не смог из себя выдавить ни слова. Вслед за этим те несколько друзей, которых его разгульный образ жизни еще не оттолкнул от него, все до единого тут же отвернулись от племянника исчезнувшего богача и стали даже громче его старинных и открытых врагов требовать незамедлительного ареста. Впрочем, в этом свете великодушие, проявленное мистером Друггинсом, засверкало только ярче. Он произнес короткую, мягкую и в то же время очень убедительную речь в защиту мистера Пошла, в которой не раз упомянул о том, что лично он искренне прощает несдержанного молодого человека – «наследника достопочтенного мистера Челнокса» – за ту обиду, которую он (молодой человек), несомненно, поддавшись пылу страсти, посчитал возможным нанести ему (мистеру Друггинсу). «Он простил его за это, – сказал он, – совершенно искренне и от всего сердца, а что касается его самого (мистера Друггинса), то он, вопреки крайне подозрительным обстоятельствам, бросающим тень на мистера Пошла, которые, к его (мистера Друггинса) крайнему сожалению, обнаружились в этом деле, сделает все, что в его силах, употребит все те скромные ораторские способности, которыми он наделен, чтобы… чтобы… чтобы… попытаться сгладить самые острые углы этого действительно очень запутанного дела».
Еще с полчаса продолжал он в том же духе, после чего, если у кого-то из его слушателей и оставались какие-то сомнения в искренности и мудрости мистера Друггинса, они отпали. Но, вы же знаете этих людей с большим сердцем, порой их захватывает такое страстное желание помочь ближнему, что они невольно теряют нить разговора, допускают массу всевозможных ошибок, досадных contretemps[38] и mal aproposisms[39], чем, часто с самыми добрыми намерениями, приносят несоизмеримо больше вреда, чем пользы.
В своей пламенной речи не избежал этого и «старина Чарли», поскольку, хоть он изо всех сил старался помочь подозреваемому, как-то само собой получилось, что каждое произнесенное им слово, которое, хоть и неосознанно, но прямо было направлено на то, чтобы внушить его уважаемым слушателям мысль о скромности оратора, лишь усилило подозрение, уже павшее на его подзащитного, и обратило на него гнев толпы.
Одна из самых досадных оплошностей, совершенных оратором, заключалась в том, что один раз он назвал подозреваемого «наследником огромного состояния всеми уважаемого господина Челнокса». Никому до этого подобная мысль явно не приходила в голову. Все помнили, как пару лет назад дядюшка несколько раз угрожал лишить племянника (своего единственного родственника) наследства, и полагали, что он сдержал свое слово – до того простодушными существами были гвалтвиллцы. Однако замечание «старины Чарли» тут же заставило их призадуматься и вселило в их головы мысль, что угрозы могли так и остаться всего лишь угрозами. Разумеется, тут же возник естественный вопрос: cui bono? Вопрос, который даже больше, чем жилет, указывал на причастность молодого человека к ужасному преступлению. И здесь, дабы избежать недопонимания, позвольте мне на миг отступить от темы и отметить, что короткая и простая латинская фраза, которую употребил я, неизменно переводится и понимается неверно. «Cui bono?» в ходовых романах и прочей литературе подобного сорта – к примеру, у миссис Гор[40] (автора «Сесила»), которая цитирует все языки, от халдейского до наречия племени чикасо, в чем ей систематически «по мере надобности» помогает мистер Бекфорд[41] – во всех ходовых романах, от Булвера[42] и Диккенса до Строчузапенса и Эйнсворта[43], два коротких латинских слова «cui bono» понимаются как «с какой целью?» или (как будто это «quo bono») – «чего ради?». Тем не менее их истинный смысл: «кому на пользу?» Cui означает «кому», а bono – «это несет выгоду». Это выражение применяется в юридической практике, когда рассматриваются именно такие дела, как это, когда вероятность того, что подозреваемый виновен, увеличивается в зависимости от того, какую выгоду несет для него совершенное преступление или его последствия. Итак, в данном случае вопрос cui bono? совершенно однозначно указал на мистера Пошла. Его дядя, сделав племянника наследником, не единожды угрожал лишить его наследства. Однако угроза не была исполнена, и завещание, судя по всему, не изменилось. Если бы это произошло, убить своего дядю подозреваемый мог разве что из желания отомстить, но и это маловероятно, поскольку у молодого человека всегда оставалась надежда снова снискать дядюшкино расположение. Поэтому, поскольку завещание изменено не было, а угроза это сделать постоянно висела над головой племянника, вырисовался очень сильный мотив для совершения ужасного злодеяния, чего оказалось вполне достаточно для проницательных обитателей городка Гвалтвилл.
Мистер Пошл был арестован прямо на месте, и после дальнейших непродолжительных поисков толпа направилась обратно, держа задержанного под стражей. Однако по дороге возникло еще одно обстоятельство, которое еще больше укрепило подозрения. Мистер Друггинс, неиссякаемая энергия которого всегда держала его немного впереди остального отряда, вдруг пробежал вперед несколько шагов, наклонился и подобрал из травы какой-то маленький предмет. От глаз следовавших за ним не укрылось, что, осмотрев находку, он попытался незаметно сунуть ее в карман сюртука, но утаить поднятый предмет ему не позволили, и выяснилось, что это испанский складной нож, в котором человек десять тут же признали нож мистера Пошла. Более того, на ручке были выгравированы его инициалы. Лезвие его было открыто и все в крови.
Теперь последние сомнения в виновности племянника отпали, и по возвращении в Гвалтвилл его незамедлительно передали мировому судье для допроса.
И снова дела приняли самый скверный оборот. Обвиняемый, когда его спросили, где он находился утром в тот день, когда исчез мистер Челнокс, имел дерзость открыто заявить, что в то утро охотился с ружьем на оленей у того самого озера, в котором, благодаря прозорливости мистера Друггинса, был обнаружен окровавленный жилет.
Тут вперед вышел сам мистер Друггинс и, едва сдерживая слезы, попросил слова. Он сказал, что священное чувство долга не только перед Создателем, но и перед общественностью не дает ему и дальше сохранять молчание. До сих пор искренняя привязанность, которую он питал к молодому человеку несмотря на его дурное отношение к нему (мистеру Друггинсу), заставляла его придумывать все новые и новые объяснения тому, что казалось подозрительным в обстоятельствах, которые столь веско свидетельствовали против мистера Пошла. Однако обстоятельства эти теперь сделались слишком убедительными… слишком изобличающими, и он больше не в силах противостоять им… он готов рассказать все, все что ему известно об этом деле, хотя его (мистера Друггинса) сердце разрывается на части от этой жестокой необходимости. И он поведал, что накануне отъезда мистера Челнокса в соседний город этот достойный пожилой господин в его (мистера Друггинса) присутствии рассказал своему племяннику, что собирается завтра съездить в соседний город для того, чтобы положить необычно большую сумму в банк «Механики и фермеры», и что во время того же самого разговора вышеозначенный мистер Челнокс поставил вышеозначенного племянника в известность, что принял окончательное решение переписать завещание и лишить его наследства. Далее он (свидетель), обращаясь к подозреваемому, призвал его подтвердить, что все только что сказанное им (свидетелем) является чистой правдой, или же опровергнуть его слова. К величайшему изумлению всех присутствующих, мистер Пошл незамедлительно признал, что все так и было.
После этого судья посчитал своим долгом направить пару констеблей обыскать комнату подозреваемого в доме его дяди. Обыск занял совсем немного времени, вскоре они вернулись с красновато-коричневым кожаным бумажником на стальной застежке, тем самым, с которым престарелый господин Челнокс не расставался вот уже много лет. Однако бумажник был пуст. Судья так и не смог выпытать у обвиняемого, как он поступил с его ценным содержимым или куда его спрятал. Более того, мистер Пошл упорно настаивал на том, что денег не брал, и вообще знать ничего не знает. Еще констебли под матрасом несчастного обнаружили рубашку и шейный платок с его инициалами, на которых были отчетливо видны жутковатые пятна крови жертвы.
В эту напряженную минуту пришло сообщение, что лошадь убитого только что умерла в конюшне от полученной раны. Тут же от мистера Друггинса последовало предложение немедленно провести вскрытие животного с тем, чтобы попытаться отыскать пулю. Так и сделали, и, словно для того, чтобы окончательно развеять последние сомнения в виновности подозреваемого, мистеру Друггинсу, после долгих настойчивых поисков в разверстой груди животного удалось нащупать и извлечь на свет божий огромную пулю, которая, как выяснилось в результате проведенного впоследствии сравнения, в точности соответствовала калибру ружья мистера Пошла и была слишком большой, чтобы подходить к какому-либо иному оружию из того, что имелось во всем городке и его окрестностях. Но и это еще не все. На этой пуле была замечена неровность, небольшая бороздка, идущая под прямым углом к обычному шву, и проверка показала, что это углубление точно совпадает с выступом, имевшимся на литейных формах, которые, по его собственному признанию, принадлежали обвиняемому. После того как была обнаружена эта пуля, мировой судья отказался выслушивать дальнейшие показания и объявил, что обвиняемый будет передан в вышестоящую судебную инстанцию без права освобождения из-под стражи под залог. Смягчить столь суровое решение не смогли даже горячие протесты мистера Друггинса, который предложил собственную кандидатуру в качестве поручителя, и заявил, что готов предоставить любую сумму, которая потребуется. Подобное великодушие «старины Чарли» лишь подчеркнуло добродетель и благородство, которыми неизменно отличалось его поведение за все время его пребывания в городке Гвалтвилл. Только на этот раз сей добрейший господин, должно быть, настолько озаботился судьбой своего юного друга, что, предлагая выплатить залог, совершенно позабыл, что у самого него (мистера Друггинса) нет за душой ни гроша.
Исход досудебного разбирательства несложно представить. Мистер Пошл под градом неодобрительных выкриков и проклятий со стороны добрых жителей Гвалтвилла предстал перед очередным заседанием уголовного суда, где вся цепочка косвенных улик (подкрепленная еще некоторыми убийственными фактами, которые кристальная честность мистера Друггинса не позволила ему утаить от суда) была признана настолько прочной и убедительной, что присяжные, не удаляясь на совещание, единогласно постановили: «Виновен в убийстве первой степени». Был вынесен смертный приговор, и несчастный был возвращен в окружную тюрьму дожидаться суровой кары правосудия.
Тем временем рыцарское поведение «старины Чарли Друггинса» превратило его в настоящего героя в глазах честных обитателей городка. Можно сказать, что теплота чувств, которые они к нему испытывали, возросла вдесятеро, и – что несомненно является естественным результатом того радушия, которым его окружили – этому почтенному господину волей-неволей пришлось отказаться от привычного аскетического образа жизни, к которому его приучила жизнь в нужде, и довольно часто в его доме стали проходить небольшие встречи друзей, на которых неизменно царили жизнерадостное веселье и остроумие… конечно же, несколько притупляемые воспоминаниями о печальной и горькой судьбе, постигшей племянника покойного близкого друга гостеприимного хозяина.
В один прекрасный день сей благородный муж был приятно удивлен, получив следующее письмо:
Шат. Мар. А – № 1 –.
6 дюж. бутылок (1/2 гросса)
От К. Т. Б. и Ко.
Чарлзу Друггинсу, эскв., Гвалтвилл.
«Чарлзу Друггинсу, эсквайру.
Дорогой сэр!
В соответствии с заказом, полученным нашей фирмой около двух месяцев назад от нашего многоуважаемого заказчика мистера Барнабаса Челнокса, мы имеем честь выслать сегодня утром на Ваш адрес двойную коробку «Шато Марго» марки «Антилопа», с лиловой печатью. Номер и маркировка ящика соответствуют указанным на полях.
Всегда к Вашим услугам,
Искренне Ваши,
Крах, Трах, Бах и Ко.
Город такой-то, 21 июня, 18…
P.S. Ящик будет доставлен Вам фургоном на следующий день после получения Вами сего письма.
Наше почтение мистеру Челноксу,
К. Т. Б. и Ко».Вообще-то после смерти мистера Челнокса мистер Друггинс оставил надежду получить обещанное «Шато Марго» и воспринимал это как своего рода испытание, ниспосланное ему судьбой. Поэтому нет ничего удивительного, что он до того обрадовался, что тут же пригласил большую компанию друзей на завтрашний petit souper[44], во время которого собирался вскрыть подарок старого доброго мистера Челнокса. Правда, имени «старого доброго мистера Челнокса» в приглашении не упоминалось, но это было осознанным решением, принятым после долгих, мучительных размышлений. Вообще-то, если мне не изменяет память, он никому не сказал, что получил «Шато Марго» в подарок. Он просто попросил друзей собраться, чтобы помочь ему прикончить несколько бутылочек отличного дорого вина, которое он заказал в городе еще пару месяцев назад и которое завтра должны привезти. Я не раз пытался понять, что заставило «старину Чарли» принять решение не сообщать никому о том, что вино он получил от старого друга, но так и не смог понять причину его молчания. Впрочем, наверняка у него имелись на то самые веские основания, и поступок его был вызван самыми благородными побуждениями.
Наконец наступило завтра, и в доме мистера Друггинса собралось многочисленное и в высшей степени достойное общество. Можно сказать, там было полгорода (включая и меня самого), но, к великому раздражению хозяина приема, «Шато Марго» привезли очень поздно, когда великолепный ужин, приготовленный «стариной Чарли», уже был съеден и получил самые лестные отзывы гостей. Наконец, вино прибыло – в огромном ящике, – и поскольку настроение у всех было преотменное, гости nem. con.[45] решили поднять ящик на стол, и уже оттуда раздавать его содержимое.
Сказано – сделано. Мы взялись за ящик со всех сторон и вмиг водрузили его на стол, прямо посреди бутылок и стаканов, многие из которых при этом разбились. «Старина Чарли», который к тому времени и так уже был нетверд на ногах, с раскрасневшимся лицом уселся во главе стола, напустил на себя важный вид и несколько раз громыхнул перед собой графином, призывая собравшихся соблюдать порядок «во время церемонии извлечения сокровища».
Через какое-то время шум успокоился, был восстановлен порядок, и, как часто бывает в подобных случаях, в комнате повисла особенная напряженная тишина. Когда меня попросили вскрыть ящик, я, конечно же, отказываться не стал и «с превеликим удовольствием» приступил к делу. Я вставил стамеску, несколько раз не сильно ударил по ней молотком, и тут, совершенно неожиданно, крышка ящика как будто сама собой отлетела в сторону и в тот же миг из него поднялся, принял сидячее положение лицом к хозяину истерзанный, окровавленный, почти разложившийся труп убитого мистера Челнокса. Несколько секунд он неподвижно и горестно смотрел гниющими безжизненными глазами прямо на мистера Друггинса, затем отчетливым, значительным голосом медленно произнес: «Ты еси муж, сотворивший сие!»[46] А потом, словно полностью удовлетворенный содеянным, перевалился через борт ящика и раскинул по столу руки и замер.
То, что последовало за этим, не поддается описанию. Люди бросились к окнам и дверям, многие из самых выдержанных мужчин от страха на месте лишились чувств. Но когда утихла первая волна безотчетного ужаса, все глаза устремились на мистера Друггинса. Проживи я и тысячу лет, все равно никогда мне не забыть эту жуткую, страшнее самой смерти, маску, в которую превратилось его сделавшееся совершенно белым лицо, совсем недавно алое от восторга и выпитого вина. Несколько минут он сидел совершенно неподвижно, словно высеченная из мрамора скульптура. Его бессмысленные глаза как будто были обращены внутрь и созерцали то, что происходило в глубине его жалкой кровожадной души. Потом в один миг они словно вывернулись наизнанку и устремили взгляд в наружный мир, он вскочил, повалился головой и плечами на стол рядом с трупом и сбивчиво, задыхаясь от волнения, подробно рассказал о содеянном им ужасном преступлении, за которое был заключен под стражу и приговорен к смерти мистер Пошл.
Коротко его рассказ можно свести к следующему: он проследил за своей жертвой до озерца, там выстрелил в его лошадь из пистолета, рукояткой раскроил череп ее седоку, завладел его бумажником и, думая, что лошадь умерла, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на болотистом берегу. Потом перебросил труп мистера Челнокса через спину своей лошади и отвез его подальше, где и спрятал в глухом месте в лесу.
Жилет, нож, бумажник и пулю он сам подбросил туда, где они были обнаружены. Это было сделано специально для того, чтобы отомстить мистеру Пошлу. Он же подстроил, чтобы были найдены окровавленная рубашка и носовой платок.
Под конец этого леденящего сердце повествования голос негодяя начал делаться тише и глуше. Когда были произнесены последние слова, он поднялся, отступил на шаг от стола и упал замертво.
Способ, которым удалось вырвать это своевременное признание, несмотря на свою действенность, был чрезвычайно прост. Чрезмерная искренность мистера Друггинса была мне отвратительна и возбудила подозрения с самого начала. Я был рядом, когда мистер Пошл ударил его, и то поистине дьявольское выражение, каким бы мимолетным оно ни было, не укрылось от моего внимания, и я понял, что его обещание отомстить будет исполнено, если такая возможность представится. Поэтому за маневрами «старины Чарли» я следил совсем не в том свете, что добрые жители Гвалтвилла. Я сразу обратил внимание на то, что все улики против мистера Пошла были обнаружены либо самим мистером Друггинсом, либо с его подачи. Однако тем, что действительно открыло мне глаза на суть происходящего, стала пуля, обнаруженная в теле мертвой лошади мистером Д. Я, в отличие от гвалтвиллцев, не забыл, что на груди несчастного животного было два отверстия, одно – где пуля вошла в тело, второе – где она из него вышла. Поэтому, когда пуля была обнаружена в лошади после того, как она покинула ее тело, для меня стало совершенно очевидным, что ее сунул туда тот человек, который ее и обнаружил. Окровавленные рубашка и шейный платок подтвердили версию, появившуюся у меня благодаря пуле, поскольку кровь на них на поверку оказалась всего лишь хорошим красным вином. Начав обдумывать все это, я вспомнил, как в последнее время мистер Друггинс стал сорить деньгами, и мои подозрения усилились, несмотря на то что я все еще ни с кем ими не поделился.
Тем временем я организовал собственные тщательные поиски тела мистера Челнокса, которые, по достаточно веским соображениям, направил в места как можно более отдаленные от тех, куда мистер Друггинс завел свой отряд. Закончились они тем, что через несколько дней я наткнулся на старый высохший колодец, почти скрытый за кустами ежевики, на дне которого я и нашел то, что искал.
Мне случайно довелось услышать тот разговор двух друзей, когда мистер Друггинс ухитрился выудить у своего хозяина обещание подарить ему ящик «Шато Марго». На этом я и построил свой план. Я раздобыл упругий кусок китового уса, засунул его в горло трупа и поместил труп в старый ящик для вина, причем согнул тело так, чтобы китовый ус внутри него тоже согнулся пополам. При этом мне стоило больших трудов удерживать крышку на месте, пока я приколачивал ее к ящику. Конечно, я понимал, что, как только гвозди будут извлечены снова, крышка отлетит под напором распрямляющегося тела.
Приготовив таким образом ящик, я написал на нем адрес, поставил маркировку, упомянутую выше, написал письмо от имени виноторговца, с которым имел дела мистер Челнокс, и дал указания своему слуге по моему сигналу привезти ящик к дому мистера Друггинса. Ну а что касается слов, которые должен был произнести труп, тут уж я положился на свой талант чревовещателя, с их помощью я и рассчитывал вырвать у этого гнусного убийцы признание.
По-моему, объяснять больше нечего. Мистер Пошл был тут же отпущен, унаследовал дядюшкино состояние, усвоил полученный урок, перевернул страницу и начал новую счастливую жизнь.
Тайна Мари Роже пер. В. Михалюка
Примечание автора
При первой публикации «Мари Роже» данные примечания показались излишними и напечатаны не были, однако спустя несколько лет после трагедии, которая легла в основу этого рассказа, было сочтено целесообразным все же дать их и добавить несколько слов, объясняющих общий замысел. Молодая девушка, Мэри Сесилия Роджерс, была убита в предместье Нью-Йорка, и, хоть смерть ее вызвала сильное и продолжительное волнение, тайна, окружающая ее, оставалась не разгаданной до того времени, когда этот рассказ был написан и вышел из печати (ноябрь 1842). На этих страницах, якобы рассказывая о судьбе некой молодой парижанки, автор в малейших подробностях воспроизвел главные обстоятельства этого преступления, но при этом в менее существенных подробностях настоящего убийства Мэри Роджерс ограничился лишь параллелями. Таким образом, все размышления, основанные на авторском тексте, применимы к действительности, ибо целью написания этого рассказа была попытка установить истину. Рассказ «Тайна Мари Роже» был написан вдали от того места, где все случилось на самом деле, и на основании исключительно тех материалов, которые можно было почерпнуть из газет. В связи с этим, от внимания автора ускользнуло многое из того, что могло бы помочь ему в работе, если бы он побывал на месте преступления и в его окрестностях. Однако не будет лишним заметить, что признания двух лиц (одно из них в рассказе носит имя мадам Делюк), сделанные в разное время, задолго до публикации, подтвердили в полной мере не только общие заключения, но и все без исключения главные умозрительные догадки, на основании которых данные выводы и были сделаны.
Es giebt eine Reihe idealischer Begebenheiten, die der Wirklichkeit parallel läuft. Selten fallen sie zusammen. Menschen und Zufälle modifizieren geiwöhnlich die idealische Begebenheit, so dass sie unvollkommen erscheint, und ihre Folgen gleichfalls unvollkommen sind. So bei der Reformation; statt des Protestantismus kam das Lutherthum hervor.[47]
Новалис[48]. Moralische Ansichten[49]Есть не так уж много людей, даже среди спокойнейших мыслителей, которые время от времени не испытывают нечто вроде полуосознанного влечения к малопонятному и в то же время захватывающему миру сверхъестественного, вызванного совпадениями такого казалось бы поразительного характера, что разум просто отказывается воспринимать их как простые совпадения. Подобные чувства (поскольку то «полуосознанное влечение», о котором я говорю, никогда не принимает форму полноценной мысли) лишь изредка удается целиком подавить, для этого приходится обращаться к доктрине случайности или к исчислению вероятностей, как она точно именуется. Исчисление это по сути своей является чисто математическим действием, и в данном случае мы видим пример того, как самая холодная и точная из наук применяется к плоскости всего самого эфемерного и призрачного, что есть в мысленных построениях.
Те невероятные подробности, которые я призван сделать достоянием гласности, в хронологическом отношении составляют ветвь первого порядка в серии труднообъяснимых совпадений, тогда как ветвь второго порядка, или конечную ветвь, читатель без труда соотнесет с убийством Мэри Сесилии Роджерс, совершенным недавно в Нью-Йорке.
Когда около года назад в статье, посвященной убийствам на улице Морг, я попытался охарактеризовать некоторые из выдающихся умственных особенностей своего друга шевалье Ш. Огюста Дюпена, у меня и в мыслях не было, что мне когда-нибудь снова придется вернуться к этой теме. Изображение его характера полностью соответствовало моему замыслу, а замысел этот в полной мере воплотился в жизнь благодаря череде безумных событий, которые послужили благодатной почвой для проявления отличительных особенностей Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но посчитал, что это не имеет смысла, так как ничего нового я бы не доказал. Однако недавние события и их поразительное развитие заставили меня окунуться в подробности, которые могут показаться чем-то вроде вымученного признания. Если я рассказал о том, что слышал и видел так давно, было бы поистине странно, если бы я не вспомнил о том, что услышал совсем недавно.
Покончив с делом, связанным с трагической гибелью мадам Л’Эспанэ и ее дочери, шевалье тут же выбросил его из головы и снова впал в привычное для себя состояние меланхолии. Имея от природы склонность к рассеянной задумчивости, я с готовностью поддался его настроению, и мы, продолжая занимать квартиру в Сен-Жерменском предместье, оставили мысли о Будущем и погрузились в умиротворенную дрему, которую Настоящее наполняло безынтересными снами, сотканными из событий, происходящих в живущем вокруг нас своей скучной жизнью мире.
Впрочем, нельзя сказать, что дремота эта была беспрерывной. Можно смело предположить, что та роль, которую мой друг сыграл в расследовании трагических событий на улице Морг, произвела большое впечатление на парижскую полицию. Благодаря ее стараниям, имя Дюпен теперь было известно буквально каждому. О том, насколько просты были умозаключения, которые привели его к разгадке тайны, кроме меня, он не рассказал никому, даже префекту, поэтому нет ничего удивительного в том, что все это дело было воспринято почти как чудо, и аналитические способности шевалье принесли ему славу человека, наделенного феноменальной интуицией. Его откровенность могла бы рассеять эти заблуждения, но ему было просто лень вновь касаться темы, к которой он давно утратил интерес. Случилось так, что он оказался в центре внимания официальных властей, и нередко его просили оказать помощь префектуре. Один из самых примечательных примеров – убийство молодой девушки по имени Мари Роже.
Это произошло спустя примерно два года после кровавых событий на улице Морг. Мари (имя и фамилия которой так похожи на имя и фамилию несчастной продавщицы из табачного магазина) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Отец ее умер, когда она была еще совсем маленькой, и с тех пор Мари с матерью почти все время до убийства, которое является главной темой этого повествования, жили вместе на улице Паве-Сент-Андре[50]. Впервые расстались они за полтора года до трагедии. Мадам держала пансион, а Мари ей помогала, и все шло хорошо, пока девушка, когда ей пошел двадцать второй год, своей необычайной красотой не привлекла к себе внимание некоего парфюмера, арендовавшего в цокольном этаже Пале-Рояль магазинчик, покупателями которого были в основном отчаянные искатели легкой наживы – многочисленные обитатели того района. Месье Ле Блан[51] догадывался, какую выгоду может принести ему присутствие в его парфюмерном магазине прекрасной Мари. Его щедрые предложения девушкой были восприняты весьма охотно, хотя мать проявила некоторое колебание.
В конце концов ожидания парфюмера оправдались, и в скором времени его магазинчик озарило присутствие очаровательной и жизнерадостной гризетки. Примерно через год работы поклонники девушки были озадачены ее неожиданным исчезновением из магазина. Месье Ле Блан не мог объяснить ее отсутствия, и обеспокоенную мадам Роже охватил ужас. Дешевые газеты тут же подхватили эту тему, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, когда в одно прекрасное утро, спустя неделю, Мари в добром здравии, хотя и в несколько расстроенных чувствах, вновь появилась на своем рабочем месте за прилавком парфюмерного магазина. Все официальные поиски были, разумеется, тут же прекращены. Месье Ле Блан как и раньше утверждал, что ему ничего не известно, а сама Мари, как и мадам, на все вопросы отвечала, что прошлую неделю провела в деревне у родственников. Постепенно волнение улеглось, и об этом деле забыли. Девушка, которую явно тяготило повышенное внимание к своей персоне, в скором времени распрощалась с хозяином парфюмерной лавки и возвратилась в дом матери на улице Паве-Сент-Андре.
После этого происшествия прошло примерно пять месяцев, когда друзей девушки взволновало ее новое неожиданное исчезновение. Минуло три дня, но о ней ничего не было слышно. На четвертый день ее труп выловили в Сене[52] у берега, противоположного тому, на котором расположена улица Паве-Сент-Андре, невдалеке от пустынных окрестностей заставы дю Руль[53].
Жестокость убийства (а то, что это убийство, стало понятно сразу), молодость и красота жертвы и, что самое главное, связанная с ней ее прежняя загадочная неизвестность необычайно обеспокоили чувствительных парижан. Мне не приходит на ум какой-либо другой подобный случай, который произвел бы такое же всеобщее и сильное впечатление. На несколько недель, пока обсуждалось это страшное происшествие, были забыты даже самые важные и насущные политические вопросы. Префект предпринял необычайные меры для раскрытия этого преступления, была поставлена на ноги вся парижская полиция.
После того как нашли труп, никто не сомневался, что убийце не удастся долго скрываться от организованого по горячим следам следствия. Лишь спустя неделю было принято решение назначить вознаграждение за помощь в его поимке, но даже тогда сумма этого вознаграждения составила лишь тысячу франков. Тем временем расследование шло полным ходом, если не всегда со здравой рассудительностью, то с необыкновенной энергией. Было опрошено множество людей, но безрезультатно. Полное и постоянное отсутствие каких бы то ни было ключей к разгадке этой тайны послужило причиной того, что всеобщее возбуждение значительно усилилось. Вечером на десятый день решили, что будет целесообразно удвоить сумму вознаграждения, предложенную изначально. В конце концов, когда миновала еще неделя, и дело дошло до серьезных уличных émeute[54], в которых вылилось издавна существующее в Париже предубеждение против полиции, префект от своего имени предложил двадцать тысяч франков «за поимку убийцы» или, если окажется, что к этому делу причастно несколько человек, «за поимку любого из убийц». В объявлении сообщалось об этом вознаграждении и также было обещано помилование любому из соучастников преступления, который сообщит об истинном убийце. В довершение всего, везде, где появлялось это сообщение, к нему добавлялась листовка от комитета горожан, обещавшая десять тысяч франков вдобавок к сумме, назначенной префектурой. Таким образом, в целом вознаграждение составило не меньше тридцати тысяч франков, сумма невероятная, если принять во внимание скромное положение девушки и тот факт, что в больших городах преступления, подобные описанному, случаются довольно часто.
Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства скоро будет раскрыта. Однако, несмотря на несколько арестов, которые, казалось, должны были пролить свет на эту загадку, ничего, что указывало бы на виновность подозреваемых, так и не выявили, поэтому их пришлось отпустить.
Это покажется странным, но миновала третья неделя с того дня, когда обнаружили тело, очередная неделя, не принесшая никаких результатов, когда слухи об этом деле, взбудоражившем весь город, дошли до нас с Дюпеном. Занятые исследованиями, целиком занимавшими наше внимание, ни он, ни я почти месяц не выходили из дому, не принимали гостей и не вчитывались в передовицы ежедневных газет. Об убийстве впервые мы услышали от Г., который заглянул к нам днем тринадцатого июля 18… и пробыл у нас до поздней ночи. Он был очень уязвлен тем, что все его попытки разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена его репутация, по-парижски запальчиво восклицал он. Затронута даже его честь. На него смотрит весь город, и он готов пойти на любые жертвы, чтобы сдвинуть с мертвой точки это дело. Свою несколько комическую речь он завершил комплиментом в адрес того, что назвал «тактом» Дюпена, после чего сделал ему прямое и, несомненно, очень щедрое предложение, характер которого я раскрывать не вправе и которое не имеет непосредственного отношения к предмету данного повествования.
Комплимент мой друг вежливо отклонил, но предложение принял без колебаний, хотя те выгоды, которые оно сулило, были лишь условными. Когда этот вопрос был улажен, префект сразу же пустился в объяснения своего видения этого дела, перемежая их длинными рассказами об имеющихся уликах, о которых мы пока что ничего не знали. Сонная ночь кое-как доплелась до утра, а он все ораторствовал, хотя, вне всякого сомнения, по делу; я время от времени отваживался на кое-какие замечания или предложения, Дюпен же все это время просидел неподвижно в своем любимом кресле – воплощение почтительного внимания. Когда префект приступил к рассказу, он нацепил очки, и, случайно заглянув за их зеленые стекла, я убедился, что семь или восемь часов, непосредственно предшествовавших уходу нашего гостя, он преспокойно спал.
Утром я сходил в префектуру и раздобыл полный свод имеющихся показаний, кроме того, прошелся по редакциям нескольких газет и взял копии всех выпусков, с первого до последнего дня, в которых сообщались хоть какие-то существенные сведения, относящиеся к этому печальному происшествию. Если выбросить все, что не нашло подтверждения, информация эта сводилась к следующему.
Мари Роже покинула дом матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти утра в воскресенье двадцать второго июня 18… года. Выходя, она сообщила некоему месье Жаку Сент-Эсташу[55] (больше ни с кем она не разговаривала), что собирается провести день с тетей, жившей на улице де Дром. Де Дром – это короткая и узкая улочка, расположенная неподалеку от набережной, и от пансиона мадам Роже самый близкий путь до нее составляет примерно две мили. Сент-Эсташ считался официальным женихом Мари, проживал и столовался в пансионе ее матери. На закате он должен был сходить за невестой, чтобы проводить ее домой. Однако днем пошел сильный дождь, поэтому, подумав, что она останется у тети на ночь (как в подобных обстоятельствах она поступала раньше), он позволил себе нарушить свое обещание. Ближе к ночи слышали, как мадам Роже (немощная старуха семидесяти лет) высказала опасение, что «никогда больше не увидит Мари», но ее словам тогда не придали значения.
В понедельник точно установили, что девушка на улице де Дром так и не появлялась, и после того как в течение дня не поступило никаких известий, в некоторых местах города и окрестностей наконец начались поиски. Однако лишь на четвертый день после исчезновения девушки о ней стало известно что-то определенное. В этот день (среда, двадцать пятое июня) некий месье Бове[56], который с другом разыскивал Мари недалеко от заставы дю Руль на противоположном улице Паве-Сент-Андре берегу Сены, узнал, что рыбаки только что привезли на берег выловленный в реке труп. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал девушку из парфюмерного магазина. Его товарищ опознал ее почти сразу.
Лицо ее было темно-красным от прилившей крови, некоторое количество крови вытекло из горла. Пена, которая обычно выступает, если человек тонет, отсутствовала. Изменений в цвете клеточной ткани не было. На шее были заметны кровоподтеки и следы пальцев. Согнутые в локтях и прижатые к груди руки окоченели. Правая ладонь была сжата в кулак, левая – немного приоткрыта. На левом запястье виднелись две круговых ссадины, очевидно, след от веревок или одной веревки, обмотанной вокруг руки два раза. Часть правого запястья тоже была сильно расцарапана, так же как спина, по всей длине, но заметнее всего у лопаток. Чтобы вытащить тело на берег, рыбаки обвязали его веревкой, но от нее следов не осталось. Горло жертвы было сильно раздуто. Видимые колото-резаные раны или кровоподтеки, которые могли бы остаться от ударов, на теле отсутствовали. Кусок тонкого шнурка был завязан вокруг шеи так сильно, что полностью скрылся в складках плоти. Узел находился прямо под левым ухом. Одного этого хватило бы, чтобы вызвать летальный исход. Медицинское освидетельствование полностью подтвердило целомудрие девушки. В отчете говорилось, что она стала жертвой грубого насилия. Когда труп обнаружили, состояние, в котором он находился, позволило друзьям убитой опознать ее без труда.
Вся одежда была сильно изодрана и растрепана. Из подола платья от нижнего края до пояса была выдрана полоса примерно в фут шириной; но не оторвана, а трижды обернута одним концом вокруг талии и закреплена на спине довольно необычным узлом. Под платьем была тонкая муслиновая юбка. Из нее очень ровно и аккуратно была вырвана лента шириной восемнадцать дюймов. Эта полоса муслина была свободно наброшена на шею и накрепко связана концами. Поверх этой полосы и обрывка шнурка были завязаны ленты шляпки, однако не бантом, как это обычно делают женщины, а скользящим морским узлом.
После опознания тело не отправили как обычно в морг (эту формальность сочли излишней), а поспешно предали земле недалеко от того места, где его извлекли из воды. Благодаря стараниям Бове дело замяли, и прошло несколько дней, прежде чем последовала какая-то реакция общественности. Все же одна еженедельная газета[57] в конце концов сообщила об этом, после чего труп эксгумировали, подвергли повторному обследованию, которое лишь подтвердило уже известные факты и не дало ничего нового. Одежду покойной передали ее матери и знакомым, которые подтвердили, что это платье Мари Роже и именно в нем в тот день она вышла из дома.
Тем временем волнение в городе росло не по дням, а по часам. Были арестованы, но впоследствии отпущены несколько человек. Главное подозрение пало на Сент-Эсташа. Сначала он не смог четко рассказать, где находился в воскресенье, когда Мари покинула дом, но впоследствии предоставил месье Г. письменные показания, в которых описал, как провел тот день, час за часом. Его рассказ подтвердился. Время шло, но дело не двигалось с места, по городу поползли самые разнообразные и часто противоречивые слухи. Журналисты не знали покоя, выдвигая все новые и новые версии. Из них больше всего шума наделало предположение о том, что Мари Роже была жива и труп, найденный в Сене, принадлежал какой-то другой несчастной. Думаю, будет нелишним привести несколько отрывков, в которых высказывается упомянутое предположение. Эти строки – точный перевод из «Этуаль»[58], газеты достаточно солидной.
«Мадемуазель Роже покинула материнский дом в воскресенье утром, двадцать второго июня 18… года, сказав, что хочет повидать тетушку или кого-то из родственников на улице де Дром. С того времени, насколько известно, ее никто не видел. Она словно сквозь землю провалилась… Пока еще не удалось разыскать ни одного человека, который бы видел ее в тот день после того, как она вышла из дома… Хоть мы и не знаем наверняка, была ли Мари Роже все еще на этом свете после девяти часов в воскресенье двадцать второго июня, точно известно, что до этого времени она была жива. В среду в полдень рядом с заставой дю Руль было обнаружено плавающее в воде женское тело. Даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку в течение первых трех часов после того, как она вышла из дома матери, это составляет всего лишь трое суток, трое суток с точностью до часа! Однако было бы глупо предполагать, что убийство – если ее действительно убили – совершено настолько быстро, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Люди, совершающие подобные злодеяния, предпочитают ночную тьму дневному свету… Таким образом становится понятно, что, если тело, обнаруженное в реке, действительно принадлежит Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной суток, самое большее – трех. Известно, что утопленнику либо трупу, брошенному в воду сразу после убийства, требуется провести под водой от шести до десяти дней, чтобы разложиться до той степени, которая позволит ему всплыть на поверхность. Даже когда над телом, пролежавшим на дне меньше пяти-шести дней, стреляют из пушки и труп всплывает на поверхность, в скором времени, если его не подобрать, он снова погружается под воду. А теперь мы хотим спросить, что есть в этом случае такого особенного, из-за чего были нарушены обычные законы природы? …Если тело в подобном изувеченном виде до ночи со вторника на среду пролежало на берегу, там должны были остаться какие-то следы убийц. К тому же весьма сомнительно, чтобы труп всплыл так быстро, даже если его бросили в воду спустя два дня после смерти. И более того, очень маловероятно, чтобы те нелюди, которые совершили это убийство, бросили тело своей жертвы в воду, не привязав к нему какой-либо груз, если принять эту меру предосторожности не составляло никакого труда».
После этого автор доказывает, что тело пробыло в воде «не три дня, а, по меньшей мере, в пять раз дольше», поскольку оно успело до такой степени разложиться, что Бове опознал его с большим трудом. Впрочем, этот довод был полностью опровергнут. Продолжаю перевод:
«Исходя из каких фактов месье Бове говорит, что тело, которое он осматривал, вне всякого сомнения, принадлежало Мари Роже? Он разорвал рукав платья и теперь заявляет, что увидел какие-то особые приметы, которые показались ему достаточно убедительными. Публике, разумеется, представляется, что он имел в виду какие-нибудь шрамы или что-то в этом роде, но на самом деле, он просто потер руку и увидел на ней волоски. Нам трудно представить примету более неопределенную. С таким же успехом можно делать выводы на том основании, что в рукаве вообще обнаружилась рука. В среду вечером месье Бове в пансион мадам Роже не вернулся, но в семь часов вечера от его имени ей передали, что работа по опознанию тела ее дочери продолжается. Даже если мы предположим, что мадам Роже из-за преклонного возраста и горя не смогла бы отправиться на то место (впрочем, предположение это не кажется таким уж убедительным), должен был найтись хоть кто-нибудь, кто решил бы, что все же стоит туда отправиться и присутствовать при опознании, если они думали, что найденное тело действительно может принадлежать Мари. Но никто туда не поспешил. Даже сами обитатели пансиона на улице Паве-Сент-Андре не слышали, чтобы мадам Роже хотя бы словом обмолвилась об этом новом повороте событий. Месье Сент-Эсташ, поклонник и будущий муж Мари, снимавший квартиру в доме ее матери, показывает, что услышал о том, что тело его невесты обнаружилось только утром следующего дня, когда к нему зашел месье Бове и рассказал об этом. Нам кажется невероятным, что подобная новость была встречена так спокойно».
Таким образом, газета пыталась создать впечатление проявленного родственниками Мари безразличия, которое не сочетается с предположением о том, что они поверили, будто это был действительно ее труп. Дальнейшие инсинуации сводились к следующему: Мари, заручившись поддержкой друзей, уехала из города по причинам, включающим, кроме всего прочего, и сомнения в ее целомудрии; друзья эти, когда в Сене обнаружился труп, имеющий некоторое с ней сходство, попытались убедить прессу и публику, что она умерла. Но и тут «Этуаль» поспешила с выводами. Было совершенно точно доказано, что того безразличия, о котором говорилось в статье, не существовало; что старуха была так слаба и взволнованна, что просто не могла выйти из дома; что Сент-Эсташ не то что воспринял новости спокойно, а просто был сражен горем до такой степени, что месье Бове пришлось попросить друзей и родственников присмотреть за ним и не дать ему присутствовать на повторном опознании тела при эксгумации. Более того, «Этуаль» утверждала, что тело повторно захоронено за общественный счет, что семья отказалась даже от предложения украсить могилу скульптурой и что никто из родственников не присутствовал на похоронах. Повторю снова: все это – не более чем домыслы газеты, которые понадобились, чтобы усилить то впечатление, которое она хотела произвести, тогда как в действительности все они были опровергнуты. В следующем номере газеты была сделана попытка бросить тень сомнения на самого Бове. Автор пишет:
«В деле наметились изменения. Как нам стало известно, пока мадам Б. находилась в доме мадам Роже, месье Бове, который собирался уходить, сказал ей, что к ним должен был зайти жандарм, и предупредил ее, чтобы она, мадам Б., ничего не рассказывала этому жандарму до его возвращения, поскольку он сам собирался с ним говорить… При данном состоянии дел создается впечатление, что месье Бове контролирует ход всего дела. Нельзя сделать и шагу, чтобы не наткнуться на месье Бове, в какую бы сторону вы ни направили поиски, вы неизменно выходите на него. …По какой-то причине он не хочет, чтобы кто-то кроме него принимал участие в расследовании, и оттеснил на второй план всех родственников мужского пола, судя по их словам, самым грубым образом. Похоже, он изо всех сил добивается, чтобы никто из родных убитой не увидел тела».
Для подтверждения того, что подозрения относительно Бове обоснованны, был приведен следующий факт: за несколько дней до исчезновения девушки в контору Бове зашел посетитель, который хозяина на месте не застал, зато увидел торчащую в замочной скважине двери розу и заметил имя «Мари», написанное на висящей рядом грифельной доске.
Если обобщить все те разрозненные факты, которые можно почерпнуть из остальных газет, складывается впечатление, что Мари стала жертвой банды головорезов, которые переправили ее на другой берег реки, где надругались над ней и убили. Однако «Коммерсьель»[59], очень влиятельное издание, упорно оспаривала это распространенное мнение. Вот выдержка из этой газеты:
«Мы убеждены, что до настоящего времени поиски, которые вывели следствие на заставу дю Руль, идут по ложному следу. Невозможно, чтобы кто-либо настолько известный, как эта молодая женщина, прошел три квартала, совершенно никем не замеченный. Любой, кто увидел бы ее, наверняка запомнил бы это, поскольку у всех, кто ее знал, она вызывала интерес. Из дома она вышла, когда на улице уже было полно людей… Если бы она дошла до заставы дю Руль или до улицы де Дром, ее непременно увидели и узнали бы десятки людей. Однако пока еще не найден ни один человек, который в тот день видел ее вне стен материнского дома, и ничто, кроме той части показаний, где говорится о высказанных ею намерениях, не указывает на то, что она вообще выходила из дома. Из подола ее платья вырвали кусок, который обмотали вокруг талии и завязали. Это могло послужить своего рода ручкой, за которую тело несли наподобие узла. Если убийство совершено на заставе дю Руль, подобные ухищрения не понадобились бы. То, что тело найдено плавающим в воде рядом с этим местом, не доказывает, что оно брошено в реку именно там. …Лоскут (два фута в длину, один фут в ширину), вырванный из юбки несчастной девушки, был завязан вокруг ее шеи и закреплен узлом под затылком, вероятно, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, у которых не водится носовых платков».
Однако за день или два до того, как префект обратился к нам, у полиции появилась важная информация, которая опровергала, по крайней мере, большую часть аргументов «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья мадам Делюк, гуляя в роще рядом с заставой дю Руль, случайно набрели на густые заросли, где увидели три-четыре больших камня, лежащих друг на друге в некоем подобии сиденья со спинкой и подставкой для ног. На верхнем камне лежала белая женская юбка, на втором – шелковый шарфик. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На платке вышито имя «Мари Роже». В окружающих ежевичных кустах обнаружены лоскуты, вырванные из платья. Земля вокруг этого места была утоптана, ветки кустов изломаны. Судя по всему, там происходила борьба. В оградах между этими зарослями и рекой были обнаружены проломы, на земле имелся четкий след, указывающий на то, что к реке волокли что-то тяжелое.
Еженедельная газета «Солей»[60] следующим образом истолковала это открытие (толкование это лишь повторяло общее настроение парижской прессы):
«Все эти вещи пролежали там самое меньшее три-четыре недели; они прибиты дождем, покрылись плесенью и слиплись. Вокруг некоторых из них уже успела вырасти трава. Шелк на зонтике не потерял прочности, но ткань села. Верхняя его часть, там, где он собирается и складывается, заплесневела и прогнила; когда зонтик попытались открыть, шелк порвался… Ровные лоскуты, вырванные из платья ветками кустов, имели примерно три дюйма в ширину и шесть дюймов в длину. Один из них (со следами штопки) был оторван от нижнего края платья, второй – вырван из его середины. Ленты эти висели на колючих кустах примерно в футе над землей. …Таким образом, не остается сомнения, что место, где было совершено это ужасающее преступление, обнаружено».
Эта находка позволила получить новые сведения. Мадам Делюк показала, что содержит придорожный трактир недалеко от берега реки, прямо напротив заставы дю Руль. Это уединенное, можно сказать, глухое место, облюбовало городское отребье. По воскресеньям эти люди приплывают туда из города на лодках. В то воскресенье примерно в три часа пополудни в трактир вошла девушка в сопровождении смуглого молодого мужчины. Проведя там какое-то время, пара ушла и направилась в сторону рощи неподалеку. Внимание мадам Делюк привлекло платье девушки – оно показалось ей похожим на то, которое носила одна ее уже покойная родственница. Особенно ей запомнился шарфик. Вскоре после ухода пары в трактире появилась группа мерзавцев, которые вели себя совершенно разнузданно и не заплатили ни за еду, ни за выпивку. Они удалились в том же направлении, что и молодой человек с девушкой, в трактир вернулись на закате и как будто в большой спешке уплыли обратно на противоположный берег.
В тот же вечер, вскоре после того как стемнело, мадам Делюк и ее старший сын неподалеку от трактира слышали женские крики. Крики были отчаянными, но продолжались недолго. Мадам Д. опознала не только шарфик, найденный в зарослях, но и платье, которое было на трупе. Кроме того, кучер омнибуса по фамилии Валанс[61] также показал, что видел, как в то воскресенье Мари Роже пересекала реку на пароме в компании смуглого молодого мужчины. Он, Валанс, знал Мари и не мог ошибиться. Предметы, найденные в зарослях, родные Мари признали безоговорочно.
Сведения, собранные мною из газет по просьбе Дюпена, включали еще лишь один факт, но этот факт представлялся чрезвычайно важным. Судя по всему, сразу же после описанной выше находки неподалеку от того места, которое все теперь считали местом убийства, было найдено безжизненное или почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Рядом с ним на земле лежал пустой пузырек с надписью «Настойка опия». В его дыхании чувствовался запах яда. Умер он, не произнеся ни слова. В кармане молодого человека была найдена короткая записка, в которой он сообщал о своей любви к Мари и намерении покончить с собой.
– Думаю, вам и так понятно, – сказал Дюпен, внимательно изучив мои записи, – что это дело гораздо сложнее происшествия на улице Морг, от которого оно имеет одно важное отличие: это обычное, хоть и очень жестокое преступление. В нем нет ничего outré. Заметьте, именно поэтому данную загадку посчитали простой, тогда как на самом деле, это та причина, по которой ее нужно было отнести в разряд сложных. Поэтому и вознаграждение не было назначено с самого начала. Мирмидонцы нашего Г. сразу же сообразили, как и по какой причине могло быть совершено это злодеяние. Они даже нарисовали в своем воображении способ, множество способов, и мотив, множество мотивов, преступления, и, поскольку им казалось невозможным, чтобы хоть какие-то из этих многочисленных способов и мотивов не совпали с истинными, они посчитали само собой разумеющимся, что так и случится. Но сам характер этого дела, вокруг которого выросли все эти догадки, и тот факт, что все они казались в одинаковой степени правдоподобными, следовало воспринимать как дополнительную трудность, а не как обстоятельство, способное помочь расследованию. Я уже как-то говорил, что лишь по неровностям на плоскости обычного разум находит дорогу в поисках истины, если вообще это происходит, и что в подобных случаях нужно задаваться вопросом не «что случилось?», а «что случилось такого, чего не случалось никогда раньше?». Расследуя убийства в квартире мадам Л’Эспанэ[62], агенты господина Г. были сбиты с толку и поставлены в тупик той необычностью дела, которая для правильно настроенного интеллекта являлась явным предвестником успеха. В то же время интеллект этот мог бы спасовать перед простотой дела об убийстве девушки из парфюмерного магазина, которая в действительности не дала ничего, кроме повода чиновникам из префектуры заранее торжествовать в предвкушении легкой победы.
В случае с мадам Л’Эспанэ и ее дочери с самого начала было понятно, что мы имеем дело с убийством. Версия о самоубийстве исключалась сразу же. Здесь мы тоже знаем наверняка, что жертва не наложила на себя руки. Тело, найденное у заставы дю Руль, обнаружено при таких обстоятельствах, которые не оставляют сомнения в этом важном вопросе. Однако было высказано предположение, что найденный труп не является телом той Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой обещано вознаграждение и относительно которой был заключен наш договор с префектом. Мы с вами оба хорошо знаем этого господина, поэтому не будем ему слишком доверять. Если, начав расследование с найденного тела и выйдя на убийцу, мы установим, что это труп какой-то другой девушки; или же, если мы начнем расследование с предположения, что Мари Роже жива, и найдем ее (или даже просто выясним, что она не была убита), в любом из этих случаев наши труды пропадут даром – мы же имеем дело не с кем-то, а с месье Г.! Поэтому, если не в интересах правосудия, то в наших собственных интересах необходимо для начала удостовериться, что найденный труп – это та самая пропавшая Мари Роже.
Публике доводы «Этуаль» показались вескими, а то, что в самой газете убеждены в их важности, доказывает начало одной из их статей, посвященных данной теме. «Несколько утренних газет, – говорится там, – сочли статью в понедельничном номере “Этуаль” “исчерпывающей”». Как по мне, так эта статья исчерпывающе доказывает лишь рвение ее автора. Не стоит забывать, что чаще всего наши газеты стремятся породить сенсацию, а не помочь отыскать истину. Последнее их интересует только в том случае, если совпадает с первым. Издание, мнение которого совпадает с общепринятым (каким бы обоснованным оно ни было), не интересно толпе. В большинстве своем люди считают мудрецом лишь того, чьи мысли вступают в «острое противоречие» с расхожей идеей. В искусстве мыслить, не меньше чем в литературе, быстрее и охотнее всего воспринимается парадокс. И в обоих случаях это самое сомнительное из достоинств.
Я веду к тому, что лишь сенсационность и мелодраматизм версии, что Мари Роже все еще жива, подсказали «Этуаль» эту идею и заставили широкую публику увлечься ею. Давайте рассмотрим основные пункты доказательств, которые приводит эта газета, и попытаемся избежать той непоследовательности, с которой они изложены.
Основная цель автора статьи – показать, что плававший в реке труп не мог быть трупом Мари, поскольку между ее исчезновением и его обнаружением прошло слишком мало времени. Другими словами, автору было на руку свести этот временной промежуток до минимума. Для этого он, не долго думая, ставит в основу вывода не факт, а предположение. «Было бы глупо предполагать, – пишет он, – что убийство – если ее действительно убили – совершено настолько быстро, чтобы убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Тут же напрашивается вопрос: почему? Почему глупо предполагать, что убийство было совершено через каких-нибудь пять минут после того, как девушка вышла из дома матери? Почему глупо предполагать, что убийство могло быть совершено в любое время дня? Убийства происходят круглые сутки. Если убийство произошло в воскресенье после девяти утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы могли «успеть бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, это предположение понадобилось для того, чтобы убедить читателей, что убийство было вовсе совершено не в воскресенье, и, если мы позволим «Этуаль» делать выводы на основании подобных «допущений», мы можем позволить ей любые вольности. То предложение, которое начинается со слов «Было бы глупо предполагать, что убийство…» и так далее, хоть и напечатано в «Этуаль», на самом деле существует только в голове его автора. «Было бы глупо предполагать, что убийство – если Мари действительно убили – совершено настолько быстро, чтобы убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; и было бы так же глупо предполагать все это, как и предполагать (раз уж мы решили предполагать), что тело не было брошено в реку до полуночи» – предложение само по себе достаточно непоследовательное, но, по крайней мере, не такое абсурдное, как напечатанное в газете.
Если бы я хотел, – продолжил Дюпен, – просто опровергнуть этот высказанный на страницах «Этуаль» довод, я мог бы этим и ограничиться. Но нас интересует не «Этуаль», а истина. Приведенное предложение имеет лишь один смысл, и я его сформулировал, но для нас важно добраться до идеи, которая стоит за этими словами, до идеи, которую эти слова призваны были выразить, но так и не смогли. Журналист хотел сказать, что в какое бы время дня или ночи воскресенья ни было совершено убийство, маловероятно, чтобы убийцы рискнули нести труп к реке до полуночи. И в этом заключается то допущение, против которого я протестую. Предполагается, что убийство совершалось таким образом и при таких обстоятельствах, что тело нужно было доставлять к реке. Но ведь все могло случиться на берегу реки или даже на воде, и в таком случае выбрасывание тела в реку в любое время дня и ночи является самым очевидным и простым способом избавиться от трупа. Не подумайте, что я утверждаю, будто это вероятно или совпадает с моим собственным мнением. Мои слова не касаются фактов данного дела. Я всего лишь хочу предостеречь вас против общего тона предположения, высказанного в «Этуаль», подчеркнув его ex parte[63] характер.
И вот, поставив рамки, удобные для продвижения своей мысли, предположив, что, если это было тело Мари, оно могло пробыть в воде только очень короткое время, «Этуаль» продолжает:
«Известно, что утопленнику либо трупу, брошенному в воду сразу после убийства, требуется провести под водой от шести до десяти дней, чтобы разложиться до той степени, которая позволит ему всплыть на поверхность. Даже когда над телом, пролежавшим на дне меньше пяти-шести дней, стреляют из пушки и труп всплывает на поверхность, в скором времени, если его не забрать, он снова погружается под воду».
С этим утверждением молчаливо согласились все парижские газеты, кроме «Монитер»[64]. Это издание вступает в спор лишь с той частью, где говорится об «утопленнике», вспомнив пять-шесть примеров, когда тела действительно утонувших всплывали раньше того срока, на котором настаивает «Этуаль». Однако со стороны «Монитер» крайне неразумно противопоставлять общему утверждению «Этуаль» несколько частных случаев. Если бы можно было привести в пример не пять, а пятьдесят случаев, когда тело поднималось со дна после двух-трех дней, и то к этим примерам нужно было бы относиться, как к исключению из общего правила, принятого «Этуаль», и так до тех пор, пока не будет опровергнуто само правило. Если признать правило (а «Монитер» его не отвергает, настаивая только на исключениях), довод «Этуаль» обречен оставаться в полной силе, поскольку он заведомо ограничивается рамками вопроса о возможности всплытия тела на поверхность раньше трех дней, и вероятность этого будет в пользу позиции «Этуаль» до тех пор, пока число примеров, приведенных с такой детской непосредственностью «Монитер», не возрастет настолько, чтобы сформировать противоположное правило.
Я думаю, вам понятно, что все споры на эту тему, если их вообще затевать, должны быть направлены против самого правила, и для этого нам потребуется вникнуть в его суть. Итак, нельзя сказать, что человеческое тело значительно тяжелее или значительно легче воды в Сене. Другими словами, удельный вес тела в его естественном состоянии примерно равен удельному весу того объема пресной воды, который оно вытесняет. Тела женщин и жирных, дородных людей с тонкими костями в среднем имеют меньший удельный вес, чем тела мужчин и людей худых и ширококостных. К тому же на удельный вес воды оказывают определенное влияние морские приливы. Однако, оставив в стороне вопрос с приливами, можно сказать, что человеческие тела, оказавшись даже в пресной воде, почти никогда не тонут сами по себе. Практически любой, упавший в реку, сможет остаться на поверхности, если позволит удельному весу воды прийти в соответствие с его собственным, то есть, если позволит своему телу как можно полнее погрузиться под воду. Для не умеющего плавать самая правильная позиция – вертикальная, как при ходьбе, с максимально запрокинутой головой, когда над поверхностью остаются только рот и ноздри. При таких условиях человек обнаруживает, что может свободно держаться на плаву, не тратя на это силы. Тем не менее, очевидно, что удельный вес тела и удельный вес вытесненного объема воды находятся в очень четком равновесии, и любая мелочь может это равновесие нарушить. Например, рука, поднятая из воды и таким образом лишенная поддержки, превращается в дополнительный вес, который погрузит под воду всю голову, в то время как любой случайно оказавшийся поблизости обломок деревяшки, наоборот, позволит поднять голову выше и осмотреться. Человек, не привыкший к плаванию, барахтаясь в воде, неизменно выбрасывает руки вверх, при этом стараясь сохранить голову в привычном вертикальном положении. В итоге рот и ноздри оказываются под водой, когда человек пытается дышать, в его легкие попадает вода, и он начинает захлебываться. Большое количество воды попадает также в живот, отчего все тело становится тяжелее из-за разницы в весе воздуха, которым раньше были наполнены эти полости, и жидкости, которая начинает занимать его место. Как правило, разницы этой достаточно, чтобы полностью погрузить тело под воду, но только не в том случае, когда люди тонкокостные или имеющие избыточный объем мягких тканей либо жира. Такие остаются на плаву даже после того, как захлебываются.
Труп, который находится на дне реки, будет оставаться там до тех пор, пока каким-то образом его удельный вес снова не станет меньше удельного веса вытесняемого им объема воды. Это может происходить из-за разложения или по какой-то иной причине. Разложение приводит к тому, что в теле начинает вырабатываться газ, который расширяет рыхлую соединительную ткань и все полости, из-за чего тело и принимает такой ужасный раздутый вид. Когда это расширение доходит до такой степени, что труп начинает физически увеличиваться в размерах, не увеличивая при этом свою массу или вес, тело становится легче воды и незамедлительно всплывает на поверхность. Однако на разложение оказывает влияние огромное количество обстоятельств, есть масса причин, которые могут либо ускорить его, либо замедлить. Например, время года, чистота воды или насыщенность ее минералами, глубина, скорость течения, температура тела, последствия болезней, которыми страдал человек при жизни, и так далее. Таким образом, становится понятно, что мы не можем с какой-либо определенностью установить то время, через которое тело поднимется на поверхность в результате разложения. При одних условиях оно всплывет через час, при иных – этого вовсе не произойдет. Есть химические вещества, присутствие которых в клетках организма навсегда защищает его от разложения, скажем, дихлорид ртути. Однако помимо разложения, газ может выделяться – и чаще всего выделяется – в результате уксусного брожения находящихся в желудке веществ растительного происхождения, да и в других полостях могут скапливаться газы в достаточном количестве, чтобы раздуть тело настолько, что оно поднимется на поверхность. Стрельба из пушки над водой вызывает всего лишь вибрацию, которая может освободить тело из мягкого ила или жидкой грязи, удерживающих его на дне, и заставить всплыть, если другие процессы уже подготовили его к этому. Или же она может преодолеть сопротивление некоторых сгнивших масс клеточных тканей, что приведет к выбросу газа во внутренние полости и их расширению.
Итак, поняв суть данного процесса, мы теперь можем судить о правильности утверждений «Этуаль». «Известно, что утопленнику либо трупу, брошенному в воду сразу после убийства, – говорится в газете, – требуется провести под водой от шести до десяти дней, чтобы разложиться до той степени, которая позволит ему всплыть на поверхность. Даже когда над телом, пролежавшим на дне меньше пяти-шести дней, стреляют из пушки и труп всплывает на поверхность, в скором времени, если его не забрать, он снова погружается под воду».
Теперь все это кажется набором непоследовательных и бессвязных слов. Нам вовсе не известно, что «утопленнику» требуется провести под водой от шести до десяти дней, чтобы разложиться до той степени, которая позволит ему всплыть на поверхность. И наука, и человеческий опыт говорят о том, что время, необходимое для всплытия тела, определить невозможно. Если сверх того тело всплыло после пушечной стрельбы, оно не погрузится снова под воду до тех пор, пока не разложится настолько, что газы выйдут из него. Но я хочу привлечь ваше внимание к указанной разнице между «утопленником» и «трупом, брошенным в воду сразу после убийства». Автор хоть и понимает различие, тем не менее включает их в одну категорию. Я уже рассказал о том, каким образом тело тонущего становится тяжелее соответствующего объема воды, и что оно вовсе не утонет, если исключить барахтанье, при котором над водой поднимаются руки, и попытки вдохнуть под водой, из-за чего место воздуха в легких занимает вода. В случае «трупа, брошенного в воду сразу после убийства» о барахтанье и дыхании речь, конечно же, не идет, то есть, такое тело, как правило, всегда остается на плаву. Похоже, что с этим фактом «Этуаль» не знакома. Когда разложение достигает значительной степени (когда большие части плоти отстают от костей), тогда тело действительно скрывается под водой, но не раньше.
Что же нам делать с утверждением, что найденное тело не может быть телом Мари Роже потому, что со дня ее исчезновения прошло всего трое суток, а его нашли плавающим? Если бы женщина захлебнулась насмерть, ее тело могло остаться на плаву, а если бы и пошло ко дну, то могло всплыть через двадцать четыре часа, а то и меньше. Но никто не считает, что она утонула, и, поскольку умерла она до того, как попала в реку, ее плавающий в воде труп могли найти в любое время после того, как его туда бросили.
«Но, – заявляет “Этуаль”, – если тело в подобном изувеченном виде до ночи со вторника на среду пролежало на берегу, там должны были остаться какие-то следы убийц». Тут даже трудно сходу определить, что автор хотел этим сказать. Похоже, он намеревается предвосхитить возражение, которое может вызвать его версия, viz[65]: то, что тело два дня пролежало на берегу, претерпевая быстрое разложение… Более быстрое, чем если бы оно находилось в воде. Он предполагает, что, если бы это действительно было так, тело могло всплыть в среду, и думает, что только при таких обстоятельствах это могло произойти. Соответственно, он поспешил доказать, что тело не лежало на берегу: видите ли, в таком случае «там должны были остаться какие-то следы убийц». Я думаю, ваша улыбка вызвана этим sequitur[66]. Вы не можете понять, каким образом продолжительность нахождения трупа на берегу может приумножить следы убийц. Я – тоже.
«И более того, – продолжает наша газета, – очень маловероятно, чтобы те нелюди, которые совершили это убийство, бросили тело своей жертвы в воду, не привязав к нему какой-либо груз, если принять эту меру предосторожности не составляло никакого труда». Обратите внимание на смехотворную путаницу в мыслях. Никто, даже сама «Этуаль» не сомневается, что найденное тело принадлежит жертве убийства, ибо следы насилия слишком очевидны. Наш мыслитель преследует лишь одну цель: убедить читателей, что найденное тело – это не Мари. Он хочет доказать, что Мари не убита, а не то, что найденный труп не является жертвой убийства. Тем не менее его замечание доказывает исключительно последний пункт. Мы имеем труп, к которому не прикреплен груз. Убийцы, бросая его в воду, сделали бы это непременно. Отсюда вывод: он не был брошен в воду убийцами. Если это предложение и доказывает что-нибудь, то только это. Вопрос об установлении личности даже не ставится, и «Этуаль» теперь старается изо всех сил, чтобы опровергнуть свои же собственные выводы, сделанные секунду назад. «Мы совершенно уверены, – говорится здесь, – что найденная женщина была убита».
И это не единственный пример того, как автор невольно вступает в противоречие со своими же собственными словами, даже в этой части рассуждений. Его очевидная цель, как я уже сказал, – как можно сильнее уменьшить временной промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. И в то же время он уделяет особое внимание тому, что никто не видел девушку после того, как она покинула дом матери. «Мы и не знаем наверняка, была ли Мари Роже все еще на этом свете после девяти часов в воскресенье двадцать второго июня». Раз уж его доводы настолько ex parte, ему бы следовало, по крайней мере, вообще не касаться этого обстоятельства, поскольку, если бы сыскался кто-нибудь, кто видел Мари, скажем, в понедельник или во вторник, промежуток этот сократился бы значительно, и это, согласно его же логике, заметно уменьшило бы вероятность того, что обнаруженный труп действительно является телом гризетки из парфюмерного магазина. Все же довольно забавно наблюдать за тем, как «Этуаль» настаивает на этой подробности, искренне полагая, что может этим подкрепить общий ход своих рассуждений.
Давайте теперь внимательно рассмотрим ту часть статьи, в которой говорится, как Бове проводил опознание тела. Что касается волосков на руке, тут «Этуаль» явно хитрит. Месье Бове не идиот, он не стал бы считать наличие волосков на руке приметой, по которой можно опознать труп. Не бывает рук, полностью лишенных волос. Неопределенность выражения, использованного «Этуаль», является всего лишь искажением слов, произнесенных свидетелем. Должно быть, он говорил о каком-то особенном свойстве этих волосков: о необычном цвете, о густоте, длине, об их расположении или о чем-то другом в этом роде.
«У нее, – пишет газета, – маленькие ступни. Но есть тысячи ступней такого же размера. Подвязка ее и вовсе не может служить доказательством, как и туфли. То же самое можно сказать и о цветах на шляпке. Месье Бове особенно выделяет, что застежка у нее на подвязке была подогнана под ее размер. Но это тоже ничего не значит, потому что большинство женщин предпочитают не примерять подвязки в магазине, а подшивать под свой размер дома». Трудно предположить, что в данном случае автор статьи пишет искренне. Если бы месье Бове, разыскивая тело Мари, обнаружил труп девушки, похожей на нее размером и внешним видом, он уже имел бы право посчитать (не касаясь вопроса ее одежды), что его поиски увенчались успехом. Если, вдобавок к общему размеру и виду, он еще и увидел на ее руке какие-то особенные волоски, такие же, какие видел на живой Мари, его уверенность только усилилась бы, и сила уверенности вполне могла находиться в зависимости от того, насколько характерны или необычны были эти волоски. Если ступни у Мари были маленькие и ступни трупа оказались такими же маленькими, степень вероятности того, что найденное тело и есть Мари, увеличилась бы не в арифметической, а в геометрической прогрессии или кумулятивно. Добавьте к этому туфли, такие же, как те, что были на ней в день исчезновения. Хоть туфли эти и «поступают в продажу партиями», их наличие возводит вероятность в степень уверенности. То, что само по себе не является особой приметой, в совокупности с другими подробностями становится верным доказательством. А если вспомнить и цветы на шляпке, такие же, как носила пропавшая девушка, этим доказательство можно и ограничить. Если бы там был только один цветок, и этого было бы достаточно, но каждый последующий не прибавляет дополнительное очко уже существующей уверенности, а умножает ее в сотни, тысячи раз. Кроме того, на трупе обнаруживаются еще и подвязки, точно такие же, как те, что носила Мари при жизни. Искать дополнительные доказательства просто глупо! Но подвязки эти ко всему еще и имеют застежки, подогнанные по ноге таким же способом, как это сделала Мари незадолго до выхода из дома. Продолжать и после этого сомневаться – либо безумство, либо лицемерие. То, что «Этуаль» не придает значения подшитым застежкам на подвязках, говорит только о том, что газета упорно не желает расставаться со своей ошибкой. Застежки на подвязках крепятся на растягивающейся основе, это уже само по себе указывает на необычность того, что их пришлось укорачивать. То, что сделано так, чтобы садиться по размеру, редко когда требует дополнительной подгонки. Скорее всего, то, что Мари пришлось подгонять их, является случайностью в самом строгом смысле этого слова. Одних этих подвязок вполне хватило бы, чтобы установить ее личность. Но главное не то, что на трупе были такие же подвязки, как на исчезнувшей девушке, такие же туфли, шляпка, цветы на шляпке; не то, что у него были такие же ступни; не особая примета в виде характерных волосков на руке; не то, что общим внешним видом и размерами он напоминал исчезнувшую… Главное то, что труп имел все эти особенности. Если бы можно было доказать, что журналист из «Этуаль» в данных обстоятельствах искренне продолжает сомневаться, с ним бы все было ясно и без комиссии de lunatic inquirendo[67]. Он посчитал, что его сочинению придаст веса повторение манеры разговора встречающихся где-нибудь вне работы адвокатов, которые сами чаще всего повторяют формальный стиль речи, принятый для общения в залах суда. Надо заметить, что большая часть тех доказательств, которые отвергаются судами, человеку здравомыслящему, наоборот, представляется наиболее убедительными доказательствами. Ведь суд руководствуется принципами признания улик – общепринятыми и записанными в правилах – и неохотно отходит от них в конкретных случаях. Строгое соблюдение этих принципов при полном пренебрежении к исключениям по большому счету является верным способом достичь максимума истины. То есть, в целом такой подход можно назвать философским, но это также означает, что на уровне частностей он допускает огромное количество ошибок[68].
Что касается оскорбительных намеков в адрес Бове, все их можно отмести разом. Вам, очевидно, уже ясен характер этого доброго человека. Это дотошный мужчина, у которого в голове много романтики, но мало ума. Любой человек такого склада в подобных необычных обстоятельствах повел бы себя так же и навлек бы на себя подозрение со стороны излишне проницательных или предвзято относящихся к нему. Месье Бове (как явствует из ваших записей) несколько раз беседовал с журналистом из «Этуаль» и задел его своей уверенностью в том, что этот труп, вопреки точке зрения самого журналиста, вне всякого сомнения, является трупом Мари. «Он упорно настаивает на том, что это труп Мари, – говорится в газете, – но не может в подтверждение своих слов привести ни одного действительно убедительного доказательства, кроме тех, о которых мы уже рассказывали». Так вот, если не вспоминать лишний раз о том, что более «убедительного» доказательства, которое он уже привел, не требуется, можно заметить, что вполне понятно, почему человек в подобных обстоятельствах совершенно убежден в своей правоте, но не может высказать причин своей убежденности, которые могли бы заставить так же поверить в это кого-то другого. Нет ничего более трудноопределимого, чем образ другого человека, который рождается у нас в сознании. Любой человек узнает соседа, но почти никогда не может четко выразить, по каким именно критериям происходит это «узнавание». Журналист из «Этуаль» не имел права упрекать месье Бове в безосновательности его убежденности.
Его якобы подозрительное поведение намного проще объяснить моим предположением о романтической дотошности, чем виновностью перед законом, в которой его подозревает автор статьи в «Этуаль». Приняв более благосклонную позицию, мы легко объясним и розу в замочной скважине, и имя Мари на грифельной доске, и «оттеснение на второй план всех родственников мужского пола», и то, что он якобы добивается, «чтобы никто из родных убитой не увидел тела», и его предостережение мадам Б. не разговаривать с жандармом до его (Бове) возвращения, и, наконец, его откровенное стремление к тому, чтобы «никто кроме него не принимал участия в расследовании». По-моему, вполне очевидно, что Бове был поклонником Мари, что она кокетничала с ним и что он хотел создать впечатление, будто у них были близкие отношения, и он пользовался ее полным доверием. На этом данный вопрос я закрою, и, поскольку факты полностью опровергают заявление «Этуаль» насчет безразличия со стороны матери и остальных родственников – безразличия, несообразного с их предполагаемой уверенностью в том, что убитая и есть девушка из парфюмерной лавки, – в дальнейшем можно будет считать, что личность трупа установлена.
– А что вы думаете о взглядах «Коммерсьель»? – спросил я.
– То, что они заслуживают намного большего внимания, чем все прочие, высказанные об этом деле. Ее логические выводы на основании различных предпосылок умны и точны, однако, по меньшей мере, в двух примерах предпосылки эти сами основаны на неточных наблюдениях. «Коммерсьель» приходит к выводу, что Мари рядом с домом матери попала в руки банде отпетых негодяев. «Невозможно, – замечает она, – чтобы кто-либо настолько известный, как эта молодая женщина, прошел три квартала и совершенно никем не был замечен». Так может считать лишь человек, который давно живет в Париже, светский человек, передвижение по городу которого в основном происходит в поле зрения общественных мест. Он понимает, что для него почти невозможно пройти мимо дюжины сотрудников из его же конторы, чтобы при этом его не узнали и не приветствовали. Думая о собственном круге знакомств и о том, насколько он известен другим, автор этой статьи, ставя на один уровень собственную узнаваемость с узнаваемостью девушки из парфюмерного магазинчика, не видит между ними большой разницы и тут же приходит к выводу, что ее на улице должны были узнавать так же, как и его. Об этом можно было бы говорить, если бы она, как и он, всегда перемещалась по улицам одним маршрутом и в одно и то же время. Ему привычно ходить через одинаковые промежутки времени внутри ограниченной территории, где полным-полно сотрудников, ожидающих его появления. Но с большой долей вероятности можно предположить, что перемещения Мари были хаотичны. В тот раз, вероятнее всего, она отправилась наименее привычным для себя маршрутом. Параллель, которая, судя по всему, существует в мыслях журналиста «Коммерсьель», имела бы право на существование в том случае, если бы речь шла о пересечении ими обоими всего города. Тогда, при условии что степень узнаваемости обоих уравнена, шансы на то, что их узнало бы примерно одинаковое количество людей тоже примерно уравнялись бы. Со своей стороны, я бы считал не просто возможным, а очень даже вероятным то, что Мари в любое время могла пройти по одному из многочисленных маршрутов от своего дома до дома тети и не встретить при этом ни одного знакомого или человека, который знал бы ее. Рассматривая этот вопрос в общем и полном свете, нам необходимо помнить о колоссальной диспропорции между кругом знакомств даже самой большой парижской знаменитости и общим числом парижан.
Впрочем, каким бы убедительным ни было предположение «Коммерсьель», сила его в значительной степени уменьшится, если мы примем во внимание время, в которое девушка вышла из дома. «Из дома она вышла, – пишет газета, – когда на улице уже было полно людей». Но это не так. Вышла она в девять часов. Верно, в девять утра в любой день недели, за исключением воскресенья, улицы города кишат людьми. Но в девять часов воскресного утра люди в основном дома и готовятся идти в церковь. Любой внимательный человек знает, насколько пустынно в городе примерно с восьми до десяти утра в христианский день отдыха. С десяти до одиннадцати улицы полны людей, но не раньше.
Есть еще один вопрос, в котором «Коммерсьель» проявила недостаток наблюдательности. «Лоскут (два фута в длину, один фут в ширину), – пишет она, – вырванный из юбки несчастной девушки, был завязан вокруг ее шеи и закреплен узлом под затылком, вероятно, для того чтобы не дать ей закричать. Это было сделано людьми, у которых не водится носовых платков». Насколько это заключение соответствует истине, мы разберемся позже, но под «людьми, у которых не водится носовых платков», автор понимает последнюю мразь. Однако дело в том, что у таких людей может не быть рубашки, но носовой платок у них есть всегда. Вам наверняка приходилось замечать, что в последние годы любой законченный негодяй считает своим долгом иметь при себе носовой платок.
– А что нам думать о статье в «Солей»? – поинтересовался я.
– А то, что, родись ее автор попугаем, цены бы такому попугаю не было. Он просто-напросто повторил то, что уже было высказано на страницах других изданий, с похвальным прилежанием, собрав воедино их выводы. «Все эти вещи пролежали там самое меньшее три-четыре недели, – пишет он. – И не остается сомнения, что место, где было совершено это ужасающее преступление, обнаружено». Повторенные в «Солей» факты у меня вовсе не вызывают такой уверенности, и мы еще обсудим их более подробно, когда перейдем к следующему этапу нашего разбора.
Сейчас нам необходимо пустить расследование в иное русло. Вы и сами наверняка заметили, до чего небрежно был проведен осмотр трупа. Да, личность погибшей установили, но ведь были и другие пункты, которые нуждались в проверке. Была ли жертва ограблена? Имела ли она при себе что-то ценное, когда выходила из дому, драгоценные украшения например? Если да, то были ли они на ней, когда тело нашли? Все это важные вопросы, о которых в показаниях нет ни слова. Есть и другие, не менее важные, которым никто не придал значения. Нам придется довольствоваться собственными рассуждениями. Нужно будет проанализировать роль Сент-Эсташа в этом деле. Этот человек у меня не вызывает подозрений, но давайте действовать по порядку. Убедимся, что его данные под присягой показания о том, где он находился в то воскресенье, полностью соответствуют действительности. Письменные показания подобного рода нередко бывают лживыми, но, если окажется, что в данном случае все верно, Сент-Эсташа можно будет исключить из нашего расследования. Однако его самоубийство, которое, казалось бы, усиливает подозрение, что в его показаниях присутствует ложь, на самом деле вполне объяснимо и не может заставить нас отказаться от обычных методов анализа.
Я предлагаю не думать о причине этой трагедии и сосредоточиться на сопутствующих обстоятельствах. В расследовании дел, подобных этому, одной из самых распространенных ошибок является то, что рассматриваются лишь те события, которые имеют самое непосредственное отношение к происшествию, но сопутствующие или побочные обстоятельства при этом остаются вовсе без внимания. Суды допускают серьезные ошибки, ограничивая свидетельские показания и прения только тем, что имеет непосредственное отношение к делу. Опыт да и обычный здравый смысл подсказывают нам, что огромная, возможно, даже бóльшая часть истины обнаруживается в том, что кажется не связанным напрямую с рассматриваемым вопросом. Если не сам этот подход, то дух его позволил современной науке решиться на то, чтобы включать в свои расчеты непредвиденное. Впрочем, возможно, вам трудно уловить мою мысль. Вся история человеческих знаний показывает, что именно благодаря второстепенным, побочным или случайным обстоятельствам были сделаны самые важные открытия, то есть мы должны рассчитывать, даже не во многом, а большей частью, что следующие важные открытия также будут носить случайный характер, будут находиться вне пределов ожидаемого. Сейчас уже просто не умно основывать видение того, что будет происходить, на том, что уже произошло. Случайность стала восприниматься как часть основы всего происходящего. Случай мы включаем в систему абсолютных расчетов. Непредвиденное и случайное мы даже закладываем в школьные математические формулы.
Повторю еще раз: нужно воспринимать как факт, что бóльшая часть истины берет начало во второстепенном. Только лишь поэтому в расследовании настоящего дела я схожу с избитой, а значит, и бесплодной дороги, ведущей к самому событию, и направляюсь в сторону побочных сопутствующих обстоятельств. Пока вы займетесь проверкой имеющихся показаний, я возьмусь за более глубокое изучение газет. До сих пор мы производили только предварительную разведку территории, на которой нам предстоит вести расследование, и я буду сильно удивлен, если тщательный просмотр прессы не даст чего-нибудь такого, что укажет направление поисков.
Следуя указаниям Дюпена, я внимательнейшим образом проверил все имеющиеся показания. Это принесло полную уверенность в их правдивости и сняло все подозрения с Сент-Эсташа. Мой друг тем временем был занят просмотром газетных подшивок. Я видел, насколько он поглощен этой работой, которая мне, признаться, казалась совершенно бессмысленной. В конце недели он положил передо мной следующие выдержки:
«Около трех с половиной лет назад волнения, очень сходные с нынешними, уже имели место в связи с исчезновением той же самой Мари Роже, работавшей в Пале-Рояль в парфюмерном магазине месье Ле Блана. Однако в тот раз через неделю она снова появилась за comptoir[69], живая и здоровая, только слегка бледная, впрочем, подобная бледность не была для нее чем-то необычным. Месье Ле Блан и мать Мари объяснили ее отсутствие тем, что она всего лишь ездила к какому-то другу, живущему за городом, поэтому дело быстро забылось. Мы полагаем, что и сейчас происходит нечто подобное, и через неделю, самое большее через месяц, она вновь окажется среди нас».
«Вечерняя газета», понедельник, 23 июня[70]«Вчерашнее вечернее издание упоминает прошлое загадочное исчезновение мадемуазель Роже. Хорошо известно, что ту неделю, когда ее не было в парфюмерной лавке Ле Блана, она провела в обществе одного молодого морского офицера, имеющего репутацию распутника и дебошира. Предполагается, что ссора с ним и заставила ее вернуться домой. Мы располагаем именем этого Лотарио, который в настоящее время проживает в Париже, но по очевидным причинам не желает этого афишировать».
«Меркюри», вторник, 24 июня, утренний выпуск[71]«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено отвратительное злодеяние. Поздно вечером мужчина с женой и молодой дочерью попросил шестерых молодых людей, бесцельно катавшихся по Сене в лодке, перевезти их через реку. Добравшись до противоположного берега, трое пассажиров высадились и прошли достаточно далеко, чтобы потерять из виду лодку, но дочь вдруг вспомнила, что оставила в ней зонтик. Когда она вернулась, чтобы забрать его, банда молодчиков схватила девушку, бросила в лодку и вывезла на середину реки. Там негодяи заткнули ей рот, надругались над несчастной жертвой и в конце концов высадили на противоположном берегу недалеко от того места, где она садилась в лодку с родителями. Пока что преступники не найдены, но полиция уже идет по их следу, и наверняка скоро кто-то из них будет схвачен».
«Утренняя газета», 25 июня[72]«Мы получили несколько писем, авторы которых пытаются доказать связь недавнего преступления с именем господина Менэ[73], но поскольку невиновность этого человека была полностью доказана беспристрастным расследованием, и тон этих писем скорее возмущенный, чем рассудительный, мы не думаем, что имеет смысл приводить их».
«Утренняя газета», 28 июня[74]«Мы получили несколько убедительно составленных писем, явно написанных разными людьми, в которых выказывается уверенность, что несчастная Мари Роже стала жертвой одной из тех многочисленных банд, которые собираются в предместьях города по воскресеньям. Наше мнение полностью совпадает с мнением наших читателей. В следующих номерах на наших страницах мы собираемся уделить место обсуждению данного вопроса».
«Вечерняя газета», понедельник, 31 июня[75]«В понедельник один из матросов с таможенной баржи заметил плывущую по Сене пустую лодку. Паруса ее лежали на дне. Матрос доставил лодку к таможенной пристани, но на следующее утро лодки на месте не обнаружили. Оказалось, что ее угнали, поскольку, как выяснилось, никто из офицеров не давал на ее счет никаких распоряжений. Руль лодки в настоящее время находится в конторе пристани».
«Дилижанс», четверг, 26 июняПрочтя эти выдержки, я не только не увидел в них ничего важного, но и не понял, как их можно использовать для нашего расследования. Я вопросительно посмотрел на Дюпена и стал дожидаться объяснений.
– На первой и второй из этих выдержек, – сказал он, – подробно останавливаться я не буду. Я выписал их в основном для того, чтобы показать вам крайнюю небрежность полиции, которая, насколько я понял из разговора с префектом, не удосужилась даже установить личность упомянутого морского офицера. Хотя отрицать предположение о том, что между первым и вторым исчезновением Мари Роже существует связь, попросту глупо. Допустим, первое тайное бегство Мари закончилось ссорой любовников и возвращением обманутой девушки домой. Это дает нам право думать, что второй раз она сбежала (если это был побег) не потому, что у нее появился новый поклонник, а потому что обманщик возобновил ухаживания. Это скорее нужно воспринимать как «возобновление старых отношений», а не как начало новых. То, что человек, с которым Мари однажды уже уходила из дома, предложил ей новый побег, в десять раз вероятнее того, что нашелся другой мужчина, который предложил побег той, кому один раз такое предложение уже делали. И тут позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что время, прошедшее с первого известного побега до второго предполагаемого, на несколько месяцев больше обычной продолжительности рейсов наших военных кораблей. Может быть, необходимость уходить в море помешала тогда любовнику воплотить в жизнь свои преступные замыслы? Может быть, сразу по возвращении из плаванья он взялся доводить до конца начатое? Обо всем этом нам ничего не известно.
Вы можете возразить, что во втором случае мы не знаем, был ли это побег. Это так, но имеем ли мы право утверждать, что он не предполагался? Сент-Эсташ, да еще, пожалуй, Бове – вот все известные нам поклонники Мари, которые ухаживали за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом нигде не упоминается. Так кто же тот тайный любовник, о котором ничего не известно родственникам (по крайней мере, большинству из них), с которым Мари встречается в воскресенье утром, и который пользуется таким доверием девушки, что она, не колеблясь, остается с ним до позднего вечера посреди глухой рощи в окрестностях заставы дю Руль? Кто этот тайный любовник, не знакомый большинству ее родных? И что означает удивительное пророчество мадам Роже: «Я никогда больше не увижу Мари»?
Если мы не можем себе представить, чтобы мадам Роже была посвящена в план побега, можем ли мы хотя бы предположить, что план этот был составлен самой девушкой? Перед уходом она дала понять, что собирается навестить тетушку на улице де Дром и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером. С первого взгляда кажется, что это опровергает мою версию, но давайте вдумаемся. Мы знаем, что она встретила какого-то знакомого, переплыла с ним на другой берег реки и к трем часам дня добралась с ним до заставы дю Руль. Однако, соглашаясь отправиться туда с этим человеком (нам не известно, с какой целью, и знала ли об этом ее мать), она не могла не вспомнить, что дома сказала, куда собиралась идти, и не подумать о том, какое удивление и подозрение вызовет ее отсутствие у Сент-Эсташа (с которым она была обручена), когда он в назначенное время придет на улицу де Дром, выяснит, что там она не появлялась, а потом в растревоженных чувствах вернется в пансион и узнает, что и дома ее все еще нет. Поверьте, она наверняка об этом подумала. Она, безусловно, предвидела недовольство Сент-Эсташа и всеобщие подозрения. И вернуться домой, чтобы развеять эти подозрения она тоже не могла, но все это для нее не имело значения, если мы предположим, что возвращение домой не входило в ее планы.
Можно представить, что рассуждала она примерно следующим образом: «Я собираюсь встретиться с таким-то мужчиной, чтобы с ним сбежать, или для каких-то других целей, известных только мне. Нельзя допустить, чтобы что-нибудь нас задержало, поскольку нам нужно время, чтобы избежать преследования. Я сделаю так, чтобы все подумали, будто я собираюсь навестить тетю, живущую на улице де Дром, и хочу провести у нее весь день. Сент-Эсташу я скажу, чтобы он зашел за мной вечером, таким образом я добьюсь, что мое отсутствие дома как можно дольше ни у кого не вызовет подозрений или тревоги и выиграю больше времени, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он наверняка не явится туда раньше, если же я не стану просить его ни о чем, мое время на побег значительно сократится, потому что все будут ожидать моего возвращения раньше и мое отсутствие скорее вызовет беспокойство. Далее, если бы я собиралась вернуться домой (если в планы мои входила всего лишь прогулка с означенным выше мужчиной), мне не было бы смысла просить Сент-Эсташа зайти за мной, так как, зайдя за мной, он наверняка узнает, что я обманываю его, хотя он может никогда этого не узнать, если я уйду из дома, ничего не сказав о своих планах, вернусь домой засветло и только тогда скажу, что ходила к тете на улицу де Дром. Но если я задумала не возвращаться домой или вернуться через несколько недель, или когда будет придумано какое-то объяснение, то меня должно интересовать только одно: как выиграть время».
Вы наверняка заметили, что самой распространенной версией относительно этого печального происшествия является, да и была с самого начала, версия, что девушка стала жертвой банды негодяев. При определенных условиях расхожему мнению стоит доверять. Когда оно возникает само по себе, когда зарождается спонтанно, его следует воспринимать, как нечто сходное с той интуицией, которая является отличительным признаком отдельно взятого гениального мыслителя. В девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но очень важно, чтобы общественное мнение было действительно независимым. Мнение это должно выражать взгляд исключительно самого общества, и разницу эту порой чрезвычайно трудно уловить и объяснить. В нашем случае мне сдается, что «глас народа» насчет банды был связан с не имеющим отношения к делу случаем, о котором подробно рассказывается в третьей из моих выдержек. Весь Париж взволновала страшная находка: труп Мари, молодой, красивой и известной девушки. На теле, которое было найдено плавающим в реке, имеются следы, указывающие на то, что она стала жертвой насилия. Известно, что в то же время или примерно в то же время, когда предположительно была убита девушка, группой молодых мерзавцев было совершено другое, сходное по характеру, хотя и закончившееся не столь трагически злодеяние в отношении второй молодой женщины. Стоит ли удивляться, что одно преступление, о котором известно все, оказало влияние на общественное мнение относительно другого преступления, подробности которого не известны? Суждение общества об этом происшествии ожидало подсказки, и тут, как по заказу, становятся известны подробности еще одного сходного случая. Мари тоже была найдена в реке, в той самой реке, на которой было совершено другое злодеяние. Схожесть настолько велика, что, право же, было бы просто удивительно, если бы люди не заметили этого и не приняли во внимание. Но, если уж на то пошло, одно преступление, совершенное определенным образом, на самом деле означает как раз обратное: то, что второе преступление, совершенное почти одновременно с ним, скорее всего, носило совершено другой характер. Было бы просто чудом, если бы, пока одна банда молодчиков в данном месте совершала неслыханное зло, другая подобная банда практически в том же месте, в том же городе, при таких же обстоятельствах, используя те же средства, занялась бы точно таким же делом в тот же период времени! Если не в подобную череду удивительных совпадений пытается заставить нас поверить глас народа, то во что же?
Прежде чем двинуться дальше, давайте попытаемся представить себе место, на котором было совершено убийство, – глухая чаща рядом с заставой дю Руль. Чаща эта хоть и густая, но находится совсем рядом с общественной дорогой. В зарослях есть три или четыре больших валуна, сложенных в некое подобие сиденья, со спинкой и подставкой для ног. На верхнем камне была найдена белая юбка, на втором – шелковый шарфик. Кроме того, рядом были обнаружены зонтик, перчатки и карманный носовой платок. На платке значилось имя: «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскуты, оторванные от платья. Земля утоптана, кусты поломаны, то есть налицо следы отчаянной борьбы.
Однако вопреки шуму, который подняла пресса вокруг этого открытия и тому единодушию, с которым все приняли эти заросли за место преступления, необходимо заметить, что существует очень веская причина усомниться в этом. Я могу верить или не верить, что это то самое место, но повод сомневаться есть, и очень серьезный. Если бы место, где было совершено преступление, как уверяет «Коммерсьель», находилось рядом с улицей Паве-Сент-Андре, преступники, если предположить, что все они еще обитают в Париже, наверняка должны были испугаться того, что столь пристальное внимание общественности направилось в истинное русло, и у людей определенного склада ума сразу же должно было зародиться ощущение необходимости как-то направить это внимание в другую сторону. Таким образом, раз чаща у заставы дю Руль уже попала под подозрение, в их головах вполне могла возникнуть мысль подбросить вещи девушки на то место, где они были найдены. Вопреки предположению «Солей», нет никаких доказательств того, что эти вещи пролежали в зарослях достаточно долго, хотя косвенных доказательств того, что они не могли оставаться незамеченными все двадцать дней, прошедших от рокового воскресенья до дня, когда их обнаружили мальчишки, хоть отбавляй. «Все эти вещи, – говорит “Солей”, принявшая точку зрения своих предшественников, – прибиты дождем, покрылись плесенью и слиплись. Вокруг некоторых из них уже успела вырасти трава. Шелк на зонтике не потерял прочности, но ткань села. Верхняя его часть, там, где он собирается и складывается, заплесневела и прогнила; когда зонтик попытались открыть, шелк порвался». Что касается травы, которая «успела вырасти вокруг некоторых из них», совершенно очевидно, что данный факт мог быть зафиксирован только со слов двух маленьких мальчиков, которые рассказывали по памяти, поскольку они собрали эти вещи и отнесли показать домой. Но трава, особенно в теплую и жаркую погоду (а во время, когда было совершено убийство, как раз такая погода и стояла), прорастает на два-три дюйма в день. Зонтик, лежащий на дерне, может в течение одной недели скрыться из виду под выросшей травой. Теперь о плесени, которой автор статьи уделяет столько внимания, что даже в этом коротком отрывке упоминает о ней дважды. Неужели он действительно не знает, что такое плесень? Неужели ему нужно объяснять, что плесень – это один из многочисленных видов грибков, характерной особенностью которых является способность прорасти и сгнить в течение двадцати четырех часов?
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: громкое заявление о том, что предметы эти пролежали там «самое меньшее три-четыре недели», с точки зрения фактов, совершенно голословно. С другой стороны, очень маловероятно, что вещи эти могли пролежать в этих зарослях незамеченными больше недели. Тот, кто хоть немного знаком с окрестностями Парижа, знает, что найти уединение здесь можно только лишь на большом расстоянии от его предместий. Невозможно себе представить, что где-то еще сохранились укромные места, в которых достаточно долго никто не появляется, не говоря уж о местах, еще вовсе не обследованных. Любой, кого в душе тянет к природе, но кто прикован цепями долга к этому пыльному, раскаленному огромному городу, пусть любой из таких людей может попытаться, хотя бы даже в рабочий день, найти желанное одиночество среди прекрасных мест первозданной природы, непосредственно окружающих нас. Да он на каждом шагу будет слышать чей-то голос или натыкаться на какую-нибудь подозрительную личность или шумную компанию гуляк. Напрасно такой человек попытается скрыться за самыми густыми зарослями. Именно здесь собирается самая опустившаяся голытьба, именно эти храмы чаще всего подвергаются поруганию. С болью в сердце наш странник поспешит обратно в грязный Париж, посчитав его местом менее отвратительным, поскольку в этой клоаке вся грязь и мерзость, по крайней мере, привычное дело. Но если даже в рабочие дни в окрестностях города настолько людно, можно представить, что творится там по воскресеньям! Именно тогда, освободившись от обязанности трудиться или потеряв возможность совершать обычные преступления, городское отребье устремляется на природу, но не из-за любви к деревне, которую они в душе презирают, а для того чтобы удалиться от ограничений и условностей, принятых в обществе. Таким людям свежий воздух и зелень деревьев нужны гораздо меньше, чем полная свобода действий, которую может дать деревня. Здесь, в каком-нибудь придорожном трактире или в глуши густых зарослей, где их не видит никто, кроме таких же дружков, они предаются своим противоестественным и извращенным оргиям – порождению вольницы и спиртных напитков. Я не скажу ничего такого, что не очевидно для любого беспристрастного наблюдателя, когда повторю: иначе как чудом не назовешь обстоятельства, способные привести к тому, что обнаруженные вещи остались бы не найденными достаточно долгое время (от одного воскресенья до другого) в любой точке в непосредственной близости от Парижа.
Однако есть и другие причины подозревать, что эти вещи были подброшены в чащу специально, чтобы отвлечь внимание от настоящего места преступления. И для начала позвольте мне обратить ваше внимание на дату обнаружения вещей. Сопоставьте ее с пя́той датой моих газетных выдержек. Вы увидите, что найденными вещи оказались почти сразу же после того, как в вечернюю газету стали приходить письма. Хоть написаны они явно разными людьми, смысл их сводится к одному, viz: в них отстаивается мысль, что преступление совершено группой лиц рядом с заставой дю Руль. Нет, конечно же, я не подозреваю, что мальчишки обнаружили в зарослях вещи убитой благодаря этим письмам или тому вниманию, которое они к себе привлекли; я считаю, что они не отыскали их раньше, потому что до того времени в тех зарослях вещей просто не было, их подбросили туда сами авторы данных писем только после того или незадолго до того, как письма пришли в газету.
Эта чаща необычная, очень необычная. Она необычна своей густотой. За непроницаемой стеной из кустов и деревьев в ней находятся три странных камня, образующие сиденье со спинкой и подставкой для ног. И эта чаща, это нерукотворное произведение искусства, всего в нескольких шагах от дома мадам Делюк, сыновья которой часто ходят туда за корой сассафраса[76]. Можно ли сомневаться, что хотя бы раз в день по меньшей мере один из них пробирался в этот тенистый природный зал, чтобы посидеть на каменном троне. Тот, кто не поддастся такому соблазну, либо никогда не был мальчишкой, либо позабыл, каково это. Я повторяю: очень трудно понять, как эти предметы могли не быть найдены в той чаще дольше одного-двух дней, давая достаточно убедительный повод подозревать, что подброшены они сравнительно недавно, хотя эта точка зрения и идет вразрез со столь уверенным и столь невежественным мнением «Солей».
Однако существуют и еще более веские аргументы в пользу того, что они были подброшены, намного более веские, чем те, которые я приводил до сих пор. Я попрошу вас обратить внимание на совершенно неестественное расположение всех этих предметов. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором – шелковый шарфик, вокруг были беспорядочно разбросаны зонтик, перчатки и платок с именем Мари Роже. Именно так и должен был расположить эти вещи не слишком проницательный человек, который хотел разложить их естественно. Но в действительности вещи так никогда бы не легли. Я бы на месте этого человека бросил их все на землю и затоптал ногами. Вряд ли в пределах этой естественной беседки юбка и шарфик могли бы остаться на камнях, если там происходило хаотичное движение нескольких борющихся человек. «Земля вокруг этого места, – говорится в газете, – была утоптана, ветки кустов изломаны. Судя по всему, там происходила борьба». И в то же время юбка и шарфик располагались на камнях так, словно лежали на полках в магазине. «Ровные лоскуты, вырванные из платья ветками кустов, имели примерно три дюйма в ширину и шесть дюймов в длину. Один из них (со следами штопки) был оторван от нижнего края платья, второй – вырван из его середины». Здесь «Солей» по неосторожности использует фразу, которая очень настораживает. Да, действительно, похоже, что эти полоски были «оторваны», но только сделано это было не случайно колючками кустов, а намеренно и руками. Лишь очень редко происходит, чтобы какой-то кусок «отрывался» от одежды такого рода, зацепившись за колючку. Ткани, из которых шьются подобные предметы одежды, имеют такую структуру, что колючка или, скажем, гвоздь, попав в них, разрывает их прямоугольно, дает два продольных направления разрыва, расположенных под прямым углом и встречающихся в том месте, где вошла колючка. Невозможно себе представить, как при этом какой-то лоскут может быть «вырван» прямой полоской. Я никогда не видел, чтобы такое происходило, вы, вероятно, тоже. Для того чтобы вырвать кусок из такой ткани, почти всегда требуется приложить две разные силы, идущие в противоположных направлениях. Если бы ткань имела два края (например, если бы нам потребовалось вырвать лоскут из носового платка), вот тогда и только тогда, хватило бы одной силы, чтобы оторвать ленту от угла вдоль края. Но в нашем случае речь идет о платье, которое имеет только один край. Чтобы вырвать кусок из его середины, где вообще нет края, понадобилось бы чудесное вмешательство, расположившее колючки куста в нужном порядке. Ни одна колючка сама не могла бы такого сделать. Но даже там, где край присутствует, для этого потребовалось бы две колючки: одна, рвущая ткань в двух направлениях, вторая – в одном, и то, при условии, что край платья не подрублен. Если же край подогнут и подшит, о том, чтобы вырвать из такого платья ровный лоскут, не может быть и речи. Итак, мы видим многочисленные и немалые трудности, которые возникают, если речь заходит о том, чтобы вырвать из ткани ровный кусок посредством простых «колючек», но тем не менее нас призывают поверить, что такое чудо произошло не один, а несколько раз. К тому же «один из них был оторван от нижнего края платья», а второй – «вырван из его середины»! То есть каким-то образом был вырван кустом из части платья, которая лишена края! Я думаю, мы имеем полное право не поверить, что подобное могло произойти. Тем не менее все эти сомнения, вместе взятые, дают меньший повод для подозрений, чем сам тот удивительный факт, будто убийцы, достаточно осторожные, чтобы избавиться от трупа, не додумались убрать с места преступления вещественные доказательства. Но вы неправильно меня поняли, если думаете, будто я хочу доказать, что убийство произошло не в этой чаще, а где-то в другом месте. Возможно, там что-то и случилось, скорее всего, то, о чем рассказала мадам Делюк, но на самом деле это не так уж важно. Наша задача заключается не в том, чтобы разыскать место, а в том, чтобы выяснить, кто убил Мари Роже. То, о чем я сейчас говорил – хоть я и уделил этому столько внимания, – имело целью, во-первых, указать на глупость «Солей», которая делает такие поспешные и необдуманные заявления, и во-вторых (и это главное), заставить вас задаться вопросом: было это убийство совершено бандой или одним человеком?
Рассмотрим этот вопрос, обратившись к неприятным подробностям обследования тела, проведенного врачом в ходе дознания. Для начала нужно заметить, что его опубликованные выводы относительно количества преступников были совершенно справедливо осмеяны и названы ложными и полностью безосновательными всеми известными парижскими анатомами. Не то, чтобы выводы эти подразумевали что-то совсем невозможное, нет, просто не существует никаких оснований для подобных выводов. Но имеем ли мы достаточно оснований, чтобы делать какие-либо другие?
Давайте теперь разберемся со «следами борьбы» и позвольте задать вопрос: на что должны были указать подобные следы? На банду. Но разве они не указывают на обратное, на то, что никакой банды не было? О какой борьбе идет речь? Какой яростной и долгой должна быть борьба, после которой осталось бы столько «следов»? Речь ведь идет о слабой беззащитной девушке и «банде» отчаянных головорезов. Да пары взмахов грубых рук хватило бы, чтобы решить все дело. Им ничего не стоило сделать так, чтобы жертва оказалась совершенно лишена воли. Но здесь нужно помнить, что доводы против того, что местом преступления была эта чаща, преимущественно справедливы только в том случае, если считать, что преступников было несколько. Если мы представим себе преступника, действующего в одиночку, тогда и только тогда борьба могла быть достаточно ожесточенной и упорной, чтобы оставить столь видимые «следы».
И кроме того, я уже упоминал, насколько подозрительным кажется тот факт, что все эти предметы вообще были оставлены на том месте в чаще, где их обнаружили сыновья мадам Делюк. Кажется почти невероятным, что эти улики остались там случайно. Тому, кто совершил убийство, как предполагается, хватило ума избавиться от тела, и в то же время улики более веские, чем само тело (вид которого очень скоро под воздействием гниения изменился бы до неузнаваемости), были спокойно оставлены на месте! Я имею в виду платок с именем убитой. Если это произошло случайно, то эту случайность нельзя приписать банде, такую случайность мог допустить лишь тот, кто действовал один. Вот смотрите. Преступник-одиночка совершает убийство. Он остается один на один с бездыханным телом жертвы. То, что лежит неподвижно перед ним, приводит его в смятение. Безумство страсти развеялось, и его, совершенно естественно, охватывает ужас содеянного. Он не испытывает той уверенности в себе, которую неминуемо придает присутствие соучастников. Рядом с ним только труп. Его начинает бить дрожь, он не знает, что делать. Наконец убийца тащит тело к реке, но оставляет за собой улики, поскольку очень тяжело (если это вообще возможно) унести все сразу. Ему проще потом вернуться и все собрать. Однако пока он тратит силы на поход к реке, его страх удваивается. Звуки жизни окружают его со всех сторон. Десять раз он слышит или представляет, что слышит шаги приближающегося свидетеля. Его смущают даже огни города. Все же, выбившись из сил, после нескольких остановок он достигает наконец воды и избавляется от своей жуткой ноши… Возможно, воспользовавшись для этого лодкой. Но что дальше? Существуют ли в мире такие сокровища, которые могли бы заставить его вернуться? Есть ли наказание столь ужасное, что страх перед ним мог бы заставить одинокого убийцу пройти еще раз этот трудный и опасный путь обратно в густые заросли к таящимся там леденящим кровь воспоминаниям? И он решает не возвращаться, чем бы это ни грозило. Он просто не мог вернуться. Единственное, о чем он сейчас думает, – как скорее убраться отсюда. И убийца навсегда покидает эти жуткие заросли, спасается бегством так, словно рука возмездия уже занесена над ним.
Но если бы это была банда? Их многочисленность дала бы им уверенность в себе, если вообще бывает так, что отъявленным негодяям не хватает самоуверенности (а подобные банды всегда и состоят из отъявленных негодяев). Их многочисленность наверняка не позволила бы появиться тому безотчетному страху и растерянности, которые охватывают одиночку. То, на что не обратил внимания один член банды, или два, пусть даже три, наверняка заметил бы четвертый. Они бы ничего не оставили за собой, поскольку их число позволило бы унести все сразу. Возвращаться не было нужды.
Теперь: «из подола платья от нижнего края до пояса была выдрана полоса примерно в фут шириной; но она была не оторвана, а трижды обернута одним концом вокруг талии и закреплена на спине довольно необычным узлом». Наверняка, это было сделано для того, чтобы соорудить что-то вроде ручки, за которую можно было бы тащить тело. Но если злоумышленников было несколько, стали бы они тратить силы на подобные ухищрения? Трем-четырем нести труп удобнее всего, взявшись за его конечности. Данное приспособление рассчитано на одного человека, и это подводит нас к тому факту, что «в оградах между этими зарослями и рекой обнаружены проломы, а на земле имелся четкий след, указывающий на то, что к реке волокли что-то тяжелое». Но стала бы группа людей тратить время на то, чтобы ломать или разбирать ограды, если им намного проще за секунду просто перебросить тело? Стала бы группа мужчин тащить мертвое тело, оставляя такой заметный след на земле?
И тут мы должны обратиться к наблюдению «Коммерсьель», тому, о котором я уже упоминал. «Лоскут, – пишут в этой газете, – вырванный из юбки несчастной девушки, был завязан вокруг ее шеи и закреплен узлом под затылком, вероятно, для того чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, у которых не водится носовых платков».
Я уже говорил, что у настоящих преступников всегда имеются носовые платки. Но сейчас речь не об этом. В зарослях остался платок Мари, и это явно указывает, что подобная повязка, необходимая для цели, которую представляет себе «Коммерсьель», появилась из-за того, что у убийцы не оказалось под рукой платка, к тому же само наличие повязки свидетельствует о том, что целью этого было вовсе не «заглушить крики». Но в отчете говорится, что эта лента «была свободно наброшена на шею и накрепко связана концами». Достаточно размытое описание, но оно существенно отличается от того, что пишет «Коммерсьель». Эта полоса ткани имела восемнадцать дюймов в ширину, так что, если ее сложить или смять в длину, из нее получилась бы достаточно прочная повязка, пусть даже материалом служил муслин. В таком смятом виде она и была обнаружена. Из всего этого я делаю такой вывод: убийца-одиночка, перенеся труп на какое-то расстояние (неважно, где это происходило, в чаще или в каком-либо ином месте) за ручку, сделанную из обрывка платья и прикрепленную к середине тела, понял, что для него это слишком тяжелая ноша, и решил дальше тащить жертву волоком. Улики указывают на то, что тело именно тащили по земле. Для этого необходимо было приделать к одному из концов тела что-то вроде веревки. Проще всего ее было замотать вокруг шеи, где голова не дала бы ей соскользнуть. Далее, убийца, несомненно, подумал использовать для этого повязку, завязанную вокруг талии. Он бы наверняка воспользовался ею, но она была крепко обмотана вокруг тела, связана прочным узлом, да еще и не оторвана от платья. Ему проще было вырвать из юбки новый кусок, что он и сделал. Завязал его вокруг шеи и уже за него дотащил свою жертву до воды. То, что «повязка» эта, сделанная наспех и не сразу, да еще и не совсем подходящая для данной цели, вообще появилась, доказывает, что необходимость в ней возникла уже после того, как носовой платок жертвы оказался вне пределов досягаемости, то есть уже после того, как убийца, как мы решили, вышел из чащи (если это происходило именно там), где-то между зарослями и рекой.
Но ведь мадам Делюк, возразите вы, в своих показаниях ясно говорит, что видела рядом с чащей банду, причем в то же или примерно в то же время, когда было совершено убийство. Допускаю, что так и было. Но я ручаюсь, что, когда случилась эта трагедия, рядом с заставой дю Руль находился еще добрый десяток других банд. Однако только эта группа, привлекшая к себе внимание запоздалыми и очень ненадежными показаниями мадам Делюк, по словам этой честнейшей и внимательнейшей женщины, наелась ее пирогов и напилась ее бренди, но не удосужилась заплатить. Et hinc illae irae?[77]
Что мы знаем из показаний мадам Делюк? «В трактире появилась группа мерзавцев, которые вели себя совершенно разнузданно и не заплатили ни за еду, ни за выпивку. Они удалились в том же направлении, что и молодой человек с девушкой, в трактир вернулись на закате и как будто в большой спешке уплыли обратно на противоположный берег».
Вполне вероятно, что эта «большая спешка» показалась мадам Делюк особенно большой, потому что она все еще горевала по поводу пирогов и пива, за которые, возможно, в глубине души еще надеялась получить оплату. Зачем еще ей было заострять внимание на спешке? Ведь нет ничего необычного в том, что люди, пусть даже банда отъявленных негодяев, спешат домой, если приближается ночь, погода портится, а им предстоит переплывать большую реку на маленькой лодке.
Я сказал «приближается», потому что тогда было еще не совсем поздно. Только начинало смеркаться, когда поспешное бегство этих «мерзавцев» окончательно расстроило мадам Делюк. Однако нам говорят, что именно в этот вечер мадам Делюк и ее старший сын слышали неподалеку от трактира женские крики. И какими словами мадам Делюк обозначает тот отрезок вечера, когда эти крики раздались? «Вскоре после того, как стемнело», – говорит она. Но «после того, как стемнело», по крайней мере, обозначает, что было уже темно. А выражение «на закате» подразумевает, что было еще светло. Таким образом, становится совершенно очевидно, что банда покинула заставу дю Руль до того, как женские крики были услышаны (услышаны ли?) мадам Делюк. И хоть во всех отчетах, повторивших ее показания, используются выражения, однозначно совпадающие по смыслу с теми, которые в разговоре с вами употребил я, никому, ни газетчикам, ни мирмидонцам из полиции, не пришло в голову обратить внимание на это несоответствие.
Я добавлю еще лишь один довод в доказательство того, что убийство было совершено не бандой. Но довод этот, на мой взгляд, сам по себе перевешивает все остальные, вместе взятые. Когда предлагается большое вознаграждение и полное помилование за показания против сообщников, можно ни на минуту не сомневаться, что хотя бы кто-то один из банды подонков или любой группы людей давно бы уже донес на дружков. Любой участник банды при таких обстоятельствах не столько хочет заполучить обещанную награду или помилование, сколько боится быть преданным. Он предпочтет сам предать и сделает это как можно раньше, чтобы самому не стать жертвой предательства. То, что тайна до сих пор еще не раскрыта, является лучшим доказательством тому, что это – действительно тайна. Все ужасы этого страшного преступления известны только одному или двум живым людям и Богу.
Давайте же теперь обобщим небогатые, но истинные выводы нашего долгого разбора. Итак, у нас есть два варианта: первый – это какой-то несчастный случай, произошедший под крышей мадам Делюк, и второй – это убийство, совершенное в чаще рядом с заставой дю Руль любовником, или, по крайней мере, тайным близким знакомым жертвы. Знакомый этот имеет смуглую кожу. Смуглость, «довольно необычный» узел на талии и морской узел на лентах шляпки – все это указывает на моряка. Его знакомство с убитой, беспечной, но вполне достойной молодой девушкой, указывает на то, что это не обычный матрос. Это подтверждают и умело составленные письма в газету. Обстоятельства первого побега Мари из дома, о которых упоминает «Меркюри», наводят на мысль о том, что этот моряк и есть тот самый «морской офицер», который вывел несчастную на путь, закончившийся убийством.
И тут самое время задуматься, почему об этом смуглом молодом человеке все еще ничего не слышно. Позвольте заметить, что кожа у этого человека смуглая, но вряд ли обычная смуглость обратила бы на себя внимание и Валанса, и мадам Делюк. Почему же этот человек до сих пор никак себя не проявил? Может быть, он убит бандой? Если это так, то почему найдены только следы девушки? Естественно предположить, что убить их должны были в одном месте. И где его труп? Убийцы ведь, скорее всего, избавились бы от тел одним и тем же образом. Можно смело утверждать, что этот человек жив, но скрывается, потому что боится обвинения в убийстве. Это соображение становится возможным сейчас, когда прошло время, и после того как нашлись свидетели, которые видели его с Мари. Сразу после убийства оно не имело бы силы. Человек невиновный первым делом должен был объявить о совершенном злодеянии и попытаться помочь найти преступников. Именно такое поведение выглядело бы разумным. Его видели с девушкой, они вместе пересекли реку на открытом пароме. Любому, даже идиоту, ясно, что самый верный и единственный способ снять с себя подозрение – обличить убийц. Не может быть, чтобы в ту роковую ночь воскресенья он, во-первых, сам не был виновен и, во-вторых, ничего не знал о случившемся. И в то же время только такими обстоятельствами можно объяснить, почему он, если жив, не донес на убийц.
Итак, как же нам установить окончательную истину? Какими средствами воспользоваться? По мере нашего продвижения вперед средства эти будут множиться и приобретать все более четкую форму. Нужно изучить обстоятельства первого побега Мари из дома. Следует узнать всю подноготную об этом «офицере», выяснить, чем он сейчас занимается и где находился во время совершения убийства. Надо внимательно сравнить между собой все присланные в вечернюю газету письма, в которых вина возлагается на банду. После того как это будет сделано, необходимо сличить эти письма, их стиль и почерк, с теми, которые приходили в утреннюю газету в прошлый раз и в которых с такой горячностью доказывалась вина Менэ. Когда это будет сделано, нужно будет опять же сличить все эти послания с почерком офицера, а также еще раз допросить мадам Делюк, ее сыновей и кучера омнибуса, Валанса, вдруг они еще что-нибудь запомнили о том спутнике Мари, кроме его смуглости. Если разговор построить умело, из них наверняка можно будет выудить какие-то новые сведения по интересующему нас вопросу (или, по крайней мере, что-нибудь имеющее отношение к делу). Они могут даже сами не догадываться, что знают нечто такое, что для нас очень важно. Наконец нужно найти лодку, которую утром в понедельник двадцать третьего июня подобрал матрос-таможенник и которая без руля исчезла с пристани без ведома дежурного офицера за какое-то время до того, как был обнаружен труп. При должной осторожности и настойчивости мы наверняка сумеем разыскать ее, поскольку, кроме того что обнаруживший лодку матрос сумеет опознать ее, в нашем распоряжении находится ее руль. Если лодку забрал человек с чистой совестью, он не мог не поинтересоваться рулем. И тут позвольте отвлечься на один вопрос. О том, что найдена лодка, никто объявлений не давал. Ее без лишнего шума доставили к пристани и увели оттуда точно так же без лишнего шума. Но, если объявлений не давалось, каким образом ее хозяин, или тот, кто взял ее напрокат, так быстро узнал, где находится его лодка, если уже на следующий день (во вторник) утром забрал ее? Остается только предположить, что он как-то связан с таможенным флотом, связан настолько тесно, что знает изнутри жизнь этой службы, в курсе всех подробностей и даже мелких местных новостей.
Говоря о том, как убийца-одиночка тащил свою ношу по берегу, я упомянул, что он мог воспользоваться лодкой. Нужно иметь в виду, что тело Мари Роже было брошено в воду из лодки. Этот вывод напрашивается сам по себе, потому что никто, желающий избавиться от трупа, не стал бы оставлять его на мелководье рядом с берегом. Отметины на спине и плечах убитой были оставлены поперечными брусьями, идущими по дну лодки. То, что к телу жертвы не привязали никакого груза, тоже говорит в пользу этого предположения. Если бы его сбрасывали с берега, к нему наверняка привязали бы что-то тяжелое. Единственное, что может объяснить его отсутствие, – это то, что убийца просто не подумал запастись тяжелым предметом заранее, отчаливая от берега. Когда настало время сбрасывать тело в воду, он, несомненно, вспомнил об этом, но ничего подходящего под рукой не оказалось, и он решил рискнуть, лишь бы не возвращаться на тот проклятый берег. Избавившись от жуткого груза, убийца, скорее всего, поспешил в город. Там на какой-нибудь неприметной пристани он сошел на берег, но лодка… Привязал ли он лодку? Может быть, он был слишком взволнован, чтобы в ту минуту думать о ней, а может быть, посчитал, что, закрепляя лодку у причала, оставляет лишнюю улику против себя. Самым естественным желанием для него тогда было как можно скорее избавиться от всего, что связывало его с совершенным преступлением. Он не просто пустился бы наутек, высадившись на той пристани, но и не позволил бы своей лодке остаться там. Наверняка он просто оттолкнул ее подальше от берега. Давайте попытаемся представить, что было дальше. Утром он с ужасом узнает, что лодку нашли и доставили в то место, где он бывает ежедневно. Возможно, в то место, где он обязан бывать ежедневно по долгу службы. Ближайшей ночью, не осмелившись забрать руль, он угоняет лодку. Итак, где может сейчас находиться эта неуправляемая лодка? Это первое, что нам нужно выяснить. Как только мы это узнаем, можно будет говорить, что наш успех не за горами. Эта лодка неминуемо выведет нас к тому человеку, который пользовался ею в роковую ночь воскресенья, настолько быстро, что мы сами удивимся. Первое подтверждение нашей версии станет основой для второго, второе – для третьего и так далее, пока мы не доберемся до убийцы.
[По причинам, указывать которые мы не будем, но которые многим читателям покажутся очевидными, мы взяли на себя смелость опустить из переданной нам рукописи с заметками об этом деле ту ее часть, в которой обстоятельно рассказывается о событиях, последовавших за тем, как Дюпен обнаружил эти не всегда очевидные улики. Думаем, будет не лишним коротко указать, что ожидаемый результат был полностью достигнут, и префект полностью, хотя и неохотно исполнил все условия договора с шевалье. Далее приведено окончание статьи мистера По. – Ред.][78]
Понятно, что я имею в виду лишь совпадения и не больше. Того, что я говорил об этом выше, должно быть вполне достаточно. В моем сердце вера в сверхъестественное не укоренилась. То, что Природа и ее Создатель – не одно и то же, ни один мыслящий человек не станет отрицать. То, что последний, создавая первую, может по своему желанию управлять ею или изменять ее, также не подлежит сомнению. Я говорю «по своему желанию», потому что речь идет о волеизъявлении, а не о власти, несмотря на те выводы, к которым в безумстве своем приходит логика. Я не утверждаю, что Создатель не может изменять законы, которые сам же создал, но мы оскорбляем его, когда представляем себе, что может возникнуть необходимость в подобных изменениях. Законы эти изначально были созданы так, чтобы включать в себя все случайности, которые могут произойти когда-либо. Для Бога не существует прошлого или будущего, для него все – настоящее.
Повторяю: говоря об этих вещах, я подразумеваю, что они являются всего лишь чередой совпадений. И далее: из того, что я говорю, станет понятно, что между судьбой несчастной Мэри Сесилии Роджерс (исходя из того, что известно о ее судьбе) и судьбой некой Мари Роже, вплоть до определенного момента в ее жизни, существует такая параллель, что разум, созерцая ее удивительную точность, приходит в замешательство. Я говорю «станет понятно», но ни в коем случае не стоит думать, что, продолжая свой печальный рассказ о Мари с вышеупомянутого момента и приводя к dénouement[79] окружавшую ее тайну, я исподволь собирался продолжить эту параллель или подсказать мысль о том, что меры, предпринятые в Париже для поиска убийцы гризетки, или меры, порождаемые любыми подобными рассуждениями, обязательно приведут к одинаковым результатам.
Поскольку относительно второго нужно учитывать, что малейшая вариация в фактах двух этих дел могла вызвать важнейшие просчеты, породив отклонение в сторону от правильной линии. Это очень похоже на арифметику, где ошибка, которая сама по себе ничтожно мала, в конечном итоге, оставляя след на каждом уровне расчетов, приводит к тому, что результат совершенно не сходится с истинным. А что касается первого, тут необходимо помнить, что исчисление вероятностей, на которое я ссылался, запрещает какое бы то ни было продление параллели, запрещает с категоричностью, которая пропорциональна тому, насколько длинна и точна эта параллель. Это одно из тех аномальных суждений, которые кажутся вполне понятными людям далеким от математики, но на самом деле является таким суждением, которое полностью понять может только математик. Например, нет ничего сложней, чем убедить обычного читателя в том, что, если игрок в кости два раза подряд выбрасывает две шестерки, шансы, что он в третий раз выбросит две шестерки, уменьшаются. В обычной голове, как правило, подобное суждении сразу вызывает возражение. В этой голове не возникает мысли о том, что два свершившихся броска, которые теперь относятся исключительно к прошлому, могут каким-то образом повлиять на бросок, который существует только в будущем. Шанс выбросить две шестерки точно такой же, как в любое другое время, то есть подвержен исключительно влиянию других бросков. И суждение это настолько очевидно, что попытки опровергнуть его чаще вызывают насмешливую улыбку, чем почтительное внимание или что-то в этом роде. Сейчас я не в силах установить, где в моих рассуждениях скрывается ошибка, серьезная ошибка, наталкивающая на мысль о подтасовке, да философски настроенному разуму это и не требуется. Достаточно лишь сказать, что это – одна из того бесчисленного количества ошибок, которые возникают на пути Разума, ищущего истину в частностях, Разума, стремящегося к совершенной истине.
Похищенное письмо пер. В. Михалюка
Nil sapientiae odiosius acumine nimio[80].
СенекаОсенью 18… года одним ветреным вечером, когда наступили сумерки, я предавался двойному удовольствию – размышлял и курил пенковую трубку в обществе своего друга Ш. Огюста Дюпена в его небольшой библиотеке, вернее сказать, в хранилище для книг, au troisième дома № 33 на улице Дюно, что в Сен-Жерменском предместье Парижа. Не меньше часа мы хранили полнейшее молчание, и, какой-нибудь сторонний наблюдатель, увидев нас, решил бы, что мы оба заняты созерцанием вьющихся клубов дыма, заполняющих комнату. Но на самом деле я про себя обдумывал те вопросы, которые мы обсуждали чуть раньше вечером – случай на улице Морг и тайна убийства Мари Роже. Поэтому я посчитал совпадением, когда дверь распахнулась и в комнату вошел наш старый знакомый, месье Г., префект парижской полиции.
Мы сердечно его приветствовали, поскольку в человеке этом любопытного не меньше, чем отвратительного, и не виделись мы уже несколько лет. Сидели мы в потемках, поэтому Дюпен поднялся, чтобы зажечь лампу, но, так и не сделав этого, сел, когда Г. сообщил, что пришел посоветоваться с нами, или, точнее, просить совета у моего друга по поводу какого-то официального дела, которое уже доставило ему массу хлопот.
– Если ваше дело требует умственного напряжения, – заметил Дюпен, отнимая руку от фитиля лампы, – лучше выслушать его в темноте.
– Еще одна из ваших странных привычек? – спросил префект, который «странным» называл все, что не было доступно его пониманию, и потому жил в окружении сплошных «странностей».
– Совершенно верно, – согласился Дюпен, предлагая гостю трубку и выкатывая перед ним удобное кресло.
– Что случилось на этот раз? – поинтересовался я. – Опять какая-то загадка? Надеюсь, не очередное убийство?
– Нет-нет, никаких убийств. Дело-то как раз очень простое, и я не сомневаюсь, что мы справимся с ним своими силами… Просто я подумал, Дюпену будет любопытно узнать подробности, уж очень оно, знаете ли, странное.
– Простое и странное, – заметил Дюпен.
– Ну да… Хотя и не совсем так. Понимаете, мы все в недоумении, именно потому, что дело совершенно простое и тем не менее оно поставило нас в тупик.
– Возможно, именно его простота и сбила вас с толку, – предположил мой друг.
– Да ну, что за глупости! – рассмеялся префект. – Как это так?
– Возможно, тайна раскрывается слишком просто, – пояснил Дюпен.
– Господи Боже, откуда такие идеи?
– Отгадка несколько слишком очевидна.
– Ха-ха-ха! А-ха-ха!.. О-хо-хо! – от хохота нашего гостя затряслись стены. – Дюпен, ну вы меня просто уморили.
– Так что, в конце концов, случилось? – спросил я.
– Сейчас расскажу, – успокоив себя долгой затяжкой, ответил префект и опустился в кресло. – В двух словах, но, прежде чем я начну, позвольте предупредить вас, что это дело требует соблюдения строжайшей тайны, и я могу лишиться должности, если станет известно, что я кому-то о нем рассказал.
– Продолжайте, – произнес я.
– Или нет, – сказал Дюпен.
– Ну что ж… Мне из самых высоких кругов частным образом сообщили, что из королевской резиденции похищен определенный документ первостепенной важности. Известно, кто его похитил. В этом нет сомнения, потому что видели, как этот человек его брал. Кроме того, известно, что документ все еще находится у него в руках.
– Откуда это известно? – спросил Дюпен.
– Это вытекает из самой природы документа, – ответил префект. – Если бы он сменил владельца, это наверняка привело бы к определенным последствиям, но ничего подобного до сих пор не произошло. Я имею в виду, если бы похититель использовал его в тех целях, для которых выкрал.
– Вы не могли бы выражаться яснее, – попросил я.
– Я могу лишь добавить, что бумага эта дает ее владельцу некоторую власть в определенных кругах, где эта власть имеет огромное значение. – Префект считал себя великим дипломатом.
– Все же мне еще не все понятно, – сказал Дюпен.
– Да? Ну, если раскрыть содержание этого документа третьей стороне (имен называть я не буду), это бросит тень на одного очень высокопоставленного человека, и это дает его владельцу власть над той знатной особой, чьи честь и спокойствие оказались под угрозой.
– Но чтобы иметь такую власть, – вставил я, – вор должен знать, что той особе известно, кто вор. Кто же осмелится…
– Вор, – сказал Г., – это министр Д., который осмелится на все что угодно, и неподобающее, и подобающее мужчине. Кража была совершена дерзко и изобретательно. Документ, о котором идет речь – будем откровенны, это письмо, – попал в руки жертве кражи, когда та находилась одна в королевском будуаре. Как раз тогда, когда она стала его читать, там же неожиданно появилось другое высокопоставленное лицо, от которого она хотела его утаить. Особа эта попыталась сунуть письмо в ящик, но, когда это не получилось, была вынуждена оставить его открытым, прямо на столе. Но бумага легла так, что наверху оказался адрес, самого текста видно не было, так что письмо осталось незамеченным. И тут появился министр Д. Его рысьи глаза сразу заметили бумагу, он мгновенно узнал почерк, которым написан адрес, сопоставил его со смущением той особы, которой оно адресовалось, и понял, в каком положении та находится. Как обычно торопливо обговорив кое-какие дела, министр достает другое письмо, чем-то похожее на первое, раскрывает его, делает вид, что читает, и кладет на стол рядом с первым. Затем еще минут пятнадцать разговаривает об общественных делах, после чего берет со стола чужое письмо. Истинная владелица письма это прекрасно видит, но в присутствии третьей стороны, разумеется, не осмеливается привлечь к этому факту внимание. Министр, оставив на столе свое письмо, не имеющее никакой ценности, прощается и уходит.
– Вот вам и основание для власти, – повернулся ко мне Дюпен. – Вор знает, что жертва знает, кто вор.
– Да, – кивнул префект. – И в течение последних нескольких месяцев вор стал пользоваться полученной таким образом властью, не зная меры. Ограбленная персона все больше и больше склоняется к тому, что письмо нужно во что бы то ни стало вернуть. Но этого, конечно, нельзя сделать открыто. Словом, в отчаянии она обратилась за помощью ко мне.
– И более проницательного помощника, – заметил Дюпен, окутав себя густым облаком дыма, – я полагаю, не только найти, но и вообразить невозможно.
– Вы мне льстите, – ответил префект. – Хотя, возможно, такие соображения и приходили ей в голову.
– Из того, что мы услышали, – сказал я, – следует, что письмо по-прежнему находится в руках министра, поскольку именно обладание этим письмом, а не его использование, дает эту власть. Как только он пустит его в ход, власти он лишится.
– Совершенно верно, – подтвердил Г., – и именно на основании этого убеждения я и действую. Первым делом мне следовало тщательно обыскать особняк министра, и тут передо мной возникло главное затруднение: это нужно было сделать так, чтобы он об этом не узнал. Помимо прочего, меня предупредили о той опасности, которая может угрожать мне, если он заподозрит о наших намерениях.
– Но вы же au fait[81] в делах такого рода, – воскликнул я. – Парижской полиции тысячу раз приходилось таким заниматься.
– О да, и именно поэтому я не терял надежды. К тому же привычки министра были мне на руку. Его часто не бывает дома всю ночь. Слуг у него совсем мало, спят они далеко от комнат хозяина, и, поскольку в основном это неаполитанцы, их очень легко напоить. Вы знаете, у меня есть ключи, которые открывают любые двери любых домов в Париже. За три месяца не было и ночи, чтобы я лично большую часть ее не провел в особняке Д., роясь в его вещах. На карту поставлена моя честь, и (только между нами, господа) награда обещана огромная. Поэтому я не прекращал обыски до тех пор, пока не убедился, что вор оказался хитрее меня. Я обследовал каждый уголок, каждый закоулок его дома, где только можно было спрятать бумагу.
– Но разве не может быть, – предположил я, – что, хоть письмо и у министра, он хранит его не у себя дома, а в каком-нибудь другом месте?
– Такое вряд ли возможно, – возразил Дюпен. – Нынешнее состояние дел при дворе, да и та игра, которую затеял Д., говорят о том, что документ этот ему необходимо всегда держать под рукой. Он должен иметь возможность в любую секунду им воспользоваться… Это почти так же важно, как и само обладание письмом.
– Воспользоваться в любую секунду? – переспросил я.
– Другими словами, уничтожить, – пояснил Дюпен.
– Действительно, – заметил я. – Значит, в самом деле, письмо должно храниться где-то в доме. Ну а возможность того, что министр всегда носит этот документ с собой, я думаю, можно исключить.
– Полностью, – поддержал меня префект. – Его уже дважды под видом грабителей останавливали и тщательнейшим образом обыскивали наши люди. Я сам за всем следил.
– Могли не беспокоиться, – сказал Дюпен. – Д., насколько я понимаю, не дурак, и должен был предвидеть подобные «встречи».
– Не дурак, – согласился Г., – но он поэт, а это почти то же самое.
– Вы правы, – задумчиво попыхтев трубкой, произнес Дюпен. – Хотя, к стыду своему, я и сам пописываю.
– Может быть, расскажете, как проходили поиски? – обратился я к нашему гостю.
– Ну, времени у нас было предостаточно, поэтому мы обыскали там все. У меня в таких делах опыт богатый. Я обошел все здание, комната за комнатой, тратя на каждую неделю. Работали мы, конечно же, по ночам. Сначала в каждом помещении мы обследовали мебель. Открыли каждый ящичек, осмотрели каждую полочку, и, знаете, я полагаю, что для опытного полицейского инспектора такое понятие как «потайной ящик» просто не существует. Только глупец может рассчитывать, что инспектор его не найдет, если ведется такой внимательный обыск. Ведь все так очевидно. Каждый шкаф и ящик имеет определенный размер, или объем. Линейки у нас точнейшие. Мы заметим разницу даже в одну пятидесятую линии[82]. После ящиков мы взялись за стулья. Подушки мы проткнули длинными тонкими иглами, вы видели, как я ими орудую. Со столов сняли крышки.
– Зачем?
– Иногда люди, которые хотят что-то спрятать, снимают крышки со столов или каких-нибудь других предметов мебели сходного устройства, просверливают в ножке отверстие, засовывают туда свой предмет и сверху снова кладут крышку. То же можно сделать и со столбиками кровати.
– А разве нельзя обнаружить отверстие простукиванием? – спросил я.
– Нет, если, спрятав предмет, заложить его достаточным количеством ваты. Кроме того, мы должны были работать тихо.
– Но вы же не могли снять… Вы же не могли разобрать всю мебель, в которой можно было сделать подобный тайник! Письмо можно свернуть в трубочку не намного толще вязальной спицы и в таком виде упрятать да хоть в перекладину стула, например. Вы что, разобрали на части каждый стул?
– Конечно же, нет, мы сделали лучше: осмотрели все перекладины всех стульев и вообще всей мебели в особняке через очень мощную лупу. Если бы на них имелись следы того, что они недавно разбирались, мы бы это сразу же заметили. Даже зернышко древесины, оставшееся после сверления, просматривалось бы, как яблоко. Любое нарушение слоя клея, любое необычное отверстие в местах соединения тут же вызвало бы подозрение.
– Я полагаю, вы проверили зеркала между рамами и стеклами? Кровати и постельное белье, портьеры, ковры?
– Само собой. Осмотрев таким образом каждый предмет мебели, мы взялись за сам дом. Разделили всю его поверхность на квадраты, пронумеровали их, чтобы не пропустить ни одного, и опять же с лупой изучили каждый квадратный дюйм во всем здании и в двух примыкающих домах.
– В двух примыкающих! – воскликнул я. – Вот уж, наверное, пришлось вам повозиться.
– Это точно, но обещанное вознаграждение того стоит.
– Двор вокруг зданий осмотрели?
– Весь двор там выложен брусчаткой. Но тут ничего сложного не было. Мы осмотрели мох между камнями, он нигде не потревожен.
– Бумаги Д., книги в библиотеке вы, несомненно, тоже просмотрели.
– Разумеется. Вскрыли каждый конверт и каждый пакет. Книги не просто перетрясли, как это делают некоторые офицеры из полиции, а в каждом отдельном томе перевернули каждую страницу. Кроме того, мы измерили толщину каждой обложки и каждую внимательно осмотрели с лупой. Если бы с каким-то из переплетов недавно что-то делали, мы бы это обнаружили. Обложки пяти или шести томов, недавно побывавших у переплетчика, мы аккуратно проверили иглами.
– Пол под коврами осматривали?
– Несомненно. Сняли каждый ковер, половицы осматривали через лупу.
– Обои?
– Проверили.
– В подвалы заглянули?
– Да.
– Что ж, – констатировал я, – значит, вы просчитались, и письмо хранится не в доме, как вы предполагаете.
– Боюсь, что вы правы, – вздохнул префект. – Итак, Дюпен, что же вы мне посоветуете?
– Еще раз внимательно обыскать дом.
– Это совершенно бессмысленно, – ответил Г. – Даю голову на отсечение, что письма в особняке нет.
– Лучшего совета я вам дать не могу, – сказал Дюпен. – У вас, конечно, есть подробное описание письма?
– О да! – префект достал записную книжку и зачитал нам обстоятельное описание внутреннего и в особенности внешнего вида пропавшего документа. Вскоре после этого он нас покинул, и никогда еще я не видел этого славного господина в таком подавленном настроении. Примерно через месяц он снова зашел к нам и застал нас примерно за тем же занятием, что и в предыдущий раз. Взяв трубку и усевшись в кресло, он заговорил о каких-то пустяках, пока наконец я не спросил:
– Но Г., а что с тем похищенным письмом? Министр, судя по всему, все-таки перехитрил вас?
– Черт бы его побрал!.. Да, я снова обыскал дом, как посоветовал Дюпен… Напрасный труд, как я и думал.
– Какое, вы говорили, вознаграждение, вам пообещали? – полюбопытствовал Дюпен.
– О, очень большое… Очень щедрое вознаграждение. Не хочу называть точную сумму, но со своей стороны я могу выписать личный чек на пятьдесят тысяч франков тому, кто сможет достать мне это письмо. Видите ли, с каждым днем дело приобретает все большую важность, и недавно награда была удвоена. Но, хоть бы она была утроена, больше того, что уже сделано, я сделать не могу.
– Ну что вы! – с ленцой в голосе между затяжками пенковой трубки произнес Дюпен. – Мне кажется, Г., вы еще не совсем … исчерпали свои силы … в этом деле. Кое-что еще … вы могли бы предпринять … по-моему.
– Что? Что еще я могу сделать?
– Ну, например… вы могли бы … привлечь советчика к делу, а?.. Помните, что рассказывают об Абернети?
– Да пропади пропадом Абернети! Не помню.
– О да. Пропади он пропадом и черт с ним. Но как-то раз один богатый сквалыга задумал хитростью получить у этого Абернети совет, как лечиться. Для этого во время какой-то встречи, на которой присутствовал и врач, он во время светского разговора описал ему свой случай, приписав его воображаемому пациенту. «Положим, – сказал сквалыга, – что у этого человека такие-то и такие-то симптомы. Что бы вы посоветовали ему, доктор?» – «Посоветовал? Я бы посоветовал ему сходить к врачу», – ответил Абернети.
– Но, – несколько смутился префект, – я ведь не отказываюсь заплатить за совет. Я заплачу пятьдесят тысяч франков любому, кто поможет мне с этим делом.
– В таком случае, – сказал Дюпен, выдвинул ящик письменного стола и достал чековую книжку, – попрошу вас выписать мне чек на названную сумму. Как только вы его подпишете, я передам вам это письмо.
Я был ошеломлен. Префект остолбенел. Несколько минут он не мог произнести ни слова, лишь молча с разинутым ртом таращился на моего друга. Потом, очевидно, придя в себя, схватил перо, заполнил чек, то и дело останавливаясь и поднимая бессмысленные глаза, наконец подписал его и передал через стол Дюпену. Тот внимательно его осмотрел и спрятал в бумажник. Потом отпер escritoire[83], достал оттуда письмо и вручил его префекту. Не веря своим глазам, чиновник дрожащими от нахлынувшего счастья руками схватил письмо, раскрыл, торопливо просмотрел, после чего, не разбирая дороги, бросился к двери, пулей вылетел из комнаты, и мы услышали, как внизу хлопнула входная дверь. После того как Дюпен попросил его заполнить чек, Г. не произнес ни единого слова.
Когда префект удалился, мой друг дал кое-какие объяснения.
– В парижской полиции, – сказал он, – служат по-своему толковые люди. Они настойчивы, изобретательны, хитры и сведущи в своей области. Так что, когда Г. описал, как происходил обыск особняка Д., у меня не возникло сомнений, что он действительно сделал все возможное… что было в его силах.
– Что было в его силах? – не понял я.
– Да, – кивнул Дюпен. – Они провели огромную работу и сделали все безупречно. Если бы письмо было спрятано в пределах их поисков, эти молодцы непременно обнаружили бы его.
Я едва не рассмеялся, но он, похоже, говорил вполне серьезно.
– Итак, – продолжил он, – сами по себе предпринятые меры были хороши и приведены в исполнение прекрасно. Их недостаток заключался в том, что они не соответствовали данному случаю и человеку, против которого были направлены. Определенный набор весьма изобретательных приемов для префекта – своего рода прокрустово ложе, под которое он вынужден подгонять свои планы. Но он постоянно повторяет одну и ту же ошибку: занимаясь каким-нибудь делом, копает либо слишком глубоко, либо поверхностно, а его способность делать выводы не дотягивает даже до уровня школьника. Я был знаком с одним мальчуганом лет восьми, чье умение выигрывать в «чет-нечет», прославило его на всю округу. Игра эта простая и играется камешками. Один игрок зажимает в кулаке некоторое их количество и спрашивает у другого, четное или нечетное количество камешков у него в руке. Если второй игрок угадывает правильно, он забирает один камешек себе, если ошибается – отдает свой. Мальчик, о котором я говорю, собрал у себя камешки всей школы. Разумеется, угадывал он не просто так, у него была определенная система, которая основывалась на простом наблюдении за противником и на оценке его хитрости. Например, его противник – какой-нибудь простачок, он поднимает зажатую руку с камешками и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает: «Нечет» и проигрывает; но, когда его спрашивают во второй раз он отвечает правильно, потому что рассуждает следующим образом: «В первый раз простачок взял четное количество камешков, и хитрости у него хватит лишь на то, чтобы и во второй раз взять четное количество. Значит, нужно говорить “чет”». Он говорит «чет» и выигрывает. Если другой его противник – простачок уровнем повыше первого, он рассуждает так: «Этот видит, что в первый раз я сказал “нечет”, и во второй раз он сначала захочет изменить количество с нечетного на четное, как это сделал первый простачок, но потом ему придет в голову, что это слишком просто, и в конце концов он решит как и в первый раз взять нечетное количество камешков. Поэтому я отвечу “нечет”». Он говорит «нечет» и выигрывает. И как вы определите подобный образ мышления этого школьника, которого друзья считают просто везунчиком?
– Это всего лишь отождествление собственного интеллекта с интеллектом противника, – ответил я.
– Правильно, – сказал Дюпен. – А когда я спросил у того мальчика, как ему удается так точно подстраиваться под ход мыслей противника, я получил такой ответ: «Когда я хочу узнать, насколько кто-то умный, глупый, хороший или плохой, или о чем он сейчас думает, я делаю такое же выражение лица, как у него, и жду, какие мысли придут мне в голову, или что я почувствую такого, что будет соответствовать выражению лица». Этот ответ школьника лежит в основании тех мнимых глубин интеллекта, которые приписывают Ларошфуко, Лабрюйеру, Макиавелли и Кампанелле.
– А отождествление собственного интеллекта с интеллектом противника, – добавил я, – зависит, если я вас правильно понимаю, от того, насколько точно измерен уровень интеллекта последнего.
– С практической стороны – да, – ответил Дюпен. – И префект, и его клевреты так часто ошибаются, во-первых, потому что не производят подобного отождествления и, во-вторых, потому что неверно оценивают или даже вовсе не оценивают интеллект, с которым имеют дело. Их интересует исключительно собственная находчивость и, когда им нужно найти что-то спрятанное, ищут только там, куда сами бы спрятали эту вещь. Во многом такой подход можно назвать правильным, поскольку их находчивость в целом не отличается от находчивости большинства людей, но если хитрость отдельно взятого преступника отличается от их хитрости, преступнику, конечно же, удается их провести. Это происходит всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и очень часто, когда она ей уступает. Они не меняют правил своей работы во время следствия. В лучшем случае, когда их к этому что-то подталкивает (например, большое вознаграждение), они могут расширить свои старые методы или работать энергичнее, но основные принципы при этом остаются без изменения. Вот что, скажем, в случае с Д. было сделано, чтобы как-то поменять принцип работы? Что такое все это просверливание, прощупывание, простукивание, осматривание с лупой и деление поверхности на пронумерованные квадраты с последующим изучением? Что это, как не преувеличенное применение старого принципа или системы принципов поиска, основывающихся на определенном понимании человеческой хитрости, которое у префекта выработалось за долгие годы работы? Разве вы не заметили, как он уверен в том, что все люди должны прятать письма если не обязательно в отверстии, просверленном в ножке стула, то, по крайней мере, в каком-нибудь другом малодоступном месте, подсказанном тем же течением мысли, которое приводит человека к решению спрятать письмо в просверленной ножке стула? И наверняка вы знаете, что подобные recherché[84] тайники используются только для обычных случаев и только людьми обычного уровня интеллекта. Во всех подобных случаях размещение скрываемого предмета – размещение его подобным recherché образом – ожидаемо и ожидается; и, следовательно, его обнаружение зависит вовсе не от проницательности, а целиком и полностью от обычного усердия, старательности и терпеливости того, кто ищет; и, если дело важное, или когда обещано большое вознаграждение (что для человека, имеющего отношение к политике, одно и то же), эти качества Г. до сих пор никогда не подводили. Теперь вы поймете, что я имел в виду, говоря о том, что, если бы похищенное письмо было спрятано там, где его искал префект – иными словами, если бы принципы его сокрытия соответствовали принципам его поисков, – оно непременно было бы найдено. Но наш чиновник поддался заблуждению, и причина его неудачи коренится в том, что он посчитал министра дураком – помните, он назвал его поэтом? Все дураки – поэты, так считает префект, и он повинен всего лишь в non distributio medii[85], посчитав на этом основании, что все поэты – дураки.
– А поэт ли он? – усомнился я. – Насколько я знаю, у него есть брат, и они оба достаточно хорошо известны своими сочинениями. Но министр, по-моему, писал о дифференциальном исчислении. Он – математик, не поэт.
– Вы ошибаетесь. Я его хорошо знаю, он и то, и другое, поэтому и обладает способностью логически мыслить. Если бы Д. был только математиком, он был бы лишен этого дара, что сделало бы его легкой добычей для префекта.
– Что за странная идея?! – удивился я. – Но это же противоречит общепринятому мнению. Математический ум веками считался образчиком логического мышления.
– Il у a à parier, – возразил Дюпен цитатой из Шамфора, – que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre[86]. Математики, могу вас заверить, сделали все, чтобы это ошибочное мнение, о котором вы говорите, распространилось. Тем не менее, оно ошибочно, как бы они ни старались доказать обратное. К примеру, с мастерством, достойным лучшего применения, они употребляют термин «анализ» применительно к алгебре. Конкретно эта ложь лежит на совести французов, но, если термин вообще имеет какое-то значение, если употребление слова придает ему какой-то смысл, то «анализ» соотносится с «алгеброй» в той же степени, что латинские «ambitus»[87] – с «амбицией», «religio»[88] – с «религией» или «homines honesti»[89] с «уважаемыми людьми».
– Похоже, вы не в ладах с парижскими алгебраистами, – заметил я. – Но продолжайте.
– Я оспариваю годность, а следовательно, и ценность того ума, который культивируется в любой форме, кроме абстрактно логической. В особенности я оспариваю годность ума, который развивается на основании изучения математики. Математика – наука форм и количеств. Математическое мышление – это всего лишь логика, применяемая для наблюдения за формой и количеством. Величайшее заблуждение заключается в предположении, будто истины того, что называется «чистой алгеброй», являются истинами абстрактного или общего порядка. И заблуждение это столь очевидно, что я могу только удивляться тому, до какой степени оно распространено. Математические аксиомы не являются аксиомами общего порядка. То, что истинно в отношении формы и количества, часто оказывается во многом ложным в отношении морали, например. В последней чаще всего сумма частей не равна целому. В химии эта аксиома также не верна. Не верна она и в отношении мотивов, так как два мотива, каждый из которых имеет определенную силу, соединившись, не обязательно имеют силу, равную сумме их сил, отдельно взятых. Кроме этого есть еще множество математических истин, которые являются истинами только в рамках самой математики. Но математик по привычке, пользуясь набором своих ограниченных истин, настаивает на том, что они универсальны, и люди верят в то, что это действительно так. Брайант в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник заблуждения, когда говорит, что «хотя в языческие сказки никто не верит, мы тем не менее постоянно забываемся и строим свои суждения на их основании, как будто они – существующая реальность». Однако в случае с алгебраистами, которые суть те же язычники, вера в «языческие сказки» по-прежнему существует, и основанные на ней заключения делаются чаще не из-за «забывчивости», а из-за какого-то необъяснимого скудоумия. Короче говоря, я еще не встречал ни одного математика, которому можно было бы доверять в чем-либо, выходящем за рамки вопроса о тождественности корней, или который втайне не верил бы свято, что x² + px всегда и при любых условиях равняется q. Попробуйте, хотя бы ради эксперимента, сказать одному из этих господ, что на ваш взгляд могут существовать обстоятельства, при которых x² + px равняется не совсем q, и после того, как он поймет, что вы имеете в виду, вам лучше будет как можно скорее убраться от него подальше, поскольку он как пить дать набросится на вас с кулаками.
Последнее его наблюдение меня очень рассмешило. Дюпен же тем временем продолжил:
– Я хочу сказать, что, если бы министр был не более чем математиком, префекту не пришлось бы выписывать мне этот чек. Однако мне известно, что он не только математик, но еще и поэт, так что мои оценки соответствовали его возможностям в соответствии с теми обстоятельствами, которые его окружали. К тому же мне известно, что он искушенный intriguant[90] и на делах придворных собаку съел. Поэтому я посчитал, что такой человек не может не догадываться, какие действия вызовут его поступки. Он наверняка должен был предвидеть (и события показали, что он действительно это предвидел), какие на него будут расставлены ловушки. Предвидел он и тайный обыск в своем поместье. Его частые ночные отлучки, которые вселили в префекта такие надежды, я воспринял как уловку с его стороны. Он специально давал возможность провести у себя дома проверку, чтобы полиция как можно скорее пришла к заключению, что письма в доме нет, и это ему удалось, потому что Г. в конце концов к такому заключению и пришел. К тому же я чувствовал, что в голове министра возникли мысли, суть которых я вам только что так старательно объяснял, мысли о неизменности принципа, по которому полиция проводит поиск спрятанного предмета. Это неминуемо заставило бы его отказаться от использования обычных тайников. Я догадывался, что он не настолько глуп, чтобы не понимать, что префекту, с его иглами, сверлами и лупами, заглянуть в любой самый хитрый и труднодоступный уголок в его поместье будет не сложнее, чем открыть обычный шкаф. Словом, я понял, что, если даже он не додумается до этого сам, ему просто придется прибегнуть к какой-то очень простой уловке. Возможно, вы помните, как во время нашего первого разговора префект рассмеялся, когда я предположил, что загадка эта оказалась ему не по зубам, потому что решалась слишком просто.
– Да уж, – сказал я. – Прекрасно помню, как это его рассмешило. Я думал, у него колики начнутся.
– Материальный мир, – продолжил Дюпен, – во многом сходен с миром бесплотным, поэтому некоторый оттенок истинности обрела риторическая догма о том, что метафора, или сравнение, может усилить довод или приукрасить описание. Например, принцип vis inertiae[91] воспринимается одинаково как в физике, так и в метафизике. Если для первой истинно то, что большое тело привести в движение труднее, чем маленькое, и что последующий его momentum[92] находится в соответствии с этой трудностью, то для второй не менее истинно, что более высокий интеллект, хоть он и настойчивее, стабильнее и содержательнее в работе, чем интеллект менее развитый, в движение приходит неохотнее, и первые шаги даются ему труднее и с бóльшим сомнением. Опять же, вы когда-нибудь замечали, какие из вывесок над входами в магазины привлекают к себе больше внимания?
– Никогда об этом не задумывался, – признался я.
– Есть одна игра в загадки, – продолжил он, – которая играется на географической карте. Один игрок дает второму задание отыскать определенное слово, это может быть название города, реки, штата или страны, короче говоря, любое слово, которое имеется на мешанине из названий на разноцветной схеме. Новичок в этой игре чаще всего старается озадачить противника названием, напечатанным самыми маленькими буквами, но опытные игроки выбирают такие названия, которые написаны крупными буквами и простираются от одного края карты до другого. Они, как и написанные слишком большими буквами знаки и вывески на улицах ускользают от внимания из-за своей очевидности, и в данном случае физический недосмотр является точной аналогией умственного недопонимания, которое заставляет разум оставить без внимания те соображения, которые слишком навязчиво и слишком осязаемо очевидны. Но, похоже, это несколько выше или ниже понимания префекта. Ему ни разу не пришло в голову, что министр оставил письмо прямо под носом у тех, кто будет его искать, зная, что это самый верный способ сделать его невидимым.
Однако, чем больше я думал о смелой, отчаянной и проницательной хитрости Д.; о том, что письмо всегда должно находиться у него под рукой, если бы он решил им воспользоваться; об убедительных раздобытых префектом свидетельствах, указывающих на то, что искомый документ спрятан вне границ поисков, на которые способен наш высокопоставленный друг, тем больше я убеждался, что министр, со свойственной ему прозорливостью, скорее всего, прибегнул к простой и самой действенной хитрости: он вообще не стал его прятать.
Придя к этому выводу, я раздобыл пару зеленых очков и в одно прекрасное утро под пустяковым предлогом совершенно случайно наведался в особняк министра. Д. был дома, держался он как всегда расслабленно, в ленивой позе развалился на диване, зевал, в общем, старательно изображал крайнюю степень ennui[93]. В действительности же, он, возможно, самый энергичный человек в мире, но… только, когда его никто не видит. Но и я не так-то прост. Пожаловавшись, что у меня слабые глаза, из-за чего мне приходится носить темные очки, я под их прикрытием осторожно и внимательно осмотрел всю комнату, не прекращая при этом разговора с хозяином.
Больше всего меня заинтересовал письменный стол, рядом с которым я сидел. На нем в беспорядке лежали какие-то письма, другие бумаги, пара музыкальных инструментов и несколько книг. Однако после долгого придирчивого осмотра ничто не вызвало у меня подозрений.
Наконец, в который раз окидывая взглядом комнату, я обратил внимание на дешевую картонную сумочку для визитных карточек с вычурной ажурной отделкой, которая свисала на грязной голубой ленточке с небольшой медной шишечки прямо над каминной полкой. Из сумочки этой, имевшей три или четыре отделения, торчали пять-шесть визитных карточек и единственное письмо. Помятое и грязное, оно было почти разорвано пополам посередине, как будто кто-то, посчитав его сперва настолько ненужным, что хранить его не имеет смысла, хотел порвать его и выбросить, но в последнюю секунду передумал. На нем была большая черная печать с прекрасно различимой монограммой Д., и адресовано оно было самому министру. Адрес был написан мелким женским почерком. Письмо было небрежно, даже как бы с презрением засунуто в одно из верхних отделений сумочки.
Как только взгляд мой упал на этот документ, я пришел к выводу, что это и есть цель моих поисков. Да, внешне письмо совершенно не соответствовало тому подробнейшему описанию, которое зачитывал нам префект. В данном случае печать была большой и черной, с монограммой Д., а в описании значилось, что печать должна быть маленькой, красной, с родовым гербом герцогов С. Здесь значился написанный бисерным женским почерком адрес министра, там же крупно и размашисто должен был быть написан адрес некой особы королевских кровей. Лишь размер более-менее совпадал. Но, с другой стороны, радикальность этих отличий, грязь, общий неприглядный вид бумаги и надрыв посередине (это при том, что Д. известен своей страстью к порядку и методичности), которые явно должны были внушить любому, кому этот документ попался бы на глаза, что он ничего не стоит; все это вместе с тем фактом, что письмо висело совершенно открыто и навязчиво бросалось в глаза каждому, кто входил в комнату – что полностью соответствовало выводам, к которым я пришел раньше, – все это значительно укрепляло подозрения в том, кто был готов подозревать.
Уходить я не спешил, и пока мы с министром оживленно беседовали на тему, которая, как мне было известно, волновала его и никогда не оставляла равнодушным, я все свое внимание сосредоточил на этом письме. Этот осмотр позволил мне хорошо запомнить внешний вид письма и его расположение в сумочке, а также чуть позже сделать открытие, которое окончательно отбросило всякие сомнения, если таковые у меня еще оставались. Рассматривая края бумаги, я заметил, что они не такие ровные, как можно было ожидать. На них была видна шероховатость, которая появляется, когда плотную бумагу складывают, проглаживают пресс-папье, а потом по тем же сгибам складывают в обратную сторону. Этого наблюдения оказалось достаточно. Мне стало понятно, что письмо, как перчатку, вывернули наизнанку, написали другой адрес и снабдили его новой печатью. Оставаться дольше у меня не было причин, поэтому я пожелал министру всего хорошего и ушел, ненароком позабыв у него на столе золотую табакерку.
На следующее утро я вернулся за табакеркой и мы, разумеется, не смогли не продолжить вчерашний разговор. Однако разговор был прерван громким хлопком, похожим на пистолетный выстрел, который раздался под окнами особняка. Тут же мы услышали истошные вопли, испуганно загалдела толпа. Д. бросился к окну, распахнул его и выглянул, я же тем временем быстро подошел к картонной сумочке, достал письмо, сунул его себе в карман, а на его место воткнул fac-similé[94] (внешней его стороной, конечно), аккуратно изготовленное мною дома и снабженное печатью с монограммой Д., которую я без особого труда воспроизвел из хлеба. Как только письмо оказалось у меня в кармане, я тоже поспешил к окну.
Уличную заваруху произвел какой-то неуравновешенный мужчина с мушкетом, который пальнул из него прямо посреди толпы женщин и детей. Впрочем, выяснилось, что выстрел был холостой, поэтому чудака посчитали то ли сумасшедшим, то ли пьяным, отпустили, и он пошел дальше своей дорогой. Когда этот тип удалился, Д. закрыл окно, и мы вернулись на свои места.
– Но какой смысл подменять письмо копией? – спросил я. – Не лучше ли было во время первого визита открыто взять его и уйти с ним?
– Д. человек отчаянный и решительный, – ответил Дюпен. – В особняке его полно преданных ему людей. Если бы я пошел на такое безумство, я мог бы никогда не выйти из этого дома живым, и добрые парижане уже никогда не услышали бы обо мне. Но меня волновало не только это. Вы знаете мои политические взгляды. В данном случае я выступал как сторонник заинтересованной в этом деле дамы. Полтора года министр держал ее в своей власти. Теперь в ее власти находится он сам, поскольку Д., не зная, что письмом он больше не располагает, продолжит действовать так, будто оно все еще у него, что приведет его к неминуемому политическому краху. И падение его будет не только стремительным, но и скандальным. Хоть и говорится, что facilis descensus Averni[95], но подниматься в гору всегда намного проще, чем спускаться, как говаривала Каталани о пении. Сейчас я не испытываю сочувствия – по крайней мере, жалости – к тому, кому суждено скатиться вниз. Он – гений, лишенный нравственности, monstrum horrendum[96]. Однако признаюсь, мне бы очень хотелось узнать, какие мысли возникнут у него в голове, когда он получит отпор от той, кого префект называет «некой особой», и раскроет письмо, которое я оставил ему в картонной сумочке.
– Как? Неужели вы там что-то написали?
– Не мог же я оставить внутреннюю сторону письма пустой. Это было бы невежливо. Однажды в Вене Д. поступил со мной некрасиво, и тогда я без всякой злобы сказал ему, что не забуду этого. Поэтому, догадываясь, что ему захочется узнать, кто сумел провести его, я посчитал целесообразным воспользоваться таким шансом и оставить ему какой-нибудь намек. Почерк мой он знает хорошо, так что я просто написал посередине чистого листа такие слова из «Атрея» Кребийона:
…Un dessein si funeste, S’il n’est digne d’Atree, est digne de Thyeste[97].
Человек толпы пер. М. Энгельгардта
Ce grand malheur de ne pouvoir être seul[98].
La BruyèreХорошо сказано об одной немецкой книге: «er lasst sich nicht lesen» – она не позволяет себя прочесть. Есть тайны, которые не позволяют себя рассказывать. Каждую ночь люди умирают в своих постелях, стискивая руки духовников и жалобно глядя им в глаза, – умирают с отчаянием в сердце и конвульсиями в глотке, из-за чудовищных тайн, которые не разрешают, чтобы их открыли. Время от времени, увы, совесть человеческая обременяет себя такой ужасной тяжестью, которая может быть сброшена только в могиле. Таким образом, преступление остается неразоблаченным.
Не так давно, октябрьским вечером, я сидел у большого окна в кофейне Д. в Лондоне. Несколько месяцев я был болен, но теперь выздоравливал и находился в том счастливом состоянии духа, прямо противоположном ennui[99] – когда все чувства обострены, с умственного взора спадает завеса – αχλυς ος πριν επηεν[100] – и наэлектризованный интеллект настолько же возвышается над своим обычным состоянием, насколько живой и ясный ум Лейбница превосходит нелепую и пошлую риторику Горгия[101]. Существовать уже было наслаждением, и я извлекал удовольствие из многих явлений, служащих обыкновенно источником страдания. Я относился ко всему со спокойным, но настойчивым интересом. С самого обеда с сигарой в зубах и газетой на коленях я благодушествовал, читая объявления, рассматривая разношерстную публику в кофейне или поглядывая сквозь закопченные стекла на улицу.
Это одна из главных улиц города, и прохожие сновали по ней целый день. К вечеру толпа увеличилась, а когда зажглись фонари, мимо дверей кофейни потекли два сплошных, непрерывных потока публики. Мне никогда еще не случалось наблюдать ее с этой точки в этот час вечера, и шумное море человеческих голов возбуждало во мне восхитительное по своей новизне волнение. В конце концов я занялся исключительно улицей, не обращая внимания на то, что происходило в ресторане.
Сначала мои наблюдения имели абстрактный, обобщающий характер. Я рассматривал толпу в целом. Вскоре, однако, я занялся деталями и стал с величайшим интересом разглядывать бесконечно разнообразные фигуры, костюмы, манеры, походку, ли́ца и их выражение.
Большинство прохожих имели самодовольный вид деловых людей и, по-видимому, думали только о том, как бы пробраться сквозь толпу. Они хмурились, перебегали глазами с одного предмета на другой и, когда их толкали, не выказывали признаков нетерпения, а поправляли одежду и спешили дальше. Другие, их тоже было много, отличались беспокойными движениями и раскрасневшимися лицами; они жестикулировали и рассуждали сами с собой, точно чувствовали себя тем более одинокими, чем гуще была толпа. Наткнувшись на кого-нибудь, они останавливались, умолкали, но жестикулировали еще оживленнее и с рассеянной и неестественной улыбкой дожидались, пока встречный пройдет. Получив толчок, они раскланивались с виноватым видом. За исключением отмеченных мною черт, эти две обширные группы не представляли собой ничего особенного. Одежда их была, что называется, приличная, и только. Это были, без сомнения, дворяне, купцы, стряпчие, промышленники, спекулянты – эвпатриды и обыватели, – люди праздные и люди занятые собственными делами, ведущие их на свой страх и риск. Они не особенно интересовали меня.
В глаза бросалась группа клерков, и я заметил в ней два разряда. Одни – младшие писари сомнительных фирм, молодые господа в узких сюртуках, в блестящих сапогах, с напомаженными волосами и надменным выражением губ. Если бы не известная юркость, которую за неимением лучшего термина можно назвать «канцелярской развязностью», эти господа показались бы мне точной копией того, что считалось верхом хорошего тона год или полтора тому назад. Они донашивали барское платье: лучшего определения этому классу, кажется, не придумаешь.
Старшие клерки солидных фирм тоже имели вполне определенную физиономию. Их легко было узнать по черным или темно-коричневым брюкам и сюртукам, сидевшим удобно и ловко, большим солидным башмакам, белым галстукам и жилетам, толстым чулкам или гетрам. У всех намечалась лысина, а правое ухо как-то странно оттопыривалось вследствие привычки закладывать за него перо. Я заметил, что они снимали или надевали шляпы непременно обеими руками и носили часы на коротенькой золотой цепочке старинного образца. Эти люди представляли собой аффектацию респектабельности, если такая бывает.
Было тут много шикарных господ, в которых я без труда узнавал карманников, наводняющих большие города. Я с большим любопытством рассматривал этих франтов и удивлялся, как могут настоящие джентльмены принимать их за равных себе – огромные манжеты и вид необычайного чистосердечия выдавали карманников с головой.
Еще легче узнать игроков, которых я тоже заметил немало. Их одежда отличалась разнообразием, от костюма шулера с бархатным жилетом, фантастическим галстуком, золотыми цепочками и филигранными пуговицами до невиннейшего пасторского костюма, менее всего дающего повод к подозрениям. Но все они отличались темным цветом лица, тусклыми, мутными глазами и бледными, плотно сжатыми губами. Были еще две черты, по которым я безошибочно узнавал игроков: намеренно тихий голос и склонность большого пальца отклоняться под прямым углом от остальных. В компании с этими субъектами я нередко замечал людей, несколько отличавшихся от них манерами, но, несомненно, птиц того же полета. Все это были господа, кормящиеся собственной изобретательностью. Они атакуют публику двумя батальонами: денди и военных. Отличительные черты первых – улыбка и длинные кудри, вторых – мундиры и хмурые лица.
Спускаясь по ступеням так называемой порядочности, я находил все более и более мрачные темы для размышлений. Были тут евреи-разносчики со сверкающими ястребиными глазами и печатью подлого унижения на лицах, стиравшей всякое другое выражение; наглые профессиональные нищие, злобно ворчавшие на бедняков, которых отчаяние выгнало ночью на улицу за подаянием; жалкие, изможденные инвалиды, на которых смерть уже наложила руку, – они пробирались неверными шагами сквозь толпу, с мольбой заглядывая каждому встречному в лицо, точно стараясь найти случайное утешение, последнюю надежду; скромные девушки, которые в поздний час возвращались после долгой работы в свое безотрадное жилище, уклоняясь скорее со слезами, чем с негодованием от уличных нахалов, столкновения с которыми они не могли избежать; продажные женщины всех сортов и возрастов (красавицы в расцвете женственности, напоминающие статую, описанную Лукианом, – снаружи паросский мрамор, внутри – грязь; отвратительные прокаженные в лохмотьях; сморщенные, раскрашенные ведьмы в бриллиантах, готовые на все, чтобы казаться молодыми; девочки с не созревшими еще формами, но уже весьма искусные в приемах своего гнусного ремесла, пожираемые жаждой сравниться со старшими в порочности); пьяницы, бесчисленные и неописуемые, иные в лохмотьях, шатающиеся, бормочущие что-то нечленораздельное, с разбитыми лицами и мутными глазами, иные в целом, хотя и грязном платье, с не то нахальными, не то застенчивыми манерами, толстыми чувственными губами и добродушными красными лицами, иные в костюмах, когда-то щегольских и даже теперь хорошо вычищенных, идущие твердой походкой, но ужасно бледные, с дикими красными глазами, дрожащими пальцами, которыми они судорожно хватались за что попадется; затем пирожники, носильщики, чернорабочие, трубочисты, шарманщики, бродяги с учеными обезьянами, продавцы уличных песен и исполнители этих песен, оборванные ремесленники и изнуренные работники, – все это стремилось мимо беспорядочной массой, терзавшей слух своим гвалтом и резавшей глаза своей пестротой.
По мере того как ночь прибывала, прибывал и мой интерес, потому что менялся не только характер толпы (ее лучшие черты исчезали с удалением наиболее порядочных элементов, а худшие выступали ярче по мере того, как поздний час выманивал всякий сброд из его логовищ), но и лучи газовых фонарей, сначала слабые в борьбе с угасающим днем, теперь разгорелись и озаряли все предметы ярким дрожащим светом. Все было мрачно и все сияло, как эбеновое дерево, с которым сравнивают слог Тертуллиана[102].
Странные световые эффекты приковали мое внимание к отдельным лицам, и хотя этот рой светлых призраков проносился мимо окна так быстро, что я успевал бросить лишь мимолетный взгляд на каждую отдельную фигуру, но благодаря особенному душевному состоянию я мог, казалось мне, прочесть, едва взглянув, историю долгих лет.
Прильнув к стеклу, я рассматривал толпу, как вдруг мне бросилась в глаза физиономия дряхлого старика лет шестидесяти пяти или семидесяти, поразившая и поглотившая мое внимание совершенно особенным выражением. Никогда я не видывал ничего подобного. Помню, у меня мелькнула мысль, что Ретц, если бы он был жив, предпочел бы эту физиономию тем измышлениям собственной фантазии, в которых он пытался воплотить дьявола. Когда я попробовал проанализировать это выражение, в голове моей поднялся хаотический рой смутных представлений об исключительной силе ума, об осторожности, скаредности, скупости, хладнокровии, злости, кровожадности, торжестве, веселье, паническом ужасе, глубоком, безнадежном отчаянии. Меня охватило странное волнение, возбуждение, очарование. «Какая безумная история, – подумал я, – написана в этом сердце!» Мне захотелось во что бы то ни стало получше рассмотреть этого человека, узнать о нем что-нибудь. Накинув пальто, схватив шляпу и палку, я выбежал на улицу и, проталкиваясь сквозь толпу, попытался догнать старика, который уже исчез из виду. Мне удалось это, хотя и не без труда, и я пошел за ним почти по пятам, но осторожно, чтобы не привлечь его внимания.
Теперь мне нетрудно было изучить его наружность. Он был небольшого роста, очень худощав и, по-видимому, чрезвычайно слаб. Одежда на нем была грязная и оборванная; но белье, хоть и засаленное, – тонкого полотна, в чем я смог убедиться, когда старик попал в полосу яркого света, и, если только зрение не обмануло меня, я заметил сквозь прореху в его наглухо застегнутом и сильно подержанном roquelaure[103] блеск алмазов и кинжала. Эти наблюдения усилили мое любопытство, и я решился следовать за незнакомцем, куда бы он ни пошел.
Была уже ночь, над городом навис густой влажный туман, вскоре разрешившийся частым крупным дождем. Эта перемена погоды оказала странное действие на толпу, которая разом заволновалась: в одну минуту над ней вырос целый лес зонтиков. Шум, гвалт и суматоха удесятерились. Я же не обращал особого внимания на дождь: застарелая лихорадка, таившаяся в моем организме, заставляла меня находить удовольствие в сырости, правда очень опасное. Повязав шею носовым платком, я продолжил путь.
В течение получаса старик пробирался в толпе, а я следовал за ним по пятам, опасаясь потерять его из виду. Он ни разу не обернулся и потому не мог заметить меня. Наконец мы свернули на другую улицу, тоже людную, но все же менее запруженную народом. Тут мне бросилась в глаза перемена в манерах старика – он пошел медленнее и не так уверенно, как раньше. Он то и дело пересекал улицу, по-видимому, без всякой цели, а толпа была все еще настолько плотной, что в такие минуты мне приходилось следовать за ним вплотную.
Улица была узкая и длинная, старик плелся по ней целый час, а толпа тем временем редела; наконец прохожих осталось не больше, чем их бывает у парка на Бродвее в полдень: так велика разница между населенностью Лондона и самого многолюдного из американских городов. Следующий поворот привел нас к скверу, ярко освещенному и кипевшему жизнью. Незнакомец обрел прежний вид. Голова его опустилась на грудь, глаза из-под нахмуренных бровей дико сверкали на тех, кто преграждал ему путь. Он упорно шел вперед. Но, к моему удивлению, обойдя сквер, старик повернулся и пошел в обратном направлении. Удивление мое возросло, когда он повторил этот маневр несколько раз. Один раз, быстро обернувшись, старик чуть было не заметил меня.
Прошел еще час, и прохожие уже не так теснили нас, как раньше. Дождь усиливался, стало холодно, часть публики разошлась по домам. С жестом нетерпения старик свернул в переулок, довольно пустынный. Он пустился по нему с проворством, которого я никак не ожидал от столь немолодого человека, и бежал с четверть мили, так что я едва поспевал за ним. Через несколько минут мы очутились на большом шумном рынке. Старик, очевидно, знал тут все ходы и выходы; прежнее спокойствие вернулось к нему, и он пустился бесцельно бродить среди торговцев и покупателей.
Мы провели здесь часа полтора, и мне стоило большого труда следовать за стариком, оставаясь при этом незамеченным. К счастью, на мне были резиновые галоши, так что я мог двигаться бесшумно. Старик не заметил меня. Он переходил из лавки в лавку, ничего не спрашивал, вообще не говорил ни слова и смотрел на предметы диким, блуждающим взглядом. Я все больше и больше удивлялся его поведению и решил не расставаться с ним, пока не удовлетворю свое любопытство.
Часы на башне пробили одиннадцать, и рынок быстро опустел. Какой-то лавочник, запирая ставни, толкнул локтем старика, и по его телу пробежала дрожь. Он поспешил на улицу, окинул ее беспокойным взглядом и с невероятной быстротой помчался по безлюдным кривым переулкам.
В конце концов мы выбрались на ту же улицу, откуда начали свой путь, – где находилась кофейня Д. Но теперь вид улицы изменился. Газовые фонари светили так же ярко, но дождь лил как из ведра и прохожих почти не было. Старик побледнел. Он сделал несколько нерешительных шагов по улице, еще недавно кишевшей народом, затем с тяжелым вздохом повернул к реке и, поблуждав по переулкам, вышел наконец к одному из театров.
Представление только что закончилось, и публика валила из дверей. Старик перевел дух, точно набирая воздуху, прежде чем нырнуть в толпу; я заметил, что глубокая тоска, отражавшаяся на его лице, как будто рассеялась. Он снова опустил голову на грудь и имел теперь такой же вид, как в ту минуту, когда я впервые увидел его. Я обратил внимание на то, что он направился туда же, куда шла основная масса публики, но решительно не мог понять его странного поведения.
По мере того как мы шли, толпа редела и к старику возвращались прежняя нерешительность и тревога. Некоторое время он упорно следовал за кучкой каких-то гуляк, но и они мало-помалу разбрелись, и на узкой и темной улице их осталось всего трое. Старик остановился и задумался, потом быстрыми шагами направился на окраину города.
Мы пришли наконец в грязнейший квартал Лондона, где все носило отпечаток самой отчаянной нищеты и самого закоренелого порока. При тусклом свете редких фонарей перед нами предстали огромные, ветхие, изъеденные червями деревянные дома, грозившие вот-вот рухнуть и разбросанные в таком беспорядке, что между ними едва можно было пробраться. Каменья, вывороченные из изрытой мостовой, валялись среди густой травы. Ужасный смрад доносился из заваленных мусором канав. Повсюду царило отчаяние. Но по мере того, как мы шли, вокруг нас пробуждались звуки человеческой жизни, и вскоре мы были окружены толпами самых последних подонков лондонского населения. И снова дух старика вспыхнул как лампа, готовая угаснуть. Снова он пошел легко и твердо. Внезапно, повернув за угол, мы увидели яркий свет и остановились перед загородным храмом Невоздержности, дворцом дьявола Джина.
Время близилось к рассвету, но жалкие пьяницы толпами входили и выходили в ярко освещенную дверь. С глухим криком радости старик пробрался в кабак и, приняв прежний вид, стал расхаживать в толпе посетителей взад и вперед без всякой видимой цели. Вскоре, однако, в дверях началась давка – хозяин решил запереть свое заведение. На лице странного существа, за которым я следил так упорно, промелькнуло что-то более мучительное, чем само отчаяние. Но он не стал медлить и с безумной энергией снова устремился к сердцу могучего Лондона. Долго и быстро бежал он, а я следовал за ним вне себя от удивления, решив во что бы то ни стало продолжать наблюдения.
Пока мы бежали, взошло солнце, и когда мы достигли главной улицы этого многолюдного города, – улицы, где находится кофейня Д., – на ней уже царила толчея и суматоха почти такая же, как вчера вечером. В ежеминутно возрастающей давке я упорно следовал за стариком. Но он, как и раньше, бесцельно бродил по улице и целый день оставался среди людского водоворота. Когда же вечерние тени снова легли на город, я, смертельно усталый, остановился перед бродягой и устремил на него пристальный взгляд. Он не заметил меня и продолжал свое странствие, а я, оставив погоню, погрузился в размышления.
– Этот старик, – сказал я наконец, – прообраз и воплощение черного преступления. Он не в силах оставаться один. Он человек толпы. Бесполезно гнаться за ним: я больше ничего не узнаю о нем и его делах. Худшее сердце в мире – книга более гнусная, чем «Hortulus Animae»[104], и, может быть, мы должны возблагодарить Бога за то, что «er lasst sich nicht lesen».
Падение дома Эшеров пер. К. Бальмонта
Son coeur est un luth suspendu: Sitot qu’on le touch, il resonne.[105]
BerangerВ продолжение целого дня, тусклого и беззвучного дня мрачной осени, под небом, обремененным низкими облаками, я в одиночестве проезжал верхом по странно-печальной равнине, и наконец, когда уже надвинулись вечерние тени, передо мной предстал угрюмый дом Эшеров. Не знаю почему, но лишь только взглянул я на это здание, как чувство нестерпимой тоски охватило меня. Я говорю «нестерпимой», потому что она отнюдь не была смягчена поэтическим, почти сладостным ощущением, которое обыкновенно испытываешь при виде даже самых суровых, самых пустынных картин природы. Я смотрел на сцену, открывшуюся моему взору, на дом, выделявшийся среди самого обыкновенного ландшафта, на зябнущие стены, на окна, подобные пустым глазницам, на редкие кусты густой осоки, на стволы седых ветхих деревьев, и душа моя была подавлена унынием, которое я не смогу сравнить ни с чем, разве только с пробуждением ото сна, навеянного опиумом, – с этим горестным и внезапным возвратом к повседневности, с ненавистным зрелищем, которое вырастает из-за поднимающегося занавеса.
Сердце замерло, сжалось от холодной боли, и фантазия, бессильная осветить мысль, не могла обратить непобедимую печаль ни к чему возвышенному. «Что же это? – остановился я в раздумье. – Почему моя душа надрывается при виде дома Эшеров?» Это было неразрешимой тайной; я не мог разобраться в смутных грезах, которые роились в моей голове. Поневоле я должен был удовлетвориться скудным заключением, что есть, несомненно, известные сочетания самых простых, естественных предметов, действующие на нас именно таким образом, и что анализ этих сочетаний связан с догадками, которые теряются в глубине, для нас недоступной. «Вполне возможно, – размышлял я, – что было бы достаточно изменить всего одну деталь этой картины, для того чтобы уменьшить или даже совсем уничтожить ее способность производить такое скорбное впечатление». Движимый этой мыслью, я направил лошадь к обрывистому берегу черного мрачного пруда, недвижно лоснившегося перед зданием, и посмотрел вниз; я затрепетал еще сильнее, когда глянул на искаженные опрокинутые отражения седой осоки и призрачных деревьев, и пустых окон.
И, однако, в этой-то обители печали я был намерен пробыть несколько недель. Ее владелец, Родриг Эшер, был одним из товарищей моего детства; но много лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Несмотря на это, недавно, находясь в отдаленном уголке страны, я получил от него письмо, полубезумное и такое настойчивое, что оно допускало только одну форму ответа – личный приезд. Каждая строка дышала нервным возбуждением. Эшер писал об острых физических страданиях, о душевном расстройстве, которое угнетало его, и о желании видеть меня, его лучшего, его единственного друга, о надежде, что радость побыть вместе со мной несколько облегчит его муки. В том же тоне было высказано и многое другое – это его сердце открывалось и просило ответа, и я, не колеблясь ни минуты, откликнулся на призыв, который все же казался мне очень необычным.
Хотя в детские годы мы были близкими друзьями, я почти ничего не знал о Родриге Эшере. Он всегда был очень сдержан. Мне было известно, однако, что представители его рода, весьма древнего, с незапамятных времен отличались особой впечатлительностью, что проявлялось в создании произведений высокого искусства и в неустанной благотворительности, щедрой и деликатной, а также в страстной любви к музыке; в этой семье отдавали предпочтение сложным произведениям, а не общепризнанным красотам. Я знал, кроме того, один весьма примечательный факт: родовое древо Эшеров, хотя и старинное, ни разу не дало жизнеспособной ветви, – другими словами, их род продолжался только по прямой линии, за небольшими исключениями, совершенно незначительными. В голове моей промелькнула теперь мысль о том, что характер местности полностью соответствует характерам ее обитателей, и, рассуждая об этом взаимном влиянии, весьма вероятном в течение долгого ряда столетий, я подумал, что, может быть, именно отсутствие побочной линии, последовательная, неуклонная передача вместе с именем родового имения от отца к сыну стала в конце концов причиной тождества между двумя взаимодействующими элементами, настолько полного, что первоначальное название поместья потерялось в причудливом, исполненном двойного смысла наименовании – дом Эшеров; в умах крестьян, его употреблявших, сливались воедино и семья, и фамильный дом.
Как я уже сказал, единственным результатом моего несколько ребяческого эксперимента – когда я глянул вниз, в пруд, – было усиление первоначального впечатления. Несомненно, оттого, что я сам осознавал, как быстро меня охватывает суеверное предчувствие – почему бы мне не назвать его так? – оно еще больше укреплялось во мне. Таков, я уже давно это знал, парадоксальный закон чувств, имеющих источником страх. Быть может, потому-то, когда я опять устремил взгляд на дом, оторвавшись от его отражения в пруду, у меня возникла странная фантазия – фантазия настолько смешная, что я упоминаю о ней лишь для того, чтобы указать на силу и живость ощущений, меня угнетавших. Я совершенно явственно увидал – так настроил я свое воображение, – что вокруг дома царит атмосфера, свойственная только ему и всему находившемуся в непосредственной от него близости, – атмосфера, которая не имела ничего общего с небом, но медленно поднималась от дряхлых деревьев, старых стен и безмолвного пруда – необъяснимое и заразное испарение, ленивое, тяжелое, еле заметное, свинцового цвета.
Стряхнув с себя то, что должно было быть сном, я обратил более пристальное внимание на вид здания. Судя по всему, оно было очень старым. Под влиянием времени даже камни, казалось, выцвели. Мхи и лишайники покрывали его фасад, свешиваясь с карниза, словно тонкие перепутанные нити. Но это вовсе не было признаком обветшалости. Каменная кладка нигде не обрушилась, и эта устойчивость контрастировала с отдельными искрошившимися камнями. Во всем этом было много чего-то такого, что напомнило мне целостность старого деревянного изделия, которое долгие годы гнило в каком-нибудь заброшенном подвале, вне разрушительного действия свежего воздуха. Но, кроме этого намека на разложение, не было ни малейшего признака непрочности здания. Только очень внимательный наблюдатель смог бы обнаружить еле заметную расщелину, которая, начинаясь от крыши, зигзагом шла по фасаду и терялась в угрюмых водах пруда.
Изучая эти особенности, я подъезжал по мощеной дорожке к дому. Слуга, поджидавший меня, взял мою лошадь, и я вошел в замок, под его готические своды. Безмолвный лакей, неслышно ступая, повел меня по темным извилистым переходам в студию своего хозяина. Многое из того, что я тут увидел, усиливало, не знаю почему, смутное чувство, о котором я уже говорил. Все, что окружало меня: резьба на потолках, темная обивка на стенах, мрачные эбеновые полы и боевые трофеи, которые бряцали, сотрясаясь от моих быстрых шагов, – было мне привычно еще с детства, и я сразу же узнал все это – и все же дивился, чувствуя, какие неведомые грезы возникают во мне при виде этих обыкновенных предметов.
На одной из лестниц я встретил домашнего врача. Мне показалось, что его лицо выражает коварство и вместе с тем смущение. Он первый торопливо подошел ко мне и, поздоровавшись, тотчас же скрылся. Лакей отворил дверь и ввел меня к своему господину.
Комната, в которой я очутился, была очень просторной, с высокими потолками. Длинные и узкие стрельчатые окна находились на таком расстоянии от черного дубового пола, что изнутри в них было совершенно невозможно заглянуть. Слабые красноватые лучи, проходя сквозь оконные стекла, защищенные решеткой, позволяли видеть некоторые предметы интерьера, находившиеся поближе; но глаз тщетно пытался достичь отдаленных углов комнаты и разглядеть сводчатый, украшенный резьбой потолок. Со стен свисали тяжелые драпировки. Старинная обстановка отличалась ветхостью, вычурностью и отсутствием комфорта. Повсюду были разбросаны книги и музыкальные инструменты, но и они не могли хоть сколько-нибудь оживить картину. Я чувствовал, что дышу атмосферой скорби. Все было окутано суровостью и глубокой печалью.
При моем появлении Эшер встал с дивана, на котором лежал, и приветствовал меня с живостью и сердечностью. В первую минуту мне показалось, что в этой живости было много деланного – вынужденные усилия светского человека. Но одного взгляда на лицо моего друга было достаточно, чтобы убедиться в полной его искренности. Мы сели, и в течение нескольких мгновений, пока он молчал, я глядел на него со смешанным чувством сострадания и страха. Никогда никто не изменялся так в столь короткое время! Я не узнавал Родрига Эшера, я не мог поверить, что бледное существо, находившееся передо мной, и товарищ моего детства – один и тот же человек. Однако лицо это по-прежнему было привлекательным. Мертвенная бледность; большие глаза, чистые и необычайно блестящие; губы несколько тонкие и бесцветные, но с удивительно красивым изгибом; изящный нос с горбинкой и широкими ноздрями; очаровательный, но невыразительный подбородок, что свидетельствовало о недостатке решимости; волосы нежней и тоньше паутины, – все эти черты в соединении с необыкновенно развитым лбом придавали лицу Эшера выражение, которое нелегко забыть. В самом преувеличении характерных перемен было что-то такое, из-за чего я сомневался, кого именно вижу перед собой. Больше всего меня поразили и даже испугали призрачная бледность кожи и чудесный блеск глаз. Кроме того, шелковистые волосы Родрига находились в полном беспорядке, и, похожие на тысячи паутинок, что летают в воздухе, не падали вдоль лица, а скорее развевались вокруг него, – в них было нечто, напоминающее арабески и чуждое традиционному представлению о том, как должно выглядеть человеческое существо.
Я сразу же был поражен бессвязностью речи моего друга; как я вскоре заметил, это объяснялось постоянными и бесплодными попытками побороть нервное возбуждение, которое, по-видимому, стало для него обычным состоянием. Я ожидал чего-то подобного, был подготовлен к этому, с одной стороны, письмом, с другой – некоторыми детскими воспоминаниями и заключениями об особенностях его темперамента. Все движения Эшера были то бодрыми, то ленивыми. Его голос также менялся: из нерешительного и вялого (как будто силы совсем покинули Родрига) вдруг становился глухим, отрывистым и властным, а затем превращался в гортанный, прекрасно-размеренный говор, как у запойного пьяницы или у курильщика опиума в период наиболее сильного возбуждения.
Именно таким голосом говорил Эшер о своем настойчивом желании видеть меня, об облегчении, которого он ожидал после моего приезда. Подробно и даже несколько длинно он распространялся о том, что считал истинной причиной своей болезни. Во всем виновата, говорил мой друг, проклятая наследственность; он уже отчаялся найти какое-нибудь лекарство. Родриг тотчас же прибавил, что это всего лишь нервное возбуждение и, конечно, скоро пройдет.
Болезнь его проявляла себя во множестве странных ощущений. Описание некоторых из них заинтересовало меня и поставило в тупик, хотя, быть может, на меня подействовала также его манера рассказывать. Эшер очень страдал от болезненной остроты ощущений; он мог принимать только самую простую пищу, носить одежду, сшитую лишь из определенных тканей. Запах цветов угнетал его, глаза страдали даже от самого слабого света, и только некоторые звуки, а именно звучание струнных инструментов, не внушали ему ужаса.
Я увидел, что Эшер сделался рабом своего страха. «Я погибну, – говорил он, – я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне расстаться с жизнью. Я боюсь будущего, и не самих событий, а их последствий. Я дрожу при мысли о каком-нибудь, даже самом обыкновенном случае, который может оказать воздействие на мое невыносимое душевное возбуждение. Не самой опасности я боюсь, а ее неизбежного спутника – ужаса. Находясь в этом безнадежном, в этом жалком состоянии, я чувствую, что рано или поздно настанет момент, когда я должен буду расстаться сразу и с рассудком, и с жизнью в борьбе против этого свирепого призрака».
Кроме того, по некоторым бессвязным, неясным намекам я догадался и о других проявлениях странного душевного состояния, в котором находился Эшер. Он был порабощен суевериями, связанными с домом, где он жил и откуда уже много лет не решался выйти; мой друг говорил о какой-то силе – в выражениях слишком туманных, чтобы я мог их сейчас воспроизвести. Он утверждал, что фамильный дом точно тяжкое бремя давит на его душу; что седые стены и башни, и темный пруд, в который они гляделись, наложили печать на его моральное существование.
Эшер допускал, однако, хотя и после некоторого колебания, что необыкновенная тоска, угнетавшая его, в значительной степени могла проистекать из причины более естественной и гораздо более ощутимой; он имел в виду тяжелую болезнь и, несомненно, близкую смерть его нежно любимой сестры, его единственного друга за эти долгие годы, последнего человека на земле, с которым он был связан кровными узами. «После ее смерти, – произнес Родриг с таким печальным выражением, что я помню его до сих пор, – я, больной и лишенный каких бы то ни было надежд, останусь последним отпрыском древнего рода Эшеров». В то время как он говорил это, леди Мадэлин (так звали его сестру) бесшумно прошла в отдаленной части комнаты и, не заметив моего присутствия, исчезла.
Я глядел на нее с изумлением, близким к ужасу, – ощущение, которое я до сих пор напрасно пытаюсь себе объяснить. В оцепенении следил я за тем, как она удаляется. Когда же дверь наконец закрылась, я с инстинктивным любопытством взглянул на Родрига, но он заслонил лицо руками, и я смог заметить только бледность, необыкновенную бледность, распространившуюся по его исхудавшим пальцам, между которыми брызнули слезы.
Врачебное искусство уже давно было бессильно перед болезнью леди Мадэлин. Апатия, постепенное угасание индивидуальности и частые, хотя и преходящие, припадки каталептического характера, – таковы были симптомы ее необычайной болезни. До последнего времени она мужественно переносила тягости своего недуга и не хотела обрекать себя на лежание в постели; но в день моего приезда, к концу вечера, покорилась уничтожающей силе разрушения (как тогда же сообщил мне ее брат, крайне возбужденный); таким образом мне стало известно, что я видел леди, вероятно, в последний раз, что, живую, я не увижу ее больше никогда.
Прошло несколько дней, и мы оба – и я, и Эшер – ни разу не произносили ее имени; в течение этих дней я настойчиво пытался развеять меланхолию моего друга. Мы вместе читали и рисовали, а иногда я, как бы убаюканный, внимал полубезумным импровизациям его красноречивой гитары. И чем теснее становилась наша дружба, чем глубже я мог заглянуть в потаенные уголки его души, тем с большей горечью видел бесплодность каких-либо попыток озарить ум, который был окутан свойственной ему стихией – безутешной тьмой, ум, напоенный мраком, распространявшим непобедимые черные лучи на рассудок и тело Родрига.
Я никогда не забуду часов, проведенных наедине с владельцем дома Эшеров. Но было бы напрасной попыткой стараться описать характер замыслов или занятий, к которым приучил меня мой друг. Экстаз, достигший крайних пределов, освещал все сернистым светом. Протяжные песни, которые пел Эшер, будут вечно звучать в моей душе. Среди других похоронных мелодий в моей памяти до сей поры сохранилась безумная ария, странным образом дополняющая один из последних вальсов Вебера[106]. А картины, которые создавала изысканная фантазия Родрига! С каждым новым штрихом они облекались чем-то смутным, что заставляло меня трепетать все сильней и сильней, именно потому, что я не знал причин этого трепета; – как живые, они все еще стоят передо мной, но напрасно было бы пытаться выразить их тайный смысл словами. Картины Эшера приковывали внимание и пугали своей обнаженностью и простотой замысла. Если когда-нибудь кто-то из смертных и смог нарисовать идею, то это – Родриг Эшер. По крайней мере, на меня – учитывая обстоятельства, в которых я оказался, – веяло непобедимым ужасом от этих чистых абстракций, которые ипохондрик попытался изобразить на полотне; даже тени этих ощущений я не испытывал при созерцании грез Фюсли[107], блестящих, но все же слишком подробных.
Один из фантастических замыслов моего друга, не так глубоко проникнутый духом абстракции, все же может быть описан словами, хоть и весьма приблизительно. Небольшая картина изображала бесконечно длинный прямоугольный склеп или туннель, с низким потолком и гладкими белыми стенами без каких-либо выступов или украшений. Некоторые особенности рисунка позволяли думать, что этот туннель находится очень глубоко под землей. Не было заметно ни одного отверстия, не было также ни факела, ни какого-либо другого искусственного источника света, но поток ярких лучей заливал туннель фантастическим, неестественным блеском.
Я уже упоминал о том, что слух моего друга был болезненно чувствительным, что делало для него невыносимой всякую музыку, за исключением той, которая воспроизводилась с помощью струнных инструментов. Быть может, именно то, что Эшер ограничил свой талант игрой на гитаре, в значительной степени обусловило фантастический характер его мелодий. Но что касается лихорадочной легкости его импровизаций, ее нельзя объяснить данным обстоятельством. Эти необузданные фантазии, с особенным подбором звуков и слов (музыка нередко сопровождалась стихотворными экспромтами) были результатом напряженной умственной сосредоточенности, которая, как я уже говорил, проявляется лишь в состоянии крайнего возбуждения. Я легко запомнил слова одной баллады. Быть может, она потому так поразила меня, что я, как мне показалось, впервые понял тогда одно обстоятельство, а именно: Эшер вполне сознавал, что его царственный разум колеблется на своем троне. Стихи назывались «Дворец, населенный духами» и звучали так:
1
Замок чудесный – немой властелин – Гордо вздымался когда-то давно В самой зеленой из наших долин, Где только ангелам жить суждено. Там, где раскинулась Мысли страна, Вечно над ним серебрилась луна, Там – утомясь – серафим отдыхал И, удивленный, вздыхал.
2
В окнах вились и крутились огни, С ними знамена вились заодно. (Все это было в минувшие дни, Все это было когда-то давно.) В сумерках нежных угасшего дня Плыл ветерок, мелодично звеня, Плыл он вперед, возвращался назад, Сладкий струил аромат.
3
Путники в этой блаженной стране Видели в окнах блуждающий рой Духов, идущих как будто во сне, Духов, внимающих лютне святой. Трон багрянцем посредине блистал; В пышном сиянье на нем восседал, Между подвластных своих, властелин Лучшей из лучших долин.
4
Дверь лучезарная в замок вела, Перлы, рубины блистали на ней, В дверь все плыла, и плыла, и плыла, Вечно горя и сверкая сильней, Отзвуков нежных живая семья, Сладость восторга во взорах тая, Славили все они ум одного, Мудрость царя своего.
5
Все вдруг померкло, подкралась беда, Темные силы стеснили царя. (Плачьте! О, плачьте! Над ним никогда Не заблестит золотая заря!) Вкруг его дома увяли цветы; Слава и пышность былой красоты Помнятся смутно, как сказки слова, Тлеют, лишь тлеют едва.
6
Путников странные думы страшат; Сквозь красноватые стекла окна Тени огромные смутно дрожат, Звуков скорбящих рыдает волна; Там, где смеялось Эхо, теперь Бурной толпой через бледную дверь Ужасы с хохотом диким идут, Мчатся, растут и растут.
Я хорошо помню, что эта баллада навеяла на нас множество мыслей, причем выяснилось одно интересное воззрение Родрига Эшера, на которое я указываю теперь не столько в силу его новизны, сколько по причине упорства, с каким мой друг на нем настаивал. Это воззрение сводилось к признанию за растительным миром способности чувствовать. Но в расстроенной фантазии больного эта идея приняла более смелый характер и была перенесена, с известными оговорками, в мир неорганический. У меня нет слов, чтобы выразить полноту и силу его убеждений. Они соединялись (как я уже намекнул) с серыми камнями, из которых был выстроен дом его предков. Способность чувствовать, говорил Эшер, порождается расположением этих камней – определенным сочетанием, а равно и сочетанием мхов и лишайников, распространившихся по их поверхности, и ветхих деревьев, стоявших вокруг, – но больше всего тем, что вся эта комбинация продолжительное время оставалась неизменной и отражалась в неподвижных водах пруда. Очевидность этого проявлялась, как сказал Эшер (и тут я невольно вздрогнул), в постепенном и несомненном уплотнении над водами и вокруг стен особенной атмосферы. Результат, прибавил Родриг, проявлялся в течение веков. Он определил судьбу его фамилии и сделал из него то, что я видел – то, чем он был. Такие воззрения не нуждаются в комментариях.
Книги, которые мы читали и которые на протяжении многих лет питали ум больного, находились, разумеется, в строгом соответствии с его взглядами. Мы вместе размышляли над этими произведениями. «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе, «Бельфегор» Макиавелли, «Рай и ад» Сведенборга, «Подземное путешествие Николаса Клима» Хольберга, «Хиромантия» Роберта Фладда, труды Жана д’Эндажинэ и Делашамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика, «Город солнца» Кампанеллы – все это увлекало Эшера. Особенно полюбился моему другу небольшой том in octavo[108] «Руководство по инквизиции» доминиканского монаха Эймерика Жеронского. Эшер часами грезил и над страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах. Но наибольшее наслаждение он получал, перечитывая любопытную и необычайно редкую книгу in quarto[109] готической печати – молитвенник какой-то позабытой церкви, озаглавленный «Бдения по усопшим согласно хору магунтинского храма».
Невольно я подумал о странном ритуале, описанном в книге, и о его влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером Эшер сухо сообщил мне, что леди Мадэлин уже нет в живых и что он намерен до окончательного погребения сохранять ее тело в одном из многочисленных склепов, расположенных в подвале здания. Я не чувствовал себя вправе оспаривать приведенный им довод. «Я принял такое решение как брат, – сказал мне Родриг, – учитывая необычный характер болезни, сразившей покойницу, назойливые и подробные расспросы ее доктора, а также то, что наше фамильное кладбище находится слишком далеко от дома и открыто всем стихиям». Не могу отрицать, что, когда я вспомнил зловещее лицо человека, которого встретил на лестнице в первый день приезда, у меня пропала всякая охота спорить с тем, что представлялось мне самой невинной и в то же время естественной предосторожностью.
По просьбе больного я сам помог ему устроить это временное погребение. Тело леди Мадэлин было положено в гроб, и мы вдвоем отнесли его вниз. Склеп не открывали столько лет, что, когда мы вошли туда, наши факелы в этой удушливой атмосфере едва не погасли, и мы почти ничего не смогли рассмотреть.
В эту сырость и тесноту не было доступа дневному свету. Склеп был расположен очень глубоко и как раз под той частью здания, где находилась моя спальня. В Средние века он, очевидно, служил темницей, а позднее тут хранили порох или какие-нибудь другие легко воспламеняющиеся вещества, поскольку часть пола и весь длинный коридор, по которому мы пришли сюда, были обиты медью. Массивная железная дверь была защищена подобным же образом. Поворачиваясь на петлях, эта громада издавала необыкновенно резкий, пронзительный скрип.
Установив на подставку нашу скорбную ношу, мы отодвинули немного в сторону еще не завинченную крышку гроба и взглянули на лицо усопшей. Поразительное сходство между братом и сестрой только теперь вдруг бросилось мне в глаза, и Эшер, быть может, угадав мои мысли, пробормотал несколько слов, из которых я узнал, что покойница и он были близнецами и всегда испытывали друг к другу горячую симпатию, природу которой трудно объяснить.
Наши взоры, однако, недолго были прикованы к лицу усопшей – мы не могли смотреть на него без трепета. Болезнь, погубившая леди Мадэлин в расцвете юности, как бы в насмешку оставила слабую краску на щеках и груди покойницы, как это неизменно бывает при болезнях каталептического характера, а также нерешительную, точно на что-то намекающую улыбку, которую так страшно видеть на мертвом лице. Привинтив крышку, мы заперли железную дверь и, измученные, отправились наверх, в покои, вряд ли менее мрачные.
И вот, после нескольких дней горькой печали характер душевного расстройства, которое угнетало моего друга, заметно изменился. Изменилась и его манера держаться. Обычные занятия были забыты. Бесцельно переходил Эшер из комнаты в комнату быстрыми неровными шагами. Бледность его лица сделалась еще более призрачной, но лучистый блеск глаз совершенно потух. Тон его голоса утратил резкость, которая иногда слышалась прежде, и ее сменил трепет волнения, словно вызванный паническим ужасом. Бывали минуты, когда мне казалось, что постоянно возбужденный ум больного угнетала какая-то тайна, сообщить которую он никак не решался. Временами же я опять приходил к заключению, что все это – необъяснимые причуды безумия: Эшер часами смотрел в пространство, застыв в позе, выражавшей глубочайшее внимание; он как бы старался уловить какой-то воображаемый звук. Удивительно ли, что состояние моего друга наполнило мою душу страхом – заразило меня. Я чувствовал, как и на меня медленно наползают его суеверные фантазии.
Власть этих ощущений я особенно сильно испытал на седьмой или восьмой день после того, как мы положили тело леди Мадэлин в склеп. Поздно ночью я лег спать. Бежали мгновенья, уходили часы – а сна все не было. Я старался с помощью трезвых рассуждений избавиться от охватившего меня нервного возбуждения. Я говорил себе, что, вероятно, многое из того, что я чувствовал – если только не все – было навеяно чарами мрачной обстановки – этими темными оборванными драпировками, которые, как бы неохотно повинуясь дыханию зарождающейся бури, вздрагивали на стенах и скорбно шелестели вокруг резного алькова.
Но мои усилия были тщетны. Неотступный страх все более проникал в мою душу, и наконец беспричинная тревога легла мне на сердце тяжелым кошмаром. Сделав усилие, я приподнял голову от подушки и, устремив пронзительный взгляд в темноту, стал прислушиваться – сам не знаю почему, быть может, инстинктивно – к каким-то глухим неопределенным звукам, которые долетали неизвестно откуда, с большими паузами, в промежутки, когда буря затихала. Охваченный острым чувством страха, непонятного, невыносимого, я накинул на себя одежду (я знал, что мне уже не уснуть) и, быстро шагая взад и вперед по комнате, старался вывести себя из жалкого состояния, так неожиданно охватившего меня.
Но вскоре мое внимание привлекли мягкие шаги, послышавшиеся на лестнице. Я тотчас же узнал, что это Эшер. Через мгновение он тихо постучался в мою дверь и вошел с лампой в руке. Лицо его, как всегда, было мертвенно-бледным – но, кроме того, в глазах было выражение бешеной веселости – все его черты носили явную печать сдержанного истерического возбуждения. Вид Эшера ужаснул меня – но, что бы ни случилось, все, все было предпочтительнее одиночества, которое я так долго выносил, и, когда он вошел, я почувствовал некоторое облегчение.
«Ты не видел? – резко проговорил Эшер, после того как несколько мгновений молча и пристально смотрел вокруг себя. – Ты не видел? Постой! Сейчас!» Прикрыв рукой лампу, он бросился к одному из окон и распахнул его настежь – в бурю и тьму.
Вихрь, с бешенством ворвавшийся в комнату, чуть не приподнял нас над полом. Бурная, мрачно-прекрасная ночь была поистине безумной и необычайной в своем ужасе и красоте. Несомненно, смерч собирал силы где-то неподалеку от нас – ветер часто и резко менял направление, и поразительно густые тучи висели так низко, что, казалось, давили своей тяжестью на башенки дома. Мы видели, как тучи со всех сторон мчатся с яростной быстротой к дому Эшеров.
Я говорю, что мы хорошо это видели; между тем не было даже проблеска звезд или луны – и ни одной вспышки молнии. Огромные массы пришедших в возмущение водяных паров, выраставших исполинскими клубами, и все, что окружало нас на земле, сияло неестественным светом газовых испарений, которые окутывали дом, словно слабо мерцавший и отчетливо различимый саван.
«Ты не должен смотреть на это – не смотри, не смотри! – вскричал я, весь дрожа, осторожно отвел друга от окна и усадил в кресло. – Почему ты так взволнован? Ведь это всего лишь электрический феномен, не представляющий собой ничего особенного; а может быть, это мрачное зрелище вызвано испарениями. Давай закроем окно. Холодный воздух вреден для тебя. Вот одна из твоих любимых книг. Я буду читать, а ты слушай, и мы вместе проведем эту ужасную ночь».
Ветхий том, который я взял, назывался «Безумная печаль» и принадлежал перу сэра Ланселота Каннинга. Но, сказав, что это любимая книга моего друга, я, конечно, пошутил, хоть и не слишком удачно. В наивной и неуклюжей болтливости этого произведения было очень мало привлекательного для высокого, идеального ума Эшера. Это была, однако, единственная книга, которая оказалась у меня под рукой, и я лелеял смутную надежду на то, что возбуждение, которое испытывал ипохондрик, уляжется именно благодаря безумным фантазиям, изложенным в этом произведении. Судя по напряженному вниманию, с которым больной слушал мое чтение (или притворялся, что слушал), я мог поздравить себя с успехом.
Я дошел до известной сцены, где герой романа, Этельред, после тщетных попыток мирно войти в жилище отшельника решается проникнуть туда силой. Читатель, наверное, помнит, что это описывается так:
«И Этельред, обладавший от природы мужественным сердцем и весьма сильный из-за выпитого вина, не стал больше ждать и вести переговоры с отшельником, судя по всему, коварным и упорным, но, чувствуя на плечах капли дождя и думая, как бы не разыгралась буря, взмахнул своей палицей, двумя-тремя ударами пробил отверстие в двери и просунул туда руку, одетую в железную перчатку. Он изо всей силы дернул дверь на себя, и она треснула, и расщепилась, и разлетелась на куски, и по лесу прокатилось глухое эхо».
Дочитав этот отрывок, я сделал небольшую паузу и вздрогнул: мне показалось (хотя я тотчас же заключил, что это обман моего расстроенного воображения) – мне показалось, что из самой отдаленной части дома донесся неясный звук, как бы приглушенное эхо треска и грохота, которые так подробно описал сэр Ланселот. Внимание мое, несомненно, было привлечено именно этим совпадением; среди треска оконниц и обычного смутного шума все возраставшей бури в этом звуке, конечно, не было ничего, что могло бы заинтересовать меня или смутить.
Я продолжил чтение:
«Но, войдя, славный рыцарь Этельред был разгневан и изумлен, увидев, что коварного отшельника нет и в помине, а вместо него – дракон, покрытый чешуей, вида чудовищного, с огненным языком, сторожит золотой дворец с серебряной дверью. На стене висел щит из блестящей меди, а на нем была круговая надпись:
Кто дверь разбил, победителем был;
Кто дракона убьет, тот щит себе возьмет.
Взмахнул Этельред своей палицей и ударил дракона по голове, и тот упал перед ним и испустил свой смрадный дух с таким страшным и пронзительным криком, что Этельред вынужден был закрыть уши руками, чтобы защититься от страшного шума, подобного которому он никогда прежде не слыхал».
Здесь я опять остановился, на этот раз испытывая глубокое изумление – ибо теперь у меня не было ни малейшего сомнения в том, что я действительно слышал некий звук (откуда он доносился, я не мог определить), звук приглушенный и, очевидно, далекий, но резкий, протяжный и невероятно пронзительный – точно такой же, как тот неестественный крик, с которым умер легендарный дракон и который был уже воссоздан моим воображением.
Это было уже второе, совершенно необъяснимое совпадение. Я был смущен противоречивыми ощущениями, среди которых преобладали удивление и ужас, но все же еще настолько владел собой, что не сделал ни одного замечания, боясь возбудить чуткую нервозность своего товарища. Я вовсе не думал, что и он слышал странные звуки, хотя за последние минуты его поведение заметно изменилось. Прежде Эшер сидел напротив меня, потом, постепенно поворачиваясь в кресле, обратился лицом к двери. Теперь я мог рассмотреть лишь его профиль, но заметил, что губы Родрига дрожали, точно он что-то беззвучно шептал. Голова его свесилась на грудь, но мне было видно, что он не спал: глаза его были широко открыты и пристально смотрели перед собой. Кроме того, движение его тела исключало мысль о сне – Эшер раскачивался из стороны в сторону, чуть заметно, но неустанно и однообразно. Быстро подметив все это, я продолжил читать повествование сэра Ланселота.
«И тут мужественный рыцарь, избегнув ярости чудовища и вспомнив о медном щите и о разрушенных чарах, отодвинул с дороги мертвого дракона и смело направился к стене, на которой висел щит. Не успел Этельред подойти к нему, как щит сам упал к его ногам на серебряный пол со страшным дребезжанием и тяжелым грохотом».
Едва эти слова замерли в воздухе, как вдруг – точно медный щит действительно упал в этот момент на серебряный пол – я отчетливо услышал удар и гулкий, дребезжащий, но, очевидно, приглушенный звон металла.
Я вскочил. Эшер же как ни в чем не бывало продолжал мерно покачиваться. Я бросился к креслу, на котором он сидел. Глаза Родрига смотрели в одну точку, черты застыли в каменном спокойствии. Но лишь только я положил руку ему на плечо, как по всему телу Эшера пробежала судорожная дрожь; жалкая улыбка затрепетала на его губах, и я услышал быстрый невнятный шепот. Глотая слоги, мой друг говорил тихо-тихо и как бы не осознавая моего присутствия. Наклонившись над ним, к самому его лицу, я наконец уловил чудовищный смысл его слов: «Не слышишь? А я слышу и раньше слышал. Давно-давно-давно… Шли минуты, часы, дни… Я слышал… но не смел… О, сжалься, сжалься надо мной! Я не смел… не смел об этом сказать! Мы похоронили ее заживо! Разве я не предупреждал, что мои чувства обострены? Говорю тебе теперь, я слышал, как она в первый раз зашевелилась в своем гробу. Я слышал это – много, много дней тому назад, – но не смел… не смел сказать! И вот… нынче ночью… Этельред… А! А! Разлетелась дверь отшельника, и дракон закричал, и щит загремел!.. Скажи лучше, ее гроб разлетелся, и железные петли ее тюрьмы заскрипели, и она сама стала биться под медными сводами. О, куда мне убежать? Разве она не придет сюда сейчас? Разве она не бежит сюда, чтобы упрекнуть меня в поспешности? Я слышу, как тяжело и страшно бьется ее сердце! Сумасшедший!..»
Эшер вскочил и закричал так отчаянно, словно с этим воплем сама жизнь покидала его: «Сумасшедший! Я говорю тебе, что она стоит за дверью!»
И как будто сверхчеловеческая энергия его слов обрела волшебную силу, тотчас же ветхая дверь, на которую указывал Эшер, медленно раздвинула свои тяжелые черные челюсти. За ней была высокая, окутанная саваном фигура леди Мадэлин Эшер. На ее белом одеянии виднелись кровавые пятна, на изможденном теле – следы тяжелой борьбы. Несколько мгновений она постояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим и жалобным криком рухнула на брата и в судорожной – и на этот раз настоящей – смертельной агонии увлекла его наземь, увлекла труп, жертву страха, который он предчувствовал.
Я в ужасе бежал из этой комнаты и из этого дома. Буря все еще свирепствовала. Я промчался по старой дорожке, ведущей к воротам. Вдруг блеснул странный свет, и я обернулся, чтобы посмотреть, откуда может исходить такое необыкновенное сияние. За мной не было ничего, кроме обширного дома, утопавшего во мраке. Свет исходил от кроваво-красной полной луны, которая, опускаясь к горизонту, ярко блистала теперь через расщелину, прежде едва заметную, проходившую, как я уже говорил, в виде зигзага от крыши дома до его основания. Расщелина быстро расширялась. Смерч поднялся с новой силой, и лунный диск целиком предстал моим глазам. Голова у меня закружилась; я увидел, что мощные стены рушатся. Раздался грохот, и темные воды глубокого пруда угрюмо и безмолвно сомкнулись над обломками дома Эшеров.
Колодец и маятник пер. П. Лачинова
Меня сломила – сокрушила эта долгая агония; и когда меня наконец развязали и усадили, я почувствовал, что теряю сознание. Последняя фраза, коснувшаяся моего слуха, была приговором: страшным смертным приговором, после которого голоса инквизиторов как будто слились в неясном жужжании. Этот звук напоминал мне почему-то нескончаемый круговорот – может быть, оттого, что в своем воображении я сравнивал его со скрипом мельничного колеса.
Но это продолжалось недолго. Вдруг я вообще перестал что-либо слышать, но зато еще некоторое время продолжал видеть – и как преувеличенно было то, что попадало в поле моего зрения! Губы судей были белыми, белее листа, на котором я пишу эти строки, и невероятно тонкими. Они казались еще тоньше из-за жесткого, непреклонного выражения решимости и презрения к человеческим страданиям. Я видел, как эти губы произносили приговор: они шевелились, слагая смертную фразу, в которой я различал буквы своего имени и содрогался, чувствуя, что за их движением не следовало никакого звука.
В продолжение нескольких минут томительного ужаса я видел также едва заметное колебание черных драпировок на стенах зала; потом взгляд мой упал на семь больших подсвечников, стоявших на столе. Сначала они представились мне символом милосердия, похожие на белых и стройных ангелов, которые должны были спасти меня, но вдруг смертельная тоска охватила мою душу и все фибры моего существа встрепенулись, словно от прикосновения к проводам гальванической батареи, – ангелы превратились в привидения с огненными головами, и я почувствовал, что от них мне нечего ждать помощи. Тогда в уме моем прозвучала, словно тихая музыкальная фраза, мысль о сладком покое, который ждет нас в могиле. Мысль эта мерцала во мне слабо и будто украдкой, так что я долго не мог осознать ее до конца; но в ту минуту, как мой ум начал лелеять ее, фигуры судей внезапно исчезли, большие подсвечники потухли, наступила непроглядная тьма, и все мои ощущения слились в одно, как будто душа моя вдруг нырнула на бездонную глубину. Вселенная превратилась в ночь, безмолвие и неподвижность.
Я был в обмороке, но не могу сказать, что полностью лишился сознания. То, что оставалось от него, я не стану даже пытаться описать, – но знаю, что утрачено было еще не все. Что это было? Глубочайший сон? Нет! Бред? Нет! Обморок? Нет! Смерть? Нет! Даже в могиле не все покидает человека, иначе для него не было бы бессмертия. Пробуждаясь от глубокого сна, мы непременно разрываем сеть какого-нибудь сновидения, хотя секунду спустя, может быть, уже и не помним его. При возвращении от обморока к жизни мы проходим две стадии: сначала возвращаемся в мир духовный, потом обретаем физическое существование. Мне кажется, что, если бы, достигнув второй стадии, мы помнили ощущения первой, нам открылись бы свидетельства об оставшейся позади бездне. А что такое эта бездна? Как отличить ее тени от теней смерти? И все-таки, если впечатления о том, что я назвал первой стадией, не возвращаются по велению нашей воли, то разве не бывает, что после долгого промежутка они являются неожиданно сами собой, и тогда мы изумляемся, откуда они могли взяться? Тот, кому никогда не случалось падать в обморок, не знает, какие в это время представляются в клубах пламени дворцы и странно знакомые лица; тот не видал, какие носятся в воздухе меланхолические видения, недоступные простому взгляду; тот не вдыхал запаха неизвестных цветов, не внимал звукам таинственной мелодии, прежде никогда им не слышанной.
Среди упорных попыток уловить какой-нибудь след сознания в том состоянии ничтожества, в котором находилась моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что мне это вот-вот удастся. Очень ненадолго мне удавалось заново вызвать чувства, которые я мог испытать только в беспамятстве.
Эти тени рисовали передо мной, как какие-то большие фигуры подняли меня и безмолвно понесли вниз… потом еще ниже, все ниже и ниже, – до тех пор, пока меня не охватило головокружение при мысли о бесконечном нисхождении. Помнился мне также какой-то неопределенный, леденящий сердце ужас, хотя оно и было в то время сверхъестественно спокойным. Потом все замерло, как будто те, кто нес меня, преодолели границы безграничного и остановились, подавленные бесконечной скукой своих обязанностей. После этого душа моя припоминает ощущение сырости и темноты, и затем все сливается в какое-то безумие – безумие памяти, не находящей выхода из безобразного круга.
Внезапно звук и движение возвратились в мою душу – сердце беспокойно билось, и в ушах отдавался гул его биения. Затем пауза – и все опять исчезло. Потом снова звук, движение и осязание как будто пронизали все мое существо, и за этим последовало осознание существования без всякой мысли. Это продолжалось долго. Внезапно появилась мысль, нервический ужас и попытка понять, в каком состоянии я нахожусь. Следом за этим возникло пламенное желание снова впасть в бесчувственность и, наконец, быстрое пробуждение души и попытка пошевелиться. Тогда я полностью вспомнил судебный процесс, черные драпировки, приговор, собственную слабость, обморок. О том же, что было дальше, я забыл совершенно и вспомнил только впоследствии с величайшими усилиями, да и то лишь в общих чертах.
До этой минуты я не открывал глаз; я чувствовал только, что лежу на спине и не связан. Я протянул руку, и она тяжело упала на что-то сырое и жесткое; я замер на несколько минут, пытаясь угадать, где я нахожусь и что со мной случилось. Мне очень хотелось осмотреться, но я не решался это сделать: не потому, что боялся увидеть что-нибудь страшное; меня ужасала мысль о том, что я ничего не увижу. Наконец с замирающим сердцем я быстро открыл глаза, и мое опасение подтвердилось: меня окружала тьма.
Я с усилием вдохнул; казалось, густота мрака душит меня – настолько тяжелой была атмосфера. Продолжая лежать на спине, я попытался припомнить обычаи инквизиции и понять свое нынешнее положение. Мне был вынесен смертный приговор, и с тех пор, кажется, прошло довольно много времени, но мне ни разу не пришла в голову мысль о том, что я уже умер. Подобная идея, вопреки домыслам сочинителей, совершенно несовместима с существованием. Но где же я и что со мной? Я знал, что приговоренных к смерти казнят на аутодафе, и одна из таких казней была назначена на день моего суда. Отправили ли меня в темницу, чтобы я несколько месяцев ожидал там следующего костра?.. Я тотчас же понял, что это невозможно: инквизиторы не дают отсрочек своим жертвам!
Вдруг мне в голову пришла настолько ужасная мысль, что кровь бурным потоком прилила к сердцу; на несколько минут я снова впал в беспамятство. Придя в себя, я тут же вскочил на ноги, содрогаясь, и начал шарить вокруг себя руками. Я ощущал лишь пустоту, но боялся сделать шаг, чтобы не удариться о стены своей гробницы. Я покрылся пóтом, он холодными каплями застыл у меня на лбу. Агония неизвестности стала наконец невыносимой, и я осторожно шагнул вперед, вытянув руки перед собой и широко открыв глаза в надежде уловить хотя бы луч света. Я сделал несколько шагов; вокруг было темно и пусто, и я вздохнул свободнее. Мне была уготована не самая страшная участь.
Я продолжал осторожно продвигаться вперед, припоминая бесчисленные и порой нелепые слухи об ужасах толедских темниц. Странные вещи рассказывали об этих каменных мешках. Я всегда считал, что это вымысел, но тем не менее они были так страшны и таинственны, что о них говорили не иначе как шепотом. Предстояло ли мне умереть с голоду в этом подземном мраке или меня ожидала еще более ужасная казнь?.. В том, что в конце концов меня постигнет смерть, и смерть мучительная – в этом я не сомневался: слишком хорошо я знал своих судей. Вопрос, не дававший мне покоя, заключался в том, в какое время наступит эта смерть и какой именно она будет.
Наконец мои протянутые руки нашупали препятствие: это была стена, по-видимому, сложенная из камней, – очень гладкая, сырая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая с большой осторожностью. Однако таким способом невозможно было определить размеры моей темницы: я мог обойти ее и возвратиться на прежнее место, даже не заметив этого. Я стал искать в кармане ножик – он был там, когда меня повели на суд. Но теперь его на месте не оказалось, да и всю мою одежду заменили на балахон из мешковины. Первоначально я хотел вогнать нож в какую-нибудь расщелину, чтобы обозначить начало пути. Это легко было сделать и другим способом, и лишь в горячке трудность показалась мне непреодолимой.
Я оторвал толстый край от подола своего балахона и положил его на пол. Обходя темницу на ощупь, я должен был непременно наткнуться на этот лоскут, когда вернусь на прежнее место. По крайней мере, я так думал, не зная ни истинных размеров своего узилища, ни степени собственной слабости. Пол был сырым и скользким; какое-то время я шел по нему спотыкаясь, потом поскользнулся и упал. Я так устал, что мне не хотелось вставать. Вскоре я уснул.
Проснувшись и пошарив возле себя, я обнаружил хлеб и кружку воды. Я был слишком утомлен, чтобы размышлять над тем, откуда они взялись, и с жадностью принялся есть и пить. Спустя некоторое время я опять отправился в путешествие вдоль стен своей темницы и с большим трудом дошел наконец до куска мешковины. Перед тем как споткнуться и упасть, я насчитал пятьдесят два шага, а после того сделал еще сорок восемь. Следовательно, всего было сто шагов. Считая два шага за ярд, я заключил, что моя тюрьма имеет окружность в пятьдесят ярдов. Впрочем, я натыкался на многочисленные углы, поэтому никак не мог определить форму своего узилища.
Меня не особенно интересовали эти открытия, я ничего от них не ожидал, но странное любопытство побуждало меня продолжать. Я решился пересечь пространство темницы. Сначала я продвигался с чрезвычайной осторожностью, но наконец зашагал увереннее. Сделав десять или двенадцать шагов, я зацепился ногой за обрывок мешковины и упал со всего размаху лицом вниз.
Растерявшись, я не сразу заметил удивительное обстоятельство. Вот что это было: мой подбородок упирался в пол темницы, а нос, лоб и верхняя часть головы, хотя и опущенные ниже подбородка, ни к чему не прикасались. В то же время ноздри мне щекотал какой-то сырой пар, пахнущий плесенью и поднимавшийся откуда-то снизу.
Я судорожно зашарил руками вокруг себя и вздрогнул, догадавшись, что лежу на самом краю круглого колодца, диаметр которого в ту минуту я не мог определить. Ощупывая его края, я отломил небольшой кусочек извести и бросил его вниз. Падая, он ударялся о края колодца и наконец погрузился в воду, со звуком, который повторило эхо. В эту минуту у меня над головой послышался шум, как будто отворилась и тотчас же захлопнулась дверь, и слабый луч света, внезапно прорезав темноту, так же внезапно исчез.
Я окончательно понял, какая участь была мне уготована, и обрадовался, что случай спас меня от нее. Сделай я еще шаг, и не видать бы мне больше белого света! Именно такие казни упоминались в рассказах, которые я считал небылицами. Жертвы инквизиции обрекались на смерть, сопровождавшуюся либо жесточайшими физическими мучениями, либо ужасами нравственной пытки. Мне суждено было последнее. Из-за продолжительных страданий мои нервы были до того расстроены, что я вздрагивал при звуке собственного голоса и как нельзя лучше подходил для тех пыток, которые меня ожидали.
Дрожа всем телом, я отполз к стене, решив лучше умереть там, но избежать кошмарных колодцев, которые теперь мерещились мне повсюду. Если бы мой рассудок находился в ином состоянии, я имел бы мужество покончить разом со всеми этими муками, бросившись в зияющую пропасть, но теперь я трусил. Кроме того, я не мог забыть о том, что слышал об этих колодцах: быстро умереть в них еще никому не удавалось.
От сильного волнения мне несколько часов не спалось, но наконец я смог забыться. Проснувшись, я опять нашел возле себя хлеб и кружку воды. Жажда сжигала меня, и я залпом осушил кружку. Вероятно, в воду было что-то подсыпано, потому что едва я ее выпил, как на меня тотчас снова навалилась дремота. Я погрузился в сон, глубокий, как сама смерть.
Долго ли я спал, не знаю, но когда я снова открыл глаза, то вдруг обнаружил, что вижу все, что меня окружает. В странном сероватом свете, неизвестно откуда исходившем, я смог рассмотреть пространство моей темницы.
Я ошибся, определяя ее размеры; моя тюрьма не могла быть больше двадцати пяти ярдов в окружности, и на несколько минут это открытие чрезвычайно меня смутило, – хотя, правду сказать, смущаться было не из-за чего: учитывая обстоятельства, в которых я оказался, бóльшая или меньшая величина моей темницы не имела никакого значения. Но я почему-то цеплялся за эти мелочи, пытаясь понять, почему ошибся в измерениях. Наконец меня осенило. Прежде чем я упал в первый раз, я отсчитал пятьдесят два шага. Возможно, что я был всего в двух шагах от куска мешковины, успев обойти почти всю камеру. Затем я заснул, а проснувшись, скорее всего, пошел в другую сторону. Я даже не заметил, что в начале обхода стена была слева от меня, а в конце оказалась справа.
Я также ошибся относительно формы здания. Вот каково действие темноты на человека, очнувшегося от обморока или пробудившегося ото сна! Идя на ощупь, я обнаружил много углов. Но оказалось, что это всего лишь небольшие неровности в стене; темница же была прямоугольной формы. То, что я принял за камни, оказалось листами железа или какого-то другого металла, стыки и швы между которыми и образовывали неровности. Внутренняя поверхность моего стального мешка была разрисована отвратительными фресками – порождением монашеских суеверий. Стены покрывали грозные демоны в виде скелетов и в других, еще более страшных обличьях. Я заметил, что контуры этих чудовищ были достаточно четкими, но краски поблекли – должно быть, под воздействием сырости. Потом я разглядел, что пол тюрьмы выложен камнем. Посредине зиял круглый колодец, в который я чуть не упал; других колодцев в темнице не было.
Все это я мог различить лишь очень смутно, потому что за время сна мое состояние существенно изменилось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост, на чем-то вроде деревянной низкой скамьи, к которой был крепко привязан длинным ремнем. Он несколько раз обвивался вокруг моего тела, оставляя свободными только голову и левую руку – так, чтобы я мог дотянуться лишь до глиняной миски с едой, стоявшей возле меня на полу. Я с ужасом заметил, что кружки не было, а между тем меня снова терзала невыносимая жажда. Мои палачи решили распалить ее еще больше: мясо, лежавшее в миске, было обильно приправлено пряностями.
Я поднял глаза и стал рассматривать потолок. Он находился на высоте тридцати или сорока футов и ничем не отличался от стен. Мое внимание привлекла странная фигура, изображенная на одном из металлических листов. Это была Смерть, как ее обычно представляют, с той лишь разницей, что вместо косы она держала предмет, который я с первого взгляда принял за огромный маятник, как на старинных часах. Было, однако, в форме этого предмета что-то такое, что заставило меня вглядеться в него пристальней. Пока я смотрел прямо вверх (маятник находился точно надо мной), мне показалось, что он шевелится. Минуту спустя это впечатление подтвердилось: маятник медленно раскачивался.
Наконец, устав следить за его однообразным движением, я обратил взор на другие предметы. Мое внимание привлек легкий шум, и, взглянув на пол, я увидел полчище огромных крыс. Привлеченные запахом мяса, они вылазили из колодца, который был справа от меня. С большим трудом я смог отогнать их от своей миски.
Прошло полчаса, а может быть, и час – я плохо осознавал ход времени, – когда я снова поднял глаза. То, что я увидел, вызвало у меня недоумение. Размах маятника увеличился почти на целый ярд. Следовательно, возросла и его скорость. Но больше всего меня встревожило то, что он заметно опустился. Наконец я разглядел – не стану описывать, какой ужас я при этом испытал! – что нижняя часть маятника имеет форму массивного серпа из сверкающей стали длиной около фута; рожки серпа были повернуты вверх, а нижний край казался остро заточенным, как лезвие бритвы. Выше лезвия серп утолщался и даже с виду казался тяжелым. Он был прикреплен к массивному медному стержню, и это устройство раскачивалось, со свистом рассекая воздух.
Я более не сомневался в том, какая участь была уготована мне изобретательными монахами. Инквизиторы поняли, что я обнаружил колодец – колодец, вполне достойную кару для такого еретика, как я… Я совершенно случайно избежал падения в него, и им пришлось придумать другое наказание. Внезапность кары, ужас жертвы, захваченной врасплох, является непременным условием их тайных экзекуций. Мое нечаянное падение не состоялось, но в план этих демонов вовсе не входило бросать меня туда насильно; следовательно, я был обречен на другую, более приятную смерть… Более приятную! Я улыбнулся, когда мне пришло на ум это странное слово.
К чему рассказывать о долгих, долгих часах, во время которых я считал колебания стального серпа? Он опускался дюйм за дюймом, так медленно, что это можно было заметить только спустя долгие промежутки времени, казавшиеся мне веками. Опускался все ниже – все ниже!
Прошло несколько дней – может быть, даже много дней, – прежде чем маятник стал раскачиваться так близко от меня, что я почувствовал движение рассекаемого им воздуха. Запах заточенной стали входил в мои ноздри. Я молил небо – молил неустанно, – чтобы сталь опускалась поскорее. Я обезумел и силился подняться навстречу этому движущемуся мечу. Потом на меня внезапно снизошло глубочайшее спокойствие, и я лег неподвижно, улыбаясь этой сверкающей смерти, как ребенок дорогой игрушке.
Опять настала минута полного беспамятства, хоть и на очень короткое время, потому что, придя в себя, я не заметил, чтобы маятник заметно опустился. Однако я знал: вокруг меня демоны, которые заметили мой обморок и могли остановить движение маятника. Окончательно придя в себя, я почувствовал невыразимую, болезненную слабость, словно меня долго изнуряли голодом. Несмотря на страдания человеческая природа требовала пищи. С огромным усилием я вытянул левую руку, насколько позволяли путы, и взял небольшой кусок мяса, оставленный крысами. Когда я отправил его в рот, в моей голове промелькнули радость и надежда. Казалось бы, что могло быть общего между мной и надеждой? Но повторяю: то был обрывок мысли, которая угасла почти в тот же миг, как и родилась. Напрасно я пытался додумать ее: длительные страдания лишили меня способности мыслить и рассуждать. Я стал почти безумным.
Маятник колебался в плоскости, перпендикулярной моему телу, и я заметил, что серп направлен так, чтобы рассечь мою грудь в том месте, где находится сердце. Сначала он коснется мешковины, потом откачнется и повторит все сначала, опять и опять… Несмотря на то что размах колебаний маятника стал уже огромным – футов тридцать, не меньше – и его свистящая мощь могла бы сокрушить даже стены моей тюрьмы, он всего лишь надрежет мешковину, из которой сшит мой балахон.
На этом я остановился, не решаясь додумать эту мысль. С упрямым вниманием я вцепился в нее, как будто таким образом мог остановить опускающуюся сталь. Я воображал себе, какой звук издаст серп, разрезая мою одежду, и озноб, который пробежит по моему телу. Я до тех пор думал об этом, пока совершенно не изнемог.
Маятник все скользил – ниже, ниже. Я сравнивал скорость его подъема и спуска, и это доставляло мне странное удовольствие. Вправо – влево, во всю ширь, со скрипом и визгом, и прямо к моему сердцу, неторопливо, крадучись, словно кровожадный хищник. Я то смеялся, то стонал, окончательно потеряв власть над собой.
Вниз! Неизменно, безжалостно – вниз! Маятник качался уже на расстоянии трех дюймов от моей груди. Я с бешенством силился освободить левую руку: она была свободна от локтя до кисти. Я мог доставать до миски, стоявшей возле меня, и подносить пищу ко рту – больше ничего. Если бы я мог освободить всю руку, я бы схватил маятник и попробовал остановить его. Впрочем, это было почти то же самое, что пытаться остановить лавину!
Все ниже… неотвратимо, неизбежно! Я сдерживал дыхание и метался, судорожно съеживался при каждом взмахе стального серпа. Глаза мои следили за его полетом с безумным отчаянием и закрывались в тот миг, когда он опускался. Какой отрадой была бы для меня смерть – о, какой невыразимой отрадой! И, однако, я дрожал всем телом при мысли о том, что маятнику достаточно опуститься еще чуть-чуть, чтобы коснуться моей груди своей острой блестящей секирой… Я дрожал от надежды: это она заставляла трепетать мои нервы, все мое существо – надежда, которая прорывается даже на эшафот и шепчет на ухо приговоренным к смерти!
В конце концов я увидел, что еще десять или двенадцать взмахов, и сталь коснется моей одежды. Вдруг я сосредоточился и преисполнился холодным спокойствием, которое дает лишь отчаяние. Впервые за долгие часы, а может быть, и дни я смог ясно мыслить. Мне пришло на ум, что ремень, которым я был привязан, цельный по всей длине. Единственный надрез, и я с помощью одной руки смогу освободиться. Но как ужасна была близость стали! Самое легкое ее движение могло быть смертельным для меня! Да и к тому же – вероятно ли, чтобы палачи не предусмотрели этой возможности? Что, если в том месте, на которое должен опуститься маятник, нет ни одного витка пут?
Боясь лишиться последней надежды, я приподнял голову, чтобы взглянуть на свою грудь. Ремень туго обвивал мое тело, но только не там, куда опускался стальной серп!
Я уронил голову, и вдруг в моем мозгу возникло то, что следовало бы назвать недостающей половиной идеи об избавлении, первая часть которой лишь смутно явилась моему уму, когда я поднес кусок мяса к губам. Теперь мысль сформировалась окончательно – бледная, смутная, но все-таки полная. Я тотчас же с энергией отчаяния начал приводить ее в исполнение.
Уже несколько часов около скамьи, на которой я лежал, разгуливали толпы жадных и смелых крыс; животные устремляли на меня красные глаза, как будто ожидали, когда я перестану шевелиться, чтобы наброситься на меня. «К какой пище они привыкли в этом колодце?» – подумал я.
Несмотря на мои попытки отогнать их, крысы сожрали почти все, что было в миске. Я машинально махал левой рукой над миской, и в конце концов это однообразное движение перестало пугать этих тварей, и они то и дело пытались укусить меня за пальцы. Собрав остатки пропитанного маслом и пряностями мяса, я тщательно натер ими ремень, где только смог достать; потом убрал руку от миски и лег неподвижно, затаив дыхание.
Сначала животные были удивлены и испуганы этой переменой. В тревоге они отступили, некоторые даже вернулись в колодец. Но смятение продолжалось недолго. Я не напрасно рассчитывал на прожорливость этих тварей. Убедившись в том, что я больше не шевелюсь, две-три самые наглые крысы вскарабкались на скамью и начали обнюхивать ремень. Это было сигналом к нападению. Полчища крыс снова хлынули из колодца, взобрались на мое ложе и десятками топтались прямо на мне. Движение маятника их не пугало – увертываясь от него, они занялись намасленным ремнем. Крысы теснились, взбирались на меня, топтались у моего горла, тычась холодными носами в мои губы. Я задыхался от омерзения, которое невозможно описать. Но я понял: еще минута, и все это останется позади. Я чувствовал, что ремень ослабел, а значит, крысы уже перегрызли его. Со сверхъестественной решимостью я продолжал сохранять неподвижность.
Я не ошибся в своих расчетах и страдал не напрасно. Наконец я почувствовал, что свободен. Ремень висел на мне обрывками. Но маятник уже коснулся моей груди. Сначала он разорвал мешковину, потом нижнюю рубашку; взмахнул еще два раза – и жгучая боль пронзила мое тело. Но я уже готов был действовать. Едва я пошевелил рукой, как крысы убежали. Тогда, осторожным, но решительным движением я выскользнул из своих уз и из-под грозного меча. Я был совершенно свободен! Свободен – и в то же время в когтях у инквизиции!
Едва я сошел со своего ужасного ложа, едва сделал несколько шагов по полу тюрьмы, как движение адской машины прекратилось и я увидел, что она поднимается невидимой силой к потолку. Этот урок наполнил мое сердце отчаянием и показал, что все мои движения были подмечены. Я для того только избегнул этой смертной агонии, чтобы испытать другую! При этой мысли я окинул взглядом железные плиты, окружавшие меня. Было очевидно, что в моем узилище происходит что-то странное – какая-то перемена, которую я не сразу осознал. Несколько минут, похожих на сон, я терялся в напрасных, бессвязных догадках. Тут я впервые заметил источник света, освещавшего мою камеру: он шел из щели в полдюйма шириной, опоясывавшей всю камеру у самого пола. Я попытался заглянуть в это отверстие, но безуспешно.
Когда я привстал, мне вдруг открылось, в чем заключались перемены в моей темнице. Я уже упоминал о том, что, хотя рисунки на стенах и потолке имели достаточно четкие очертания, но краски поблекли. Сейчас прямо у меня на глазах они обретали невероятную яркость, которая придавала этим адским фигурам такой вид, что человек и с более крепкими нервами при виде них содрогнулся бы. Глаза демонов – живые, кровожадные, мрачные – устремлялись на меня из таких мест, где я прежде их даже не замечал, и блистали грозным пламенем, которое я тщетно пытался считать воображаемым.
Воображаемым? Но ведь при каждом вдохе мои ноздри втягивали запах раскаленного железа! В темнице становилось все жарче, и глаза, наблюдающие за моей агонией, разгорались все сильнее и сильнее! Безобразные кровавые рисунки окрашивались все ярче! Я задыхался – мне с трудом удавалось переводить дыхание. У меня больше не оставалось сомнений в намерениях моих палачей. О безжалостные! Демоны, а не люди!..
Я отступил к центру темницы. Теперь мысль о свежести колодца ласкала мою душу подобно бальзаму. Я припал к его краю и устремил взгляд в глубину. Блеск раскаленного свода освещал глубочайшие извилины колодца; но, несмотря на это, мой ум отказывался понять смысл того, что я видел. Наконец это вошло в мою душу – ворвалось в нее насильно, запечатлелось огненными буквами в моем ускользающем рассудке. О! Где взять слова, чтобы описать все это? О ужас! Только не это!
С жалобным воплем я отпрянул от колодца и, закрыв лицо руками, горько заплакал.
Жар быстро нарастал, и я снова открыл глаза, дрожа как в лихорадке. В комнате опять произошла перемена – на этот раз изменилась ее форма. Как и прежде, сначала я напрасно пытался понять, что происходит. Но мне недолго пришлось теряться в догадках. Я дважды спасся, и инквизиторы были раздражены – а значит, мне уже недолго оставалось играть в прятки с Костлявой.
Прежде комната была прямоугольной; теперь же я заметил, что два ее угла сделались острыми, а два, соответственно, тупыми. Эта трансформация происходила быстро, сопровождаясь глухим шумом и скрипом. В одну минуту комната перекосилась, но на этом превращения не закончились. Я уже не надеялся, что они остановятся; я готов был прижать к груди раскаленные стены, которые казались мне символом вечного покоя. «Смерть, – говорил я себе, – какая угодно, только не в колодце!»
Безумец! Как же я не понял, что они загоняют меня именно в колодец, что только ради этого меня окружили огнем? Мог ли я выдержать жгучее дыхание пламени, мог ли устоять на месте? Просвет между стенами становился все уже, и времени на размышления у меня почти не осталось. В самой широкой части раскаленного ромба зияла пасть колодца. Я хотел отступить – но стены, суживаясь, гнали меня вперед. Наконец настала минута, когда мое обожженное скорченное тело не находило себе места. Я уже не боролся, но то, что происходило в моей душе, выразилось в долгом крике, исполненном отчаяния. Пошатываясь, я стоял у края колодца, не смея заглянуть в него.
И вдруг послышался гул человеческих голосов, пальба, звуки труб! Могучий рев сотряс воздух, словно раскат грома! Огненные стены отступили. Кто-то схватил меня за руку в ту минуту, когда я, изнемогая, готов был упасть в бездну. То была рука генерала Лассаля. Французская армия вступила в Толедо: инквизиция была захвачена.
Человек, в котором не осталось ни одного живого места Рассказ из времен последней экспедиции против племен бугабу и киккапу пер. Л. Уманца
Pleures, pleures, mes yeux, et-fonde-vous en eau! La moitio do ma vie a mis l’autre au tombeau.
Corneille[110]Не могу теперь в точности припомнить, где и когда я познакомился с очень красивым господином, бригадным генералом А. Б. С. Смитом. Без сомнения, кто-нибудь представил меня ему – вероятно, на каком-нибудь публичном собрании, происходившем где-то по какому-то важному поводу. Но кто это был – не помню. Дело в том, что наше знакомство сопровождалось с моей стороны своеобразным тревожным смущением, из-за которого у меня и не сохранилось определенного впечатления о времени и месте. Я от природы человек нервный – это у меня наследственное – и не всегда могу сладить с собой. Малейшая тень таинственности, малейшее обстоятельство, которое я не в состоянии себе объяснить, приводят меня в отчаянное волнение.
В облике этого господина было что-то замечательное, да, замечательное, хотя это слово лишь в слабой степени выражает мое впечатление. Он был футов шести ростом, и во всей его наружности было что-то величественное. Его внешность носила отпечаток благородного изящества, что свидетельствовало о превосходном воспитании и высоком происхождении. Мне доставляет печальное удовольствие так подробно описывать наружность Смита. Шапка волос на его голове поражала: нельзя вообразить себе кудрей более роскошных и более красивого оттенка. Волосы были черные, как вороново крыло, и такими же были его изумительные усы. Замечаете: я не могу говорить о них без восторга; не будет преувеличением, если я скажу, что вторых таких усов не сыскать во всем мире. Они обрамляли и частично прикрывали рот несравненной красоты. Когда генерал улыбался, из-под них виднелись самые ровные, ослепительно белые зубы, какие только можно себе представить, а из-за этих зубов – когда представлялся случай – раздавался чрезвычайно ясный, мелодичный и сильный голос. Даже глаза моему знакомому природа подарила выдающиеся. Каждый из них стоил пары обыкновенных органов зрения. Они были темно-карие, необыкновенно большие и блестящие; иногда можно было заметить, что они слегка косят, и это придавало взгляду генерала особую выразительность.
Такого торса, как у мистера Смита, я, без сомнения, не видел ни у кого. Было невозможно найти какой-нибудь недостаток в его удивительно пропорциональной фигуре. Особенно выделялись плечи, которые даже мраморного Аполлона заставили бы покраснеть от зависти. Уверяю вас, что прежде не встречал подобного совершенства.
Руки у генерала также были прелестной формы, и ноги им не уступали. Это был nec plus ultra[111] мужских ног. Всякий знаток признал бы их красоту. Они были не слишком мускулисты, но и не худы; в них не было ни массивности, ни хрупкости. Я не могу представить себе более грациозного изгиба, чем os femoris[112], и с задней стороны его икры была именно такая выпуклость, которая делает ее абсолютно пропорциональной. Желал бы я, чтобы моему талантливому другу Чипончипино, скульптору, удалось увидеть ноги бригадного генерала Джона А. Б. С. Смита!
Но хотя таких красавцев не встретишь на каждом шагу, я никак не мог убедить себя в том, что особое впечатление, о котором я упомянул, объясняется исключительно его физическим совершенством. Может быть, это следовало бы отнести за счет его манеры держаться, но и этого я не могу утверждать. Она была несколько натянутой, чтобы не сказать деревянной; в каждом движении генерала была размеренность, так сказать, прямолинейная точность, которые у человека с менее крупной фигурой можно бы охарактеризовать словом «аффектация», «напыщенность» или «принужденность», но в джентльмене таких внушительных размеров они без затруднений расценивались как сдержанность и чувство собственного достоинства.
Приятель, познакомивший меня с генералом Смитом, шепнул мне несколько слов о нем, характеризуя его как замечательного, очень замечательного человека – одного из замечательнейших людей нашего века. У женщин генерал также пользовался большим успехом, главным образом, благодаря репутации храбреца.
– В этом отношении у него нет соперников; он сорвиголова, отчаянный, – говорил мой друг, еще больше понижая голос и удивляя меня этой таинственностью. – Просто отчаянный. Генерал доказал это в последней, наделавшей немало шума экспедиции против индейских племен бугабу и киккапу. – Тут мой друг вытаращил глаза. – Господи! Черт побери! Чудеса храбрости… Да вы, вероятно, слыхали о нем?.. Ведь он человек…
– Человек божий? Как вы поживаете? Очень рад видеть вас, – прервал его сам генерал, подходя и пожимая руку моему собеседнику, а мне отвечая чопорным, хотя и глубоким поклоном.
Я подумал тогда – и теперь остаюсь при своем мнении – что никогда не слыхал такого сильного и вместе с тем чистого голоса и не видал более красивых зубов. Но должен признаться, что мне досаден был перерыв именно в ту минуту, когда, благодаря вышеупомянутым словам своего знакомого, герой экспедиции против бугабу и киккапу очень меня заинтересовал.
Однако очаровательная, блестящая манера бригадного генерала Джона А. Б. С. Смита вести беседу скоро рассеяла мое неудовольствие. Поскольку мой приятель тотчас же ушел, мы довольно долго проговорили с глазу на глаз, и я провел это время не только с удовольствием, но и с пользой. Я еще не встречал такого приятного собеседника и столь разносторонне образованного человека. Однако, из вполне понятной скромности, генерал не коснулся темы, больше всего интересовавшей меня в ту минуту, то есть загадочных обстоятельств, связанных с бугабужской войной; я же, разумеется, из деликатности не мог затронуть эту тему, хотя – каюсь – чувствовал сильное искушение. Я заметил также, что храбрый военный предпочитает говорить о науке и его особенно занимают быстрые успехи в области технических изобретений. О чем бы я ни завел речь, генерал непременно возвращался к этой теме.
– Ничто не сравнится с современным прогрессом, – говорил он, – мы удивительные люди и живем в удивительный век. Парашюты и железные дороги, волчьи ямы и скорострельные ружья… Наши пароходы ходят во всех морях, а почтовые воздушные шары скоро начнут совершать регулярные полеты (плата в один конец – всего двадцать фунтов стерлингов) между Лондоном и Тимбукту. А кто измерит влияние великих открытий в области электромагнетизма на общественную жизнь, искусство, торговлю, литературу? И это еще не все – поверьте мне! Нет предела человеческой изобретательности. Самые удивительные, остроумные и, позволю себе добавить, мистер… мистер Томпсон – кажется, не ошибаюсь? – самые полезные, истинно полезные изобретения в области механики появляются ежедневно, растут, так сказать, как грибы или саранча… как саранча среди нас, да, вокруг нас… мистер Томпсон.
Меня зовут вовсе не Томпсон, но излишне прибавлять, что я расстался с генералом, чрезвычайно заинтересованный его личностью, и составил очень высокое мнение о его достоинствах как собеседника. Кроме того, я глубоко проникся мыслью о преимуществах существования в век технических изобретений. Однако мое любопытство не было удовлетворено, и я решил немедленно собрать у знакомых сведения о самом бригадном генерале и особенно о достопамятных событиях во время экспедиции против бугабу и киккапу.
Случай, которым я не постеснялся воспользоваться, представился мне в церкви его преподобия доктора Друммуммуппа, где однажды в воскресенье, как раз во время проповеди, я очутился не только на одной скамье, но и рядом со своей милой и общительной приятельницей, мисс Тэбитой Т. Я поздравил себя, и совершенно справедливо, с такой удачей. Если кто-нибудь и знал что-либо о бригадном генерале Джоне А. Б. С. Смите, то это была именно мисс Тэбита Т. Мы обменялись с ней условными знаками, а затем начали перебрасываться оживленными фразами.
– Смит! – воскликнула мисс Тэбита в ответ на мой вопрос. – Вы говорите о генерале А. Б. С.? Боже мой, я думала, вы все о нем знаете! Удивительно изобретательный век! Ужасное происшествие!.. Какие кровожадные негодяи эти киккапу! Он сражался как герой… проявил чудеса храбрости… обессмертил свое имя. Смит!.. Бригадный генерал А. Б. С… Разве вы не знаете, что это человек…
– Человек, – громогласно провозгласил в это мгновение доктор Друммуммупп, стукнув кулаком по кафедре, – человек, рожденный от женщины, живет недолго: он рождается, но затем коса смерти срезает его, как цветок!
Я отскочил на противоположный конец скамьи, заметив по сверкающему взору проповедника, что гнев, чуть было не оказавшийся роковым для его кафедры, был вызван нашим перешептыванием с мисс Тэбитой. Что тут было делать? Пришлось волей-неволей покориться и, претерпевая муки молчания, исполненного достоинства, дослушать длинную проповедь.
Следующим вечером я зашел в Рентипольский театр, где надеялся удовлетворить свое любопытство, заглянув в ложу двух образчиков любезности и всезнания – мисс Арабеллы и Миранды Когносченти. Превосходный трагик Клаймакс играл Яго, зал был полон, и мне было довольно трудно объяснить, чего я хочу, тем более что ложа находилась у самых кулис, как раз над просцениумом.
– Смит! – сказала мисс Арабелла, уразумев наконец, чего я добиваюсь. – Смит! Уж не генерал ли Джон А. Б. С.?
– Смит? – задумчиво повторила Миранда. – Встречали ли вы второго человека с такой фигурой?
– Нет, сударыня… Но скажите мне…
– Такого безукоризненно изящного?..
– Нет, честное слово! Но прошу вас, скажите мне…
– Так тонко понимающего драматические эффекты?
– Мисс Миранда!..
– Кто умел бы так ценить красоту произведений Шекспира? Взгляните только на его ногу…
– О черт! – И я снова обратился к ее сестре.
– Смит! – сказала она. – Вы спрашиваете про генерала Джона А. Б. С.? Не правда ли, ужасно? Какие негодяи эти бугабу… Дикари и все такое прочее… Но мы живем в удивительно изобретательный век!.. Смит!.. О да!.. Великий человек!.. Отчаянная голова. Заслужил вечную славу… Чудеса храбрости! И вы не знаете?.. – Эти слова она произнесла, слегка взвизгнув. – Да ведь это человек…
– «…Ни мак, ни мандрагора, ни зелья все, какие есть на свете, не возвратят тебе тот мирный сон, которым ты вчера еще был счастлив!..» – вдруг заревел у меня над ухом трагик Клаймакс, потрясая кулаком перед моим носом, и я не имел ни сил, ни желания терпеть все это. Я тотчас же покинул ложу, отправился за кулисы и в антракте задал негодяю такую трепку, что он, наверное, не забудет ее до самой смерти.
Я был уверен, что на вечере у очаровательной вдовушки миссис Кэтлин О’Тремп меня не постигнет разочарование. И поэтому, едва усевшись за карточный стол с прелестной хозяйкой, я обратился к ней с вопросами, ответы на которые были так необходимы мне для востановления душевного равновесия.
– Смит! – сказала вдовушка. – Генерал Джон А. Б. С.? Ужасно, не правда ли?.. Вы говорите: брильянты? Ужасные негодяи эти киккапу!.. Вистую, мистер Тэттл… Ну, да теперь век изобретений… конечно, век изобретений преимущественно… Говорит по-французски?.. О да, он герой!.. Отчаянный храбрец!.. Без червей, мистер Тэттл? Я не верю этому… Бессмертная слава… Такие чудеса храбрости! Не слыхали?.. Да, ведь это тот…
– Тотт!.. Капитан Тотт! – запищала какая-то дамочка в противоположном углу комнаты. – Вы говорите о капитане Тотте и о дуэли?.. Я хочу послушать!.. Продолжайте, миссис О’Тремп, прошу, продолжайте!
И миссис О’Тремп продолжала рассказывать… о каком-то капитане Тотте, которого не то застрелили, не то повесили, или хотели застрелить и повесить в одно и то же время. Да… Миссис О’Тремп разошлась, а я… я ушел. У меня не осталось надежды услышать в этот вечер еще что-нибудь о моем бригадном генерале.
Однако я продолжал утешать себя рассуждениями о том, что не всегда волна неудачи катится навстречу, и принял смелое решение навести справки у первоисточника всех справок – у очаровательного ангела, грациозной миссис Пируэтт.
– Смит? – спросила миссис Пируэтт, в то время как мы кружились в па-де-зефире. – Генерал Джон А. Б. С.? Ужасно иметь дело с этими бугабу, не правда ли?.. Какие изверги эти индейцы!.. Выворачивают пальцы!.. Но каков храбрец!.. Ужасно жаль его!.. Но мы живем в век удивительных изобретений… О боже мой, у меня закружилась голова!.. Отчаянная голова… чудеса храбрости… Не слыхали? Просто не верится… Сядем, я расскажу вам. Смит! Да ведь это человек…
– Вы говорите о Манфреде?[113] – Ни с того ни с сего вмешалась мисс Синий Чулок, мимо которой мы прошли, когда я вел миссис Пируэтт к ее месту.
И я был вынужден выслушать комментарий о поэме лорда Байрона, а когда, освободившись из плена, отправился на поиски миссис Пируэтт, нигде не нашел ее и вернулся домой, весьма враждебно настроенный против Синих Чулков.
Дело принимало серьезный оборот, и я решился, наконец, отправиться к своему задушевному приятелю Теодору Синивэту, зная, что он, скорее всего, располагает более-менее точными сведениями.
– Сми-ит? – сказал он, растягивая слоги по своей привычке. – Смит! Гене-ерал Джон А. Б. С.? Ужасная история с этими кика-а-пу-у… не правда ли?.. Отча-а-янный храбрец… А жа-аль… честное слово!.. Удивительно изобретателен наш век… Чудеса храбрости!.. А слыхали ли вы о капитане Тотте?..
– К черту Тотта! – крикнул я. – Прошу вас, продолжайте о генерале Смите…
– Хм, хорошо. Смит? Бригадный генерал Джон. А… Б… С… Ведь не станете же вы утверждать… – Тут мой собеседник счел нужным поднести палец к носу. – Ведь не станете же вы утверждать, что не знаете всего этого дела так же хорошо, как я. Смит? Джон А… Б… С? Это человек…
– Мистер Синивэт! – воскликнул я с мольбой. – Этот человек что-то скрывает?
– О не-е-ет, – произнес он глубокомысленно, – и не человек, свалившийся с лу-у-ны.
Я счел такой ответ за оскорбление и в бешенстве покинул этот дом, твердо решив потребовать у мистера Синивэта удовлетворения за некорректное поведение и невоспитанность.
И тем не менее я пребывал в растерянности: откуда еще почерпнуть необходимые сведения? Мне не к кому было больше обратиться. И я решил отправиться прямо к источнику: явиться к генералу и попросить у него пояснить мне все эти загадочные обстоятельства. Здесь, по крайней мере, не могло быть недоразумений. Я намеревался быть кратким, сухим, как черствая корка, и точным, как Тацит или Монтескье.
Было еще довольно рано, когда я явился к генералу. Мне сказали, что он одевается, но я отвечал, что пришел по делу, и старый слуга-негр ввел меня прямо в спальню, где оставался во все время моего посещения. Войдя в комнату, я, разумеется, осмотрелся, ища хозяина, но его нигде не было видно. На полу мне попался под ноги какой-то большой узел странной формы, а поскольку я находился в довольно мрачном настроении, то пинком откинул его в сторону.
– Хм, нечего сказать, вежливо! – раздался из узла тоненький голосок – не то писк, не то свист; это был самый забавный голосок, какой мне приходилось слышать. – Вежливо, нечего сказать.
Я закричал от ужаса и отскочил в самый дальний угол комнаты.
– Скажите, ради бога, – продолжал свистеть узел, – что… что вам, собственно, надо?.. Вы… мы, кажется, не знакомы…
Что я мог ответить? Я упал в кресло и, выпучив глаза и открыв рот, ждал, чем все это закончится.
– Но странно то, что вы не узнали меня, – снова запищал узел, совершавший, как я теперь заметил, какие-то странные эволюции на полу: он как будто натягивал на себя чулки. Впрочем, мне была видна только одна нога.
– Право, странно, что вы меня не знаете! Помпей, подай другую ногу!
Подчиняясь приказанию, Помпей подал узлу большую пробковую ногу, уже обутую. Узел в мгновение ока привинтил ее и выпрямился передо мной.
– Кровавое было дельце, – продолжало существо, словно разговаривая само с собой. – Впрочем, нельзя рассчитывать на то, чтобы отделаться царапинами, когда идешь против бугабу и киккапу. Помпей, руку! Томас, – сказало существо, обращаясь ко мне, – лучший мастер по части пробковых ног, но если вам, милейший, понадобится рука, советую обратиться к Бишопу.
Помпей между тем привинтил руку.
– Горячо было, должен сказать. Ну, собака, накладывай плечи и грудь. Питт делает лучшие плечи, ну, а за грудью вам придется обратиться к Дюкре.
– За грудью? – переспросил я.
– Помпей, да кончишь ты наконец возиться с париком? Скверная штука скальпирование; но какой чудный парик можно получить у Делорм!
– Парик?
– Ну, негр, зубы! За хорошей челюстью лучше всего обратиться прямо к Пэрмли – дороговато, но работа превосходная. Мне пришлось проглотить несколько великолепных собственных зубов, когда здоровенный бугабу ткнул меня прикладом… Да, прикладом… ружейным прикладом! Ну, теперь глаз! Давай же, Помпей, ввинти мне глаз. У этих киккапу кулак всегда наготове. Но доктор Уильямс ловок; вы и представить себе не можете, как хорошо я вижу глазами его изготовления.
Теперь я начал соображать, что передо мной не кто иной, как мой новый знакомый, бригадный генерал Джон Смит. Манипуляции Помпея произвели в его наружности разительные перемены. Но голос все еще сбивал меня с толку; однако и эта загадка скоро разъяснилась.
– Помпей, черный негодяй, – запищал генерал, – ты, кажется, намерен отпустить меня без нёба!
Негр, бормоча извинения, подбежал к своему господину, с ловкостью жокея, заглядывающего в зубы лошади, открыл ему рот и с невероятной быстротой вложил туда какое-то странное приспособление. В лице генерала произошла разительная перемена. Когда он снова заговорил, голос его опять приобрел силу и мелодичность, которые поразили меня при нашем знакомстве.
– Черт бы побрал этих скотов! – сказал он таким ясным голосом, что я даже вздрогнул. – Черт бы их побрал! Они не только насквозь проткнули мне нёбо, а еще и отрезали, по крайней мере, семь девятых языка. Но нет в Америке мастера по этой части, равного Бонфанти. Могу смело рекомендовать его вам, – тут генерал слегка поклонился, – и уверяю вас, с особенным удовольствием.
Я вежливо поблагодарил его за любезность и распрощался, наконец-то получив разъяснение тайны, так долго мучившей меня. Теперь мне все стало ясно. Бригадный генерал Джон А. Б. С. Смит был человеком… был человеком, в котором не осталось ни одного живого места.
Черт в ратуше пер. Д. Михаловского
Всем известно, что самым лучшим местом в мире является – или, точнее, увы, являлся – голландский городок Вондервоттеймиттис. И лежит-то он неблизко от всех больших дорог, так сказать, в сторонке; вот почему очень немногие из читателей туда заглядывали. Для тех, кто не бывал в этом городке, будет нелишним, если я сообщу о нем некоторые подробности. Это тем более необходимо, что в надежде возбудить всеобщую симпатию к его жителям я намерен рассказать здесь историю трагических событий, которые недавно произошли в его пределах. Никто из тех, кто меня знает, не станет сомневаться, что я выполню взятую на себя обязанность наилучшим образом, со строгой беспристрастностью, осторожно взвешивая факты и тщательным образом сопоставляя источники; словом – со всеми предосторожностями, которые должен соблюдать человек, претендующий именоваться историком.
На основании манускриптов и старинных монет могу сказать, что городок Вондервоттеймиттис с самого начала своего существования находился совершенно в том же состоянии, в каком пребывает и сейчас. Впрочем, о времени его основания я, к сожалению, могу говорить не иначе, как с тою неопределенною определенностью, к которой иногда вынуждены прибегать математики в некоторых алгебраических формулах. Таким образом, я могу сказать, что городок стар, как и все на земле, и существует со времен сотворения мира.
Что касается происхождения названия «Вондервоттеймиттис», я, к глубокому своему сожалению, должен признать себя столь же малосведущим. Из множества мнений об этом щекотливом пункте – остроумных, ученых и невежественных – я не смог выбрать ни одного сколько-нибудь удовлетворительного. Может быть, мнение Грогсвигга, которое почти полностью совпадает с мнением Кроутаплентея, заслуживает предпочтения.
Несмотря на мрак, скрывающий от нас и время основания Вондервоттеймиттиса и происхождение его названия, не может быть, как я сказал выше, ни малейшего сомнения в том, что он всегда существовал в том же виде, что и теперь. Самые старые жители городка не могут припомнить хотя бы малейших изменений в его облике; даже намек на подобное обстоятельство считается там ересью. Город расположен в долине, имеющей около четверти мили в диаметре и окруженной со всех сторон пологими холмами, за пределы которых жители никогда не решаются заходить. Объясняя это, они приводят вполне основательную причину, а именно: они не думают, что на другой стороне что-то есть.
По краям долины (совершенно ровной и вымощенной кафельной плиткой) выстроены в ряд шестьдесят домиков. Стоя тыльной стороной к холмам, фасадом они обращены к центру долины, отстоящему ровно на шестьдесят ярдов от входной двери всякого жилища. Перед каждым домиком есть небольшой садик с дорожкой по кругу, солнечными часами и двадцатью четырьмя кочанами капусты. Сами домики так похожи один на другой, что их нельзя отличить друг от друга.
Ввиду большой древности архитектурный стиль несколько странен, но, тем не менее, необыкновенно живописен. Дома построены из сильно обожженных маленьких кирпичей, красных с черными краями, так что стены напоминают увеличенную шахматную доску. Коньки крыш обращены к центру площади, а вторые этажи выступают над первыми. Окна узкие и глубокие, с крошечными стеклами и частыми переплетами. На крыше – крупная черепица с высокими гребнями. Деревянные части зданий темного цвета; они покрыты резьбой, но разнообразия в ней очень мало, потому что резчики этого городка никогда не умели изображать что-либо, кроме часов и капустных кочанов. Но зато эти два предмета они вырезают с удивительным искусством везде, где только можно.
Внутри жилища обитателей городка похожи одно на другое так же, как и снаружи, и мебель везде одного и того же типа. Полы вымощены кафельной плиткой, стулья и столы – из темного дерева, с гнутыми ножками. Каминные полки широкие и высокие, и на них красуются не только изображения часов и капустных кочанов, но и настоящие часы, которые очень громко тикают. Их обыкновенно ставят посредине; по бокам же непременно стоит по одному цветочному горшку с капустой. Между каждым горшком и часами – маленький фарфоровый человечек с кругленьким брюшком, в нем – круглое отверстие, в котором опять-таки виднеется циферблат часов.
Камины широки и глубоки, с мрачными, приземистыми таганами. Под ними всегда горит огонь; над огнем всегда стоит горшок со свининой и кислой капустой, а за горшком всегда наблюдает заботливый глаз доброй хозяйки. Это маленькая толстенькая старушка с голубыми глазами и красным лицом; на ней огромный чепец, похожий на сахарную голову и обшитый красными и желтыми лентами. Платье у нее шерстяное с оранжевой ниткой, очень широкое сзади, очень короткое в талии, и нельзя сказать, чтобы длинное, потому что доходит только до колен. Толстоватые ноги обтянуты тонкими зелеными чулками. Башмаки из розовой кожи с бантами из желтых лент, завязанных в виде кочана капусты. В левой руке у хозяйки маленькие, но тяжелые голландские часы, в правой – большая ложка для помешивания кислой капусты и свинины. Возле хозяйки – жирная пестрая кошка; к ее хвосту привязаны игрушечные позолоченные часы с музыкальным боем – обычная проказа маленьких шалунов.
А сами шалуны – все трое – в саду, присматривают за свиньей. Рост каждого из них – два фута. На них всегда треугольные шляпы, лиловые жилеты, спускающиеся до бедер, панталоны из лосиной кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с толстыми серебряными пряжками и длинные сюртуки с большими перламутровыми пуговицами. Во рту у каждого трубка, а в правой руке – маленькие пузатые часики. Мальчик затянется и поглядит на часы, потом поглядит на часы – и затянется. Свинья, жирная и ленивая, то подбирает опавшие капустные листья, то дрыгает ногами, пытаясь избавиться от позолоченных часов с музыкой, которые шалуны привязали к ее хвосту, для того чтобы и она была так же нарядна, как кошка.
У входной двери, на обитом кожей кресле с высокой спинкой и изогнутыми ножками сидит сам старик-хозяин. Это – очень пухлый маленький человечек с выпученными круглыми глазками и огромным двойным подбородком. Одежда его похожа на одежду мальчиков, и мне нет надобности распространяться на эту тему. Различие заключается в том, что его трубка несколько больше, чем у них, и испускает больше дыма. Подобно мальчикам, он всегда при часах, но носит их в кармане. Сказать правду, ему приходится следить за кое-чем поважнее карманных часов, а за чем именно, я сейчас объясню. Хозяин сидит, закинув ногу на ногу, с выражением важности на лице, и по крайней мере один глаз его постоянно устремлен на какой-то любопытный предмет в центре равнины.
Этот предмет находится на башне ратуши. Городские советники – все как один очень маленькие, толстенькие и умные человечки, с выпуклыми и круглыми, как чайные блюдечки, глазами и жирными двойными подбородками. Их сюртуки гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо больше, чем у менее важных жителей Вондервоттеймиттиса. Во время моего пребывания в городке они провели несколько чрезвычайных заседаний, на которых приняли три важных решения, а именно:
1) не следует изменять прежний порядок вещей;
2) вне Вондервоттеймиттиса нет ничего достойного внимания;
3) жители города должны держаться своих часов и капусты.
Над присутственным залом ратуши возвышается башня; на башне устроена колокольня, где с незапамятных времен находятся большие часы городка Вондервоттеймиттиса. Вот на этот-то предмет и обращены глаза стариков, сидящих на обитых кожей креслах.
У больших часов семь циферблатов, по одному в каждой из семи граней башни, так что их можно увидеть со всех кварталов. Эти циферблаты большие и белые, у них массивные черные стрелки. К колокольне приставлен смотритель; его единственная обязанность – бездельничать. Ему нечем заняться, потому что башенные часы Вондервоттеймиттиса никогда не ломались. До недавних пор даже предположение о чем-либо подобном считалось ересью. В самые отдаленные времена, о которых сохранились упоминания в архивах, тяжелый колокол регулярно отбивал время. Совершенно то же самое можно сказать и о других часах в городке, стенных и карманных. Нигде время не указывалось с такой точностью. Когда большой колокол находил нужным прозвонить «двенадцать!», все его верные последователи вторили ему, словно эхо. Короче говоря, добрые жители городка очень любили кислую капусту и гордились своими часами.
Люди, чья должность является синекурой, пользуются определенным уважением, а поскольку у смотрителя с колокольни Вондервоттеймиттиса была самая лучшая из синекур, его уважали больше всех. Он – важнейший сановник городка; даже свиньи смотрят на него с чувством глубокого уважения. Фалды его сюртука гораздо длиннее; трубка, пряжки на башмаках, глаза и брюхо гораздо массивнее, чем у остальных стариков в городе, а подбородок даже не двойной, а тройной.
Я описал счастливый Вондервоттеймиттис. Увы! Эта прекрасная картина должна была скоро измениться.
Между мудрейшими жителями Вондервоттеймиттиса издавна ходила поговорка о том, что «из-за холмов не может прийти ничего путного». И в самом деле, оказалось, что эти слова были пророческими.
Третьего дня, когда стрелки показывали без пяти двенадцать, на вершине холма с восточной стороны появился очень странный объект. Разумеется, это событие привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок на обитом кожей кресле с удивлением и ужасом устремил один глаз на этот феномен, не спуская, однако же, другого глаза с башенных часов.
Когда до полудня недоставало всего трех минут, все заметили, что вышеупомянутый объект – это миниатюрный молодой человек, похожий на иностранца. Он быстро сбежал с холма, и теперь каждый мог хорошенько его рассмотреть. Никогда прежде в Вондервоттеймиттисе не было такого жеманного франта. Лицо его было темно-табачного цвета, нос – крючком, глаза напоминали горошины. У него был широкий рот и превосходные зубы, которые он как будто нарочно старался показать, потому что, смеясь, растягивал рот от уха до уха. Усы и бакенбарды закрывали часть его лица. Франт был без головного убора, а его волосы были накручены на папильотки. Костюм его состоял из узкого черного фрака, из кармана которого торчал длинный угол белого носового платка, черных кашемировых панталон, черных чулок и тупоносых башмаков с пучками черных атласных лент вместо бантов. К одному боку он прижимал локтем огромную шляпу, а к другому – скрипку, которая была чуть ли не в пять раз больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он, вприпрыжку сбегая с холма, брал табак и нюхал его, выражая необыкновенное наслаждение. О, это было поистине изумительное зрелище для достойных жителей Вондервоттеймиттиса!
Говоря откровенно, незнакомец, несмотря на улыбку, имел дерзкую и злую физиономию, а когда он, подпрыгивая, спустился в город, странный вид его башмаков возбудил у бюргеров подозрения. Многие из горожан, видевших его в этот день, охотно бы посмотрели, что скрывалось под его белым батистовым платком, который так нахально выглядывал из кармана фрака. Но главным, что возбуждало справедливое негодование жителей Вондервоттеймиттиса, было то, что этот негодный франт, то отплясывая фанданго, то вертясь как волчок, по-видимому, не имел ни малейшего понятия о том, что нужно соблюдать такт во время ходьбы.
Добрые жители городка едва успели широко открыть глаза, как без полминуты двенадцать негодяй был уже среди них. Он сделал «шассе» направо и «балансе» налево, потом – пируэт и па-де-зефир и взлетел, как голубь, на колокольню ратуши. Там сидел смотритель во всем величии своего сана и курил, охваченный удивлением и ужасом. Маленький проказник тотчас же дернул и потрепал его за нос, потом надел ему на голову свою огромную шляпу и прихлопнул ее, так что она закрыла смотрителю глаза и рот; затем своей тяжелой скрипкой стал дубасить его так долго и сильно, что, слыша удары скрипки по тучному телу несчастного, вы бы поклялись, что целый полк барабанщиков выбивает на колокольне Вондервоттеймиттиса адскую тревогу.
Неизвестно, какую отчаянную месть со стороны жителей Вондервоттеймиттиса могло бы повлечь за собой это наглое нападение, если бы горожан не удерживало одно обстоятельство: до полудня оставалось всего полсекунды. Колокол вот-вот должен был зазвонить, и всякому необходимо было взглянуть на свои часы. Однако же было видно, что в этот самый момент незнакомец на колокольне проделал с часами что-то такое, чего ему делать вовсе не следовало. Но поскольку они начали бить, ни у кого не было времени наблюдать за проделками франта: все считали удары колокола.
«Раз!» – пробил колокол.
– Раз, – повторили маленькие старички Вондервоттеймиттиса, сидя на своих обитых кожей креслах.
«Раз!» – сказали их карманные часы. «Раз», – сказали часы хозяек. «Раз!» – сказали часы мальчиков и позолоченные часики на хвостах у свиньи и кошки.
«Два!» – продолжал большой колокол.
«Два!» – повторили часы с музыкой.
«Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять!» – сказал колокол.
«Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять!» – вторило эхо.
«Одиннадцать!» – сказал колокол.
«Одиннадцать!» – согласились его маленькие товарищи.
«Двенадцать!» – сказал колокол.
«Двенадцать!» – отвечали они, совершенно удовлетворенные, понижая голос.
– Полдень! – сказали старички, кладя часы в карман.
Но колокол еще не закончил.
«Тринадцать!» – прозвонил он.
– Дьявол! – простонали старички. – Тринадцать! Тринадцать! О господи, тринадцать часов!
Как описать страшную сцену, которая за этим последовала? Весь Вондервоттеймиттис находился в замешательстве.
– Что с моим желудком? – заревел каждый мальчишка. – Мне уже час хочется есть.
– Что с моей капустой? – вскричали старухи. – Она уже час как разварилась.
– Что с моей трубкой? – завопили старички. – Гром и молнии! Она уже с час как потухла.
И они опять в гневе наполнили свои трубки и, сев, начали так свирепо пыхтеть, что вся долина вдруг покрылась непроницаемым дымом.
Между тем все кочаны капусты вдруг покраснели, и, казалось, сам дьявол завладел всем, что имело форму часов. Резные часы над каминами заплясали как заколдованные, а те, что стояли на каминных полках, принялись отбивать тринадцать раз, причем маятники их так метались и дергались, что страшно было слушать и смотреть.
Но хуже всего было то, что ни кошки, ни свиньи не могли более выносить поведение часов с музыкой, привязанных к их хвостам; животные бегали, брыкались и царапались, кричали, визжали и мяукали, бросались людям под ноги, словом, производили ужаснейший шум и суматоху, какие только может вообразить себе здравомыслящий человек.
В довершение бедствий маленький негодяй на колокольне усердствовал изо всех сил. По временам его можно было видеть сквозь дым. Он сидел на смотрителе, который лежал, вытянувшись на спине. В руках негодяй держал веревку колокола. Он дергал за нее, и при этом раздавался такой звон, что у меня и теперь звенит в ушах, едва я о нем вспомню. На коленях у него лежала огромная скрипка, которую он терзал обеими руками, делая вид – вот-то олух! – будто бы играет «Джуди О’Фланнаган и Пэдди О’Рафферти».
Видя столь жалкое положение дел, я с отвращением оставил город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Пойдемте туда всей толпой и, сбросив негодяя с колокольни, восстановим в Вондервоттеймиттисе прежний порядок!
Сноски
1
Иеремия Бентам (1748–1832) – английский философ и моралист. «Иеремиадой о ростовщичестве» автор называет его трактат «Защита ростовщичества» (1787). (Здесь и далее примеч. перев., если не указано иное.)
(обратно)2
Джон Нил – американский писатель, отстаивал идеи Бентама.
(обратно)3
По в шутку подразумевает библейского пророка Иеремию, который жил в Иерусалиме и не раз предостерегал иудеев от вероломства и бесчестия.
(обратно)4
Название стихотворения Роберта Бернса.
(обратно)5
В душе, без формального подтверждения (итал.).
(обратно)6
Псевдоним американского поэта Томаса Уорда (1807–1873).
(обратно)7
«Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры». (Гораций. Сатиры, II, 5, 83.)
(обратно)8
По преданию Александр Великий, встретившись с философом Диогеном, когда тот попросил его отойти в сторону, чтобы не загораживать лучи солнца, произнес: «Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном».
(обратно)9
Возможно, автор обыгрывает выражение Frei Herren (по-английски free-man), как в Америке в 1839–1864 гг. называли выкупленного или бежавшего с Юга раба, который жил в одном из свободных штатов.
(обратно)10
Дик Терпин (1706–1739) – знаменитый английский разбойник.
(обратно)11
Даниел О’Коннел (1775–1847) – лидер либерального крыла ирландского освободительного движения.
(обратно)12
Шарлотта Сьюзен Мария Бэри (1775–1861) – английская писательница, славившаяся своей красотой.
(обратно)13
Древний город близ Неаполя, место отдыха знатных римлян, известный легкостью царивших там нравов.
(обратно)14
На основании общих положений, принимаемых за истинные (лат.).
(обратно)15
Лакомство (фр.).
(обратно)16
Секретер (фр.).
(обратно)17
Типичный, характерный (фр.).
(обратно)18
«Не найден» (лат.) – отметка на повестке о невозможности ее вручения или сообщение полицейского о невозможности арестовать обвиняемого.
(обратно)19
Нелепым, вычурным (фр.).
(обратно)20
Барельеф (фр.).
(обратно)21
Необычный, странный (фр.).
(обратно)22
Правило нахождения неизвестного члена пропорции.
(обратно)23
На языке оригинала господа Пир и Горой зовутся Cut и Comeagain. По-английски устойчивое сочетание слов «cutandcomeagain» имеет примерно тот же смысл, что русское «пир горой» или «гостеприимство». В то же время автор, возможно, намекает на доктора Кутанкумагена, персонажа диккенсовского «Полного отчета о первом съезде Мадфогской ассоциации».
(обратно)24
Кикапу – индейское племя, обитавшее на территории современных штатов Висконсин и Иллинойс.
(обратно)25
Nemine contradicente (лат.) – единогласно.
(обратно)26
Перводвигателей (лат.).
(обратно)27
Френология – учение о локализации отдельных психических способностей в различных участках мозга.
(обратно)28
Независимо от опыта (лат.).
(обратно)29
Первопричин (лат.).
(обратно)30
Иоганн Кристоф Шпурцгейм (1776–1832) – немецкий френолог.
(обратно)31
По опыту (лат.).
(обратно)32
Движущая сила (фр.).
(обратно)33
Искаженное немецкое Motivirrtum – ошибка в определении мотива поведения.
(обратно)34
Петух (фр.).
(обратно)35
Должностное лицо округа, изучающее причины смерти при вызывающих подозрение обстоятельствах.
(обратно)36
Герой древнегреческих мифов, разгадавший загадку Сфинкса.
(обратно)37
Вместе, сообща (фр.).
(обратно)38
Неувязок (фр.).
(обратно)39
Неуместностей – производное от французского mal à propos.
(обратно)40
Кэтрин Грейс Гор (1799–1861) – английская писательница. «Сесил, или Приключения фата» (1841) – ее самый известный роман.
(обратно)41
Вильям Бекфорд (1760–1844) – английский писатель.
(обратно)42
Эдуард Джордж Булвер-Литтон (1803–1873) – английский писатель.
(обратно)43
Вильям Гаррисон Эйнсворт (1805–1882) – английский писатель.
(обратно)44
Легкий ужин (фр.).
(обратно)45
Сокр. от nemine contradicente – единогласно (лат.).
(обратно)46
Вторая книга Царств 12: 7.
(обратно)47
Существуют идеальные последовательности событий, которые сосуществуют параллельно с реальными. Совпадают они редко. Люди и обстоятельства в основном влияют на идеальные сочетания событий, из-за чего те перестают быть совершенными так же, как утрачивают совершенство их последствия. Так произошло и с Реформацией, когда вместо протестантизма на сцену вышло лютеранство.
(обратно)48
Псевдоним фон Гарденберга. (Примеч. авт.)
(обратно)49
Нравственные воззрения (нем.).
(обратно)50
Нассау-стрит. (Здесь и далее автор дает в сносках реальные имена и названия, связанные с убийством Мэри Сесилии Роджерс.)
(обратно)51
Андерсон. (Примеч. авт.)
(обратно)52
В Гудзоне. (Примеч. авт.)
(обратно)53
Уихоукен. (Примеч. авт.)
(обратно)54
Беспорядки (фр.).
(обратно)55
Пейну. (Примеч. авт.)
(обратно)56
Кроммелин. (Примеч. авт.)
(обратно)57
Нью-йоркская «Меркюри». (Примеч. авт.)
(обратно)58
Нью-йоркская «Бразер Джонатан», редактор – Х. Хастингс Уэлд, эсквайр. (Примеч. авт.)
(обратно)59
Нью-йоркский «Джорнел ов коммерс». (Примеч. авт.)
(обратно)60
Филадельфийская «Сэтерди ивнинг пост», редактор – Ч. Д. Петерсон, эсквайр. (Примеч. авт.)
(обратно)61
Эдам. (Примеч. авт.)
(обратно)62
См. «Убийства на улице Морг». (Примеч. авт.)
(обратно)63
Однобокий, с преимуществом для одной стороны (лат.).
(обратно)64
Нью-йоркская «Коммершиел эдвертайзер», редактор – полковник Стоун. (Примеч. авт.)
(обратно)65
А именно (лат.).
(обратно)66
Следственная связь (лат.).
(обратно)67
По обследованию умственных способностей (лат.).
(обратно)68
«Всякая теория, основанная на качествах явления, не позволит ему раскрыться в соответствии с его целями, и тот, кто будет распределять события относительно их причин, не сможет оценивать их в соответствии с тем, к каким результатам они привели. Таким образом, законоведение любой страны показывает, что закон, приобретая черты науки и системы, перестает быть справедливым. Об ошибках, к которым слепое следование принципам классификации приводит общее право, свидетельствует то, как часто законодательные органы вынуждены восстанавливать справедливость, нарушенную созданной ими же системой». Лендор. (Примеч. авт.)
(обратно)69
Прилавок (фр.).
(обратно)70
Нью-йоркская «Экспресс». (Примеч. авт.)
(обратно)71
Нью-йоркская «Геральд». (Примеч. авт.)
(обратно)72
Нью-йоркская «Куриер энд инквайрер». (Примеч. авт.)
(обратно)73
Менэ был одним из тех, кто в самом начале попал под подозрение, был арестован и отпущен по причине полного отсутствия улик. (Примеч. авт.)
(обратно)74
Нью-йоркская «Куриер энд инквайрер». (Примеч. авт.)
(обратно)75
Нью-йоркская «Ивнинг пост». (Примеч. авт.)
(обратно)76
Род листопадных деревьев, кустарников из семейства Лавровые. (Примеч. ред.)
(обратно)77
Не отсюда ли гнев? (Лат.)
(обратно)78
Из журнала, в котором статья была опубликована впервые. (Примеч. ред.)
(обратно)79
Развязка (фр.).
(обратно)80
Для мудрости нет ничего ненавистнее мудрствования (лат.).
(обратно)81
Здесь: специалист (фр.).
(обратно)82
Линия – мера длины, равная 1/12 дюйма.
(обратно)83
Секретер (фр.).
(обратно)84
Хитроумные (фр.).
(обратно)85
Нерасчленение среднего (лат.).
(обратно)86
Можно побиться об заклад, что любое расхожее мнение, любая общепринятая условность является глупостью, поскольку выражает суждение большинства (фр.).
(обратно)87
Окольный путь (лат.).
(обратно)88
Совестливость (лат.).
(обратно)89
Честные люди (лат.).
(обратно)90
Интриган (фр.).
(обратно)91
Сила инерции (лат.).
(обратно)92
Импульс, количество движения (лат.).
(обратно)93
Тоска (фр.).
(обратно)94
Копия (фр.).
(обратно)95
«В Аверн спуститься нетрудно», т. е. в преисподнюю. (Вергилий. «Энеида», VI, 126.)
(обратно)96
«Безобразный, чудовищно страшный». (Вергилий. «Энеида», III, 658.)
(обратно)97
«Замысел столь зловещий достоин если не Атрея, то Фиеста» (фр.).
(обратно)98
Великое несчастье не выносить одиночества (фр.).
(обратно)99
Тоска, скука (фр.). (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
(обратно)100
Пелена, нависшая прежде (греч.).
(обратно)101
Горгий (ок. 483 – ок. 375 гг. до н. э.) – древнегреческий софист.
(обратно)102
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 – после 220) – христианский теолог и писатель.
(обратно)103
Длинный сюртук, застегивающийся сверху донизу (фр.).
(обратно)104
Маленький сад жизни (лат.).
(обратно)105
Его сердце – воздушная лютня, Прикоснись – и она зазвучит. Беранже (франц.). (Примеч. пер.)
(обратно)106
Карл Мария фон Вебер (1786–1826) – немецкий композитор, дирижер и музыкальный критик; основоположник немецкой романтической оперы.
(обратно)107
Иоганн Генрих Фюсли (1741–1825) – швейцарский живописец, писатель, теоретик искусства.
(обратно)108
В одну восьмую долю листа (лат.).
(обратно)109
В четвертую долю листа (лат.).
(обратно)110
Плачьте, плачьте, глаза мои; проливайте потоки! Одна половина моей жизни похоронила другую. Корнель (фр.).
(обратно)111
Высшее достижение, крайний предел (лат.).
(обратно)112
Бедренная кость (лат.).
(обратно)113
Игра слов: man (человек) и Manfred (Примеч. пер.).
(обратно)




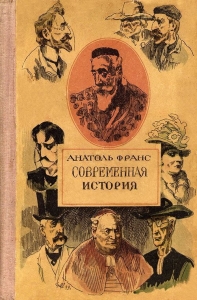

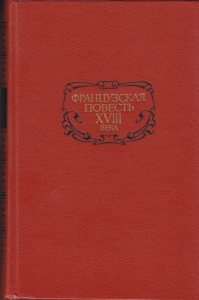
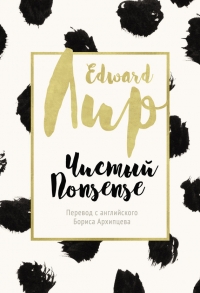
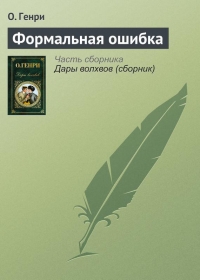
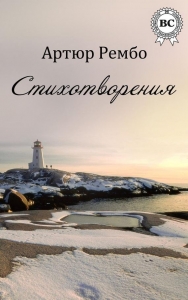

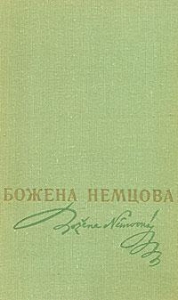
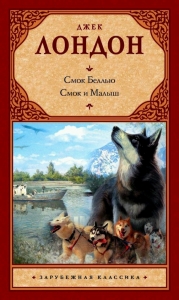
Комментарии к книге «Похищенное письмо», Эдгар Аллан По
Всего 0 комментариев