Роланъ Доржелесъ Деревянные кресты
I СОБРАТЬЯ ПО ОРУЖІЮ
Въ это время года цвѣты уже были рѣдки, однако ихъ нашлось достаточно, чтобы украсить всѣ ружья отряда, отправлявшагося на подкрѣпленіе, и батальонъ, увѣнчанный, подобно большому кладбищу, цвѣтами, нестройными рядами, со сворой мальчишекъ во главѣ, прошелъ черезъ весь городъ между двумя безмолвными рядами любопытныхъ.
Съ пѣснями, со слезами, со смѣхомъ, съ пьяными ссорами, съ раздирающими душу прощальными возгласами, размѣстились они по вагонамъ. Цѣлую ночь ѣхали они, при свѣтѣ тусклой свѣчи съѣли всѣ свои сардинки, опустошили фляжки и, наконецъ, усталые, нагорланившись досыта уснули, прислонившись другъ къ другу, склонивъ голову на плечо сосѣда, переплетясь ногами.
Утренній свѣтъ разбудилъ ихъ. Они высовывались изъ дверей вагоновъ и старались найти въ деревняхъ, откуда поднимался ранній утренній дымокъ, слѣды послѣднихъ сраженій. Они перекликались изъ вагона въ вагонъ.
— Какая тамъ война, нѣтъ даже ни одной разрушенной колокольни! — Затѣмъ дома ожили, дороги оживились, и посвѣжѣвшими голосами они выкрикивали любезности и бросали увядшіе цвѣты женщинамъ, которыя на платформахъ вокзаловъ ожидали маловѣроятнаго возвращенія своихъ уѣхавшихъ мужей. На остановкахъ они бѣгали въ уборныя и наполняли водою фляжки. И къ десяти часамъ, ошалѣлые и разбитые, они высадились, наконецъ, въ Борманѣ.
Часъ ушелъ на утренній завтракъ, состоявшій изъ супа, а затѣмъ они пошли по большой дорогѣ — безъ цвѣтовъ, не сопровождаемые ни сворой мальчишекъ, ни привѣтственными взмахами платковъ — и прибыли въ деревню, гдѣ находился на отдыхѣ вашъ полкъ, у самой линіи огня.
Тамъ было нѣчто вродѣ большой ярмарки, и усталое стадо новоприбывшихъ разбили на маленькія группы — по одной на роту, — затѣмъ каждому солдату наскоро указали его взводъ, его отдѣленіе, которые имъ пришлось разыскивать, какъ бездомнымъ бродягамъ, переходя отъ одной фермы къ другой, читая на каждой двери номера, крупно начертанные мѣломъ…..
Капралъ Бреваль, выходя изъ хлѣбопекарни, встрѣтилъ трехъ нашихъ, когда они плелись по улицѣ, сгибаясь подъ тяжестью слишкомъ переполненнаго мѣшка, въ которомъ задорно блестѣли новенькіе лагерные инструменты и принадлежности.
— Третья рота, пятое отдѣленіе? Капралъ — это я и есть. Идемте, мы стоимъ въ самомъ концѣ села.
Когда они вошли во дворъ, первый замѣтилъ ихъ кашеваръ Фуйяръ.
— Эй, ребята! вотъ оно подкрѣпленіе.
И, бросивъ у почернѣвшихъ камней своего деревенскаго очага охапку бумаги, которую онъ только-что вытащилъ изъ погреба, онъ сталъ разсматривать новыхъ товарищей.
— Тебя не надули, — наставительно сказалъ онъ Бревалю. — Для новичковъ они очень хороши.
Всѣ мы поднялись и съ любопытствомъ окружили трехъ растерянныхъ солдатъ. Молча смотрѣли они на насъ, и мы смотрѣли на нихъ. Они пришли изъ тыла, они пришли изъ городовъ. Наканунѣ еще они ходили по улицамъ, видѣли женщинъ, трамваи, магазины; вчера еще они жили какъ люди. И мы разсматривали ихъ съ восхищеніемъ, съ завистью, какъ путешественниковъ, явившихся изъ сказочныхъ странъ.
— Такъ какъ же, ребята, имъ тамъ и горя мало?
— А Парижъ, — спросилъ Веронъ, — чѣмъ они тамъ заняты, въ этомъ вертепѣ?
Они тоже оглядывали насъ, какъ будто попали къ дикарямъ. Все должно было удивлять ихъ при этой первой встрѣчѣ: наши опаленныя лица, наши причудливыя одѣянія: шапочка изъ поддѣльнаго котика старика Гамеля, грязный бѣлый платокъ, которымъ Фуйяръ повязывалъ себѣ шею, закорузлые отъ жира штаны Верона, пелерина Ланы изъ службы связи, который нашилъ каракулевый воротникъ на капюшонъ зуава, — каждый вырядился на свой ладъ. Толстякъ Буффіу нацѣпилъ металлическую дощечку, удостовѣряющую личность, въ своему кепи; маленькій Беленъ былъ въ драгунской каскѣ, надвинутой до ушей, а Брукъ, парень съ сѣвера Франціи, смастерилъ себѣ обмотки для ногъ изъ занавѣсовъ зеленаго репса.
Одинъ только Сюльфаръ изъ чувства собственнаго достоинства оставался въ сторонѣ, взгромоздившись на бочку, на которой онъ чистилъ картошку, — какую бы незначительную работу онъ ни совершалъ, видъ у него при этомъ былъ всегда величавый и занятой. Онъ почесалъ свою жесткую рыжую бороду и, небрежно обернувшись, взглянулъ съ дѣланнымъ равнодушіемъ на одного изъ трехъ новичковъ, угрюмаго молодого парня, не то безбородаго, не то бритаго, въ великолѣпномъ кепи, съ большимъ подсумкомъ изъ бѣлой кожи.
— Онъ совсѣмъ еще младенецъ въ своей новенькой каскеткѣ, — тихо усмѣхнулся Сюльфаръ.
Затѣмъ, когда тотъ опустилъ на землю свою сумку, онъ замѣтилъ подсумокъ. Тутъ онъ вспыхнулъ.
— Эй, землякъ! — закричалъ онъ, — это ты спеціально для окоповъ заказалъ себѣ такую охотничью сумку? Можетъ быть ты боялся, что боши тебя не замѣтятъ, — такъ ты лучше взялъ бы съ собой маленькій флагъ и сигнальный рожокъ.
Новичокъ выпрямился, задѣтый, наморщивъ маленькій упрямый лобъ. Но тотчасъ, смущенный насмѣшливымъ видомъ стараго солдата, отвернулся и покраснѣлъ. Рыжакъ удовольствовался этимъ лестнымъ успѣхомъ.
Онъ спустился съ своего трона и, чтобы показать, что онъ не собирается придираться къ товарищу, который ни въ чемъ не виноватъ, обрушился нападками на военное начальство, всѣ распоряженія котораго, по его мнѣнію, были продиктованы глупостью и очевиднымъ желаніемъ притѣснять солдата.
— Я тебя не виню, ты еще ничего не знаешь. Но тѣхъ, которые заставляютъ васъ чистить котелки мазью такъ, чтобы они блестѣли — ты думаешь, не слѣдовало бы ихъ всѣхъ перестрѣлять?… Они находятъ, что безъ этого насъ не легко взять на прицѣлъ?.. Ты мнѣ дай свой подсумокъ, я тебѣ его зачерню, а лучше всего зажечь солому и прокоптить всѣ ваши фляжки, блестки и всю белиберду.
Лемуанъ, ни на шагъ не отходившій отъ Сюльфара, медленно пожалъ плечами.
— Ты затуркаешь этихъ новичковъ, не шпыняй ихъ, — упрекнулъ онъ его своимъ тягучимъ голосомъ. — Дай имъ хоть придти въ себя.
Новоприбывшій съ бѣлымъ подсумкомъ присѣлъ на тачку. Онъ, повидимому, обезсилѣлъ. Потъ черными струями катился съ висковъ по его щекамъ. Онъ размоталъ обмотки съ ногъ, но не рѣшился снять великолѣпные охотничьи башмаки съ выступающими подошвами.
— Я сильно натеръ себѣ пятку, — сказалъ онъ мнѣ. — У меня должно быть нога въ крови. Я черезчуръ нагруженъ.
Лемуанъ приподнялъ и взвѣсилъ его сумку.
— Какая она тяжелая, — замѣтилъ онъ. — Чѣмъ ты ее могъ набить… Ужъ не наложилъ ли туда булыжники?
— Я положилъ туда только то, что было приказано.
— Это патроны такіе тяжелые, — вмѣшался капралъ. — По сколько вамъ роздали?
— По двѣсти пятьдесятъ… Только они у меня не въ сумкѣ.
— А гдѣ же?
— Въ подсумкѣ. Понимаете, такъ, по моему, лучше. Вдругъ на насъ нападутъ.
— Нападутъ?
Всѣ удивленно посмотрѣли на него. Затѣмъ всѣ сразу прыснули со смѣху, смѣхъ усиливался, всѣ задыхались, жестикулировали, ласково и звонко похлопывали другъ друга по плечу, какъ похлопываютъ скотъ на бойнѣ.
— Нападутъ, онъ говоритъ… Вотъ такъ галченокъ…
— Да нѣтъ, онъ нездоровъ…
— Нападутъ, онъ говоритъ… Онъ не въ своемъ умѣ…
Эта безграничная наивность разсмѣшила насъ такъ, что мы чуть не задохлись. У старика Гамеля катились слезы отъ смѣха. Фуйяръ не смѣялся, уже настроенный враждебно, косясь на этого слишкомъ чистенькаго солдата съ вѣжливой рѣчью.
— Парень хочетъ пустить намъ пыль въ глаза, — сказалъ онъ Сюльфару.
Рыжакъ, старавшійся говорить больше другихъ, сочувственно смотрѣлъ на новичка.
— Неужели ты думаешь, бѣдняга, — сказалъ онъ ему, — что здѣсь дерутся; этимъ занимались только первый мѣсяцъ. Теперь больше не дерутся. Тебѣ, можетъ быть, никогда не придется драться.
— Конечно, — поддакнулъ Лемуанъ, — драться тебѣ не придется, но натерпѣться-то ты натерпишься.
— Ты не выпустишь ни одного ружейнаго выстрѣла, — предсказалъ Брукъ, глядя на него своими дѣтскими глазами.
Новоприбывшій ничего не отвѣтилъ, думая, конечно, что его хотятъ поразить. И, напрягши слухъ, не слыша разглагольствованій Сюльфара, онъ прислушивался къ орудійнымъ выстрѣламъ, сотрясавшимъ воздухъ, и его тянуло туда, по ту сторону голубѣющихъ склоновъ, къ невѣдомой равнинѣ, гдѣ разыгрывалась дурманящая своими опасностями война.
* * *
Новоприбывшій представился мнѣ:
— Жильберъ Демаши… Я былъ на юридическомъ факультетѣ…
Въ свою очередь и я сообщилъ о себѣ:
— Жакъ Ларшеръ. Я пишу…
Какъ только Жильберъ прибылъ, я понялъ, что онъ станетъ моимъ другомъ, понялъ это по его голосу, по его рѣчамъ, по его манерамъ. Я сразу обратился къ нему на „вы“, и мы стали говорить о Парижѣ.
Наконецъ, я нашелъ человѣка, съ которымъ я могъ бесѣдовать о нашихъ книгахъ, о нашихъ театрахъ, о нашихъ кафэ, о красивыхъ дѣвушкахъ. Я произносилъ знакомыя названія, и это одно заставляло меня на мгновенье вновь переживать все это потерянное счастье. Я помню, что Жильберъ, усѣвшись на тачку, подложилъ себѣ подъ разутыя ноги газету, вмѣсто ковра.
Мы лихорадочно забрасывали другъ друга вопросами:
— Вы помните… Вы помните?..
Солдаты помогали новичкамъ устроиться въ конюшнѣ, отведенной для ночевокъ, и укладывали ихъ мѣшки въ ясли, рядомъ съ нашими.
Когда они все устроили, Жильберъ протянулъ имъ двѣ бумажки по пяти франковъ на выпивку.
— Ну, конечно, пускаетъ пыль въ глаза… — завистливо проворчалъ Фуйяръ. Остальные, довольные, вернулись въ конюшню, чтобы заново распредѣлить мѣста и перетрясти солому, предназначенную для новичка. Брукъ взялъ резиновую подушку Демаши и сталъ надувать ее, забавляясь ею какъ игрушкой, но боясь ее испортить. Сюльфаръ не отставалъ отъ новичка, забрасывалъ его ненужными совѣтами, нелѣпыми наставленіями, отчасти по природному добродушію, отчасти изъ благодарности за предстоящую выпивку, но главнымъ образомъ для того, чтобы обратить на себя вниманіе. Всѣ были въ веселомъ настроеніи, какъ будто уже выпили. Веронъ въ рубашкѣ сталъ изображать балаганнаго силача, съ плутовскимъ видомъ, хриплымъ голосомъ зазывая публику.
Мы столпились вокругъ него.
— Не вѣрится даже, что мы воюемъ, — сказалъ новоприбывшій. — На фронтѣ можно по крайней мѣрѣ развлечься. Я былъ увѣренъ, что здѣсь я не буду такъ скучать, какъ въ казармахъ.
Бреваль со своими двумя страдальческими складками на щекахъ посмотрѣлъ на него и покачалъ головою:
— Ужъ не думаешь ли ты, что это у насъ каждый день такъ? Ты ошибаешься, да будетъ это тебѣ извѣстно.
Фуйяръ фыркнулъ. Сюльфаръ сочувственно пожалъ плечами.
— Онъ еще ничего не знаетъ, — сказалъ онъ.
— Если бы ты побывалъ подъ Шарлеруа, какъ я, — обратился къ нему Ланьи, солдатъ со сморщеннымъ лицомъ старой женщины, — ты бы не торопился такъ скоро вернуться въ полкъ.
— И тебѣ еще не пришлось продѣлать отступленіе, — вмѣшался Веронъ. — Даю тебѣ слово, что отдыхать вамъ не пришлось.
— Да, это было самое тяжелое, — подтвердилъ Лемуанъ.
— А Марна? — спросилъ Демаши.
— Марна это пустяки, — отрѣзалъ Сюльфаръ. — Вотъ при отступленіи тебя поджариваютъ по настоящему. Тутъ только и узнаешь людей…
Такъ говорили всѣ они. Отступленіе было единственной стратегической операціей, которой они больше всего гордились, единственное дѣло, участіе въ которомъ было предлогомъ для безмѣрнаго хвастовства, сущность всѣхъ ихъ разсказовъ. Отступленіе, ужасный вынужденный походъ отъ Шарлеруа до Монъ Мирайля, безъ остановокъ, безъ пищи, безъ опредѣленной цѣли; смѣшавшіеся полки, зуавы, стрѣлки, саперы, раненые, растерянные и падающіе, измученные отсталые солдаты, которыхъ добивали жандармы; сумки, снаряженіе, брошенныя въ канавы, однодневныя сраженія, всегда ожесточенныя, иногда побѣдоносныя — при Гюизе нѣмцы отступили — тяжелый, безпробудный сонъ на откосѣ или прямо на дорогѣ, гдѣ, отдавливая ноги, проѣзжали артиллерійскія повозки, разгромъ булочныхъ и скотныхъ дворовъ, пулеметчики безъ муловъ, драгу вы безъ лошадей, отряды чернокожихъ безъ начальниковъ; заплѣсневѣлый хлѣбъ, который вырывали другъ у друга, дороги, загроможденныя повозками съ мебелью и телѣгами, запряженными быками, съ дѣтьми и плачущими женщинами; пылающія деревни, взорванные мосты; истекающіе кровью, падающіе отъ изнеможенія товарищи, которыхъ приходилось бросать на произволъ судьбы, и непрестанный ревъ германскихъ пушекъ, преслѣдующій трагическія колонны отступающихъ. Отступленіе… въ ихъ устахъ оно превращалось въ побѣду.
— Клянусь тебѣ, что когда мы читали на дорожныхъ столбахъ „Парижъ, 60 километровъ“, это производило на насъ странное впечатлѣніе.
— Особенно на парижанъ, — замѣтилъ Веронъ.
— А потомъ, — закончилъ небрежно Сюльфаръ, какъ банальный эпилогъ прекраснаго разсказа, — потомъ была Марна.
— Помнишь маленькія дыни въ Тиллуа… Сколько мы ихъ натаскали?…
Демаши съ завистью смотрѣлъ на этихъ людей.
— Какъ бы я хотѣлъ быть при этомъ, — сказалъ онъ. — Быть участникомъ побѣды.
— Конечно, это была побѣда, — согласился Сюльфаръ. — Если бы ты былъ тамъ, ты натерпѣлся бы, какъ всѣ остальные, вотъ и все. Спроси у ребятъ, чего имъ только не напѣли въ Эскардѣ… Только, если не знаешь, не надо говорить!.. Все, что объ этомъ писали въ газетахъ — все это сказки. Лучше бы ихъ не читать… Я тамъ былъ, не правда ли, и знаю, какъ все произошло. Такъ вотъ, пятнадцать дней намъ не платили жалованья, съ начала августа… Ну, а послѣ того, какъ мы нанесли послѣдній ударъ, намъ заплатили все сразу, дали каждому по пятнадцати монетъ. Это истинная правда. И если кто-нибудь будетъ говорить съ тобой о Марнѣ, можешь имъ сказать только одно: битва при Марнѣ это такая комбинація, которая принесла по пятнадцати су тѣмъ ребятамъ, которые эту битву выиграли…
* * *
Въ ноябрѣ ночь наступаетъ быстро. Съ наступленіемъ темноты стало холодно и тамъ, въ окопахъ, возобновилась стрѣльба. Мы поѣли супу въ конюшнѣ, присѣвъ на корточки на соломѣ, нѣкоторые взобрались на ясли, спустивъ ноги.
Солдаты разсказывали запутанныя исторіи о всевозможныхъ звѣрствахъ, но новоприбывшіе, воображеніе которыхъ они хотѣли поразить, не слушали: съ разсѣяннымъ взглядомъ, опустивъ головы, они полудремали.
— Пора спать, ребята, — сказалъ Бреваль, расшнуровывая ботинки. — Земляки провели ночь въ вагонѣ.
Каждый занялъ свое мѣсто съ покорностью лошадей, знающихъ свое стойло. Лемуанъ не рѣшался смять свою великолѣпную подстилку изъ свѣжей соломы. — Жаль… Необмолоченный хлѣбъ…
Малышъ Беленъ тщательно, какъ все, что онъ дѣлалъ, приготовлялъ себѣ постель. Чтобы было теплѣе ногамъ, онъ всунулъ ихъ въ рукава своей тужурки, затѣмъ закутался въ свое большое, вдвое сложенное одѣяло, и ловко, какъ рыбакъ, забрасывающій сѣть, накинулъ на себя шинель. Затѣмъ въ маленькомъ отверстіи вязанаго одѣяла показалась его довольная физіономія: Беленъ улегся.
Демаши смотрѣлъ на то, какъ онъ устраивался, но не съ такимъ восхищеніемъ, какъ я, а скорѣе съ ужасомъ. Затѣмъ съ изумленіемъ, съ какимъ-то все растущимъ испугомъ онъ глядѣлъ, какъ приготовляются ко сну остальные. Когда третій сталъ снимать башмаки, онъ приподнялся на своей соломѣ.
— Но не останемся же мы здѣсь совсѣмъ взаперти, — воскликнулъ онъ, — оставимъ хоть дверь открытой?
Всѣ удивленно посмотрѣли на него.
— Нѣтъ, у тебя лихорадка… — проворчалъ Фуйяръ. — Открыть дверь? Ты хочешь, чтобы мы всѣ подохли.
Мысль спать на одной соломѣ рядомъ съ этими немытыми людьми внушала ему отвращеніе, ужасала его. Онъ не рѣшался сказать это, но испуганно смотрѣлъ, какъ его сосѣдъ Фуйяръ неторопливо разматывалъ свои грязные обмотки и снималъ большіе башмаки.
— Но, вы знаете, это очень нездорово, — настаивалъ онъ, — особенно въ виду того, что тутъ свѣжая солома… Она прѣетъ… Часто бывали случаи, когда люди задыхались… Это бывало…
— Не безпокойся, не задохнемся.
Всѣ готовились спать, тѣсно прижавшись другъ къ другу. Демаши, удрученный, не сказалъ больше ни слова. Онъ всталъ на колѣни передъ яслями и сталъ искать флаконъ въ своей сумкѣ. Затѣмъ онъ неловко, ощупью, завернулся въ одѣяло и, погрузивъ лицо въ платокъ, спрыснутый одеколономъ, замеръ неподвижно.
Запахъ одеколона скоро разнесся по конюшнѣ. Веронъ первый удивился.
— Воняетъ, какъ будто. Это что еще такое?
— Пахнетъ парикмахерской.
— Конечно, тутъ сразу задохнешься, — издѣвался Фуйяръ, понявъ въ чемъ дѣло.
И, повернувшись на лѣвый бокъ, чтобы не слышать запаха, онъ проворчалъ:
— У него всѣ замашки, какъ у дѣвицы, у этого галченка…
Демаши ничего не отвѣтилъ. Остальные безучастно молчали. Сонъ вступалъ въ свои права. Въ темнотѣ слышались, однако, еще голоса болтающихъ.
— Вотъ уже пятнадцать дней, какъ она мнѣ не пишетъ, — изливался шопотомъ Бреваль своему пріятелю. — Никогда она такъ не запаздывала… Знаешь, меня это безпокоитъ…
Одинъ изъ новоприбывшихъ разспрашивалъ Верона, хриплый голосъ котораго я узналъ.
— Когда вы отправляетесь на отдыхъ, въ тылъ, васъ хорошо принимаютъ?
— Гмъ, вилами насъ не встрѣчаютъ, пожаловаться нельзя…
Сюльфаръ, чтобы скорѣе уснуть, ругалъ потихоньку Лемуана, который обѣщалъ найти ромъ и вернулся съ пустыми руками.
— Я научу тебя, какъ искать, морда ты этакая, — бормоталъ онъ. — А еще говоришь о яйцахъ…
Сонъ осилилъ ихъ всѣхъ, одного за другимъ, смѣшалъ воедино ихъ дыханіе, медленное и прерывистое, тихіе дѣтскіе вздохи и жалобные стоны, порожденные кошмарными сновидѣніями.
Снаружи ночь, насторожившись, прислушивалась къ тому, что дѣлается въ окопахъ.
Тамъ было спокойно въ этотъ вечеръ. Не слышно было ни глухого буханья пушекъ, ни сухого потрескиванья ружейныхъ выстрѣловъ.
Одинъ только пулеметъ стрѣлялъ равномѣрно, спокойно; казалось, что какая-то хозяйка бродитъ, какъ лунатикъ, и выколачиваетъ ковры. Деревня была окружена тяжелымъ молчаніемъ зябнущей сельской природы. Но внезапно по дорогѣ послышался шумъ, онъ сталъ увеличиваться, направлялся къ намъ, и стѣны начали дрожать… Грузовики.
Они катились тяжело, съ трескучимъ желѣзнымъ шумомъ. Какъ я хотѣлъ бы заснуть съ этимъ привычнымъ для меня звукомъ въ ушахъ и въ мозгу! Въ былое время грузовики проѣзжали такъ подъ моими окнами и поздно ночью будили меня. Какъ я ихъ ненавидѣлъ тогда! Однако, они незлопамятны и появились провѣдать меня въ моемъ изгнаніи. Какъ нѣкогда, они нарушили мою дремоту, и я чувствовалъ, какъ трясутся стѣны. Они явились убаюкать меня.
Какъ странно, не слышно ихъ тяжелой тряски по мостовой сегодня вечеромъ, не слышно ни дрожанья стеколъ, ни голоса запоздалаго прохожаго… Ихъ шумъ кажется мнѣ воркованьемъ, постепенно затихающимъ… Они скрипятъ, трясутся, они проѣхали…
Прощай, Парижъ…
II ВЪ ПОТѢ ЛИЦА ТВОЕГО
Передъ грудой посылокъ, среди толпы солдатъ, толкавшихся локтями и наступавшихъ другъ другу на ноги, стоялъ писарь, выкликая фамиліи адресатовъ залежавшихся писемъ. Происходило это у нашей двери, между деревенскимъ водоемомъ, такимъ маленькимъ, что три прачки едва помѣстились бы подъ его навѣсомъ, и домомъ нотаріуса.
— Дюклу Морисъ, 1-го взвода…
— Онъ убитъ подъ Курси, — крикнулъ кто-то.
— Вы увѣрены въ этомъ?
— Да, товарищи видѣли, какъ онъ упалъ у церкви… Пуля попала въ него. Самъ я, правда, при этомъ не былъ…
Въ углу конверта писарь написалъ карандашомъ: „Убитъ“.
— Маркеттъ Эдуардъ.
— Онъ тоже, должно быть, убитъ, — сказалъ кто-то.
— Да что ты, — запротестовалъ другой… — Въ тотъ вечеръ, когда онъ, говорятъ, исчезъ, онъ ходилъ со мной за водой.
— Такъ онъ, можетъ быть, въ лазаретѣ? — спросилъ писарь. — Но мы не получали его лазаретной карточки.
— По моему, его эвакуировалъ какой-нибудь другой полкъ.
— Нѣтъ, онъ былъ раненъ; его, вѣроятно, подобрали боши.
— Досадно, всегда тѣ, кто ничего не видѣлъ, больше всѣхъ дерутъ глотку.
Всѣ говорили разомъ, безпорядочно, противорѣчиво, задорно опровергая другъ друга. Писарь торопился и примирилъ всѣхъ.
— Наплевать. Я отмѣчу: „пропалъ безъ вѣсти“… Брюне Андрэ, 13-го отдѣленіе…
— Я за него.
Нѣкоторые продолжали спорить вполголоса; изъ заднихъ рядовъ на нихъ кричали, чтобы заставить замолчать, и никто ничего уже не слышалъ. Бреваль все же настороженно прислушивался, и когда какое-нибудь имя напоминало его собственное, онъ заставлялъ повторять:
— Это не для меня, случайно: капралъ Бреваль…
Но писемъ для него все не было, и, поворачиваясь къ намъ своимъ жалкимъ смущеннымъ лицомъ, онъ объяснялъ:
— Она, видите ли, такъ плохо пишетъ, — ничего не было бы страннаго, если бы она напутала.
По мѣрѣ того, какъ кучка писемъ уменьшалась, губы его сжимались.
Послѣ того, какъ выкликнули адресата послѣдняго письма, онъ ушелъ съ пустыми руками. Прежде чѣмъ войти въ дверь, онъ повернулся къ намъ.
— Кстати, Демаши, сегодня твоя очередь. Возьми мѣшокъ и отправляйся за порціями…
— Что ты? Новичка за порціями… Ты издѣваешься надъ нами!.. — И Сюльфаръ, возмущенный, отошелъ отъ своей компаніи и подошелъ къ капралу.
— Парень только что явился, онъ полагаетъ, что морковь растетъ у зеленщика, а ты ничего лучшаго не нашелъ, какъ посылать его за порціями. Ну, и комбинаціи у тебя… Если бы ж… плавали, тебѣ не нужно было бы лодки, чтобы переправиться черезъ Сену.
— Если ты хочешь идти, я тебѣ не мѣшаю, — степенно отвѣтилъ Бреваль.
— Конечно, я пойду, — кричалъ Сюльфаръ. — Пойду, потому что не хочу, чтобы отдѣленіе кормили всякой дрянью, а этотъ парень, по моему, такъ же годенъ выбрать хорошій кусокъ, какъ я служить обѣдню.
Демаши, котораго рыжакъ съ самаго его прихода оглушалъ своими криками, настойчивыми требованіями и шумливой веселостью, старался оправдаться.
— Виноватъ, увѣряю васъ, что я смогу. Въ казармѣ…
Началъ онъ неудачно. Одно упоминаніе о дѣйствительной службѣ или о казармѣ приводило въ изступленіе Сюльфара, который всѣ три года своей службы былъ занятъ только тѣмъ, что отстаивалъ права солдата противъ мстительныхъ фельдфебелей и придирчивыхъ офицеровъ. Онъ захлебнулся отъ ярости.
— Казарма… Онъ думаетъ, что онъ въ казармѣ, птичья голова… Только-что явился со сборнаго пункта и задается передъ нами!.. Ну, отправляйся за порціями, иди, будетъ потѣха… Мнѣ-то что, я самъ за себя постою.
И чтобы показать, что онъ не хочетъ быть заодно съ отдѣленіемъ, которое губитъ непригодный къ своему дѣлу капралъ, онъ, насвистывая, отправился по направленію въ церкви.
Шла перекличка отдѣленій, когда Жильберъ вышелъ во дворъ, гдѣ фурьеръ велѣлъ выгрузить туши замороженнаго мяса въ нѣсколькихъ шагахъ отъ канавы съ навозомъ, и солдатъ разрубалъ ихъ ударами топора; тамъ же были сложены консервы съ обезьяньимъ мясомъ, картофель, дырявый мѣшокъ, откуда тонкой струей высыпался рисъ, и бисквиты, которые дѣти уносили въ передникахъ, чтобы приготовить ѣду для свиней.
Стоявшіе въ очереди наклонились надъ бочкой вина, похлопывали ее, чтобы удостовѣриться, что она дѣйствительно полна, и обсуждали, сколько бидоновъ достанется на долю каждаго отдѣленія, и нѣкоторые уже кричали, что для нихъ не хватитъ. Роздали чечевицу, картофель, кофе въ зернѣ. Демаши, удивленный, замѣтилъ:
— Но у насъ нѣтъ кофейной мельницы.
Остальные смотрѣли на него и смѣялись. Сзади кто-то заоралъ:
— Смѣйтесь, смѣйтесь. Вотъ какого парня посылаютъ за порціями для отдѣленія…
Это быль Сюльфаръ, который пришелъ изъ любопытства, только для того, чтобы посмотрѣть. Жильберъ былъ смущенъ, кепи его было наполнено сахаромъ, карманы полны кофейнымъ зерномъ, мѣшокъ — чечевицей, и онъ растерялся, не зная, куда дѣть рисъ. Вокругъ него смѣялись, фурьеръ кричалъ: — „А что же мѣрка, не хочешь же ты ее слопать“, — онъ совсѣмъ смѣшался и высыпалъ рисъ куда попало: въ мѣшокъ съ чечевицей. Тутъ Сюльфаръ разразился:
— Вотъ это ловко… Какую рожу скорчитъ кашеваръ, когда ему придется сортировать рисъ и чечевицу… Нѣтъ, что за армія! И еще хотятъ прогнать бошей? Потѣха…
Демаши, разсерженный, весь красный, повернулся къ нему:
— Оставь меня въ покоѣ, слышишь! Могъ самъ сюда придти, безъ меня. — Сюльфаръ невозмутимо ждалъ дальнѣйшей раздачи. Онъ слѣдилъ за дежурнымъ капраломъ, который кидалъ куски мяса, одни красные, свѣжіе, другіе подернутые жиромъ, на грязную матерію палатки.
— Будемъ тянуть жребій, — сказалъ капралъ.
— Нѣтъ, — запротестовали нѣкоторыя отдѣленія, — бываетъ, что иные мошенничаютъ… Пусть дѣлятъ по числу людей.
— Насъ во второмъ отдѣленіи четырнадцать, я хочу этотъ кусокъ.
— Въ такомъ случаѣ мы первое отдѣленіе…
Всѣ нагнулись надъ стойкой, протягивая руки, заранѣе недовольные порціями, горланя подъ невозмутимымъ взглядомъ фурьера.
— Кончили вы горланить? — сказалъ онъ, наконецъ. — Я самъ буду раздавать.
— Третьему отдѣленію этотъ кусокъ… Четвертому отдѣленію… Пятому… — Онъ не успѣлъ окончить, не успѣлъ указать концомъ палки на кусокъ, какъ Сюльфаръ съ рычаніемъ растолкалъ всѣхъ:
— Нѣть, — завопилъ онъ, — это не пройдетъ… Вы хотите, чтобы наше отдѣленіе подохло! Пользуются тѣмъ, что этотъ парень ничего не смыслитъ.
Всѣ набросились на него, фурьеръ хотѣлъ его отстранить, но онъ разошелся, размахивалъ руками и кричалъ громче всѣхъ.
— Не хочу этого куска… Я заявлю это, если понадобится, капитану и полковнику… Всегда однимъ и тѣмъ же приходится платиться… Хочу свою долю… Въ пятомъ отдѣленіи насъ больше всѣхъ.
— Васъ только одиннадцать человѣкъ…
— Неправда!.. Мы будемъ жаловаться… Тутъ одни кости… — Онъ кричалъ то пронзительно, то хрипло, то грозилъ, то жаловался, отталкивая однихъ, распихивая другихъ. Тѣ, которые получили уже свою порцію, крѣпко и нѣжно прижимали ее къ сердцу. Къ счастью, фурьеръ протянулъ ему первый попавшійся кусокъ, и онъ тотчасъ замолчалъ, сразу успокоившись. Затѣмъ онъ повернулся къ Демаши, между тѣмъ какъ раздача продолжалась.
— Понимаешь, — дружески сказалъ онъ ему, — у тебя есть сметка, но ты мало орешь… Если хочешь, чтобы тебѣ достались лучшіе куски, чѣмъ другимъ, надо орать, даже не разбираясь, въ чемъ дѣло; это единственный способъ добиться чего-нибудь.
Жильберъ Демаши слушалъ его, ничего не отвѣчая; его забавлялъ этотъ большой крикунъ съ взъерошенной бородой; его внимательное молчаніе понравилось Сюльфару.
— Ну, конечно, этотъ пустоголовый Бреваль не сказалъ тебѣ, чтобы ты взялъ съ собою ведро или бутылки для вина. Такъ въ чемъ же ты его понесешь? Я, къ счастью, объ этомъ подумалъ. Вотъ ведро, я взялъ и бидонъ на случай, если будутъ раздавать водку… Только въ пятомъ отдѣленіи отыскался такой капралъ, который не ходитъ самъ за порціями. Онъ остался и опять пишетъ своей благовѣрной… Ж…! — Сюльфаръ не удостоилъ впутаться въ раздачу консервовъ съ обезьяньимъ мясомъ, которое онъ презиралъ, но все-таки онъ крикнулъ: — Мнѣ не хватаетъ одной коробки! — просто, чтобы показать, что онъ еще тутъ.
— Получайте вино, — сказалъ фурьеръ.
Сюльфаръ первый ринулся впередъ и, пока производилась раздача, онъ не приподнималъ головы; по мѣрѣ того, какъ ведро наполнялось, онъ стоналъ, вскрикивалъ, какъ будто лили его кровь.
— Довольно… Довольно… — кричалъ онъ… — Онъ получаетъ лишнее… Жуликъ!..
Но остальные, привыкшіе къ нему, сносили ругательства и вина обратно не отдавали. Наконецъ, пришла его очередь, и онъ заставилъ наполнить свое ведро до краевъ, клялся, что прибыло шесть новичковъ, что капралъ будетъ жаловаться, что капитанъ…
— На, и проваливай, — сказалъ въ отчаяніи фурьеръ, наливая ему послѣднюю кружку. — Ахъ, что за ремесло…
Сюльфаръ, довольные самимъ собой, возвращался, какъ тріумфаторъ, съ ведромъ въ рукѣ и съ мѣшкомъ за плечами. Они прошли черезъ всю деревню, по которой бродили въ поискахъ кабака бездѣльничающіе солдаты, и по дорогѣ онъ старался внѣдрить въ новоприбывшаго первоначальные принципы хитрости и изворотливости, необходимые для военнаго въ походѣ.
— Каждый за себя, понимаешь. Я предпочитаю пить чужое вино, чѣмъ чтобы другіе пили мое… Самые совѣстливые всегда остаются въ накладѣ.
Остановившись въ уголкѣ, гдѣ не было прохожихъ, онъ опустилъ кружку въ ведро и протянулъ ее Жильберу.
— На, — сказалъ онъ, — выпей, ты имѣешь на это право.
Дѣйствительно, онъ у себя въ умѣ и только для собственнаго руководства составилъ маленькій уставъ правъ и обязанностей солдата, въ которомъ было вполнѣ разрѣшено человѣку, отправляющемуся за порціями, получить въ видѣ вознагражденія кружку вина. Онъ тоже выпилъ, такъ какъ онъ помогалъ Демаши, и послѣ этого легче двинулся дальше. На ходу онъ разсказывалъ Жильберу разныя исторіи и о своей женѣ, портнихѣ, и о битвѣ при Гюизе, и о фабрикѣ, на которой онъ работалъ въ Парижѣ, и о фельдфебелѣ Морашѣ, всѣми ненавидимомъ. Когда они пришли къ стоянкѣ, онъ поставилъ на землю ведро, клялся, что даже не попробовалъ вина, предлагая въ доказательство понюхать его дыханіе, затѣмъ онъ подошелъ къ Демаши, въ которому чувствовалъ симпатію.
— Если бы я былъ при деньгахъ, какъ ты, — сказалъ онъ ему, — и если бы у меня было твое образованіе, даю тебѣ слово, они бы меня здѣсь не увидѣли. Я добился бы поступленія на офицерскіе курсы, провелъ бы нѣсколько мѣсяцевъ въ лагерѣ, а въ серединѣ 1915 года меня произвели бы въ подпоручики. А къ этому времени война кончится… По моему, ты не сумѣлъ пойти по правильной дорогѣ.
III КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Съ ранняго утра полкъ мѣрно шагалъ по дорогѣ, растянувшись длинной голубой лентой. Облако пыли неслось впереди, неся съ собой топотъ ногъ, глухой шумъ голосовъ, взрывы смѣха. Товарищи, идя плечомъ къ плечу, безъ устали разсказывали другъ другу обычныя полковыя исторіи, всѣ похожія одна на другую, какъ будто онѣ произошли въ одной и той же казармѣ.
Никто не думалъ о войнѣ. Всѣ были настроены весело и беззаботно. Было не очень тепло, окрестности были оживленны, и солдаты оглядывались кругомъ, какъ будто они были на маневрахъ.
Буффіу съ лоснящимся лицомъ шелъ рядомъ съ Гамелемъ, чтобы поговорить съ нимъ о Гаврѣ. Они вспоминали знакомыя имъ обоимъ названія улицъ и кабачковъ и въ сотый разъ удивлялись, что не знали другъ друга до войны.
— А у тебя притомъ такая толстая физіономія, что ее легко замѣтить, — каждый разъ повторялъ Гамель.
Онъ былъ крѣпкаго тѣлосложенія и шагалъ широко, тогда какъ толстякъ Буффіу шелъ мелкими торопливыми шажками, и Фуйяръ, идя сзади него, съ грязнымъ платкомъ на шеѣ, не переставая, ворчалъ на него. Онъ ненавидѣлъ жирнаго торговца лошадьми: Буффіу былъ толстъ, онъ — худъ; тотъ былъ человѣкъ зажиточный, онъ былъ бѣденъ; тотъ оставался въ тылу, онъ попадалъ въ окопы.
Буффіу не обращалъ вниманія на оскорбленія и ругательства и въ окопы не шелъ. Съ самаго начала войны онъ брался за любое ремесло, готовъ былъ дѣлать, что угодно, лишь бы не попасть въ окопы. Въ бою онъ былъ лишь одинъ разъ, при Шарлеруа, и вынесъ оттуда впечатлѣніе такого ужаса, что у него осталась только одна мысль, одно стремленіе: ловчиться и оставаться въ тылу. Съ помощью всевозможныхъ хитростей и уловокъ это ему удавалось. Отступленіе онъ продѣлалъ въ качествѣ самокатчика при казначеѣ, едва умѣя держаться на сѣдлѣ. Марну онъ выигралъ, будучи бригаднымъ телефонистомъ. Затѣмъ онъ былъ дровосѣкомъ, сапожникомъ, помощникомъ кашевара. Онъ, не задумываясь, хватался за любое ремесло и цѣплялся за занятое мѣсто до тѣхъ поръ, пока его не прогоняли. Онъ не хотѣлъ драться, вотъ и все, и страхъ заставлялъ его пускаться на что угодно. Теперь онъ угощалъ всѣхъ капраловъ при обозѣ и дѣлился своими посылками съ сержантомъ, начальникомъ отряда муловъ при пулеметной командѣ, который обѣщалъ устроить его при отрядѣ. Но капитанъ не отпускали его изъ роты, и Буффіу задумчиво склонялъ голову, слушая ругательства и угрозы Фуйяра.
Фуйяръ гордился тѣмъ, что онъ участвовалъ въ сраженіи при Монмирайлѣ, и тѣмъ, что онъ старый солдатъ, и ненавидѣлъ также и Демаши, у котораго было слишкомъ много денегъ и былъ слишкомъ барскій видь. Жильберъ медленно плелся, вытянувъ шею, засунувъ большіе пальцы за ремни. Съ каждой остановкой сумка его становилась все тяжелѣе. Однако, при отправленіи онъ весело упаковывалъ ее. Чувствуя на себѣ эту хорошо увязанную ношу, онъ испытывалъ спортивный подъемъ и приливъ силъ. Мускулы его натянулись, онъ готовъ былъ пѣть, идти ускореннымъ шагомъ, въ сопровожденіи толпы провожающихъ.
Но черезъ часъ сумка стала уже тяжелой. Она уже не подталкивала его впередъ, какъ при отправленіи въ походъ, а, казалось, удерживаетъ его, тащитъ назадъ за оба ремня. Черезъ каждую сотню шаговъ онъ подбрасывалъ свою ношу движеніемъ плечъ, но напрасно, она быстро соскальзывала внизъ, становясь еще тяжелѣе. Ссадины на ногѣ увеличились, колѣни затекли, и сумка, тяжелая, какъ свинецъ, издѣвалась надъ нимъ, заставляла его пошатываться, какъ пьянаго.
На каждой остановкѣ онъ раскладывалъ на склонѣ дороги свои вещи и выбрасывалъ что-нибудь: всевозможныя лекарственныя снадобья, портативный фильтръ, коробку съ мяснымъ порошкомъ, кучу полезныхъ вещей, на которыя товарищи его жадно набрасывались, не зная точно, что они будутъ съ ними дѣлать. Сюльфаръ помогалъ ему нести половину его тяжести, фляжку, патронную сумку, переполненную свыше мѣры, а къ концу перехода онъ взялъ у него даже ружье, ремень котораго натиралъ ему плечо. Но даже то немногое, что ему оставалось нести, казалось ему все-таки тяжелымъ, и на каждой остановкѣ онъ думалъ, что не будетъ въ состояніи идти дальше. Однако, они вставалъ, какъ всѣ, и шелъ дальше, прихрамывая, еще болѣе разбитый, мучительно переживая каждый шагъ. Мало-по-малу шумъ среди солдатъ сталъ затихать. Чувствовалась усталость.
— Отдыхъ! Отдыхъ! — раздавались крики, но кричавшіе старались, чтобы ихъ не замѣтили. Хромающіе выходили изъ рядовъ и, усаживаясь на откосахъ, снимали башмаки. На краю дороги Барбару, военный врачъ съ четырьмя нашивками, выслушивалъ жалобу больного, сдерживая поводомъ и колѣнями рвущуюся впередъ лошадь. Передъ нимъ робко стоялъ солдатъ, вытянувшись, руки по швамъ.
— Молчи! — кричалъ врачъ, и жилы на вискахъ у него надулись. — Пойдемъ, какъ всѣ… Я начальникъ, слышишь, начальникъ! Какъ ты обязанъ относиться ко мнѣ?
Солдатъ растерянно смотрѣлъ на него.
— Не знаю, господинъ докторъ…
— Ты обязанъ относиться ко мнѣ съ почтеніемъ, — рычалъ Барбару, подпрыгивая на сѣдлѣ… — Стой прямо… Вытяни руку, я приказываю тебѣ вытянуть руку… Конечно, рука у него дрожитъ… Всѣ алкоголики, сыновья алкоголиковъ… Ну, убирайся, другіе идутъ и ты пойдешь… И берегись, если я увижу, что ты отстаешь.
На остановкахъ люди отдыхали, лежа за линіей козелъ съ ружьями. Новички, менѣе закаленные, не разстегивали уже своихъ сумокъ; они ложились на спину, пододвинувъ свою ношу подъ голову въ качествѣ жесткой подушки и чувствовали, какъ усталость пульсируетъ въ ихъ истомленныхъ ногахъ.
— Встать!
Снова шли прихрамывая. Уже не слышно было смѣха, говорили тише. Наступалъ вечеръ, предметы теряли свои реальныя очертанія. День былъ оконченъ, села отдыхали, и изъ остроконечныхъ крышъ поднималось дыханіе сожженныхъ дровъ, характерное для деревень.
Въ сентябрѣ въ этой мѣстности происходили бои, и вдоль всей дороги вытянулись рядами кресты и смотрѣли, какъ мы проходили мимо. Около одного ручья было расположено цѣлое кладбище; на каждомъ крестѣ развѣвался флажокъ, изъ тѣхъ флажковъ, что продаютъ на дѣтскихъ базарахъ, и, развѣваясь, они придавали мертвому полю нарядный видъ праздничной эскадры.
По краю канавъ тянулись случайные кресты изъ двухъ дощечекъ или изъ двухъ скрещенныхъ палокъ. Иногда попадался цѣлый взводъ безвѣстныхъ мертвецовъ, съ однимъ общимъ крестомъ. „Французскіе солдаты, убитые на полѣ чести“ — читалъ по складамъ нашъ полкъ. Вокругъ фермъ, посреди полей, вездѣ видны были кресты: повидимому, цѣлый полкъ погибъ здѣсь. Они смотрѣли, какъ мы проходили съ вершинъ еще зеленѣющихъ откосовъ, и казалось склонялись, чтобы выбрать среди нашихъ рядовъ тѣхъ, которые завтра должны будутъ присоединиться къ нимъ. Затѣмъ, въ сторонѣ, среди голаго поля, стоялъ совершенно одинокій черный крестъ съ сѣрой фуражкой.
— Бошъ! — крикнулъ кто-то.
И всѣ новички засуетились, чтобы взглянутъ на него: это былъ первый бошъ, котораго имъ пришлось увидѣть.
* * *
Съ глухимъ шорохомъ придавленныхъ голосовъ, съ позвякиваніемъ ружей, невѣрными шагами вошла рота въ деревню, погруженную въ сумракъ. Невдалекѣ ракеты разсѣкали ночную темноту, и временами горизонтъ оживлялся красными или зелеными отблесками, быстро гаснущим», похожими на свѣтовыя рекламы.
При взглядѣ на небо войны, вспоминалась ночь народнаго праздника четырнадцатаго іюля. Ничего трагическаго. Только разлитое повсюду молчаніе. Посреди большой улицы горѣла ферма, и надъ снесенными крышами поднималось яркое красное пламя, какъ во время ярмарочныхъ празднествъ, и было странно, что не слышно звуковъ органа. Опаленные зайцы проскакивали между нашими рядами, какъ маленькіе горящіе факелы. Затѣмъ между двумя готовыми рухнуть стѣнами пронеслись въ красномъ отблескѣ пожара безмолвныя тѣни съ ведрами въ рукахъ.
— Живѣй, живѣй, — повторяли офицеры, — они опять начнутъ стрѣлять.
Въ концѣ деревни ребенокъ, котораго едва можно было различить въ темнотѣ, искалъ какіе-то обломки среди развалинъ своего дома. Онъ поднялъ носъ, посмотрѣлъ на насъ, ничего не говоря, и важно отдалъ честь офицеру, приложивъ свою маленькую, покрытую бѣлой известкой, рученку къ лохматой головкѣ.
— Теленокъ, — проворчалъ Сюльфаръ… — Чего они возятся здѣсь какъ разъ, когда мы проходимъ, эти клопы, — объ этомъ нечего спрашивать… Посмотри на всѣ эти огни — это сигналы. Можешь быть увѣренъ, боши уже знаютъ, что мы здѣсь.
Изъ одного двора въ другой прошла старуха, пряча подъ фартукомъ фонарь, чтобы его не было видно, и чтобы укрыть его отъ вѣтра.
— Еще одна… Эй, старуха!., фонарь… — закричалъ Сюльфаръ.
Мару, выдававшій себя за браконьера, тоже ворчалъ: онъ повсюду видѣлъ шпіоновъ. Малѣйшій свѣтъ казался ему подозрительнымъ, и онъ создалъ въ своемъ воображеніи какой-то таинственный и сложный сборникъ ночныхъ сигналовъ между крестьянами, зажигающими свѣтъ, и германскимъ генеральнымъ штабомъ.
Демаши, измученный, вытянувъ шею, какъ лошадь, взбирающаяся на гору, шелъ за браконьеромъ. Даже усталость исчезла у него; онъ превратился въ затасканную вещь, безъ воли, кѣмъ-то подталкиваемую впередъ. Повернувъ глаза к линіи огня, онъ старался между двумя стѣнами увидѣть ракеты. Эта первая картина войны разочаровала его. Ему хотѣлось волненія, хотѣлось почувствовать что-то, и онъ упорно всматривался въ окопы, чтобы взволноваться, затрепетать немного.
И онъ повторялъ: — „Это война… я вижу войну…“, но волненіе не охватывало его. Онъ ничего не испытывалъ, кромѣ нѣкотораго удивленія. Эта электрическая феерія среди нѣмыхъ полей казалась ему странной и неумѣстной. Раздававшіеся иногда ружейные выстрѣлы казались безвредными. Даже эта разрушенная деревня не волновала его: слишкомъ походило это на декорацію. Это слишкомъ было похоже на то, что онъ представлялъ себѣ.
Чтобы оживить все это, одухотворить, нужны были крики, шумъ, стрѣльба; но эта ночь, это глубокое молчаніе, это не война…
И все-таки это была война; суровый и скорбный канунъ боя.
Улица внезапно кончилась, загражденная баррикадой изъ боронъ и бочекъ.
Нужно было проходить по одному, наклоняясь подъ дышломъ, зацѣплявшимъ сумки…
— Тише… Сборъ въ полѣ, налѣво.
Разстегнувъ сумку, Жильберъ улегся. Земля на поляхъ была мягкая и холодная, еще вся сырая отъ недавнихъ дождей, и сквозь тонкую шинель холодъ пронизывалъ его ноги. Положивъ мѣшокъ подъ голову, засунувъ руки въ рукава, онъ отдыхалъ, устремивъ глаза въ небо.
Въ деревнѣ, по ту сторону баррикады, столпившаяся рота толкалась, получая порціи. Слышались приказанія, споры, галдежъ, какъ на базарѣ.
Весь этотъ шумъ разбудилъ задремавшаго Жильбера. Онъ оперся на локоть.
— Боши еще далеко отсюда? — спросилъ онъ.
— Нѣть, по ту сторону дороги, — отвѣтилъ ему Сюльфаръ, который лежалъ рядомъ съ нимъ на сырой травѣ. — Вотъ увидишь, боши услышать весь этотъ галдежъ и начнутъ стрѣлять въ насъ…. Я бы далъ двадцать монетъ, чтобы этихъ свиней подстрѣлили… слушай, какъ онѣ горланятъ!..
Онъ теперь не кричалъ уже. Его громкій голосъ сталъ глуховатымъ изъ предосторожности; онъ даже спряталъ свою трубку и сѣлъ, тревожно согнувъ спину. Эта предосторожности удивили Жильбера.
— Здѣсь не опасно? — спросилъ онъ.
— Наоборотъ, послушай.
Негромкіе мелодичные свистящіе звуки прорѣзывали воздухъ, будто кто-то дотрагивался до струнъ гитары.
— Слышишь? Это пули.
Жильберъ, заинтересованный, сталъ слушать. Ему нравилось, что пули издаютъ такой красивый звукъ, похожій на осиное жужжанье. Онъ даже не думалъ о томъ, что эти пули могутъ убить. По командѣ, переданной потихоньку изъ устъ въ уста, рота встала, бряцая ружьями. Длинной зигзагообразной линіей спустился отрядъ къ большой дорогѣ, на которой виднѣлся ниже рядъ деревьевъ. Переходовъ для спуска еще не вырыли. Ничего не было видно. Черная земля и темное небо сливались воедино, и люди останавливались на каждомъ шагу. Едва можно было различить согнувшіеся силуэты товарищей. Иногда кто-нибудь спотыкался и падалъ во весь ростъ съ страшнымъ дребезжаніемъ котелка, фляжки или бидона. Тогда по всей линіи пробѣгалъ заглушенный смѣхъ.
Внезапно Жильберъ услышалъ какъ бы быстрое дыханіе, которое все усиливалось, и въ то же мгновеніе онъ увидѣлъ, какъ длинная цѣпь людей сразу легла на землю. Онъ послѣдовалъ ихъ примѣру. Раздался взрывъ и страшный грохотъ. Осколки взбороздили землю и вокругъ распространился ѣдкій дымъ. Жильберъ, стоя на колѣняхъ, съ бьющимся сердцемъ, вдохнулъ большой глотокъ дыма отъ своего перваго снаряда.
— Пахнетъ хорошо, — подумалъ онъ.
Другіе уже вставали и почти бѣгомъ направлялись дальше. Бросивъ бидонъ, который билъ его по ляжкамъ, онъ пошелъ за Лемуаномъ, тянувшимъ на веревкѣ несчастную собаку, изогнувшуюся на своих вытянутыхъ лапахъ.
— Стой! — раздались заглушенные голоса.
Окопъ былъ вырытъ какъ разъ передъ дорогой. Три желѣзныхъ проволоки ограждали его, какъ лужайку сквера. Подъ нашими ногами шептались невидимые солдаты, одѣвавшіе сумки на спину.
— Легко имъ удалось придти на смѣну, — ворчали они. — Ну, да имъ еще покажутъ.
И съ этимъ пожеланіемъ товарищи ушли.
* * *
Красивое тусклое солнце свѣтило на нѣжно-голубомъ небѣ. Было воскресенье. Поверхъ мѣшковъ, набитыхъ землею, можно было разсмотрѣть германскіе окопы; двѣ узкія линіи, одна изъ коричневой земли, другая изъ бѣлесоватаго песчаника.
Въ окопахъ бездѣльничали. Разгуливали по траншеямъ, какъ по улицамъ маленькаго города, каждый уголокъ котораго вамъ хорошо знакомъ, и бесѣдовали у входовъ въ землянки.
Подъ навѣсами товарищи прилаживали свои ремни. Маленькій Беленъ подвѣсилъ ремень на высотѣ своего роста, просверливъ въ немъ дыру для свѣчки, другой для кружки, третій побольше для ногъ.
Бреваль писалъ своей женѣ, а Брукъ спалъ, это было его единственное удовольствіе между пріемами пищи.
Фуйяръ, стоя на корточкахъ, кончалъ коробку съ обезьяньимъ мясомъ, которое онъ, уписывая большими кусками, забиралъ грязнымъ ножомъ, и поддерживалъ его большимъ землистымъ пальцемъ. Жильберъ сбоку посматривалъ на него. Онъ не любилъ это болѣзненное и грязное существо, все въ немъ внушало ему отвращеніе, его голосъ, его красные глаза, вплоть до его неизмѣннаго вязанаго платка съ висящими жирными кистями.
Оба они спали въ одномъ и томъ же углубленіи, рядомъ, тѣло къ тѣлу, и, главнымъ образомъ, поэтому онъ его терпѣть не могъ.
Демаши довольно скоро освоился съ нашей суровой жизнью. Онъ уже умѣлъ мыть свою тарелку пучкомъ травы, начиналъ съ удовольствіемъ пить наше грубое вино и не стыдился удовлетворять свои остественныя потребности въ присутствіи другихъ.
— Ты привыкаешь, парень, привыкаешь, — съ удовлетвореніемъ отмѣчалъ Бреваль.
Валяясь на гнилой соломѣ, Сюльфаръ дремалъ, полузакрывъ глаза. Всѣ остальные понемногу засыпали.
Внезапно рядъ взрывовъ разбудили ихъ. Началось всеобщее движеніе. Всѣ вставали, выходили изъ нишъ, толкались, разбирая ружья, оглушенные неумолкаемымъ громомъ внезапно разразившейся артиллерійской канонады. По общему сигналу по всей линіи началась стрѣльба нашихъ орудій, и среди этого раздирающаго грохота не слышно было даже, какъ снаряды проносились по воздуху. Мы устремились къ амбразурамъ, отыскивая уже патроны.
Взбудораженные, мы бѣгали справа налѣво, перекликались, разспрашивали и освѣдомляли другъ друга, ничего толкомъ не зная.
— Это боши наступаютъ… Это заградительный огонь…
— Нѣтъ, это для того, чтобы взорвать ихъ пулеметы…
— Кажется, третій батальонъ пойдетъ въ бой, выбить ихъ изъ лѣсу…
Каждый снарядъ поднималъ длинный земляной столбъ, окруженный облакомъ дыма; снаряды, попадавшіе въ лѣсъ, вырывали съ корнемъ цѣлыя деревья и сбрасывали ихъ въ кучу прямыми, нетронутыми, какъ большіе букеты. Быстро прошелъ, расталкивая насъ, дежурный по службѣ связи.
— Всѣ въ землянки. Эта стрѣльба на полчаса; они, можетъ быть, будутъ отвѣчать.
Никто не ушелъ. Всѣ собрались въ окопахъ и смотрѣли на это зрѣлище, а такъ какъ германская артиллерія не отвѣчала, то самые осторожные превращались въ храбрецовъ. Фуйяръ уже усѣлся на парапетъ, чтобы ничего не упустить.
Когда хорошо направленный залпъ, какъ киркой, вырывалъ изъ окоповъ столбу земли, камни или доски, раздавался восторженный крикъ, какъ при видѣ фейерверка. Среди грохота слышенъ былъ только этотъ счастливый смѣхъ, этотъ простодушный смѣхъ, какъ будто мы слѣдили за попаданіемъ пуль въ деревянныя мишени на деревенскомъ празднествѣ.
Внезапно мы услышали щелканье германскаго пулемета. Мы замолчали, удивленные, немного обезпокоенные. Пулеметъ продолжалъ стрѣлять неумолимо, какъ бы вбивая гвозди. И вдругъ мы увидѣли, въ кого онъ стрѣляетъ.
— Наши выходятъ изъ окоповъ… Они наступаютъ съ той стороны ручья…
Всѣ закричали разомъ, затѣмъ тотчасъ всѣ смолкли, встревоженные, замеревъ на мѣстѣ. Рота вышла изъ окоповъ съ лѣвой стороны отъ насъ, и солдаты, безъ сумокъ, съ ружьями на перевѣсъ бѣжали по голому полю. Сосѣдній полкъ пытался перейти въ наступленіе, и ихъ-то и обстрѣливалъ пулеметъ, потрескивавшій равномѣрно, какъ швейная машина. Мѣтко направленный обстрѣлъ, казалось, производилъ опустошенія въ рядахъ людей. Солдаты вставали, бѣжали, ложились, снова бѣжали, но нѣмцы, несмотря на орудійный огонь, разрушавшій ихъ окопы, принялись за стрѣльбу какъ слѣдуетъ, и на большомъ пространствѣ видно было, какъ люди кружились и падали. Нѣкоторые, упавъ, шевелились еще, уползая въ ямы, вырытыя снарядами. Другіе, грузно свалившись, лежали неподвижно. Стрѣльба продолжалась, еще болѣе частая, но остатки рота продолжали наступать, причемъ солдаты, разбросанные по полю, собирались въ кучу по мѣрѣ того, какъ приближались къ германскимъ окопами, какъ будто боялись подойти къ нимъ одни. На этомъ сгруппировавшемся отрядѣ пулеметъ сосредоточилъ свой огонь, и почти сразу всѣ люди упали.
Единый скорбный крикъ вырвался изъ нашихъ грудей. Затѣмъ проклятія, ярость, отчаяніе.
— Да, нѣтъ же, они только укрылись, — крикнулъ Брукъ.
— Да, — сказалъ Демаши, съ тревогой наблюдавшій въ бинокль… — не всѣ убиты. Они въ ямахъ отъ снарядовъ. Ихъ остановили проволочныя загражденія…
Мы толкались сзади него, протягивая руки.
— Слушай, дай мнѣ твой бинокль… дай мнѣ…
Всматриваясь хорошенько, можно было, несмотря на дымъ, разсмотрѣть ихъ всѣхъ, маленькихъ, прижавшихся къ землѣ, разбросанныхъ по ямамъ. Но внезапно облако дыма заволокло ихъ: наша артиллерія снова начала стрѣлять и принялась слишкомъ поздно разрушать широкое проволочное загражденіе.
— Чортъ ихъ побери! — прорычалъ Гамель, — да, вѣдь, они стрѣляютъ по нимъ!
Страшный залпъ изъ пяти орудій раздался надъ этой живой добычей, затѣмъ шрапнели разорвались надъ ними. Артиллерія сослѣпу упорно била въ это мѣсто.
— Надо ихъ предупредить… Надо остановить огонь, — кричалъ блѣдный Демаши…
Быстро пробѣжалъ капитанъ.
— Не видятъ они, что ли… Кто здѣсь изъ службы связи… Живѣй къ телефону.
Снаряды продолжали падать, взрывая землю. Между двумя залпами успѣли различить, какъ что-то копошится въ одной изъ воронокъ, какая-то фигура поднялась оттуда: одинъ изъ оставшихся въ живыхъ снялъ свой фланелевый поясъ, широкій красный поясъ и, ставъ на колѣни, на краю ямы, въ тридцати шагахъ отъ нѣмцевъ, махалъ своимъ краснымъ знаменемъ, высоко вытянувъ руку.
— Красный цвѣтъ! Онъ проситъ, чтобы увеличили прицѣлъ, — закричали въ окопѣ.
Защелкали сухіе, трагическіе ружейные выстрѣлы. Солдатъ снова улегся, задѣтый, можетъ быть, пулей… Снаряды снова взрыли проклятый участокъ, разбрасывая землю и окутывая ее густымъ дымомъ.
Съ тревогой ожидали мы, пока облако дыма разсѣется…
Нѣтъ, онъ не былъ убитъ. Человѣкъ снова приподнялся и, вытянувъ очень высоко руку, широко махалъ своимъ краснымъ поясомъ. Нѣмцы еще разъ выстрѣлили. Солдатъ опятъ упалъ…
У насъ рычали:
— Свиньи! Свиньи!
— Надо наступать, — свирѣпо кричалъ Жильберъ.
Въ промежуткахъ между громовыми залпами, солдаты продолжалъ приподниматься съ краснымъ знаменемъ, зажатымъ въ рукѣ, и пули заставляли его ложиться только на мгновеніе.
— „Красный цвѣтъ! Красный цвѣтъ!“ — указывалъ, извиваясь, поясъ.
Но обезумѣвшая артиллерія продолжала стрѣлять, какъ будто она хотѣла истребить ихъ всѣхъ. Снаряды ложились кругомъ зарывшихся въ землю людей, все ближе и ближе, вотъ-вотъ они должны были всѣхъ ихъ раздавить…
Тогда человѣкъ всталъ открыто во весь ростъ и широкимъ безумнымъ жестомъ взмахнулъ надъ головой своимъ знаменемъ, повернувшись лицомъ къ непріятелю. Раздалось двадцать выстрѣловъ. Видно было, какъ онъ зашатался и упалъ всѣмъ тѣломъ на заостренную проволоку.
Человѣкъ упалъ, но боши продолжали свирѣпо стрѣлять, и смертоносное щелканіе причиняло намъ боль, жестокую боль, какъ будто оно ранило наст всѣхъ. Облако дыма отъ снарядовъ заволокло ужасную сцену. Но за колыхавшимся занавѣсомъ еще слышна была стрѣльба.
Дымъ разсѣялся. Никто больше не шевелился. Впрочемъ, да… Рука двигалась еще, двигалась еле-еле, влача знамя по травѣ.
— „Красный цвѣтъ!.. Увеличьте прицѣлъ“…
* * *
Глухо звучали голоса и смѣхъ зябнущихъ людей, уткнувшихся въ тюфяки, заслонявшіе свѣтъ свѣчей. Укладывались на ночь.
Внезапно длительный раскатъ залпа прорѣзалъ тишину, и стрѣльба снова разгорѣлась, какъ огонь, въ который подбросили новую охапку дровъ.
— Опять начинается, — говорили товарищи. А Веронъ, натянувъ одѣяло на носъ, бурчалъ:
— Лишь бы не потребовали подкрѣпленія.
Капитанъ Крюше, озабоченный, можетъ быть даже встревоженный, нервно прохаживался по дорогѣ; иногда онъ взбирался на откосъ за виноградниками и всматривался въ огромныя чернѣющія поля по направленію къ овчарнѣ. Стрѣляли оттуда. Однако, ничего не было видно. Была безпросвѣтная ночь.
Что происходило? Неизвѣстно. Можетъ быть, нѣмцы ведутъ наступленіе на дорогу. Стрѣльба сосредоточивалась на пространствѣ около двухсотъ метровъ, она какъ бы затерялась среди этого обширнаго спокойнаго горизонта. Большинство спало. Возобновившаяся стрѣльба не разбудила ихъ. Только одинъ капитанъ, высокій, худой, на длинныхъ ногахъ, бодрствовалъ. Онъ ждалъ Бурлана, солдата службы связи, котораго онъ отправилъ на развѣдку на дорогу. Я услышалъ топотъ подбитыхъ гвоздями башмаковъ возвращавшагося развѣдчика.
Вскорѣ по окопу стали передавать команду:
— Встать… Сборъ…
Такъ какъ стрѣльба, повидимому, распространялась дальше, то выходили быстро, толкаясь, путая и вырывая другъ у друга ружья. Спѣшно выстроились повзводно. Люди спросонокъ дрожали, охваченные ночнымъ морознымъ воздухомъ.
— Четвертой ротѣ можетъ понадобиться наша помощь, — сказалъ намъ капитанъ своимъ сухимъ голосомъ. — Они ждутъ наступленія. Поэтому запрещается снимать башмаки. Держать наготовѣ сумки, укрыться одѣяломъ, положить ружья рядомъ съ собой… А теперь мнѣ нуженъ доброволецъ…
Мы, четыре взвода, слушали, стоя тѣснымъ четырехугольникомъ. Безпорядочная ружейная трескотня заставила капитана замолчать на мгновеніе и прислушаться. Затѣмъ послышались отдѣльные выстрѣлы, и, наконецъ, наступила тревожная тишина. Не вышли ли они уже на дорогу?
— Нуженъ доброволецъ, который хорошо знаетъ участокъ, — быстро заговорилъ капитанъ. — Необходимо отвести патруль четвертой роты, указать ему дорогу, чтобы установить связь съ частями, расположенными по правую сторону отъ ручья. Возможно, что вражескія части проникли туда… Въ моей ротѣ, я знаю, найдется не одинъ храбрецъ изъ старыхъ солдатъ.
— Я! — тотчасъ отозвался голосъ.
Это былъ Жильберъ. Онъ крикнулъ быстро, непроизвольно, не подумавъ, только ради волнующей радости услышать въ тишинѣ свой безстрашный голосъ; только для того, чтобы его имя гордо прозвучало передъ тремястами безмолвныхъ людей.
— Демаши… Перваго взвода.
И сердце его забилось, услышавъ собственный голосъ, свое имя. Онъ увѣренно вышелъ изъ рядовъ, локтями очищая себѣ дорогу и сталъ смирно.
— Я предпочелъ бы стараго солдата, — сказалъ капитанъ. — Но разъ вы вызвались, хорошо… Очень хорошо.
Намъ приказали зайти за прикрытія, и Жильберъ, получивъ распоряженія, удалился съ ружьемъ въ рукѣ. Онъ взобрался по откосу и пошелъ по полямъ. Проходя вдоль виноградника, онъ подскочилъ. Передъ нимъ стоялъ человѣкъ… Это былъ часовой, наблюдавшій за равниной.
— Ты идешь на дорогу? Спустись къ яблонѣ, а потомъ иди по тропинкѣ… Но, знаешь, торопись, пули свистятъ здорово, когда начинается стрѣльба.
Онъ пошелъ дальше. Куропатки встрепенулись и, грузно летя, ударялись объ его ноги. Ему снова пришлось сдержать себя, чтобы не отпрянуть назадъ, и заледенѣвшими руками онъ зарядилъ ружье. Онъ всматривался въ темноту: не видно было ни одного дерева.
Стрѣльба снова началась, и нѣсколько пуль просвистѣло мимо него. Онъ ихъ не баялся. Онъ только нагнулъ ружье такъ, чтобы прикладъ прикрывалъ животъ, и наклонилъ голову, наивно думая, что такъ пуля его не задѣнетъ…
У ручья окопы не соединялись. Не пробрались ли нѣмцы въ этомъ мѣстѣ? Онъ остановился на минуту и пошелъ дальше, согнувшись еще ниже. Тропинка пересѣкла поля. Не та ли самая?.. Онъ пошелъ по ней наугадъ. Стрѣльба становилась слышнѣе. Наконецъ, онъ различилъ рядъ деревьевъ на дорогѣ и спустился по откосу. Въ канавѣ валялось походное снаряженіе, ружья, сумки; прислоненный къ кучѣ камней, лежалъ убитый. Жильберъ отвелъ глаза и быстро вышелъ на дорогу.
Четвертая рота была развернута стрѣлковой цѣпью по пыльному склону откоса. На придорожномъ камнѣ сидѣлъ человѣкъ и макалъ хлѣбъ въ кружку.
— Вы кто?
— Я изъ третьей роты… Ищу капитана Станислава по поводу патруля.
— Это я. Идите по дорогѣ до дерева, оно свалилось на дорогу, метровъ пятьсотъ отсюда, — сказалъ офицеръ. — Патруль ждетъ васъ.
Жильберъ поспѣшно отошелѣ и, дойдя до упавшаго на дорогу дерева, остановился, взялъ ружье наперевѣсъ и сталъ на одно колѣно.
Изъ темнаго поля голосъ окликнулъ его:
— Это ты изъ третьей роты?.. Иди сюда.
Ихъ было пять человѣкъ. Присѣвъ на корточки, капралъ недовѣрчиво всматривался.
— Ты хорошо знаешь дорогу?
— Да, — отвѣтилъ Жильберъ, — это тамъ. И онъ жестомъ указалъ имъ въ темное пространство.
— Это тамъ они сдѣлали вылазку въ воскресенье? Парень съ краснымъ знаменемъ?
— Да.
— Идемъ туда.
Стрѣльба то смолкала, то становилась сильнѣе, то снова утихала.
— Слушай, какъ они стрѣляютъ, — буркнулъ капралъ. — Не хотятъ оставить въ цѣлости ни одной свеклы.
— Они цѣлились въ васъ?
— Нѣтъ, въ желѣзнодорожные столбы да въ копны сѣна. Два часа стрѣляютъ по нимъ. Къ счастью, не цѣлятся сюда, эти свиньи…
Они подвигались цѣпью, въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга. Жильберъ шелъ впереди. Продвигались на сто шаговъ, припадали на колѣни, острыми взглядами рыскали по полю и шли дальше. Капралъ ткнулъ концомъ штыка во что-то черное… У Жильбера дрогнуло сердце.
— Ничего… Снопъ сѣна.
Они подходили уже къ ручью, какъ вдругъ ночь, казалось, посвѣтлѣла. Луну заволакивало только тонкое облачко; вѣтеръ отдернулъ его, и обнаженныя поля освѣтились. Патруль не двигался и замеръ, залитый потокомъ луннаго свѣта. Долго лежали они, пригвожденные къ мѣсту, молча, не шевелясь. Только Жильберъ, взявъ кепи, приподнялся на локтяхъ, стараясь оріентироваться. Когда луна снова заволоклась, онъ первый всталъ и пошелъ напрямикъ. Въ травѣ онъ замѣтилъ первые трупы. Направленіе было взято правильно. Дотронувшись до перваго трупа, онъ въ ужасѣ быстро отпрянулъ, ему казалось, что рука мертвеца схватитъ его. Жильберъ не рѣшался идти дальше, страхъ сковалъ его, ноги его ослабѣли. Онъ вдругъ прижался къ капралу.
— Что, — прошепталъ голосъ, — это не здѣсь?
— Здѣсь…
Онъ смотрѣлъ на мертвецовъ, на всѣхъ этихъ мертвецовъ, которые на его глазахъ бѣжали навстрѣчу своему ужасному року. Онъ чуялъ, что они повсюду, въ каждой воронкѣ, въ каждой складкѣ земли, и не рѣшался двинуться. Никто не могъ его защитить, даже товарищъ, къ которому онъ прижимался.
— Ну, что же, идемъ дальше?
Немного дальше шинели лежали кучками. Онѣ стали уже плоскими, тѣла какъ бы ссохлись, и трудно было представить себѣ, что они жили, бѣжали… Безконечная скорбь давила сердце Жильбера.
Теперь онъ уже ихъ не боялся. Развѣ боятся тѣхъ, кого любятъ?
Дѣлая усилія надъ собой, понукая отказывающіяся руки, онъ склонился надъ однимъ трупомъ и разстегнулъ шинель, чтобы взять документы.
Нервная дрожь слегка пробѣжала по нему, когда онъ почувствовалъ подъ своими боязливыми пальцами холодную шею. Капралъ, склонившись, снималъ уже съ другого орденъ.
Бѣдные товарищи, которыхъ они пришли провѣдать въ ихъ небытіи, должны были на мгновеніе ожить подъ ихъ братскими прикосновеніями. И ожившіе мертвецы, полные милосердія, казалось, вели патруль, передавая живыхъ изъ рукъ въ руки.
* * *
Жильберъ вернулся рано утромъ.
— Я довелъ патруль до германскихъ загражденій, — отрапортовалъ онъ капитану.
Крюше только отвѣтилъ:
— А!
И онъ такъ недовѣрчиво улыбнулся, что Жильберъ покраснѣлъ. Кто-то тотчасъ передалъ объ этомъ по-своему товарищамъ, и они насмѣшливо смотрѣли на добровольца.
Кто-то сказалъ:
— Просидишь въ ямѣ часа два, понимаешь, я разсказываешь потомъ, что былъ около самыхъ нѣмецкихъ позицій.
Жильберъ, разговаривавшій съ нами, не возражалъ. Горькая улыбка слегка кривила его губы.
— Я пойду почищу ружье по твоему способу, — сказалъ онъ Лемуану, — оно заржавѣло отъ дождя.
Онъ ушелъ съ опущенной головой. Усѣвшись при входѣ въ нишу, онъ поставилъ ружье между колѣнъ и, разстегнувъ шинель, вытащилъ широкій красный фланелевый поясъ. Смѣхъ мгновенно стихъ.
Всѣ взглянули на равнину передъ германскими окопами. Краснаго знамени уже не было тамъ.
IV ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ
Мы гнемъ спину подъ дождемъ. Эта грязная, почернѣвшая деревня не ждала насъ и, сгрудившись вдоль спящихъ домовъ, вымокшіе, мы выжидаемъ возвращенія фурьеровъ, отыскивающихъ мѣста для нашего постоя. Нашъ фурьеръ, длинный Ламберъ, только-что вошелъ въ домъ, изъ оконъ котораго съ красными занавѣсками лился кровавый свѣтъ, и съ улицы мы, не разбирая словъ, слышали его голосъ, дружески уговаривавшій обитателя дома. Фермеръ, какой-то упрямый крестьянинъ, кричалъ:
— Нѣтъ, нѣтъ, въ подвалъ я ихъ спать не пущу, говорю я вамъ. Они выпьютъ всѣ мои остатки.
Рота, возвращавшаяся изъ окоповъ, по свистку легла на землю, измученная, забрызганная грязью, вымокшая подъ дождемъ. Они упали тамъ, гдѣ стояли, не глядя, не боясь грязи, которая не могла ихъ уже запачкать, или стали кучками подъ воротами, или усѣлись на своихъ сумкахъ, прислонившись спиною къ стѣнѣ.
Иногда проходилъ офицеръ и, внезапно засвѣтивъ электрическій фонарь, рѣзко освѣщалъ тѣла лежавшихъ и присѣвшихъ людей.
— Гдѣ люди изъ службы связи?.. Гдѣ служба связи? Что за безсмыслица!
Прибѣжалъ фурьеръ, крича:
— Дѣло налаживается, господинъ капитанъ. Я уже нашелъ хорошее мѣсто для лошадей.
Дождь все падалъ, мелкій, холодный, вялый. Тамъ наверху между бѣлесыми домами, какъ между берегами, подобно черной водѣ, плыла ночь.
* * *
Весь домъ отъ двора до чердака горланить. Въ кухнѣ, откуда поднимается терпкій дымъ отъ свѣже срубленныхъ дровъ, дерутся изъ-за кружекъ съ питьемъ.
Взбираются по лѣстницѣ, скатываются внизъ, поютъ.
Но здѣсь въ саду спокойно. Я взялъ ведро, перевернулъ его и, лѣниво усѣвшись на него, спиной къ стѣнѣ, какъ въ кресло, замечтался. Раннее утро. День только-что окончилъ свой утренній туалетъ: трава еще вся мокрая. И небо сбрасываетъ съ себя бѣлыя облака, которыя оно раскладываетъ для просушки, какъ бѣлье.
Лѣнивымъ взоромъ, еще тяжелымъ отъ сна, я смотрю на садъ съ его обнаженными деревьями, на поднимающійся отъ земли пары, я отдыхаю, переходя отъ сна къ бодрствованію.
Мы хорошо выспались. Въ первый разъ за пятнадцать дней можно было разуться, снять поясъ, штыкъ, все это противное снаряженіе, сдавливающее тѣло. Я проснулся, какъ легъ, туго завернутый въ одѣяло, — голова въ стѣнномъ шкафу, вмѣсто матраса полъ, вмѣсто подушки мѣшокъ съ фасолью. Мнѣ снился, вѣроятно, прекрасный сонъ: крупицы его еще носились въ моемъ мозгу при пробужденіи, какъ пушинки пуховика.
Капралы, собравшись въ прачешной, дѣлятъ между собой шерстяное бѣлье для своихъ отдѣленій. Съ тѣхъ поръ, какъ стало холоднѣе, еженедѣльно получаются новые пакеты.
У изгороди Сюльфаръ, насвистывая, чиститъ ножные обмотки Жильбера, онъ нашелъ у крестьянъ столовую, гдѣ мы будемъ сообща обѣдать, и уже подумываетъ о завтракѣ. Ҍсть за столомъ, изъ тарелокъ, — это кажется мнѣ слишкомъ прекраснымъ, и я не рѣшаюсь слишкомъ вѣрить этому изъ боязни разочароваться.
— Вотъ она хорошая жизнь, — повторяетъ Сюльфаръ. Вокругъ него человѣкъ шесть иди семь счищаютъ засохшую грязь съ своихъ шинелей.
Съ очаровательной солдатской беззастѣнчивостью два товарища съ обнаженными торсами ищутъ на себѣ вшей. Веронъ держитъ бѣлье на вытянутой рукѣ и разсматриваетъ его, сдвинувъ брови, пристально, какъ художникъ, разглядывающій картину. Затѣмъ, отыскавъ насѣкомое, онъ быстро двумя большими пальцами раздавливаетъ его. Брукъ, наоборотъ, изслѣдуетъ свою рубашку, складку за складкой, уткнувшись въ нее носомъ, и охотится основательно. Отыскавъ большую вошь, онъ вскрикиваетъ:
— Вотъ еще одна, не уйдетъ она отъ меня.
Ногти Верона щелкаютъ и онъ громко считаетъ:
— Тридцать два… Тридцать три…
— Двадцать семь… двадцать восемь, — спокойно вторитъ сѣверянинъ Брукъ.
Я слышу, какъ Фуйяръ кричитъ въ своей берлогѣ, и вотъ онъ самъ показался въ дверяхъ съ обнаженными, черными отъ сажи и лоснящимися отъ жира, руками; на немъ, отъ его расшнурованныхъ башмаковъ до всклокоченныхъ волосъ, при всемъ желаніи, нельзя было бы найти мѣсто, которое можно было бы запачкать. Кожа его, бѣлье, панталоны — все сѣро, запачкано, забрызгано жиромъ.
Минуту онъ строго смотритъ на насъ, недовѣрчиво рыщетъ глазами по саду и кричитъ:
— Что за свинья стащила мое ведро?
Первымъ движеніемъ моимъ было встать и отдать ему ведро. Но нѣтъ, право, я слишкомъ хорошо устроился. Я чувствую себя еще удобнѣе, сидя на ведрѣ, когда захотѣли отнятъ его у меня. Блаженное состояніе сковываетъ меня.
— Не могу же я пойти за водой безъ ведра, не въ башмакахъ же своихъ я ее понесу, — оретъ кашеваръ.
О, нѣтъ, конечно, посовѣтовать это ему нельзя. Однако, я лицемѣрно сжимаю колѣни, чтобы скрыть, на чемъ я сижу, и невинно смотрю на расходившагося Фуйяра, который вопить въ безсильной ярости.
— Коровы!.. Наплевать мнѣ въ концѣ-концовъ. Брошу всю вашу кухонную стряпню, пусть кто хочетъ записывается на мое мѣсто.
Всѣ одѣты по-разному, нѣть даже двухъ сходныхъ обмундированій. Кромѣ послѣднихъ прибывшихъ, насъ обмундировали кое-какъ, благодаря общей неурядицѣ перваго мѣсяца войны, а затѣмъ каждый устраивался какъ могъ. Шинели были всѣхъ оттѣнковъ, всевозможныхъ фасоновъ, разныхъ сроковъ. На высокихъ были слишкомъ короткія, на малорослыхъ слишкомъ длинныя. Тѣ, кто получили новыя шинели небесно-голубого цвѣта, строятъ изъ себя фатовъ. Можно было подумать, что они будутъ воевать въ праздничныхъ нарядахъ. Товарищи смотрятъ на нихъ съ дѣланной ироніей.
И Сюльфаръ, который смотритъ на этихъ франтовъ очарованнымъ взоромъ, мечтаетъ уже, какъ онъ передѣлаетъ свою старую шинель.
— Сдѣлаю себѣ съ каждой стороны по два большихъ кармана, устрою себѣ стоячій воротникъ… Увидишь, у меня не будетъ ни одной складки.
Капитанъ Крюше, обладавшій тонкимъ слухомъ, обернулся, поджавъ губы.
— Молчать! Кто это говорилъ?.. Была команда смирно. Слѣдите за своими людьми, Морашъ.
Рикордо, ожидающій нашивокъ сержанта, хмуритъ брови, глядя на насъ, чтобы подумали, что онъ пользуется авторитетомъ. Сюльфаръ замеръ неподвижно, но Жильберъ, стоящій за нимъ, съеживается, чтобы его не замѣтили.
Всѣ молчатъ. Капитанъ, удовлетворенный, продолжаетъ смотръ. По мѣрѣ его приближенія тѣла выпрямляются, какъ подъ дѣйствіемъ пружины; лѣвыя руки осмысленно вперяются въ пространство, которое теоретически должно равняться пятнадцати шагамъ. Худой, на длинныхъ ногахъ, съ продолговатымъ лицомъ, окаймленнымъ короткими, черными бакенбардами, капитанъ Крюше производить внушительное впечатлѣніе своимъ естественно строгимъ видомъ. Озабоченно сдвинувъ брови, онъ, не спѣша, проходитъ по рядамъ, всматриваясь въ каждаго человѣка такъ, какъ будто онъ видитъ его въ первый разъ.
— Снимите шапку.
Товарищъ, весь красный, неловко снимаетъ кепи.
— Та! та! та! та! Слишкомъ длинно, грязно. Вы должны подрѣзать эти волосы… Запишите его фамилію, Морашъ.
Воспользовавшись тѣмъ, что онъ повернулся къ нимъ спиной, нѣкоторые товарищи поспѣшно, украдкой снимаютъ кепи и, поплевавъ на руки, стараются изо всѣхъ силъ пригладить упрямые волосы. Къ несчастью, капитанъ интересуется не только волосами. Онъ все замѣчаетъ: недостающую пуговицу, пятно ржавчины на винтовкѣ, плохо начищенные башмаки, грязь на патронной сумкѣ; и ледянымъ голосомъ спрашиваетъ:
— Гдѣ вы такъ запачкались?
Какой странный вопросъ…
Пробравъ Бреваля, у котораго патронная сумка держится на веревкахъ, онъ останавливается передъ Сюльфаромъ. Тотъ вытянулся, сдвинувъ каблуки, устремивъ впередъ, неподвижный взглядъ. Капитанъ съ минуту осматриваетъ его.
— Хорошъ, — насмѣшливо говоритъ онъ.
Сюльфаръ не шевельнулся, не опустилъ даже глазъ. Сосѣди, сдерживая улыбки, искоса поглядываютъ на него.
— Вы считаете себя неотразимымъ со своимъ поломаннымъ козырькомъ, въ этой хулиганской каскеткѣ, та… та… Хотите понравиться дѣвицамъ? Хорошъ былъ бы вкусъ у нихъ.
Радость товарищей прорывается подобострастнымъ тихимъ смѣшкомъ.
Сюльфаръ все не шевелится, вытянувъ лѣвую руку, закинувъ голову.
— А эти волосы! Честное слово, онъ не стригся съ самаго начала войны… Брюки разорваны, та… та… грязь на башмакахъ… Плохо одѣтъ, очень плохо одѣтъ. Запишите его фамилію, Морашъ, четыре дня ареста… И пусть его остригутъ, та… та… хорошенько.
Сюльфаръ невозмутимъ. Онъ не дрогнулъ бровью, не шелохнулся. Ахъ! Эти побѣдители на Марнѣ…
Мы думали, что смотръ оконченъ и отъ нетерпѣнія у насъ дрожали колѣни, какъ вдругъ капитанъ скомандовалъ:
— Сумки на землю!
Я такъ и зналъ! Начинается осмотръ запасныхъ съѣстныхъ припасовъ.
Стоя на колѣняхъ передъ разстегнутой сумкой, приходится все разобрать, все перепутать, все вытащить, чтобы отыскать кубики соленаго бульона, раздавленные подъ рубашками, или пакетъ съ кофе, которое разсыпалось по носкамъ и пачкаетъ бѣлье.
Вынимаютъ всѣ, стоя на колѣняхъ, охваченные злобой.
— Думаетъ, что слопаютъ всѣ его бисквиты, — ворчитъ Веронъ.
Раскладываютъ все свое имущество: патроны, сахаръ, консервы изъ обезьяньяго мяса. Такъ трудно было уложить все въ сумку, и теперь надо опустошить ее до дна. Товарищи на четверенькахъ встревоженно считаютъ и пересчитываютъ свои патроны.
— Чортъ возьми, у меня не хватаетъ… Нѣтъ ли у тебя лишнихъ?
Все наше имущество заключается въ этой кучкѣ тряпья и консервовъ, которую капитанъ ворошитъ концомъ своей палки, считая патроны.
Онъ быстро проходитъ по рядамъ, затѣмъ становится лицомъ къ нашему взводу и спрашиваетъ:
— Не хочетъ ли кто-нибудь быть кашеваромъ? Кашеваръ пятаго отдѣленія отставленъ. Кто хочетъ занять его мѣсто?
Тотчасъ же всѣ сразу взглянули на Буффіу. Двѣсти человѣческихъ головъ съ оживившимися лицами повернулись къ нему, предвкушая возможность посмѣяться. Торговецъ лошадьми весь покраснѣлъ, но все-таки крикнулъ:
— Я!
— Вы умѣете стряпать? — спросилъ его Крюше.
— Я былъ поваромъ по профессіи, господинъ капитанъ.
Тутъ вся рота прыснула со смѣху. Брукъ, согнувшись вдвое, задыхался.
Не могли удержаться даже сержанты, стоявшіе смирно, и Крюше, недовольный, долженъ былъ скомандовать:
— Вольно! Разойдись!
V КАНУНЪ БОЯ
— Шесть часовъ, а обѣда еще нѣтъ… Ну, это все-таки слишкомъ!
Сюльфаръ не можетъ усидѣть на мѣстѣ. Вынувъ свою кружку и котелокъ, онъ становится у входа въ ту часть окопа, которая занята зуавами, откуда должны появиться кашевары со своими помощниками.
Но никто его не слушаетъ, никто его не поддерживаетъ. Одни читаютъ, другіе спятъ въ своихъ землянкахъ, маленькій Беленъ пришиваетъ пуговицы въ своей шинели телефонной проволокой. Гамель жуетъ табакъ. Это всеобщее безразличіе возмущаетъ Сюльфара. Онъ пожимаетъ плечами и отводитъ душу, отбросивъ ногой валяющійся котелокъ и насмѣшливо ворча:
— Получимъ мы… да… Получимъ чечевицу съ пескомъ и макароны въ холодной водѣ. А тѣмъ временемъ кашевары обжираются со всѣми остальными скотами.
Я знаю Сюльфара и его крайнія мнѣнія: „остальные скоты“ — это всѣ тѣ, кто не попадаетъ въ окопы, безъ различія пола, званія, чина.
Затѣмъ онъ развиваетъ планъ реформъ военнаго быта, въ которомъ особенно подчеркивается, что всѣ солдаты по очереди должны занимать должность кашевара. Но тѣ, кто еще не чувствуетъ голода, ни словомъ не поддерживаютъ его: Бреваль пишетъ, Брукъ храпитъ, Веронъ насвистываетъ.
Тогда, окончательно обезкураженный, Сюльфаръ умолкаетъ, вынимаетъ ножъ и начинаетъ соскабливать засохшую дрязь съ своихъ башмаковъ.
Въ этотъ моментъ знакомый шумъ заставляетъ его поднять голову.
— Вотъ они!.. На обѣдъ, ребята!
Дѣйствительно, появляется кухонная команда съ кастрюлями и бидонами.
Во главѣ идетъ Буффіу, неся на шеѣ, какъ четки, нанизанныя на веревку буханки хлѣба, держа въ одной рукѣ второе обѣденное блюдо, а въ другой бидонъ, куда вошло, навѣрное, литровъ пять вина.
Мы прислоняемся къ перегородкамъ или входимъ въ свои земляныя дыры, чтобы пропустить кухонную команду, затѣмъ мы обступаемъ нашего кашевара и его помощника, которые опускаютъ на землю свою ношу.
Жадно пріоткрываютъ крышки.
— Что хорошаго пожевать?
Всѣ разомъ забрасываютъ вопросами Буффіу, который отираетъ потъ.
Буффіу и его помощникъ отвѣчаютъ важно, краткими словами, съ какимъ-то страннымъ видомъ на который я сейчасъ же обратилъ вниманіе.
— Сегодня мясные консервы, — сообщаетъ Буффіу, — другого мяса не дали. Я приготовилъ рисъ съ шоколадомъ, это, должно быть, превкусно…
— Вина хватить… Письма у него.
Но все это онъ говоритъ неестественнымъ тономъ, съ озабоченнымъ видомъ, такъ что, наконецъ, и Веронъ замѣчаетъ это.
— Что вы корчите такія странныя рожи, — добродушно говоритъ онъ имъ… — Что случилось?
Буффіу киваетъ головой, и его толстое лицо, такое лоснящееся, что я долго подозрѣвали, не моется ли онъ кускомъ сала, силится принять озабоченное выраженіе.
— Радоваться нечему, — говорить онъ какъ бы съ сожалѣніемъ… Послѣзавтра вы наступаете.
Короткое молчаніе, сердце застучало: тукъ-тукъ. Нѣкоторые сразу поблѣднѣли; неуловимыя подергиванія: дрогнувшія вѣки, сморщенные носы.
Кашевары смотрятъ на насъ, кивая головой. Мы глядимъ на нихъ, страстно желая не вѣрить ихъ словамъ. Затѣмъ всѣ сразу обступаютъ ихъ и засыпаютъ вопросами.
— Ты увѣренъ? Но, вѣдь, насъ должны были смѣнить завтра… Это невозможно, это утка… Кто тебѣ сказалъ?
Буффіу, увѣренный въ достовѣрности своихъ новостей, просто поворачивается къ своему помощнику.
— Развѣ это неправда?
Тотъ подтверждаетъ огорченнымъ тономъ:
— Не стали бы мы мутить вамъ голову такой выдумкой. Это вполнѣ вѣрно и точно.
Брукъ проснулся и вышелъ изъ своей норы. Сюльфаръ поставилъ котелокъ, въ которомъ собирался подогрѣть мясные консервы для Жильбера, а Бреваль сложилъ письмо, которое онъ читалъ. Мы тревожно слушаемъ.
— Фимъ, — объясняетъ Буффіу, — переполненъ войсками, цѣлая марокканская дивизія собралась въ окрестностяхъ… Дивизіонные санитары прибыли въ Жоншери, ихъ привезли на грузовикахъ… Говорятъ, что изъ Лотарингіи долженъ прибыть второй корпусъ… И затѣмъ артиллерія, осадныя орудія, если бы вы только видѣли…
Безсвязными словами намѣчаютъ они цѣлую армію: кавалерію, летчиковъ, зуавовъ, саперовъ. Все предусмотрѣно: санитары, чтобы подбирать насъ, и священники, чтобы служить панихиды.
Я на мгновеніе растерялся, улыбка застыла у меня на губахъ, какъ праздничный флагъ 14-го іюля, который забыли снять. — „Нѣтъ, опять придется строить изъ себя сумасшедшихъ на равнинѣ? Однако…“
И улыбка сама собою сошла съ моего лица.
Товарищи тоже не смѣются: стоитъ имъ повернуть голову, чтобы увидѣть сквозь амбразуру трупы участниковъ послѣдняго наступленія, распростертые въ высокой травѣ. Никто не вынимаетъ медальона, не цѣлуетъ его украдкой, какъ разсказываютъ въ сказкахъ, никто не восклицаетъ: „Наконецъ-то, мы выйдемъ изъ нашихъ норъ“. — Историческія слова произноситъ Сюльфаръ, просто, самъ не эная, къ кому это должно относиться: — „А, чтобъ васъ“!..
Молча мы слушаемъ кашеваровъ, которые разглагольствують, перебивая другъ друга. Они распредѣляютъ войска, устанавливаютъ артиллерію, обезпечиваютъ подвозъ провіанта, изучаютъ прибытіе подкрѣпленій… Они говорятъ, говорятъ…
Они сообщаютъ столько подробностей, что легкое сомнѣніе начинаетъ охватывать меня. Сколько разъ слышалъ я эти кухонныя сплетни, которыя кашевары узнаютъ въ тылу и съ довѣрчивостью дикарей переносятъ ихъ по вечерамъ къ намъ въ окопы вмѣстѣ съ супомъ и съ рисомъ.
Утромъ при распредѣленіи провизіи они дѣлятся новостями таинственнаго происхожденія: то, что самокатчикъ казначея плохо понялъ и перевралъ, что телефонистъ будто бы услышалъ, что бригадный вѣстовой передалъ кучеру полковника — все это собираютъ, обсуждаютъ, предполагаютъ, дѣлаютъ выводы и выдумываютъ немного, чтобы выходило лучше. Такъ создаются кухонныя новости. А вечеромъ въ окопахъ узнаютъ, что полкъ отправляется въ Марокко, что кронпринцъ умеръ, что Жоффръ зарубилъ шашкой Саррайля, что насъ отправляютъ на отдыхъ въ Парижъ, что папа настоялъ на мирѣ.
Всѣ эти разсказы, всѣ эти басни приходятъ мнѣ на память, и мало-по-малу во мнѣ зарождается недовѣріе.
Я слушаю нѣкоторое время Буффіу, который теперь обсуждаетъ наступленіе съ точки зрѣнія чисто стратегической, и затѣмъ вѣжливо, не желая обидѣть его, спрашиваю:
— Скажи, старикъ, увѣренъ ты въ этомъ? Не кухонный ли это слухъ?
Лошадиный барышникъ, весь потный, сразу замолчалъ, слова замерли у него на губахъ, видь у него былъ изумленный. Я его, повидимому, задѣлъ. Секунды двѣ онъ стоитъ съ раскрытымъ ртомъ, слишкомъ возмущенный, чтобы отвѣчать. Затѣмъ онъ весь краснѣетъ, вотъ-вотъ онъ разразится…
Но нѣтъ, онъ сдержалъ себя. Онъ просто презрительно опускаетъ нижнюю губу, наклоняется, поднимаетъ кастрюлю и заявляетъ съ достоинствомъ оскорбленнаго апостола:
— Хорошо, пусть будетъ такъ, я вамъ только морочилъ голову. Только послѣзавтра вы увидите сами.
Онъ хочетъ отстранить товарищей, чтобы уйти, но они тѣсно обступаютъ его и, чтобы удержать, трусливо нападаютъ на меня.
— Не слушай его… Скажи… Правда, что третій батальонъ останется въ резервѣ?… Почему онъ, а не другой… Откуда начнется наступленіе?…
Они удерживаютъ его обѣими руками, и по добротѣ душевной онъ соглашается подѣлиться остатками своихъ новостей, не обращая на меня вниманія.
Я не обижаюсь, отхожу въ сторону и становлюсь на четвереньки, какъ будто собираясь просить прощенія. Но нѣть, я не унижу своего мундира. Я просовываю голову въ мою нишу и ощупью ищу коробку консервовъ въ сумкѣ. Достаю спиртовую машинку, котелокъ, наполненный грязной водой, которую я берегу со вчерашнаго утра, и, умѣстившись на мѣшкѣ, набитомъ землей, приготовляю себѣ пищу.
Склонившись надъ голубымъ пламенемъ, я нарочно принимаю занятой видъ, но исподтишка прислушиваюсь къ словамъ лошадинаго торговца, который продолжаетъ разглагольствовать. Чтобы уязвить меня, онъ вспоминаетъ забытыя подробности, новыя точныя детали, каждой изъ которыхъ было бы достаточно, чтобы смутить меня, и, какъ припѣвъ, повторяетъ:
— Это, можетъ быть, тоже утка…
Такая увѣренность, въ концѣ-концовъ, заставляетъ меня колебаться.
А что если это правда, — они, повидимому, не шутятъ. Склонивъ голову надъ начинавшимъ шумѣть котелкомъ, я исподтишка наблюдаю за ними. Все отдѣленіе, взволнованное, сгруппировалось вокругъ нихъ. Одинъ только Демаши спокоенъ и слушаетъ, какъ они кричать, со своей обычной насмѣшливой, немного горькой улыбкой, улыбкой избалованнаго ребенка, которому ничто уже не нравится.
Увидѣвъ, что я начинаю ѣсть, товарищи вспоминаютъ, что ихъ ждетъ супъ.
— Остынетъ, — замѣчаетъ Брукъ.
И онъ наполняетъ свой котелокъ, еще жирный отъ предыдущаго блюда.
За нимъ каждый добросовѣстно наливаетъ себѣ. Нѣкоторое время слышно только, какъ они хлебаютъ, уткнувъ голову въ котелокъ, какъ извощичья лошадь въ подвязанную торбу.
— Ничего, хорошій сюрпризъ онъ вамъ поднесъ, — издѣвается Гамель, напичкавъ ротъ рисомъ съ шоколадомъ.
— Не изощряйся, — отвѣчаетъ ему Фуйяръ, у котораго рѣденькая бородка залита суповымъ жиромъ. — Я такъ и думалъ, что намъ придется наступать.
— Ну, что жъ, наступать, такъ наступать, — восклицаетъ Жильберъ. — Не всѣ пули убиваютъ.
Сидя на корточкахъ въ своей норѣ, какъ въ шкапу, малышъ Беленъ поддакиваетъ ему:
— Боши тоже сдѣланы изъ мяса и костей. Не стоить портить себѣ кровь раньше времени.
Теперь новость извѣстна всему окопу; съ котелками въ рукахъ стоять, бесѣдуютъ, и слухи передаются изъ отдѣленія въ отдѣленіе. Говорятъ, что сегодня ночью должны прибыть саперы, чтобы приготовить лѣстницы для наступленія. Должны установить небольшія пушки и бомбометательныя орудія. Первая рота назначена въ патруль.
Подъ вліяніемъ всего этого я начинаю колебаться и все-таки, угощая Жильбера сыромъ, я стараюсь убѣдить его, что наступленія не будетъ.
Послѣ обѣда расходятся по окопу, какъ по деревенской улицѣ. Разговариваютъ, спорятъ, нервничаютъ. Кто-то окликаетъ меня:
— Жакъ!
Это Буланъ, одинъ изъ самокатчиковъ полковника.
— Ну, какъ?
— Это правда; наступленіе будетъ… Я только-что получилъ двѣ тысячи сигаръ отъ завѣдующаго хозяйствомъ.
Я встрепенулся. Какъ… сигары, сигары съ этикеткой? На этотъ разъ я убѣжденъ, — несомнѣнно, мы будемъ наступать.
Гамель, умъ котораго не приспособленъ къ тонкимъ выводамъ, тоже не заблуждается.
— Онъ былъ правъ все-таки, продажная душа, — вздыхаетъ онъ.
Затѣмъ, ибо мудрецъ долженъ даже въ худшемъ находить только хорошее, онъ добавляетъ:
— Ты, вѣдь, не куришь, такъ дай мнѣ свою сигару! Буду считать ее за тобой.
Разсѣянно, съ тяжестью въ сердцѣ, подхожу я къ товарищамъ.
Веронъ, взобравшись на подставку для стрѣльбы, смотритъ въ амбразуру на печальное огромное поле, усѣянное ямами отъ снарядовъ, каждая изъ которыхъ послужила однимъ изъ препятствій, пріостановившихъ послѣднее наступленіе. Можно сосчитать убитыхъ, разбросанныхъ по желтой травѣ. Они упали, какъ стрѣляли, лицомъ впередъ; нѣкоторые, упавшіе на колѣни, казалось, готовы еще вскочить. Вотъ одинъ прислонился спиною къ небольшому стогу сѣна и скорченными руками держится за разстегнутую шинель, какъ будто показывая намъ дыру отъ пронзившей его пули. Веронъ долго, задумчиво, неподвижно смотритъ на нихъ и шепчетъ:
— Такъ придется идти на подкрѣпленіе товарищамъ, которые лежатъ тамъ, передъ нами…
* * *
Такъ какъ я долженъ дежурить во второй очереди, то я вхожу въ землянку, чтобы отдохнуть немного. Бреваль уже тамъ; онъ пишетъ. Вытянувшись на сложенной палаткѣ, закинувъ руки за голову, Жильберъ грезитъ. Я устраиваюсь въ своемъ углу, подкладываю подсумокъ подъ голову и вытягиваюсь. Слышно только наше ровное дыханіе и надъ бревнами потолка острый мышиный пискъ.
Вскорѣ возвращаются товарищи, спасаясь отъ вечерняго холода въ окопахъ. Зажигается другая свѣча, и, присѣвъ на корточки вокругъ нея, они начинаютъ играть въ карты. Но скоро бросаютъ; въ этотъ вечеръ сердце не лежитъ къ игрѣ.
— Я такъ и думалъ, что будетъ наступленіе, — заговорилъ первый Лемуанъ.
Лихорадочное настроеніе у нихъ улеглось; теперь они говорятъ о наступленіи съ покорностью, почти съ безразличіемъ.
— Чего тамъ! Выбьемъ ихъ изъ лѣсу, — восклицаетъ Брукъ, который чудомъ не спитъ еще. — Бывало и хуже…
Бреваль запечаталъ письмо. При свѣтѣ свѣчи я вижу, какъ худой подбородокъ его вздрагиваетъ.
— Если бы только послѣ этого насъ отпустили домой, — вздыхаетъ онъ. — Домой! вернуться къ себѣ!.. — Лица у всѣхъ внезапно озарились, на губахъ показалась улыбка.
— Скажи, пожалуйста, Лемуанъ, — спрашиваетъ Сюльфаръ, — предположимъ, тебѣ говорятъ: можете идти домой, только вы должны всю дорогу пятиться назадъ, въ полной аммуниціи, да кромѣ того, съ толстымъ бревномъ на спинѣ и безъ башмаковъ, — ты пойдешь?
— Конечно, пойду, — безъ колебанія соглашается Лемуанъ. — А ты, если бы тебѣ сказали: война для тебя будетъ кончена, только ты не будешь имѣть права пить ни вина, ни водки до самой смерти? Что ты на это отвѣтилъ, бы?
Сюльфаръ раздумываетъ минуту, смутная борьба происходитъ въ его душѣ.
— Гмъ… Я могъ бы все-таки пить сидръ, не правда ли?.. И потомъ это не помѣшало бы мнѣ иногда хватить глотокъ рому. Я согласился бы.
И вотъ они пустились въ безсмысленныя предположенія, нелѣпыя гипотезы, о которыхъ они говорятъ часами, убаюканные сказочными надеждами. Они выдумываютъ невозможный торгъ, поразительныя условія, которыя будто бы генералъ лично предлагаетъ имъ за ихъ освобожденіе. И какъ бы чудовищны ни были эти условія, они всегда соглашаются.
Отъ предположенія къ предположенію они доходятъ до того, что предлагаютъ за свое освобожденіе какой-нибудь членъ тѣла, пожертвовать частью, чтобы спасти остальное. Каждый выбираетъ себѣ рану: глазъ, руку, ногу.
— Я, — сказалъ почесываясь Брукъ, — отдалъ бы лѣвую ногу… Для работы она мнѣ не нужна… И лучше вернуться съ одной ногой, чѣмъ совсѣмъ не вернуться.
— Я предпочелъ бы, чтобы мнѣ прострѣлили глазъ, — сказалъ Фуйяръ. — Во первыхъ, зачѣмъ намъ два глаза? Однимъ такъ же хорошо видно… Даже лучше, — доказательство то, что прикрываютъ одинъ глазъ, чтобы лучше разглядѣть.
Они разсуждаютъ основательно, вдумчиво, каждый отстаиваетъ свои доводы, и на словахъ они съ готовностью вырѣзываютъ куски своего живого мяса, спокойно торгуютъ частями своего тѣла, заботливо отыскивая наиболѣе подходящія мѣста.
— Нѣтъ, глаза нельзя трогать, — заявляетъ Сюльфаръ, у котораго свои принципы. — Самое лучшее это немного покалѣчить ногу.
Упрямый Брукъ не соглашается.
— Лучше всего лишиться одной ноги.
— А я, — говоритъ Гамель, — не отдамъ имъ ни ноги, ни руки, ничего… И пусть лучше бошъ и не суется ко мнѣ, а то я ему проткну животъ, какъ тому подъ Курси.
Они умолкаютъ и задумываются. Не видится ли имъ уже, какъ они бѣгутъ по полю, вобравъ голову въ плечи, согнувъ спину подъ градомъ смертоносныхъ свистящихъ пуль?
Мнѣ не хочется ложиться спать: я едва успѣю сомкнуть глаза. Я беру мѣшокъ изъ-подъ картофеля и всовываю въ него ноги, чтобы не было холодно. Затѣмъ, натянувъ одѣяло до глазъ, засунувъ руки подъ мышки, я задумчиво смотрю на гаснущее пламя свѣчи.
Остальные поговорили еще минуту и затѣмъ замолчали. Теперь они спятъ. Опершись на локоть, я смотрю на нихъ; ихъ едва видно, я скорѣе угадываю, гдѣ они. Они спятъ безъ тяжелыхъ сновидѣній, какъ въ прошлыя ночи. Дыханіе ихъ смѣшивается; тяжелая одышка маневровъ, хрипѣніе больныхъ, равномѣрные вздохи, какъ у дѣтей. Затѣмъ мнѣ кажется, что я уже не слышу ихъ дыханія, что оно поглощено черной мглой. Какъ будто они умерли… Нѣтъ, я не могу видѣть, какъ они спятъ. Тяжелый сонъ, объявшій ихъ, слишкомъ похожъ на иной сонъ. Такіе вытянутыя или сведенныя судорогой лица землистаго цвѣта я видѣлъ вокругъ окоповъ, и тѣла въ такой же позѣ спятъ вѣчнымъ сномъ на голыхъ поляхъ. Темное одѣяло натянуто на нихъ, какъ въ тотъ день, когда двое товарищей понесутъ ихъ вытянувшіеся трупы. Мертвецы, всѣ они мертвецы… И я не рѣшаюсь уснуть, чтобы не умереть, какъ они.
Внезапно Бреваль просыпается съ дикимъ крикомъ и испуганно поднимается. Минуту онъ сидитъ, опершись на вытянутыя руки, еще не очнувшись отъ тяжелаго сна. Онъ силится засмѣяться.
— Я не шучу, мнѣ снилось, что боши…
Кто-то ворчитъ. Остальные не проснулись.
— Что же никто не погасилъ свѣчу? Наплевать, пусть горитъ…
Онъ ложится, съеживается, снова засыпаетъ. Свѣча послѣдней вспышкой освѣщаетъ вдругъ землянку… Все погрузилось въ темноту… Я имъ завидую теперь. Такъ хорошо здѣсь подъ прикрытіемъ, ногамъ тепло, все тѣло отдыхаетъ. Заснуть?.. Послѣзавтра? Ба! это еще далеко…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Кто-то отодвинулъ край палатки:
— Жакъ… Фуйяръ… Пора.
Уже!.. Я расталкиваю Фуйяра, онъ ворчитъ, мы ощупью отыскиваемъ ружья. Выходимъ. Какъ холодно! Товарищъ, разбудившій меня, съ головой, укутанной одѣяломъ, лязгаетъ зубами.
— Ничего новаго?
— Нѣтъ… Долженъ выйти патруль… Спокойной ночи.
Ничего не видно; въ окопѣ темно, едва видны дремлющіе караульные. Я просовываю ружье въ амбразуру. Три часа предстоитъ мнѣ провести здѣсь… Поверхъ насыпи не видно въ десяти шагахъ. Взглядъ проникаетъ въ темноту до спутанной проволочной сѣти, гдѣ качаются колья, и дальше ничего не видитъ. Я тупо гляжу и ничего не разбираю. Я вглядываюсь въ ночь, и мнѣ холодно. Какъ будто ледяной вѣтеръ скользитъ по моимъ рукамъ и пронизываетъ меня. Тогда я начинаю танцовать, переступая съ ноги на ногу, крѣпко сжимая одѣяло.
Изъ землянокъ доносится дыханіе спящихъ; кажется, что окопы стонутъ, какъ больной ребенокъ. Я коченѣю и снова начинаю танцовать, какъ медвѣдь, передъ черной амбразурой, не думая ни о чемъ, считая только минуты. Караульные, носъ къ носу, болтая, тяжело скачутъ со скрещенными руками или отбиваютъ тактъ ногой. Отъ этого мѣрнаго шума ночь оживаетъ. Подъ ударами подбитыхъ гвоздями башмаковъ гулко звучитъ растрескавшаяся земля. Весь окопъ танцуетъ въ эту ночь. Весь полкъ танцуетъ наканунѣ боя, вся армія должна танцовать, вся Франція танцуетъ отъ моря до Вогезъ… Какое прекрасное сообщеніе можетъ дать генеральный штабъ завтра!
Я усталъ и пересталъ танцовать. Опершись на парапетъ, я отдаюсь неяснымъ думамъ… Затѣмъ, голова моя вдругъ падаетъ, и я выпрямляюсь… Это глупо, я едва не заснулъ. Я смотрю на часы на рукѣ, остается еще два часа. Я не выдержу до полуночи, никакъ не выдержу. Я съ завистью прислушиваюсь къ храпу товарища, уткнувшагося въ свою нору. Если бы можно было лечь около него, на теплую солому, положить голову на мѣшокъ съ землей и заснуть… При мысли объ этомъ глаза мои сладостно слипаются…
Нѣтъ, шутки въ сторону… Я встряхиваюсь и пытаюсь смотрѣть въ черную дыру амбразуры; все еще ничего не видно. И притомъ слишкомъ спокойно, ни одного снаряда; можно подумать, что боши ушли.
Тукъ! раздается сухой ружейный трескъ съ нѣмецкихъ позицій. Затѣмъ вскорѣ другой… Люди, задумчиво стоявшіе въ амбразурахъ, выпрямились. Мы тревожно слушаемъ. Проходитъ минута, затѣмъ раздается нѣсколько безпорядочныхъ ружейныхъ выстрѣловъ и стрѣльба усиливается.
Они обстрѣливаютъ патруль!
Вся передовая германская линія противъ насъ стрѣляетъ: пули свистятъ, проносясь очень низко надъ окопомъ и нѣкоторыя ударяются о насыпь, какъ удары хлыста. Среди шума ружейныхъ выстрѣловъ выдѣляется несносное равномѣрное потрескиваніе пулемета. Взвилась зеленая ракета, нѣмцы даютъ сигналъ артиллеріи. Мы ждемъ, согнувшись ниже, за амбразурами.
Раздалось пять пушечныхъ выстрѣловъ, вспыхнули красные снопы свѣта, разорвались шрапнели. Внезапный отблескъ освѣтилъ согнувшіяся спины и втянутыя въ плечи головы. По полю разсыпались, взрываясь, снаряды. Нѣсколько минутъ грохота, затѣмъ безпричинно все смолкло; орудія успокоились, стрѣльба прекратилась.
— Передавайте дальше, не стрѣляйте… Тамъ патруль, — раздается команда.
— Передавайте дальше, не стрѣляйте, — команда передается дальше.
Мы слѣдимъ, прислушиваемся… крахъ! Въ нѣсколькихъ шагахъ кто-то выстрѣлилъ. Да онъ съ ума сошелъ? Кракъ! Еще одинъ выстрѣлъ…
— Не стрѣляйте, чортъ возьми, — кричитъ сержантъ Бертье, вышедшій изъ своей землянки. — Это патруль возвращается.
Человѣкъ прыгаетъ въ окопъ.
— Есть раненые?
— Не знаю… Они услышали, какъ мы перекликаемся…
Остальные спускаются въ окопъ. Видна темная кучка медленно приближающихся людей.
— Не стрѣляйте. Раненый.
Имъ протягиваютъ руки черезъ насыпь. Съ трудомъ они спускаютъ своего товарища. Онъ стонетъ, стоитъ, согнувшись вдвое, какъ сломанный пополамъ, — онъ раненъ въ поясницу.
— Другого мы оставили у ручья… Пуля въ голову. А говорили, что ихъ пулеметъ стрѣляетъ по низу.
— Всѣ вернулись, вниманіе, — передаетъ Бертье.
— Всѣ вернулись, — повторяютъ караульные.
Въ землянкѣ за мной разсуждаютъ:
— По этому патрулю они могутъ догадаться, что затѣваютъ что-то… Опять влопаемся… А почему третій батальонъ не наступаетъ?…
Я едва прислушиваюсь, я отупѣлъ. Еще часъ съ четвертью… Буду считать до тысячи, такъ пройдетъ четверть часа Затѣмъ мнѣ останется протянуть часъ.
Но эта нелѣпая сводка цифръ усыпляетъ меня. Чтобы не заснуть, буду думать о наступленіи, о безумной скачкѣ по полю, о цѣпи людей, распадающейся звено за звеномъ; я хочу напугать самого себя. Но нѣтъ, не могу. Отяжелѣвшая голова не повинуется мнѣ.
Неясныя думы и видѣнія проносятся въ моемъ усталомъ мозгу. Война… Я вижу развалины, грязь, ряды замученныхъ людей, кабачки, въ которыхъ дерутся изъ-за вина, жандармовъ, выслѣживающихъ отставшихъ солдатъ, стволы снесенныхъ деревьевъ и деревянные кресты, кресты, кресты…
Все это проносится, смѣшивается, сливается. Война…
Мнѣ кажется, что эта ужасы, эта скорбь затмятъ всю мою жизнь, что моя запятнанная память никогда не найдетъ забвенія. Я никогда уже не смогу взглянуть на прекрасное дерево, не вычисляя мысленно, сколько будетъ вѣсить вырубленная изъ него балка, не смогу увидѣть косогора, не вспоминая спуска въ окопъ, невоздѣланнаго поля, не отыскивая на немъ труповъ. Когда въ саду сверкнетъ красный огонекъ сигары, я закричу, можетъ быть: — „Эхъ, дубина! подведетъ онъ насъ подъ выстрѣлы!..“ Какимъ надоѣдливымъ старикомъ буду я со своими разсказами о войнѣ.
Но буду ли я когда-нибудь старикомъ? Неизвѣстно… Послѣзавтра… Какъ они храпятъ, счастливцы! Теперь я завидую только тѣмъ, у кого, гдѣ бы то ни было, есть охапка соломы, одѣяло. Уснуть… Какъ холодно… И темно… Зачѣмъ мы всѣ здѣсь?.. Это глупо. Это грустно. Голова моя склоняется, падаетъ… Я боюсь уснуть… Я сплю…
VI МЕЛЬНИЦА БЕЗЪ КРЫЛЬЕВЪ
Я нашелъ ферму въ такомъ же видѣ, какъ мы оставили ее въ воскресенье, передъ наступленіемъ. Казалось, что четыре роты только-что вышли, направляясь въ окопы, и большой скачущій песъ, казалось, бѣжалъ за отставшимъ солдатомъ. Ничто не сдвинулось съ мѣста.
Вотъ по этой грязной дорогѣ ушли мы. Сколько человѣкъ вернулось обратно? О, нѣтъ! не будемъ считать.
Я вхожу въ просторную столовую, пропахшую супомъ, и сажусь у окна, на мой стулъ. Вотъ моя кружка, моя деревянная обувь, моя бутылочка чернилъ. Такъ пріятно найти свои вещи, всѣ эти привычныя бездѣлушки, которыя можно было бы никогда не увидѣть!
Счастье еще ждетъ меня; жизнь продолжается съ новыми вспышками надежды. Въ сердцѣ моемъ какая-то затаенная, терпкая радость. Я вижу солнце, слышу журчанье воды, и сердце мое спокойно, — сердце, которому пришлось такъ часто и сильно биться.
Какъ человѣкъ холоденъ и безучастенъ, несмотря на всѣ громкіе разговоры о состраданіи, — какимъ легкимъ кажется ему чужое страданіе, если одновременно и онъ самъ не страдаетъ. Я разсѣянно оглядываюсь кругомъ. Случайныя пули оставили какъ бы бѣлые рубцы на сѣрыхъ камняхъ конюшенной стѣны… Какъ, тамъ еще не кончено? Опять пушки. Кто насъ смѣнилъ? 148-й полкъ. Бѣдные ребята.
Какой гамъ стоялъ во дворѣ фермы въ воскресенье, когда раздавали вино, по кружкѣ на двоихъ, и сигары, прекрасныя сигары съ этикеткой, въ десять сантимовъ штука. Право, хорошо поѣли мы въ этотъ день.
— Если боши вскроютъ меня, они найдутъ у меня въ буфетѣ кое-что, — сказалъ длинный Веронъ, у котораго щеки побагровѣли и разстегнулся поясъ.
Здѣсь въ этомъ гумнѣ, крытомъ соломой, слонами мы наши сумки. Всѣ они почти еще здѣсь. Вотъ куртка Верона. Онъ оставилъ ее, опасаясь, какъ бы ему не было слишкомъ тепло въ ней. Собрали все, подѣлили шоколадъ и консервы съ обезьяньимъ мясомъ и завязали въ платки вмѣстѣ съ бумагами и письмами жалкія посылки, которыя потомъ отправляютъ семьямъ погибшихъ солдатъ, какъ оставшееся послѣ нихъ наслѣдство. На землѣ валяется фотографія: мать въ праздничномъ нарядѣ съ толстымъ груднымъ младенцемъ на колѣняхъ. Сложенныя вдвое рубашки, личные санитарные пакеты, трубка…
Однако, здорово грохочетъ… Будто несется кавалькада, будто гроза глухо бушуетъ и приближается. Затѣмъ начинается ружейный трескъ и весь тотъ оглушительный грохотъ, которымъ сопровождается наступленіе.
* * *
Я не люблю жителей этой деревни. Торговцы не уважаютъ насъ даже за тѣ деньги, которыя они у насъ воруютъ. Они смотритъ на насъ съ какимъ-то отвращеніемъ или съ опаской, и когда мы проталкиваемся къ нимъ въ лавки съ пятифранковыми бумажками въ рукѣ, чтобы скорѣе получить товаръ, они кричатъ такъ сильно, какъ если бы пришли ихъ грабить пруссаки. Крестьянки разсказывали намъ, что, когда мѣстность эта была занята германскими войсками, торговцы не вели себя такъ заносчиво. Они не хотѣли убѣгать, чтобы не оставлять на произволъ судьбы товаровъ. Но когда прошли послѣдніе французы-стрѣлки, засѣвшіе на кладбищѣ и еще полдня отстрѣливавшіеся, ихъ охватила паника.
Они все запрятали: ликеры, консервы, деньги, и женщины охали, пока старики въ саду закапывали въ землю свое сокровище. Учительница — маленькая своенравая женщина съ блѣдными щеками, которую недолюбливаютъ за то, что она причесывается на проборъ — закрыла ставнями окна и свернула флагъ на зданіи школы. Но толстякъ Тома, владѣлецъ бакалейной и винной торговли, тотчасъ подбѣжалъ къ ней въ сопровожденіи нѣсколькихъ мегеръ, требуя, чтобы она сняла флагъ, „изъ-за котораго предадутъ огню и мечу весь край“.
Маленькая женщина нѣкоторое время не сдавалась.
— Вы не мэръ, вы мнѣ не начальникъ. Вы не имѣете права мнѣ приказывать.
— Приказывать или не приказывать, а вы будете дѣлать то же самое, что и всѣ, — захлебывался лавочникъ, который уже представлялъ себѣ, какъ его разстрѣливаютъ въ его собственной лавкѣ. — Я вамъ приказываю.
— Чьимъ именемъ?
— Наплевать, именемъ прусскаго короля, если вамъ угодно!
Торговецъ, заикаясь, налившись кровью, съ выпученными глазами, яростно ударялъ тяжелымъ кулакомъ по столу учительницы. Она должна была уступить.
Запуганные крестьяне попрятались по своимъ домамъ или собрались кучками на краю дороги и смотрѣли, какъ проходятъ первые баварскіе батальоны съ радостными кликами: „Парижъ! Парижъ!“, какъ будто имъ предстояло на другой день занять его. Сначала прибылъ автомобиль, переполненный вооруженными солдатами. Вокругъ него, строя гримасы, скакали мальчишки.
— Перестанете вы, наконецъ, проклятые пострѣлята, — крикнула имъ старуха, самая старая женщина въ деревнѣ, — они подумаютъ, что вы издѣваетесь надъ ними.
И она такъ низко кланялась, что длинныя черныя ленты ея праздничнаго чепца влачились по землѣ.
Нѣмцы смѣялись и пригоршнями бросали дѣтяхъ конфекты, даромъ доставшіяся имъ въ Реймсѣ. Въ теченіе пяти дней вся округа была переполнена баварцами и пруссаками. Они увели съ собою трехъ заложниковъ, которые не вернулись.
— И они платили наличными, эти свиньи, — разсказывалъ толстякъ Тома. — Офицеры платили бонами, но солдаты платили наличными, и даже французскими деньгами.
Этими деньгами кондитеръ наполнилъ свои ящики, и такъ начался расцвѣтъ его торговли, которому затѣмъ продолжали содѣйствовать мы.
Въ день наступленія ни одного солдата не осталось въ деревнѣ, и онъ могъ, наконецъ, отдохнуть немного. Онъ хотѣлъ пойти поудить рыбу, но въ концѣ Коровьяго Брода часовые остановили его. Онъ, разъяренный, вернулся домой и кинулъ удочку, едва не переколотивъ посуды. Затѣмъ, чтобы убить время, онъ забрался на чердакъ и оттуда въ бинокль слѣдилъ за сраженіемъ, въ то время, какъ жена его готовила молочные блины.
Когда онъ увидѣлъ, какъ мы ровно въ полдень вышли изъ окоповъ и понеслись быстрыми шагами къ германскимъ позиціямъ, разсѣянные по обнаженнымъ полямъ, подобно сѣменамъ, подхваченнымъ вѣтромъ, въ груди его шевельнулось какое-то чувство.
— Иди скорѣе, посмотри, — крикнулъ онъ своей хозяйкѣ. — Торопись, скоро ни одного не останется…
— Я не могу оставить молоко, — отвѣтила она снизу, — оно оплыветъ.
И Тома одинъ видѣлъ всю картину наступленія.
А деревня въ тотъ день заволновалась, когда увидѣла первыя носилки и длинный рядъ прихрамывающихъ плѣнныхъ съ окровавленными ногами. Тетка Букэ, стоя въ дверяхъ своего дома, плача, старалась узнать среди проходившихъ своихъ кліентовъ. Посреди поля учительница устроила нѣчто вродѣ стойки, за которой она поджидала раненыхъ съ жбаномъ лимонада.
За ночь умерло столько, что мертвецами наполнили шесть могилъ, и послѣднимъ пришлось ждать, лежа кучею въ углу, пока ополченцы окончатъ рыть для нихъ яму. Кромѣ нѣсколькихъ замерзшихъ левкоевъ, не нашлось цвѣтовъ для ихъ могилъ, и поэтому Тома пришла мысль открыть въ своей лавкѣ отдѣлъ вѣнковъ.
— На этомъ можно еще больше заработать, чѣмъ на консервахъ, — признался толстякъ.
Ихъ много на полкѣ, на разные вкусы; они стоять въ рядъ, какъ бутылки съ дорогими ликерами. Есть совершенно простые изъ желтыхъ иммортелей, отъ которыхъ пахнетъ аптекой, и больше изъ бисера, съ переплетающимися черными цвѣтами на лиловыхъ стебляхъ.
— Это для зажиточныхъ кліентовъ, — говоритъ мнѣ Демаши, съ интересомъ разсматривая ихъ.
И онъ любезно прибавляетъ:
— Вотъ такой я положу на твою могилу.
* * *
Послѣ утренняго завтрака лавки наполняются народомъ, и на улицахъ начинается оживленіе. Деревня принимаетъ праздничный видъ. Крестьяне не работаютъ въ полѣ, и всѣ, дѣти, старухи, высыпали на улицу, и всюду солдаты, солдаты…
У дверей кондитерскихъ свалка, хотя никто не знаетъ, что ему покупать. На ходу обмѣниваются новостями.
— На винномъ складѣ нѣтъ больше вина.
— Учительница школы получила сосиски.
— У кузнеца тоже есть, только надо торопиться.
Здѣсь всѣ превратились въ торговцевъ; каждый домъ — лавочка, каждая ферма — кабачокъ. Торгуетъ и господинъ мэръ.
Дверь булочной заперта на замокъ, ставни закрыты. Дюжина чудаковъ все-таки стоитъ въ очереди, напрасно надѣясь получить кусокъ теплаго хлѣба. Приказомъ мэра запрещено продавать хлѣбъ кому бы то ни было, кромѣ штатскихъ, и дверь не открывается.
Однако, мы видѣли этотъ хлѣбъ въ снопахъ, когда онъ былъ сложенъ въ свѣтлые скирды, этотъ прекрасный хлѣбъ, предназначенный для штатскихъ — это было послѣ Марны…
Ахъ! Какъ вкусенъ теплый хлѣбъ…
Въ домахъ слышны пѣсни. На деревенской площади бесѣдуютъ, шутятъ.
Война кончена для насъ, кончена на пять дней. Наступленіе, убитые, — объ этомъ вспоминаютъ только для того, чтобы въ бесѣдѣ съ товарищами сказать съ затаенной радостью: — „Мы уцѣлѣли все-таки!“ — Черезъ пять дней придется, правда, снова идти въ окопы, но объ этомъ никто не думаетъ. Существуетъ только настоящее, только сегодняшній день, — будемъ ли мы живы завтра, неизвѣстно. Ухо слышитъ пушечный грохотъ, не обращая на него вниманія, какъ на тиканье часовъ.
Нѣмцы бомбардируютъ часто, и прицѣломъ для нихъ служитъ вышка на крышѣ новенькаго зданія мэріи. Видна внутренность разрушенныхъ до подвала домовъ, и крыши ихъ безъ черепицъ зіяютъ, какъ настежь открытыя двери.
Выйдя отъ Тома, мы отправляемся къ теткѣ Букэ, лавочка которой, выкрашенная въ черный цвѣтъ, мрачнымъ пятномъ выдѣляется на площади съ ободранными вязами. Чтобы войти, надо постоять въ очереди, чтобы добиться чего-либо, приходится драться. Въ кондитерской полки пусты; тамъ толкаются и кричатъ. Грузная тетка Букэ, стоя за прилавкомъ, отбивается отъ двухъ десятковъ жадно протянутыхъ рукъ.
— Сардинокъ нѣтъ больше… сыръ тридцать два су… Не хотите, не надо, другіе купятъ… Не перебирайте такъ все руками, неряхи вы этакіе…
Прижатые къ прилавку просятъ умоляющими голосами, а черезъ ихъ головы изъ заднихъ рядовъ орутъ:
— Госпожа Букэ, коробку фасоли, оттуда сверху, пожалуйста… Вѣдь я хорошій кліентъ.
— Паштетъ, госпожа Букэ… Сюда… Я уже полчаса жду.
Лавочница мечется, кричитъ и никому ничего не даетъ, занятая только тѣмъ, что отталкиваетъ протянутыя къ ней руки, боясь, какъ бы не украли у нея чего-нибудь.
— Ничего больше нѣтъ, говорю я вамъ… Уходите… Люся! Закрой дверь… Они все переломаютъ, эти оборванцы.
Но Люси, дочь хозяйки, не двигается съ мѣста: она не любить оборванцевъ. Она гордо сидитъ въ задней комнатѣ, съ серебрянымъ крестомъ на груди, въ накрахмаленной кофточкѣ, напомаженная, завитая, высокомѣрно возсѣдая на своемъ табуретѣ между портретомъ генерала Жоффра и какой-то картиной, какъ начинающая проститутка въ автомобилѣ.
Весь полкъ знаетъ Люси, всѣхъ мужчинъ влечетъ къ ней, и когда она идетъ по переполненному кабачку, они оглядываютъ ее жаднымъ взглядомъ и открыто выражаютъ свои чувства. Самые смѣлые тайкомъ протягиваютъ руки и щупаютъ ее на ходу. Она не удостаиваетъ даже замѣтить это и проходить мимо нихъ съ обиженнымъ видомъ принцессы въ изгнаніи, принужденной заниматься хозяйствомъ. Что тамъ ни говори, но эта дѣвица блюдетъ себя. Она улыбается только „приличнымъ“ солдатамъ и краснѣетъ только при офицерахъ.
„Приличный“ солдатъ это тотъ, который покупаетъ консервированное молока, пирожныя, хорошій шоколадъ и вино бутылками. Въ ея глазахъ это все деликатессы, покупка которыхъ указываетъ на „приличные“ вкусы молодого человѣка „изъ хорошей семьи“. Демаши купилъ одеколонъ и бутылку шампанскаго, и Люси относится къ нему почти, какъ къ лейтенанту, называя его: „господинъ“.
Около насъ товарищи пьютъ красное вино, литръ за литромъ. Раньше за литръ платили франкъ двадцать сантимовъ. Но полковникъ приказомъ запретилъ продавать обыкновенное вино дороже, чѣмъ за восемьдесятъ сантимовъ. Тогда тетка Букэ закупорила и запечатала бутылки, и теперь мы платимъ за литръ франкъ пятьдесятъ сантимомъ, какъ за закупоренное вино.
Вьеблэ, солдатъ нашей роты, прислуживаетъ въ одномъ жилетѣ. Во всѣхъ деревняхъ, куда мы приходимъ на отдыхъ, онъ находитъ себѣ службу въ какомъ-нибудь ресторанчикѣ. Онъ прислуживаетъ въ залѣ, спускается въ погребъ, моетъ стаканы, получаетъ на-чаи и каждый вечеръ ложится спать пьяный.
Онъ подходить къ нашему столу съ довольной улыбкой хозяина, дѣла котораго процвѣтаютъ. Засунувъ салфетку подъ мышку, онъ возмущается:
— А Мораша-то произвели въ подпрапорщики. Ну, эта во всякомъ случаѣ не за то, какъ онъ велъ себя во время наступленія.
— Можешь быть увѣренъ, что если бы полковникъ его видѣлъ такъ, какъ мы его видѣли, его не произвели бы. Знаешь, онъ посадилъ Брука на четверо сутокъ неизвѣстно за что.
— Не бойся, — предсказываетъ Сюльфаръ, подходя съ новымъ запасомъ вина, — за все это мы отплатимъ оптомъ и въ розницу.
— Встрѣтимся съ ними послѣ войны.
Вѣчно одна и та же пѣсня: сведемъ счеты послѣ войны. Откладывая отплату на такой неопредѣленный срокъ, они чувствуютъ себя уже наполовину удовлетворенными.
Въ казармахъ, на дѣйствительной службѣ, въ случаѣ какой-нибудь несправедливости со стороны фельдфебеля или сержанта, они, взбѣшенные, шептали таинственныя угрозы:
— Вотъ будетъ война, мы имъ покажемъ… Мы съ ними расквитаемся…
Вспыхнула война; они, дѣйствительно, встрѣтились съ тѣмъ же фельдфебелемъ и съ тѣмъ же сержантомъ, и живо повели угощать въ кантину „старыхъ пріятелей“. Затѣмъ они снова возненавидѣли ихъ, или другихъ такихъ же. И теперь, когда идутъ бои, они откладываютъ свои планы мщенія уже не до войны, а до мира.
— Только бы уйти съ военной службы, увидишь тогда…
И Демаши, сомнѣваясь, удастся ли ему что-нибудь увидѣть, скептически улыбается, играя виномъ на днѣ стакана, гдѣ переливается лучъ свѣта.
Съ улицы входятъ и шумно разсаживаются новые посѣтители.
— Эй, старикъ, литръ краснаго.
Толстый капралъ тщетно старается уговорить презрительную и несговорчивую Люси.
— Только два маленькихъ стаканчика, барышня, мы быстро выпьемъ. Все-равно что, лишь бы что-нибудь крѣпкое.
— Оставьте меня въ покоѣ, здѣсь продается только вино, здѣсь не мѣсто для пьяницъ.
Опершись локтями на столъ или сидя верхомъ на табуретахъ, солдаты пьютъ и бесѣдуютъ среди шума голосовъ, шарканья ногъ, криковъ и чоканья стаканами.
Внезапно я услышалъ чей-то голосъ, похожій на тягучій голосъ Верона, и вспомнилъ его. Мнѣ кажется, что я слышу, какъ онъ ругается утромъ въ день наступленія, потому что его заставили вести большую доску, которую онъ долженъ былъ перебросить черезъ нѣмецкій окопъ въ качествѣ мостковъ. Бѣдняга! Брукъ говорилъ намъ, что прошелъ мимо него при отступленіи, и что онъ еще шевелился. Теперь, четыре дня спустя, конечно, все кончено.
А вдругъ…
За столомъ, придвинутымъ къ нашему, солдаты нашей роты ведутъ бесѣду о мельницѣ и о семьѣ фермера Монпуа, и посматриваютъ на насъ, какъ будто говорятъ они съ намѣреніемъ привлечь наше вниманіе. Все кажется имъ подозрительнымъ на фермѣ: голуби, которые летаютъ въ опредѣленные часы, дымъ, бѣлый песъ, скачущій на лугу на виду у нѣмцевъ, а особенно старикъ, который каждый вечеръ выходить одинъ погулять и выкурить трубку.
— Увѣряю тебя, онъ больше десяти разъ зажигалъ свою зажигалку.
— Но нѣкоторымъ наплевать, понимаешь; лишь бы им: хорошо нажраться… — намекаетъ маленькій худой солдатъ съ вздернутымъ носомъ.
Демаши не слышитъ ихъ словъ. Уткнувъ подбородокъ въ ладони, ничего не видя, онъ замечтался.
— О чемъ ты думаешь, Жильберъ? Тоска?
— Нѣтъ, воспоминанья…
И онъ говоритъ очень тихо, весь погрузившись въ прошлое:
— Годъ тому назадъ, день въ день, я пріѣхалъ въ Агэ. Было утро. Я помню, какъ около вокзала жгли костерь изъ великолѣпнаго зеленаго эвкалипта или сосны, и терпкій дымъ наполнялъ воздухъ острымъ запахомъ. Она мнѣ говорила, что кашляетъ отъ этого дыма. На ней было голубое платье…
Затѣмъ онъ сдѣлалъ усиліе надъ собой и пошутилъ:
— А теперь ношу я голубую форму. На то и война…
Наши сосѣди говорятъ громче, съ непріятнымъ смѣхомъ и шуточками по нашему адресу. Какъ-то вечеромъ, возвращаясь въ свои землянки, наѣвшись только тарелкой риса, даже безъ вина, они, вѣроятно, слыхали нашъ смѣхъ въ хорошо натопленномъ домѣ, и это вызвало въ нихъ зависть. Они видятъ, что я не склоненъ отвѣчать, и потому настойчиво продолжаютъ:
— Говорю тебѣ, что они подѣлили другъ съ другомъ дѣвчонку. Съ деньгами это всегда можно устроить шито-крыто… Эхъ! хотѣлъ бы и я такъ воевать.
Жильберъ едва поворачиваетъ голову и смотритъ на нихъ. Онъ странно улыбается — не то горько, не то насмѣшливо — я, не понижая голоса, говоритъ мнѣ:
— Слышишь, что они говорятъ?
Затѣмъ онъ пожимаетъ плечами, задумывается на мгновеніе и съ разочарованной улыбкой на губахъ продолжаетъ:
— Послѣ войны намъ нельзя будетъ показаться даже съ деревянной ногой. Если вы на видъ человѣкъ зажиточный, значить, вы не были въ бояхъ. Если на васъ будетъ крахмальный воротничокъ и перчатки, то вамъ никогда не повѣрятъ, что вы были въ окопахъ, и всѣ, даже бывшая обозная прислуга, поваръ полковника, механикъ, получившій отсрочку, всѣ будутъ осыпать васъ ругательствами на улицѣ и спрашивать, гдѣ вы прятались во время войны.
Лавки должны закрываться въ часъ, и потому мы расплачиваемся съ Люси, которая, сдавая сдачи, расточаетъ намъ улыбки, и выходимъ. Сюльфаръ хочетъ повести насъ въ кафэ Кюльдо, гдѣ, по его словамъ, можно достать абсентъ, если придти отъ имени фурьера третьей роты. Лемуанъ по привычкѣ увѣряетъ, что это неправда. Мы идемъ прогуливаясь. Деревня теперь почти опустѣла. Запрещено покидать мѣста расквартированія до пяти часовъ, и нѣсколько запоздалыхъ зѣвакъ крадутся вдоль стѣнъ и на каждомъ углу вытягиваютъ шеи, боясь попасться жандармамъ.
Люди должны находиться въ отведенныхъ для нихъ сараяхъ и отъ бездѣлья сидятъ на окнахъ, свѣсивъ ноги. Они наслаждаются пріятной праздностью, глядя, какъ проходятъ мимо роты, отправляющіяся на ученье.
Чтобы миновать площадь, надо красться вдоль стѣнъ, проходить по одиночкѣ за кучами бревенъ, выгадывать удобные проходы.
— Смотри, — говоритъ Лемуанъ, — Брукъ здоровается съ нами.
Брукъ сидитъ въ подвалѣ мэріи, гдѣ устроили тюрьму. Онъ просунулъ голову сквозь рѣшетку небольшого окошка и, вдыхая свѣжій воздухъ, не произнося ни слова, чтобы мы не попались, улыбается намъ.
— Проводить время отдыха за желѣзной рѣшеткой, когда ни въ чемъ не провинился, это все-таки возмутительно, — ворчитъ Сюльфаръ. — И не смѣй слова сказать, мы — ничто, меньше, чѣмъ ничто. Если бы Морашъ сказалъ намъ: „Цѣлуйте ною заднюю часть“, — нельзя было бы ему ничего отвѣтить, нельзя было бы ничего подѣлать, оставалось бы только помочь ему снять штаны. Право, слишкомъ много злоупотребленій… Разъ мы въ республикѣ, то всѣ должны были бы быть равны.
На краю деревни мы останавливаемся на минуту поболтать съ Бернадеттой, которая пасетъ свой скотъ. Съ своими продолговатыми глазами газели, съ тонкой шеей парижанки она очень нравится Жильберу. Онъ говоритъ ей глупости, отъ которыхъ она покатывается со смѣху, и мнѣ кажется, что онъ тайкомъ видится съ ней. Она слишкомъ наивна, чтобы быть испорченной, и ее, вѣроятно, забавляютъ разгоряченные мужчины, которые преслѣдуютъ ее, стараются заманить въ конюшню. Можетъ быть, все-таки, она остановила на комъ-нибудь изъ нихъ свой выборъ.
Она думаетъ о насъ, когда полкъ въ окопахъ. К когда сильно грохочетъ пушка, она добросовѣстно отсчитываетъ выстрѣлы, какъ бы обрывая лепестки маргаритки: „Немного… Очень… Страстно“…
* * *
— Торопитесь, господинъ Сюльфаръ, вы мнѣ поможете ощипать утку. — Теплый, пріятный запахъ встрѣчаетъ насъ при входѣ въ кухню. Круглый столъ съ бѣлой скатертью, освѣщенный сверху лампой, казалось, ждетъ, когда мы усядемся за чтеніе. Около печки сушатся мои туфли, рыжая кошка улеглась на нихъ. Будто въ дождливый день вернулся къ себѣ домой.
Щеки наши еще горятъ отъ свѣжаго полевого вѣтра, и мы отдуваемся, счастливые и довольные.
— Здѣсь лучше, чѣмъ въ окопахъ, не правда ли? — обращается къ намъ старуха Монпуа, взбивая тѣсто для оладей.
Правда, мы чувствуемъ себя хорошо на мельницѣ. Вотъ уже два мѣсяца, какъ мы приходимъ сюда на отдыхъ: шесть дней въ окопахъ, три дня на фермѣ.
Вначалѣ мы спали на сѣновалѣ, въ сараяхъ, на чердакѣ и даже на лѣстницѣ. Но затѣмъ, не обращая вниманія на нѣмцевъ, которые съ колокольни деревни Л… должны были видѣть, какъ мы копаемся въ землѣ, мы вырыли себѣ землянки на лугу.
Мы своей компаніей человѣкъ въ двѣнадцать, сержантовъ и солдатъ, столуемся на фермѣ. Тутъ и фурьеръ Ламберъ, и Бурланъ, состоящій для связи при полковникѣ, Демаши, Годэнъ, бывшій сержантъ, разжалованный изъ-за пустяка по жьалобѣ врача Барбару, Рикордо и иногда фельдфебель Бертье, когда ему надоѣдаетъ его компанія. Несмотря на вырытыя на лугу землянки и на дымъ, указывающій на то, что домъ обитаемъ, нѣмцы никогда не стрѣляютъ по фермѣ. Они сносятъ все, разрушаютъ деревню, крышу за крышей, но никогда ни одинъ снарядъ не попадалъ въ ферму. Какъ будто какое-то чудо предохраняетъ ее.
— Это потому, что деревья скрываютъ ее, — объясняетъ Монпуа.
Ферма, это нашъ домъ. Мы никогда не покидаемъ ее совершенно, даже будучи въ окопахъ: уходя, оставляемъ тамъ мы наше счастье, нашъ покой.
Провансальскіе пастухи, уходя со своими стадами въ горы, все время съ горныхъ вершинъ видятъ бѣлыя фермы, конюшни, пастбища, и имъ кажется, что они продолжаютъ жить въ своихъ домикахъ подъ черепичной крышей. Мы, будучи въ окопахъ, продолжаемъ чувствовать свою связь съ фермой: мы видимъ, какъ вздымается и опускается бѣлая стая голубей, какъ летитъ легкій дымокъ, голубоватый, какъ тополя, и по утрамъ, когда возвращаются послѣдніе развѣдчики, мы слышимъ крикъ пѣтуха, привѣтствующаго насъ съ добрымъ утромъ.
— Все это сигналы, — упорно повторяетъ Фуйяръ, зная, что намъ это непріятно.
Каждую ночь чудятся имъ сигналы, то тутъ, то тамъ. Иногда покажется огонекъ, и патруль спѣшитъ на развѣдку, рыщетъ по полямъ, бродитъ часами, сбивается съ дороги, блуждаетъ вокругъ спящихъ фермъ или же нагоняетъ страху на какую-нибудь женщину, укладывающую своихъ ребятъ со свѣчей въ рукѣ.
Когда заходитъ разговоръ объ этомъ на фермѣ, Монпуа ворчитъ: — здѣсь всѣ шпіоны, парень… А! разбойники!..
Раннимъ утромъ, прежде чѣмъ идти въ поле, онъ приходитъ побесѣдовать съ нами въ темную кухню, гдѣ мы пьемъ шоколадъ.
Мы, шумливые, молодые солдаты, нравимся ему. И, кромѣ того, онъ любитъ поговорить о нашихъ работахъ, о новыхъ окопахъ, которые мы роемъ на поляхъ.
— Окопы-то хороши? Вы ихъ не пропустите, этихъ прусскихъ бандитовъ!.. А гдѣ у васъ будетъ наблюдательный пунктъ?…
Ему знакомъ каждый переходъ на нашемъ боевомъ участкѣ, хотя онъ никогда тамъ не былъ. Кашевары мнѣ говорили, что въ день наступленія онъ волновался сильнѣе, чѣмъ мы. Я спросилъ ихъ:
— А онъ зналъ часъ наступленія?
— Да, какъ и всѣ здѣсь… Онъ насъ часто спрашивалъ объ этомъ.
Старуха Монпуа ничего не смыслитъ „во всей нашей войнѣ“, но дочь похожа въ этомъ отношеніи на отца, у нея твердая и цѣпкая крестьянская память. Однажды говорили о тяжелыхъ германскихъ орудіяхъ, обнаруженныхъ въ лѣсу, и она замѣтила:
— Ахъ да, на склонѣ 21.
Я удивленно взглянулъ на нее. Она смотрѣла наивными глазами. Повидимому, она сказала это совершенно просто, только потому, что запомнила цифру.
Семья Монпуа выходитъ рѣдко. Имъ позволили остаться на фермѣ, но запретили ходить около позицій. Чтобы поразмять ноги, старикъ Монпуа ходилъ иногда гулять между солдатскими землянками, во однажды онъ повздорилъ съ солдатами изъ-за двухъ новыхъ носилокъ, изъ которыхъ тѣ хотѣли сдѣлать двери для землянокъ; они выругали его, и теперь онъ не рѣшается туда показаться.
Съ тѣхъ поръ онъ сталъ ходить въ ту сторону, гдѣ расположены батареи.
Онъ свиститъ, зоветъ Злюку, своего большого пса, и издали видно, какъ они прогуливаются, хозяинъ въ черномъ и бѣлая собака. Онъ доходитъ до вершины холма и никогда не идетъ дальше. Если нѣмцы начинаютъ стрѣлять, онъ не торопится уходить, онъ не боится.
Въ хорошую погоду неутомимая стая голубей бѣлымъ вѣнкомъ окружаетъ верхушку мельницы, а нѣкоторые голуби улетаютъ. Однажды изъ окоповъ выстрѣлили въ одного голубя, который леталъ слишкомъ низко надъ позиціями. Испугался ли онъ? Онъ улетѣлъ въ сторону нѣмцевъ.
Но теперь мы долго не увидимъ голубей съ фермы: полковникъ грозился всѣхъ ихъ перебить.
Монпуа не возмущаются этими придирками. Они, повидимому, и не догадываются о томъ недовѣріи, которымъ они окружены, и никогда не говорятъ объ этомъ. И это больше всего удивляетъ меня.
Когда имъ отказываютъ въ пропускѣ на нѣсколько часовъ, отецъ немного поворчитъ, и все. Дочь иногда намекаетъ на это, но говоритъ своимъ обычнымъ тягучимъ голосомъ, нисколько не волнуясь, какъ о вполнѣ понятномъ неудобствѣ, съ которымъ приходится мириться въ виду войны.
Странная дѣвушка, нѣжная, болѣзненная, говорить она вялымъ голосомъ, такимъ же безцвѣтнымъ, какъ ея щеки. Она запоминаетъ все, что слышитъ — все о нашей жизни, о всѣхъ нашихъ семьяхъ, о нашихъ дѣлахъ — и сама читаетъ намъ всѣ письма, которыя она получаетъ отъ своего брата, солдата стрѣлкового полка, гордости семьи.
Ее интересуютъ также наши солдатскія занятія. Она никогда не задаетъ вопросовъ; она слушаетъ насъ, не произнося ни слова, и можно предположить, что она думаетъ о чемъ-то другомъ, если наблюдать за ея задумчивыми глазами.
Я помню, какъ однажды утромъ въ присутствіи Мораша, который въ то время пилъ по утрамъ кофе на фермѣ, она разговаривала съ Демаши о нашей ночной работѣ. Мы устроили на опушкѣ лѣса прикрытіе для пулемета. Жильберъ объяснялъ ей, въ какомъ мѣстѣ мы работали: подъ елями, около ручья.
— Болтунъ, опасный болтунъ, — крикнулъ своимъ рѣзкимъ голосомъ фельдфебель Морашъ.
Помню, какъ Жильберъ весь поблѣднѣлъ; но она только взглянула на Мораша съ удивленнымъ видомъ и ничего не отвѣтила. Она никогда не заговаривала объ этомъ инцидентѣ.
Эмма еще болѣе внимательна къ намъ, чѣмъ ея мать. Когда я возвращаюсь изъ окоповъ, для меня всегда готова горячая вода, чтобы я могъ наскоро помыться. Она знаетъ, кто что любить, приготовляетъ супъ съ капустой, какъ это нравится Жильберу, и завариваетъ очень крѣпкое кофе по нашему вкусу, хотя сама предпочитаетъ его не пить. Когда мы приходимъ, туфли наши уже стоятъ и сохнутъ у огня, и когда на повозкѣ провозятъ раненаго, она выбѣгаетъ на дорогу посмотрѣть, не одинъ ли это изъ ея солдатъ. Когда кто-нибудь изъ насъ начинаетъ говорить, она подходитъ. Я слѣжу за ней, какъ она слушаетъ Бертье. Онъ объясняетъ Жильберу, какъ, по его мнѣнію, должно будетъ вестись новое наступленіе, вдаваясь въ подробности.
Она стоитъ около лампы съ чашкой въ рукѣ и кажется, что ея залитый свѣтомъ подбородокъ окунуть въ молоко. Слушаетъ ли она?
Она поворачиваетъ голову, замѣчаетъ меня и, опустивъ глаза, подходить къ матери, неслышно ступая туфлями по полу.
* * *
Настоящій семейный обѣдъ, одинъ изъ тѣхъ интимныхъ, дружескихъ обѣдовъ, когда такъ пріятно озябшимъ людямъ погрѣться въ теплѣ. Солдаты ли мы?
Это едва чувствуется, мы забываемъ объ этомъ. Правда, Бертье носитъ матросскую блузу, одинъ или двое въ голубыхъ тужуркахъ, но остальные въ курткахъ, въ жилетахъ, безъ признака военной формы.
Мы беззаботны, крѣпки, намъ лѣтъ по двадцати пяти, и насъ разбираетъ хохотъ. Жизнь — огромное поле, раскинувшееся передъ нами, и мы готовы бѣжать по этому полю.
Умереть! Чего тамъ! Онъ умретъ, можетъ быть, и сосѣдъ его, и другіе еще, но я, я-то не могу умереть… Но можетъ сразу исчезнуть эта молодость, эта радость, эта переполняющая меня сила.
Мы видѣли, какъ умирали десяти, мы увидимъ, какъ погибнутъ сотни, но чтобы и моя очередь могла придти, чтобы и я могъ лежать неподвижнымъ голубымъ комкомъ въ полѣ — этому не вѣрится.
Несмотря на смерть, преслѣдующую насъ и выхватывающую изъ нашихъ рядовъ въ любое время кого ей вздумается, безсмысленная увѣренность еще сильна въ насъ. Неправда, не умираютъ! Развѣ можно умереть, когда сидишь при свѣтѣ лампы надъ блюдомъ, такъ крѣпко пахнущимъ лукомъ?
Впрочемъ, мы никогда не говоримъ о войнѣ: это запрещено за столомъ. Запрещено также употреблять грубыя выраженія и разговаривать о служебныхъ дѣлахъ. За каждое нарушеніе вносится десять сантимовъ штрафа въ общую кассу — это наша ежедневная игра.
О чемъ мы говоримъ? Обо всемъ, вперемежку. Разсказываемъ о своей профессіи, о своихъ любовныхъ приключеніяхъ, о дѣлахъ, и всегда въ веселомъ тонѣ. Жизнь каждаго изъ насъ представляется рядомъ анекдотовъ и не намѣренно мы слегка выдумываемъ; вѣдь въ нашемъ короткомъ прошломъ молодыхъ людей такъ мало воспоминаній.
У самыхъ хмурыхъ не находится для разсказа грустныхъ воспоминаній.
Однако, они извѣдали трауръ, горе. Да, но это прошло… У человѣка отъ жизни остаются только счастливыя воспоминанія, другія стираетъ время; нѣтъ скорби, которую не залечило бы забвеніе, нѣтъ потери, отъ которой не утѣшились бы.
Въ прошломъ все прекрасно; издали люди кажутся лучшими. Съ какой любовью, съ какой нѣжностью говоримъ мы о женщинахъ, о возлюбленныхъ, о невѣстахъ. Всѣ онѣ чисты, вѣрны, радостны, и послушать насъ въ эти вечера, подумаешь, что кромѣ счастья въ жизни ничего нѣтъ.
Иногда что-то щелкаетъ объ стѣну, какъ ударъ хлыста. Кракъ! Это шальная пуля.
— Войдите! — кричитъ Демаши.
— Нужна была война, чтобы мы поняли, что мы были счастливы, — говоритъ всегда серьезный Бертье.
— Да, нужно было узнать горе и страданія, — поддакиваетъ Жильберъ.
Раньше мы не знали, мы были неблагодарны…
Теперь мы упиваемся малѣйшей радостью, какъ сладкимъ блюдомъ, котораго обычно лишены. Счастье повсюду: счастье — это землянка, куда не протекаетъ дождь, хорошо согрѣтый супъ, охапка грязной соломы, на которой спишь, забавная исторія, разсказанная товарищемъ, ночь безъ дежурства… счастье! но вѣдь оно заключено въ двухъ страницахъ письма изъ дому, на днѣ кружки рома. Камень, простой камень въ лужѣ грязи, на который можно было бы поставить ногу — и это счастье. Но, чтобы понять это, надо пройти черезъ лужу грязи.
Я пытаюсь проникнуть въ будущее, увидѣть то, что будетъ послѣ войны, въ томъ туманномъ и позлащенномъ, какъ лѣтняя заря, грядущемъ.
Доживемъ ли мы до него? И что дастъ оно намъ? Смоемъ ли мы когда-нибудь съ себя это долгое страданіе? Забудемъ ли мы когда-нибудь это горе, эту грязь, эту кровь, это рабство?
* * *
Бурланъ всталъ и пошелъ за скрипкой. Онъ самъ смастерилъ ее изъ коробки отъ сигаръ и двухъ струнъ, которыя онъ выписалъ изъ Парижа, и этой игрушкѣ, этому цирковому инструменту мы обязаны нашими лучшими вечерами.
Онъ настраиваетъ ее — два жалобныхъ звука — и всѣ умолкаютъ.
Музыка — нашъ общій другъ. Онъ играетъ adagio изъ Патетической Симфоніи Бетховена. Все стихаетъ… Музыка страстная и нѣжная, какъ наши сердца. Есть ли что-нибудь патетическое въ этихъ трепетныхъ звукахъ? Нѣтъ… Это томительная прекрасная мечта. И потомъ, не все ли равно, что онъ играетъ… Мысль не слѣдитъ за музыкой. Это канва, на которой наши грезы вышиваютъ узоры.
Бертье слушаетъ, сложивъ руки, пріоткрывъ ротъ. Жильберъ закрылъ глаза сплетенными пальцами, и виденъ только его прямой лобъ упрямаго ребенка.
Сюльфаръ принялъ серьезный видъ, на лицѣ его сосредоточенное выраженіе, какъ будто онъ силится понять. Я закрываю глаза, чтобы ничего не видѣть.
Затѣмъ Жильберъ, у котораго красивый голосъ, поетъ вполголоса романсы, и всѣ мы подпѣваемъ ему. И мы вспоминаемъ Парижъ, прекрасный Парижъ осенью, когда мокрые отъ дождя тротуары отливаютъ при свѣтѣ фонарей.
Мы поемъ послѣднія парижскія пѣсенки, голоса наши крѣпнутъ. Откинувшись на спинки стульевъ, мы беззаботно оремъ отъ избытка радости. Уже не слышна скрипка Бурлана, заглушенная нашимъ шумнымъ хоромъ…
— Слушайте!
Наступило внезапное молчаніе. Бурланъ остановился съ приподнятымъ смычкомъ. Лица удивленно вытянулись… Мы тревожно прислушиваемся.
Что это такое?
Опять такой же ударъ кулакомъ въ дверь, и чей-то голосъ раздается въ ночи.
— Раненый!
Быстро открываютъ дверь; онъ входитъ, и глаза его начинаютъ мигать.
Онъ блѣденъ, подъ большими глазами у него огромные круги. Лѣвая рука лежитъ на перевязи изъ большого грязнаго платка, на которомъ расплывается красное пятно, и, когда онъ идетъ, кровь, просочившись до его неподвижной кисти, капаетъ на землю.
— Нѣтъ, не надо рома. Я предпочитаю вино.
Рука Монпуа дрожитъ, когда онъ подноситъ ему вино. Молча, чувствуя неловкость, мы окружаемъ товарища. Энергія его упала, онъ тяжело опустился на стулъ. Слышно только бульканье вина въ его засохшемъ горлѣ.
Собака проснулась. Она встаетъ, нюхаетъ слѣдъ и каплю за каплей вылизываетъ съ пола еще теплую кровь.
* * *
Еще шесть дней, шесть дождливыхъ дней въ окопахъ, и вотъ мы снова на фермѣ.
Я пишу. Монпуа, съежившись, согнувъ спину, сидитъ у самой печки, трубка его потухла. Слышно только, какъ закипаетъ супъ, и какъ тяжело дышитъ старикъ.
Я нахожу, что онъ измѣнился со времени наступленія. Онъ не шутитъ съ нами, какъ бывало раньше. Цѣлыми часами онъ молча сидитъ на своемъ низкомъ стулѣ и, когда мы говоримъ между собою, онъ поворачиваетъ голову и слушаетъ насъ съ такимъ видомъ, какъ будто опасается какой-нибудь грубой выходки.
Жена его говоритъ, что онъ боленъ. Однако, онъ не жалуется. Она ворчитъ, что онъ не хочетъ обращаться къ врачу, и самъ лечитъ себя какими-то отварами изъ травъ.
Что съ нимъ? Я часто думаю объ этомъ. Конечно, но его осунувшимся чертамъ, по лихорадкѣ, отъ которой онъ дрожитъ по вечерамъ, видно, что онъ боленъ, но мнѣ этого недостаточно. Мнѣ кажется, что подъ этимъ убитымъ видомъ скрывается что-то другое; не только недомоганіе заставило его такъ сгорбиться и сидѣть цѣлый день, молча, передъ печкой. Не видно, чтобы онъ страдалъ. Онъ погруженъ въ раздумье, вотъ и все.
Онъ уже больше не разспрашиваетъ насъ, какъ бывало, о новыхъ окопахъ, о нашихъ работахъ, о патруляхъ, обо всемъ, что такъ интересовало его. Наоборотъ, когда мы заговариваемъ объ этомъ, у него всегда находится предлогъ, чтобы удалиться, или онъ опускаетъ голову и полузакрываетъ глаза, какъ бы стараясь забыться. Не я одинъ замѣтилъ это.
— Бѣдняга, кажется, ему тяжело слушать, когда говорятъ о наступленіи, — сказалъ мнѣ, сжалившись надъ нимъ, Жильберъ.
Это правда. Ни разу онъ не говорилъ съ нами о наступленіи, ни разу онъ не подошелъ къ намъ послушать разсказы о немъ. Когда говорятъ о наступленіи, онъ не поведетъ даже глазомъ. Только замѣтно, какъ спина его еще сильнѣе сгибается и ниже склоняется голова… Я вижу только его спину, его широкую круглую спину, за которой, мнѣ чудится, таится какое-то суровое вниманіе. Можно поклясться, что онъ дремлетъ, но, однако, онъ слушаетъ, я увѣренъ, что онъ слушаетъ.
Однажды вечеромъ Бертье разсказывалъ сержанту изъ обоза, какъ имъ пришлось отступать по изгибу траншеи. Онъ съ нѣсколькими солдатами прикрывалъ движеніе, стрѣляя по сѣрымъ спинамъ нѣмцевъ, пересѣкавшихъ поле, и забрасывая траншею обломками рогатокъ, бревнами и всѣмъ, что попадалось. По прямымъ же линіямъ онъ заставлялъ своихъ людей бѣжать, боясь продольнаго огня, и такъ какъ они оглядывались, то спотыкались о трупы и съ проклятіями падали. Къ счастью, раненыхъ уже вынесли, иначе было бы уже слишкомъ поздно. По дорогѣ до самой первой линіи они наткнулись только на одного раненаго. Онъ сидѣлъ на брустверѣ, спустивъ ноги, какъ на краю канавы, не опасаясь уже пуль, и кричалъ жалобно, долго, упорно: „Я ничего не вижу… Не оставляйте меня… Я ничего не вижу!..“ Съ виска у него текла вдоль щеки широкая красная струйка. Онъ слыхалъ, какъ бѣгутъ мимо и, догадавшись, конечно, что отступаютъ, онъ побѣжалъ за отступающими, сначала согнувшись, почти на четверенькахъ, затѣмъ выпрямившись, спотыкаясь, нащупывая темноту своими невѣрными руками. Минуту ихъ преслѣдовала его мольба: „Не оставляйте меня, товарищи, клянусь вамъ, я не буду кричать“… Затѣмъ, шагнувъ въ яму въ траншеѣ, слѣпой, вытянувъ руки, камнемъ свалился въ свою могилу. Поворачивая за уступъ, они услышали сухой трескъ маузера. Конечно, кто-то изъ состраданія пристрѣлилъ его.
Я случайно взглянулъ на Монпуа во время разсказа Бертье. Онъ слегка приподнялъ голову и слушалъ, странно расширивъ глаза, большіе неподвижные глаза. Но онъ увидѣлъ меня и тотчасъ опустилъ голову, снова погрузившись въ дремоту.
Этотъ подмѣченный мною взглядъ не имѣетъ значенія, а все-таки съ того вечера странныя мысли приходятъ мнѣ въ голову. Инстинктивно, противъ воли, я слѣжу за старикомъ.
О чемъ думаетъ онъ цѣлыми днями? Мнѣ кажется, теперь я знаю о чемъ. Это даже не догадка, это только неясная тревога, необоснованное безпокойство, начинающее принимать какую-то форму. Но умъ мой сопоставляетъ маленькіе факты, обыкновенныя совпаденія. Я слѣжу теперь за его малѣйшими жестами, какъ будто я долженъ раскрыть что-то.
Иногда я стараюсь разсѣять это настроеніе. Но, вѣдь, это же глупо, зачѣмъ искать чего-то романическаго и необыкновеннаго въ этомъ больномъ старикѣ? Однако… Сомнѣніе принимаетъ болѣе опредѣленныя формы, это какъ будто какое-то предчувствіе, съ которымъ разумъ не можетъ бороться. Онъ, должно быть, чувствуетъ преслѣдующее его напряженное вниманіе и не любитъ оставаться со мной наединѣ. Онъ, кажется, боится, какъ бы я не заговорилъ съ нимъ.
Почему я вбилъ себѣ въ голову, что онъ боится проходить мимо сарая, гдѣ сложены пожитки убитыхъ? Однажды, когда онъ проходилъ мимо, я догналъ его. Бѣлье высыпалось изъ мѣшковъ и валялось чуть не на самой дорогѣ.
— Смотрите, — сказалъ я ему, — вотъ сумка длиннаго Верона. Это высыпались оттуда письма его матери. Она была въ больницѣ. Бѣдная старушка морила себя голодомъ, чтобы высылать ему нѣсколько грошей, вязаное бѣлье… Тутъ однимъ выстрѣломъ убиты двое: и онъ и его мать.
Онъ обернулся весь блѣдный.
— Не слѣдовало бы мнѣ это разсказывать, парень. Мой сынъ тоже солдатъ.
Не зная, что сказать, я далъ ему уйти, не рѣшаясь слѣдовать за нимъ. Вечеромъ я колебался, толкнуть ли мнѣ дверь столовой, откуда доносился его задыхающійся голосъ. Я вошелъ вмѣстѣ съ Бурланомъ. Старикъ спрашивалъ у Жильбера:
— Правда ли, что длинный Веронъ, раненый, звалъ на помощь еще на другой день послѣ боя, лежа на полѣ?
Увидѣвъ насъ, онъ замолчалъ и быстро отвелъ глаза въ сторону. Въ тотъ вечеръ онъ больше не говорилъ и ушелъ спать раньше, чѣмъ сѣли за столъ. Я вспоминаю все ото и перестаю писать. Я смотрю на старика, онъ прерывисто дышитъ, плечи его поднимаются и опускаются. У него плохой видъ сегодня вечеромъ. Онъ давно не бритъ, щеки его посѣрѣли и ввалились. Я нахожу, что онъ еще болѣе опустился, чѣмъ во время послѣдняго нашего пребыванія. Онъ приросъ къ своему низкому стулу и погруженъ въ тяжелую думу.
* * *
Монпуа хоронятъ. Онъ умеръ прошлой ночью безъ агоніи, безъ единой жалобы. Утромъ жена нашла въ кровати его холодный трупъ.
Только-что вынесли на рукахъ его гробъ по направленію къ полю въ сопровожденіи жены и дочери въ черныхъ платьяхъ, нѣсколькихъ крестьянъ и солдатъ. Я съ трудомъ хожу и потому остался на фермѣ. Она мнѣ кажется пустынной и тоскливой. Слышно только, какъ подпрыгиваютъ голуби на чердакѣ. Вотъ стоятъ двѣ сдвинутыя скамьи, онѣ какъ будто ждутъ, что гробъ снова вернется сюда, какъ онъ уже вернулся разъ… Въ ту минуту это въ общемъ самое обыкновенное происшествіе не произвело на меня никакого впечатлѣнія, но теперь непріятное чувство охватываетъ меня.
Когда похоронная процессія миновала лугъ и подходила къ дорогѣ, нѣмцы замѣтили насъ и начали стрѣлять. Первый снарядъ упалъ далеко, второй въ пятидесяти шагахъ, и процессія тотчасъ разсѣялась. Четверо носильщиковъ въ замѣшательствѣ остановились, затѣмъ, видя, какъ убѣгаютъ крестьяне, они опустили носилки, съ которыхъ свалился гробъ, и попрыгали всѣ въ канаву за нами. И какъ разъ вовремя: третій снарядъ взорвался именно на откосѣ, задѣвъ гробъ. Гуськомъ, согнувшись, мы удрали, и мертвый остался одинъ посреди тропинки, а гробъ выскользнулъ изъ-подъ чернаго покрывала и опрокинулся. Мать и дочь, всегда безстрашныя, тутъ съ крикомъ убѣжали, и когда товарищи снова принесли гробъ на ферму, Эмма лишилась чувствъ.
Гробъ поставили на двѣ скамейки, и онъ до наступленія сумерекъ оставался на фермѣ. Послѣ заката солнца снова пришли крестьяне и опять унесли гробъ. Они только-что ушли; на дворѣ еще воетъ собака, стараясь сорваться съ цѣпи.
Никогда нѣмецкіе снаряды не попадали такъ близко отъ фермы. Теперь, когда старика ужъ нѣтъ, не разрушатъ ли они ее? Волненіе охватываетъ меня. Я открываю дверь и выхожу въ палисадникъ. Ночь почти уже наступила. Каменный колодецъ похожъ на могилу. По ту сторону ручья проходить смѣна, черная масса людей, поющихъ вполголоса. Смутные, громоздкіе силуэты, ощетинившіеся заступами и ружьями — это саперы; нѣсколько человѣкъ отстало и идутъ, опираясь на палки. Это, конечно, ополченцы.
Изъ окоповъ ни одного выстрѣла. Далеко, около Берри, глухой орудійный гулъ. Ивы задумчиво склонились надъ прудомъ; утки, дремлющія на немъ, похожи въ темнотѣ на лебедей.
Ни звука. Это разлитое повсюду молчаніе успокаиваетъ меня… Но почему Злюка не лаетъ больше?
Внезапно на голубятнѣ послышался легкій шумъ крыльевъ, тотъ шелестящій шумъ, который слышенъ, если всполошить курятникъ. Вылетаетъ одинъ голубь, затѣмъ другой, и однимъ взмахомъ крыльевъ перелетаютъ на вѣтку… Зачѣмъ? Кто ихъ вспугнулъ?
Нелѣпая мысль приходитъ мнѣ въ голову: Эмма вернулась, она тайкомъ пробралась наверхъ и дѣлаетъ тамъ что-то, дѣлаетъ то, что дѣлалъ старикъ…
Соображая, съ бьющимся сердцемъ, я прислушиваюсь. Раздался какой-то трескъ — не открываютъ ли слуховое окно?
Тѣмъ хуже, я хочу знать. Я вхожу въ домъ черезъ темную кухню. Иду ощупью. Натыкаюсь на кресло, и сердце мое бьется, бьется…
Взбираюсь по деревянной лѣстницѣ. Чердакъ. Голубой мракъ ночи входить черезъ грязное стекло слухового окна. Въ темнотѣ притаились тѣни… Нѣтъ, это мѣшки.
Ноги мои дрожатъ. Но страха я не чувствую. Притаившись, я продвигаюсь впередъ, и мои похолодѣвшія руки нащупываютъ въ темнотѣ вещи и узнаютъ ихъ. Глаза мои напряженно всматриваются, привыкаютъ къ мраку и видятъ шинель, которая виситъ съ опущенными рукавами и сохнетъ. По ту сторону деревянной перегородки попрежнему шевелятся голуби. Я подхожу и медленно, чтобы не скрипѣли петли, раскрываю дверь… Вытянувъ шею, стиснувъ кулаки, я гляжу. Ничего, ничего…
Лунный свѣтъ, скользящій между черепицами, освѣщаетъ съежившихся на насѣсти голубей. Они воркуютъ. Снаружи рѣзко завываетъ вѣтеръ. Тогда я закрываю за собой скрипящую дверь, и одинъ на темномъ чердакѣ, совершенно одинъ, разсматриваю жалкую поношенную одежду съ висящими рукавами, потрепанную шинель, въ которой умретъ одинъ изъ солдатъ.
VII „КАФЭ МОРЯКОВЪ“
Демаши сказали: — „Ты ихъ найдешь въ „Кафэ моряковъ“ около Каменнаго моста“.
По большому мосту съ поврежденными быками можно было проходить только ночью. Днемъ достаточно было показаться велосипедисту, чтобы залпъ яростно хлестнулъ по водѣ или снесъ часть перилъ. Прибывъ къ вечеру, Демаши перебрался у верховья рѣки по мосту, проложенному по лодкамъ.
Высокіе тополя склонились своими верхушками къ зеленоватой, едва движущейся водѣ, какъ бы и въ ней ища небеснаго свода. Большое гребное судно лежало на боку у берега. Сквозь сорванныя доски виденъ былъ пустой трюмъ между огромными деревянными краями, и странно было, какъ занесло сюда эту громадину.
Рѣка журчала, разбиваясь о лодки, поддерживавшія мостъ. Это были маленькія лодки рыболововъ, зеленыя и черныя, въ которыхъ катаются въ лѣтніе праздники, гребя однимъ весломъ. На носу одной изъ нихъ, самой новой, выкрашенной въ бѣлый цвѣтъ, можно было прочесть имя: „Люсьена Бремонъ Руси". Взрывомъ снаряда ей повредило бокъ.
Вдоль всего берега были разбросаны деревянные кресты, тонкіе и простые, сдѣланные изъ дощечекъ или перекрещенныхъ вѣтокъ, и смотрѣли, какъ течетъ вода. Они видны были повсюду, вплоть до затопленной долины, гдѣ плавали, какъ странныя водяныя линіи, красные кепи.
Съ наступленіемъ половодья кресты должны будутъ уплыть по теченію грязной рѣки и пристать неизвѣстно куда, можетъ быть туда, гдѣ ребенокъ сдѣлаетъ себѣ изъ нихъ деревянную саблю. И будетъ казаться, что мертвецы спасаются изъ своихъ забытыхъ могилъ, и безконечный рядъ другихъ мертвецовъ, кресты которыхъ такъ близки одинъ отъ другого, будто подаютъ другъ другу руки, будутъ смотрѣть имъ вслѣдъ.
Въ густомъ кустарникѣ цвѣтущій шиповникъ протягивалъ свои бѣлые цвѣты. Демаши на ходу сорвалъ одинъ. Онъ подходилъ къ Тюлери. На разрушенной крышѣ уже не развѣвался флагъ съ краснымъ крестомъ: онъ превратился въ рваную сѣрую тряпку, свѣсившуюся вдоль древка. Кирпичная стѣна, въ которой были пробоины еще въ сентябрѣ, была изрѣшетена снарядами, башенка была снесена, фасадъ исполосованъ пулями, и теперь можно было войти въ походный госпиталь черезъ десятокъ проломовъ. Однако, здѣсь ухаживали за ранеными съ тѣхъ поръ, какъ вода залила подвалы. И такъ какъ на этой фермѣ не рѣшались зажигать огня по ночамъ, то перевязки дѣлали въ темнотѣ, ощупью, отыскивая пальцами раны.
Для тѣхъ, кого не удавалось спасти, могилы были вырыты у самой двери: оставалось только вынести мертвецовъ. Кладбище тоже приспособилось къ войнѣ; мертвецовъ не хоронили въ разныхъ мѣстахъ, они скучивались у самой Тюлери. Чтобы отыскать фамилію, номеръ полка, нужно было нагнуться, приподнять вѣнокъ изъ плюща, трехцвѣтную кокарду, сдѣланную изъ трехъ тряпокъ. Хотя товарищи и вырѣзали фамилію и номеръ полка на пряжкѣ пояса, но ржавчина быстро поѣдала эти надписи, какъ будто смерть хотѣла уничтожить все, вплоть до воспоминанія.
Демаши остановился у первыхъ могилъ. Наканунѣ привезли трупы, и они лежали между крестами, ожидая, пока выроютъ для нихъ яму. Одинъ изъ нихъ былъ обернутъ въ палатку — суровый саванъ, еще больше затвердѣвшій отъ засохшей крови. Остальные остались въ томъ же видѣ, какъ участвовали въ бою, въ запачканныхъ землею шинеляхъ, въ грязныхъ штанахъ, съ неприкрытыми распухшими или восковыми лицами, несчастными багровыми лицами, будто вымытыми винными остатками. Голова одного сержанта была все же закутана. Ее прикрыли сумкой, какъ капюшономъ, и подъ этимъ саваномъ изъ запекшейся крови угадывалась ужасная рана. Рука у одного молодого стрѣлка откинулась, какъ бы преграждая дорогу, и ногти вонзились въ мягкую землю. Не ползли ли они отъ самыхъ окоповъ, чтобы умереть здѣсь?
Демаши отыскалъ среди бѣлыхъ и черныхъ крестовъ крестъ Нури, убитаго восемь дней тому назадъ въ лѣсу Десурсъ. Маленькій Галенъ смастерилъ его изъ большой доски отъ ящика, сломанной пополамъ, и Жильберъ узналъ его сзади по надписи на доскѣ: „Шампанское“… У подножья кто-то вдавилъ трубку отъ снаряда, въ которой увядалъ букетъ ландышей. Демаши выбросилъ его и положилъ цвѣты шиповника.
Онъ закрылъ глаза и сталъ вспоминать Нури, какимъ онъ видѣлъ его въ послѣдній разъ. Онъ былъ раненъ въ животъ и, такъ какъ санитары не приходили, всю ночь хрипѣлъ и стоналъ въ землянкѣ, иногда поворачивая къ намъ свою худую голову, шепча:
— Я вамъ мѣшаю спать, бѣдняги, а?
Рано утромъ онъ умеръ. Ночная стрѣльба прекратилась, пушки еще не стрѣляли. Въ лѣсу пѣлъ зябликъ. И среди этого покоя мы сильнѣе почувствовали эту смерть.
Чтобы похоронить его какъ слѣдуетъ, отдѣленіе рѣшило отнести его въ тылъ. За обѣдомъ пошли четыре человѣка вмѣсто двухъ, неся по очереди большое тѣло, завернутое въ темное одѣяло, а за ними шелъ Демаши, неся бѣлый крестъ подъ мышкой, а въ другой рукѣ котелъ.
Послѣ смерти Нури прибыло два письма на его имя. Можно было вернуть ихъ обратно съ суровымъ оповѣщеніемъ о смерти въ углу конверта: „Не могло быть вручено адресату“. Демаши рѣшилъ лучше взять ихъ со собой. Онъ вынулъ ихъ изъ патронной сумки, не вскрывая, разорвалъ, и надъ этой казенной могилой солдата, квадратной, какъ казарменная койка, онъ разбросалъ обрывки письма, чтобы тотъ могъ, по крайней мѣрѣ, спать вѣчнымъ сномъ подъ словами изъ родныхъ устъ.
Этотъ товарищъ теперь, когда онъ погибъ, былъ ему еще дороже. Онъ жалѣлъ, что недостаточно любилъ этого высокаго парня, робкаго и мягкаго, не относился къ нему лучше. Онъ сохранилъ имена нѣкоторыхъ товарищей, затерянныхъ на маленькихъ кладбищахъ Шампани или Эны, или на случайномъ клочкѣ земли, между позиціями, и мысленно бесѣдовалъ съ ними, выслушивая жалобы этихъ людей, которыхъ онъ иногда недолюбливалъ, когда они были живы, за ихъ грубость, за неповоротливость ихъ мысли. Всѣхъ ихъ онъ помнилъ и любилъ вспоминать о нихъ теперь, когда въ забывчивой памяти ихъ товарищей отъ нихъ оставалось лишь одно, ничего не говорящее, имя.
* * *
— Эй, старина, — крикнулъ ему санитаръ, который увидѣлъ, какъ онъ уходитъ, — не разгуливай здѣсь. Сегодня они разозлились, все время жарятъ.
Онъ пошелъ вдоль рѣки медленно, не торопясь добраться до мѣста, куда онъ направлялся. Въ этотъ вечеръ онъ предпочелъ бы остаться одинъ.
Первые дома съ садами подъ паромъ, составлявшими продолженіе полей, были почти годны для жилья, хотя порядкомъ разрушены, съ снесенными снарядами черепицами. Но за межой начинался разгромъ.
Сколько бы артиллерія ни обстрѣливала мѣстность, всегда что-нибудь останется: часть стѣны съ обоями въ цвѣтахъ и съ двумя, рядомъ висящими, фотографіями въ черныхъ рамкахъ; свѣжевыкрашенная дверь, красующаяся среди обломковъ песчаныхъ камней, мраморный каминъ, уцѣлѣвшій и стоящій на трехъ штукахъ паркета.
По этимъ обломкамъ Демаши представлялъ себѣ, какъ выглядѣла раньше эта мѣстность. Это была не деревня, не село, а скорѣе уголокъ для отдыха, мирное дачное мѣсто. Фермъ не было, были виллы, которыя можно было, несмотря ни на что, распознать по тремъ каменнымъ ступенямъ подъѣзда, по остаткамъ розоваго фасада, съ котораго осколками снесена живопись.
Спотыкаясь, шелъ онъ по главной улицѣ съ разгромленными лавками и развалинами домовъ по обѣимъ сторонамъ. Изъ-подъ развалинъ, съ лѣстницъ, ведущихъ въ погреба, слышались голоса, смѣхъ, ржаніе лошади, визжаніе скрипки.
За обломками стѣны присѣвшіе на корточки кашевары старались развести огонь безъ дыма, и, когда снарядъ съ шумомъ проносился по воздуху, они только съ любопытствомъ поворачивали голову. Когда хочется поджареннаго картофеля, стоитъ рискнуть кое-чѣмъ.
— „Кафэ моряковъ“? — крикнулъ имъ Демаши.
— Дальше, налѣво.
Онъ поспѣшилъ дальше, ибо неподалеку въ развалины упалъ снарядъ, поднявъ столбъ, мусора и дыма. Онъ надѣялся, что вывѣска еще уцѣлѣла на верхушкѣ фасада, но около каменнаго моста, который обстрѣливали нѣмцы, осталась только груда камней и раздробленныхъ балокъ вокругъ большой красной крыши, на которую снаряды не попадали. Однако, черезъ отдушины доносился шумъ голосовъ. Онъ наклонился и спросилъ:
— „Кафэ моряковъ“?
— Рядомъ… У двери стоитъ клѣтка.
Онъ осмотрѣлся кругомъ, но ничего не увидѣлъ. Надъ церковью разорвались шрапнели, и онъ разсердился: „Нѣтъ нигдѣ клѣтки!“
Осколки пронеслись и упали, какъ градины, на черепицы. Онъ выпрямился и тотчасъ напрягъ слухъ:
— А! они тамъ…
Онъ узналъ голосъ Сюльфара, который, повидимому, дружески объяснялся съ Лемуаномъ.
— Что! — оралъ онъ. — Но, несчастный, ты ползалъ еще на четверенькахъ, когда я уже носилъ лаковые штиблеты.
По этимъ крикамъ Демаши отыскалъ лѣстницу и бросился туда. Дѣйствительно, при входѣ стояла большая клѣтка, и въ уголъ ея забился худой нахохлившійся воронъ, уткнувъ длинный клювъ въ перья и наблюдалъ за разгромомъ своимъ круглымъ глазомъ.
По поводу этого ворона и происходилъ споръ въ подвалѣ „Кафэ моряковъ“, гдѣ нашъ взводъ ожидалъ смѣны, пробывъ только три дня на передовой позиціи.
— Вотъ спросите у Демаши, — закричалъ Сюльфаръ, завидѣвъ своего друга, который старался осмотрѣться въ темнотѣ подземелья, — спросите у него, правда ли, что вороны живутъ сто лѣтъ.
— Тебѣ не пришлось ихъ столько видѣть, сколько ихъ у меня было, я вынималъ ихъ прямо изъ гнѣздъ, — спокойно возразилъ Лемуанъ, сидя на перепиленной пополамъ бочкѣ, изъ которой сдѣлали лохань. — Ты не знаешь, что говоришь: воронъ самая глупая птица.
— Это не мѣшаетъ ему долго жить, и этотъ воронъ видѣлъ больше войнъ, чѣмъ ты, можетъ быть, онъ видѣлъ революцію и 1870 годъ… Надо накормить его.
И, взявъ кусокъ обезьяньяго мяса, ломтикъ сыра и краюху хлѣба, которую ему кто-то кинулъ, онъ сталъ кормить своего ворона, которому и не нужно было столько.
Демаши внезапно почувствовалъ себя счастливымъ. Сюльфаръ приберегъ для него хорошее мѣсто на тюфякѣ, и онъ сможетъ отдохнуть, почитать, помечтать.
Большой погребъ выходилъ на рѣку двумя длинными решетчатыми отдушинами. Утромъ вмѣстѣ съ разсвѣтомъ входилъ туда холодный туманъ отъ воды.
Чтобы что-нибудь разобрать въ полутемномъ подвалѣ, чтобы писать, мы зажигали свѣчу и, покапавъ на столикъ изъ краснаго дерева, прикрѣпляли ее. Чего только не было въ этомъ погребѣ: стулья, кровати, столы, ящики изъ-подъ бутылокъ, которые мы превратили въ шкафы, матрацы, и даже качалка, на которую цѣлился Буффіу, намѣреваясь употребить ее на растопку. Съ самаго начала войны никогда нашей ротѣ не приходилось спать такъ удобно. Цѣлыми днями солдаты упивались своимъ счастьемъ, забившись въ свой уголъ, пачкая подстилку грязными башмаками и закинувъ голову на пуховую подушку.
Ходили въ гости изъ подвала въ подвалъ. Всѣ они были хорошо меблированы. Ни въ домахъ, ни подъ развалинами, невидимому, уже ничего не осталось: мало-по-малу все перенесли въ подвалы, или въ лѣсъ, въ окопы. По вечерамъ приходили солдаты, мелькали, какъ тѣни, и уходили, нагруженные столами, стульями, тюфяками. Мѣстечко какъ бы переѣзжало, перевозя мебель за мебелью, и въ лѣсу Десурсъ встрѣчались странныя землянки съ дверью въ стилѣ Ренессансъ, съ скульптурными украшеніями. Придя на смѣну въ окопъ, мы нашли тамъ ивовое кресло и красный пуховикъ. У подпрапорщика Бертье былъ диванъ и большое, треснувшее посерединѣ, зеркало, на которомъ какой-то легковѣрный воинъ нацарапалъ: — „Еще три мѣсяца, и въ запасъ“.
На краю дороги стояло даже піанино, которое кто-то въ отчаяніи бросалъ на полдорогѣ къ лѣсу, и по вечерамъ, поджидая провіантскія повозки, кашевары наигрывали подъ сурдинку однимъ пальцемъ.
На этомъ лѣсномъ участкѣ на передовыхъ позиціяхъ было не особенно опасно. Иногда то тутъ, то тамъ падали случайные снаряды, — такъ былъ убитъ Нури, — можно было нарваться на пулю, когда отправлялись за ландышами между двумя окопными ходами, вотъ и все.
Свободно прогуливались по лѣсу, и кашевары, отойдя метровъ на сто, раскладывали костры подъ прикрытіемъ кустарниковъ. Въ первый разъ мы ѣли въ окопахъ горячую пищу и пили вкусное, дымящееся въ кружкахъ, кофе.
Вначалѣ нѣмцы забрасывали насъ огромными торпедами, прозванными „печными трубами“, которыя сносили все на своемъ пути. Немедленно прислали отрядъ бомбардировъ. Они въ теченіе мѣсяца рыли землю, день и ночь сносили бревна, и устроили прикрытіе съ солидными подпорами, которые могли все выдержать. Затѣмъ, они подвезли свою пушку. Это было орудіе, достойное украшать музей, нѣчто вродѣ небольшой бронзовой мортиры съ выгравированной на ней датой и мѣстомъ происхожденія: 1848, французская республика, Тулуза. Заряжали ее наугадъ: по одному грамму пороха на метръ. Мы находились приблизительно въ 180 метрахъ отъ бошей и клали ложки четыре пороху. Шумъ получался страшный, и мортира послѣ выстрѣла подскакивала, какъ бы въ ужасѣ. Видно было, какъ ядро описывало огромную параболу и падало гдѣ-нибудь въ лѣсу, боши привѣтствовали его, кажется, криками браво. Иногда оно взрывалось. Побывъ нѣкоторое время у насъ, бомбардиры получили другое, настоящее орудіе и отправились испытывать его въ другое мѣсто, а намъ оставили свое великолѣпное укрѣпленіе, и это странное и безопасное орудіе, нѣчто вродѣ большой пращи или метательной машины, сооруженной изъ пневматическихъ шинъ и деревянныхъ рычаговъ. Съ помощью этого орудія можно было бросать гранаты: перваго, попробовавшаго это сдѣлать, убило.
Съ тѣхъ поръ дежурные взводы стали стрѣлять въ бошей изъ этого орудія самыми неожиданными снарядами: палками, пустыми бутылками, окопной обувью съ деревянной подошвой, и вообще разными валяющимися предметами, лишь бы у нихъ былъ достаточный вѣсъ. Сюльфаръ особенно наловчился въ этой игрѣ. Всѣ три дня онъ только и дѣлалъ, что бомбардировалъ нѣмецкій окопъ, придвинувшійся на сорокъ метровъ къ нашимъ линіямъ. Онъ бросалъ все, что попадалось подъ руку: коробки съ обезьяньимъ мясомъ, кирпичи, осколки снарядовъ, носки, набитые камнями. Передъ самымъ уходомъ изъ окоповъ онъ кинулъ имъ на прощанье большую банку изъ-подъ горчицы, набитую землей, которая, вѣроятно, попала въ самую гущу окопа, ибо послышались крики. Сюльфара громко привѣтствовали, на бошей загикали, и одинъ изъ нихъ, можетъ быть раненый, отвѣтилъ на испорченномъ французскомъ языкѣ, ругая насъ коровами и рогатыми чертями.
Сюльфаръ былъ необычайно доволенъ. Все время, пока мы были на отдыхѣ, онъ разглагольствовалъ, разсказывая о своемъ военномъ подвигѣ всему полку, останавливалъ офицеровъ, тормошилъ кашеваровъ, лицо его сіяло отъ гордости.
— Попало ему прямо въ физіономію, увѣряю васъ — доказательство то, что онъ меня назвалъ рогатымъ чортомъ, я по-французски… Навѣрное это былъ офицеръ.
Онъ обошелъ всѣ погреба и за кружку вина разсказывалъ всѣмъ свою исторію, ловко пріукрашивая ее. При входѣ въ подвалъ, гдѣ онъ терпѣливо кормилъ своего хищника, слышно было, какъ онъ въ сотый разъ разсказываетъ свою исторію легковѣрнымъ восторженнымъ слушателямъ.
— Да, ребята, — кричалъ онъ, — попалъ я генералу прямо въ физіономію. Онъ даже выругалъ меня рогатымъ чортомъ по-французски.
И такъ какъ онъ умѣлъ, несмотря ни на что, уважать своихъ враговъ, онъ прибавлялъ съ оттѣнкомъ почтенія:
— Надо сознаться, они все-таки народъ образованный…
VIII ГОРА СМЕРТИ
Она была видна изъ лѣса Десурсъ сквозь вѣтви деревьевъ, на которыхъ распускались первыя зеленыя почки. Это былъ высокій мѣловой холмъ, весь изрытый снарядами, потрескавшійся, разваливающійся, трагическій, съ нѣсколькими кольями, оставшимися отъ бывшихъ когда-то деревьевъ. На картахъ генеральнаго штаба онъ былъ, конечно, отмѣченъ какимъ-нибудь именемъ. Солдаты прозвали его Горой Смерти.
Это былъ адъ нашего участка. Когда полкъ занималъ позицію, солдаты тревожно спрашивали: — „Кому придется на этотъ разъ попасть на Гору Смерти, кто приметъ на себя ударъ?“…
И когда узнавали, то назначенныя туда жертвы ворчали:
— Всегда одни и тѣ же… Конечно, тѣмъ, у кого протекція, наплевать, они туда не попадутъ…
Подвергаясь безостановочной бомбардировкѣ, Гора Смерти дымилась, какъ фабрика. Снаряды поднимались изъ лѣсу, занятаго нѣмцами, и тяжело падали на эту мертвую землю, гдѣ жертвами ихъ могли быть только люди и камни. По ночамъ тамъ пускали фейерверкъ: красные круги, бѣлыя звѣзды, зеленый и синій вертящійся свѣтъ — великолѣпное ночное зрѣлище на полѣ битвы. Къ этому треску присоединялся отблескъ разрывающихся снарядовъ. На каждые четыре дня туда назначалось по два взвода, которые слѣдили за истоптаннымъ, усѣяннымъ голубыми шинелями и сѣрыми спинами, полемъ, таившимъ въ себѣ ихъ судьбу.
Издали, глядя на желто-зеленое облако отъ взрывовъ, никогда не разсѣивавшееся, видя густой дождь снарядовъ, слыша эту непрестанную грозу, солдаты говорили между собой:
— Это невозможно. Тамъ нельзя выдержать… Ни одинъ не вернется оттуда… — И все-таки выдерживали, и все-таки возвращались.
Пришла наша очередь отправляться туда. На Гору Смерти велъ не окопный ходъ, а нѣчто вродѣ тропинки, продѣланной въ мѣловой почвѣ, дорога для погонщиковъ муловъ, окаймленная узкими, холодными землянками. Вдоль всей дороги валялись части снаряженія, фляжки, патроны, тряпки, инструменты, цѣлое кладбище вещей. И то тутъ, то тамъ деревянные кресты: „Брюке, 148-го пѣхотнаго… Кашэнъ, 74-го пѣхотнаго… Здѣсь лежитъ германскій солдатъ“… Были ясно видны очертанія вспученныхъ тѣлъ, едва прикрытыхъ слоемъ песчаника. На этой дорогѣ было болѣе двѣнадцати остановокъ.
Въ тотъ вечеръ смѣну произвели быстрѣе обыкновеннаго. Подвигались впередъ, согнувъ спину, настороженно прислушиваясь. Подгоняли другъ друга. Когда при отблескѣ ракетъ показались короткіе обрубки деревьевъ, подпрапорщикъ Бертье, который велъ насъ, передалъ по отряду:
— Мы подходимъ, тише.
Напрасный совѣтъ. Ни ворчанія, ни звука, ни шопота. Лемуанъ не вѣрилъ въ опасность, но все-таки придерживалъ свой штыкъ, который звякалъ.
Всѣ мы были сосредоточенны. Только Мару былъ доволенъ. Онъ увѣрялъ, что это удача, что туда никто до насъ не доберется, что тамъ намъ будетъ спокойно. Но и онъ, какъ всѣ, шелъ опустивъ голову, придерживая звякавшій котелокъ.
— Ложись.
Просвистѣли два снаряда и взорвались въ двадцати шагахъ; красный свѣтъ ослѣпилъ насъ. Мы всѣ уткнулись въ землю, давя другъ друга. Осколки разлетѣлись по мѣловой поверхности.
— Передавайте дальше; впередъ…
Въ узкомъ окопѣ, прорытомъ на другомъ склонѣ горы, насъ нетерпѣливо ждали солдаты смѣняющагося полка, съ сумками за плечами. Шопотомъ, отрывистыми словами, передали сержанты приказанія:
— Ихъ окопъ на опушкѣ лѣса… Въ ста слишкомъ метрахъ. Влѣво не стрѣляйте дальше березъ, тамъ нашъ постъ…
Товарищи кратко пожелали намъ удачи, собирая наскоро свои пожитки.
— Берегитесь снарядовъ, особенно вечеромъ во время ужина. Если можете, принесите оттуда съ поля парня, онъ какъ разъ передъ желѣзной проволокой. Это нашъ товарищъ, котораго убили прошлой ночью. Вы его похороните, не правда ли? Его фамилія Кестель…
Они быстро ушли изъ окопа, сгрудившись въ узкомъ выходѣ. Заглушенный шумъ ихъ все удалялся и, наконецъ, затихъ. Счастливцы…
Они ничего не оставили на Горѣ Смерти, только нѣсколько коробокъ консервовъ, пачки патроновъ, нетронутые караваи хлѣба, товарища на полѣ…
Они ушли.
Въ то время какъ первые караульные, опершись на брустверъ, начинали дежурство, нашъ взводъ перевалилъ на другой склонъ горы и сталъ устраиваться.
Полкъ саперовъ — задумчивые и мужественные сѣверяне — вырыли тамъ нѣчто вродѣ грота, входъ котораго былъ обращенъ въ нашимъ линіямъ, а амбразуры въ лѣсу, занятому нѣмцами. Онъ состоялъ изъ довольно высокой, хорошо укрѣпленной, галлереи, съ узкими углубленіями по обѣимъ сторонамъ, устланными старой соломой и газетами. Тѣ, кто вошли первыми, бросились туда и съ крикомъ отталкивали другихъ кулаками и ногами; при слабомъ, дрожащемъ свѣтѣ свѣчи произошла внезапная толкотня, и поднялись яростные крики и ругательства.
Бертье безъ труда возстановилъ порядокъ:
— Ну, безъ возни, безъ ссоръ, это ни къ чему… Всѣмъ хватитъ мѣста.
Онъ осматривалъ всѣ темные утлы, освѣщая ихъ электрическимъ фонаремъ, и размѣщалъ людей. Солдаты, стоя за нимъ, спокойно ждали, и никто больше не кричалъ, чтобы не раздражать его. Примирялись съ указаннымъ мѣстомъ и устраивались тамъ.
Бреваль, разворачивая свое одѣяло, сдѣлалъ въ соломѣ находку: — Газета изъ нашей мѣстности! — радостно закричалъ онъ. — Буду читать въ постели, какъ въ былое время… — Мы четверо лежали въ нашемъ углу, тѣсно прижавшись другъ къ другу, разстегнувъ пояса в размотавъ обмотки. Брукъ даже снялъ башмаки и уже храпѣлъ, а маленькій Беленъ смастерилъ особенный подсвѣчникъ, при которомъ свѣтъ не виденъ былъ бы снаружи.
— Ахъ! хорошо, — вздохнулъ Бреваль, вытягиваясь. — Только бы боши оставили васъ въ покоѣ…
— Въ сущности это, что я говорилъ, — замѣтилъ Мару съ другого конца галлереи. — Издали, когда видишь какъ обстрѣливаютъ, набиваешь себѣ голову разными страхами, а когда придешь, то видишь, что здѣсь не хуже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.
Однако, ежеминутно глухой ударъ сотрясалъ холмъ, раскатъ вмѣстѣ съ порывомъ вѣтра доносился до вашего грота, и свѣчи начинали дрожать. Иногда снаряды падали на другой склонъ Горы Смерти, противъ входа въ вашу пещеру, и отблескъ отъ нихъ освѣщалъ сложенную палатку.
— Слишкомъ далеко, — говорилъ Лемуанъ, спокойно чувствуя себя подъ защитой слоя земли въ четыре метра надъ нашими головами.
Брукъ храпѣлъ сильнѣе обыкновеннаго, чтобы не слышать снарядовъ, а Бреваль, забывъ обо всемъ, читалъ газету.
— Гнусныя женщины, — разразился онъ. — Опять задержали женщинъ въ англійскомъ лагерѣ. И можешь быть увѣренъ, не проститутокъ, а замужнихъ женщинъ… Мнѣ говорили, что въ такихъ случаяхъ вывѣшиваютъ ихъ фамиліи въ мэріи. Представь себѣ, какой ударъ для мужа, когда онъ узнаетъ объ этомъ…
Онъ прочелъ еще нѣсколько строчекъ, затѣмъ гнѣвно скомкалъ газету, бросилъ ее и, повернувшись къ сырой мѣловой стѣнѣ, сказалъ мнѣ:
— Ты загасишь.
Артиллерія упорно обстрѣливала Гору Смерти, глухіе удары раздавались надъ ея вершиной. Между двумя взрывами слышны были иногда шаги человѣка, спотыкающагося о камни, или случайные ружейные выстрѣлы часового.
При колеблющемся свѣтѣ гаснущей свѣчи я смотрѣлъ на крѣпкія балки, гдѣ висѣло наше снаряженіе и наши котелки. Набитые подсумки покрывали стѣну, какъ занавѣской, а розетками служили штыки. Подъ головами наши сумки, въ углу ружья… И все это мы носимъ на себѣ, ночи, дни, километры… Носимъ нашъ домъ, носимъ нашу кухню, и все, вплоть до нашего савана: коричневаго одѣяла, въ которое я хорошенько завернусь и засну.
* * *
Ночь медленно таяла. Казалось, послѣдняя звѣзда торопилась скрыться. Въ предразсвѣтномъ туманѣ стали вырисовываться очертанія предметовъ и пейзажа, и Брукъ первый увидѣлъ тѣла убитыхъ.
— Много ихъ, — сказалъ онъ. — И этотъ лѣсъ намъ дорого обойдется.
Жильберъ старался отыскать того убитаго, котораго товарищи его просили вчера похоронить. На зарѣ онъ, наконецъ, отыскался. Онъ лежалъ въ двадцати метрахъ отъ проволочнаго загражденія, уже такой же увядшій и плоскій, какъ остальные. Зачѣмъ рисковать смертью, чтобы оттащить этотъ трупъ ближе къ окопу? Будетъ ли у него мѣсто здѣсь или яма тамъ? Бумаги его остались, этого достаточно. Могила его? Гдѣ-нибудь на фронтѣ…
Съ наступленіемъ утра проснулась артиллерія. Сначала грянулъ залпъ шрапнелей, окруживъ Гору Смерти зеленымъ, быстро разсѣявшимся, ореоломъ. Затѣмъ наступила очередь большихъ снарядовъ.
Первые же снаряды повергли васъ на землю, и мы распростерлись на днѣ окопа. Трескъ былъ оглушительный, и вихрь камней тяжелымъ градомъ обрушился на насъ. Бреваль слегка вскрикнулъ, задѣтый въ затылокъ осколкомъ или камешкомъ. Ему сорвало только вожу, но шла кровь.
— Не повезло, — сказалъ ему Лемуанъ, смазывая его іодомъ…
— Вотъ если бы тебѣ перебило руку!
— Да, мнѣ такъ не повезетъ, — пожалѣлъ капралъ.
Такъ провели мы день, убѣгая отъ торпедъ, сгибаясь подъ снарядами. Къ одиннадцати часамъ утра обстрѣлъ усилился вдвое, и кухонная команда долго не рѣшалась уйти, чувствуя себя въ большей безопасности въ нашемъ окопѣ, чѣмъ въ проходѣ, повсюду обвалившемся. Когда они вернулись, половина вина была пролита, макароны смѣшаны съ землей, и Сюльфаръ, задыхаясь, разносилъ Лемуана за то, что „онъ не годенъ даже на то, чтобы нести котелъ“.
Послѣ обѣда стали играть въ карты въ ожиданіи вечера. Брукъ началъ храпѣть; Жильберъ, лежа около него, старался погрузиться въ мечты.
Вдругъ онъ поднялся и сказалъ намъ сдавленнымъ голосомъ:
— Подъ нами роютъ.
Всѣ оглянулись, карты выпали изъ рукъ.
— Ты увѣренъ?
Онъ утвердительно кивнулъ головой. Я съ трудомъ растолкалъ Брука, который все храпѣлъ, а Мару, Бреваль и Сюльфаръ легли и приложили ухо къ землѣ. Мы, молча, затаивъ дыханіе, смотрѣли на нихъ. Всѣ мы поняли: это мина… Мы тревожно прислушивались, негодуя на снаряды, подъ ударами которыхъ сотрясался холмъ. Бреваль первый поднялся съ земли.
— Ошибиться нельзя, — сказалъ онъ вполголоса, — они роютъ.
— Работаетъ только одинъ человѣкъ, это отлично слышно, — пояснилъ Мару. — Онъ недалеко продвинулся.
Мы всѣ сгрудились и неподвижно смотрѣли на твердую почву. Кто-то пошелъ за сержантомъ Рикордо. Онъ явился, послушалъ минуту и сказалъ:
— Да… Надо бы предупредить лейтенанта.
Каждый ложился по очереди, прислушивался и вставалъ съ потемнѣвшимъ лицомъ. Новость распространилась по всему окопу, и въ промежуткѣ между двумя снарядами караульные прислушивалась къ страшному заступу, который рылъ, рылъ…
Къ ночи пришелъ подпрапорщикъ Бертье съ кухонной командой. Онъ довольно долго слушалъ, покачалъ головой и рѣшилъ поскорѣе успокоить насъ.
— Тьфу!.. Это, должно быть, піонеры роютъ окопъ, и притомъ довольно далеко… Эти звуки часто, знаете, обманчивы. Позову кого-нибудь изъ инженерной части… Но вы успокойтесь, это еще далеко, опасности нѣтъ…
Мы встали на дежурство. Снаряды падали попрежнему, но теперь они не такъ пугали насъ. Мы прислушивались къ заступу.
Черезъ два часа, окончивъ дежурство, мы вернулись въ гротъ. Брукъ послушалъ и сказалъ:
— Это человѣкъ толковый, лишняго шума не дѣлаетъ.
И онъ спокойно заснулъ.
Мы собирались погасить свѣчу, какъ вернулся Бертье въ сопровожденіи фельдфебеля инженерной части. Всѣ встали и столпились въ галлереѣ.
Первое, что мы уловили, была фраза:
— Мы догадывались объ этомъ.
У Фуйяра нервно задергался глазъ.
Фельдфебель легъ, приложилъ ухо въ землѣ и слушалъ, закрывъ глаза. Мы молчали и тоже слушали. Онъ всталъ, шлепнулъ себя по запачканной мѣломъ шинели и ушелъ вмѣстѣ съ Бертье, не сказавъ вамъ ни единаго слова.
— Повидимому, опасности еще нѣтъ, — предположилъ Лемуанъ.
— Повидимому, мы взлетимъ на воздухъ, — предсказалъ Сюльфаръ.
Однако, мы легли спать. И заснули. Рано утромъ снова пришелъ Бертье; у него былъ грустный, озабоченный, необычный для него видъ, и это тотчасъ встревожило насъ. Что онъ узналъ? Онъ прислушался еще къ заступу, уже не ложась на землю, такъ какъ удары теперь явственнѣе доносились до насъ.
Мы были взволнованы неяснымъ предчувствіемъ, смутнымъ опасеніемъ.
Бертье снова вернулся.
— Отдѣленіе Бреваля, выходи.
Онъ оглядѣлъ насъ всѣхъ мужественнымъ, глубокимъ взглядомъ, затѣмъ остановилъ глаза на Бревалѣ, который послѣ пораженія носилъ повязку вокругъ шеи, вродѣ воротника, и сказалъ ему:
— Какъ вы угадали, нѣмцы подводятъ мину. Можетъ быть, придетъ инженерная часть я сдѣлаетъ подкопъ, но нѣмцы такъ далеко прорыли, что врядъ-ли можно будетъ что-нибудь предпринять. Такъ… дѣло въ томъ… Не къ чему оставаться здѣсь всѣмъ… Вы отлично это понимаете… Такъ вотъ… останется ваше отдѣленіе, Бреваль — метали жребій. Оба взвода снимутъ, они отойдутъ на вторыя позиціи, а вы съ вашимъ отдѣленіемъ и съ пулеметчиками останетесь… Это немного, но полковникъ довѣряетъ вамъ, вашему мужеству… Впрочемъ, наступленія нечего опасаться, такъ какъ они роютъ… Но имъ еще далеко до конца, вамъ нечего бояться… Опасности нѣтъ, нѣтъ никакой опасности, это просто мѣра предосторожности…
Онъ началъ заикаться, горло его судорожно сжималось. Онъ еще разъ обвелъ насъ всѣхъ глазами, ища нашихъ взглядовъ. Никто ничего не сказалъ; только Фуйяръ пробормоталъ:
— Можно будетъ все-таки отлучаться за обѣдомъ.
— Его вамъ будутъ посылать.
Остальные немного поблѣднѣли и молчали, вотъ и все. Храбрость? Нѣтъ. Дисциплина. Пришла наша очередь…
— Мы обречены, — просто сказалъ Вьеблэ.
— Да нѣтъ же, вы съ ума сошли, — быстро перебилъ его Бертье. — Не вбивайте этого себѣ въ голову… Право, — онъ смущенно опустилъ глаза, — я самъ очень хотѣлъ бы остаться съ вами. Мое мѣсто здѣсь. Полковникъ не захотѣлъ… Ну, желаю вамъ удачи…
Нижняя губа его дрожала, глаза подъ стеклами пенсне стали влажными. Внезапно онъ пожалъ каждому изъ насъ руку и ушелъ, стиснувъ зубы, весь блѣдный.
Товарищи уже уходили, торопя другъ друга, какъ бы боясь, чтобы смерть не поймала ихъ. Они странно смотрѣли на насъ, проходя мимо, и послѣдніе уходившіе сказали: „желаемъ удачи“. Шумъ скатывающихся камней, голосовъ, позвякиваніе котелковъ и пустыхъ бидоновъ — и все затихло… Мы остались одни. Пулеметчики усѣлись около пулемета. Трое изъ нашего отдѣленія спустились въ окопъ, а мы вернулись въ гротъ.
— Остается только ждать, — сказалъ Демаши, преувеличивая свое безразличіе.
Ждать чего? Мы всѣ усѣлись на своихъ койкахъ и смотрѣли на землю, какъ готовый утопиться человѣкъ смотритъ на потокъ темной воды, прежде чѣмъ броситься въ нее. Намъ казалось, что заступъ теперь ударяетъ сильнѣе, въ тактъ біенію нашихъ сердецъ. Невольно ложились на землю и снова прислушивались.
Фуйяръ улегся въ углу, уткнулся съ головой подъ одѣяло, чтобы ничего не слышать, ничего не видѣть. Бреваль сказалъ нерѣшительнымъ тономъ:
— Въ концѣ-концовъ, это вѣдь не рѣшено, что насъ взорвутъ… Мину не такъ просто подвести.
— Особенно въ каменистой почвѣ.
— Кажется, что уже совсѣмъ близко, а работы хватитъ еще на недѣлю.
Всѣ заговорили разомъ, лгали, чтобы подбодрить себя, не терять надежды.
Послѣдовало короткое оживленное обсужденіе, и каждый разсказалъ знакомый ему случай съ миной, а когда они Снова прислушались, имъ показалось, что удары стали слабѣе. Машинально развернули одѣяла и улеглись.
— Можетъ быть придется вскочить спросонокъ, — пошутилъ Вьеблэ, снимая башмаки.
Въ какомъ мѣстѣ разверзнется земля? Закрывъ глаза, я представлялъ себѣ отвратительныя фотографіи въ иллюстрированныхъ журналахъ, изображающія зіяющія воронки съ торчащими колами, съ металлическими осколками и выступающими изъ-подъ земли частями человѣческаго тѣла.
Мы лежали, положивъ головы на сумки, и слышали только ужасное постукиванье, похожее на тиканье стѣнныхъ часовъ.
— Ну, и надѣлаетъ это шуму, — прошепталъ Беленъ. — Подумать только, какой зарядъ нуженъ, чтобы взорвать такой холмъ, какъ этотъ.
— До смѣны осталось еще три дня.
— Нѣтъ, только два съ половиной, насъ должны смѣнить въ среду вечеромъ.
Бреваль усердно писалъ письмо, положивъ на колѣни сумку вмѣсто пюпитра.
— Ты пугаешь свою жену, — пошутилъ Лемуанъ. — Ты ей разсказываешь, что мы готовимся взлетѣть на воздухъ?
Снаряды падали рѣже въ эту ночь. Было почти тихо. Только заглушенный стукъ заступа убаюкивалъ насъ.
* * *
Въ полночь я вышелъ на дежурство. Въ окопѣ было холодно, и Жильберъ трясся отъ озноба подъ своимъ одѣяломъ. Ледяной вѣтеръ дулъ изъ лѣсу.
— Слышишь?
— Да, все стучитъ.
Мы не смотрѣли уже на поля. Зачѣмъ? Тамъ ничего не видно — темная ночь. Мы слушали, думали.
Первый заговорилъ вполголоса Демаши, тѣмъ слегка насмѣшливымъ тономъ, который меня раздражалъ и который мнѣ все-таки нравился.
— Было слишкомъ хорошо… Право, было слишкомъ хорошо. Безпечная жизнь, каждый день какая-нибудь радость. Въ одинъ прекрасный день кто-то стучитъ: „Стукъ! Стукъ! Это жизнь. — Но я васъ не знаю… — Тѣмъ хуже, наступила ваша очередь!“ — Она всовываетъ вамъ въ руку заступъ и винтовку, и вотъ, рой, пріятель, маршируй, пріятель, подыхай, пріятель…
— Зачѣмъ же ты поступилъ на службу, — сказалъ ему Лемуанъ, — вѣдь ты былъ освобожденъ?.. Особенно въ пѣхоту.
— Долгъ, увлеченіе — все глупости…
Мы подошли къ пулеметчикамъ, молча сидѣвшимъ подъ своимъ прикрытіемъ. Одинъ изъ нихъ спалъ, закинувъ голову.
— Осталось больше двухъ съ половиной дней, не правда-ли, — сказалъ намъ старшій.
— Они раньше кончатъ, — сказалъ второй.
Лемуанъ, продолжавшій въ темнотѣ вырѣзать украшенія на своей палкѣ, начатыя наканунѣ, присѣлъ на корточки въ углу.
— Если они увѣрены, что будетъ взрывъ, — сказалъ онъ, — они должны были увести насъ, какъ увели товарищей… И затѣмъ, почему наше отдѣленіе, а не другое?
Вѣтеръ гасилъ звѣзды. Ночь становилась темнѣе. Мы превратились въ черныя пятна, и въ темнотѣ ничего нельзя было разобрать, кромѣ красноватой точки зажженной трубки. Иногда кто-нибудь подходилъ къ амбразурѣ и всматривался. Ничего… Шорохъ, шелестъ: овцы пасутся ночью и щиплютъ траву на поляхъ.
Продежуривъ три часа, мы вернулись озябшіе. И, плотно укрывшись одѣялами, положивъ подъ головы подсумки, прижавшись другъ въ другу, мы уснули крѣпкимъ животнымъ сномъ.
* * *
Утромъ мы проснулись съ предчувствіемъ, съ внутренней тревогой. Стука не было слышно; наоборотъ, трагическая тишина. Отдѣленіе лежало на землѣ, склонившись надъ Бревалемъ, который слушалъ, растянувшись во весь ростъ. Приподнявшись на нашей подстилкѣ, мы смотрѣли на нихъ.
— Въ чемъ дѣло? — прошепталъ Демаши.
— Стука уже нѣтъ!.. Они, должно быть, кладутъ мину.
Сердце мое сразу остановилось, какъ будто кто-то схватилъ его рукой. Я почувствовалъ ознобъ. Правда, не слышно было, чтобы рыли. Кончено.
Бреваль всталъ съ застывшей улыбкой на губахъ:
— Ошибиться невозможно. Они больше не долбятъ.
Мы смотрѣли на землю, такіе же безмолвные, какъ она. Фуйяръ поблѣднѣлъ и хотѣлъ выйти. Ни слова не говоря, Гамель удержалъ его за руку. Мару, скрестивъ руки между колѣнями, сидѣлъ и постукивалъ о подстилку своими толстыми каблуками.
— Перестань, — сурово сказалъ ему Вьеблэ, — слушай…
Мы тревожно вытянули шеи, боясь ошибиться. Нѣтъ! Заступъ опять принялся за работу. Онъ долбилъ. О! Какъ мы полюбили его на мгновеніе, этотъ ужасный заступъ. Онъ продолжалъ рыть. Это было помилованіе. Мину еще не кладутъ, мы еще не погибаемъ…
Вьеблэ откинулъ тревогу въ сторону и будто сорвался съ цѣпи. Блѣдный отъ бѣшенства онъ выскочилъ наружу съ крикомъ.
— Онъ съ ума сошелъ, — воскликнулъ Бреваль. — Что онъ дѣлаетъ!
За нимъ побѣжали. Онъ вскарабкался па мѣшки, набитые землей, и, высунувшись наполовину изъ окопа, вытянувъ шею, вопилъ:
— Можете рыть, скоты, н…ь на васъ… мы, можетъ быть, всѣ взлетимъ, но н…ь на васъ…
Сюльфаръ обхватилъ его и тащилъ внизъ.
— Замолчишь ты…
Бреваль тоже тянулъ его за руку, но тотъ сопротивлялся.
— Не хочу я подыхать, какъ животное… Я могу еще бороться… — рычалъ онъ.
Все-таки удалось стянуть его внизъ и увести въ гротъ, гдѣ онъ успокоился, потягивая старое вино Демаши.
— Хорошее вино, — замѣтилъ онъ съ видомъ знатока.
Тукъ… Тукъ… Тукъ… Заступъ все долбить… Тукъ… Тукъ… Тукъ… Затѣмъ онъ останавливается. Тогда мы прислушиваемся и тревога наша усиливается. Тукъ… Тукъ… Тукъ…
Это продолжалось еще два дня и одну ночь. Сорокъ часовъ, которые отсчитывали минуту за минутой. Два дня и одну ночь прислушивались съ высохшимъ отъ жара ртомъ. Въ послѣдній вечеръ нельзя было удержать Вьеблэ: онъ ушелъ съ четырьмя гранатами въ сумкѣ, и черезъ часъ мы услыхали четыре взрыва, одинъ за другимъ, затѣмъ жалобные крики на опушкѣ лѣса.
Когда онъ вернулся, прибылъ подпрапорщикъ Бертье, за нимъ должна была придти смѣна.
Мы уже одѣвали сумки на спину, готовясь уходить.
— Ахъ, какъ я радъ, — сказалъ онъ намъ… — Видите, не надо было отчаиваться. Теперь кончено.
— Мы еще не ушли, — затрясся Фуйяръ.
— Ужъ дѣйствительно не повезло бы намъ, если бы взрывъ произошелъ теперь, — основательно замѣтилъ Лемуанъ.
Равномѣрный стукъ доходилъ до насъ, успокоительно на насъ дѣйствуя. Но теперь мы выжидали не стука заступа, а появленія смѣны. Глухой шумъ донесся до насъ.
— Смѣна… Войдите въ гротъ, освободите имъ мѣсто. Приказанія я самъ имъ передамъ, — сказалъ намъ Бертье.
Мы смотрѣли, какъ проходятъ солдаты неизвѣстнаго намъ полка. Ихъ было только десять и четыре пулеметчика. Послѣдній остановился, различивъ насъ въ темнотѣ галлереи.
— Такъ они подводятъ мину подъ насъ?.. Несомнѣнно, мы взлетимъ на воздухъ. Еще бы, четыре дня…
Мы всѣ старались его успокоить.
— Мало вѣроятія… Смотри, вотъ мы пробыли здѣсь и уцѣлѣли… Эти шутки долго длятся… Не стоитъ волноваться.
Но поверхъ его сумки мы, съ дрожью въ ногахъ, слѣдили за появленіемъ подпрапорщика, такъ торопились мы уйти. Фуйяръ невѣдомо какимъ образомъ уже исчезъ. Наконецъ, вернулся Бертье.
— Впередъ!.. Желаю вамъ удачи, ребята.
И, повернувшись въ Демаши, онъ тихо прибавилъ:
— Бѣдняги, я боюсь за нихъ…
Не будь подпрапорщика, который шелъ передъ нами регулярнымъ шагомъ, мы, можетъ быть, побѣжали бы. Мы боялись этой тусклой Горы Смерти, которую по временамъ всю озаряли вспышки ракетъ. Мы боялись опасности, которую мы чувствовали за собой еще совсѣмъ близко.
Мы спустились по мѣловой дорогѣ, быстро миновали мостикъ надъ ручьемъ, и только тамъ рѣшились оглянуться. Во мракѣ ночи вырисовывалась Гора Смерти, страшная со своими обрубками деревьевъ…
* * *
Наскоро поѣли мы при выходѣ изъ окоповъ. Кашевары приготовили подливку, и мы ѣли жадно, не чувствуя уже въ желудкѣ судорогъ отъ голода. Пили вино полными кружками, такъ какъ надо было до ухода опорожнить ведра. Сюльфаръ, похваляясь, разсказывалъ ротѣ исторія о нашемъ пребываніи на Горѣ Смерти, и каждый изъ отдѣленія собиралъ вокругъ себя группу и разглагольствовалъ.
Рота длинной безпорядочной лентой шла вдоль канала. Изъ землянокъ артиллеристовъ, вырытыхъ на берегу, поднимался дымъ, и мы позавидовали ихъ сырымъ ямамъ: — „Везетъ имъ, пробыть всю войну въ такихъ землянкахъ“… Темная вода отражала ночь и тихо плескалась. Перешли рѣку по качающемуся мосту изъ барокъ и бочекъ. Пройдя каналъ, мы вошли въ лѣсъ, и свѣжесть, какъ влажное покрывало, опустилась на наши плечи. Пахло весенней влагой. Гдѣ-то пѣла птичка, не вѣдая, что теперь война.
За нами виднѣлась безконечная линія окоповъ. Вскорѣ она скрылась за деревьями, и высокій лѣсъ заглушилъ надрывный вой пушекъ. Мы удалялись отъ смерти.
Когда мы вошли въ первую деревню, головное отдѣленіе начало потихоньку напѣвать; и машинально мы замаршировали.
Въ эту минуту, внезапно, ночь сотряслась отъ глухого шума, донесшагося издалека — то былъ грохочущій гулъ катастрофы, который подхватило и долго повторяло эхо. Мина взорвалась.
Колонна остановилась, какъ по командѣ. Ни звука… Мы слушали, какъ будто съ этого берега можно было услышать крики; сердца наши сжались. Орудія тоже пріумолкли, прислушиваясь.
Но нѣтъ, ничего не слышно больше, кончено…
— Сколько ихъ было? — спросилъ кто-то изъ рядовъ сдавленнымъ голосомъ.
— Десять… — отвѣтилъ чей-то голосъ. — И четыре пулеметчика.
IX „УМЕРЕТЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО“
Нѣтъ, это ужасно, музыка не должна была играть этого…
Человѣкъ, привязанный къ столбу за кисти рукъ, грузно повалился. Платокъ, которымъ повязаны его глаза, образуетъ какъ бы вѣнокъ вокругъ его головы.
Мертвенно-блѣдный священникъ произноситъ молитву, закрывъ глаза, чтобы не видѣть больше.
Никогда, даже въ худшіе часы, мы не ощущали смерть такъ ярко, какъ сегодня. Ее угадываешь, ее чуешь, подобно собакѣ, готовой завыть. Этотъ голубой комокъ — это солдатъ? Онъ, должно быть, еще теплый.
О! Быть вынужденнымъ видѣть это, и навсегда сохранитъ въ памяти его животный крикъ, этотъ ужасный крикъ, въ которомъ чувствовался страхъ, ужасъ, мольба, все, что можетъ слышаться въ воплѣ человѣка, который внезапно видитъ смерть передъ собой. Смерть: небольшой деревянный столбъ и восемь человѣкъ, блѣдныхъ, съ ружьями къ ногѣ.
Этотъ долгій крикъ всѣмъ намъ вонзился въ сердце, какъ гвоздь. И вдругъ среди жуткаго хрипа, который слушалъ цѣлый полкъ, охваченный ужасомъ, прозвучали слова, прощальная мольба: „Попросите прощенія за меня“…
Онъ бросился на землю, чтобы подольше не умирать, и его, неподвижнаго, кричащаго, потащили за руки къ столбу. До самаго конца онъ кричалъ. Слышалось: „мои малютки“… Его раздирающее душу рыданіе среди общаго молчанія было потрясающе, и у дрожащихъ солдатъ была лишь одна мысль, одно желаніе: „О, скорѣй… скорѣй… кончайте. Пусть стрѣляютъ, пусть онъ замолчитъ…“
Трагическій трескъ залпа. Еще выстрѣлъ, одиночный, послѣдній, которымъ пристрѣливаютъ. Кончено…
Затѣмъ намъ пришлось дефилировать передъ его трупомъ. Музыка начала играть „Умереть за отечество“, и роты проходили одна за другой неувѣреннымъ шагомъ.
Бертье стиснулъ зубы, чтобы не видно было его трясущагося подбородка.
Когда онъ скомандовалъ: „Впередъ!“ Вьеблэ, плакавшій навзрыдъ, какъ ребенокъ, вышелъ изъ рядовъ, бросилъ винтовку и упалъ въ нервномъ припадкѣ.
Проходя мимо столба, всѣ отворачивались. Мы не смѣли взглянуть даже другъ на друга, блѣдные, съ ввалившимися глазами, какъ будто мы только-что совершили подлое дѣло.
Вотъ свиной хлѣвъ, въ которомъ онъ провелъ послѣднюю ночь, такой низкій, что онъ могъ стоять тамъ только на колѣняхъ. Онъ, вѣроятно, слышалъ, какъ роты спускались мѣрнымъ шагомъ по дорогѣ къ мѣсту сбора. Понялъ ли онъ?
Его судили вчера вечеромъ въ танцевальной залѣ „Почтоваго кафэ“. Тамъ еще оставались со времени нашего послѣдняго концерта сосновыя вѣтки, трехцвѣтныя бумажныя гирлянды и на эстрадѣ большой плакать, разрисованный музыкантами: „Не волноваться и не прерывать“. Защищалъ его по назначенію какой-то маленькій капралъ, жалкій, смущенный. Когда онъ стоялъ одинъ на сценѣ и руки его безпомощно болтались, казалось, что онъ сейчасъ запоетъ, и представитель правительства смѣялся, прикрывшись рукой въ перчаткѣ.
— Ты знаешь, что онъ сдѣлалъ?
— Прошлой ночью, послѣ наступленія, его назначили въ патруль. Такъ какъ онъ и наканунѣ былъ въ патрулѣ, то онъ отказался идти. Вотъ и все…
— Ты его зналъ?
— Да, онъ былъ изъ Коттвиля. У него было двое маленькихъ дѣтей.
Двое малютокъ ростомъ не выше его столба…
X НАСТУПАЮЩАЯ АРМІЯ
Шумѣла и бурлила въ темнотѣ большая дорога, будто галлерея рудника, когда въ часъ подъема наверхъ внезапно потушатъ всѣ огни. Толпы не видно было, но чувствовалось, какъ она живетъ и движется въ этой черной, какъ чернила, ночи, и каждый отрядъ прокладывалъ себѣ дорогу, и среди суматохи слышался топотъ, гулъ голосовъ, скрипъ колесъ, ржаніе лошадей, ругательства, — все это смѣшивалось, сливалось, какъ сливались въ густой темнотѣ поля, дорога и люди.
Однако, во всей этой суматохѣ былъ порядокъ. Ополченцы направлялись въ тылъ, наши полки шли на позиціи, повозки, грузовики держались своего направленія; роты вплотную шли навстрѣчу другъ другу, отходили къ откосамъ, чтобы дать дорогу мотоциклистамъ: „Право держись! Право!“ Артиллерійскія лошади обдавали насъ своимъ дыханьемъ, огромныя колеса грузовиковъ задѣвали за башмаки, и среди этого людского гула, грохота, безконечнаго топота ногъ колонны наступающей арміи медленно подвигались впередъ.
Сгрудившись вдоль канавы, остановившіеся полки смотрѣли, какъ мы проходили.
Люди вытягивали шеи, какъ бы разыскивая кого-то въ этомъ черномъ потокѣ. Нѣкоторые валялись въ травѣ; тамъ виднѣлись то бѣлый подсумокъ, то красный огонекъ папиросы. Мы перекликались съ ними:
— Какой полкъ?
— Будетъ ли еще деревня до окоповъ?
— Откуда вы пришли?
Шли, задерживаясь, неровнымъ шагомъ, отъ котораго подкашивались ноги.
Иногда останавливались, такъ какъ дорога была загромождена; въ темнотѣ слышно было, какъ звякаютъ цѣпочки мундштуковъ у вставшихъ на дыбы лошадей, и ругаются артиллеристы. Люди хватали насъ за руки.
— Это вы будете наступать? Арабы уже тамъ. Ахъ, если бы вы знали, какая тамъ масса пушекъ…
Фуйяръ, идя рядомъ со мной, отвѣчалъ на это ворчаньемъ:
— А у бошей нѣть пушекъ, нѣть? Старые болтуны. Не могу спокойно слышать этого.
Когда колонна двинулась дальше, пробираясь между двумя рядами артиллерійскихъ повозокъ и лошадей съ пѣной у рта, онъ схватилъ обѣими руками одну изъ лошадей за хвостъ и рѣзко дернулъ. Тяжелый крупъ животнаго даже не шевельнулся.
— Что же, не умѣетъ она брыкаться, твоя старая кляча, — крикнулъ онъ возницѣ, возсѣдавшему на своемъ мѣстѣ. — Хоть бы переломила она мнѣ ногу, чортъ возьми!
Между нашими рядами шелъ мулъ пулеметной команды съ зарядными ящиками на спинѣ, и Фуйяръ плелся за нимъ въ надеждѣ, что онъ его лягнетъ, и, чтобы раздразнить его, онъ принялся дергать его за хвостъ, какъ за шнурокъ звонка. Отупѣвъ, какъ люди, мулъ не обращалъ никакого вниманія.
— Ты съ ума сошелъ! — сказалъ Гамель. — А если онъ тебя ударитъ копытомъ въ животъ?
— Наплевать… Заболѣю и не придется наступать.
Жильберъ шелъ сзади него и шутя какъ бы цитировалъ приказъ по арміи:
— „Всегда проявлялъ храбрость и иниціативу, показывая товарищамъ примѣръ несравненнаго геройства.“
Фуйяръ обернулся:
— Н…ь мнѣ на тебя… Занимайся свой за…
Бреваль, сгибаясь подъ сумкой, прошепталъ: — Храбрости хватаетъ только на руготню… Животныя, глупѣе лошадей…
Едва можно было различить очертанія деревьевъ, такъ темна была ночь, я вдали у нашихъ позицій, гдѣ грохотали наши пушки, не было видно ни единаго отблеска на нависшемъ небѣ. За этой большой темной стѣной разыгрывалось невидимое сраженіе, и по дорогамъ, набухшимъ, какъ артеріи, къ нему притекала новая кровь.
На минуту колонна затопталась на мѣстѣ: „Держись лѣвѣй!“ — кричали передъ нами. Черная масса преградила дорогу: двѣ лошади съ длинными вытянутыми ногами, опрокинутая повозка и трупы, скорбныя очертанія которыхъ угадывались подъ накинутой на нихъ палаткой. Отъ этой груды шелъ приторный и теплый запахъ. Ополченцы поспѣшно наполняли широкую яму, вырытую снарядомъ.
Одинъ изъ ополченцевъ не работалъ. Онъ всталъ на камень и, нагнувшись, разглядывая сверху нашъ людской потокъ, кричалъ:
— Байель Эмиль, пятой роты… Это не пятая рота идетъ? — Эмиль! Эмиль!.. Вы не знаете Байеля, это мой сынъ. Эй! Эмиль!
Колонна, усталая, темная, непроницаемая проходила мимо него.
Никто не отвѣчалъ. На ходу оборачивались и смотрѣли на старика.
За нами раздавался еще его голосъ:
— Эмиль… Вы не знаете Байеля, пятой роты?
Еще бы не знать, конечно, мы знали его… Бѣдный мальчикъ!
* * *
Былъ праздникъ, и солдаты, столпившись по обѣимъ сторонамъ улицы, смотрѣли на проходившихъ полногрудыхъ, съ лоснящимися щеками, дѣвушекъ, въ яркихъ кофточкахъ, которыя смѣялись и громко говорили, стараясь походить на парижанокъ. Жадными глазами провожали онѣ ихъ, и выразительными комплиментами привѣтствовали самыхъ красивыхъ.
Дочь мэра, худощавая, анемичная, прошла, опустивъ глаза, съ почтовой служащей, стройной дѣвушкой въ черномъ платьѣ, похожей на продавщицу изъ магазина, которая шла танцующей походкой и, вѣроятно, немного напудрила свои матовыя щеки. Увидя ее, Бурланъ покраснѣлъ, и она улыбнулась ему.
— Идемъ за ней? — предложилъ Сюльфаръ, который только-что постригся и считалъ себя неотразимымъ.
Но Вьеблэ это не интересовало. Онъ длиннымъ колосомъ щекоталъ издали ладонь содержательницы кабачка, которая кокетничала, стоя среди подругъ.
— Оставь, — тихо отвѣтилъ онъ рыжаку, — вотъ увидишь, мы напьемся хорошо.
По другую сторону улицы раздавали ножи.
Происходило это во дворѣ кузнеца. Передъ домомъ люди изъ обоза выгружали тяжелые ящики съ патронами, за которые они брались вчетверомъ, какъ гробовщики за гробъ. Дальше было нѣчто вродѣ толкучки.
На мостовой кучей сложили большіе складные ножи съ деревянными ручками, и фурьеръ Ламберъ, сидя на корточкахъ передъ своимъ товаромъ, раздавалъ ножи по отдѣленіямъ. Всѣ шумѣли, толкались, кричали.
— Мнѣ все равно, — оралъ Ламберъ съ раскраснѣвшимся лицомъ, — меня это не касается… Мнѣ приказали раздать ножи всему второму взводу, я раздаю ножи… Велѣли бы мнѣ раздать вамъ зонты, роздалъ бы зонты… Остальное не мое дѣло… идите объясняйтесь съ начальствомъ…
Мало-по-малу куча ножей уменьшалась.
— Торопитесь! — шутилъ фурьеръ. — Не хватитъ для всѣхъ. Ну, у кого еще нѣть ножа? Седьмое отдѣленіе, живѣй!.. Десять великолѣпныхъ новенькихъ ножей. Это дается вамъ не въ видѣ выигрыша, а для дѣла.
Капралы уходили съ карманами, полными ножей. На улицѣ, чтобы порисоваться передъ дѣвушками, нѣкоторые изъ нихъ открывали свои ножи съ сухимъ прищелкиваніемъ и пробовали остріе на оборотной сторонѣ руки.
— Для чего онъ нуженъ, — сказалъ мнѣ маленькій капралъ нашей роты съ унылымъ лицомъ. — На кой чортъ мнѣ этотъ ножъ, я по профессіи садовникъ.
— А въ отдѣленіи у меня есть даже книжный торговецъ. Развѣ при нашихъ профессіяхъ намъ нуженъ ножъ?
Бертье прогуливался одинъ, задумчивый, какъ всегда, заложивъ руки за спину и опустивъ голову. Я присоединился къ нему. Онъ мнѣ повторилъ все, что онъ узналъ утромъ, при рапортѣ, относительно наступленія. Въ данный моментъ единственный приказъ: прорваться. Во время боя не смѣнятъ ни одну часть; новыя волны будутъ приливать на смѣну разбитымъ волнамъ, и продвигаться будутъ впередъ во что бы то ни стало.
На нашихъ флангахъ будутъ марокканская дивизія, иностранный легіонъ изъ двадцатаго корпуса; сзади — вся армія… Впервые чувствовалось, что готовятся къ настоящему сраженію, а не къ одному изъ тѣхъ трагическихъ столкновеній, но къ одному изъ тѣхъ смѣхотворныхъ передвиженій, въ которыя превращались предыдущія наступленія.
На краю деревни за небольшой рощей тяжелая артиллерія стрѣляла учащенными залпами, ничего не видя передъ собой, кромѣ зеленаго занавѣса орѣшника. Было тепло, и артиллеристы сняли для удобства свои куртки и, обливаясь потомъ, всовывали въ дула орудій снаряды, какъ хлѣба въ печь.
— Никогда такъ усиленно не стрѣляли, — сказалъ намъ одинъ изъ бригадировъ, — каждое орудіе обстрѣливаетъ пространство только въ двадцать метровъ; камня на камнѣ не остается…
Въ ведрѣ воды у пирамиды изъ снарядовъ охлаждались бутылки. Между двумя выстрѣлами артиллеристы въ однѣхъ рубашкахъ подходили, выпивали по глотку и, обтеревъ потъ со лба оборотной стороны руки, снова принимались за свою адскую игру въ шары.
По дорогѣ разгуливали или лежали на откосѣ кавалеристы, лошади ихъ срывали кусками кожу съ деревьевъ. Сначала на нихъ смотрѣли косо, завидуя лучшимъ условіямъ ихъ службы, ихъ лощенной формѣ, а особенно тѣмъ привѣтствіямъ, съ которыми къ нимъ издали обращались дѣвушки, но никто не шутилъ надъ ними, какъ обыкновенно, никто не спрашивалъ ихъ насмѣшливо: „Ты знаешь, гдѣ находятся окопы?“ Вскорѣ, наоборотъ, стали бесѣдовать съ ними по-приятельски. Они говорили намъ:
— Наша задача — преслѣдованіе… Когда вы прорветесь, нагрянемъ мы и атакуемъ ихъ резервы.
За нами ждала цѣлая армія: блиндированные автомобили, понтонеры, эскадроны, 75 мм. батареи, и мы, казалось, чувствовали, какъ вся эта масса подталкиваетъ насъ, давить на насъ. Бесѣдовали, обсуждали, охваченные лихорадочнымъ возбужденіемъ. Высокій артиллеристъ, немного пьяный, повторялъ:
— Я вамъ говорю, что послѣ этого удара война кончится… Это послѣднее наступленіе, ребята…
Никогда мы не видѣли столько разнообразныхъ формъ вплоть до большихъ красныхъ плащей спаги за ржавой рѣшеткой замка. Можетъ быть приподнятое настроеніе всѣхъ этихъ людей заражало насъ и заставляло хотя на одинъ день отдаться этой горячей атмосферѣ надежды…
Машинально, какъ лошади, возвращающіяся въ конюшню, мы направились за ограду, гдѣ Буффіу расположился со своей походной кухней. Человѣкъ двадцать сгрудилось вокругъ деревенскаго стола, и оживленіе царило среди нихъ.
Посреди группы, отстраняя другихъ широкимъ жестомъ, какъ балаганный силачъ, готовящійся демонстрировать свою силу, стоялъ съ засученными рукавами Гамель и давалъ представленіе. Онъ вытащилъ свой матросскій ножъ и, держа его крѣпко въ кулакѣ, въ своей толстой косматой рукѣ, выгибался и сильнымъ ударомъ, съ возгласомъ: „разъ“, какъ мясникъ, всаживалъ все лезвіе въ кусокъ бычачьей туши, уже проколотой въ двадцати мѣстахъ. Тѣ, кто получили ножи, толпились за нимъ, съ ножами въ рукѣ, крича такъ, какъ будто они собирались драться.
Они бросались на мясо, и одинъ за другимъ жестокими ударами потрошили его.
Вынимая лезвіе, они вырывали куски жира, обрѣзки сухожилій, и изрѣзанное мясо уменьшалось въ размѣрѣ, клочьями валялось на изрубленномъ столѣ. Предупрежденный Лемуаномъ, Буффіу прибѣжалъ, и толстый животъ его трясся надъ спадающими штанами.
— Вотъ банда! — кричалъ онъ. — И послѣ этого вы будете жаловаться, что обѣдъ никуда не годится… Наплевать, на этотъ разъ я пожалуюсь лейтенанту.
Гамель, вытирая ножъ, смотрѣлъ на кашевара съ видомъ большого пса, котораго потревожили.
— Тебѣ не нравится, что я имъ показываю? А на товарищей, которымъ завтра придется, можетъ быть, драться, тебѣ наплевать. Ты-то останешься здѣсь и будешь чистить свой картофель. Ловкачъ!
— Что ты его ругаешь, — вступился своимъ мягкимъ голосомъ Лемуанъ. — Ты, вѣдь, съ удовольствіемъ лопаешь супъ, который онъ приготовляетъ.
— А ты чего вмѣшиваешься, свекла, — тотчасъ возразилъ Вьеблэ.
Вмѣшались другіе, не разбирая въ чемъ дѣло, просто изъ удовольствія погорланить.
— Я думаю, что онъ правъ. Кашеваръ придирается къ намъ. Мясо принадлежитъ такъ же намъ, какъ и ему.
Привлеченный этимъ галдежомъ, сержантъ Рикордо, брившійся въ это время, показался съ намыленнымъ лицомъ въ окошкѣ чердака.
— Скоро вы перестанете кричать? Клянусь вамъ, что если вы заставите меня спуститься внизъ, даромъ вамъ это не пройдетъ… Вотъ идетъ лейтенантъ Морашъ, довольны вы?
Этого было достаточно: всѣ замолчали и разошлись.
Въ тушѣ мяса остался торчать большой ножъ, яростно всаженный по рукоятку, на которой запечатлѣлся кровавый слѣдъ чьей-то руки.
* * *
Въ заднюю комнату, гдѣ мы завтракали, восемь человѣкъ за однимъ столомъ, приходили посѣтители изъ большой, слишкомъ переполненной залы, со стаканами въ рукѣ. Отъ непрерывнаго пушечнаго грохота дрожали наши бутылки и подпрыгивали разрисованныя тарелки на буфетѣ; иногда рѣзко доносился болѣе сильный выстрѣлъ и заглушалъ голоса.
— Какъ садятъ!
— Что, завтра наступаютъ или нѣть?
Говорили только о войнѣ, о наступленіи, о походномъ госпиталѣ, и когда на минуту забывали объ этомъ и заговаривали о минувшемъ счастьѣ, о Парижѣ, о потерянномъ домашнемъ уютѣ, пушки ударомъ въ дверь снова напоминали о себѣ.
До ужина шлялись, пили, бесѣдовали и утомились. Три деревенскихъ улицы были переполнены войсками, а на большой дорогѣ запыленные грузовики рычали, увозя пѣхотинцевъ, которые на ходу, въ облакахъ пыли, выкрикивали намъ номеръ своего полка.
На ярко-голубомъ, цвѣта синьки, небѣ выдѣлялись и клубились бѣлыя пятна шрапнелей, какъ барашки облаковъ лѣтомъ, предвѣщающіе хорошую погоду. Среди нихъ мелькалъ и легко кружился аэропланъ. На углахъ столовъ, сидя на тачкѣ или на дышлѣ повозки, присѣвъ на корточки къ своей палаткѣ, или прислонившись къ стѣнѣ, солдаты писали письма. На лугу играли въ футболъ съ громкими криками, и, товарищи, сидя верхомъ на скамьяхъ, слѣдили за игрой, въ то время какъ погонщики муловъ изъ обоза стригли имъ волосы. По ту сторону деревни всѣ улочки были пусты. Повсюду разносился успокоительный здоровый запахъ цвѣтущей бузины.
— Да, погода неподходящая для того, чтобы драться, — вздохнулъ Жильберъ, покусывая стебель аниса.
Ламберъ, который шелъ за нами, съ опущенной головой, казалось проснулся.
— Погода для того, чтобы драться, — вспылилъ онъ. — Это ты прочелъ въ „Pêle-Mêle?“ А, ловко они умѣютъ шутить, всѣ эти негодяи, которые пишутъ о войнѣ… умереть при свѣтѣ солнца, вотъ оно что!.. Очень хотѣлъ бы я увидѣть, какъ подыхаетъ такой писака въ проволочныхъ загражденіяхъ, разинувъ ротъ… Я попросилъ бы его полюбоваться пейзажемъ…
Солнечные лучи, просвѣчивая сквозь листья, широкими пятнами падали на дорогу. Ручей протекалъ между мальвами, увлекая за собой длинныя распустившіяся водоросли — волосы Офеліи. Подъ деревьями товарищи срывали цвѣты, прежде чѣмъ запечатать письма.
— Идемъ, не будемъ слишкомъ вдумываться, — встряхнувшись сказалъ Жильберъ.
* * *
Бомбардировка утихла, но поднявшійся вѣтеръ доноситъ изъ окоповъ шумъ ружейной стрѣльбы. Одна сторона палатки осталась открытой и выходила къ позиціямъ, и поверхъ темнѣющаго лѣса видна иногда бѣглая зарница отъ ракетъ.
Вытянувшись на свѣжей хрустящей соломѣ, мы прислушиваемся всѣмъ существомъ къ неясному шопоту глухихъ голосовъ и къ звукамъ пѣсенъ.
Въ темнотѣ виднѣются бѣлыя пятна, колеблемыя вѣтеркомъ — это сушится бѣлье солдатъ. Но въ эту свѣтлую ночь при звукахъ этихъ пѣсенъ, среди разлитой всюду нѣжности кажется, что это бѣлыя платья еще не ушедшихъ дѣвушекъ, чудится, что женщины здѣсь, близко и слушаютъ насъ. Мы не стали бы говорить съ ними, нѣтъ — лишь бы онѣ были здѣсь, лишь бы чувствовать ихъ близость…
Хорошо подъ лаской мягкаго вѣтра. Томные голоса снова начинаютъ вполголоса припѣвъ и медленно произносятъ слова любви, чтобы лучше упиться ими.
Закрой свои красивые глаза, Ибо кратки часы Въ чудесномъ краю Въ сладостномъ краю гре…е…зы.Голоса становятся все нѣжнѣе, пѣсня замираетъ… Не хочется больше ничего видѣть, ни солдатъ, ни войны… Ночью у нашихъ выцвѣтшихъ шинелей не такой грустный видъ. Не хотѣла ли бы ты имѣть платье такого цвѣта?
Жильберъ лежитъ въ глубинѣ палатки и произносить вслухъ стихи, которые всѣ слушаютъ, глядя на мерцающія звѣзды.
Мы унеслись далеко, далеко: въ Парижъ, въ деревню, къ себѣ!.. Воспоминаніе о минувшихъ радостяхъ таетъ во рту, какъ восхитительное лакомство, и сердца наполнены такой нѣжностью, что, когда сожмешь ихъ, оттуда льются пѣсни.
Закрой свои красивые глаза…Вдругъ на улицѣ слышится мѣрный шагъ проходящаго мимо отряда. Что это такое?.. Мы ихъ тотчасъ узнали по бѣлымъ повязкамъ на рукавахъ. Первые ряды несутъ на плечахъ скатанныя носилки, слѣдующіе катятъ легкія повозки на двухъ колесахъ. Одинъ изъ нихъ несетъ фонарь, и желтыя пятна свѣта прыгаютъ вокругъ него, какъ бѣшеная собака. Молчаливый отрядъ уходить вдаль…
— Ну, что, нарушаетъ молчаніе смущенный голосъ, — скажи намъ еще что-нибудь.
— Нѣтъ, кромѣ шутокъ, я ничего больше не знаю…
Воцаряется молчаніе… Однако, и раньше былъ только топотъ, но достаточно было шопота, чтобы заглушить шорохи этой безпокойной ночи. Теперь они слышны всѣ: тяжелое дыханіе спящаго, хрустѣніе соломы подъ измученными тѣлами, и тамъ, дальше, тревожный гулъ окопа, гдѣ разыгрывается бой. Молчаливая ночь внезапно измѣнилась, она стала теперь глубокой и вдумчивой, какъ мечта тридцатилѣтняго человѣка.
Изъ-за покрова елей, неспѣшно поднимается луна. Она медленно отбрасываетъ рѣзкую тѣнь отъ столбовъ и ружейныхъ козелъ на низкую траву, и странные черные знаки вырисовываются на прекрасномъ серебристо-пыльномъ полѣ…
XI ПОБѢДА
По всѣмъ подступамъ отъ тыла къ окопамъ сплошными массами двигались на позиціи наступающіе полки.
— Впередъ, передавайте дальше.
— Впередъ… — съ ругательствами передавали дальше сердитые голоса.
И расчлененная колонна снова продвигалась тяжелымъ шагомъ, позвякивая котелками и снаряженіемъ. Разсвѣтъ засталъ насъ въ узкихъ проходахъ, по которымъ наша рота, ушедшая одной изъ послѣднихъ, шагала съ двухъ часовъ утра, безпрестанно наталкиваясь на санитаровъ съ носилками, задерживаясь изъ-за смѣняющихся частей, и германская артиллерія тотчасъ же начала обстрѣлъ. Шрапнели, казалось, преслѣдовали насъ, разрываясь все ближе, и батальонъ спѣшилъ, какъ отъ погони, къ позиціямъ, а надъ нимъ вились облака зеленаго дыма.
Велъ насъ Морашъ; онъ растерялся, не могъ найти дороги, и мы шли, куда велъ насъ узкій проходъ, преслѣдуемые снарядами. Между взрывами мы слышали холодный и размѣренный, какъ на ученіяхъ, голосъ капитана Крюше:
— Ну, Морашъ… Вы оріентируетесь?
Снаряды гнались за нами, какъ будто у нихъ были глаза. Мы шли впередъ, загибая въ сторону, уходили назадъ, но погоня не отставала отъ насъ, мы были оглушены ревомъ и задыхались отъ терпкаго дыма.
При каждой вспышкѣ мы бросались другъ къ другу, головы и ноги наши переплетались, мы прижимались къ краямъ прохода, стараясь втиснуться въ каждую выемку земли. Снаряды взрывались низко, засыпая иногда нашъ путь осколками, и изъ кучи прижавшихся тѣлъ раздавались крики:
— Охъ, я раненъ.
Растерянные, отупѣвшіе, мы шагали черезъ тѣла; толкаясь, продвигались на двадцать шаговъ, потомъ снова становились на четвереньки, согнувъ спину, и лица наши нервно дергались отъ оглушительнаго треска.
— Ну, Морашъ, — снова раздавался голосъ капитана, — правильно мы идемъ? Тт… тт! Вы увѣрены?
Съ пересохшимъ горломъ шли дальше, не зная куда. Однако, паники не было, какая-то дисциплина сохранялась среди всеобщаго замѣшательства; одурманенный разсудокъ слегка мутился, какъ бы вырвавшись изъ адской кузницы, но все-таки оставался яснымъ, и между залпами и выстрѣлами методически передавались приказанія, какъ передаются среди фабричнаго шума распоряженія главнаго мастера.
Наконецъ, мы внезапно вышли изъ полосы обстрѣла. Сразу воцарилось спокойствіе, и мы замѣтили, что солнце уже встало. Мы вышли на дорогу, на обоихъ склонахъ которой зеленѣли густые кусты. Сюльфаръ тотчасъ бросился обшаривать вѣтки.
— Эй, ребята… здѣсь есть спѣлыя!..
* * *
— Не трогайте меня, не трогайте меня… — повторилъ раненый съ посинѣвшимъ лицомъ, медленно идя намъ навстрѣчу. Руки его были раздроблены и висѣли, какъ двѣ кровавыя тряпки. Дойдя до насъ, онъ сказалъ безжизненнымъ голосомъ, въ которомъ не чувствовалось даже страданія.
— Я хочу сѣсть, поддержите меня за шинель.
И, придерживая его за воротникъ, его усадили на выступъ стрѣльбища; онъ сидѣлъ вытянувшись, и руки его, превратившіяся въ кровавую массу, едва держались въ разодранныхъ рукавахъ. Носъ у него былъ тонкій, вытянувшійся, какъ будто смерть уже готовилась задушить его.
— Ты поторопился бы на перевязочный пунктъ, — сказалъ ему Лемуанъ, видя, какъ съ рукавовъ стекаетъ кровь.
— Да, я иду туда… зажгите мнѣ папиросу… вложите ее мнѣ въ ротъ…
Его приподняли, и онъ пошелъ, поблагодаривъ кивкомъ головы, машинально шагая, а впереди него шелъ товарищъ, отстраняя столпившихся солдатъ.
— Пропустите, раненый…
Вся рота собралась здѣсь, передъ четырьмя грубо сколоченными лѣстницами, она была похожа на огромный живой щитъ изъ сдвинутыхъ касокъ. Безъ сумокъ, со скатанными одѣялами, съ лопатами на боку, „въ парадной формѣ“, какъ шутилъ Жильберъ.
По правую сторону отъ насъ рота одного изъ полковъ послѣдняго призыва только-что взяла ружья на перевѣсъ; они должны были выйти вмѣстѣ съ нами въ первую очередь. Всѣ проходы, всѣ окопы были переполнены, и стиснутый между сотнями, тысячами людей, каждый, въ какомъ бы настроеніи онъ ни находился, чувствовалъ себя только крупицей среди этой человѣческой массы.
Одни съ раскраснѣвшимися щеками, съ блестящими глазами, оживленно разговаривали, охваченные какой-то лихорадкой. Другіе молчали, очень блѣдные, съ слегка дрожащими подбородками.
Поверхъ мѣшковъ съ землей мы смотрѣли на германскія позиція, окутанныя облаками дыма, въ которомъ слышался трескъ выстрѣловъ; за ними, среди полей, казалось, пылали три деревни, а наша артиллерія все стрѣляла, и среди непрерывнаго грома нельзя было ничего разобрать. Поля сотрясались подъ этимъ яростнымъ натискомъ, и я чувствовалъ, какъ подъ моимъ локтемъ дрожитъ и колеблется окопъ.
Жильберъ ежеминутно взглядывалъ на часы. Отъ тревожнаго ожиданія у него сжималось сердце, ему хотѣлось уже услышать сигналъ, выступить сейчасъ же, покончитъ съ этимъ. Онъ подумалъ вслухъ:
— Они хотятъ продлить удовольствіе.
На брустверѣ, между двумя пучками травы дрались двое насѣкомыхъ: большой темно-красный навозный жукъ съ жесткой спинкой и голубое насѣкомое съ тонкими щупальцами. Жильберъ смотрѣлъ на нихъ, и когда жукъ уже готовъ былъ смять насѣкомое, онъ опрокидывалъ его на спинку, со лба его упала капля лота на маленькое голубое насѣкомое, и оно отряхнуло свои пестрыя крылышки.
— Вниманіе, время приближается, — предупредилъ офицеръ справа отъ насъ.
Ближе раздалась команда Крюше:
— Ружья на перевѣсъ… Гренадеры впередъ.
Стальной трепетъ пробѣжалъ по всему окопу. Жильберъ, склонившись надъ насѣкомыми, смотрѣлъ на нихъ, не слыша біенія своего сердца.
Крюше рѣшительно подтянулъ ремень у каски. Онъ всталъ на первой ступени лѣстницы, сооруженной изъ мѣшковъ съ мукой, и посмотрѣлъ на насъ.
— Друзья мои… Тт… Тт… За Францію, не такъ ли?… Наступать какъ слѣдуетъ… Мы сметемъ все съ нашего пути…
Волновался ли онъ, но мнѣ показалось, что голосъ его не такъ сухъ, не такъ рѣзокъ, какъ обыкновенно. Мы стягивали пояса, отталкивали лопаты, бившія по ляжкамъ. Бертье, стоя у подножія лѣстницы, былъ готовь подняться. Повернувъ голову, онъ увидѣлъ искаженное лицо Мораша.
— За вами, господинъ лейтенантъ, — сказалъ онъ по военному, отступивъ на шагъ.
Тотъ, смущенный, нашелъ предлогъ:
— Что? — забормоталъ онъ. — Вы боитесь выйти первый…
Подпрапорщикъ ни слова не говоря, повернулся и снова ступилъ ногой на лѣстницу.
Сзади видно было только, какъ онъ пожалъ плечами.
— Морашъ увиливаетъ, — крикнулъ Вьеблэ среди шума.
Лейтенантъ, можетъ быть, слышалъ, но не шелохнулся. Изъ кучи ощетинившихся штыками людей тотъ же голосъ продолжалъ:
— Теперь мало имѣть здоровую глотку… Надо идти впередъ… Это труднѣе чѣмъ сажать людей въ карцеръ. Тутъ всѣ равны.
Среди пушечнаго грома слышенъ былъ только этотъ насмѣшливый голосъ, и товарищи смѣялись, безъ гнѣва, какъ будто въ этихъ словахъ они нашли облегченіе.
Тѣла раскачивались, готовыя ринуться впередъ, напирая на брустверъ, подобно морскому приливу.
Рѣзко просвистѣли 75-миллиметровые снаряды, и тотчасъ ревъ тяжелыхъ орудій, казалось, стихъ или отдалился.
— Готовы?… — спросилъ Крюше болѣе громкимъ голосомъ.
Разомъ дрогнули всѣ сердца у этой вооруженной толпы.
— У тебя есть мой адресъ, — успѣлъ сказать Сюльфаръ Жильберу срывающимся отъ волненія голосомъ…
О, какой рѣзкій зловонный запахъ у пороха… Слѣва послышались не то крики, не то пѣсня: „Зуавы вышли!“ Грянулъ залпъ изъ 105-миллиметровыхъ орудій, — пять ударовъ въ литавры…
— Третья рота, впередъ! — крикнулъ капитанъ.
— Впередъ!..
Крики, толкотня, кто-то съ проклятіемъ падаетъ, винтовки задѣваютъ одна за другую… У всѣхъ бьется въ вискахъ, всѣ взбираются на брустверъ, затѣмъ выпрямляются, чувствуя, какъ дрожатъ ноги. Всматриваются въ огромную, голую равнину… „Впередъ“.
Вышли, бѣгутъ…
Затрещалъ пулеметъ, одинъ только пулеметъ. Затѣмъ, встрепенувшись, обезумѣвъ, германская артиллерія начала обстрѣливать всю мѣстность.
Люди уже растягивались въ цѣпь, цѣпь тонкихъ силуэтовъ и наклоненныхъ ружей, и ровнымъ бѣгомъ подвигались впередъ прямо къ безмолвнымъ окопамъ.
Слѣва съ крикомъ наступалъ батальонъ, съ горнистами во главѣ.
Одинъ изъ офицеровъ, оставшись одинъ, съ шашкой въ рукѣ подгонялъ послѣднія отдѣленія молодыхъ солдатъ, которые колебались передъ огненной завѣсой.
— Ну… Живѣй, выходите, выходите!
Показалась горсть юношей. Передъ ними взорвался снарядъ; красный огонь, разлетѣвшіеся осколки. Чье-то изуродованное тѣло свалилось и забрызгало кровью брустверъ. Въ дыму послышались стоны.
— Ну же! Опасности больше нѣть… Выходите!
Они машинально, растерянные, ринулись впередъ, отдѣленіе за отдѣленіемъ. Но при каждой попыткѣ огонь сразу отбрасывалъ ихъ, и они снова скатывались въ окопъ. Каждый разъ встрѣчалъ ихъ залпъ.
— Выходите, чортъ возьми!
Волна молодыхъ солдатъ медленнѣе прилила къ откосу, на который они не рѣшались уже взобраться… Нѣть, они не въ силахъ больше…
Офицеръ однимъ прыжкомъ выскочилъ впередъ:
— Впередъ, трусы!
Маленькій вольноопредѣляющійся подталкивалъ ихъ въ спину, принуждая выходить, и кричалъ дѣвичьимъ голосомъ. Шатаясь, появились они изъ окоповъ, подталкиваемые кулаками, и въ послѣдній разъ отпрянули назадъ, какъ будто послѣдняя судорога прошла передъ смертью у этого живого пушечнаго мяса.
— Есть!.. Впередъ!.. — крикнулъ дѣвичій голосъ.
Разозленные понуканіями, они ринулись впередъ, разсыпались, кинулись прямо на дымовую завѣсу. Конечно, преграда пройдена…
Батальоны, разсѣянные по полямъ, неслись впередъ, и кто-то по ту сторону первыхъ линій махалъ значкомъ: деревня была взята.
* * *
Разрушенныя стѣны, зіяющіе фасады, кучи черепицъ и щебня, цѣликомъ сорванныя крыши, окоченѣвшія ноги, торчащія изъ-подъ развалинъ… Подъ мусоромъ и щебнемъ иногда виднѣлись погнутыя рельсы, и по нимъ можно было догадаться, что здѣсь проходила улица. Перебѣгали отъ развалинъ къ развалинамъ, прислонялись къ обломкамъ стѣнъ, стрѣляя передъ собой, забрасывая гранатами пустые погреба.
Кричали…
Громъ пушекъ сталъ слабѣе, но пулеметы черезъ отдушины косили по деревнѣ. Люди падали, согнувшись вдвое, какъ будто тяжесть головы пригибала ихъ къ землѣ. Нѣкоторые кружились, скрестивъ руки, и падали на спину, согнувъ колѣни. На нихъ съ разбѣга едва обращали вниманіе.
Кто-то блѣдный, какъ мѣлъ, крикнулъ Жильберу:
— Ламберъ убитъ!
Вокругъ колодца люди дрались, осыпая другъ друга ударами палокъ, кулаковъ или ножей — то была отдѣльная схватка среди сраженія. Вьеблэ столкнулъ одного нѣмца въ колодецъ, налетѣвъ на него головой, и съ того соскочила — сѣрая шапка съ краснымъ околышемъ. Все рѣзко, грубо отпечатлѣвалось въ мозгу, не вызывая волненія: крики людей, которыхъ убиваютъ, взрывы, трескъ гранатъ, падающіе товарищи; неслись впередъ, не зная направленія, одинъ за другимъ, и стрѣляли прямо передъ собой…
Нѣсколько нѣмцевъ безъ снаряженія пробѣжало съ поднятыми вверхъ руками по направленію къ нашимъ позиціямъ. Одинъ изъ нѣмцевъ, стоя у входа въ погребъ, вытиралъ кровь со лба и лѣвой рукой сдѣлалъ намъ привѣтственный знакъ.
Несмотря на трескъ, слышенъ былъ длительный полетъ тяжелыхъ снарядовъ, которые падали посреди деревни, поднимая густое облако пыли и дыма, и люди, согнувъ спину, бросались къ стѣнамъ и прижимались къ нимъ.
Среди пыли и обваливающейся штукатурки мы слились съ общимъ фономъ этого кладбища вещей. Ничто не уцѣлѣло, не сохранило своей формы; кучи обломковъ, складъ вещей, надъ которымъ разразилась катастрофа, гдѣ вое перемѣшалось: трупы, торчащіе изъ-подъ развалинъ, треснувшіе камни, клочки матерій, обломки мебели, солдатскія сумки, вое это слилось, все подверглось уничтоженію, и трупы были столь же трагичны, какъ обломки и камни. Мы выбились изъ силъ, задыхались и не бѣжали уже. Развалины пересѣкала улица, и невидимый пулеметъ обстрѣливалъ ее, поднимая облако пыли низко надъ землей.
— „Всѣ въ канаву!“ — кричалъ фельдфебель.
Не глядя, прыгнули мы туда. Когда я коснулся до мягкаго дна, ужасъ охватилъ меня, и сверхчеловѣческое отвращеніе заставило отпрянуть назадъ. Тамъ было гнусное скопище труповъ, чудовищная раскрытая могила, гдѣ одни убитые баварцы, съ восковыми лицами лежали на другихъ, уже почернѣвшихъ, съ оскаленными ртами, изъ которыхъ шло смрадное зловоніе, цѣлая куча разложившихся тѣлъ, какъ бы расчлененные трупы съ совершенно вывернутыми ногами и колѣнями, и всѣхъ ихъ сторожилъ мертвецъ, оставшійся стоять на ногахъ, прислонившійся къ краю канавы — чудовище безъ головы. Первый изъ нашей группы не рѣшался ступить на эти трупы, давить ногами эти человѣческія лица. Однако, подгоняемые пулеметомъ, всѣ прыгали туда, и общая могила, казалось, наполнилась до краевъ.
— Впередъ, чортъ возьми!..
Мы все еще не рѣшались топтать эту груду тѣлъ, которая осѣдала подъ нашими ногами, но, подталкиваемые другими, мы, не глядя, двинулись впередъ, шлепая и увязая въ мертвыхъ тѣлахъ… По какому-то дьявольскому капризу смерть пощадила только вещи: на протяженіи десяти метровъ были разложены въ небольшихъ нишахъ остроконечные каски съ натянутыми на нихъ покрышками, они совершенно уцѣлѣли. Ихъ забрали наши. Нѣкоторые снимали висѣвшіе подсумки, фляжки.
— Смотри, какая великолѣпная пара! — крикнулъ Сюльфаръ, размахивая двумя желтыми сапогами.
При выходѣ изъ канавы, сержантъ, присѣвшій на корточки, кричалъ: — „Налѣво, по одному, налѣво!“ — и мы снова побѣжали гуськомъ по узкой дорожкѣ, вдоль которой шла другая канава. Дальше, въ поляхъ, видна была только сѣть проволочныхъ загражденій, полуприкрытая разросшейся травой… И ни одного окопа, ни одного нѣмца, ни одного выстрѣла.
Такъ какъ стрѣльба прекратилась, то мы умѣрили шагъ и сгруппировались; но грянулъ залпъ шрапнелей, взрывая вдоль всей дороги цѣлый рядъ клубящихся столбовъ, и когда мы взглянули, дорога была пуста. Всѣ зарылись въ канаву, или укрылись за остатками стѣны. Мы кучкой набились въ узкій ровъ, вырытый у подножья глиняной стѣны. Мы нервно придвигали ближе къ затылку ремешокъ скатаннаго одѣяла и ждали… Снаряды зачастили и проносились такъ низко, на такомъ близкомъ разстояніи, что намъ казалось удивительнымъ, почему трава не падаетъ скошенной, и мы закрывали лицо руками. Затѣмъ стрѣльба разсѣялась по всей деревнѣ, нащупывая то тутъ, то тамъ. Солдаты вдоль всей дороги приподнялись, но не выходили изъ-за прикрытій.
— Мы останемся здѣсь? — спросилъ одинъ солдать, уткнувшійся въ большую яму.
— Нѣтъ, идемъ впередъ, — крикнулъ намъ, пробѣгая, Рикордо.
— Не стоитъ, та деревня, вонъ тамъ, взята.
— Какъ называется эта деревня?
Никто не зналъ.
— Сорвалось, — задыхаясь, прошепталъ Фуйяръ, прижавшись ко мнѣ. — Придется отступать.
Одни кричали: — „Вотъ подходитъ иностранный легіонъ“, другіе: „Берегитесь, вотъ наступаютъ боши“.
— Они ударятъ съ фланга.
— Ты пьянъ, это наши окопы.
Бомбардировка заставила ихъ замолчать. Въ промежуткѣ между двумя шквалами мы, скорчившись, опорожняли фляжки.
— Господинъ капитанъ! Мы здѣсь, господинъ капитан…
Крюше спустился съ вершины откоса, скользя, увлекая за собой куски штукатурки.
За нимъ бѣжалъ Бертье, и они перебѣгали отъ ямы къ ямѣ, падая навзничь, когда проносился снарядъ. Капитанъ кричалъ:
— Вы храбрые свиньи… Мы возьмемъ ихъ третью линію… Будетъ сигналъ справа, слѣдите за нимъ…
Лицо его измѣнилось, онъ былъ красный, потный, ротъ былъ широко растянуть и беззвучный смѣхъ замеръ на его губахъ. На бѣгу онъ повторялъ:
— По сигналу справа… Справа…
Грохотъ, и я ничего больше не слышалъ… Какъ будто опрокинулась какая-то масса и свалила васъ всѣхъ, — оглушительный ударъ, порывъ, сбившій насъ съ ногъ… И густое облако, темнота… Десятокъ мыслей пронеслось въ мозгу: мы всѣ убиты, я ослѣпъ, мы засыпаны землей. Затѣмъ крики:
— Ко мнѣ! скорѣй…
Въ дыму видно было, какъ убѣгаютъ раненые. Передо мной лежалъ Фуйяръ, голова его была окружена кровавой лужей, и спина конвульсивно подергивалась, какъ будто онъ рыдалъ. Онъ оплакивалъ свою пролитую кровь.
Еще одно дуновеніе обожгло насъ… Я приподнялся, сжавшись въ комокъ, уткнувъ голову въ колѣни, стиснувъ зубы. Съ перекошеннымъ лицомъ, съ прищуренными, полузакрытыми глазами я ждалъ… Снаряды слѣдовали одинъ за другимъ, но ихъ не было слышно, они падали слишкомъ близко, слишкомъ оглушительно. При каждомъ ударѣ срывается и подскакиваетъ голова, внутренности, все трясется. Хочется стать маленькимъ, все меньше и меньше, каждая часть своего тѣла пугаетъ, члены судорожно сжимаются, голова, гдѣ пустота и шумъ, старается укрыться куда-нибудь, чувствуешь, наконецъ, страхъ, ужасный страхъ… Подъ этими смертельными раскатами грома превращаешься въ дрожащій комокъ, остаются только прислушивающіяся уши и сердце, исполненное страха…
Между каждымъ залпомъ проносилось десять секундъ, десять секундъ жизни, десять безконечныхъ секундъ счастья, и я смотрѣлъ на Фуйяра, который уже не шевелился. Онъ лежалъ на боку, съ багровымъ лицомъ, и огромная рана зіяла у него въ горлѣ, какъ у зарѣзаннаго животнаго.
Зловонный дымъ заволакивалъ дорогу, но ни на что не хотѣлось смотрѣть; я въ ужасѣ прислушивался. Взрываясь вокругъ, снаряды забрасывали насъ осколками камней, а мы лежали въ нашей ямѣ — двое живыхъ и одинъ мертвый.
Внезапно, безпричинно, огонь прекратился. Тяжелые снаряды еще падали на развалины, вздымая черные столбы, но уже дальше, уже на другихъ людей. Мы были такъ потрясены, что это мгновенное затишье, эта короткая передышка показалась намъ чѣмъ-то диковиннымъ. Я обернулся, и у подножья откоса увидѣлъ, какъ Бертье склонился надъ чьимъ-то распростертымъ тѣломъ. Кто это?
Вдоль дороги вставали товарищи. — „Гренадеры!“ — звалъ чей-то голосъ.
Затѣмъ справа стали передавать изъ ямы въ яму приказъ:
— Полковникъ спрашиваетъ, кто командуетъ на лѣвомъ флангѣ… Передавайте дальше…
— Передавайте дальше… Полковникъ спрашиваетъ, кто командуетъ на лѣвомъ флангѣ…
Я увидѣлъ, какъ Бертье потихоньку опустилъ на траву голову убитаго. Онъ всталъ, блѣдный, и крикнулъ:
— Подпрапорщикъ Бертье, третьей роты… Передавайте дальше…
* * *
Жильберъ, волоча трупъ за шинель, дотащилъ его до края широкой воронки, гдѣ мы укрылись. Давно уже онъ не боялся мертвецовъ. Однако, онъ не рѣшился взять его за руку, за его жалкую, скрюченную, желтую и грязную руку, и старался не смотрѣть въ его потухшіе бѣлесоватые глаза.
— Намъ нужно было бы еще три, четыре такихъ трупа, — замѣтилъ Лемуанъ. — Мы сложили бы изъ нихъ хорошій брустверъ, особенно, если посыпать немного землей сверху.
Минуту тому назадъ бѣдный парень съ ошалѣлыми, застывшими отъ испуга глазами бѣжалъ вмѣстѣ съ нами къ германскимъ окопамъ, гдѣ вспыхивали короткіе и прямые огни маузеровъ. Затѣмъ, отъ налетѣвшаго шквала снарядовъ рота порѣдѣла, пулеметы скосили цѣлые ряды людей, и отъ трепетной, несущейся впередъ, безмолвной, трагичной массы осталось только двадцать человѣкъ, зарывшихся въ воронки, остались только ползущіе и стонущіе раненые, и всѣ эти трупы…
Жильберъ слыхалъ, какъ товарищъ между двумя взрывами закричалъ:
— Ахъ! конечно! — Раненый еще проползъ нѣсколько метровъ, какъ раздавленное животное, и умеръ съ судорожнымъ хрипомъ. Вызвало ли это въ насъ печаль? Едва ли…
На этомъ вымершемъ полѣ, на безвѣстномъ кускѣ земли стало только однимъ трупомъ больше, больше однимъ мертвецомъ въ голубой формѣ; его, если возможно будетъ, — похоронятъ послѣ наступленія. Въ нѣсколькихъ шагахъ подъ мѣловымъ холмомъ были зарыты нѣмцы: ихъ кресты пригодятся и для нашихъ, сѣрая фуражка на одной вѣткѣ, голубая — на другой.
— Такъ что же мы будемъ дѣлать? — спросилъ Гамель, съ разорваннаго рукава котораго капала кровь. — Развѣ ты не видишь, что они насъ забыли?
— Да лѣтъ, — сказалъ Жильберъ. — Второй батальонъ, несомнѣнно, выступить, но нужно подождать артиллерійской подготовки.
— А если они возьмутъ низкій прицѣлъ, то опять мы поплатимся.
Германскіе окопы едва виднѣлись, скрытые высокой травой, за зубчатой сѣтью проволочныхъ загражденій. Нѣмцы уже не стрѣляли, и даже пушки ихъ смолкли. Только нѣсколько тяжелыхъ снарядовъ пронеслось очень высоко, издавая булькающій звукъ опорожняющейся бутылки, и попадали въ деревню, заволакивая развалины густымъ облакомъ дыма, похожаго на фабричный.
Нѣсколько солдатъ лежало у края воронки, внимательно наблюдая сквозь траву; другіе бесѣдовали, сгрудившись на днѣ.
— Ты думаешь, что придется идти дальше, брать ихъ третью линію?
— Очень можетъ быть. Если только не начнемъ рыть окопы здѣсь.
— Но, вѣдь, не съ этими же остатками идти въ наступленіе.
— Наплевать! Осталось у тебя что-нибудь въ фляжкѣ?
— Нѣтъ… Посмотри, сколько легло товарищей послѣ того, какъ мы взяли деревню.
Повсюду были убитые: зацѣпившіеся за острыя желѣзныя проволочныя загражденія, упавшіе въ травѣ, зарывшіеся въ воронкахъ. Тамъ голубыя шинели, здѣсь — сѣрыя. Были трупы ужасные, съ раздутыми лицами, какъ бы прикрытыми сплошной маской сѣраго фетра. Были почернѣвшіе, съ пустыми орбитами глазъ, лежавшіе со времени первыхъ наступленій. На нихъ смотрѣли безъ волненія, безъ отвращенія, и когда на воротникѣ шинели прочитывали незнакомый номеръ, то говорили только: — „А я и не зналъ, что ихъ полкъ тоже участвовалъ“…
Снова проснулась германская артиллерія. Нѣсколько снарядовъ взорвалось передъ нашей воронкой, и густое облако, пахнущее порохомъ, наполнило нашу яму. Свернувшись въ комокъ, мы придвинулись другъ къ другу, стараясь спрятаться подъ чужія сплетенныя ноги. Жильберъ инстинктивно закрылъ лицо согнутой рукой, какъ испуганный ребенокъ. Насъ обдало столбомъ земли… Уже второй залпъ снарядовъ разсыпался направо и налѣво, взрывая землю вокругъ насъ. Затѣмъ, внезапно, произошло что-то непостижимо ужасное, какъ будто взорвалось что-то въ насъ самихъ…
Снарядъ, вѣроятно, взорвался на краю воронки. Двое людей скатились на дно ямы и замерли неподвижно. Раненые, обезумѣвъ, убѣгали съ окровавленными лицами, съ красными отъ крови руками. Оставшіеся едва смотрѣли на нихъ, зарывшись въ землю, втянувъ голову въ плечи, ожидая послѣдняго удара. Но вдругъ непріятель измѣнилъ прицѣлъ, и снаряды стали падать правѣе. Всѣ приподняли головы. О, несравненная минута счастья, когда смерть уходитъ дальше!
Жильберъ взглянулъ на равнину. — Боши не выходятъ изъ окоповъ? Нѣтъ… Ничего не видно. — Затѣмъ только онъ посмотрѣлъ на двухъ убитыхъ товарищей съ раскрытыми ртами.
— Нельзя ихъ оставлять здѣсь и ходить по нимъ, — предложилъ Лемуанъ, — положимъ ихъ на край воронки.
Двое товарищей схватили первый трупъ и подняли его на край воронки, и свернувшаяся кровь прилипла къ ихъ рукамъ. Жильберъ повернулъ его лицомъ къ непріятелю, чтобы не видѣть его. Другой трупъ былъ тяжелѣе, и ему пришлось помочь имъ поддержать болтающуюся голову мертвеца.
— Вотъ такъ, — удовлетворенно замѣтилъ Лемуанъ, — у насъ получился уже хорошій брустверъ… Бѣдняги, могли ли они только-что представить себѣ это… Это какъ разъ землякъ, у меня есть его адресъ… Берегись!
Снова началось, снова ложились мы, уткнувшись лицомъ въ сухую землю. Снаряды долетали теперь до насъ такъ быстро, что выстрѣлъ и взрывъ раздавались одновременно. По полю бѣжали раненые, и осколки сшибали нѣкоторыхъ съ ногъ, и они падали на мѣстѣ. Но по ту сторону проволочныхъ загражденій ничего не было видно, ничего. Это было сраженіе безъ непріятеля, смерть безъ боя. Съ самаго утра, съ начала сраженія, мы видѣли только человѣкъ двадцать нѣмцевъ.
Мертвецы, одни только мертвецы. Нѣмцы стрѣляютъ, стрѣляютъ… Чувствуешь, какъ слабѣютъ ноги, холодѣютъ руки, горитъ лобъ. Это и есть страхъ? Канонада, подобно грозѣ, затихла, и изъ всѣхъ воронокъ высунулись встревоженныя лица. Начнутъ ли они наступать? За холмомъ показался офицеръ.
— Держитесь, ребята, — крикнулъ онъ, — держитесь…
Въ ту же минуту чей-то голосъ предостерегающе крикнулъ:
— Берегитесь, вотъ они!
Они выскочили изъ рощицы въ двухстахъ метрахъ отъ насъ, человѣкъ сто. Тотчасъ показалась другая группа, появившаяся неизвѣстно откуда, затѣмъ третья, которая понеслась съ криками, и развернулись цѣпи стрѣлковъ.
— Боши. Стрѣляйте, стрѣляйте… Цѣльтесь ниже…
Всѣ кричали, команды слышались изъ всѣхъ воронокъ, и по всему гребню затрещали выстрѣлы. Вдругъ все скрылось. Легли ли они? Уложили ли мы ихъ?
Минуту спустя бомбардировка возобновилась съ новой силой, и между залпами видно было, какъ убѣгаютъ раненые. Они бѣжали или ползли, стараясь добраться до маленькаго поросшаго листвой откоса, окаймлявшаго большую дорогу.
Наша артиллерія отвѣчала, и залпы слѣдовали за залпами, взрывы происходили одновременно, дымъ не успѣвалъ разсѣиваться, и осколки проносились массами. Внезапно желтое и красное пламя ослѣпило насъ. Мы разомъ прижались другъ къ другу, оглушенные, съ бьющимся сердцемъ.
И Жильберъ упалъ, почувствовавъ только сильный ударъ по головѣ, ощущая на лицѣ адское дуновеніе, ничего не слыша, ничего не понимая.
Когда онъ пришелъ въ себя, голова у него была тяжелая, онъ боязливо пошевелилъ ногами. Ноги повиновались, онѣ двигались… Нѣть, ноги въ цѣлости. Онъ провелъ рукою по лицу… А, оно въ крови. Попало въ лобъ, у виска. Я наклонился надъ нимъ в сказалъ:
— Это ничего… Просто порѣзъ.
Онъ мнѣ не отвѣтилъ, еще оглушенный, и нѣкоторое время оставался неподвижнымъ. Какъ разъ противъ него стоялъ на колѣняхъ Гамель, уткнувшись лицомъ въ землю. Онъ не шевелился, не дышалъ, но Жильберъ не осмѣлился заговорить съ нимъ, даже дотронуться до него, чтобы еще на минуту сохранить иллюзію, что онъ не умеръ. Затѣмъ онъ спросилъ Лемуана, избѣгая произнести роковое слово:
— Уже, а?
Тотъ вмѣсто отвѣта указалъ ему на тонкую струйку крови, пересѣкавшую шею между каской и шинелью. На днѣ воронки лежало, по крайней мѣрѣ, десять труповъ. Между двумя залитыми кровью шинелями изъ-подъ труповъ видно было блѣдное лицо съ широко открытыми испуганными глазами. Мертвый или живой?
Жильберъ вынулъ свой санитарный пакетъ и перевязалъ себѣ лобъ. Онъ вытеръ платкомъ со щеки кровь, которая текла теплой струей, затѣмъ, чтобы охладить горящую голову, прижалъ ее къ холодному дулу винтовки. Во время короткаго затишья онъ услышалъ справа стрѣльбу и взрывы гранатъ. Смутная мысль мелькнула у него: они опять будутъ наступать. Но у него не хватило мужества приподнять голову, чтобы взглянуть на равнину.
Раздался яростный залпъ, затѣмъ шрапнель разорвалась какъ разъ надъ нашей воронкой. Жильберъ на минуту замеръ, сердце его остановилось. Вслѣдъ за тѣмъ однимъ прыжкомъ онъ приподнялся, вскочилъ на край воронки и побѣжалъ. Онъ хотѣлъ укрыться въ другой ямѣ, гдѣ угодно, лишь бы не оставаться больше въ этой канавѣ, въ этой зіяющей могилѣ. Раздался еще залпъ, онъ легъ и вытянулся. Потомъ привскочилъ и, обезумѣвъ, кинулся направо, налѣво, спотыкаясь о тѣла. Всѣ воронки были заняты, вездѣ изувѣченные трупы, растерянные раненые, насторожившіеся солдаты.
— Нѣть ли у тебя мѣста?
— Нѣтъ… Со мной раненый товарищъ.
Онъ минуту повертѣлся, потомъ легъ ничкомъ за пригоркомъ. Сердце его сильно билось, какъ животное, которое онъ придавилъ бы своимъ тѣломъ. Задыхаясь, онъ прислушивался къ пушкѣ безъ единой мысли въ лихорадочномъ мозгу. Вдругъ онъ подумалъ:
— Но, вѣдь, я убѣжалъ…
Онъ повторилъ себѣ это нѣсколько разъ, не понявъ сначала какъ слѣдуетъ. Но, приподнявъ голову, онъ увидѣлъ, что ему дѣлаетъ знакъ Лемуанъ. Тогда онъ бѣгомъ, однимъ духомъ, помчался къ воронкѣ.
Эта трагическая яма съ взрытыми краями походила, на давильню, и чтобы не топтать тѣлъ товарищей, наполнявшихъ этотъ чанъ, надо было держаться края канавы, цѣпляясь пальцами за обваливающуюся землю. Жильберу показалось, что онъ лишается чувства. Онъ не ощущалъ ни страданія, ни волненія, а скорѣе усталость.
День приходитъ къ концу, и туманъ спускается на равнину. Слѣва еще слышна стрѣльба, но она похожа на огонь, который вотъ-вотъ погаснетъ.
Что произошло съ полдня? Мы стрѣляли, солнце жгло насъ, голова у насъ отяжелѣла, горло пересохло. Наконецъ, прошелъ дождь, и эта гроза освѣжила насъ, дождь залилъ сжигавшую насъ всѣхъ лихорадку. Артиллерія все сметала съ равнины, охваченная яростью на то, что еще остаются тамъ живые люди. Затѣмъ, намъ показалось, что боши наступаютъ на насъ. И мы стрѣляли, стрѣляли… Совсѣмъ близко видны согнутыя тѣла нѣмцевъ, запутавшихся въ своихъ собственныхъ проволочныхъ загражденіяхъ. Я замѣчаю одного съ гранатами у пояса, онъ иногда поднимаетъ руку и въ предсмертной агоніи бьетъ рукой по воздуху. Не смѣна ли идетъ? Подходятъ люди и, согнувъ спину, перебѣгаютъ отъ воронки къ воронкѣ.
— Эй, ребята, кончено? Мы смѣняемся? Какой полкъ?
— Нѣтъ, это солдаты службы связи.
— Ну, что же? Насъ смѣняютъ?
— Нѣтъ… Вы должны остаться здѣсь еще на ночь. Подкрѣпленіе придетъ съ кирками, съ лопатами. Придется укрѣпиться здѣсь.
Изъ всѣхъ ямъ вылѣзали люди и подползали на четверенькахъ.
— Что? Оставаться здѣсь? Что за шутки… Отъ роты осталось всего человѣкъ тридцать.
— Всегда одни и тѣ же остаются… Мнѣ наплевать, я раненъ, я уйду…
— Такой приказъ, — повторяютъ солдаты службы связи. — Надо держаться. Насъ смѣнятъ завтра.
Жильберъ чувствуетъ себя слабымъ, въ головѣ у него пустота. Онъ хотѣлъ бы не шевелиться и спать, спать. Бѣлье его прилипло къ спинѣ. Дождь? Потъ?
Артиллерія смолкла, обезсиленная, надорвавъ глотку. Теперь слышнѣе стали жалобы и стоны…
Подождите, дорогіе мои, подождите, не кричите, скоро придутъ санитары.
Приближается ночь…
И молчаливый вечеръ тихо ткетъ свою туманную ткань, — одинъ большой саванъ изъ сѣраго покрова для столькихъ мертвецовъ, которые лишены его.
* * *
Изъ канавъ, изъ ямъ выходитъ большое измученное стадо, полкъ, облѣпленный засохшей грязью, и вразсыпную идетъ по полямъ. Лица у насъ блѣдныя и грязныя, омытыя только дождемъ. Мы тащимся, согнувшись, втянувъ шеи.
Когда мы поднялись вверхъ, я остановился и оглянулся, чтобы въ послѣдній разъ увидѣть и сохранить въ душѣ картину этой широкой равнины, перерѣзанной окопами, изрытой снарядами, съ тремя отбитыми нами деревнями: съ тремя грудами сѣрыхъ развалинъ.
Какой тоской вѣетъ отъ панорамы побѣды! Подъ саваномъ тумана еще скрыты нѣкоторые ея углы, и я ничего не узнаю на этой огромной картѣ перевернутой вверхъ дномъ земли. Всѣ знакомыя мѣста сливаются и путаются; это та же равнина, но она вся взрыта вплоть до бѣлаго песчаника, это опустошенная земля безъ деревца, безъ крыши, безъ признака живого существа, и повсюду на ней крошечныя пятна: трупы, трупы…
— Боши оставили здѣсь двадцать тысячъ труповъ, — воскликнулъ полковникъ, гордый нашими успѣхами.
А сколько оставили французы?
Нужно было десять дней держаться на этой угрюмой равнинѣ, гибнуть батальонамъ за батальонами, чтобы присоединить къ нашей побѣдѣ кусочекъ поля, разрушенную дорогу и развалины нѣсколькихъ домишекъ. Но какъ я ни ищу, я ничего не узнаю. Мѣста, гдѣ мы столько выстрадали, совершенно сходны со всѣмъ остальнымъ полемъ, затеряннымъ въ туманѣ. Это гдѣ-то тамъ… Пропадаетъ приторный запахъ труповъ, чувствуется только запахъ хлора вокругъ бочекъ съ водой. Но я уношу съ собой, въ головѣ, въ кожѣ, ужасное дыханье смерти. Оно навѣки осталось во мнѣ: теперь мнѣ знакомъ ароматъ состраданія.
По мѣрѣ того, какъ мы отдалялись отъ позицій, остатки взводовъ сходились, роты вновь объединялись. Мы смотрѣли другъ на друга, и намъ становилось страшно.
На жидкой травѣ лежали солдаты, они встали и направились къ намъ. Вечеромъ имъ предстояло идти на позиціи.
— Что, земляки, тяжело?
— Убійственный участокъ.
И Бреваль прибавилъ только движеніемъ подбородка, указывая на измученную кучку:
— Вотъ все, что осталось отъ роты…
Съ опущенной головой прошли мы по жалкому мѣстечку съ окнами безъ стеколъ, съ поврежденными крышами, затѣмъ насъ остановили въ полѣ около большой дороги, гдѣ поджидали грузовики. Тамъ мы поѣли: мы жадно уписывали горячій рисъ, наполняя имъ желудокъ, и запивали его полными чашками кофе, обжигавшаго ротъ, не столько изъ-за голода, сколько изъ животнаго наслажденія ѣсть, вознаградить себя за дни лишеній, насытиться, почувствовать, что желудокъ полонъ. Водку роздали полными кружками, вина было сколько угодно.
Наиболѣе усталые заснули. Остальные, собравшись небольшими группами, бесѣдовали съ шофферами и автомобильной командой. Говорили всѣ разомъ, лихорадочно, несвязно дѣлясь своими, еще живыми, впечатлѣніями, желая, казалось, сбросить съ себя бремя слишкомъ тяжелыхъ воспоминаній. Автомобилисты, болѣе взволнованные, чѣмъ мы сами, слушали и давали намъ объясненія по поводу сраженія, о которомъ мы ничего не знали, такъ какъ только они читали газеты.
— Чортъ возьми, вотъ идетъ Морашъ…
Мы не видѣли его уже десять дней, съ того самаго утра, когда началось наступленіе. Онъ ни на минуту не вылѣзалъ изъ перваго попавшагося ему вонючаго подвала, который онъ занялъ, какъ постъ для командованія, и онъ вышелъ теперь оттуда съ выцвѣтшимъ лицомъ, съ безкровными губами, съ прищуренными глазами.
Покрикивая, собиралъ онъ роту — теперь это была его рота, такъ какъ Крюше былъ убитъ — и грубо будилъ спящихъ, тыча въ нихъ концомъ тросточки.
— Ну, лѣнтяи, я скомандовалъ; ружья на плечо, — кричалъ онъ передъ самымъ носомъ маленькаго Брука, который вставалъ пошатываясь, съ заспанными глазами.
Съ проклятіями и ругательствами стали снаряжаться. Затѣмъ усѣлись на грузовики. Всѣ размѣстились сразу, сложили сумки на дно грузовиковъ, и можно было еще свободно сидѣть, раскинуться и устраиваться поудобнѣе.
— Они должны были это предвидѣть, — сказалъ, пожимая плечами, шофферъ, стоя на колѣняхъ на своемъ сидѣньи и глядя на насъ. — Они заказали какъ разъ столько грузовиковъ, чтобы можно было привезти васъ всѣхъ, а васъ уже не такъ много теперь, не правда ли…
Тогда только мы замѣтили пустыя мѣста. Сколькихъ не хватало… Мнѣ казалось, что я еще вижу длиннаго Ламбера, старающагося шутить, старика Гамеля, курившаго трубку въ своемъ уголкѣ, и Фуйяра, который усѣлся сзади, спустилъ ноги и при каждой встряскѣ говорилъ:
— Если бы только мнѣ удалось свалиться и сломать себѣ шею.
Грузовики тронулись, поднимая густыя облака пыли, которая осѣдала на рѣсницахъ, на усахъ и на бородахъ шофферовъ, какъ бѣлая пудра. Усталые, измученные отъ жары, одурманенные плохимъ виномъ, мы полудремали, не въ силахъ уснуть, такъ какъ насъ слишкомъ трясло. Только Брукъ сейчасъ же началъ храпѣть, лежа на спинѣ, и его голова съ желтыми, какъ солома, волосами подскакивала на сумкѣ.
Изъ грузовиковъ обмѣнивались знаками, криками съ жителями деревень, и вспотѣвшія дѣвушки въ рубашкахъ съ вырѣзомъ на груди посылали намъ поцѣлуи.
Мы удалялись отъ войны; въ окнахъ были стекла, на крышахъ — черепицы. Вдругъ грузовики запрыгали по мостовой, и тотчасъ изъ переднихъ грузовиковъ послышались крики. Всѣ головы высунулись изъ-подъ брезентоваго навѣса, всѣ тѣла свѣсились назадъ, и вотъ изъ всѣхъ грузовиковъ раздались бѣшеные привѣтственные клики: сказочное видѣніе, двойное чудо — мы увидѣли желѣзную дорогу, настоящую желѣзную дорогу, съ настоящими вагонами для штатскихъ, и на перронѣ вокзала женщину въ городскомъ нарядѣ.
За желѣзнодорожнымъ переѣздомъ мы попали въ маленькій городокъ, съ магазинами, тротуарами, женщинами, кофейнями; отупѣлые, ослѣпленные, мы смотрѣли на все, какъ дикари, и безъ устали радостно горланили.
Въ одномъ, украшенномъ цвѣтами, окнѣ показалась красивая бѣлокурая головка — всѣ головки, мелькнувшія на мгновенье, красивы — и мы привѣтствовали ее длительнымъ возгласомъ, а она высунулась изъ окна и, когда вихрь уже пронесся, еще долго прислушивалась, наклонясь, къ крикамъ, замиравшимъ въ пыльной дали.
Грузовики все катились, и никто не жаловался на слишкомъ долгую дорогу. Хотѣлось, чтобы между нами и войной было какъ можно больше деревень, полей, километровъ. Тѣмъ лучше, не слышно будетъ больше пушекъ. Мы завидовали счастливымъ деревнямъ, мелькавшимъ между деревьями, завидовали фермамъ съ красными черепицами — для насъ это были только мѣста постоя.
Подъ брезентовыми навѣсами становилось слишкомъ жарко, солнце палило прямо на нихъ. Утомленные, мы перестали горланить, намъ хотѣлось поспать… Наконецъ, грузовики замедлили ходъ и затѣмъ остановились.
Ноги ныли, голова отяжелѣла, тѣло было разбито. Ворча, подвязывали сумки, которыя никогда не казались такими тяжелыми.
Почему насъ не высадили въ самой деревнѣ?.. Видно, что они не знаютъ, что такое усталость, они-то не устали…
Нѣкоторые, сойдя съ грузовика, тотчасъ повалились на траву. Другіе шли прихрамывая, такъ какъ ноги наши вспухли въ затвердѣвшихъ башмакахъ, которые мы не снимали втеченіе двухъ недѣль. Они опирались на ружья, прислонялись къ деревьямъ, и никакое усиліе воли не могло бы уже заставить выпрямиться эту кучу забрызганныхъ грязью хромающихъ людей.
Бурланъ подъѣхалъ на своемъ низкомъ велосипедѣ и окликнулъ меня:
— Жакъ!.. Мы пройдемъ по деревнѣ церемоніальнымъ маршемъ, съ оркестромъ впереди. Генералъ на площади.
Съ откоса, гдѣ лежали солдаты, приподнялись возмущенныя лица; нѣкоторые, прихрамывая, подошли къ намъ.
— Какъ? Парадъ, теперь? Что они издѣваются надъ нами? Мало мы и безъ того измучились?
— Нѣтъ, генералъ хочетъ сосчитать тѣхъ, которыхъ онъ еще не успѣлъ убить…
— Ну, я не пойду, пусть Морашъ оретъ…
Громче всѣхъ кричалъ Сюльфаръ:
— Они годны только на то, чтобы гарцовать… Въ окопахъ ихъ не видно…
— Дѣлать смотръ послѣ всего, что мы вытерпѣли, это преступленіе, — солидно высказался Лемуанъ. — Не слѣдовало бы идти.
Въ это время подъѣхалъ автомобиль, и изъ него вышелъ Бертье. Его грязная шинель затвердѣла и топорщилась отъ грязи; за стеклами пенснэ видны были впавшіе глаза, онъ шелъ, еле передвигая ноги. Онъ, видимо, едва держался на нихъ.
— Довольно съ насъ, господинъ лейтенантъ, — заявилъ Сюльфаръ съ твердымъ достоинствомъ свободнаго человѣка. — Мы не въ состояніи маршировать передъ зѣваками.
— Очень можетъ быть, но тамъ генералъ, — мягко отвѣтилъ Бертье. — Ну, друзья мои, ружья на плечо… Тамъ стоитъ батальонъ новобранцевъ, надо имъ показать, что мы не полкъ молодыхъ дѣвицъ.
Солдаты, хоть и ворчали, но стали надѣвать снаряженіе.
— Направо, по четыре въ рядъ!
На дорогѣ уже строился оркестръ, и развертывали знамя.
— Впередъ!.. Маршъ!
Полкъ тронулся. Во главѣ шелъ оркестръ и игралъ полковой маршъ. Сначала шли тяжело, но потомъ ритмъ становился все отчетливѣе, и ноги начали ступать регулярнымъ шагомъ. Маршировали манекены изъ грязи, въ грязныхъ башмакахъ, въ грязныхъ шинеляхъ, съ грязными ремнями и съ фляжками, похожими на большіе куски глины.
Легко раненые не вышли изъ рядовъ, но они не казались блѣднѣе, истощеннѣе другихъ. У всѣхъ подъ шлемами былъ одинъ и тотъ же кошмарный обликъ — процессія привидѣній.
У прифронтовыхъ крестьянъ сердца очерствѣли, и, послѣ столькихъ ужасовъ, ихъ уже ничто не трогало; но когда показалась первая рота этого вставшаго изъ могилы полка, лица ихъ преобразились.
— Охъ! бѣдняги…
Какая-то женщина заплакала, за ней другія, затѣмъ зарыдали всѣ… Молодая дѣвушка, служащая на почтѣ, съ красными глазами, съ закинутой назадъ головой, махнула намъ своимъ мокрымъ отъ слезъ платкомъ, крикнула что-то и разрыдалась. Всю дорогу, около всѣхъ домовъ насъ чествовали слезами, и только теперь, видя, какъ онѣ плачутъ, мы поняли, сколько мы выстрадали.
XII САДЪ МЕРТВЫХЪ
Вотъ уже три дня, какъ мы держимся на кладбищѣ, осыпаемомъ снарядами. Мы ничего не можемъ подѣлать, мы можемъ только ждать. Когда все кладбище будетъ разрушено, когда останутся только обломки камней и остатки людей, тогда они перейдутъ въ наступленіе. И потому необходимо, чтобы нѣкоторые уцѣлѣли, чтобы не всѣ погибли.
Рота заперта въ этихъ четырехъ стѣнахъ, которыя обваливаются и разрушаются, она отрѣзана отъ полка тяжелыми снарядами, взрывающими развалины, пулеметами, обстрѣливающими всѣ подступы къ кладбищу.
По вечерамъ нѣсколько человѣкъ уходятъ за пищей, нѣсколько санитаровъ отваживаются пробраться къ намъ. И быстро притаившись, они выносятъ человѣка изъ большого семейнаго склепа, гдѣ вотъ уже нѣсколько дней стонутъ раненые, лишенные необходимой помощи. Они крадутъ у кладбища его жертву.
Ихъ еще шесть въ этомъ склепѣ, который боши расширили. Если наклониться надъ могилой, гдѣ они лежатъ, то вдыхаешь ужасный запахъ лихорадящихъ больныхъ и слышишь ихъ умоляющіе стоны и непрерывный хрипъ. Одинъ здѣсь уже недѣлю, оставленный своимъ полкомъ. Онъ уже не произноситъ ни слова. Онъ чудовищно худъ, у него огромные глаза, впавшіе, обросшіе волосами щеки, и исхудавшія руки, и ногтями онъ скребетъ камень. Онъ не двигается, чтобы не растревожить унявшуюся боль раздробленныхъ ногъ, но онъ стонетъ отъ страшной жажды.
Ночью ему приносятъ воды, кофе, когда намъ его доставляютъ. Но съ полдня всѣ фляжки пусты. Тогда, въ сильномъ жару, онъ вытягиваетъ шею и жадно лижетъ плиту гробницы, гдѣ сочится вода.
Въ углу маленькій солдатъ, раненый, скоблитъ ножомъ свой бѣлый языкъ. У другого отъ жизни осталось лишь едва замѣтное движеніе груди, глаза закрыты, зубы стиснуты, онъ напрягъ послѣднія силы, чтобы бороться со смертью, спасти остатокъ жизни, который трепещетъ и вотъ-вотъ исчезнетъ.
Однако, онъ еще надѣется, всѣ они надѣются, даже умирающіе. Всѣ хотятъ жить, и маленькій солдатъ упорно повторяетъ:
— Сегодня вечеромъ санитары придутъ навѣрно, они намъ обѣщали вчера.
Жизнь — но вѣдь ее защищаютъ до послѣдней судороги, до послѣдняго хрипа. Но вѣдь если бы они не надѣялись на санитаровъ, если бы въ лихорадочномъ бреду ихъ не манила къ себѣ, какъ счастье, лазаретная койка, они вышли бы изъ своей гробницы, несмотря на перебитые члены тѣла, на зіяющія раны въ животѣ, и поползли бы по каменнымъ плитамъ, цѣпляясь когтями, впиваясь зубами. Нужно много силы, чтобы убить человѣка, нужно много страданія, чтобы сломить человѣка… Все-таки это бываетъ. Надежда улетучивается, мрачная примиренность тяжело придавливаетъ душу. Тогда обреченный натягиваетъ на себя одѣяло, не произноситъ больше ни слова и, какъ тотъ, который умираетъ въ углу склепа, поворачиваетъ только свою разгоряченную голову и лижетъ сочащійся водой камень.
* * *
Кажется, что нѣтъ ни одного живого существа среди этихъ грудъ мусора и щебня, палимыхъ солнцемъ. Ночью мы дрожали отъ холода въ нашихъ норахъ, теперь мы задыхаемся отъ жары. Ничто не шелохнется. Прислонившись къ брустверу изъ мѣшковъ съ землей, съ такимъ же землистымъ цвѣтомъ лица, стоить караульный и ждетъ, замеревъ, напряженно, неподвижно, какъ тотъ мертвецъ, который лежитъ передъ часовней, скрестивъ руки, съ зіяющей раной на затылкѣ, съ проломленнымъ черепомъ.
Снаряды продолжаютъ падать, но мы ихъ не слышимъ. Отупѣлые, охваченные лихорадкой, мы идемъ въ гости къ Сюльфару, въ его гробницу. Его можно найти по надписи: „Матье, бывшій мэръ“.
Съ утра до вечера онъ играетъ въ карты съ Лемуаномъ, и, проигрывая, кричитъ, ругаетъ его и обвиняетъ въ мошенничествѣ. Лемуанъ сохраняетъ спокойствіе.
— Не ори такъ, — говорить онъ ему только, — ты разбудишь мэра.
Насъ четверо въ узкой гробницѣ, и мы задыхаемся. Только три часа, всѣ фляжки давно осушены, а люди, отправляющіеся за пищей съ наступленіемъ сумерокъ, вернутся не раньше полуночи. Я не разговариваю, чтобы меньше чувствовать жажду. Эта пыль отъ раздробленныхъ камней и пороха жжетъ намъ горло, и съ сухими губами, съ біеніемъ въ вискахъ мы думаемъ только о томъ, какъ бы напиться, напиться, какъ животнымъ, опустивъ голову въ ведро.
— Ты намъ поставишь ведро вина, а, Жильберъ, — повторяетъ Сюльфаръ. — Мы станемъ на колѣни вокругъ него и будемъ пить, пока не лопнемъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ онъ намъ это сказалъ, представленіе объ этомъ преслѣдуетъ насъ. Это невозможное наслажденіе заворожило насъ до безумія: пить, пить всѣмъ лицомъ, всѣмъ подбородкомъ, щеками, выпить цѣлое ведро.
Временами Демаши приходитъ въ бѣшенство. — Пить, — разражается онъ, — я хочу пить!
Ни у кого нѣть ни одной капли. Вчера я заплатилъ за кружку кофе два франка, но сегодня тотъ, кто продалъ мнѣ, предпочитаетъ оставить кофе для себя. Однако, въ деревнѣ есть колодецъ: человѣкъ пятнадцать убитыхъ лежатъ вокругъ него. Германскіе стрѣлки, взобравшись на стѣну, сторожатъ и ждутъ, пока подойдетъ, съ цѣлымъ рядомъ фляжекъ на ремнѣ, самоотверженный товарищъ, я мѣтко подстрѣливаютъ его, какъ дичь. Теперь, при входѣ на кладбище, поставили подпрапорщика, и онъ не разрѣшаетъ проходить. За водой ходятъ только ночью.
— А я тебѣ говорю, что пойду, — оретъ Сюльфаръ. — Я предпочитаю, чтобы меня подстрѣлили, чѣмъ подыхать такъ, я чувствую, что сохну весь…
— Не ходи, тебя убьютъ, — говорить ему Лемуанъ.
Тогда Сюльфаръ всю свою ярость обрушиваетъ на него:
— Понятно, тебѣ наплевать, неряха, ты пить не хочешь. Не принято пить, когда торчишь за плугомъ, ты привыкъ не пить на полѣ, парижанинъ въ сабо, свинопасъ…
— Если бы ты сильно хотѣлъ пить, — резонно отвѣтилъ Лемуанъ, — ты не оралъ бы такъ…
И мы садимся, прислонившись къ стѣнѣ, и ждемъ. Воевать, это значитъ только одно: ждатъ. Ждать смѣны, ждатъ писемъ, ждать обѣда, ждать разсвѣта, ждать смерти… И всему приходитъ свой чередъ; нужно только выжидать…
* * *
Кто-то быстро приподнялъ палатку, и въ гробницу проникъ яркій дневной свѣтъ.
— Идите скорѣй, Бреваль раненъ.
Демаши приподнялся. Онъ спалъ, и лицо его было повязано вуалью для защиты отъ мухъ.
— Что? Бреваль?
И не снимая вуали съ разводами, онъ бросился къ часовнѣ, куда притащили капрала.
Бреваль раненъ въ грудь шрапнельной пулей. Онъ лежитъ, голова его на ступенькѣ алтаря, и тревожнымъ взглядомъ большихъ испуганныхъ глазъ онъ смотритъ на товарищей. Замѣтивъ Жильбера, онъ сдѣлалъ ему знакъ головой, какъ бы здороваясь съ нимъ.
— Я радъ тебя видѣть, знаешь.
Демаши дрожащими руками развязывалъ свою вуаль.
— Удобная у тебя штука, — сказалъ ему Бреваль. — Изъ-за этихъ проклятыхъ мухъ нельзя спать. Мы напрасно смѣялись надъ тобой.
Онъ уже усталъ и закрылъ глаза. Несмотря на перевязку, темное пятно на его шинели увеличивается. Его сильно задѣло. Внезапно губы его растянулись, и онъ заплакалъ, зарыдалъ, какъ ребенокъ, и въ судорожныхъ слезахъ его чувствовалась скорбная жалоба.
Жильберъ приподнялъ его голову, положилъ ее къ себѣ на руку, и, склонившись надъ нимъ, заговорилъ намѣренно грубоватымъ голосомъ:
— Что съ тобой?.. Ты же не сумасшедшій. Не надо плакать, не разстраивай себя такъ, что ты. Ты раненъ, это ничего. Наоборотъ, тебѣ повезло, тебя отправятъ вечеромъ на перевязочный пунктъ, а завтра ты будешь лежать въ постели. — Бреваль не отвѣчалъ, не открывая глазъ, и продолжалъ плакать. Затѣмъ онъ утихъ и сказалъ:
— Я плачу о моей маленькой дочкѣ, бѣдная она.
Онъ, молча, пристально посмотрѣлъ на Жильбера, затѣмъ, какъ бы рѣшившись, сказалъ ему вполголоса:
— Слушай, я тебѣ скажу кое-что, тебѣ одному, это порученіе…
Жильберъ хотѣлъ остановить его, заговорить съ нимъ о томъ, какъ его эвакуируютъ, обмануть его… Но онъ покачалъ головой.
— Нѣтъ, мое дѣло кончено. Я хочу, чтобы ты исполнилъ мое порученіе. Поклянись мнѣ, а? Ты отправишься въ Руанъ, повидаешь мою жену… Ты ей скажешь, что она не хорошо поступила. Что меня это очень огорчило. Я не могу тебѣ всего сказать, но она надѣлала глупостей съ помощникомъ, котораго наняла… Ты ей скажешь, что не слѣдуетъ такъ вести себя, ради нашей дочки, а?.. И что я ее простилъ передъ смертью. А? ты ей скажешь…
И онъ снова тихо заплакалъ. Никто ничего не говорилъ. Мы всѣ смотрѣли на него, склонившись надъ нимъ, какъ надъ разверзающейся могилой. Наконецъ, онъ пересталъ плакать, жалоба замерла у него на губахъ, и онъ помолчалъ съ минуту. Затѣмъ онъ стиснулъ зубы, приподнялся на локтяхъ, и, сурово глядя, проскрежеталъ:
— Такъ нѣтъ же! Не хочу… Слушай, Жильберъ, умоляю тебя, съѣзди въ Руанъ. Непремѣнно съѣзди!.. Поклянись мнѣ. И скажи ей, что она корова, слышишь, скажи ей, что это изъ-за нея я подохъ… Нужно, чтобы ты ей сказалъ это… И скажи всѣмъ, что она потаскушка, что она наслаждалась, пока я былъ на фронтѣ… Я проклинаю ее, слышишь, и я хотѣлъ бы, чтобы она подохла, какъ я, вмѣстѣ со своимъ любовникомъ… Ты ей скажешь, что я плюнулъ ей въ лицо передъ смертью, ты ей скажешь…
Онъ тянулся своимъ худымъ лицомъ, страшный, съ красной пѣной въ углахъ губъ.
Жильберъ, блѣдный, старался его успокоить. Онъ бережно обнялъ его за шею и хотѣлъ уложить… Тотъ, обезсиленный, не противился и легъ. Долго лежалъ онъ неподвижно, съ закрытыми глазами, затѣмъ крупныя слезы покатились изъ-подъ его закрытыхъ вѣкъ.
Склонившись надъ нимъ, Жильберъ касался своимъ дыханіемъ его лба и чувствовалъ почти на своихъ губахъ смертный потъ, капельки котораго уже показались у него на вискахъ.
— Ну, старина, не плачь, — повторялъ онъ прерывающимся отъ сдерживаемыхъ слезъ голосомъ. — Не плачь, ты только раненъ.
И онъ бережно гладилъ худую голову плачущаго человѣка, Бреваль прошепталъ тише:
— Нѣтъ… Ради дочки… лучше не говорить ей этого всего… Ты ей скажешь, что она должна солидно вести себя, ради дѣвочки… что она должна дать ей счастье, а не служить ей плохимъ примѣромъ. Ты ей скажешь, что надо принести себя въ жертву малюткѣ. Ты ей скажешь, что я просилъ ее объ этомъ передъ смертью, и что тяжело умирать такъ…
Слова выходили изъ его рта такъ же медленно, какъ текли слезы изъ глазъ.
Въ углу, положивъ голову на согнутую руку, рыдалъ Сюльфаръ. Лейтенантъ Морашъ, извѣщенный о событіи, весь посинѣлъ. Онъ хотѣлъ сдержать себя, но видно было, какъ губы и подбородокъ его дрожали.
Бреваль уже не шевелился; слышно было только его короткое свистящее дыханіе. Но вдругъ онъ поднялся на рукахъ Жильбера, какъ будто желалъ выпрямиться, и, крѣпко сжимая его руку, онъ простоналъ, задыхаясь:
— Нѣть… нѣтъ… я хочу, чтобы она знала… Я слишкомъ измучился… Ты ей скажешь, что она распутная баба, ты ей скажешь…
Онъ говорилъ съ трудомъ, и, обезсиленный, долженъ былъ остановиться. Голова его тяжело упала на руку Жильбера, шинель котораго обагрилась кровью. Онъ былъ блѣднѣе умирающаго, укачивалъ его и тихонько обтиралъ ему губы, на которыхъ лапались розовые пузырьки кровавой пѣны. Бреваль сдѣлалъ попытку снова открыть глаза, приподнять тяжелѣвшія вѣки и хотѣлъ снова заговорить:
— Ради счастья дѣвочки… не надо… Ты ей скажешь, а… ты…
Невысказанная просьба его замерла, и глаза бѣднаго умирающаго стали угасать. И какъ бы пытаясь сохранить ему еще мгновеніе жизни, пряча его отъ смерти, Жильберъ прижималъ его къ груди, щека къ щекѣ, поддерживалъ его подъ мышки и орошалъ слезами его лобъ.
* * *
— Они наступаютъ!
Жильберъ и я ошеломленные сразу вскочили. Ощупью ищемъ мы винтовки и срываемъ палатку, заграждающую входъ.
— Они идутъ по разбитой дорогѣ!
Кладбище сотрясается отъ взрыва гранатъ, пылаетъ, трещитъ. Это какое-то внезапное бѣснованіе пламени и треска среди ночной темноты. Всѣ стрѣляютъ. Ничего неизвѣстно, никакихъ приказаній нѣтъ — они наступаютъ, они на дорогѣ, вотъ и все…
Передъ нами пробѣгаетъ человѣкъ и падаетъ, какъ бы споткнувшись. Мелькаютъ тѣни, бѣгутъ впередъ, отступаютъ. Изъ разрушенной часовни поднялись красныя ракеты, призывая къ защитѣ. Затѣмъ сразу какъ бы разлился дневной свѣтъ: большія блѣдныя звѣзды вспыхнули надъ нами и, какъ при свѣтѣ маяка, показались бѣгающія среди крестовъ привидѣнія. Повсюду взрываются гранаты. Пулеметъ, какъ змѣя, проскальзываетъ подъ каменную плиту и начинаетъ быстро трещать, осыпая пулями развалины.
— Они на дорогѣ, — повторяютъ голоса.
И, прислонившись къ откосу, люди безостановочно бросаютъ черезъ стѣну гранаты. Стрѣляютъ поверхъ бруствера безъ прицѣла. Всѣ могилы разверзлись, всѣ мертвые встали, и, еще ничего не видя, они стрѣляютъ въ темнотѣ, стрѣляютъ въ ночь и въ людей.
Воняетъ порохомъ. Бѣлыя ракеты, падая, отбрасываютъ фантастическія тѣни на это заколдованное кладбище. Около меня Мару, укрывая голову, стрѣляетъ между двумя мѣшками, изъ которыхъ сыплется земля. Среди щебня извивается человѣкъ, какъ червякъ, перерѣзанный ударомъ лопаты. И снова взлетаютъ красныя ракеты, какъ бы крича: „Огненную завѣсу! Огненную завѣсу!“
Падаютъ снаряды, все разрушая, все опрокидывая. Стрѣляютъ залпами, и это похоже на пятикратный раскатъ грома.
— Стрѣляйте! Стрѣляйте! — рычитъ Рикордо, котораго не видно.
Оглушенные, отупѣлые, мы снова и снова заряжаемъ раскалившіяся винтовки. У Демаши вышли всѣ патроны, онъ подобралъ всѣ гранаты съ упавшаго товарища и яростно бросаетъ ихъ. Среди треска слышны крики, стоны, но на нихъ никто не обращаетъ вниманія. На мгновеніе ракеты освѣщаютъ высокаго убитаго человѣка, растянувшагося во всю длину на могильной плитѣ, какъ каменное изваяніе. Наконецъ, налетаетъ шквалъ нашихъ орудійныхъ выстрѣловъ, наша огненная завѣса. Снаряды слѣдуютъ одни за другими, и надъ нами какъ бы образуется желѣзное загражденіе. Посреди кладбища снаряды взрываютъ землю, придавливая солдатъ подъ плитами, добивая раненыхъ у подножья крестовъ. Въ гробницахъ, среди щебня, ползаютъ, слышатся стоны. Кто-то падаетъ около меня и съ хрипомъ яростно хватаетъ за ногу.
На головы наши обрушиваются удары за ударами. Снаряды падаютъ такъ близко, что шатаешься, ослѣпленный взрывами. Наши и германскіе снаряды сталкиваются и съ воемъ набрасываются другъ на друга. Ничего нельзя разобрать, ничего нельзя понять. Красный огонь, дымъ и трескъ…
Чьи это орудія стрѣляютъ такъ низко — германскія или наши, 75-миллиметровыя?
Огненная погоня окружаетъ насъ, впивается въ насъ… Обломки сломанныхъ крестовъ со свистомъ засыпаютъ насъ… Шрапнели, гранаты, снаряды, даже гробницы — взрываются, все летитъ въ воздухъ, какъ при изверженія вулкана. Разверзшаяся ночь раздавитъ и проглотитъ насъ всѣхъ…
— На помощь! Спасите! Убиваютъ людей!
XIII ДОМЪ СЪ БѢЛЫМЪ БУКЕТОМЪ
Мы кончаемъ обѣдать. Какъ было бы хорошо, если бы только они замолчали. Желтый огонекъ свѣчи мерцаетъ въ пустой бутылкѣ. На днѣ кружекъ осталось немного вина, бѣлаго, слегка мутнаго вина, которое липнетъ къ пальцамъ и ласкаетъ горло. Въ печкѣ, потрескивая, горятъ большія полѣнья.
Наклонившись надъ дымящейся кастрюлей, Сюльфаръ, красный и потный, разогрѣваетъ намъ вино. Онъ засучилъ рукава до локтей и широко раскрылъ рубашку на своей волосатой груди. На лѣвой сторонѣ висятъ у него, въ видѣ брошки, шесть англійскихъ булавокъ — единственное, что осталось у него отъ штатской одежды. Лемуанъ сидитъ у огня, на чурбанѣ, мирно опустивъ свои широкія руки между колѣнъ, и, слегка посвистывая, смотритъ, какъ орудуетъ его товарищъ, и подозрительный Сюльфаръ чувствуетъ въ этомъ невинномъ насвистываніи критику.
— Не думаешь ли ты меня учить, какъ приготовлять горячее вино, селедочная чешуя, — ядовито издѣвается онъ. — Я говорю и настаиваю, что на литръ вина надо прибавлять по двѣ кружки воды и положить по пяти хорошихъ кусковъ сахара на кружку.
— Это слишкомъ много, — спокойно отвѣчаетъ Лемуанъ. — Не почувствуешь вина.
— Не почувствуешь вина, ты говоришь!
Но вмѣсто того, чтобы разсердиться, Сюльфаръ только пожимаетъ плечами, какъ бы добровольно соглашаясь выслушивать оскорбленія.
— Предпочитаю не спорить съ тобой, ты сейчасъ же начинаешь злиться.
Лемуанъ не отвѣчаетъ. Онъ плюетъ въ огонь и задумывается… Вино шипитъ въ кастрюлѣ.
Стѣны фермы старыя, плотныя, почернѣвшія. Въ окнѣ маленькія пыльныя стекла, сквозь которыя падаетъ колеблющійся лунный свѣтъ.
— Сидишь, будто у себя дома, — счастливо шепчетъ кто-то.
Рѣдкія минуты счастья выпали на нашу долю, и мы встрѣчаемъ ихъ, какъ друга, котораго не надѣялись уже увидѣть. Рѣдкія мгновенія, когда вспоминаешь, что былъ человѣкомъ, былъ хозяиномъ своей жизни. Столъ, лампа, пылаетъ огонь, — вотъ оно прошлое, оно возвращается…
Кто-то бѣжитъ по двору, и, запыхавшись, входитъ Буффіу.
— Эй, ребята, — говоритъ онъ, бросая на столъ мѣшокъ чечевицы. — Намъ предстоитъ развлеченіе. Я васъ угощаю въ заведеніи, гдѣ есть курочки.
Всѣ повернулись въ нему съ интересомъ и съ недовѣріемъ.
— Что? Ты врешь… Нѣтъ, кромѣ шутокъ, ты хочешь одурачить насъ.
Но сіяющее лицо нормандца, его туго натянутая лоснящаяся кожа, блестящіе глаза — все доказывало, что онъ не вретъ.
— Курочки, и очень доступныя, — подтвердилъ онъ. — Курочки, которыя только и ждутъ васъ.
— И дождутся! — завопилъ Сюльфаръ.
Всѣ встали и, толкаясь, окружили Буффіу.
— Это разсказалъ мнѣ высокій Шамбозъ изъ обоза… Это на краю деревни, большой домъ съ закрытыми ставнями, какъ и полагается. А чтобы долго не искать, дѣвицы прицѣпили въ двери бѣлый вѣнокъ.
Поднялся шумъ, смѣхъ, крики. Загорѣвшись желаніемъ, они торопливо собирались и шутя похлопывали другъ друга. Брукъ лихорадочно натягивалъ штаны, оборачивая, во не стягивая, фланелевый поясъ вокругъ тѣла.
— Не уходите безъ меня, — умолялъ онъ.
— Въ патруль, ребята, — кричалъ Сюльфаръ, уже увѣренный, что онъ покоритъ всѣхъ дѣвицъ.
Одинъ Жильберъ оставался спокойнымъ. Онъ, казалось, не вѣрилъ.
— Я знаю Шамбоза, — сказалъ онъ мнѣ, — это хулиганъ, болтунъ… Онъ просто хотѣлъ надуть этого толстаго идіота.
Но остальные были уже готовы.
— Не подождать ли Мару?
Всѣ запротестовали, торопясь попасть туда.
— Нѣтъ, пойдемте скорѣе, а вдругъ будетъ много народу. Онъ насъ догонитъ.
Мы пошли. Растрескавшаяся земля въ эту ноябрьскую ночь звучала подъ ногами, какъ пустая коробка. Само небо казалось замерзшимъ, большое темное свинцовое небо, испещренное золотомъ. Въ сосѣднихъ сараяхъ пѣли хоромъ. Черезъ окно со сломанными стеклами я замѣтилъ нѣсколько лицъ, рѣзко освѣщенныхъ фонаремъ, и въ темной глубинѣ тѣни танцующихъ подъ звуки органа. Передъ зданіемъ мэріи пулеметчики, присѣвъ на корточки вокругъ востра, варили жженку въ котелкѣ.
— Куда это вы идете?
— На развѣдку, — отвѣтилъ Сюльфаръ, который бѣжалъ впереди.
Лунный свѣтъ серебрилъ поля и отбрасывалъ на бѣлѣющую дорогу тѣни деревьевъ. Ночь отдѣляла лѣса отъ земли, въ которую они вросли, и они уплывали въ безграничный туманъ. Усталыя пушки перестали надрываться тамъ. Мы принялись пѣть. Брукъ велъ насъ, не зная пути. Жильберъ шелъ сзади подъ руку со мной.
Возвращаясь изъ Монмартра. Изъ Монмартра въ Парижъ, Я вижу высокую сливу, утопающую въ плодахъ, Вотъ она, прекрасная пора… Вотъ она, прекрасная пора.Мы пѣли во всю глотну, какъ бы стремясь въ крикахъ излить нашу животную радость.
Тюръ — люръ — люръ, Вотъ она прекрасная пора, Лишь бы она длилась, Вотъ прекрасная пора для влюбленныхъ.— Не орите такъ, — сказалъ намъ Мару, который бѣгомъ догонялъ васъ. — Насъ остановятъ.
— Навѣрно, — поддакнулъ Лемуанъ, который шелъ, лѣниво передвигая свои большія ноги. — И если курочки услышатъ, какъ мы оремъ, онѣ насъ не впустятъ.
Мы послушно заглушили нашу радость придавленнымъ смѣхомъ.
— Мнѣ ее терпится, — признавался Сюльфаръ.
— Кажется, хозяйка красивая брюнетка, — объяснилъ Буффіу, — настоящая красавица.
— Я ее видѣлъ, — воскликнулъ Брукъ, — у нея огромные глаза, какъ тарелки… А если это у нея, то будетъ очень пріятно.
Мы дошли до конца деревни, гдѣ фермы уже находятся на большомъ разстояніи одна отъ другой. Какая-то темная фигура вырисовалась на краю дороги.
— Часовой, — воскликнулъ Мару.
Солдатъ, старый ополченецъ, смотрѣлъ, какъ мы подходимъ, не двигаясь, опершись на винтовку. Онъ до самыхъ глазъ былъ укутанъ шарфомъ, который заглушалъ его голосъ.
— Вы не знаете пароля? — спросилъ онъ насъ. — Клермонъ…
Мы быстро, почти бѣгомъ, прошли мимо него и вскорѣ въ прозрачной темнотѣ увидѣли большое бѣлое строеніе, залитое луннымъ свѣтомъ, съ закрытыми ставнями.
— Это здѣсь!
Мы тихо подошли. Да, это здѣсь: къ двери былъ прикрѣпленъ бѣлый букетъ. Всѣ одновременно замѣтили его и радостнымъ шопотомъ поблагодарили Буффіу.
— Я постучу, — нетерпѣливо сказалъ Сюльфаръ.
Онъ постучалъ. Мы стоя тѣсной кучкой, едва дыша, прислушивались. Брукъ потихоньку, шутя, подражалъ кудахтанью курицы. Сюльфаръ, прижавъ ухо къ двери, сдѣлалъ намъ знакъ замолчать. Послышались шаги, затѣмъ ключъ повернулся въ замкѣ, и дверь полуоткрылась, пропуская полосу свѣта. На секунду мы увидѣли прекрасное лицо женщины, очень блѣдное, окаймленное черными, расчесанными на проборъ, волосами. Затѣмъ, тотчасъ дверь рѣзво захлопнулась.
— Эта та самая!? — воскликнулъ Брукъ, увидѣвъ только глаза, ея прекрасные большіе глаза.
— Что тамъ такое? — удивился Буффіу.
— Бѣдовая дѣвчонка, — проворчалъ Сюльфаръ, готовый разсердиться. — Эй, вы тамъ…
И онъ постучалъ въ дверь.
— Не оставятъ же онѣ насъ во дворѣ…
Мы стояли передъ запертой дверью, удивленные, разочарованные. Никто не понималъ, въ чемъ дѣло.
Лемуанъ, державшійся позади, засунувъ руки въ карманы, многозначительно кивнулъ головой.
— Она нашла, что слишкомъ много народу, — заявилъ онъ. — Нѣкоторымъ надо было бы спрятаться.
— Это не причина для того, чтобы не открывать, — сердился Сюльфаръ.
И стиснувъ кулакъ, онъ стукнулъ еще сильнѣе. Никакого отвѣта.
— Нѣтъ, будь я теперь штатскій, какъ бы я разнесъ эту дверь, — скрежеталъ онъ сквозь стиснутые зубы.
Лемуанъ еще надѣялся. Ему не вѣрилось, что то горячее счастье, котораго онъ жаждалъ, такъ быстро уплыло.
— Нѣтъ, кромѣ шутокъ, — шепталъ онъ, — она опять выйдетъ…
— У насъ есть чѣмъ платить, — закричалъ Буффіу, знатокъ женскихъ сердецъ.
Лемуанъ на всякій случай выкрикнулъ пароль: „Клермонъ! Клермонъ!“, думая, что въ домъ пускаютъ только настоящихъ военныхъ, исполняющихъ всѣ воинскія предписанія.
Каждый сталъ кричать все, что приходило ему въ голову, чтобы уговорить женщинъ.
— Эй, курочки. Мы пришли спѣть вамъ пѣсенку. Откройте же. У насъ есть деньги. Мы угощаемъ шампанскимъ.
Перебирая струны воображаемой мандолины, Сюльфаръ запѣлъ серенаду подъ освѣщенными окнами:
Если я пою подъ твоимъ окномъ, Какъ галантный трубадуръ.Другой все сильнѣе ритмично барабанилъ въ дверь, крича: „Хозяйка! Хозяйка!“, а Брукъ царапалъ себѣ руки, стараясь вскарабкаться по стѣнѣ до закрытыхъ ставень.
А дверь все не открывали. Тогда мы всѣ хоромъ начали пѣть.
Если хочешь меня осчастливить, Маргарита! Маргарита! Если хочешь…Эти женщины, вѣроятно, любили музыку. Дверь раскрылась на этотъ разъ настежь.
— А! — крикнула вся наша банда.
— Это было похоже на привѣтственный крикъ во время фейерверка, когда взлетаетъ первая ракета. И мы ринулись.
Красавица-брюнетка стояла въ глубинѣ входа, держа высоко лампу, чтобы освѣтить намъ дорогу. Всѣ хотѣли войти вмѣстѣ и, смѣясь, давили другъ друга.
Ворвавшись первымъ, Сюльфаръ уже протягивалъ жадно руки. Женщина оттолкнула его.
— Вы пришли развлечься, — сказала она жесткимъ голосомъ, который поразилъ меня. — Вы хотите посмотрѣть?… Вотъ вамъ, это красиво, это стоитъ посмотрѣть…
И она рѣзко толкнула дверь.
Въ большой холодной и пустой комнатѣ у маленькой желѣзной кровати стояла свѣча. Въ кровати лежалъ ребенокъ, весь бѣлый, со скрещенными на груди худыми руками. Пальмовая вѣтка лежала въ блюдѣ съ водой. Въ ужасѣ, не произнося ни слова, мы отхлынули назадъ.
Въ этой мѣстности существуетъ обычай прикрѣплять букетъ къ дверямъ дома, гдѣ умеръ ребенокъ.
XIV СЛОВА ЛЮБВИ
Дождь хлесталъ по грязи и по людямъ. Его не видно было, но было слышно, какъ струи его шлепали по сырой землѣ и по вымокшимъ шинелямъ.
Была темная ночь, безъ неба, безъ горизонта, не видно было ни зги, и послѣднія команды, пришедшія за пищей, выходя изъ окопа, оріентировались только по звуку голосовъ. Люди продвигались впередъ, прищуривъ глаза, съ захолодѣвшими щеками. Вѣтеръ свистѣлъ имъ въ уши, буйный вѣтеръ, которому нечего было раскачивать на своемъ пути — не было ни деревьевъ, ни строеній.
Вокругъ походныхъ кухонь столпились посланные изъ отдѣленій. Солдаты укрывались подъ повозками, какъ нищіе подъ навѣсомъ. Стоявшіе въ первой очереди толкались, протягивая кастрюлю или котелокъ. Дождь попадалъ струями въ большой кухонный котелъ, и солдатъ послѣдняго отдѣленія, топтавшійся въ лужѣ, ворчалъ, подталкивая другихъ:
— Теперь уже получишь не рагу, а настоящій супъ.
Сюльфаръ долго слѣдилъ за раздачей, держа на плечѣ связку вымокшихъ и липкихъ хлѣбовъ, затѣмъ онъ вышелъ изъ очереди.
— Возьми письма, Демаши. Я иду за виномъ.
Письма — только ради нихъ и пришелъ сюда Жильберъ. Онъ вызвался идти за пищей — четыре часа ходьбы туда и обратно по липкой грязи узкихъ переходовъ — чтобы навѣрняка получить письмо отъ Сюзи, самому порыться въ кучѣ писемъ у фурьера; пять дней, какъ онъ ничего не получалъ отъ нея, пять ночей онъ, стоя у амбразуры, злился на завѣдующаго обозомъ, на фурьера, на кашеваровъ, на всѣхъ, кто, вѣроятно, крадетъ его письма. Сегодня вечеромъ, не будучи въ силахъ ждать больше, онъ вызвался идти за пищей.
Нѣсколько разъ онъ останавливалъ фурьера, который бѣгалъ отъ бочки къ повозкамъ, слѣдя за кашеварами.
— Есть письма для меня?
Но у фурьера не было свободнаго времени.
Наконецъ, когда кончилась раздача вина, онъ укрылся въ повозкѣ и вытащилъ изъ сумки письма, перевязанныя пачками по отдѣленіямъ. Тотчасъ всѣ тѣни, разсѣянныя въ темнотѣ, выплыли и столпились.
— За письмами! За письмами!..
Около повозки образовался тѣсный говорливый кругъ, бывшіе въ первыхъ рядахъ присѣли на корточки, нѣкоторые забрались между колесами. Хотѣлось быть поближе, чтобы лучше слышать. Это была самая лучшая порція изъ всей раздачи, предстояло получить крупицу счастья на двадцать четыре часа.
При свѣтѣ карманнаго электрическаго фонаря, который кто-то прикрывалъ фуражкой, фурьеръ плохо разбиралъ надписи. Слушали съ протянутыми руками и настороженными сердцами.
— Здѣсь… здѣсь.
Каждый, получивъ пачку писемъ для своего отдѣленія, тотчасъ быстро отыскивалъ мокрыми пальцами свое письмо, и, несмотря на темноту, несмотря на дождь, бившій по глазамъ, сейчасъ же узнавалъ его только по формату, наощупь. Сумка скоро опустѣла. Послышался разочарованный шопотъ.
— Ну, а мы, какъ же?… Для меня нѣтъ? Ты увѣренъ, ты хорошенько посмотрѣлъ?… Они ихъ, должно быть, бросаютъ куда-нибудь.
Тѣ, которые ничего не получили, отходили, опечаленные, и чтобы сорвать на комъ-нибудь свою безсильную злобу, они негодующе смотрѣли на фурьера, какъ будто они, дѣйствительно, подозрѣвали, что онъ бросаетъ ихъ письма въ кусты.
— Можешь быть увѣренъ, онъ-то свои письма получаетъ.
Жильберъ былъ счастливъ. Взявъ свою пачку, онъ тотчасъ узналъ выступающій изъ пачки широкій конвертъ Сюзи. На него пахнуло счастьемъ.
Теперь, когда письмо уже было у него въ карманѣ, онъ не торопился его прочесть, онъ не хотѣлъ разомъ исчерпать всю радость. Онъ будетъ медленно впивать въ себя каждое слово, лежа въ своей норѣ, и заснешь въ сладкихъ грёзахъ.
На позиціяхъ, параллельныхъ Нанси, гдѣ нашъ взводъ находился въ резервѣ, команды, принесшія пищу, разошлись въ разныя стороны. Сюльфаръ положилъ свою связку хлѣбовъ, поставилъ котелъ и сталъ переходить отъ ямы къ ямѣ.
— На обѣдъ, ребята, — кричалъ онъ.
Они слышали не только его голосъ, но и шумъ проливного дождя. Сонное ворчаніе раздалось ему въ отвѣтъ.
— Можешь дѣлать съ нимъ, что угодно, съ твоимъ обѣдомъ… Чортъ возьми, какъ льетъ, нужно очень проголодаться, чтобы идти за обѣдомъ.
Однако, кое-кто вышелъ. Зажгли свѣчку на землѣ. Присѣвъ на корточки, они наполняли свои котелки и слышно было, какъ они начали ѣсть.
— Я возьму свою кружку вина, — сказалъ Брукъ.
Но Мару, проснувшись, закричалъ изъ своей норы:
— Дайте мнѣ сюда ведро вина и водку. Я не хочу, чтобы до нихъ дотрагивались. Я раздамъ утромъ.
Жильберъ отнесъ ему ихъ съ пачкой писемъ я побѣжалъ къ своей норѣ. Онъ согнулся, чтобы пройти подъ мѣшками съ землей и спрыгнулъ.
Его обдало брызгами, какъ будто онъ поставилъ ногу въ ручей. Несмотря на доску, которую онъ положилъ въ качествѣ загражденія, дождь проникъ въ его нору, и, такъ какъ она была вырыта подъ уклономъ, то при входѣ образовалась маленькая лужа. Становиться на колѣни въ грязи, чтобы рыть стокъ лопатой, вычерпывать воду коробкой изъ-подъ обезьяньяго мяса, бороться съ потокомъ, который вливается, несмотря на преграду… У него не хватило мужества на это. Тѣмъ хуже, онъ приткнется какъ-нибудь вмѣсто того, чтобы вытянуться.
Онъ снялъ съ себя непромокаемую накидку и былъ очень счастливъ, что шинель осталась сухой. Въ темнотѣ хлесталъ дождь, и онъ улыбнулся, прислушиваясь къ нему. Онъ находился въ прикрытіи, у себя; ему остается только прочесть письмо, перечесть его, затѣмъ заснуть съ нимъ.
Размотавъ свои грязные обмотки и снявъ башмаки, онъ просунулъ мокрыя ноги въ два маленькихъ мѣшка изъ-под земли, которые будутъ грѣть его. Затѣмъ, онъ завернулся въ одѣяло, набросилъ на колѣни накидку и зажегъ свою отсырѣвшую свѣчку. Теперь больше ему нечего желать…
Онъ сталъ читать:
„Мнѣ очень нравится здѣсь, въ отелѣ очень весело. Издали видна только его красная крыша; остальное скрыто мимозами.
Кстати, я встрѣтила въ отелѣ моего друга, о которомъ я тебѣ уже говорила, Марселя Бизо. Это очаровательный человѣкъ, и я буду счастлива познакомить тебя съ нимъ послѣ войны.
Мы часто выходимъ вмѣстѣ. Тебѣ это не непріятно, мой мальчикъ? Я предпочитаю тебѣ это сказать, потому что нѣкоторые встрѣчали насъ вмѣстѣ, и они настолько глупы, что способны написать тебѣ всякую ерунду“.
Снаружи проходила смѣна, медленный гулъ заглушенныхъ шаговъ. Вода все текла ручьемъ при входѣ въ землянку, и, капля за каплей просачивались въ лужу.
Свѣжій ароматъ вервены исходилъ отъ письма. Бывало, она преслѣдовала его съ пульверизаторомъ подъ самымъ носомъ, чтобы напугать его. Ушло время ароматовъ. И, все-таки оно такъ близко его сердцу… У него былъ разсѣянный взглядъ, мысль блуждала, онъ прислушивался къ пѣснѣ дождя.
Сюльфаръ приподнялъ край палатки и спрыгнулъ въ яму, — ручьи воды текли съ него.
— Уфъ! Наконецъ-то… Ты получилъ письмо?
— Да, — отвѣтилъ Демаши разсѣяннымъ голосомъ.
О чемъ онъ думалъ? Неподвижно, съ улыбкой огорченнаго ребенка въ углахъ губъ, онъ глядѣлъ вдаль, унесясь куда-то.
— Извѣстія хорошія?
Дождь… Капли дождя какъ будто и въ его взглядѣ.
— Да, хорошія…
XV „ВОЗВРАЩАЯСЬ ИЗЪ МОНМАРТРА“
Мы разсѣянно смотрѣли на окружающую насъ сельскую природу: будь это въ Артуа, или въ Шампани, въ Лотарингіи или во Фландріи, всѣ дороги, окаймлены ли онѣ вязами или колосящимися полями, торфяными болотами или виноградниками, всѣ онѣ одинаковы для пѣхотинца: та же пыль и та же грязь, по которой приходится совершать тяжелые переходы отъ стоянокъ къ окопамъ.
Солдаты съ побѣлѣвшими отъ пыли рѣсницами, высунувшись изъ грузовиковъ, забавлялись тѣмъ, что блеяли: „Бэ! бээ!“… и къ шуму колесъ и тряскѣ присоединялось ихъ овечье блеянье. Нѣкоторые пѣли.
За нами возвышались черные бараки перевязочнаго пункта съ прилетающимъ къ нему цѣлымъ садомъ деревянныхъ крестовъ. Они стояли прямо, стройными рядами, на мѣловыхъ холмикахъ, а дальше были погребены алжирскіе и марокканскіе стрѣлки, головой къ Меккѣ, и на ихъ холмахъ были водружены узкія стрѣльчатыя дощечки.
На другой сторонѣ работали ополченцы. Мы подошли къ нимъ, да о чемъ не думая, просто, чтобы посмотрѣть: они рыли ямы, цѣлый рядъ могилъ.
Завидѣвъ насъ, старички перестала рыть, какъ бы смутившись. Одинъ изъ нихъ, опираясь на лопату, со смущеннымъ видомъ объяснилъ намъ:
— Такой приказъ, ничего не подѣлаешь… Когда предстоитъ серьезное дѣло, лучше все предусмотрѣть, принять мѣры заблаговременно. Въ послѣдній разъ нѣкоторымъ пришлось ждать по три дня, — къ счастью, была зима.
Мы ничего не отвѣчали. Мы смотрѣли на предназначенныя для насъ могилы… Первый возмутился Сюльфаръ:
— Ну, нѣтъ! — воскликнулъ онъ, — это уже слишкомъ… Давать намъ такое кинематографическое представленіе, когда мы отправляемся въ окопы, это издѣвательство надъ людьми.
И онъ тутъ же побѣжалъ съ донесеніемъ къ командиру, проѣзжавшему верхомъ. Мы едва успѣли замѣтить, какъ онъ вытянулся и произнесъ два слова: однимъ прыжкомъ лошадь была уже на откосѣ. Багрово-красный, задыхаясь отъ бѣшенства, командиръ кричалъ на испуганныхъ ополченцевъ:
— Убирайтесь вонъ отсюда… Улепетывайте, или я велю моимъ солдатамъ разогнать васъ пинками въ з… Кто васъ прислалъ сюда, кто распорядился? Я вамъ приказываю отвѣчать!
Всѣ ополченцы побросали свои лопаты и кирки и убѣжали; остался только одинъ высокій старикъ, онъ слушалъ, опустивъ голову, разсматривалъ свои ноги, густо облѣпленныя землей.
— Вы глухи?… Я хочу знать, кто послалъ васъ на эту работу?
— Тутъ ничего плохого нѣтъ, господинъ командиръ, — забормоталъ онъ голосомъ старой козы, — меня это не смущаетъ, я къ этому привыкъ: я бывшій церковный сторожъ, по профессіи могильщикъ, на кладбищѣ Пріёрэ-на-Клезе въ Мельере, въ департаментѣ Эндръ.
Говоря, онъ одергивалъ своими землистыми пальцами голубую тужурку, стараясь спустить ее ниже… Командиръ, обезкураженный, съ угрюмымъ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на него.
— Ну, убирайся, — сказалъ онъ ему, пожимая плечами… Я самъ разберу это дѣло.
И, оставивъ тамъ лошадь, онъ вошелъ въ помѣщеніе перевязочнаго пункта, откуда за этой сценой наблюдали санитары, скатывая бинты.
Мы чувствовали себя неважно и, молча, вернулись на поле къ товарищамъ, которые закусывали. ѣли небольшими группами, всегда одни и тѣ же: тѣ, кто получали большія посылки, дѣлились ими съ пріятелями, получавшіе такія же большія, маленькія посылки дѣлили съ получавшими маленькія, а ничего не получавшіе сообща покупали себѣ литръ вина. Самые ловкіе ухаживали за Жильберомъ, зная, что онъ не скупится и охотно угощаетъ своими консервами товарищей, которымъ уже надоѣли макароны.
Недѣлю тому назадъ, во время продолжительнаго отдыха, къ Демаши пріѣхалъ повидаться съ нимъ его двоюродный братъ, офицеръ, я предложилъ ему устроить его въ автомобильную команду.
— Спасибо, — отвѣтилъ ему Жильберъ, — я могу быть шофферомъ только своего автомобиля.
Мы всѣ были удивлены. Жильберъ признался мнѣ:
— Это изъ-за удовольствія выпалить дерзость, понимаешь, хлестнуть кого-нибудь рѣзкимъ отвѣтомъ… Главнымъ образомъ изъ-за этого… Я даже не успѣлъ сообразить, у меня это вырвалось, какъ ругательство. Потомъ уже нельзя было исправить, было уже поздно… Ну, не глупо ли рисковать шкурой ради одного олова… Но, право, слишкомъ онъ былъ мнѣ противенъ своими лакированными сапогами и палевыми перчатками.
Никогда я не видѣлъ, чтобы онъ такъ много пилъ, какъ въ этотъ вечеръ, и онъ напоилъ допьяна толстяка Буффіу, котораго въ тотъ самый день вернули въ строй, а на кухню вмѣсто него назначили бывшаго каменщика, отца троихъ дѣтей.
Прогулка по кладбищу и видъ вырытыхъ могилъ вызвали въ бывшемъ кашеварѣ окончательный упадокъ духа, бодростью котораго онъ никогда не отличался. Онъ разсказалъ объ этомъ случаѣ Жильберу, преувеличивъ количество могилъ, и Сюльфаръ не нашелъ ничего другого, какъ утѣшилъ его слѣдующимъ замѣчаніемъ:
— Могу поклясться, что толкотни не будетъ, мѣста хватить для всѣхъ…
— А, чтобъ ихъ!..
За ѣдой Буффіу молчалъ и только изрѣдка задавалъ вопросы, по которымъ было ясно, с чемъ онъ думаетъ.
— Какъ, по твоему, это дѣйствительно такой опасный участокъ? А санитары въ тяжелые моменты хорошо исполняютъ свои обязанности?… А мы навѣрное будемъ наступать?.. Сколько, по твоему, человѣкъ можетъ выбыть изъ строя въ такомъ дѣлѣ?…
Чтобы успокоить его, Мару отвѣтилъ:
— Можетъ быть, больше половины, неизвѣстно.
Буффіу, получивъ справку, не сталъ больше разспрашивать. Онъ выпилъ кофе и, улегшись па спину, сталъ размышлять. Я слышалъ, какъ онъ вздохнулъ:
— Если бы только быть увѣреннымъ, что хорошо обращаются съ плѣнными…
* * *
Этотъ заново вырытый окопъ былъ обсыпанъ свѣжею землей, какъ братская могила. Можетъ быть, ради экономіи времени насъ еще живыми помѣстили туда.
Тѣ, которыхъ мы смѣнили, вырыли этотъ окопъ Въ теченіе двухъ ночей, и заступами натыкались на сложенные кучей трупы, такъ что теперь по краямъ мѣстами выступали части мертвыхъ человѣческихъ тѣлъ…
Я положилъ руки на брустверъ и чувствовалъ, какъ отъ непрерывныхъ выстрѣловъ вздрагиваетъ земля. Но передъ нашими окопами снаряды не падали.
Слѣва отъ насъ послышался заглушенный шумъ смѣны: одна изъ ротъ нашего полка только-что прибыла, а прежняя, давно ожидавшая съ сумками за плечами, поспѣшно убиралась. Новоприбывшіе ворчали:
— Есть землянка, и ее заняла третья рота… Всегда одни и тѣ же устраиваются, а товарищи могутъ подыхать.
Не было ни прикрытія, ни землянокъ, и тѣ, которымъ не надо было выходить на дежурство, присѣли на корточки, согнувъ спину, покрытую сложенной палаткой, и, уткнувъ подбородокъ въ колѣни, пробовали уснуть.
Вспыхнуло маленькое пламя зажигалки, дождь тотчасъ погасилъ его. Оно снова вспыхнуло, и тотчасъ его задули.
— Свѣтъ! — раздался раздраженный окрикъ.
Но человѣкъ не испугался, и упорно старался зажечь, конечно, трубку. Три, четыре раза вспыхивалъ слабый огонекъ. Тогда я увидѣлъ, какъ поднялся чей-то силуэтъ, растолкалъ другихъ и подошелъ къ курильщику.
— Вы съ ума сошли?… Вы не знаете, что запрещено зажигать огонь…
— Ты боишься, что тебя замѣтятъ? — отвѣтилъ человѣкъ, голосъ котораго меня поразилъ.
— Молчите… Я вамъ говорю, что…
— Тише, парень, тише, — твердо отвѣтилъ тотъ тѣмъ же насмѣшливымъ голосомъ, который показался мнѣ знакомымъ.
— Знаете вы, съ кѣмъ говорите?… Во-первыхъ, встаньте, когда я съ вами разговариваю.
— Еще что-нибудь скажи, — испугался я.
— Я фельдфебель.
— Ну, такъ что же…
— Фельдфебель Руже…
— А я, Вьеблэ, солдатъ второй роты, имѣю военную медаль и крестъ… Если бошамъ не нравится свѣтъ, наплевать мнѣ на нихъ…
— А! Вьеблэ вернулся, — радостно воскликнулъ Лемуанъ.
Мы живо пробрались къ нему, онъ все еще сидѣлъ на корточкахъ и, не шевелясь, слушалъ, какъ фельдфебель, человѣкъ добродушный, вмѣсто наказанія, отчитывалъ его, ставя ему на видъ, что на передовыхъ позиціяхъ надо соблюдать осторожность и къ старшимъ по чину надо относиться съ уваженіемъ…
— Эй! Вьеблэ, что же ты не здороваешься съ товарищами?
Парижанинъ поднялъ голову и тотчасъ узналъ насъ.
— А, старыя клячи… Ахъ, какъ я радъ васъ видѣть… Я думалъ, что вы всѣ убиты или отправились въ тылъ, въ нашей ротѣ мнѣ ничего не могли сказать о васъ… Сегодня утромъ мы пришли на подкрѣпленіе, а вечеромъ насъ отправили въ окопы, времени не теряютъ… Ахъ, какъ я радъ… А Сюльфаръ?
Сосѣди заворчали:
— Тише, вы тамъ…
Вьеблэ пошелъ съ нами къ нашему окопу. Онъ въ темнотѣ оглядывалъ всѣхъ, ища старыхъ товарищей.
— Здравствуй, Брукъ, вотъ и опять встрѣтились… А, Буффіу, старая бестія, что ты тутъ подѣлываешь?.. А Беленъ?
— Отправленъ въ тылъ… Отравленіе газомъ… Ты знаешь, что Бреваль убитъ, и капраломъ у насъ теперь Мару… Бертье пропалъ безъ вѣсти въ Аргони.
Мы столпились у входа въ землянку, усѣвшись на грязныя ступеньки. Внутри Сюльфаръ приготовлялъ жженку, — онъ не взялъ въ сумку ни патроновъ, ни бѣлья, ни бисквитовъ, чтобы осталось мѣсто для двухъ бутылокъ рома, которыя онъ завернулъ въ вязаные носки.
— Ну, а въ тылу сладко живется?
— Еще бы. Три мѣсяца въ лазаретѣ все равно, что въ роскошной гостиницѣ. Ничего не дѣлаешь, подставляешь только ноги для мытья; варенья сколько угодно, однимъ словомъ, хорошая жизнь… И мы еще что, а посмотрѣли бы вы на англичанъ. Если бы вы видѣли офицеровъ съ тростачками, новенькихъ солдатъ, которые себѣ ни въ чемъ не отказываютъ, шотландцевъ въ юбкахъ, которые идутъ на ученье, наигрывая на флейтахъ. Женщины къ нимъ льнутъ, что тутъ говорить; можешь быть увѣренъ, что они не просятся на другой участокъ. А если бы вы видѣли ихъ раненыхъ! Великолѣпный, нарядный, голубой костюмъ, бѣлая рубашка съ краснымъ галстукомъ. Такіе франты, что не вѣрится, чтобы имъ пришлось мучиться.
— А наши? Много нашихъ раненыхъ?
— Масса. Въ лазаретѣ, гдѣ я былъ, всегда было полно… Только насъ одѣваютъ кое-какъ, куртки у васъ слишкомъ широки, штаны слишкомъ коротки, старыя шинели; чтобы понравиться дѣвицамъ, надо быть очень красивымъ парнемъ… Только мы лучше умѣемъ болтать… У кого какая рана, тотъ съ такими ранеными и разгуливаетъ. У кого нѣтъ руки или ранена голова, ходятъ компаніями, потому что ихъ раны не мѣшаютъ имъ ходить. А мы, раненые въ ногу, составляли особую компанію. У меня-то было двѣ палки, но тѣ, у которыхъ отнята нога или часть ноги, опирались на костыли, и вы не можете себѣ представить, какъ тяжело слышать постукиванiе костылей о тротуаръ… Штатскіе уже не обращаютъ на это вниманія; они говорятъ, видишь ли, что они уже къ этому привыкли. А ребята къ этому не привыкли, можешь быть увѣренъ… У меня былъ пріятель, у котораго отняли нижнюю часть лица, онъ не рѣшался выходить, ему было стыдно… Онъ былъ изъ двѣсти шестьдесятъ девятаго полка, который былъ съ нами въ Каранси.
Выпивъ глотокъ горячаго рома, онъ поблагодарилъ:
— Это согрѣваетъ. Старина Демаши, я вижу, попрежнему лечить свой желудокъ.
Сюльфаръ, склонившись надъ кружкой, старался прочесть будущее на днѣ ея.
— А война? — спросилъ онъ, — когда же она кончится?
Вьеблэ, прежде чѣмъ отвѣтить, насмѣшливо засмѣялся.
— Ахъ, съ концомъ они запаздываютъ… Ты думаешь, что они объ этомъ говорятъ, — нѣтъ!.. Да въ Парижѣ и не знаютъ уже, что теперь война. Никто о ней не думаетъ, кромѣ матерей, у которыхъ ребята на фронтѣ… Дѣвицы никогда такъ не развлекались. Я встрѣтилъ типовъ, которые зарабатываютъ по двадцати франковъ въ день… Парень, у котораго была маленькая мастерская для починки велосипедовъ, сталъ теперь милліонеромъ, курить сигары съ этикетками, до которыхъ вы не рѣшились бы дотронуться. А эта публика въ кино, въ ресторанахъ, вездѣ… Прошлись бы вы по Елисейскимъ полямъ, посмотрѣли бы на богачей, они еще всѣ тамъ, не безпокойся. Для этихъ людей то же самое, какъ если бы война происходила на Мадагаскарѣ или въ Китаѣ, даю тебѣ слово, что зимняя кампанія ихъ не волнуетъ. Разгулъ, говорю я вамъ, настоящій разгулъ…
— Да, я видѣлъ это во-время отпуска, — подтвердилъ солдатъ послѣдняго призыва.
Разсказчикъ искоса посмотрѣлъ на перебившаго его.
— Ничего ты не видѣлъ, — сказалъ онъ ему. — Въ одну недѣлю нельзя все увидѣть, убѣдиться въ этомъ. Я числился двадцать дней на выздоровленіи, имѣлъ два отпуска по сорока восьми часовъ и одно воскресенье, которое я весело провелъ… А на сборномъ пунктѣ васъ здорово притѣсняютъ… Унтеръ-офицеры всячески стараются не попасть на фронтъ и выжимаютъ изъ васъ соки: утреннія маршировки, ночныя маршировки, дежурства, упражненія. Однажды въ субботу я былъ въ мрачномъ настроеніи, и, вернувшись на сборный пунктъ, разнесъ ихъ всѣхъ; я имъ сказалъ, что мнѣ надоѣли тыловые ловкачи, уклоняющіеся отъ фронта, и попросилъ скорѣе отправить меня… Три дня мы пробыли на дивизіонномъ сборномъ пунктѣ, и вотъ я здѣсь…
— Жаль, что тебя опять не назначили къ намъ, — пожалѣлъ Мару.
— Къ моему пріятелю Морашу?.. Нѣть, это дудки.
Дождь прекратился. Передъ брустверомъ взорвалась граната. Затѣмъ другая, и отблескъ ея рѣзко освѣтилъ согнувшіяся спины караульныхъ, потомъ третья… Въ нѣмецкихъ окопахъ потрескивала легкая ружейная стрѣльба, чтобы заглушить шумъ бросаемыхъ гранатъ.
Рикордо влѣзъ на мѣшки съ землей и смотрѣлъ на равнину, на которой то тутъ, то тамъ вспыхивали огни. Когда ружейная стрѣльба прекратилась, грохочущіе взрывы гранатъ стали слышны отчетливѣе. Всѣ спрятали головы.
— Это для того, чтобы мы вышли изъ землянки. Теперь они начнутъ здорово садить… Ну, всѣ подъ прикрытіе!
Всѣ сгрудились на ступенькахъ землянки. Просвистѣвшіе 210-мм. снаряды какъ кулаками подтолкнули заднихъ. Втискивались въ землянку, ничего не видя.
— Зажгите, чортъ возьми… У кого зажигалка?
Свѣча освѣтила обширную низкую землянку, которая, казалось, выгнулась, чтобы выдержать тяжесть на своихъ плотныхъ подпорахъ. Наверху гремѣло сильнѣе, и при каждомъ ударѣ чувствовалось, какъ дрожатъ балки.
— Остался ли караульный наверху? — спросилъ Рикордо, фатоватое лицо котораго блестѣло при свѣтѣ свѣчи.
Никто не отвѣтилъ.
— Есть караульные на переднемъ посту.
— Этого мало, надо назначить кого-нибудь. Очередь твоему отдѣленію, Мару.
Капралъ изъ принципа проворчалъ: „понятно“… и спросилъ насъ: „Чья очередь идти?“
Новый солдатъ тотчасъ заявилъ:
— Не моя… Буффіу еще не былъ караульнымъ.
Бывшій кашеваръ забился въ уголъ между двумя рядами мѣшковъ.
— А почему же именно я, — запротестовалъ онъ плачущимъ голосомъ, поворачивая къ намъ свое толстое жалкое лицо. — Но, вѣдь, не назначать же меня одного караульнымъ?.. Я почти ничего не вижу ночью, одного глаза какъ будто нѣтъ…
— Довольно, Буффіу, — прервалъ его Рикордо, — бюро жалобъ закрыто.
— Все-таки, — пробормоталъ тотъ, — я нахожу, что было бы полезнѣе теперь окопаться.
Маленькій Брукъ съ омерзѣніемъ посмотрѣлъ на толстяка.
— Ну, я пойду, — заявилъ онъ, — пойду вмѣсто тебя… Знаю, что ты замышляешь, но это ничего.
Онъ взобрался по лѣстницѣ. Когда онъ выходилъ, особенно сильный ударъ потрясъ землянку, слегка освѣтивъ ее.
— Брукъ! — встревоженно окликнулъ его Мару.
Сверху спокойный голосъ отвѣтилъ:
— Не безпокойся…
Это былъ методичный, неумолимый обстрѣлъ, снаряды слѣдовали безостановочно одинъ за другимъ, взрывая землю метръ за метромъ. Стоя у подножья лѣстницы, Рикордо считалъ взрывы.
Слышны были только глухіе раскаты, и иногда болѣе близкій трескъ, который проникалъ въ самую землянку. Тогда Мару бросался къ лѣстницѣ, взбирался на нѣсколько ступенекъ и звалъ:
— Брукъ!
Глухой голосъ отвѣчалъ:
— Есть, есть…
Подъ вліяніемъ адской бомбардировки мы на мгновеніе отупѣли. Сидѣли забитые, опустивъ руки между колѣнями, съ пустой головой. Мы утоляли жажду изъ консервной коробки, передавая ее изъ рукъ въ руки. Затѣмъ, мы заговаривали коротко, быстро, все быстрѣе.
Но ужасный таранъ, казалось, еще приблизился, яростно грохоча, и всѣ замолчали. Мнѣ казалось, что я чувствую у моего плеча біеніе сердца Жильбера. Буффіу съ головой завернулся въ одѣяло, чтобы ничего не видѣть. Мы покорно ждали.
Раздался сильный взрывъ, желѣзный грохотъ, и порывъ вѣтра задулъ нашу свѣчу. Наступила темнота, и сильная тревога охватила насъ. Мару, сначала оглушенный, быстро взобрался по лѣстницѣ.
— Брукъ! Брукъ… — звалъ онъ.
Голосъ его послышался наверху, затѣмъ удалился… Онъ вернулся, когда зажигали опятъ свѣчу. Она освѣтила его поблѣднѣвшее лицо подъ полоской тѣни отъ каски.
— Кому-нибудь нужно выйти, — сказалъ онъ просто сдавленнымъ голосомъ. — Твоя очередь, Демаши.
Жильберъ отвѣтилъ: „Хорошо“. Онъ надѣлъ каску, которую до того снялъ, взялъ винтовку, слегка кивнулъ мнѣ головой и полѣзъ наверхъ.
Едва онъ вышелъ, два взрыва заставили его пригнуться, и что-то, не то камень, не то осколокъ, ударилось о его шинель. Въ окопѣ передъ нимъ все было перевернуто, онъ перепрыгнулъ черезъ мѣшки и зашагалъ по липкой землѣ.
Брукъ не шевелился. Онъ полусидѣлъ на выступѣ стѣнки, вытянувъ руку на брустверъ, и казалось продолжалъ дремать, склонивъ голову; воротникъ его былъ плохо застегнутъ, и капли дождя текли по его худой груди. Ничего не было замѣтно: двѣ тонкія красныя струйки текли изъ его ноздрей, и это было все.
Снаряды теперь падали лѣвѣе, не такъ регулярно, не такъ яростно. Взрывы раздавались рѣже…
* * *
Дождь снова собирался, дневной свѣтъ былъ ослѣпительный, изсиня бѣлый. На землѣ были желтоватыя лужи отъ дождя, онѣ морщились отъ налетѣвшаго вѣтра, и круги расходились по нимъ отъ изрѣдка падавшихъ капель. Не надѣялся ли дождь смыть всю эту грязъ, вымыть эти лохмотья, омыть эти трупы? Сколько бы слезъ не лилось съ неба, разразись даже потопъ, ничто не смоется. Нѣтъ, цѣлое столѣтіе дождей не смоетъ всего этого.
Передъ нами нѣтъ никакого загражденія, ни одного кола, ни одной желѣзной проволоки. Бугры, ямы, исковерканная земля, усѣянная осколками, и въ тысяча двустахъ метрахъ роща, которую предстояло взять и отъ которой остался только рядъ ободранныхъ стволовъ.
Говорили, что наступленіе назначено на восемь часовъ, но въ точности никто ничего не зналъ.
Свернувшись подъ одѣялами, солдаты еще дремали, и посланные изъ службы связи шагали второпяхъ черезъ нихъ, не зная, живые ли это или мертвые.
— Это убитый?
— Нѣтъ еще, подожди до вечера, — ворчалъ человѣкъ, подбирая ноги.
Разговоровъ не слышно было. Нѣкоторые ѣли, и на хлѣбъ ихъ стекали дождевыя капли съ касокъ, другіе, согнувшись, ждали, молча, ни на что не глядя.
Между взрывами тяжелая давящая тишина наступала въ окопѣ, и, когда я смотрѣлъ на лица товарищей, мнѣ казалось, что въ глазахъ ихъ можно прочесть одну и ту же мысль, какъ бы отраженіе блѣдно-синяго неба.
Вдругъ стали передавать команду:
— Передавайте дальше, часы полковника…
Часы передавали изъ рукъ въ руки, и взводные командиры провѣряли свои. Это была небольшая серебряная вещица, выпуклая, съ вырѣзанными на ней гирляндами розъ. И она, только она одна знала, когда наступитъ тотъ часъ, та ужасная минута, когда придется выйти изъ нашихъ норъ, ринуться въ дымъ, прямо противъ пуль.
— Я купилъ такіе же своей маленькой дочкѣ, — сказалъ мнѣ товарищъ.
Жильберъ, всегда немного возбужденный въ дни, когда предстояло серьезное дѣло, былъ странно спокоенъ въ это утро. Онъ, молча, смотрѣлъ на рощу, на роковой лѣсъ ободранныхъ стволовъ, откуда поднимался дымъ отъ снарядовъ. Какъ онъ далеко… Сколько пулеметовъ можетъ быть у нихъ?
Ему было такъ холодно, что онъ не чувствовалъ въ правой рукѣ мокраго ствола винтовки. Странно, всѣ эти дни ему было холодно, но такую слабость въ ногахъ, пустоту въ головѣ, такую тревогу въ сердцѣ онъ чувствовалъ впервые…
— Пойди, присядь, Жильберъ, — сказалъ ему Сюльфаръ, — здѣсь сухо, хорошо.
Мы втроемъ тѣснились подъ навѣсомъ, сдѣланномъ изъ двери отъ сарая, которую удерживали въ равновѣсіи мѣшки съ землей на брустверѣ, и безъ всякаго аппетита, чтобы убитъ время, начали коробку съ обезьяньимъ мясомъ.
Жильберъ не обернулся. Онъ вдругъ вытянулъ шею и крикнулъ:
— А!
Въ то же мгновеніе послышалась ружейная стрѣльба, взрыв гранатъ, весь шумъ внезапно разразившагося сраженія.
Рикордо, сидѣвшій при входѣ въ землянку, выбѣжалъ и, не обращая вниманія на свистѣвшія пули, вскочилъ на мѣшки съ землей и взглянулъ поверхъ бруствера: наступленіе началось. На полѣ видны были небольшіе клубы дыма отъ взрывающихся гранатъ и густыя облака отъ взрыва уже подоспѣвшихъ пушечныхъ снарядовъ. То пригибаясь къ землѣ подъ залпами, то вновь поднимаясь, наши наступали. Разсѣяные, разбросанные, они были такіе маленькіе, что казались затерянными на этой огромной равнинѣ.
Рикордо машинально подтянулъ свои ремни и кричалъ срывающимся голосомъ:
— Это невозможно, они ошибаются… Остается еще часъ… Ружья на перевѣсъ!.. Нѣтъ, нѣтъ, отставить, еще не время… Это ошибка… Скорѣй, передавайте дальше капитану: „Что нужно дѣлать“?…
Онъ ошалѣлъ и бѣгалъ по окопу, расталкивая насъ, выскакивая наружу, становясь во весь ростъ на обсыпающіеся мѣшки, и старался увидѣть, что дѣлаютъ другія роты. То тутъ, то тамъ какъ бы нерѣшительно выходили взводы. Въ двухстахъ метрахъ офицеръ дѣлалъ намъ знаки, которыхъ мы не понимали, и за нимъ виднѣлся въ окопѣ сплоченный отрядъ, ощетинившійся штыками.
— Все равно, идемъ, — воскликнулъ Рикордо, внезапно поборовъ свою нерѣшительность.
Безъ всякой команды, онъ вскочилъ на брустверъ, пробѣжалъ нѣсколько метровъ, затѣмъ, какъ бы вспомнивъ о насъ, онъ обернулся и закричалъ, не останавливаясь:
— Впередъ!
Въ окопѣ зашевелились и задвигались. Брустверъ во всю длину обвалился, мѣшки свалились. Карабкались, подталкивая другъ друга. Мгновенное колебаніе передъ изуродованной землей, передъ голой равниной: ждали товарищей, чтобы почувствовать ихъ близость, затѣмъ послѣдній взглядъ назадъ… И безъ крика, безмолвная, трагическая, разрозненная рота ринулась впередъ… Впереди насъ, болѣе чѣмъ на сто метровъ, бѣжалъ, не наклоняясь, Рикордо. Еще дальше, въ дыму, видно было, какъ взводы врываются въ лѣсъ. Скрытые за обломками деревьевъ, трещали пулеметы; яростно и учащенно стрѣляло окопное орудіе. Люди падали… Мы бѣжали прямо, безъ крика, сосредоточенно: боялись открыть ротъ, чтобы не испарилось то мужество, которое мы удерживали, стиснувъ зубы.
Тѣла и мысли стремились къ единственной цѣли: къ лѣсу, добѣжать до лѣса. Онъ казался ужасно далеко, особенно потому, что насъ отдѣляли отъ него взлетавшіе вверхъ столбы земли отъ падавшихъ снарядовъ. Безпрерывный громъ ударялъ намъ въ голову, и потрясенная земля дрожала подъ нашими ногами. Бѣжали, задыхаясь. Падали ничкомъ, когда взрывался снарядъ, затѣмъ, оглушенные, бѣжали далѣе, окутанные дымомъ. Кучки людей, казалось, таяли отъ отблесковъ огня.
Передо мной раненый выронилъ винтовку. Я видѣлъ, какъ онъ на мгновенье зашатался на мѣстѣ, затѣмъ тяжело, болтая руками, побѣжалъ дальше, какъ и мы, не понимая, что онъ уже мертвъ… Пошатываясь, сдѣлалъ онъ нѣсколько метровъ и свалился.
* * *
Когда они, послѣдніе, выходили изъ окопа, ихъ обдало и оттолкнуло горячимъ порывомъ воздуха — налетѣлъ шрапнельный снарядъ и разорвался съ такимъ ужаснымъ грохотомъ, что они, оглушенные, ничего уже не слыхали. Сюльфаръ скатился въ окопъ. Послышался крикъ:
— Охъ! Я раненъ…
Дымъ разсѣялся, и показались приподнимающіеся съ земли люди. Буффіу лежалъ, уткнувшись носомъ въ землю, мгновенный трепетъ пробѣжалъ по его тѣлу, затѣмъ онъ замеръ и уже не шевелился, на поясницѣ его зіяла рана. Поднявшіеся раненые бросали свои винтовки, подсумки и убѣгали.
Другіе, легко раненые, ждали, пока утихнетъ бомбардировка и дѣловито вскрывали зубами свои санитарные пакеты. Сюльфаръ согнулся вдвое и едва дышалъ.
— Я готовъ, — шепталъ онъ, съ растеряннымъ видомъ глядя на товарища.
— Это ничего, — сказалъ ему тотъ, — у тебя ранена рука.
— Нѣтъ. Я раненъ въ спину…
Шинель его была продырявлена подъ плечомъ, и кровь едва виднѣлась, образуя темно-красное пятно.
— Много крови? — спросилъ онъ.
— Нѣтъ. Бѣги скорѣй на перевязочный пунктъ. Я перевяжу тебѣ пока руку.
Тутъ только Сюльфаръ взглянулъ на свою руку. Пальцы у него были раздроблены и густо залиты кровью; увидѣвъ свою рану, онъ тотчасъ почувствовалъ боль.
— Осторожнѣе, мнѣ больно. У меня есть іодъ въ желтой патронной сумкѣ, возьми тамъ…
Товарищъ вылилъ на раздробленную руку половину бутылочки, и отъ ужаснаго обжога онъ закричалъ. Не рѣшаясь стягивать, тотъ наскоро сдѣлалъ ему перевязку, которая краснѣла по мѣрѣ того, какъ онъ наматывалъ бинтъ.
— А ты? Куда ты раненъ? — спросилъ Сюльфаръ.
— Никуда… я пойду догонять остальныхъ.
Снарядъ пощадилъ троихъ. Они посмотрѣли на взводъ, который, остановившись на минуту, чтобы переждать пулеметный огонь, теперь бѣжалъ дальше стрѣлковой цѣпью, затѣмъ взглянули на раненыхъ.
— Вы-то спасли свою шкуру, — съ завистью сказалъ одинъ изъ нихъ…
— Нѣтъ ли у кого-нибудь изъ васъ табаку?
— Есть. У меня осталась пачка, подожди.
— У меня есть шоколадъ, — отрывисто сказалъ Сюльфаръ. — Кто хочетъ?
Раненые опорожнили свои сумки, подсумки, и тѣ трое выбрали, что имъ пришлось по вкусу. Подѣливъ добычу, одинъ изъ нихъ, капралъ, лицо котораго поблѣднѣло даже подъ слоемъ грязи и пота, сказалъ:
— Ну, идемъ теперь?… До свиданія, товарищи, всего хорошаго!
Они вышли изъ окопа и тяжелымъ шагомъ, согнувшись, среди грохота побѣжали по направленію къ лѣсу, одни — три пигмея, наступавшiе на гигантскіе столбы дыма.
Сидя на мѣшкахъ съ землей, прислонившись къ мягкой стѣнкѣ окопа, Сюльфаръ чувствовалъ себя почти хорошо, хотя тѣло его ныло отъ боли и голова горѣла.
Но онъ былъ безъ силъ, безъ воли; легко раненый товарищъ долженъ былъ помочь ему встать.
— Ну, торопись, — повторяли ему шедшіе впереди него.
Онъ не могъ идти быстро, какая-то колющая боль внутри мѣшала ему дышать.
— Эй! — хотѣлъ онъ окликнуть товарищей. Подождите меня.
Но его заглушенный голосъ не слышенъ былъ издалека, а остальные торопились. Онъ увидѣлъ, какъ шинель послѣдняго раненаго скрылась за поворотомъ окопа. Остановившись на минуту, онъ отдышался, затѣмъ, найдя палку, пошелъ дальше, опираясь на нее, какъ старикъ.
По всѣмъ узкимъ переходамъ ковыляли раненые. Были ужасные, съ посѣрѣвшими лицами они останавливались, хрипѣли, присѣвъ на корточки въ укрѣпленіяхъ, и расширенными, невидящими глазами смотрѣли, какъ проходятъ другіе.
Сюльфаръ едва замѣчалъ ихъ, упорно продолжая шагать.
Въ этомъ мѣстѣ проходъ извивался между развалинами какого-то поселка.
Когда онъ проходилъ около стѣны, онъ услышалъ, какъ просвистѣлъ снарядъ, и прижался къ ней. Взрывъ раздался такъ близко, что сквозь закрытыя вѣки онъ, казалось, увидѣлъ красный отблескъ. Внѣ себя отъ страха, онъ поплелся дальше.
Послѣдовали другіе снаряды, какъ будто цѣлая погоня устремилась на эти развалины домовъ. Тогда Сюльфаръ бросился бѣжать, ища убѣжища. Онъ замѣтилъ лѣстницу погреба, на верху которой стоялъ санитаръ.
— Мѣстъ нѣтъ больше, — сказалъ тотъ, отталкивая его. — Иди дальше.
Онъ не зналъ этихъ извилистыхъ проходовъ, прорытыхъ въ грязи. Но отъ времени до времени встрѣчные солдаты службы связи или санитары говорили ему:
— Иди все прямо, — и онъ шелъ все прямо, не желая отдыхать.
Наконецъ, онъ увидѣлъ дощечку: „Перевязочный пунктъ“ и спустился въ землянку. Чтобы попасть туда, надо было шагать черезъ раненыхъ, присѣвшихъ на ступени. Все было переполнено ими: тяжело раненые лежали на носилкахъ и хрипѣли, закрывъ глаза отъ боли.
Военный врачъ сказалъ Сюльфару:
— Я ничѣмъ не могу тебѣ помочь здѣсь… Отдохни здѣсь, а ночью, когда стрѣльба утихнетъ, вы всѣ вмѣстѣ отправитесь въ полевой лазаретъ.
Онъ искалъ мѣста, гдѣ бы усѣсться, какъ вдругъ маленькій сержантъ съ рукой на перевязи изъ большого клѣтчатаго платка, всталъ и сказалъ:
— Я не хочу больше ждать здѣсь… Къ вечеру у меня совсѣмъ не останется крови.
Пошатываясь, онъ вышелъ, расталкивая другихъ, и на освободившейся послѣ него ступенькѣ усѣлся Сюльфаръ.
Благодаря дождливому небу темнота наступила скорѣе, и въ сумеркахъ нѣкоторые раненые ушли. Сюльфаръ пошелъ за ними. Передъ нимъ шелъ стрѣлокъ, который поддерживалъ обѣими руками свою разбитую челюсть. По дорогѣ они догнали другихъ и многочисленной группой дошли до батарей. Артиллеристы вышли посмотрѣть на нихъ.
— Вы вышли на вѣрную дорогу, ребята… Деревня недалеко…
Они пошли дальше. То тутъ, то тамъ лежали солдаты, истекшіе кровью раненые, которыхъ догнала по дорогѣ смерть. Она, должно быта», знала ихъ путь и подстерегала ихъ на ходу, чтобы добить. Они узнали и сержанта по его большому клѣтчатому платку. Зачѣмъ онъ рѣшилъ идти одинъ? Вдвоемъ, вмѣстѣ, можно бороться со смертью, защищаться отъ нея. Остатокъ дневного свѣта изсякалъ, какъ вода изъ треснувшей вазы. Въ сумеречномъ туманѣ они различала роты, идущія на подкрѣпленіе, согнувшіяся подъ сумками и снаряженіямъ. Вечерняя тишина на мгновенье оживлялась бряцаніемъ ружей и котелковъ. Затѣмъ дорога обезлюдѣла.
Сначала одинъ раненый, затѣмъ другой остановились, не въ силахъ идти дальше. Одинъ повалился на край канавы и заплакалъ.
— Мы пришлемъ за тобой санитаровъ, — обѣщали ему товарищи, проходя дальше усталымъ шагомъ.
Наступила ночь. Вдали показались группы людей, неясной массой выдѣляясь на дорогѣ, слышенъ былъ ихъ говоръ; они пошли за ними по направленію къ деревнѣ. Чернѣющія улицы и темные дворы кишѣли невидимыми солдатами, и голоса ихъ раздавались неизвѣстно откуда. Иногда рѣзкій свѣтъ отъ походной кухни освѣщалъ группировавшіеся силуэты.
Батальоны, назначенные для подкрѣпленія, ожидали очереди и загромождали улицы; солдаты вставали, чтобы разспросить раненыхъ.
— Мы внаемъ не больше, чѣмъ вы… Плохой участокъ… Гдѣ полевой лазаретъ?
Они столпились передъ краснымъ фонаремъ, бросившимся ямъ въ глаза въ ночной темнотѣ. На двери былъ прибить плакатъ:
„Здѣсь легко раненые, способные ходить.“
Эта чуть ли не шутливая надпись не внушила имъ довѣрія.
— Не сюда, — сказалъ одинъ изъ нихъ, — отсюда должно быть не эвакуируютъ.
Дивизіонный полевой лазаретъ находился по другую сторону площади. Это былъ большой пустынный и темный домъ безъ мебели, безъ коекъ.
Въ рубашкѣ, безъ мундира, военный врачъ съ лоснящимся отъ пота лбомъ быстро осматривалъ раненыхъ, раны которыхъ освѣщалъ фонаремъ фельдшеръ.
На землѣ валялись запачканные бинты, тампоны ваты. На табуретѣ стоялъ большой тазъ, полный до краевъ покраснѣвшей водой.
— Слѣдующій, — говорилъ врачъ, вытирая лобъ обнаженной рукой.
И слѣдующій садился, протягивая свою перевязанную руку или приподнималъ куртку. За столомъ изъ бѣлаго дерева солдатъ поспѣшно заполнялъ карточки, которыя раненые сами прикрѣпляли въ своимъ шинелямъ.
Слышно было, какъ въ сосѣдней неосвѣщенной комнатѣ кричалъ тяжело раненый.
— Правда, что меня положатъ на кровать, господинъ докторъ?.. О, какъ мнѣ хотѣлось бы лежать на ней… Кровать съ простынями, а, господинъ докторъ?.. Скоро-ли пріѣдутъ за нами?.. Поторопите ихъ.
Врачъ разорвалъ рубашку Сюльфара, чтобы осмотрѣть рану.
— Кровь не идетъ больше… Тебѣ промоютъ тамъ… Дай мнѣ руку теперь.
Сюльфаръ не могъ удержаться отъ крива, когда снимали его слипшуюся перевязку.
— Это ничего, чудесная рана, — сказалъ ему врачъ… Только придется отнять тебѣ два пальца.
— Ну, такъ что-жъ, — отвѣтилъ ему рыжакъ, — я не піанистъ.
* * *
— Мнѣ больно!.. охъ! какъ мнѣ больно…
Жильберъ вполголоса повторялъ эти слова, какъ будто думалъ жалобой смягчить свое страданіе. Онъ, какъ упалъ, такъ и остался лежать на боку, и когда онъ съ трудомъ приподнималъ свою отяжелѣвшую голову, рыданіе безъ слезъ вырывалось изъ его груди.
Онъ оцѣпенѣлъ отъ боли и не чувствовалъ ни тѣла, ни головы, а только свою рану, глубокую рану въ животъ, которая выворачивала ему всѣ внутренности. Онъ ни на мгновеніе не терялъ сознанія, однако время прошло скорѣе, чѣмъ если бы онъ дѣйствительно бодрствовалъ. Теперь, когда мысль его начала проясняться, онъ почувствовалъ, что страдаетъ. Первое, что пришло ему въ голову, первый вопросъ, который больно рѣзнулъ его, былъ:
— А придутъ ли санитары?
Тревога охватила его, и онъ немного приподнялся, чтобы осмотрѣться. Но рѣзкая боль заставила его снова лечь.
— Придутъ ли санитары?.. Да, конечно, придутъ, когда наступитъ ночь. А если они не придутъ? Разсудокъ его помутился отъ ужаса, и на мгновеніе онъ замеръ, почти не чувствуя боли. Затѣмъ онъ снова открылъ глаза.
Отъ наступившихъ сумерекъ еще печальнѣе сталъ этотъ трагичный лѣсъ съ обнаженными деревьями. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него лежалъ, свернувшись въ комокъ, солдатъ, и изъ-подъ раскрытой шинели виденъ былъ кусокъ бѣлой рубашки, какъ будто онъ хотѣлъ передъ смертью найти свою рану. Дальше, другой, казалось, отдыхалъ, прислонившись къ ободранному стволу, склонивъ голову на плечо.
А этотъ кусокъ голубой матеріи — неужели это еще одинъ трупъ? Да, еще одинъ… Страхъ охватилъ его. Какъ это онъ одинъ живой оказался въ этомъ лѣсу, который подвергся такому обстрѣлу? Чтобы лежатъ здѣсь, развѣ не слѣдуетъ быть такимъ же безмолвнымъ, какъ они, быть такимъ же холоднымъ, какъ они? Это неизбѣжно, смерть ждетъ его…
Но одно это слово — смерть — вмѣсто того, чтобы подавляюще на него подѣйствовать, возмутило его. Такъ нѣтъ же, нѣтъ… Онъ не хочетъ умирать, не хочетъ! Напрягая мысль, сжавъ кулаки, онъ старался понять, гдѣ онъ находится. Нѣтъ никакого признака, никакого указанія, ничего… Снаряды перекрещиваются надъ лѣсомъ и взрываются поблизости, взрывая землю, нарушая сонъ мертвецовъ. Германскіе ли это снаряды или наши?..
Онъ слышалъ короткія перестрѣлки на опушкѣ лѣса, но не могъ оріентироваться. Продвинулись ли наши впередъ?.. Или боши взяли лѣсъ обратно?.. Отвѣта не было. Онъ былъ одинъ съ своей тревогой, съ своими сомнѣніями въ этомъ разгромленномъ лѣсу, между безчувственными, успокоившимися мертвецами.
Однако, съ наступленіемъ вечера канонада утихла, проносился холодный, пахнущій дождемъ, вѣтеръ, и влажная, липкая земля леденила ему ноги. Страхъ, ночной страхъ, снова начиналъ овладѣвать имъ.
Вдругъ ему показалось, что онъ слышитъ трескъ сучьевъ. Сдѣлавъ рѣзкое усиліе, онъ приподнялся на локтѣ и позвалъ:
— Сюда… Я раненъ…
Никто не отвѣтилъ, никто не шевельнулся. Разбитый, утомленный сдѣланнымъ усиліемъ, онъ снова со стономъ упалъ на бокъ. Отчаянная рана его разрывала ему грудь, внутренности, поясницу, все тѣло. Теряя сознаніе отъ боли, онъ бормоталъ:
— Я не шевельнусь больше… Клянусь, я не буду шевелиться, но не мучайте меня такъ…
И чтобы умилостивить страданіе, онъ лежалъ неподвижно, крѣпко закрывъ глаза, вонзивъ скрюченные пальцы въ холодную землю.
Боль постепенно становилась легче и въ его лихорадочномъ мозгу мелькнула мысль:
— Не слѣдуетъ лежать неподвижно… Если я потеряю сознаніе, то меня не замѣтятъ и оставятъ здѣсь умирать. Нужно приподняться, нужно звать на помощь.
Онъ напрягъ всю свою волю и рѣшилъ: „Я прислонюсь въ дереву и перевяжу рану… Потомъ, когда будутъ проходить солдаты, я начну кричать… Это необходимо… Дѣло идетъ о жизни…“
Онъ еще ни разу не рѣшился дотронуться до своей раны, онъ боялся этого я даже отставлялъ руку подальше отъ живота, чтобы не чувствовать, не знать.
— Кровотеченіе, должно быть, остановилось, — подумалъ онъ. — Сдѣлаю себѣ перевязку.
Стиснувъ зубы, чтобы не закричать, онъ съ трудомъ приподнялся, проползъ и свалился спиной къ дереву. Боль проснулась и, лихорадочно пульсируя, ударяла въ поясницу. Закрывъ глаза, онъ предоставилъ себѣ минутный отдыхъ: ему казалось, что онъ уже сдѣлалъ кое-что для своего спасенья.
Онъ взялъ изъ своей патронной сумки санитарный пакетъ и разорвалъ обертку. Теперь нужно было добраться до раны, дотронуться до нея. Руки его нѣсколько разъ опустились къ животу, но онъ колебался, не рѣшался. Наконецъ, онъ пересилилъ себя и, держа наготовѣ бинтъ, рѣшительно дотронулся до раны. Это было надъ пахомъ, съ лѣвой стороны.
Шинель его была разорвана, и боязливые пальцы его коснулись чего-то липкаго. Медленно, чтобы не было больно, онъ разстегнулъ ремень, пріоткрылъ шинель и штаны и попробовалъ приподнять рубашку. Это было ужасно, ему казалось, что онъ вырываетъ себѣ внутренности, отдираетъ куски мяса… Измученный, онъ остановился, положивъ руку на голое тѣло. Онъ почувствовалъ, какъ что-то теплое стекаетъ по пальцамъ. Тогда онъ испугался, и чтобы остановить кровь, взялъ бинтъ и, не разворачивая его, приложилъ его, какъ тампонъ, къ ранѣ.
Онъ положилъ на него обертку изъ плотной марли, затѣмъ носовой платокъ и, чтобы все это держалось лучше на сочащейся кровью ранѣ, натянулъ штаны, — это была страшная мука, какъ бы раздробившая ему поясницу.
Наконецъ, онъ обезсилѣлъ и, опустивъ руки, закинувъ голову, весь отдался ощущенію боли. Онъ прерывисто дышалъ, хриплое дыханіе вырывалось изъ его груди.
Въ глазахъ у него потемнѣло, какъ будто мракъ наполнилъ ихъ. На его заледенѣвшемъ туловищѣ, казалось, горѣла охваченная жаромъ голова, и ночной холодный вѣтеръ не освѣжалъ его лба. Нѣсколько крупныхъ и тяжелыхъ капель дождя, упавшихъ на лицо, доставили ему безконечное облегченіе. Онъ хотѣлъ бы лежать такъ все время, пока подойдутъ санитары.
Мысли лихорадочно проносились въ его мозгу. Въ темнотѣ стали раздаваться трагическіе голоса. Онъ услышалъ, какъ нѣмецъ умолялъ съ акцентомъ:
— Сюда… Раненый французъ… Подойдите, французъ.
Затѣмъ, внезапно раздался ужасный смѣхъ, безумный смѣхъ, потрясшій ночную мглу.
— Эй, товарищи, — послышался крикъ другого раненаго, — я уже не буду больше солдатомъ… Пойдите сюда, ребята, посмотрите, я не могу быть солдатомъ, у меня нѣтъ больше ногъ.
Умирающіе будили другъ друга, перекликались… Затѣмъ снова воцарилась холодная тишина.
Жильберъ чувствовалъ, что голова его тяжелѣетъ, что тѣло нѣмѣетъ… Онъ еще разъ выпрямился. Теперь, когда уже наступила ночь, конечно, придутъ санитары, или подкрѣпленіе, кто-нибудь… Не надо засыпать, не надо умирать. Положивъ ладони на холодную и мягкую землю, подставивъ лицо подъ освѣжающій дождь, онъ всматривался въ безпросвѣтную ночь и не слышалъ ни движенія, ни шороха…
Долго придется такъ лежать, — сколько понадобится, пока не придутъ. Не нужно большо ни о чемъ думать, принудить себя ни о чемъ не думать. Тогда сдавленнымъ голосамъ, какъ бы пугаясь самого себя, онъ запѣлъ:
Возвращаясь изъ Монмартра, Изъ Монмартра въ Парижъ, Я вижу высокую сливу, утопающую въ плодахъ, Вотъ она, прекрасная пора…Онъ видѣлъ Сюльфара, горланящаго эту пѣсню во всю глотку. И маленькій Брукъ танцовалъ, идя за нимъ, ибо онъ, вѣдь, не умеръ…
Вотъ она, прекрасная пора, Тюр — люр — люръ, Вотъ она, прекрасная пора, Лишь бы она длилась, Вотъ она, прекрасная пора для влюбленныхъ.Дождь теперь зачастилъ, падая холодными струями, глухо барабаня по шинелямъ убитыхъ… Ледяными струйками катился дождь по его щекамъ и умѣрялъ его жаръ… Въ бреду, ничего не понимая, онъ продолжалъ пѣть прерывающимся голосомъ:
Я вижу высокую сливу, Утопающую въ плодахъ. Бросаю въ нее мою палку, нѣсколько сливъ падаетъ на землю., Вотъ она, прекрасная пора.Ночь, казалось, замаршировала, шлепая на тысячахъ водяныхъ лапъ. Трупъ, сидѣвшій на землѣ, скользнулъ вдоль поддерживавшаго его дерева и тяжело упалъ, не прерывая своихъ грезъ. Жильберъ уже не пѣлъ. Его обезсиленное дыханіе замирало въ шопотѣ, заглушавшемся дождемъ. Но губы его, казалось, еще шевелились:
Вотъ она, прекрасная пора, Тюр — люр — люръ, …прекрасная пора, лишь бы она длилась…Дождь, какъ бы плача, струился по его осунувшимся щекамъ. И двѣ крупныя слезы скатились изъ его впавшихъ глазъ — двѣ послѣднія слезы…
XVI ВОЗВРАЩЕНІЕ ГЕРОЯ
Была весна. Изъ-за длинныхъ занавѣсокъ лазарета она казалась розовой и свѣтлой, и изъ вентиляторовъ шелъ воздухъ свѣжій и ласкающій, какъ прикосновенія рукъ.
Никогда Сюльфаръ не чувствовалъ себя такимъ счастливымъ, какъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, которые онъ провелъ въ лазаретѣ Бурга. Тяжело было только первыя недѣли, когда, просыпаясь по утрамъ, онъ съ замираніемъ сердца и съ горечью думалъ:
— Перевязка… тяжело это.
Кофе казалось ему не такимъ вкуснымъ, — а онъ любилъ его, — и ему не доставляло удовольствія читать Ліонскія газеты, которыя продавщица разносила по палатамъ. Онъ думалъ только о перевязкѣ, и эти десять минутъ страданія отравляли ему все утро, когда такъ пріятно лѣниво отдыхать, и восходящее солнце создаетъ такое хорошее настроеніе. Когда появлялись первыя телѣжки на колесахъ, на которыхъ перевозили раненыхъ, онъ противъ воли дѣлалъ гримасу и начиналъ смотрѣть въ другую сторону. Онъ со страхомъ считалъ, сколько человѣкъ должно еще пройти до него, и сердце сжималось по мѣрѣ того, какъ приближалась его очередь, онъ смутно надѣялся, что произойдетъ что-то, что о немъ забудутъ, можетъ быть, и когда телѣжка все-таки останавливалась у его кровати, онъ изливалъ свою безсильную ярость, чтобы облегчитъ душу, и угрюмо смотрѣлъ на лазаретнаго служителя, большого парня съ сухой щетиной на щекахъ.
— Вотъ какъ вы воюете, возите тѣхъ, кто подставляетъ свою голову за васъ, — ворчалъ онъ. — Ловкіе ребята… Охъ! охъ! Не можешь ты идти тише, нѣтъ? Что ты сѣно везешь, что ли?
— Ты недоволенъ, что пришла твоя очередь идти на перевязку, — шутилъ тотъ, не сердясь.
Изъ операціонной залы слышались крики, пронзительныя жалобы, и иногда, когда боль становилась слишкомъ сильной, хриплые стоны. Тѣ, чья очередь уже миновала или которымъ уже не дѣлали перевязокъ, посмѣивались, лежа въ постели.
— Это стрѣлокъ… Слышишь, какъ онъ поетъ… Настоящій теноръ, право.
Когда привозили оперированнаго, еще подъ хлороформомъ, неподвижнаго и съ восковымъ лицомъ, это было на нѣкоторое время развлеченіемъ для всѣхъ, — всѣ толпились, чтобы послушать, какъ онъ бредить. Въ тотъ день, когда дѣлали операцію Сюльфару, сестры, ко всему уже привыкшія, должны были все-таки уйти изъ чувства приличія. Онъ оралъ ужасныя вещи, и солдаты послѣднихъ призывовъ, которые еще не знали довоенныхъ — казармъ я не прошли еще всего благодѣтельнаго обученія старыхъ солдатъ, могли бы выучить наизусть нѣсколько солдатскихъ пѣсенокъ, спѣтыхъ имъ полностью, со всѣми ихъ куплетами.
Послѣ операціи, увѣренный, что онъ еще долго не вернется на фронтъ, Сюльфаръ, освободившись отъ двухъ мучительныхъ ощущеній, почувствовалъ, что онъ оживаетъ, и, не будь перевязокъ, онъ былъ бы вполнѣ счастливъ. Его еще немного мучила рука, вся перевязанная бѣлыми бинтами, съ двумя ампутированными пальцами, и при разговорѣ онъ еще испытывалъ усталость, такъ какъ ему два раза вскрывали грудь для извлеченія осколковъ, но благодаря этому онъ числился среди тяжело раненыхъ, и кромѣ особаго леченія, въ которое входило кофе съ молокомъ, варенье, бифштексы, онъ извлекалъ изъ своего положенія рядъ моральныхъ преимуществъ, къ которымъ онъ былъ очень чувствителенъ. Къ нему относились съ особеннымъ вниманіемъ, врачи говорили съ нимъ мягче, чѣмъ съ другими, и ни разу сидѣлка не останавливалась у его постели, не поправивъ ему подушки по своему, хотя бы онъ до того старательно расположилъ ихъ иначе.
О немъ говорили съ оттѣнкомъ симпатіи:
— Это тотъ, кому выпилили ребро.
И онъ склонялъ голову со слабой улыбкой, какъ бы желая поблагодарить.
Какъ всѣ раненые, Сюльфаръ былъ напичканъ воспоминаніями о войнѣ, и ему очень хотѣлось бы подѣлиться) ими; у него ротъ былъ какъ бы полонъ ими, и они текли у него изъ устъ такъ же естественно, какъ молоко изо рта грудного младенца, который слишкомъ насосался. Какъ только онъ начиналъ говорить, — то были рѣчи объ окопахъ, о проволочныхъ загражденіяхъ, о дежурствахъ, о макаронахъ, объ ураганномъ огнѣ, о газѣ, обо всемъ томъ кошмарѣ, о которомъ онъ не могъ забыть.
Однако вначалѣ онъ былъ удивительно сдержанъ. Въ газетахъ онъ читалъ о поразительныхъ подвигахъ, и ему становилось стыдно: о доблестномъ капралѣ, который одинъ уничтожилъ цѣлую роту при помощи пулеметнаго ружья, а остатки добилъ гранатами; о зуавѣ, который закололъ своимъ штыкомъ пятьдесятъ бошей; о солдатѣ, который, будучи въ патрулѣ, взялъ въ плѣнъ цѣлую кучу солдатъ и, привелъ ихъ, а офицера притащилъ на веревкѣ; о стрѣлкѣ уже выздоравливавшемъ, который убѣжалъ изъ лазарета, узнавъ, что началось наступленіе, и рѣшилъ погибнуть вмѣстѣ со своимъ полкомъ… Когда онъ прочелъ всѣ эти разсказы, онъ уже не рѣшался самъ разсказывать что-нибудь, сознавая, что незначительныя происшествія, случившіяся съ нимъ, не произведутъ никакого впечатлѣнія рядомъ съ этими подвигами.
Но долго молчать онъ былъ не въ состояніи. Однажды онъ отважился и разсказалъ на свой ладъ, безъ похвальбы, а скорѣе съ оттѣнкомъ шутки, совершенно вымышленную исторію, въ которой самъ онъ скромно и мужественно выполнялъ роль добровольца, отправившагося въ патруль.
Его сосѣдъ по койкѣ, молодой стрѣлокъ, не повѣрилъ ни слову и онъ едва не умеръ отъ ярости; но добродушная сестра, для которой и предназначался разсказъ, повѣрила и была очень довольна.
Это побудило Сюльфара разсказывать еще такого же рода исторіи; скоро онъ сталъ героемъ лазарета, и штатскіе приходили спеціально, чтобы послушать ого.
Персоналъ лазарета — врачи, сидѣлки, сестры милосердія, священникъ, дамы, которыя приходили, запыхавшись, въ двѣнадцать часовъ и быстро надѣвали бѣлые халаты, чтобы разносить завтракъ, раненымъ — всѣ слышали столько исторій отъ солдатъ, что разсказы о войнѣ уже не удивляли ихъ, но Сюльфару удалось совершенно обновить этотъ родъ разсказовъ.
Больше мѣсяца не получалъ Сюльфаръ извѣстій изъ полка; затѣмъ однажды утромъ онъ получилъ письмо отъ Лемуана и узналъ обо всемъ ораву: о смерти Жильбера и Буффіу, о томъ, что Вьеблэ тяжело раненъ, а Рикордо пропалъ безъ вѣсти… Это было настоящее избіеніе.
Онъ не могъ скорбѣть молча. Онъ перечелъ письмо два раза съ возгласами отчаянія. Цѣлый день онъ говорилъ только о Жильберѣ, о его щедрости, о его умѣ, объ опасностяхъ, которымъ они вмѣстѣ подвергались, и о томъ, какъ хорошо имъ жилось, когда полкъ находился на отдыхѣ; долгими разглагольствованіями онъ смягчалъ остроту своего горя и повторялъ всѣмъ, что онъ потерялъ лучшаго своего товарища, можно сказать, брата; затѣмъ, когда наступилъ вечеръ, волненіе его улеглось, онъ лежалъ, не будучи въ состояніи уснуть, въ палатѣ съ бѣлыми кроватями, погруженный въ думы, и тогда только онъ дѣйствительно почувствовалъ, что другъ его умеръ.
Съ поразительной ясностью вспоминалъ онъ Жильбера, когда тотъ только-что прибылъ въ полкъ, и ихъ первую совмѣстную ночь въ узкой конюшнѣ, гдѣ ночевало отдѣленіе. Вперивъ взглядъ въ голый потолокъ, на который ночныя лампочки отбрасывали печальную тѣнь, онъ представлялъ себѣ всѣхъ своихъ товарищей на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, которыя они занимали въ ту ночь, одного свернувшагося подъ одѣяломъ, другого растянувшагося съ выступающими дырявыми носками. Всѣ они воскресали въ его памяти, ясно вырисовывались ихъ лица съ четкими чертами, ихъ взглядъ, какая-нибудь подробность обмундированія, о которой онъ, казалось, забылъ; ему слышались ихъ голоса. И воскресая одинъ за другимъ, они, казалось, поднялись всѣ къ послѣднему смотру, къ послѣдней перекличкѣ: Бреваль, Веронъ, Фуйяръ, Нури, Буффіу, Брукъ, Демаши… И голоса ихъ отвѣчала: умеръ, умерь, умеръ…
Первыя прогулки Сюльфаръ совершалъ въ небольшомъ саду при лазаретѣ, сквозь прекрасныя деревья котораго пробивались лучи свѣта. Онъ сидѣлъ на скамьѣ, смотрѣлъ, какъ товарищи играютъ въ шары, давалъ имъ совѣты, которыхъ они у него не спрашивали, или бесѣдовалъ съ молодыми женщинами, которыя приходили туда шить.
Затѣмъ ему разрѣшили ходить въ городъ, и тогда онъ зажилъ, какъ маленькій рантье, прогуливался до вокзала по Эльзасъ-Лотарингскому авеню, разсматривалъ выставки магазиновъ, читалъ военныя сообщенія, чтобы узнать, не идетъ ли рѣчь объ участкахъ, на которыхъ онъ дрался, сидѣлъ въ ресторанчикахъ, когда его угощали, и возвращался въ лазаретъ какъ разъ къ обѣду.
Находили, что онъ измѣнился. Онъ былъ не такъ оживленъ, не такъ веселъ. Онъ ни съ кѣмъ не дѣлился своими заботами. Выдавая себя за побѣдителя сердецъ въ маленькихъ ресторанахъ, за ловкаго парня, который „не даетъ спуска бабамъ“, не могъ же онъ признаться, что груститъ такъ часто изъ-за своей жены.
Она писала ему теперь только изрѣдка по десятку строкъ, и хотя изъ вѣжливости говорила: „Надѣюсь, что ты чувствуешь себя хорошо“, но не высказывала чрезмѣрнаго безпокойства. Никогда не спрашивала она его, думаетъ ли онъ скоро пріѣхать, и на долго ли. Она ему написала, что не работаетъ уже въ прежней мастерской, но не сообщила, гдѣ работаетъ теперь, и на всѣ вопросы, которые онъ ей предлагалъ, она никогда не отвѣчала. Онъ обливался потомъ надъ длинными письмами, въ которыхъ нагромождалъ кучу нѣжностей и упрековъ, но она даже не упоминала объ этомъ въ своихъ отвѣтахъ.
Съ того времени, какъ онъ выздоровѣлъ, его безпокоило предстоящее медицинское освидѣтельствованіе. Что если его признаютъ годнымъ, отправятъ опять на фронтъ?… Онъ съ крайнимъ интересомъ слѣдилъ за всѣмъ, что происходило во врачебныхъ комиссіяхъ по освобожденію и по отпускамъ. Онъ безъ конца разспрашивалъ тѣхъ, которые подверглись осмотру, съ тревогой слѣдилъ за измѣненіями настроенія комиссій, сегодня снисходительныхъ, на другой день строгихъ, и завязывалъ сношенія съ секретарями. Онъ зналъ уже фамиліи всехъ врачей, ихъ странности, ихъ слабости, и у него было вполнѣ сложившееся мнѣніе о каждомъ изъ нихъ, причемъ тѣхъ, которые легче освобождали отъ службы, онъ считалъ наиболѣе знающими.
Онъ снова началъ кашлять, отчасти принуждая себя, ѣлъ умѣренно и пріучился ходить сгорбившись, опираясь на палку. Артиллеристъ, его сосѣдъ по палатѣ, обвинялъ его даже, что онъ куритъ сѣру по утрамъ въ дни засѣданій комиссіи, чтобы въ легкихъ его слышался свистъ. Во время прогулки, однако, голосъ къ нему снова возвращался и онъ оралъ:
— Нѣтъ, я имъ не дамся… Не возвращаютъ на фронтъ такихъ раненыхъ, какъ я… Имъ скорѣе придется тащить меня за ноги…
Артиллеристъ, слѣдовавшій за нимъ, ворчалъ:
— Онъ притворяется!.. Я былъ увѣренъ въ этомъ…
— Я свое дѣло сдѣлалъ, — возражалъ Сюльфаръ. — Теперь съ меня довольно… Тѣмъ, кому хочется, я мѣшать не стану, не буду отбивать у нихъ мѣста…
Въ тотъ день, когда его освидѣтельствовали въ комиссіи, товарищи его закусывали въ маленькомъ кафэ, хозяйка котораго приготовляла жареную рыбу. Онъ явился туда, преображенный, безъ палки, съ розовыми пятнами на щекахъ.
— Освобожденъ по первому разряду, — закричалъ онъ… Съ пенсіей, ребята… Ура!
Артиллеристъ протянулъ ему письмо.
— Держи, вотъ письмецо пришло для тебя…
Это было письмо отъ консьержки дома, гдѣ онъ жилъ: она сообщала ему, что жена его уѣхала съ бельгійцемъ и увезла съ собой мебель.
Никто ничего не замѣтилъ; не замѣтили даже его ужасной блѣдности. Онъ угостилъ ихъ двумя бутылками вина, шутилъ съ ними и, держа стаканъ въ рукѣ, пропѣлъ: „Мечта проходитъ“. Только выйдя на улицу — можетъ быть холодъ охватилъ его — онъ сталъ харкать кровью.
* * *
— Да, госпожа Киньонъ, я вамъ говорю, что это грязная женщина, что это потаскушка.
— Ба! — отвѣчала консьержка, мѣшая рагу. — Мужчины всегда замѣчаютъ это только тогда, когда ихъ бросаютъ.
Тогда Сюльфаръ, обиженный, поднимался въ свою квартиру, гдѣ жена его оставила только кровать, бамбуковый столъ и великолѣпный календарь, который имъ поднесли къ ихъ свадьбѣ. Прошла недѣля, какъ онъ вернулся домой, и все это время онъ бродилъ безъ дѣла по Руану, ходилъ въ гости къ прежнимъ друзьямъ ихъ семьи, просиживалъ въ кабачкахъ, поджидалъ товарищей у выхода изъ фабрики, и вездѣ, и со всѣми говорилъ только о своей женѣ, даже съ тѣми, которые ее не знали.
— Удрать съ мебелью? Вотъ, распутница!.. И даже письма не оставила, ничего!..
Разсказывая одну и ту же исторію, онъ быстро надоѣлъ всѣмъ. Женщины, обыкновенно, обвиняли его, говоря, что не могла же Матильда оставаться все время одна и скучать, что „это“ тянется слишкомъ долго, и что мужчины, будь они на мѣстѣ женщинъ, поступали бы, можетъ быть, еще хуже.
Сюльфаръ огорчался и раздражался. Со времени прибытія его постигало одно разочарованіе за другимъ. Когда онъ пришелъ въ казарму, гдѣ разсчитывалъ найти свою штатскую одежду, которую онъ оставилъ тамъ 2-го августа 1914 года, старшій сержантъ пожалъ плечами: „Тряпье“? Отъ него и слѣда не осталось… Правда, одежду упаковали свертками, тщательно наклеили ярлыки и уложили, какъ полагается, но, къ несчастью, нѣкоторые оставили въ карманахъ кусочки сыра, другіе сандвичи или остатки колбасы, все это сгнило, появились крысы, черви, и пришлось все сжечь.
Одежду онъ получилъ отъ благотворительнаго общества, а въ качествѣ обуви ему оставили на память башмаки, которые онъ носилъ въ окопахъ, покоробившіеся отъ грязи.
Въ мастерской онъ своего мѣста обратно не получилъ, такъ какъ хозяинъ сдалъ ее заводу по изготовленію военныхъ снарядовъ, а на желѣзной дорогѣ его нашли слишкомъ слабымъ. Ему казалось, что все идетъ вкривь и вкось, и онъ говорилъ:
— Если бы столько мошенничества и грязи было на фронтѣ, какъ въ тылу, боши были бы въ Бордо къ слѣдующей получкѣ.
* * *
Онъ прибылъ въ Парижъ только съ семью франками въ карманѣ, но въ то же утро онъ получилъ мѣсто на фабрикѣ въ Левалуа, и работа его должна была начаться со слѣдующаго дня. Въ первый разъ, съ тѣлъ поръ, какъ онъ надѣлъ штатскую одежду, почувствовалъ онъ себя счастливымъ. Пятнадцать франковъ въ день! Онъ высчитывалъ, сколько жизненныхъ благъ, удобствъ и счастья получить онъ за свои пятнадцать франковъ.
Теперь наступила его очередь „пріятно пожить“. Онъ заведетъ себѣ хорошихъ пріятелей — ребятъ, которые, какъ и онъ, побывали на фронтѣ — отыщетъ маленькій ресторанчикъ для завтрака, найметъ комнату не особенно далеко, чтобы можно было позже вставать. Проходя по мастерскимъ, онъ уже обратила вниманіе на работницъ, особенно отмѣтилъ онъ одну, которая смѣялась, приподнимая волосы запачканной во время работы рукой. Онъ улыбался, думая о ней.
— Это женщины серьезныя… Умѣютъ держать домъ въ порядкѣ.
Онъ шелъ съ разсѣяннымъ взглядомъ, погрузившись въ свои скромныя грезы, какъ вдругъ на него едва не налетѣлъ автомобиль, переполненный женщинами легкаго поведенія и шикарно одѣтыми военными. Онъ быстро отпрянулъ и избѣжалъ столкновенія.
— Въ тылу прячешься, ловкачъ! — крикнулъ ему сидѣвшій впереди.
Сюльфаръ сдѣлалъ видъ, что хочетъ броситься за ними, но удовольствовался тѣмъ, что погрозилъ автомобилю кулакомъ, посылая ему вдогонку ругательства и проклятія, слушать которыя пришлось прохожимъ.
Нанесенное ему оскорбленіе угнетало его въ теченіе всего завтрака, и чтобы разсѣяться, онъ три раза подлилъ себѣ въ кофе стараго ликера. Послѣ этого онъ снова оживился и пошелъ побродить по бульварамъ. У двери одной изъ редакцій было вывѣшено сообщеніе, и прохожіе обсуждали его.
— Слѣдовало бы начать большое наступленіе, — говорилъ отрывистомъ голосомъ толстый господинъ съ выпученными глазами.
— И тебя прихватить, — крикнулъ ему въ лицо Сюльфаръ.
Всѣ эти штатскіе, которые осмѣливались говорить о войнѣ, выводили его изъ себя, но онъ не менѣе ненавидѣлъ и тѣхъ, которые не говорили о войнѣ, обвиняя ихъ въ эгоизмѣ.
Гуляя вдоль магазиновъ, онъ замѣтилъ въ окнѣ одной табачной лавочки великолѣпную картину, передъ которой онъ въ восхищеніи остановился. Этотъ шедевръ былъ составленъ изъ двѣнадцати подобранныхъ иллюстрированныхъ открытокъ и изображалъ гигантскую женщину въ серебряной кирасѣ, которая держала въ одной рукѣ пальмовую вѣтвь, въ другой горящій факелъ и, казалось, вела за собой хороводъ солдатъ въ сѣромъ, солдатъ въ зеленомъ, солдатъ въ формѣ цвѣта хаки. Ему показалось, что французскій солдатъ похожъ на него, какъ братъ родной, и онъ былъ безконечно польщенъ.
Онъ вошелъ и спросилъ у лавочницы:
— Сколько стоитъ ваша штука?
— Три франка, — сухо отвѣтила хозяйка магазина.
Сюльфаръ поморщился, вспомнивъ, что у него остался только франкъ восемьдесятъ сантимовъ.
— Я хотѣлъ бы только одну нижнюю открытку, — настойчиво сказалъ онъ. — На ней изображенъ солдатъ, который похожъ на меня.
Лавочница пожала плечами.
— Отдѣльно не продается, картину нельзя расчленить, — сухо отвѣтила она.
Сюльфаръ почувствовалъ, что весь краснѣетъ. И яростно ударивъ по прилавку своей искалѣченной рукой, онъ крикнулъ:
— А я, не расчленилъ я свою руку?
Лавочница только моргнула глазами, какъ будто крики эти причиняютъ ей боль, но не приподняла головы и продолжала развѣшивать нюхательный табакъ.
— Но если тутъ есть вернувшіеся съ фронта, они должны понять, какая рана у меня, — обратился Сюльфаръ къ господину, выбиравшему сигары.
Покупатель сдѣлалъ неопредѣленное движеніе головою, отвернулся и сталъ глубоко затягиваться, разжигая сигару. Сидѣвшіе рядомъ за столиками уткнулись въ свои стаканы, а гарсонъ, чтобы ничего не слышать, раскрылъ газету. Сюльфаръ посмотрѣлъ на всѣхъ, понялъ и, уже успокоившись, пожалъ плечами.
— Хорошо, — сказалъ онъ, бросая на прилавокъ полтора франка. — Получите в дайте мнѣ коробку англійскихъ папиросъ, я уже давно курю только простой табакъ.
Днемъ послѣ долгихъ колебаній, пройдя нѣсколько разъ взадъ и впередъ передъ дверью дома, гдѣ жили родители Демаши, не рѣшаясь войти, онъ, наконецъ, навѣстилъ ихъ. При видѣ скорби матери, сердце его сжималось, онъ чувствовалъ себя смущеннымъ, опасался, что ведетъ себя не такъ, какъ нужно, слишкомъ громко говоритъ. Когда онъ уходилъ, мать Демаши поцѣловала его, и Сюльфаръ, чувствуя, что слезы готовы брызнуть у него изъ глазъ, поспѣшно вышелъ. Только консьержка видѣла, какъ онъ плакалъ.
— Жильберъ былъ мой товарищъ, — сказалъ онъ ей, — славный парень.
Онъ отправился въ Левалуа и пошелъ съ пріятелями въ кафэ, и тамъ въ теплой атмосферѣ дыма, дружескихъ голосовъ, среди чоканья стакановъ, онъ почувствовалъ, что горе его разсѣивается.
Мягко развалившись на кожаной скамейкѣ, онъ пилъ маленькими глотками вино, слѣдя за легкими клубами синяго дыма. Посѣтители говорили о войнѣ, держа передъ собой вечернія газеты, и это раздражало его.
Арміи теперь подвигались ежедневно километровъ на десять, тогда какъ въ его время приходилось недѣлями выбиваться изъ силъ, чтобы вырвать нѣсколько сотъ метровъ, и то усѣявъ ихъ сплошь трупами. Когда онъ называлъ мѣста сраженій, трагическія названія, которыя считались безсмертными, оказывалось, что ихъ не знали — эгоистичный тылъ забылъ ихъ. И имъ овладѣвало нѣчто вродѣ ревности и зависти.
Однако, въ этотъ вечеръ онъ чувствовалъ себя счастливымъ. Слова доходили до него какъ бы сквозь туманъ и казались ненужной болтовней.
— Остается только ждать, — ораторствовалъ хозяинъ, орудуя надъ бутылками на прилавкѣ. — Теперь мы увѣрены, что имъ отъ насъ не уйти. Мы надѣлаемъ у нихъ, то же самое, что они дѣлали у насъ.
— Замолчи ты, — запротестовалъ рабочій, игравшій въ кости. — Нуженъ миръ, — вотъ что необходимо. Это позоръ — продолжать такъ долго эту гнусность.
Одинъ изъ посѣтителей, немного опьянѣвшій, сидя съ утомленнымъ видомъ верхомъ на стулѣ, съ блѣдными щеками и ярко-красными ушами, пробормоталъ свое мнѣніе:
— Миръ или не миръ, теперь уже поздно, — это пораженіе. Ничего не подѣлаешь, говорю я вамъ, игра проиграна. Для насъ это пораженіе.
Сюльфаръ поднялъ голову и воззрился на того, кто говорилъ такъ.
— А я, — сказалъ онъ ему, — я говорю и утверждаю, что это побѣда.
Подвыпившій посѣтитель посмотрѣлъ на него и пожалъ плечами.
— Почему такъ, почему это побѣда?
Сюльфаръ смѣшался на мгновеніе, не находя сразу нужныхъ словъ, чтобы выразить свое безотчетное счастье. Затѣмъ, не понимая даже жуткаго величія своего откровеннаго признанія, онъ отвѣтилъ напрямикъ:
— Я нахожу, что это побѣда потому, что я вырвался оттуда живой…
XVII И ВСЕ КОНЧЕНО
И все кончено…
Вотъ бѣлый листъ бумаги на столѣ и спокойный свѣтъ лампы, и книги…
Разсчитывалъ ли я увидѣть ихъ снова когда-нибудь, когда я находился тамъ, такъ далеко отъ покинутаго дома?
Мы говорили о жизни, какъ о чемъ-то умершемъ, увѣренность въ томъ, что мы уже не вернемся, отдѣляла насъ отъ жизни, какъ безграничное море, и самая надежда, казалось, становилась ограниченной, удовлетворяясь только желаніемъ дожить до смѣны. Было слишкомъ много снарядовъ, слишкомъ много крестовъ. Рано или поздно нашъ чередъ долженъ былъ наступить.
И, однако, все кончено…
Жизнь вступаетъ въ свои права. Траурныя вуали спадутъ, какъ мертвые листья. Образъ погибшаго солдата начнетъ медленно стираться въ сердцахъ тѣхъ, которые его такъ любили и уже утѣшились. И всѣ мертвые умрутъ во второй разъ.
Нѣтъ, мученическая доля ваша еще не кончена, товарищи мои, и желѣзо еще разъ ранитъ васъ, когда заступъ крестьянина взроетъ вашу могилу.
Дома возродятся подъ своими красными крышами, развалины превратятся въ города и окопы въ поля, солдаты, усталые, вернутся домой. Но вы, вы не вернетесь никогда.
Мертвецы, бѣдные мои мертвецы, теперь начнутся ваши страданія, ибо не будетъ сердецъ, къ которымъ вы могли бы прижаться. Мнѣ кажется, я вижу, какъ вы бродите, ощупью ищете среди вѣчной ночи всѣхъ этихъ неблагодарныхъ живыхъ, которые уже забыли васъ.
Иногда по вечерамъ, какъ сегодня, когда, уставъ писать, я опускаю голову на руки, я чувствую, что вы всѣ здѣсь, около меня, товарищи мои. Вы всѣ встали изъ вашихъ преждевременныхъ могилъ, вы окружаете меня, и въ странномъ замѣшательствѣ я уже не различаю тѣхъ, кого я зналъ тамъ, отъ скромныхъ героевъ этой книги, которыхъ создалъ я. Они пережили всѣ страданія какъ бы съ цѣлью облегчить ихъ, переняли ваши лица, ваши голоса, и вы такъ похожи другъ на друга въ вашей общей скорби, что воспоминанія мои путаются, и я иногда съ отчаяніемъ въ душѣ стараюсь припомнить погибшаго товарища, котораго заслонила собою тѣнь, призракъ, такъ схожій съ нимъ.
Вы были такъ молоды, такъ довѣрчивы, такъ сильны, товарищи мои — о, нѣтъ! вы не должны были умирать… Такая радость жизни была въ васъ, что она преодолѣвала худщія испытанія. Среди грязи окоповъ, изнывая подъ бременемъ военной тяготы, даже передъ лицомъ смерти — вы смѣялись, я слышалъ вашъ смѣхъ и никогда не слышалъ плача. Въ этой способности шутить не воплощалась ли ваша душа, бѣдные друзья мои, не она ли придавала вамъ больше силы?
Чтобы разсказать о вашихъ долгихъ страданіяхъ, я рѣшилъ тоже пошутить, посмѣяться, какъ смѣялись вы. Одинъ въ моихъ безмолвныхъ грезахъ, я опять взвалилъ сумку на спину и, безъ спутника, мысленно еще разъ совершилъ весь путь съ вашимъ полкомъ — теперь полкомъ призраковъ.
Узнаете ли вы наши деревни, наши окопы, узкіе переходы, нами вырытые, кресты, поставленные нами? Узнаете ли вы вашу радость жизни, товарищи мои?
А теперь, когда я прибылъ на послѣднюю стоянку, я чувствую раскаяніе, что осмѣлился шутить надъ вашими страданіями, какъ будто я дерзновенно нарушилъ покой вашихъ могилъ.
__________
Вниманію нашихъ постоянныхъ читателей.
По примѣру прошедшихъ лѣтъ и въ этомъ году нашимъ постояннымъ читателямъ будутъ выдаваться ставшія уже традицiонными цѣнныя преміи.
Преміи будутъ выданы всѣмъ читателямъ, собравшимъ всѣ 24 купона, отъ № 1—24, которые будутъ печататься въ нашихъ книгахъ „Библіотека Новѣйшей Литературы“ отъ № 73–96, выходящихъ въ 1930 абонементномъ году.
Всѣ собравшіе эти 24 купона могутъ получить по собственному выбору:
Новѣйшее изданіе популярнаго и почти на всѣ культурные языки переведеннаго романа
П. Н. Краснова
„Отъ Двуглаваго Орла къ Красному Знамени".
Новое тщательно переработанное и дополненное авторомъ изданіе появится въ теченiе ближайшихъ мѣсяцевъ.
Весь романъ, охватывающій болѣе 100 печатныхъ листовъ, будетъ изданъ въ 4-хъ томахъ по 2 части въ каждомъ томѣ.
Цѣна каждаго тома Ls 2.— (4 лита, 160 эст. марокъ).
Цѣна всего изданія Ls 8.— (16 литъ, 640 эст. марокъ).
Нежелающіе получить этотъ историческій романъ, могутъ выбрать по нашему каталогу любыя книги (не распроданные нашего изданія на общую сумму Ls 5.— (10 литъ, 400 эст. кронъ).
Въ 1930 г. въ нашемъ изданіи выйдетъ рядъ техническихъ книгъ, которыя тоже подходятъ подъ эту категорію.
_____
Цѣль нашихъ премій возбудить интересъ къ хорошей книгѣ.
Собирайте наши купоны для полученія премій.
Въ каждой книгѣ 1 купонъ.
Ежемѣсячно выходятъ 2 книги — 5-го и 20-го числа.
КУПОНЪ
для полученія преміи за 1930 абон. годъ
№ 2
Къ роману Р. Доржелеса „Деревянные кресты“.
См. наши преміи на предыдущей страницѣ.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

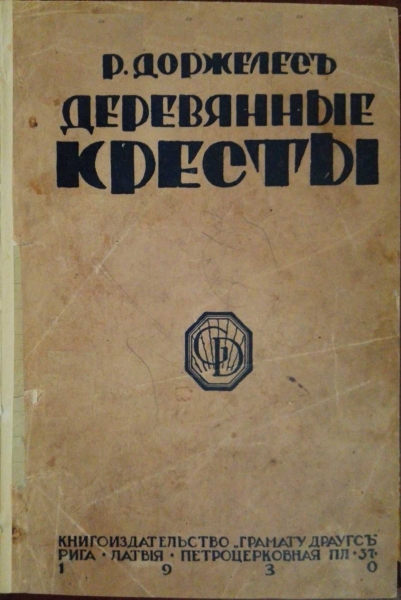

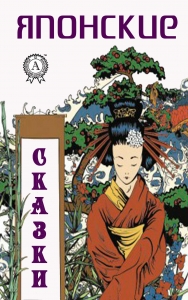



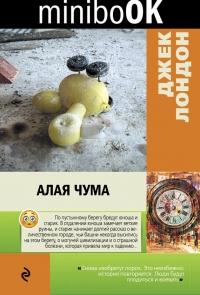


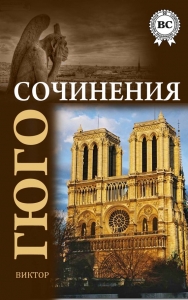
Комментарии к книге «Деревянные кресты», Ролан Доржелес
Всего 0 комментариев