Культ Ктулху
ACOLYTES OF CTHULHU
edited by Robert M. Price
© А. Осипов, перевод на русский язык, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Посвящается Дуэйну Раймелу, Великому Древнему и Архиаколиту Ктулху
Введение
С самой своей смерти в 1937 году Лавкрафт начал стремительно превращаться в культовую личность. У него и тогда уже был круг учеников, подражавших учителю и работавших вместе с ним.
Эдмунд Уилсон, «Сказки о чудесах и нелепостях»
24 ноября 1945 г.
Говард Филлипс Лавкрафт имел обыкновение подписываться «Дедушка Ктулху» или просто «Ктулху», и это само по себе говорит о многом. Аколиты Ктулху – не что иное, как аколиты самого Лавкрафта. Культ Ктулху – это в буквальном смысле культ Лавкрафта, чем, полагаю, и объясняется (хотя бы отчасти) та власть, которую книги этого автора получают над многими читателями, подчиняя себе их воображение на веки вечные. Художественная литература, как замечает Майкл Риффатер в статье «Правда вымысла», обретает глубину и резонанс – то есть, проще говоря, звучит правдоподобно и искренне – только в том случае, если автор встроил в нее звукоотражающую деку контекста, некую априорную реальность, на фоне которой все персонажи и события повествования смогут выглядеть достоверно. Нарратив, возведенный на песке, дает звук жестяной и плоский. Классический пример того, как это работает – цитаты из Ветхого Завета, вставленные в Евангелие от Матфея, дабы доказать, что события жизни Иисусовой стали исполнением древних пророчеств. Что и говорить, события настолько гипотетические и вправду нуждаются в некоем «усилителе правдоподобия», особенно когда речь идет о человеке, который был зачат святым духом в девственном чреве, чудесным образом исцелял недужных и т. д., – подобной информации не так-то легко пробиться сквозь наш встроенный «фильтр достоверности». Но вот Матфей пересказывает эту захватывающую историю, присовокупив, очевидно, надежное доказательство из древнего источника, и в голову вам уже невольно закрадывается мысль, что, в конце концов, все эти чудеса могут оказаться и правдой – раз уж они так внезапно и точно ложатся в канву предсказанного кем-то в стародавние времена. Это прямо как найти на дороге башмак, парный к тому, что столетия назад обронили Исаия, Иеремия или Захария.
Обратимся к совершенно другому примеру – вот перед нами «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, выглядящее столь карикатурно в экранной версии. При этом чувствительного читателя оно бьет буквально под дых – столь мучительно выписана семейная драма, окружающая бессмысленную смерть любимого ребенка. Если бы не контекст слишком реальной трагедии, история про капающих кровью и мозгами зомби никого бы ни в чем не убедила.
Основная причина гипнотического эффекта, оказываемого на нас прозой Лавкрафта, состоит, возможно, в том, что в зеркале книжных страниц мы видим собственное отражение. Как правило, мы открываем для себя Говарда Филлипса в отрочестве, когда сидим, зарывшись по уши в книги, вместо того чтобы заниматься спортом и жить нормальной, леммингообразной, гормонозависимой жизнью, как все сверстники. Мы словно отождествляемся с учеными мизантропами, в изобилии населяющими сюжеты Лавкрафта. Мы обожаем книги, но, определившись, наконец, кто из заумных авторов нравится нам больше всего, обнаруживаем, что труды их давно распроданы, – и тогда, подобно проклятым библиофилам из блоховского «Звездного бродяги» и говардовского «Того, что на крыше», узнаём на собственной шкуре, что такое алкать какой-нибудь недосягаемый том и идти на самые фантастические и даже фанатические меры (даже с нашей собственной точки зрения – а что уж говорить о тех, кто не разделяет нашу любовь к книгам!), чтобы только завладеть вожделенным сокровищем. И раздобыть экземпляр «Изгоя и других» будет победой не менее великой, чем наткнуться на развале на «Некрономикон» Джона Ди.
Кое-кто с тревогой отмечает, что нынешние фандомы поклоняются своим кумирам с истинно религиозным пылом. И чем более обыденна окружающая жизнь, тем громче призывы к ней вернуться, несущиеся в адрес фанов. Ах, но видишь ли, Монтрезор, мы же и так живем! Вопрос только в том, где. Как пела Дэбби Харри[1], «теперь я живу в журнале [в данном случае, в «Странных сказках»]… больше не в реальном мире… больше нет, больше нет, больше нет». Или, если вам больше по душе REM[2], «это конец света каким мы его знали, и по этому поводу я чувствую себя отлично». Нет никакого объективного «реального мира». Всякая жизнь – просто кем-то выписанный сюжет, бегущий своей дорожкой на фоне той или иной придуманной, а потом рассказанной вселенной. Всяк сам себе «творческий анахронист», но мы, лавкрафтианцы, подобно нашим кузенам из других буддхиальных страт Великого Фандома, избрали жизнь меньшинства, сектантское, замкнутое существование в том, что социологи Бергер и Лакманн («Социальный конструкт реальности») называют «ограниченной областью смысла». Мы готовы сносить укоры окружающих нас ходячих мертвецов – те же самых, что преследовали беднягу Дилберта. Мы гордимся Говардом Филлипсом, чья поэтическая душа не вынесла работать на обычной мирской работе, – даже если самих нас на это вполне хватает.
Лавкрафт стал нашим Христом, нашим Богом. Ангел предстал в видении одному эрудиту по имени святой Иероним и устроил выволочку за излишнюю любовь к классикам: «Не за Христом следуешь, но за Цицероном!» Виновен по всем пунктам!
Некоторые презирают фандом как эрзац-религию, полагая вслед за Паулем Тилихом, что религия должна быть выражением самых высоких человеческих устремлений к не менее высокому предмету, непременно вневременного и универсального порядка. Но такое определение религиозности кажется чересчур пуританским и скучным. Оно пренебрегает той ролью, которую играет в религии (то есть в мифе) воображение. Лично я убежден, что религиозная восприимчивость по сути своей нужна для эстетической стимуляции воображения, ведущей к эстетическому же восприятию жизни и окружающего мира через те или иные выбранные для этого фильтры, будь то библейский эпос о всеобщем спасении или космогония Лавкрафта. Именно такие живые фантазии и наполняют жизненной силой безнадежно тусклую прагматическую повседневность. Убеждения морального свойства, которые, предположительно, должны иметься у каждого, – дело совсем другое, и ставить их в зависимость от убеждений религиозных – весьма опасная ошибка. У всякого, кто ей подвержен, мораль подчиняется догме, а дальше остается только готовиться к священным войнам и охоте за ведьмами. Поэтому мы, лавкрафтианцы и аколиты Ктулху, даже не пытаемся делать вид, что заимствуем свои моральные устои непосредственно у Лавкрафта (если, конечно, не прочли его статьи и письма, где он специально развивает эти темы, и не сочли их вполне для себя убедительными). Точно так же мы не считаем, что другие должны опираться в своих моральных суждениях на религию. Насколько лучше стал бы мир, если бы все мы могли собраться вместе и общим решением основать нашу мораль на простом здравом смысле, принять совершенно посюсторонний набор правил совместного бытия и согласиться о принципиальных и неприкосновенных разногласиях в том, кто чем кормит свое воображение и кто в какой символической вселенной живет!
…боюсь, однако, что лавкрафтианский культ находится на более инфантильном уровне, чем Нерегулярные Части Бейкер-стрит и культ Шерлока Холмса.
Эдмунд Уилсон, «Сказки о чудесах и нелепостях»…заключенные сплошь оказались люди низменные, смешанных кровей и с умственными отклонениями. Почти сплошь моряки, да еще горстка негров и мулатов, большей частью из Вест-Индии и с Островов Зеленого Мыса, придававшая этому разнородному культу отчетливый привкус вудуизма.
Г. Ф. Лавкрафт, «Зов Ктулху», 1926 г.Отрочество – это такое специальное время, когда люди интеллектуальные обретают достаточно независимости от семейных влияний, чтобы, наконец, самым придирчивым образом разобрать по косточкам все унаследованные представления о мире. Если вы собираетесь попробовать себя в роли рационалиста, скептика или агностика, отрочество – самое лучшее для этого время. В этом возрасте у нас срабатывает встроенный механизм бунта, позволяющий самостоятельно встать на ноги. Мы выкидываем в окно свои детские верования, а взамен – впервые на всем протяжении личной истории – получаем достойные хоть какого-то внимания мыслительные способности. Если в Датском королевстве и правда что-то прогнило, наш вострый нос непременно это учует. И все это готовит тучную почву для нашего возлюбленного Говарда Филлипса. Взгляд отдыхает на его научных, рационалистических, космических ландшафтах, где миф паранойяльного человеческого тщеславия рушится в ничто от внезапного осознания зияющей всего в двух шагах вечности вселенского праха (по меткому выражению Уильяма Дженнигса Брайана).
Отрезанный от привычного мира родителей-консерваторов, просиживающих вечера за ситкомами, и от развлекающихся на школьных вечеринках однокашников, юный любитель Лавкрафта сладостно таит свое сокровенное знание в себе, презирая окружающие его безмозглые стада – точно как сам Лавкрафт и по тем же причинам. Такой любитель обнаружит свое отражение в «Новом Адаме» Стэнли Вейнбаума, и возрадуется дух его.
Главная проблема с Эдмундом Уилсоном, дерзнувшим возвести на нашего бога фантастики хулу, которую мы никогда не сможем ему простить (не больше, во всяком случае, чем ветераны Вьетнама смогут простить Джейн Фонду), заключается в том, что он прямо у нас на глазах гибнет от душевного обморожения и ему это почему-то нравится. В отличие от теоретиков транзактного анализа, требующих, чтобы ребенок внутри нас был не только жив, но и здоров, Уилсон принадлежал к тому сигарожующему и вискисосущему поколению, которое жизни не мыслило без застоялого дыма «реализма», без спиртуозной горечи скучной взрослости. Оно искренне полагало, что литература обязана отражать вот эту самую жизнь как она есть, и оклеивало страницами «действительно хороших книг» тюремные камеры безрадостной зрелости. Мы же вышли на сцену, вооруженные детским ясновидением, перед которым распахнута ревущая слава небес, где прогуливаются дзенские посвященные. Взросление туманит бельмами глаза души, и мы теряем способность видеть магию, но фаны нашли выход и из этой ловушки. Мы пользуемся фантастикой Лавкрафта (и прочих фан-идолов), как изнуренный Рэндольф Картер – Серебряным Ключом, чтобы вернуться в блистающий мир мечты, которая есть смысл. И Лавкрафт, как и Пруст, ничтоже сумняшеся признавал, что да, это регрессия в детство. Но зачем выражаться так пренебрежительно? Почему бы не взять другую метафору: скажем, обратиться и стать как дитя, дабы войти в Царствие Небесное, раз уж только таким и суждено его достигнуть[3].
Сейчас самое время по достоинству оценить это глубинное и более серьезное измерение лавкрафтовской прозы… Почва для этого уже готова, особенно в Европе, где его сочинения ценятся неизменно высоко.
Дирк У. Мозиг, «Провиденский Пророк», 1973 г.Допотопные, циклопические руины на одиноком тихоокеанском острове. Центр всемирного подземного колдовского культа.
Г. Ф. Лавкрафт, Тетрадь для заметок № 10, 1973 г.Экзотическая жгучесть тайного культа Ктулху в произведениях Лавкрафта объясняется любопытным парадоксом: это культ, с одной стороны, повсеместно распространенный, всемирный, а с другой – тайный. Он – ровесник человеческой истории. Он завещан спящими Древними простофилям-людям (и в этом ничем принципиально не отличается от традиционных ближневосточных религий: что в вавилонской «Энума Элиш», что в Книге Бытия, человечество сотворено как раса рабов, призванная служить хранителям земли). Он заполняет собой всю землю, подобно водам, заполняющим чашу моря. Если узнать о нем слишком много, откуда ни возьмись явятся «морского обличья негры» и грохнут вас по-быстрому. Разумеется, западные ученые никогда о нем не слыхали, ибо адепты древнего культа отправляют свои ритуалы в уединенных местах, куда не достанет пытливое око цивилизации.
Так и с нами, аколитами Ктулху: мы отождествляемся с зыбкой сетью лавкрафтианцев, широко раскинувшейся по всему свету, и, с одной стороны, радуемся братству родственных душ, а с другой – страшимся его и в особенности того, что нас вынудят профанировать самые свои драгоценные сокровища, бесстыдно выставив их на солнечный свет.
Дружелюбный интерес другого фана-лавкрафтианца – одновременно и повод для радости (ура! я не спятил – по крайней мере, еще один живой человек в этом мире подвержен той же мании!), и угроза, ведь для каждого из нас книги Лавкрафта – святая святых, доступ куда открыт лишь одинокой душе. Всякий ковен – это святое собрание, но вместе с тем и варварское нарушение личных границ.
И, возможно, этим фактом как раз и объясняются ад и погибель, в которые обычно превращаются фан-конвенты (даже в таких микрокосмах, как магазины комиксов). Когда эзотерики по призванию (ибо они истинно следуют путем одиноким) зачем-то периодически собираются вместе, они сразу же превращаются в банду зловредных, невежественных и крайне обыденных депутатов Ложи Святого Енота. Их странные облачения, в уединении кабинета казавшиеся знаком личной преданности Темным Мистериям, ныне – просто в силу накопления в публичном пространстве – превращаются в лютую вульгарность, как затесавшиеся в аудиторию «Давайте договоримся» гики[4]. Очутившись на подобном мероприятии, тут же с невиданной силой ощущаешь истинность старой шутки, что ни за какие коврижки не хотел бы оказаться членом клуба, который допускает в качестве членов таких, как ты. Разделенное с другими откровение превращает любые мистерии в нечто жалкое и профанное. Эзотерика требует тайны, даже если эзотерики в один прекрасный день вместо привычного меньшинства оказываются в большинстве (а на конвентах именно это и происходит). Как сказал Макробий о греческих мистериях, «настоящая тайна открывается только избранным; прочим остается лишь довольствоваться почитанием тайны, огражденной от всепроникающей банальности иносказаниями». По мне, так Некрономи Коны[5] сумели идеально пройти по этому канату: никаких костюмов и никакого оружия, кроме остро отточенных языков…
Всякий ценитель материй, презираемых простыми смертными, должен дважды подумать, прежде чем обнародовать то, что он любит, и искать за это всеобщего признания. Некоторым лавкрафтианцам очень хочется, чтобы их патрон обрел ту же стереотипную популярность в среде мышеобразных школьных училок и кирпичеголовых филологов, которая давно уже утянула Эдгара По на дно снотворного мейнстримного моря. Видимо, истинная их цель состоит в том, чтобы вернуться в тайно вожделеемый обыденный мир, прихватив с собой милого сердцу Дедушку Ктулху. Окститесь, разве так можно! Ради всех йогов Шангри-Ла, покидая блаженную страну, не надо тащить с собой через волшебный портал брыкающегося и вопящего Говарда Филлипса! Оставьте его в покое, он с вами не хочет!
С тем же успехом мы подчас испытываем праведное искушение защитить Лавкрафта от тех, кому он все равно никогда не будет мил (вроде неисправимо прозаичного Уилсона), воспользовавшись любимой уловкой многих неофитов-антропологов, погружающихся в чуждые культуры… только ради того, чтобы занять там стратегическую позицию и расстрелять с нее в упор свою собственную. В рассматриваемом случае придется представить себе запуганного фана-лавкрафтианца, приходящего к выводу, что овчинка и вправду не стоит выделки, раз уж бездушным пустозвонам типа Уилсона она не по нраву. (Это примерно как Люси говорила Шредеру, что не такой уж этот ваш Бетховен и великий, раз его портретов до сих пор нет на вкладышах к жвачке[6].) А что на это скажешь? Апологет Лавкрафта возразит, что этот автор куда выше ценится в Латинской Америке и в Европе, особенно во Франции. Но ведь, если уж на то пошло, с Джерри Льюисом[7] ситуация была точно такая же.
Сама возможность имитации доказывает, что всякое своеобразие может быть обобщено. Стилистическая неповторимость равняется не численной идентичности человека, но специфической идентичности типа – типа, у которого может не быть предшественников, что не мешает ему впоследствии воспроизводиться бесконечное количество раз. Описать неповторимость – значит, в некотором роде упразднить ее через умножение.
Жерар Женетт, «Фикция и дикция», 1993 – Я есмь посланник, – отвечал даймон, И по главе хозяина высокомерно стукнул. Г. Ф. Лавкрафт, «Азатот», «Грибы с Юггота», XXIIВозможно, самое весомое обвинение против культа Лавкрафта и аколитов Ктулху состоит в том, что они слишком уж сильно (или, может, наоборот, недостаточно сильно?) стараются следовать литературному стилю Старика. Многие их пастиши[8] благоухают морепродуктами, которых сам Лавкрафт терпеть не мог. Тут, пожалуй, не поспоришь: энтузиазм их так велик, что они и впрямь кидаются в битву полуодетыми (какое там вооружение, вы о чем!). Чуть-чуть терпения, о, рыцари! Пусть это будет для вас таким учебным упражнением. На самом деле в Древней Греции это и было школьное упражнение. Отроки доказывали, что действительно понимают Сократа, Диогена или кого-то еще из классиков, ваяя из анекдотов и афоризмов некое нарративное полотно, автором которого мог бы быть сам изучаемый философ. Вот именно это и есть пастиш, именно это и делают наши аколиты, и многие из них оттачивают на этом зубы. Возможно, в один прекрасный день они пойдут дальше и, подобно Брайану Ламли, Рэмси Кэмпбеллу и Роберту Блоху найдут свой собственный стиль.
Но с тем же самым успехом в результате может получиться матерый лавкрафтовский pasticheur, который и вправду понесет дальше древнее знамя. Возможно, подобно теософам, топчущимся с елеем в руках в ожидании Кришнамурти, нам надо и дальше ждать Того, Кто Грядет (хотя лично я думаю, что он уже благополучно пришел и воплотился в Томаса Лиготти и ряд других товарищей). Но даже и в этом случае нам есть чему поучиться на юношеских пастишах, работающих у лавкрафтианцев чем-то вроде пропуска в святая святых (см. хотя бы то же «Возвращение рока» С. Т. Джоши в настоящем издании). Представим себе, что некто прочитал такую производную сказочку и счел ее неполноценной и несамостоятельной – так что же нам теперь, винить в этом самого Говарда Филлипса? Не плох ли тот магнит, скажете вы, к которому тянутся столь некачественные опилки? Разве божество, позволяющее слугам своим позорить себя вот таким бездарным образом, не заслуживает причисления к вселенскому лику идиотов?
Вообще-то нет. Важно помнить, что грань между пародией и пастишем – тоньше бритвенного лезвия, совсем как между любовью и ненавистью. Pasticheur старается сымитировать характерные черты стилистики прототипа, чтобы самому превзойти его. Чем лучше он постигнет оригинал, тем выше его собственный результат. Но если потенциальный подражатель не способен проникнуть взглядом дальше самых очевидных поверхностных характеристик изначального произведения (в нашем случае – дальше пафосных заглавий, имен чудовищ и набранных курсивом окончаний рассказов), он обопрется на них слишком тяжело и обрушит все остальное, в ущерб богатству стиля и структуры, вьющих свою магию достаточно тонко, чтобы обольстить даже читателя-подростка – причем так, чтобы он не мог ткнуть пальцем в ключевой узел и сказать: вот, дескать, то, что меня заколдовало. Фокус все равно удался, но, как и восхищенные зрители Гудини, юный подражатель неспособен ни объяснить, как он был сделан, ни воспроизвести его сам, а если и попытается, результат, скорее всего, выйдет весьма плачевный. Впрочем, только так малыш сможет рано или поздно выучиться фокусам, – если, конечно, у нас хватит на него терпения.
В каком же смысле слова авторы этого сборника могут считаться аколитами – хоть самого Лавкрафта, хоть Великого Ктулху? Мало кто из них принадлежал к кругу избранных, удостоившихся ядовитых ремарок Уилсона, – к кругу прижизненных учеников Лавкрафта, которые искали советов мэтра и писали в его стиле. Дуэйн Раймел – как раз из таких. Его «Драгоценности Шарлотты» служат приложением к более известному рассказу, «Дерево на холме», равно как и к стихотворному циклу «Сны Йита». К ним обоим Лавкрафт успел приложить руку. С первым у них общий протагонист, Константин Теунис; со вторым – далекая планета Йит, его творение, наряду с Лавкрафтом.
Ричард Дж. Сирайт тоже состоял с Дедушкой Ктулху в переписке и охотно пользовался его идеями. Сирайт оставил два неоконченных наброска к рассказу, который планировал назвать «Туманы смерти». Его сын, Франклин Сирайт, весьма одаренный автор старой школы, пишущий странные вещи, вплел эти оборванные ниточки в новый гобелен, которым его отец смог бы поистине гордиться. Прочих авторов, даже не пытавшихся специально писать в лавкрафтианском русле, все равно можно причислить к аколитам Ктулху, ибо они, подобно безумному скульптору Уилкоксу, оказались восприимчивы к эманациям Р’льехского Сновидца. Они творили на той же длине волны, что и Лавкрафт, даже если работали совершенно независимо от Провиденского затворника. Одним из них был Густав Майринк, чей роман под названием «Голем» Говард Филипс ценил очень высоко. Мне, однако, приходит на ум прежде всего другое его произведение, «Der Violette Tod». Английская версия рассказа, «Фиолетовая смерть», появилась в июльском выпуске «Странных сказок» за 1935 год. Всякий, кто в состоянии оценить изначальный немецкий текст Майринка, заметит, что английский вариант можно в лучшем случае назвать небрежной адаптацией, но никак не переводом. По этой причине я заказал Кэтлин Хулиэн новый, точный перевод под заглавием «Пурпурная смерть». Полагаю, вам будет интересно сравнить две английские версии. Отдельное спасибо профессору Даниэлю Линдблюму за оригинал.
Эрл Пирс приходился Старику кем-то вроде литературного внука, будучи протеже лавкрафтовского протеже, Роберта Блоха. В «Роке дома Дарейи» он подхватывает эстафету блоховской книги. Какой, могли бы вы спросить? Крошечного томика, о котором вы могли что-то слышать, – «De Vermis Mysteriis»[9].
Генри Хасс был еще одним современником Лавкрафта, печатавшимся в «Странных сказках». Как и Уэллман, он нашел «Некрономикон» слишком захватывающим, чтобы устоять перед фондом Особых Коллекций Мискатона[10]. Он упоминает об этом зловещем фолианте и в «Хранителе Книги» (см. мою антологию «Сказки по мотивам лавкрафтовского мифа»), и в более, скажем так, фанатском рассказе «Ужас Векры», логичным образом появившемся в первом лавкрафтианском фан-журнале «Аколит» осенью 1943 года.
В своем интригующем эссе «Некоторые комментарии к Ктулхианской псевдобиблии» (в сборнике «Г. Ф. Лавкрафт: два десятилетия критики») под редакцией С. Т. Джоши), Эдвард Лаутербах попытался привлечь внимание публики к незаслуженно подзабытому мифическому тексту, который Чарльз Р. Таннер, писатель-фантаст, упомянул в своем рассказе «Из банки» («Увлекательные научные рассказы», февраль 1941 г.). Текст этот назывался «Leabhar Mor Dubh», или «Великая черная книга», и представлял собой собрание гэльских богохульств.
Увы, Лаутербах не сумел заинтересовать читателей Таннером, как он того заслуживал. Я надеюсь, перепечатка самого рассказа поможет исправить эту досадную ситуацию. Мои благодарности Уильяму Фулвиллеру, от чьего зоркого ока мало что укроется – он-то и навел меня на эту жемчужину.
Еще один пример нового мифа, канувшего в безвестность, несмотря на свой непередаваемый смак, – адские «Мнемабические фрагменты» Стеффана Б. Алетти, кратко просверкнувшие в его же «Последних трудах Петра Апонского» («Журнал Ужасов», № 27, май 1969 г.). Эта ранняя работа Алетти, квартет рассказов, опубликованный в журналах Дока Лоундса, произвела некоторый фурор среди читателей, с готовностью признавших и провозгласивших автора новым флагманом лавкрафтианской традиции. Однако до самого недавнего времени Алетти выпадал из этой обоймы, так что самое время вернуть в оборот его ранние произведения, пока они не стали такой же библиографической редкостью, как сами «Мнемабические фрагменты». Три можно найти у нас здесь, а четвертый, «Замок в окне» – в моей хаосической антологии, «Тот самый Некрономикон». Я очень признателен Майку Эшли за знакомство с работами Стеффана Алетти.
Еще один лавкрафтианский автор, известный куда более узким кругам, чем следовало бы, – Артур Пендрагон. Впрочем, эта относительная безвестность совершенно понятна, и причин тому две. Во-первых, насколько мне известно, он написал всего лишь пару рассказов: «Данстеблский ужас» и «Адскую колыбель» («Фантастика», апрель 1964 и май 1965 соответственно). Во-вторых, он счел необходимым спрятаться за слишком прозрачным псевдонимом. Как указывает ученый эксперт Даррелл Швейцер, тайное имя Пендрагона, по всей вероятности, было Артур Порджес, под которым он писал для того же самого издания в тот же самый период. Звучит вполне правдоподобно. Благодарю Фреда Блоссера за знакомство с этими двумя рассказами Пендрагона/Порджеса.
В письме к своему другу Лавкрафту Кларк Эштон Смит жаловался, что «Эдмонд Гамильтон, черт его побери, совершенно испоганил идею, похожую на ту, которую как раз обдумывал я: рассказ под названием “Лунный разум”, в котором шла бы речь о гигантском живом мозге, расположенном где-то в центре Луны» (март 1932 г.). Не совсем ясно, что имеет в виду Смит: что Гамильтон, их с Лавкрафтом излюбленный мальчик для битья, действительно «испоганил» идею, то есть воплотил ее из рук вон плохо? Или он просто не дал Смиту воспользоваться ей самому, поскольку теперь это выглядело бы так, будто он копирует Гамильтона? Как бы там ни было, рассказ Гамильтона заслуживает всяческих похвал, особенно с точки зрения Лавкрафтовской космологии.
К аколитам Ктулху мы, конечно, обязаны причислить профессора Дирка У. Мозига и его блестящих учеников – С. Т. Джоши, Дональда Р. Бурлесона и Питера Х. Кэннона. Все они следовали за мэтром и в своем филологическом новаторстве, и в критической реинтерпретации философского контекста Лавкрафта, не говоря уже об экспериментальных попытках писать определенно лавкрафтианские вещи, – то откровенно издевательские, то смертельно серьезные, – избегая при этом влияния Дерлета. И есть еще, конечно, очаровательный дерлетианский пастиш «Возвращение рока» – юношеская промашка семнадцатилетнего Джоши, написанная в 1975 году и перепечатанная здесь с первой публикации в фан-журнале Кена Нелли «Лавкрафтианские скитания» (XV, 1980).
Роберт М. ПрайсХэллоуин, 1997 годЭрл Пирс-младший. Рок дома Дарейя
Молодой и весьма благообразный человек по имени Артур Дарейя явился повидаться с отцом – в первый раз за двадцать лет. Когда он вступил в холл отеля – длинным, пружинистым шагом – все праздные взгляды кругом поднялись, чтобы оценить такое видение, ибо он воистину представлял собою картину впечатляющую и окутанную некой мрачной экзальтацией.
Регистратор тоже воспрял, нацепив на лицо привычную ожидающую улыбку – «как-изволит-поживать-уважаемый-мистер-такой-то», – а пальцы его как бы сами собой устремились к зеленому вечному перу в водруженном на стойку поставце.
Артур Дарейя откашлялся, но голос все равно вышел насморочный и неверный.
– Я ищу моего отца, доктора Генри Дарейю, – обратился он к клерку. – Он недавно прибыл из Парижа и, насколько я понимаю, зарегистрировался здесь.
Глаза регистратора опустились – на сей раз к списку постояльцев.
– Доктор Дарейя остановился в номере 600, на шестом этаже.
Взгляд его снова вспорхнул, заодно вопросительно выгнув бровь.
– Вы тоже желаете остановиться у нас, господин Дарейя, сэр?
Артур вытащил ручку и быстро нацарапал свое имя. Не добавив ни слова, не потрудившись даже узнать номер отведенной ему комнаты или взять ключ, он развернулся и устремился к лифтам. Ни единого звука не издал он до тех самых пор, пока не достиг апартаментов отца на шестом этаже, да и там с губ его сорвался лишь вздох – будто молитва.
Открывший ему дверь оказался человеком высоким – необычно высоким. Его стройную фигуру туго обхватывал черный костюм. Улыбаться он не дерзал. Чисто выбритые щеки были бледны чуть ли не мертвенно и оттенялись негасимой искрою в глазах. Челюсть синевато сияла.
– Артур! – шепот был едва слышен.
Слово тихо испарилось с тонких губ, словно далеко уже не в первый раз. Артур почувствовал, как добросердечие этого взгляда волной прошло сквозь него, и в следующую же минуту очутился в отцовских объятиях.
Потом, возвратив себе хотя бы внешнее самообладание, двое мужчин прикрыли дверь в коридор и удалились в гостиную. Дарейя-старший протянул шкатулку с превосходными сигарами. Рука его со спичкой дрожала так сильно, что сыну пришлось спрятать пламя в чашечке собственных ладоней. Влага стояла в глазах у обоих, но сквозь слезы они улыбались.
Генри Дарейя положил сыну руку на плечо.
– Это счастливейший день моей жизни, – молвил он. – Ты даже не догадываешься, как сильно я ждал этого мгновения.
Артур со всевозрастающей гордостью понимал, что, кажется, любит и любил отца всю жизнь, невзирая на все адресованные ему проклятия. Он сел на краешек стула.
– Я… я не знаю, что сказать, – признался он. – Ты удивил меня, папа. Ты совсем не такой, как я ожидал.
Тень проскользнула по отцовским чертам.
– Чего же ты ожидал, Артур? – быстро спросил он. – Дурного глаза? Обритого черепа, вислых щек?
– О, прошу тебя, папа – нет! – слова вылетали отрывисто. – Не думаю, что я хоть как-то представлял тебя. Я знал, что ты – блестящий джентльмен, но думал, ты будешь старше… больше похож на человека, который действительно много страдал.
– Я и страдал, сын мой – больше, чем в силах тебе описать. Но узрев тебя вновь, а вместе с тем и обретя надежду провести с тобою рядом остаток моих дней, я отыгрался разом за все мои муки. Даже в те двадцать лет, что мы провели врозь, я находил горькую радость в известиях о твоих успехах в колледже и в этой вашей американской игре – футболе.
– То есть ты что же, следил за моей жизнью?
– О, да, Артур. Я ежемесячно получал отчеты – с тех самых пор, как ты меня покинул. Сидя в своем кабинете в Париже, я был рядом с тобой, переживая все твои трудности так, словно они были моими. Теперь, когда двадцать лет, наконец, истекли, запрет, державший нас порознь, снят навеки. Отныне и впредь, сын, мы станем ближайшими товарищами – если твоя тетя Сесилия, конечно, не преуспела в ужасном своем деле.
Одного звука этого имени оказалось довольно, чтобы незнакомый холодок пробежал между мужчинами. Что-то в каждом из них глодало разум, будто злокачественный недуг. Впрочем, юный Дарейя, изо всех сил старавшийся стереть из памяти ужасное прошлое, твердо порешил забыть и тетино безумие, и самое ее имя.
Он не испытывал ни малейшего желания поддерживать подобную тему для беседы, ибо она выдавала внутреннюю слабость, которую он в себе ненавидел. С принужденной решимостью и курьезным движением бровей он молвил:
– Сесилия мертва, и ее глупые предрассудки вместе с нею. Отныне и впредь, отец, мы станем наслаждаться жизнью, как нам и должно. Прошлое – поистине прошлое. Мертвые да будут мертвы.
Доктор Дарейя медленно прикрыл глаза, словно сильная боль прошила его насквозь.
– То есть в тебе нет никакого негодования? – спросил он. – И тебе не передалась тетина ненависть?
– Негодование? Ненависть? – Артур громко рассмеялся. – Я перестал верить теткиным россказням с тех пор, как мне стукнуло двенадцать. Я знал, что все эти ужасы совершенно невозможны, что они принадлежат к почтенной категории традиций и мифов. На что же, скажи на милость, мне негодовать, и как могу я тебя ненавидеть? Чем, по-твоему, можно считать Сесилию, кроме той, кем она и была – озлобленной, разочарованной женщиной, несущей проклятие безумной вражды к тебе и твоему семейству? Клянусь тебе, отец, ничто сказанное ею больше не сможет встать между нами!
Генри Дарейя в ответ лишь кивнул. Губы его были плотно сжаты, а горло, напружившись, тщилось удержать рыдание. Так же тихо, будто защищаясь, он заговорил, и в голосе его звучало сомнение.
– Ты так уверен в собственном бессознательном, Артур? Почему ты думаешь, что освободился от всех подозрений, сколь бы смутны они ни были? А как же дурные предчувствия, возвещающие неминуемую беду?
– Нет, папа, нет! – Артур вскочил на ноги. – Я в это не верю. И никогда не верил. Я знаю, как знал бы на моем месте любой разумный, здравомыслящий человек, что ты не вампир и не убийца. Ты сам это знаешь. И знала Сесилия – но она была безумна. Эти семейные наветы рассеяны, отец. Мы живем в цивилизованном веке. Вера в вампиров – бред чистой воды. Абсурд даже думать об этом!
– Юность полна энтузиазма, – отвечал отец голосом, полным усталости. – Ты что же, не слышал легенду?
Артур инстинктивно отступил. Он даже облизнул губы, чтобы они не треснули от внезапной сухости.
– Легенду?
Он произнес это слово с тихим благоговением, какое неоднократно слышал из уст тети Сесилии.
– Безобразную легенду о том, что ты…
– …что я питаюсь своими детьми.
– Боже мой, папа! – Артур упал на колени, из его сомкнутых уст вырвалось рыдание. – Папа, это… это невыносимо! Давай уже забудем сумасшедшие наветы Сесилии!
– И все-таки ты взволнован! – горько произнес доктор Дарейя.
– Взволнован? Еще бы я не взволнован! Каким еще мне быть, заслышав подобное обвинение? Говорю тебе, Сесилия совсем спятила. Все эти книги, которые она показывала мне в детстве, все сказки о вампирах и людоедах – они выжжены у меня в мозгу, будто кислотой. Они преследовали меня всю юность – из-за них я ненавидел тебя пуще самой смерти. Но во имя небес, отец! Я вырос из всего этого, как я вырос из своих детских платьиц. Я – взрослый мужчина, ты это понимаешь? И у меня вполне взрослый рассудок.
– О, да, я понимаю! – Генри Дарейя швырнул сигару в камин и положил руку сыну на плечо.
– Мы забудем Сесилию, – сказал он. – Как я уже сообщил тебе в письме, я снял виллу в Мэне, где мы сможем провести с тобой остаток лета вдвоем. Нас ждут рыбалка и прогулки пешком, а, может быть, даже охота. Но прежде, мой Артур, я хочу убедиться, что ты совершенно уверен в принятом решении. Я хочу убедиться, что ты не станешь баррикадировать от меня дверь своей комнаты по ночам, не станешь класть под подушку заряженный револьвер. Я должен знать, что ты не боишься отправиться туда со мной вдвоем и уме…
Голос его внезапно прервался, словно горло перехватил вековой ужас. На восковом лбу сына крупными жемчугами выступил пот. Он не проронил ни слова, но глаза его полнились вопросами, которые не дерзали слететь с губ. Рука коснулась отцовской и крепко ее сжала.
Генри Дарейя вырвал свою.
– Прости, – сказал он, устремив взгляд поверх склоненной головы сына. – Давай покончим с этим прямо сейчас. Я верю, когда ты заявляешь, будто ни во что не ставишь теткины байки, но ради того, что важнее даже здравого рассудка, я обязан открыть тебе стоящую за легендой истину – а там, о мой Артур, действительно есть истина!
Он вскочил на ноги и подошел к глядевшему на улицу окну. Мгновение он молчал, устремив взгляд в пустоту, потом обернулся и посмотрел на сына.
– До сих пор ты слышал только тетину версию легенды, Артур. Без сомнения, Сесилия постаралась сделать из нее нечто гораздо более ужасное… если такое, конечно, возможно. Без сомнения, она рассказала тебе об инквизиторском костре в Каркассоне, где сожгли одного из наших предков. И, вероятно, упомянула о той книге – «Вомпиры» – которую, предположительно, написал тот древний Дарейя. И, уж конечно, поведала о двух твоих младших братьях – о моих бедных, лишенных матери сыновьях – обескровленных прямо в колыбели…
Артур Дарейя прикрыл рукой саднящие глаза. Эти слова, столь часто повторявшиеся ведьмой-теткой, всколыхнули те же видения, что населяли кошмарами его детские ночи. Слышать их вновь было невыносимо – тем паче от того, кого страшные детские сказки величали главным злодеем…
– Нет, ты слушай, Артур, – продолжал быстро старший Дарейя; голос его прерывался от душевной муки. – Ты должен знать истинные основания ненависти, которую питала ко мне твоя тетка. Ты должен знать о нашем проклятии – о проклятии вампиризма, довлеющем над родом Дарейя на протяжении пяти веков французской истории. Мы могли бы отмахнуться от него как от чистой воды суеверия, что столь часто сопутствуют древним семействам. Но я обязан сказать тебе, что эта часть легенды, увы, правдива: двое твоих братьев действительно погибли в колыбели, лишившись всей своей крови до капли. Я предстал перед французским судом за их убийство. Имя мое по всей Европе валяли в такой грязи и покрывали такими бесчеловечными проклятиями, что твоя тетка бежала вместе с тобою в Америку, оставив меня совершенно одиноким и отлученным от всякого человеческого общества.
И, да, я должен рассказать тебе, что той страшной ночью в Дарейском замке я допоздна засиделся над историческими трудами Креспа и Принна – и над тем омерзительным томом, «Вомпирами». И о том, как болело мое горло, как тяжело кровь струилась по жилам… И о присутствии, не человеческом, но и не животном, близком и ощутимом, но в то же время не в замке и не за его стенами, ближе чем самое сердце мое, но ужасней дыханья могилы…
Я сидел за столом в бибилиотеке. Разум мой плавал в делирии, лишившем меня чувств до самого рассвета. Меня осаждали кошмары – они пугали меня, меня, Артур, взрослого человека, проведшего бесчисленные вскрытия в моргах и медицинских школах всех стран. Язык распух у меня во рту, слюна текла изо рта, какая-то гнилостность объяла все тело липкой пеленой, будто лихорадка.
Кажется, сознание и здравый рассудок, полностью оставили меня. Та ночь и сейчас стоит перед глазами, как наяву, яркая, незабываемая, но вся как будто сквозь тени. Заснув, наконец – если, во имя Господне, это действительно был просто сон! – я распростерся прямо поверх стола. Однако проснувшись утром, я обнаружил себя лежащим лицом в подушку у себя на диване. Так что, как видишь, Артур, я и правда бродил в ночи, но ничего об этом не помню!
Что я делал и куда ходил в эти темные часы, навсегда останется под покровом непроницаемой тайны. Но что-то во мне знает… Наутро меня вырвали из пучин сна крики горничных и лакеев. До ушей моих донеслись дикие завывания твоей тетушки. Я распахнул дверь кабинета и в детской увидал двух моих крошек – безжизненных, белых и сухих, будто мумии, с парными дырочками на шеях, запекшимися дочерна их собственной кровью…
О, я не виню тебя за недоверие, Артур. Я и сам до сих пор не могу поверить и не поверю, думаю, никогда. Если поверю – покончу с собой, но даже и самых сомнений мне хватает, чтобы едва балансировать на грани безумия от всепоглощающего ужаса.
Сомневалась вся Франция, и даже светила юриспруденции, защищавшие мою честь на суде, признавали, что они не в состоянии ни объяснить произошедшее, ни отвергнуть его как невероятное. Дело замяла Республика, ибо оно грозило сотрясти основы самой науки и низвергнуть пьедесталы кумиров религии и разума. С меня сняли обвинения в убийстве, но само убийство по-прежнему витало вокруг, словно въедливый запах.
Коронер, обследовавший трупы, сообщил, что в жилах их не осталось ни капли крови, однако ни следов ее не нашлось ни в колыбельках, ни на полу детской. Нечто адское проникло в ту ночь в замок Дарейя, и, боюсь, мой мозг в осколки разлетится, если я рискну задуматься, кто или что это могло быть. И ты, сын мой, – ты тоже умер бы в ту ночь, если бы по счастью не спал в другой комнате за дверью, запертой изнутри.
Ты был тихим ребенком, Артур. Всего семи лет от роду – и уже до краев полон фольклором этих безумных ломбардов и декадентской поэзией твоей тетушки! В ту самую ночь, когда я болтался между небесами и адом, ты тоже слышал мягкие шаги на каменном полу коридора и видел, как пытается повернуться дверная ручка, а поутру жаловался на холод и ужасные кошмары, преследовавшие тебя во сне. Я до сих пор благодарю бога, что дверь твоя оказалась заперта!
Голос Генри Дарейи прервался рыданием; на глаза вновь навернулись жгучие слезы. Он смолк, вытер лицо и снова вонзил ногти в ладони.
– Теперь ты понимаешь, Артур, что двадцать лет, повинуясь взятому на себя во Дворце правосудия обязательству, я не мог ни встретиться с тобой, ни даже написать. Двадцать лет, сын! И все эти годы ты учился ненавидеть меня и плевать на мое имя. Только после смерти тетки ты вернул себе фамилию Дарейи… А теперь ты явился на мой призыв и заявляешь, что любишь меня, как сыну должно любить отца!
Возможно, Господь простил меня за все. Теперь мы, наконец, будем вместе, а страшное, необъяснимое прошлое навек опочиет в могиле…
Он сунул платок обратно в карман и медленно двинулся к сыну. Пав на одно колено, он обеими руками схватил Артурову длань.
– Ничего больше я не могу сказать тебе, сын. Вот правда, какой я один ее знаю. Может статься, что я – некое диавольское отродье, бродящее по этой земле. Возможно, я – детоубийца, вампир или психически недужный вриколак, чье существование не в силах объяснить наука.
Возможно, ужас Дарейи – чистая правда. Отьеля Дарейю в 1576 году обвинили в убийстве родного брата – тем же самым чудовищным образом, – а затем сожгли на костре. Франсуа Дарейя в 1802 году отстрелил себе голову из мушкетона в то утро, когда его младшего сына нашли умершим – по всей видимости, от анемии. Были и другие случаи, говорить о которых мне невыносимо: кровь застыла бы у тебя в жилах, если бы ты только услышал эти сказки.
Как видишь, Артур, нашу семью действительно преследует адский рок. Бывает наследие, которого никакой разумный бог попросту не допустит. Будущее рода Дарейя – в твоих руках, ибо ты – последний из нас. Всем своим сердцем молюсь, чтобы судьба дозволила тебе прожить благополучно все отпущенные годы и оставить доброе потомство. Ибо если когда-либо вновь я почувствую присутствие, как тогда, в замке Дарейя, я сведу счеты с жизнью, подобно нашему пращуру Франсуа сто лет тому назад…
Он встал, и сын поднялся вместе с ним.
– Если ты готов забыть все, Артур, мы вместе поедем на ту виллу в Мэн. Нас ждет жизнь, какой мы никогда не знали. Мы должны обрести ее, обрести то счастье, которое злокозненная судьба украла у нас двадцать лет назад на ломбардских пустошах…
* * *
Высокий рост Генри Дарейи вкупе со стройностью фигуры и длинной, гладкой мускулатурой придавал ему необычайную для глаз, словно бы неживую тонкость. Именно это слово не шло у сына из головы, когда он, сидя на сложенном из грубого камня крыльце виллы, наблюдал, как отец загорает на берегу озера. Лицо Генри Дарейи отличалось добротой, временами почти небесной, какая свойственна великим пророкам. Но когда на него ложились частично тени, объемля высокий лоб, нечто пугающее проявлялось в чертах, нечто далекое, мистическое, колдовское. Иногда поздними вечерами он словно бы облекался неприступной мантией сновидца и сидел молча перед огнем, уносясь разумом прочь, в места неведомые.
Электричества на маленькую виллу не провели, а мерцание масляных ламп подчас играет любопытные трюки с выражением человеческого лица… превращая его иной раз в нечто совсем уж нечеловеческое. Возможно, дело было в ночном сумраке, возможно, в ламповых фитилях, но Артур Дарейя собственными глазами видел, как отцовские глаза тонут в глазницах, оставляя по себе широкие черные дыры, как скулы натягиваются пергаментом, а очерк зубов проступает сквозь кожу вокруг обескровленных губ.
* * *
Время близилось к закату. Подходил к концу второй день на Дровяном озере. В шести милях от виллы грунтовая дорога убегала к Хаутлону, что близ канадской границы. Одинокое это было озеро, маленькое и зажатое в теснине между вечнозелеными соснами и небом, низко склонившимся к седоголовым горам.
На вилле имелся уютный камин; со стены над ним таращилась, поблескивая глянцевой шерстью, лосиная голова. Кругом красовались ружья и рыболовная снасть, и целые полки надежной, приличной американской литературой – Марк Твен, Мелвилль, Стоктон и изрядно потрепанное издание Брета Гарта. Оборудованная всем необходимым кухня и дровяная плита обеспечивали их нехитрой и сытной едой, столь желанной, когда целый день проводишь, носясь по горам. Тем вечером Генри Дарейя приготовил исключительное французское рагу из всех имевшихся в наличии овощей и к нему кастрюлю супа. Отец с сыном славно поели и растянулись перед огнем с сигарами. Они как раз замышляли большое совместное путешествие на Восток, когда задняя дверь коттеджа внезапно распахнулась с ужасающим грохотом, и в комнату ворвалась струя ледяного ветра, пробравшая до костей их обоих.
– Буря идет, – сказал Генри Дарейя, подымаясь на ноги. – Тут, наверху, их бывает немало, и самых прескверных. Крыша над твоей спальней может протечь. Возможно, тебе будет лучше заночевать внизу, со мной.
И, потрепав ласково сына по голове, он двинулся в кухню, закрывать своенравную дверь. Артурова комната была наверху, рядом с еще одной, свободной, куда снесли лишнюю мебель. Он выбрал ее за высоту – и потому что единственная другая спальня была уже занята.
Быстро и молча поднялся Артур к себе. Крыша и не думала протекать – откуда взялась подобная странная мысль? Это все отец – неймется ему ночевать вместе. Он уже предлагал такое вчера, как бы шутя, шепотом, вскользь, словно осторожно прощупывая почву – осмелятся ли они и вправду спать рядом. Артур спустился, одетый в халат и тапочки. Замявшись на пятой ступеньке, он поскреб двухдневную щетину.
– Не мешало бы мне побриться сегодня, – сказал он отцу. – Можно я возьму твою бритву?
Генри Дарейя стоял посреди холла в черном дождевике; лицо его окружал нимб из полей брезентовой шляпы. Тень проскользнула по его чертам и исчезла.
– Конечно, сын. Все-таки спишь наверху?
Артур кивнул.
– А ты что же, собрался на улицу? – поспешно добавил он.
– Да, хочу привязать покрепче лодки. Боюсь, озеро взволнуется и может побить их о берег.
Он распахнул рывком дверь и вышел наружу; шаги его прозвучали по доскам крыльца. Артур медленно сошел в холл. Отец миновал темный прямоугольник окна; вспышка молнии внезапно отпечатала его мрачный силуэт на стекле. Артур глубоко вдохнул – горло ему обожгло: оно сегодня отчего-то болело. Бритва ждала его в спальне отца, лежа на самом виду на березовом столике. Он протянул за ней руку, и взгляд его нечаянно упал на раскрытый саквояж, стоявший в изножье кровати. В нем, полускрытая серой фланелевой рубашкой, виднелась книга. Тонкая, переплетенная в желтую кожу книга, выглядевшая тут совсем неуместно.
Нахмурившись, Артур нагнулся и втащил ее из сумки. Книга оказалась на удивление тяжелой; слабый, тошнотворный запах тлена поплыл от нее, словно страницы были надушены. Название тома стерлось от старости в неразличимые золотые пятна, однако специально на этот случай обложку пересекала полоска белой бумаги с отпечатанным на машинке словом – infantiphagi[11].
Он откинул обложку и пробежал взглядом по титульному листу. Книга была на французском – на старом французском, но, в целом, вполне понятном – и издана в 1580 году в Кане. Едва дыша, Артур перелистнул еще одну страницу и увидал названье главы – «Вомпиры».
Опершись локтем о кровать, он почти уткнулся носом в заплесневелые страницы; острый их запах щекотал ему ноздри. Он пропускал длинные параграфы педантичных умствований на теологическом жаргоне, проглядывал наискосок отчеты о явлениях странных питающихся кровью чудовищ, вриколаков и лепреконов. Он читал о Жанне д’Арк, о Людвиге Принне[12] и бормотал вслух латинские фрагменты из «Episcopi»[13]. Артур листал быстро, пальцы его дрожали от страха, а глаза тяжело поворачивались в глазницах. Он мельком отметил отсылки к Еноху и ужасающие рисунки какого-то древнего доминиканца из Рима.
Он проглатывал абзац за абзацем. Кошмарный «Муравейник» Нидера[14], показания заживо сожженных на костре жертв; свидетельства гробовщиков, юристов и палачей. Но вот среди всех этих ужасов перед глазами его сверкнуло имя – Отьель Дарейя, и он замер, будто громом пораженный.
Совсем рядом с виллой и правда ударил гром, да так, что задребезжали стекла. Глубокий рокот гневных туч прокатился по всей долине. Ничего этого он не услышал. Взгляд его был прикован к двум коротким предложениям, которые отец – или кто-то другой – отчеркнул темно-алым карандашом.
«Случившейся четыре года назад казнью Отьеля Дарейи, увы, дело не кончилось. Одному лишь времени под силу решить, действительно ли демон наложил свою когтистую лапу на весь этот проклятый род от начала и до конца…».
Артур читал, как Отьеля Дарейю судил сам Венити, генерал каркассонской инквизиции; читал со всевозрастающим ужасом, свидетельства, пославшие давно покойного пращура на костер – о том как нашли обескровленный труп младшего брата Отьеля Дарейи. Не обращая более никакого внимания на чудовищную бурю, терзавшую Дровяное озеро, на грохот ставень, на царапанье сосновых веток по крыше – позабыв даже об отце, затерявшемся где-то на берегу под проливным дождем, – Артур впивался взглядом в размытые очерки букв, погружаясь все глубже и глубже в пучину исковерканных средневековых преданий.
На последней странице главы на глаза ему снова попалось имя предка. Трясущимся пальцем он водил по узким дорожкам слов, пока не закончил, и тогда скатился боком с кровати, и с губ его сорвался стон.
– Боже, Боже святый, бессмертный, помилуй меня… – пролепетал он, едва не рыдая…
…ибо только что прочитал:
«…рассмотренное нами дело Отьеля Дарейи, свидетельствует, что данная разновидность вриколака охотится лишь за кровью своего собственного рода. Она не обладает никакими качествами неумершего вампира и представляет собой, как правило, живого человека мужеска пола и совершенно обычной внешности, которого никак нельзя заподозрить во врожденном демонизме.
Сказанный вриколак ничем не выдает свою демоническую одержимость, пока не окажется в присутствии другого члена той же семьи, который помимо всякой собственной воли исполняет роль посредника между человеком и его демоном. Этот медиум никакими вампирическими чертами не обладает, зато ощущает присутствие сей твари (на самом кануне метаморфозы), что сопровождается симптомами сильнейшей боли в голове и в горле. И вампир, и медиум испытывают одни и те же реакции, среди которых следует поименовать тошноту, ночные кошмары и физическое беспокойство. Когда эти двое отверженных оказываются на близком расстоянии друг от друга, врожденное демоническое начало сгущается и захватывает власть над вампиром, требуя свежей крови для поддержания своей жизни. Ни один из членов семейства не может полагать себя в безопасности в такой период, ибо вриколак, повинуясь своей природе и назначению, безошибочно устремляется к источнику крови. В редких случаях, когда других жертв под рукою нет, вампир даже может забрать кровь медиума, своим присутствием давшего свершиться метаморфозе. Такие вампиры рождаются в некоторых старых семействах, и победить их никоим образом нельзя, кроме как убив. Они не сознают своего кровавого безумия и действуют исключительно в состоянии помрачения ума. Посредник также не подозревает о своей ужасной роли, но стоит этим двоим встретиться вновь, сколько бы времени ни прошло, зов наследственности оказывается столь силен, что никакая сила на земле более не может отвратить грядущее зло».
Дверь в хижину отлетела с внезапным оглушительным грохотом; проскрежетал замок, и шаги Генри Дарейи застучали по доскам пола.
Артур скатился с кровати. Ему едва хватило времени швырнуть проклятую книгу обратно в саквояж, когда он почувствовал, что отец стоит у него за спиною, в дверях.
– Что же… что же ты не бреешься, Артур? – Слова Генри Дарейи неохотно склеивались во фразы и звучали безжизненно.
Взгляд его скользнул со стола на саквояж и дальше, на сына. Он ничего не сказал; лицо его было непроницаемо.
– Снаружи настоящий ураган, – молвил он наконец.
Артур проглотил первые же слова, которые просились на язык, и кратко кивнул.
– О, да. Действительно ураган.
Он встретился с отцом глазами, лицо его пылало.
– Я… вряд ли я стану бриться, отец. У меня страшно болит голова.
В мгновение ока старший Дарейя пересек комнату и схватил Артура за руки.
– Болит голова, ты сказал? Как именно? Где? А горло?
– Нет! – Артур вырвался из его хватки. – Это все твое французское рагу! – рассмеялся он. – Так и стоит в желудке!
Он проскользнул мимо отца и устремился вверх по лестнице.
– Рагу? – отозвался тот. – Да, может быть. Сдается мне, я и сам его чувствую.
Артур встал как вкопанный, внезапно побелев.
– Ты… тоже?
Слова едва прошелестели в воздухе; взгляды их встретились – и скрестились, как дуэльные сабли.
Целых десять секунд оба молчали. Ни один не шелохнулся – Артур, стоя на лестнице и глядя вниз; отец его – в холле, устремив взгляд вверх. Кровь медленно отхлынула у него от лица, оставив лишь пурпурные пятна на переносице и над глазами. Поистине Дарейя Старший выглядел сейчас маской самой смерти.
Артур содрогнулся и, отведя взгляд, начал подниматься по оставшимся ступеням.
– Сын!
Он остановился, рука его вцепилась в перила.
– Да, отец?
– Запри сегодня свою дверь. Не то ветер будет стучать ею всю ночь.
– Хорошо, – выдохнул Артур и кинулся по лестнице к себе.
Внизу глухие шаги доктора Дарейи мерно и твердо кружили по полу виллы Дровяного озера. Иногда они прекращались, раздавался треск и шипение серной спички, затем приглушенный вздох, затем снова шаги…
Артур скорчился на пороге своей комнаты, склонив голову и впивая звуки снизу. В руках он сжимал двуствольный дробовик большого калибра… Стук… стук… стук…
Пауза, позвякивание стекла, бульканье жидкости. Вздох, шаги…
«Он хочет пить, – думал Артур. – Пить! Жажда…»
Буря снаружи неистовствовала. Молнии чертили небо между горами, заполняя долину зловещим мертвенным блеском. Барабаны грома рокотали неустанно.
Воздух внутри стал тяжким и застоялым от жарко пылавшего камина. Все двери и окна были заперты, масляные лампы слабо мерцали – бледным, анемичным светом.
Генри Дарейя подошел к подножию лестницы и устремил взгляд наверх. Артур нырнул обратно в комнату, сжимая в дрожащих руках ружье. Отец поставил ногу на первую ступеньку. Артур пал на одно колено, прижимая кулак ко рту, чтобы молитва не вырвалась сквозь стиснутые зубы.
Вторая ступенька… и третья… и еще одна. На четвертой он встал.
– Артур! – голос его разорвал тишину, будто треск кнута. – Артур! Не спустишься ли ко мне?
– Да, папа.
Подавленный, обмякший, будто тряпка, молодой Дарейя спустился на пять ступенек до площадки.
– Прекратим валять дурака! – горько молвил отец. – У меня сердце не на месте от страха. Завтра мы возвращаемся обратно в Нью-Йорк. Я сяду на первый же корабль в открытое море… Пожалуйста, иди сюда.
Он развернулся и сошел к себе в комнату. Артур проглотил слова, так и теснившиеся во рту и, оглушенный, последовал за ним.
Отец лежал на кровати, лицом вверх. Рядом на простыне громоздилась бухта веревки.
– Привяжи меня к столбикам кровати, – распорядился доктор Дарейя. – За обе руки и обе ноги.
Артур молча стоял и хватал ртом воздух.
– Делай, как я сказал!
– Но, отец, зачем же…
– Не будь идиотом! Ты же прочел книгу! Мы с тобой связаны кровью. Я всегда надеялся, что это Сесилия, но теперь уверен, что дело в тебе. Мне следовало обо всем догадаться еще той ночью двадцать лет назад, когда ты стал жаловаться на головную боль и кошмары… Скорее, у меня череп раскалывается… Привяжи меня!
Безмолвно, в агонии, пронзаемый собственной болью, Артур взялся за работу. Он привязал руки… затем ноги… – привязал к стальным столбикам настолько крепко, что отец ни на дюйм не мог приподняться с постели. Затем он задул все лампы и, не бросив на нового Прометея ни единого взгляда, взошел по лестнице к себе, захлопнул и запер за собою дверь.
Осмотрев затвор ружья, он прислонил его к стулу у кровати. Сбросив халат и тапочки, он уже через мгновение провалился в полное бесчувствие.
Артур проспал допоздна. По пробуждении все его мускулы были как доски, а образы всю ночь осаждавших его разум кошмаров так и стояли перед глазами. Он выкарабкался из кровати и ступил, шатаясь, на пол. Тупая, оглушающая боль кружила под сводами черепа. Он чувствовал себя раздутым… сырым и сочащимся внутренней слизью. Во рту было сухо, десны жгло и саднило.
Устремившись к двери, он потянулся, расправив затекшие руки.
– Папа! – крикнул он и услышал, как голос сломался, едва вырвавшись из горла.
Солнце заливало лестницу через окна на площадке. Воздух был сухой и горячий и нес легкий привкус тлена. Запах этот заставил Артура внезапно содрогнуться – содрогнуться в приступе острого ужаса. Он узнал его, вспомнил – и смрад, и тяжесть в венах, воспаленный язык, горящий рот… Казалось, века прошли, но вот она, память, взмывает, как дух, из глубин прошлого. Все это он уже чувствовал раньше.
Он тяжело оперся о перила и наполовину соскользнул, наполовину скатился вниз по ступенькам.
Ночью отец умер. Он лежал, как восковая кукла, привязанный к кровати, с лицом изможденным и едва узнаваемым. Несколько мгновений Артур тупо стоял в изножье кровати, затем поднялся в свою спальню.
Почти сразу же сверху раздался выстрел: он разрядил оба ствола себе в голову.
Трагедию Дровяного озера обнаружили случайно, три дня спустя. Партия рыболовов нашла тела и известила власти; началось расследование.
Артур Дарейя со всей очевидностью встретил смерть от собственной руки. Характер ранений и то, каким образом он держал оружие, исключали всякую возможность подлога. Однако смерть доктора Генри Дарейи поставила полицию в совершеннейший тупик, ибо его связанный труп, нетронутый за исключением двух небольших рваных ранок на яремной вене, был совершенно лишен крови. Протокол вскрытия Генри Дарейи постановил смерть «от неизвестных причин», и только лишь после того, как в дело вмешалась желтая пресса, и таблоиды занялись семейной историей дома Дарейя, публика получила некоторые объяснения – правда, совершенно невероятные и фантастические.
Подобные нелепые домыслы, разумеется, оскорбляли общественное мнение, однако, ввиду грозящего разразиться скандала, власти почли необходимым спешно отправить обоих Дарейя в крематорий.
Джозеф Пейн Бреннаню. Седьмое заклинание
«Сих же черных молитв сиречь заклинаний существует семь: три – для обычных чар и надобностей и столько же – для нечистых и для полного изничтожения врагов всех и всяких. Относительно же седьмого тех интересующихся сими материями предупреждаю особо. Да не будет прочитано седьмое заклинание ни в каком случае и никогда, если только не желает оператор узреть ужаснейшего демона. И хотя не явится демон, если не произнести слова заклинания у Кровавого Алтаря Древних, а не в другом каком месте, да остережется всякий сие читающий. Ибо да будет ему известно, что сарацинский колдун именем Май Лазаль безо всякой на то причины огульно возгласил сии страшные слова, и пришел к нему демон, и, не найдя кровавой жертвы, разгневался на мага и разорвал его в клочья. Живая кровь дитяти или чистой девы для тех целей лучше всего, но и зверя всякого, доброго тельца или овна, будет достаточно. Но пуще всего берегись, чтобы жертва не умерла до исторгания крови, чтобы кровь ее не стала мертвой, ибо тогда гнев демона возрастет стократно. Если жертва угодна окажется, демон даст богомерзкую силу, так что слуга его станет богат и возвысится надо всеми соседями».
Уже в третий раз и со всевозрастающим волнением Эммет Телквист читал эти поблекшие слова, заключенные в рассыпающейся в руках, необычайно интересной и, по всей вероятности, даже уникальной в своем роде рукописной книге. Он обнаружил ее случайно несколько дней назад, роясь в пыльных ящиках, содержавших библиотеку покойного дядюшки.
Книга называлась без затей – «Истинная магика»; автор поименовал себя Теофилусом Уэнном. Вполне возможно, это был псевдоним; судя по содержанию, опрометчивый писатель имел все основания, чтобы скрывать свою подлинную личность. То была настоящая энциклопедия всяческой дьявольщины. Во всем явствовала неподдельная и весьма эрудированная ученость, щедро расточаемая на разнообразные предметы эзотерического и запретного свойства. Подробные дискуссии о чарах и одержимостях перемежались штудиями о вампиризме и легендами о вурдалаках, целыми страницами, посвященными демонологии, ведовским культам, мистическим идолам и ритуальной резне, несказанным осквернениям и жутким, творимым в полнолуние жертвоприношениям силам изначальной тьмы.
Составитель сам, по всей очевидности, был выдающимся некромантом. Слог его, самодовольный и даже капризный, без легчайшего дуновения юмора, свидетельствовал об эгоизме и недюжинном высокомерии. Теофилус Уэнн – или кто бы там ни скрывался под этим именем – писал обо всем со смертельной серьезностью.
Эммет Телквист, деревенский изгой, отчаявшееся мизантропическое порождение бесславного отца и умершей в безумии матери, расценил книгу как нежданный дар, чудесное сокровище, тайное хранилище мудрости и силы, которое даст ему возможность выступить, наконец, на одном поле с более удачливыми соседями – и победить.
Он всегда был неудачником, предметом самых мстительных местных сплетен – и всегда ощущал некоторое сродство с законами и силами, противными человеческому роду.
Дядюшка, единственный из родственников, кого он вообще помнил, был угрюмый, желчный, жестокосердный старик, терпевший мальчишку только за то, что он бегал по делам и выполнял всю домашнюю работу. Эммет ни мгновение не сомневался, что дядя без колебаний вышвырнул бы его на улицу, не будь он такой рабочей клячей. Какие там узы крови, кого они волнуют!
Если бы не его внезапная и даже несколько таинственная кончина, старый мерзавец наверняка проследил бы, чтобы племянник унаследовал одни только воспоминания, и притом самые черные. Однако за отсутствием завещания Эммет Телквист получил в полное свое владение ветхую дядину ферму и всю содержащуюся в ней скудную движимость. И вот теперь, жадно щурясь на полинявшие буквы, выведенные рукой некроманта, он поневоле начинал верить, что в руки ему попалось нежданное чудо – ненамеренный подарок от ненавистного родича. Более того, ряд вопросов, немало озадачивавших его в прошлом, разрешился сам собой. Некоторые странности дядюшкиного поведения – долгие отлучки, особенно по ночам, бормотание и шепот, частенько доносившиеся из его комнаты, необъяснимые источники дохода – теперь вдруг раз! – и разъяснились.
Короче говоря, Эммет чуть не дрожал от волнения и предвкушения, переворачивая страницу, на которой было начертано седьмое заклинание. Текст оказался выписан особыми синевато-серыми чернилами, которые, казалось, чуть-чуть фосфоресцировали. Прочесть слова он не решился – только глянул на них мельком, убедившись, что они представляют собой нагромождение бессмысленных гласных, часто перемежающихся именем «Ниогта», и тут же отвел взгляд. Хитро улыбаясь себе под нос, он отлистал назад и перечел параграф, содержавший введение и объяснение к заклинаниям. О, он прекрасно понимал, что Теофилус Уэнн подразумевал под «Кровавым Алтарем Древних». Ему, Эммету Телквисту, довелось однажды увидеть такое.
И хотя это случилось много лет назад, когда болота были еще не настолько непроходимы, какими стали с тех пор, он практически не сомневался, что сумеет отыскать проклятый жертвенный кромлех еще раз. Слишком хорошо он помнил, как крался по едва заметной над топью тропинке, вившейся сквозь пустошь! Неожиданное возвышение, словно окутанное тенью, даже на полуденном солнце; круг тяжелых монолитов, холм в центре и огромная плоская глыба на вершине, ржаво-красная, сплошь в невыразимых, мрачных пятнах, стереть которые не смогли ни дожди, ни ветра на протяжении всех прошедших веков. Никому и никогда он не говорил о своем открытии. Болота были местом запретным: официально – из-за встречавшихся там, по слухам, зыбучих песков и ядовитых змей. Не раз Эммет собственными глазами наблюдал, как деревенские старики крестились при одном упоминании этих мест. Поговаривали, даже охотничьи собаки бросали след, если дичи хватало ума улепетнуть от них на бескрайние эти просторы.
Все еще дрожа от предвкушения силы, которая вот-вот упадет ему в руки, Эммет Телквист погрузился в раздумья. Ни за что он не повторит ошибку этого злосчастного сарацинского колдуна, Май Лазаля! Правда на человеческую жертву – «дитя или чистую деву» – он все-таки не решился, но овцой-то разжиться уж всяко удастся. Можно спокойно выкрасть одну под покровом ночи из любого деревенского стада. Все окрестные леса и закоулки он знал назубок: когда пропажи хватятся, они с овцой будут уже далеко.
В ночь перед полнолунием Эммет проскользнул на ближайшее пастбище, где паслись овцы, и вскоре был таков с отличной упитанной ярочкой. Он кое-как перетащил ее через каменную стену, а дальше увел в поводу, петляя по дорожкам на задах деревни и заросшим травою тропинкам.
На следующий день он скрытно наведался в окрестности запретного болота и, тщательно прочесав подлесок, в конце концов обнаружил начало почти незаметной тропы, которая годы назад привела его к забытому капищу. Ее было едва видно из-за высокой осоки, ползучих вьюнов и сочной болотной травы, однако олени, судя по всему, ходили здесь часто, не давая ей совсем уж заглохнуть. Немало терпения понадобится, чтобы проложить себе путь через такие заросли, но главное сделано – путь открыт, так что дело за малым!
Запомнив место, Эммет воротился домой и занялся приготовлениями к вечеру. Незадолго до одиннадцати он пробрался в сарай, где стояла овца, и вывел животину на лунный свет. Вся округа купалась в зачарованном серебряном сиянии. Без малейшего труда добрались они до болота и вскоре отыскали тропу. Но когда Телквист ступил в высокие, по плечо, заросли, веревка у него в руке неожиданно натянулась. Жертва уперлась, выкатила дикие от ужаса глаза и наотрез отказалась идти дальше. Ругаясь на чем свет стоит, Эммет обошел тупую скотину и как следует ее пнул. Та проскочила несколько ярдов вперед и снова встала. Полный самой угрюмой решимости, будущий некромант так затянул веревку, что она врезалась овце в шкуру сквозь всю ее толстую шубу. Фут за футом, чтобы не сказать дюйм за дюймом, продвигались они вперед. Овцу приходилось то тащить, то толкать, а по мере того, как они углублялись в болота, растительность кругом становилась все гуще, все выше, так что путешествие вскоре превратилось в форменную муку.
Зловещими столпами просачивался сквозь деревья лунный свет; во тьме по обе стороны от тропы зияли чернотой и серебром предательские бочаги. Какие-то незримые глаза следили за Эмметом из глубин; громадные жабы то и дело выскакивали из зарослей на тропу и провожали идущих янтарного цвета буркалами. Никакого страха они явным образом не испытывали, справедливо полагая болота своей вотчиной и не считая чужаков способными причинить им вред. Эммету уже начало чудиться в них нечто потустороннее. Никогда до сих пор он не встречал таких крупных амфибий, да еще в подобных количествах. Хотя дело наверняка в том, что им тут никто не мешает плодиться и процветать – больно уж уединенные и нетронутые эти места.
Чем ближе к сердцу болот, тем тяжелее наваливалась на Эммета тишина. Обычные ночные звуки все куда-то подевались, и только собственное его тяжелое дыхание нарушало безмолвие. Овца упрямилась как никогда: тащить ее вперед уже приходилось со всей силы. Не иначе как чувствует свою судьбу, думал Эммет. Внезапно – настолько внезапно, что он чуть не вскрикнул от неожиданности, – подлесок враз расступился. Оказалось, они стоят у самого подножия нечестивого всхолмья.
Оно выглядело в точности так, каким он его запомнил: огромные менгиры возвышались неровной окружностью, окаймлявшей центральный пригорок с плоской темной глыбой, совсем другого цвета, чем прочие монолиты. Вокруг сгущались тени, однако, подняв глаза кверху, Эммет увидал стоящий ровно над капищем диск полной луны.
Стряхнув липкий ужас, внезапно охвативший его, Телквист полез по облепленному лишайниками склону. У овцы подогнулись передние ноги, так что дальше ее пришлось волочь волоком. Добравшись до внешнего кольца, Эммет совсем уже выдохся, но не рискнул отдохнуть ни минуты, ибо знал, что всякое промедление смерти подобно. Дикое желание бросить проклятую овцу и бежать отсюда без оглядки через жабьи болота, в знакомый мир, поднялось в нем.
Тем не менее, он мужественно снял со скотины повод и связал ей ноги, а затем с огромным трудом взгромоздил овцу на ржавого цвета жертвенник.
Задавив в себе почти неудержимое побуждение сделать ноги, он вынул из ножен охотничий нож и вытащил из кармана рукописную книгу – «Истинную магику» Теофилуса Уэнна. С легкостью найдя страницу со зловещим седьмым заклинанием – так как в лунном сиянии синевато-серые чернила, запечатлевшие злые слова на пергаменте, почти светились, – он взял книгу в одну руку, нож в другую и принялся оглашать ночь мешаниной нечленораздельных звуков.
По мере чтения они словно бы источали некую сверхъестественную силу: голос его сам взмывал до варварского воя, до пронзительного нечеловеческого визга, проникавшего в самые отдаленные уголки топей, а затем падал в низкое гортанное рычание или в свистящий шип. Но вот на последнем повторении особенно часто вспыхивавшего в тексте слова – «Ниогта» – до слуха его словно бы издалека донесся звук, подобный порыву могучего ветра, хотя ни единый лист не шелохнулся на окружавших холм деревьях.
Книга у него в руках внезапно потемнела – на страницы упала тень. Он поднял взгляд – и безумие, ревя, затопило палаты его разума.
На краю жертвенного стола громоздилось существо, явившееся прямиком из кошмаров – чешуйчатая, когтистая тварь, обликом подобная чудовищной горгулье или уродливой жабе, которая изучающе таращилась на него алыми глазами. Эммет замер от ужаса, и тут же гнев полыхнул в ее взгляде. Тварь вытянула шею, раскрыла клюв и злобно зашипела. Это, наконец, вывело Эммета Телквиста из ступора: ясно, чего пришелец желает – жертвенной крови.
Воздев нож, он шагнул вперед и был уже готов погрузить его в плоть овцы, но снова остолбенел. Чертова скотина уже умерла! Явление невыразимого чудища прикончило робкое животное на месте – овца просто сдохла от ужаса: глаза остекленели, ни малейших признаков дыхания.
«Но пуще всего берегись, чтобы жертва не умерла до исторгания крови…» – предупреждал Теофилус Уэнн. Эммет Телквист стоял, как громом пораженный, все еще держа в высоко поднятой руке бесполезный нож.
Потом он бросил его и побежал.
Нырнув между двух менгиров, он скатился по склону холма и припустил к тропинке через болота. Подняв чешуйчатую голову, тварь на камне проводила его взглядом и, яростно зашипев, слетела с алтаря и ринулась в погоню. Прозвенел один-единственный жуткий вопль, и вот существо уже запрыгнуло обратно, сжимая в окровавленном клюве безжизненно болтающееся тело – на сей раз вполне годную жертву.
Хью Б. Кейв и Роберт М. Прайс. Из бездны древней, нечестивой…
Вечером били барабаны – или это был гром? В любом случае так далеко, что и не разберешь. Он едва слышал их. Этот звук, шедший издалека, вблизи заглушал другой, не столь зловещий, но зато полный живой злости – собачий лай. Началось это, по свидетельству прикроватных часов, ровно в 3.15 утра, так что со всякой надеждой на сон пришлось распрощаться. Одна псина начинала разоряться как раз в той части Порт-о-Пренс, где ему случилось снимать комнату в «Пенсьон Этуаль»; затем подтягивалось с полдюжины других, раскиданных по всему городу, – поначалу почти робко, словно сводный оркестр псовых настраивался перед большим концертом. Зато когда они припускали по полной, это превращалось в соревнование, кто кого переорет; каждый гав сопровождался хором возмущенных возражений, так что вскоре весь город уже завывал на разные голоса.
С трудом сдержавшись, чтобы не добавить к этой какофонии собственный могучий «гав!» – точнее, «цыц!» – изможденный Питер Маклин сдался и с отвращением выбрался из постели. Втиснувшись обратно в одежду, он распахнул дверь на веранду, приглашая заглянуть в гости любой загулявший ветерок, какому случится пролетать мимо. Стоял июль месяц, и Гаити – карибская страна водуна[15] и нищеты – была столь же яростно раскаленной, сколь кротки в своем невыразимом смирении были ее люди.
Нет, он, конечно, ожидал, что в июле в городе будет жарко. Он изучал в магистратуре антропологию, эту захватывающую науку о туманном происхождении, трудном развитии и калейдоскопической культуре человеческого рода, и уже дважды успел побывать на Гаити – писал о водуне и его последователях. Он даже французский уже освоил достаточно, чтобы поддерживать беседу с представителями элиты, а заодно и креольский – для общения с простым народом. Возможностей поговорить с людьми Питеру представилось в изобилии. Штудии его оказались достаточно многообещающими, чтобы добавить к стипендии скромное дорожное пособие, но деньги уже почти подошли к концу, а показать начальству он пока что мог не так уж много. Водун, он же вуду, всегда привлекал исследователей – и серьезных, и не очень, из тех, что гоняются за сенсациями, – своей экзотикой, и научные руководители вполне обоснованно предостерегали его от попыток спустить ведро в сухой колодец. Кажется, они все-таки были правы. Разве что из пальца что-нибудь высосать. Его и так в этот раз привело сюда чистое наитие – слух – не слух, который он подцепил в майамском Маленьком Гаити, когда ездил навещать родителей во Флориду. О чем-то подобном перешептывались, помнится, люди расты[16] на Ямайке. Речь шла о каких-то колдунах, или как теперь осторожно называют их антропологи, шаманах, короче, о бокорах и хунганах, принадлежащих к тайному культу, чьи последователи самым тесным образом общаются с неизвестными силами… да что там, прямо-таки с жуткими богами, которых можно призвать, чтобы делать всякие жуткие вещи. Знаменитые легенды о зомби как раз к ним и восходят. Это религиозные изгои, обитающие на самом отшибе вудуистской общины и теологической системы, занятые в основном убийствами по контракту – в сущности, делающие грязную работу магическими способами. Однако до сих пор никто никогда не слышал, чтобы они собирались в собственное религиозное общество. Не то что-то совсем новенькое, не то, наоборот, очень-очень старенькое, просто в первый раз всплывшее на поверхность. Как бы там ни было, а это новый аспект темы, которым еще никто не занимался. Все его исследование заиграло новыми красками. Вот он, шанс не просто перестать пахать бесплодное поле, а даже и заработать себе репутацию среди коллег, сделав по-настоящему заметное открытие. Если, конечно, ему удастся выжать из темы что-нибудь посерьезнее слухов. Понадобятся интервью, включенное наблюдение, но прежде всего – личные контакты с носителями.
Тут ему несказанно повезло: оказалось, что брат молодого флоридского гаитянца, занимавшегося всякими случайными работами для родителей Питера, похвалялся принадлежностью к этому таинственному культу, и вскоре Питер как раз ожидал прибытия этого человека. Звали его Метеллий Далби, и он обещал поделиться самыми свежими новостями с последнего собрания группы. Ждать пришлось недолго. Словно лай бессонной собачьей братии напророчил, послушавшись того, что нашептывали их непонятным человеку чувствам сверхъестественные силы… Не прошло и пятнадцати минут, как в хлипкую дверь его комнаты постучали. С сожалением покинув крошечную веранду, куда он вышел в надежде глотнуть хоть немного воздуха, а получил только еще одну порцию удушающей жары, Питер преодолел несколько шлагов, отделявших его от двери, и распахнул ее. На пороге стоял гаитянец, высокий, тонкий и очень черный.
– Вы уже вернулись? – вопросил изумленный Питер на креольском.
Прозвучало почти как упрек.
– И с хорошими новостями, м’сьё!
Быстро кивнув, Метеллий Далби проскользнул мимо него в комнату.
– В ближайшую ночь состоится большое собрание культа. Вы должны пойти туда со мной!
Сверху на глядящих друг на друга мужчин – один белый, один черный – ярко светила луна, застрявшая между первой четвертью и полнолунием.
Гаитянец заговорил снова, на сей раз медленнее:
– Но до тех пор мы с вами должны сделать одну вещь, mon ami[17].
Из кармана просторных мешковатых брюк он извлек пинтовую бутыль с какой-то темной жидкостью.
Питер согласно кивнул.
– Как долго это займет?
– Один слой – сейчас, второй – в полдень и третий – прежде чем мы двинемся в путь.
Улыбка у него разъехалась до сверкающего полумесяца.
– Когда мы закончим, вы будете выглядеть как один из моего народа, обещаю вам. Будет немного чесаться, но, в целом, никаких неудобств.
– А как же нос, как же тонкие губы?
В первый раз в жизни Питер глядел на эти черты глазами человека неевропейской расы – и теперь они говорили не о привычной для взгляда красоте, а о чем-то куда более опасном: что ты чужак.
– Гаитянцы бывают самой разной формы и облика, друг мой. Некоторые наши дамы с праздника Марди-Гра[18] могли бы выиграть конкурс красоты в любой части света. Вы сами их видели.
«Пенсьон Этуаль» располагался прямо на Марсовом поле, через которое проходили процессии на Марди-Гра. Питер невольно кинул взгляд в окно, словно боясь увидать марширующие оркестры и плывущие над толпой аляповатые платформы. Его приятель снова полыхнул улыбкой – зубы у него были белее белого.
– Это растительная краска, она может немного жечься, – предупредил Метеллий. – Но в любом случае недолго. Вскоре вы будете чувствовать себя лучше прежнего, я вам обещаю.
Питер задумался, какого рода дела так близко познакомили его проводника с этим составом и особенностями его применения. А, какая разница! Каковы бы они ни были, Метеллий – именно тот, кто нужен для такой хитрой затеи. Прямо ЦРУ-шником себя чувствуешь! Впрочем, антропологам то и дело приходится работать с людьми, умеющими обстряпать такое дельце… короче, такое, обстряпать которое можно только всякими сомнительными способами.
Питер шагнул к кровати, снял верхнюю часть пижамы и растянулся на простыне лицом вверх. Метеллий вытащил пробку из бутылки и, склонившись, как массажист над клиентом (и с тою же профессиональной дружелюбностью), принялся затемнять те части белого тела, которые благодаря рубашке с короткими рукавами неизбежно окажутся на виду. Намазывая, он, разумеется, болтал.
– Уверен, то, что случится сегодня ночью, вас заинтересует, м’сьё. Эти люди затевают особого рода сборище, на котором будут призывать Древних явиться им. Вы услышите некие слова и должны быть готовы присоединиться к хору, как только они прозвучат. Вот они: то не мертво, что вечность охраняет; смерть вместе с вечностью порою умирает[19]. Я сам услышал их от Тибурона на Южном полуострове; он сказал, что они не предназначены для ушей обычного человека. Не должно сложиться впечатления, что они для вас внове.
– То не мертво, – повторил он назидательным менторским тоном, – что вечность охраняет; смерть вместе с вечностью порою умирает…
– А смысл в этом какой? – нахмурившись, спросил Питер.
– Да кто его знает, – пожал плечами гаитянец. – Главное, что они знают, будьте спокойны. А, возможно, после сегодняшней ночи узнаем и мы.
И он умолк, давая белому чужаку возможность зазубрить про себя формулу.
Когда бутылка опустела, Метеллий отступил от кровати и окинул Питера критическим взором – затем кивнул.
– Нам нужно быть на месте еще до темноты, чтобы продемонстрировать мою работу с наилучшей стороны, как вы считаете? Мы проедем на моем джипе аж до Фюрси, но потом все равно несколько миль придется пройти пешком. Горные тропы нелегки, как вам, надеюсь, известно.
Изо всех сил стараясь не обращать внимания на саднящую кожу, Питер пошел смотреться в зеркало.
– Во сколько вы сегодня выехали?
– Сразу после полуночи.
Питер глянул на будильник на комоде и вычел минуты, на которые тот врал. Ленивые стрелки как раз стояли на без пяти пять, а Метеллий здесь уже… сколько же? Сорок пять минут? Чуть больше?
– То есть когда мы хотим быть там?
– Я заеду за вами около трех часов дня.
Сухо кивнув, Питер открыл верхний ящик комода (на котором даже замка не было) и взял бумажник.
– Наполните бак под завязку, Метеллий, – сказал он, подавая ему несколько купюр. – И загрузите в джип какой-нибудь еды. Никогда ведь не знаешь, чем дело кончится.
– Мерси, босс, – отвечал тот не без иронии, заметив, что денег ему дали куда больше, чем требовалось для перечисленных поручений.
Потом он ушел, а Питер вновь остался наедине с тяжкой, влажной жарой – которая, правда, успела побороть собак. Во всяком случае, они заткнулись. Может, теперь ему удастся хоть немного вздремнуть. Когда краска на коже полностью высохла, Питер вернулся в постель и прокемарил до позднего утра. Зато на следующую ночь спать, видимо, совсем не придется. Кто или что, интересно, такое эти «Древние», о которых толковал его гаитянский друг? Старые боги – старше привычного пантеона обеа?[20] Но какие именно? Какого рода? Уже потом ему показалось, что утренние сны пытались ему на что-то такое намекнуть, но на что – он так и не вспомнил.
Без пяти минут три Метеллиев джип зарулил на подъездную дорожку «Пенсьона», и Питер, давно уже готовый, вскочил в машину. Несколько постояльцев крошечного отеля откровенно пялились на него, пока он спускался по лестнице от своего номера на третьем этаже и шел через холл к дверям. Зрелище белого человека, в одночасье ставшего черным, немало их удивило, но задавать вопросы никто не рискнул – мало ли что могут ответить. Промолчать как-то безопаснее.
Когда он плюхнулся на пассажирское сиденье, Метеллий окинул его критическим взглядом и довольно кивнул.
– Краска, я вижу, легла отлично. Значит, беспокоиться стоит только о том, сколько она потом будет сходить.
– Ну, раз ты об этом упомянул, я тоже несколько волнуюсь, – улыбнулся Питер, устраиваясь как можно удобнее.
Джип был совсем старый, открытый, с холщовым навесом, чтобы защищать пассажиров от дождя и солнца.
– Возможно, проходите гаитянцем дня три-четыре, – заметил Метеллий с видом доктора, снова сверкая своей невероятной улыбкой.
– Есть и понеприятнее личины.
– Чего?
Питер решил, что паршиво сформулировал мысль на креольском.
– Отлично, пока оно работает, – пояснил он.
– Да, – сказал Метеллий с внезапной серьезностью, отъезжая от «Пенсьона». – Отлично, пока Древние не догадываются, кто ты на самом деле такой и зачем пришел.
Питер время от времени вспоминал эти его слова, пока они петляли по проселочным дорогам до Пенсьонвилля, куда откочевали многие гаитяне побогаче, спасаясь от жары и убожества столицы. Потом они взбирались по узкой щебеночной дороге в горную деревушку Кенскофф, на что ушло еще больше времени, – и все это время слова Метеллия не шли у него из головы. И они же упорно маячили перед внутренним взором, расталкивая локтями все прочие мысли, пока Метеллий осторожно и мастерски вел крошку-джип на последний извилистый подъем до Фюрси, где дорога заканчивалась вовсе. То и дело на протяжении пути Питер вертелся на сиденье, чтобы еще раз посмотреть с эдакой кручи на столицу, укрытую висящим над крышами плотным маревом. Словно пытаешься проникнуть взглядом сквозь толщу туманов, которые суть само время… Интересно, почему он вообще делает все это? Неужели все антропологи живут такой опасной жизнью? Разве это не удел миссионеров – побулькивать в котле над костром, пока все племя бросает на тебя голодные взгляды?
Метеллий остановил машину перед крестьянской хижиной, и Питер резко вывалился из своих грез.
– Мы оставим джип тут, – объявил его спутник. – Хозяева меня знают.
Он поглядел на ручные часы. Питер еще раньше заметил, что он носит «Ролекс» или что-то вроде того – казалось бы, вещь за пределами всяких законных доходов в этих местах, – но для сегодняшнего визита Метеллий мудро сменил их на более скромный «Таймекс».
– Ты голоден, друг мой?
Питер разглядывал хижину и пейзаж за нею, так что едва уловил, о чем его спрашивают, но все же ответил:
– Да как-то не думал об этом. Жара съела весь аппетит. Но, наверное, подкрепиться все-таки стоит, а?
Метеллий перегнулся на заднее сиденье и извлек оттуда сумку с едой. Меню представляло собой причудливую смесь фруктов, овощей и самого гадкого, жирного фаст-фуда – куда больше, чем они смогли бы съесть. Алкоголь там тоже имелся. Метеллий открыл сумку и щедро предоставил Питеру выбирать. Тот цапнул пару яблок и рогалик. Метеллий взял и того меньше. Тут дверь хижины отворилась, и на пороге показалась пригожая пожилая женщина с черной кожей. Она подарила им улыбку и приветливый «Bon jour!»[21] Ей Метеллий отдал всю остальную провизию. Вот доверь ему хозяйство, подумал Питер.
Дальше они пошли пешком. Совсем скоро Питер оценил, почему Метеллий вознамерился достичь места назначения непременно до темноты. Едва заметная тропинка змеей вилась через лес. Временами путь преграждали упавшие с деревьев сучья – сосновые по большей части – и валуны, должно быть, скатившиеся с горы. Питер надеялся только, что на месте таких не будет. Дорога казалась бесконечной. Оба путника сильно устали – Питер до полного изнеможения, но и Метеллий держался лишь немногим лучше, – когда перед ними внезапно открылась прогалина с горсткой хижин, милосердно оказавшихся целью их путешествия. Впрочем, отдыха, увы, не предвиделось. Из хижин хлынула толпа, главным образом мужчины; Метеллий принялся знакомить местных с чужаком. Пришлось улыбаться и изо всех сил сохранять вертикальное положение, пока Метеллий разливался, что Питер из Флориды, что он друг Метеллиева брата и до ужаса интересуется Древними, а еще что он очень хочет поучаствовать в ночной церемонии, хотя бы и в качестве зрителя. Питер чуть не обмер, услыхав из его уст чистую правду, – он ожидал несколько больше лжи… хотя на самом-то деле врать было совершенно незачем.
Пока новичка со всеми перезнакомили, уже стемнело; деревенские зажгли фонари и развесили на окрестных деревьях. Где-то начал глухо рокотать барабан. Никто Питера ни в чем не подозревал – обращенные на него взгляды были сплошь любезные и дружелюбные. Он усердно улыбался в ответ и старался надеяться на лучшее – даже спросил, не нужна ли какая-то помощь в подготовке, но получил ответ, что он гость и не должен беспокоиться ни о чем подобном. Это Питер расценил как позволение немного вздремнуть.
Когда Метеллий принялся его расталкивать, до Питера дошло, что проспал он, по меньшей мере, часа три. Высоко в небе висела луна. Поляна кишела народом, сновавшим туда и сюда на фоне ярко сияющих ламп, от чего те мигали, словно стробоскоп. Питер поскорее вскочил на затекшие ноги и нервно оглядел себя, чтобы убедиться, что во время сна рубашка не задралась и где-нибудь не мелькнул дюйм розовой кожи. Широкая ухмылка Метеллия уверила его, что бояться нечего. Они вдвоем поспешили в круг – искать себе места получше и поближе к месту действа, каким бы это самое действо ни оказалось, но не слишком на виду, чтобы на них никто особенно не смотрел – вдруг им случится не к месту удивиться или засомневаться. Уже там Питеру пришла в голову мысль: интересно, а сколько церемоний этой конкретной секты Метеллий на самом деле видел? Он говорил о них как-то уклончиво, словно знал маловато, но, кажется, был хорошо знаком со всеми присутствующими. Наверняка получил только какую-то предварительную степень посвящения и о подлинных тайнах культа мог только гадать – что Питер от него, собственно, и слышал. И не значит ли это, что ему, совершенному чужаку, вряд ли дозволят увидать что-то из ряда вон выходящее? Впрочем, теперь делать уже нечего – пришел, так сиди и жди.
Он принялся рассматривать тесно рассевшуюся вокруг толпу. Обстановка была знакомая, как и выражение радостного ожидания на сверкающих по́том и отблесками костра простых гаитянских лицах. Затем с изумлением, которого, кажется, никто не заметил, он понял, что видит и другие лица – куда более страшные, искушенные, надменные, изрезанные глубокими морщинами, что выдавали привычку к эмоциям и экзальтациям, природу которых он был не в силах угадать. На некоторых красовались ритуальные шрамы, на других – поблекшие татуировки и следы краски. Были серьги странной работы, иногда напоминавшие формой диковинных морских тварей. Это уже что-то новенькое! Может, ему дадут поговорить с этими стариками? Наверняка же это те самые хунганы и бокоры, что так неохотно, если верить слухам, собираются вместе – пусть даже и ради какой-то ужасной общей цели! Впрочем, шансы на это, конечно, невелики.
Однако вскоре угли его энтузиазма подернулись пеплом разочарования. Конгрегация стихла, словно по чьему-то сигналу, и служба началась. Жрец, престарелый селянин с морщинистой рожей и голосом не громче усталого шепота, нараспев пробубнил обычные предварительные молебствия, начертал обычные веве[22] вкруг основания центрального шеста, или пото митана. Все так же монотонно, словно читая давно уже надоевший детский стишок, он воззвал к обычной последовательности богов водуна: к Легбе, Огуну, Эрзули, Дамбалле и всем прочим[23]. Все это Питер уже не раз видал и слыхал. Собравшиеся, впрочем, потихоньку раскочегаривались, словно их любимая часть представления была еще только впереди.
Внезапно вся скука куда-то делась. Предварительные церемонии закончились. Люди в толпе начали двигаться – быстро, даже яростно, бесцельно вскидывая руками, дубася по подвернувшимся головам и туловищам, чего, казалось, никто не замечал. Зрители закатывали глаза, вскакивали, что-то визгливо пели, присоединялись к вмиг образовавшейся дико отплясывающей «змейке». Получив тычок от Метеллия, Питер тоже встал в хвост и постарался как можно достовернее изобразить экстаз. Он изо всех сил пытался расслышать слова песни, но так как пела куча народу – человек, наверное, двадцать пять – это оказалось делом нелегким, тем более, для того, кому креольский не был родным языком. И все-таки ему удалось что-то разобрать. К удивлению своему, Питер понял, что черная вакханалия взывает совсем не к традиционным богам водуна, чьи имена возглашались тут минуту назад, а к кому-то… к чему-то гораздо более древнему. Все имена ему были внове – вот почему было так трудно понять слова. Некоторые из них звучали так странно, что их можно было только лаять, визжать или нечленораздельно выть. Тулу… Ниггурат-Йиг… Наг и Йеб… Какофония на глазах уступала место какому-то варварскому языку, возможно, глоссолалии[24]. Во всяком случае, креольского в нем оставалось все меньше и меньше.
Тут, наконец, в дело вмешалась интуиция, и в мгновенном озарении он понял, что тут происходит. Древние… Питер, конечно, знал – да все на свете знали! – что формальное христианство гаитян и прочих карибских народов маскирует африканскую веру их предков, восходящую еще к дорабовладельческой эпохе. Можно сколько угодно звать объект экстатического поклонения именем того или иного католического святого, но на самом деле верующие все равно обращаются к Дамбалле, к Барону Самди[25] – к богам древней Африки. Тут, однако, творилось нечто иное: эти самые Древние должны быть немыслимо старыми божествами и демонами, которым приносили кровавые жертвы на самой заре времен, когда не было еще ни Зимбабве, ни Бенина; божествами, чей культ давно запретили и объявили вне закона и традиции – только чтобы он скрылся под именами более безопасных богов зулусов, ашанти, шона и других племен. За тонким покровом новых мифов продолжали рыскать Древние Нечестивые Твари, подобно тому как благие духи африканских религий позднее скрыли лики свои за нимбами христианских святых. О да, он понял…
Пение и барабанный бой, а с ними и пляски продолжались. Верующие составили неровный круг и двинулись нескончаемой процессией, шаркая в пыли ногами, то обутыми в шлепанцы, а то и вовсе босыми. Жрец, давно уже вышедший из ступора, выскочил в центр и принялся кружиться, стеклянным взором обегая скользящую вокруг толпу. Вот он что-то выкрикнул, раз, другой, тыча пальцем в кого-то из охваченного трансом круга. Одна из отмеченных, совсем юная девушка, явно не сознавая, что ее куда-то вызвали, упала на землю. За ней последовала вторая – на сей раз дряхлая карга. Странные грубые звуки продолжали изрыгаться из севшего горла жреца вуду, и две женщины, послушно отбросив всякую скованность, с лицами, все еще странно пустыми, встали и принялись драться не на жизнь, а на смерть. Брызги крови и куски вырванной плоти полетели во все стороны; у Питера скрутило желудок. Пригоршни человечьего мяса, глаз, потом еще один, клочья волос заполнили воздух. Затем его окатило кровью, словно кто-то плеснул краской из банки. Сознание юного антрополога начало мутиться. Мгновение спустя он понял, что, кажется, упал Метеллию прямо на руки, и понадеялся, что никто больше не заметил подобного позора. Впрочем, быстрый взгляд по сторонам убедил Питера, что никто не обращал на него ни малейшего внимания. Зрителям было явно не до него.
Изорванные человечьи останки окружали старого жреца, который упал на свои костлявые колени и, собирая руками кровь, теперь намазывал ее на себя, словно в кощунственном акте крещения, а потом упал и принялся кататься в багряной луже. Толпа неожиданно смолкла, пристально следя за происходящим – Метеллий и Питер не меньше других. Старик сумел подняться на колени и остался в этой молящей позе, закатив глаза до чистых белков и продолжая вопить сорванным горлом некие заклинания.
Будь то обычный ритуал водуна, дальше на кого-то должен был снизойти экстатический транс одержимости – ничего особенно зловещего; такого в любую Пятидесятницу в аппалачских церквях наглядишься. Однако и тут Питера ждал сюрприз.
Из ближайшей хижины явилось странное создание. Все как один повернулись посмотреть на него. Барабанщики замерли, воздев над инструментами руки. На поляну медленно, на когтистых лапах, каждая дюймов в пятнадцать длиной, вышло нечто с телом, как у курицы, только размером с бочку, и с головой мужчины. И… кажется, это был не костюм. Следом шла стая других чудовищ штук в пять или шесть. В совершенном безмолвии (Питер рассеянно отметил дальний стрекот лесных насекомых) община раздвинула круг, чтобы дать место новоприбывшим.
Последним явился еще один монстр, о котором антрополог Питер Маклин даже когда-то читал – или так, по крайней мере, ему показалось. Как же он назывался? Никак не вспомнить. Разум Питера пребывал в слишком большом смятении, чтобы работать нормально. В общем, тварь была похожа на осьминога. На очень большого осьминога. Увидеть его целиком все равно не удавалось, так как вокруг чудища хаотически вились и колыхались многочисленные щупальца. Они двигались с необычайной легкостью, несмотря на то, что никакой воды кругом не было. Все в нем пребывало в каком-то непрестанном гипнотическом движении. Одни щупальца продвигали его вперед, другие извивались над раздутым телом, жирно поблескивая в заливавшем поляну ламповом свете. Когда существо приблизилось, Питер понял, что ошибался: в действительности оно напоминало громадного морского змея с отвратительного вида исполинскими когтями на некоторых конечностях – руках? лапах? ногах? Все, что Питер знал, – это имя, имя этой твари, внезапно всплывшее у него в мозгу.
А тем временем это чудовище присоединилось к пришедшим ранее. Питер больше не понимал, что из представшего его глазам галлюцинация, а что нет. То ему почему-то казалось, что он видит шеренгу жутких существ гигантского размера, но с большого расстояния. А потом они вдруг оказывались прямо тут, рядом со своими почитателями, на обнаженной вершине гаитянского холма. Метеллий наклонился к левому плечу своего спутника, бледного, как меловая стена, подо всей своей краской.
– Этот последний – не кто иной как ужасный Тулу, друг мой.
Питер, однако, вспомнил совсем другое имя – Ктулху; но в ответ ограничился кивком. Тут пара сильных рук ухватила его за локти и стремительно потащила вон из круга и в одну из хижин – но не в ту, откуда явились жуткие существа. Даже сквозь внезапную панику у Питера промелькнула мысль: каким, интересно, образом в одной из крошечных лачуг могли поместиться столь огромные создания? Знакомый голос заговорил на в кои-то веки вполне членораздельном языке.
– Не волнуйтесь. Ритуал достиг той стадии, видеть которую нам нельзя. Отдохните тут.
Это был, конечно, Метеллий. Он ткнул пальцем в мягкий соломенный тюфяк на земле. Питер на глазах проваливался в сон. Возможно, его загипнотизировали, а, возможно, череда пережитых эмоциональных потрясений истощила его силы. Сопротивляться он даже не пытался. И не заметил, прилег ли Метеллий рядом с ним или ушел назад, на празднество.
Спал Питер крепко и снов не видел. По крайней мере, никаких снов он потом не помнил и испытал по этому поводу немалое облегчение. Проснулся он от того, что кто-то тряс его за плечо. Пара рослых гаитян подняла его на ноги и препроводила в другую хижину. Там, скрестив ноги и очистившись полностью от бесчинств прошлой ночи, сидел старый жрец. Ни слова не говоря, он сделал Питеру знак сесть на землю перед ним. Двое стражей встали по обе стороны и почти слились с варварскими фигурами, намалеванными на драпировавших стены занавесях. Страха Питер почему-то не испытывал – только нервное предвкушение, примерно как на защите докторской диссертации перед ученой комиссией.
Креольский у старика оказался вполне чистый, а голос – твердый:
– Полагаю, молодой сэр, вы желаете присоединиться к нам. Не этой ли цели ради вы явились сюда? Вам нужно будет пройти несложное посвящение. Беспокоиться не надо. Вам не причинят никакого вреда, что бы вы там ни думали после событий сегодняшней ночи. Только тогда мы сможем открыть вам наши тайны.
Питер не колебался ни секунды. Он даже и не надеялся на такое! Правда, он видел что-то ужасное предыдущей ночью… или думал, что видел. Правда, что именно, он все равно вспомнить не мог. Может, он вообще спал. Но, как бы там ни было, а это уникальный шанс для научного включенного наблюдения – другого такого может никогда больше не представиться. Беспрецедентная возможность изучить никому пока не известный афро-карибский культ изнутри! Да его академическая карьера, можно считать, сделана!
– Это будет великая честь для меня, Прародитель. Однако должен предупредить, что в конце концов мне придется вернуться в Штаты, где у меня есть определенные обязательства. Мне не удастся присутствовать здесь так часто, как мне бы хотелось. Но несмотря на это… можно ли мне все равно присоединиться к вам?
– Твой друг, Метеллий, сказал нам, что ты будешь делить свое время поровну между этой землей и Соединенными Штатами. Никаких затруднений я в этом не вижу. Ты принес нам новую кровь. Полагаю, твой приезд – великое благо и для тебя, и для наших божественных владык. Я не сомневаюсь, что это они привели тебя к нам.
– Уверен, вы правы, Прародитель, – с улыбкой отвечал Питер, гадая про себя, как им понравится, когда он опубликует этнографическую работу по их верованиям.
Ужасно вот так предавать чье-то доверие, но куда деваться, когда твоя первейшая задача – поделиться уникальным знанием, и не только с коллегами, но и со всем миром!
– Иди же и отдохни как следует, юный Питер – до самого вечера, когда ты принесешь Первый Обет Дамбаллы. Оставайся у себя в хижине, пока не сядет солнце. Потом эти братья, – тут он показал на великанов, все так же молча возвышавшихся по сторонам от входа, словно две черные статуи, – отведут тебя на церемонию. Там ты, наконец, станешь одним из нас.
Он улыбнулся и встал. Питер за ним. Интересно, кто из них сейчас больше скрывал от другого?
Метеллий ждал его в хижине. Питер обрадовался ему, как родному.
– Сегодня они меня посвятят, Мет!
– Меня тоже.
Питер так и раскрыл глаза.
– Тебя все тут знают – я думал, ты уже посвященный!
– Я принял Первый Обет еще мальчишкой; Второй – когда стал мужчиной, в тринадцать. Тогда я узнал больше, чем ты знаешь сейчас. Но Глубочайшие тайны, как они их называют, открываются только тем, кто даст Третий Обет Дамбаллы. Сегодня ночью мне предстоит это сделать. Я очень ждал… но теперь сомневаюсь. Сдается мне, я и так уже видел слишком много.
– Ты насчет прошлой ночи?
– Именно. Правда я почти ничего не помню, только какие-то кошмары, которые мне снились после. Я не понимаю, что из этого было сном, а что нет. А ты?
Питер покачал головой и нахмурил крашеный лоб.
– Я совсем не уверен, что хочу пройти через это, Питер. И еще меньше уверен, что в это стоит ввязываться тебе.
– Но почему же нет, друг мой? Такой шанс предоставляется один раз в жизни!
– Для них – это уж точно.
– Я тебя не понимаю.
– Единственное, чего они о тебе не знают, mon ami, это что ты белый. Не думаю, что их это сильно волнует. Они хотят использовать тебя, Питер, воспользоваться твоим положением в обществе там, в Штатах. У тебя есть связи, о которых им не приходится даже мечтать, влияние, которого они жаждут.
– Но для чего?
– Питер, этот культ – очень старый. Когда-то у них была такая огромная власть, что и представить себе трудно. Они хотят получить ее назад. Так, по крайней мере, Древние говорят им в сновидениях. Я знаю это из первых рук, так как после Второго Обета мне они тоже снятся. Они думают, что ты можешь помочь им вернуть былую власть. Но и это еще не все… Я уверен, они никогда не позволят тебе обнародовать то, что на самом деле тут происходит. Может, какие-нибудь намеки, но не больше. Мне жаль тебя расстраивать, Питер, но это так. А теперь мне пора уходить. Хочу порыскать немного по лагерю. Я навещу тебя вечером, перед церемонией. А до тех пор подумай хорошенько о моих словах.
И он ушел, не дав Питеру ответить.
Питер честно поразмышлял о том, что ему сказали, но так и не сумел вообразить ничего, что заставило бы его передумать. Он уже слишком много вложил в дело. Да и что плохого могло из всего этого получиться? Вон Метеллий жив-здоров, ничего ужасного с ним, судя по всему, не случилось. С чего он вообще так перепугался?
В хижине стояла тьма, жаркая, как в парилке, хотя внизу, на равнине было еще жарче – и Питер сделал то, что делал всегда в такие дни: просто взял и уснул. И на сей раз ему приснился сон. Во сне Метеллий пришел к нему раньше, чем обещал. Он был какой-то встревоженный, сказал, что вспомнил что-то важное. Но чем настойчивее он умолял Питера скорее вставать и убираться вместе с ним из лагеря, тем глубже Питер погружался в сон. Странное это было видение… Чьи-то руки принялись трясти его, и оно тут же начало улетучиваться у Питера из памяти. Руки оказались черные. Питер первым делом подумал, что это Метеллий, однако оказалось, что нет. Жрец послал за ним двоих молчаливых стражей, как и обещал. Питер радостно последовал за ними и несказанно удивился, когда за распахнувшейся дверью увидал сгущающиеся сумерки – и ни единого следа Метеллия. Ну, наверное, его повели другой дорогой. На площади для церемоний уже начала собираться толпа. Метеллия ведь тоже должны посвящать сегодня, вспомнил Питер.
Улыбки так и сверкали кругом, приветствуя чужака, который вот-вот должен был стать одним из своих. Толпа расступилась и пропустила его в центр, где старый жрец во всей своей ритуальной красе уже поджидал его с глиняной чашей в руках, что-то распевая. Язык на креольский не походил. Неофит встретился с ним взглядом и улыбнулся, надеясь, что улыбка вышла почтительная, а сам продолжил украдкой стрелять глазами по сторонам в поисках Метеллия. Его нигде не было.
Странный язык, гортанный и рыкающий, но вместе с тем заковыристый, с журчащими акцентами, почти мелодичный, но какой-то отвратительный, скотский, действовал Питеру на нервы. Жрец уже почти орал; стало ясно, что он возглашает условия клятвы, Первого Обета Дамбалле. Питер понимал, что ему придется выполнить некие требования… каковы бы они ни были. Ох, если бы Метеллий был здесь, он бы помог ему разобраться… «Но кто тут, в конце концов, антрополог?» – подумал горестно Питер. Разбираться ему придется самому. В конце концов, игра уже начата, остается только продолжать в нее играть. Жрец замолчал и вопросительно поглядел на Питера, тот кивнул и поклонился в надежде, что этого хватит. Видимо, этого и вправду хватило, так как старик крикнул нечто непонятное конгрегации, которая так и взорвалась рукоплесканиями и восторженными воплями.
Женщины и дети кинулись вперед, украсить его шею цветочными гирляндами, а взмокший от пота лоб – лавровым венком. Некоторые обмакнули пальцы в чашу, которую держал старый жрец, и начертали у посвящаемого на лице кресты какой-то красной субстанцией. Когда все, кто хотел, воспользовались возможностью, жрец протянул чашу Питеру и на сей раз на чистом креольском велел сделать глоток. Тот уже был уверен, что в чаше жертвенная кровь. Ну, что ж, он не из тех, кто пугается или воротит нос от чужих обычаев и уж тем паче от чужой диеты. Настоящий антрополог не может себе такого позволить. Поэтому он взял чашу обеими руками и отхлебнул соленого напитка. Последовал еще один вал воплей. Надо думать, Первый Обет Дамбаллы успешно принят – остается только узнать, каким тайнам сподобила его инициация. Таково правило всех религий: посвященный в любой культ получает наставления в тайных истинах… хотя истины по-настоящему глубокие требуют дальнейших, более высоких степеней. Питер только надеялся, что получить их не займет у него слишком много времени. Надо только быть внимательным и подружиться как следует с этими милыми людьми. Это последнее особого труда уж точно не составит: подобно всем гаитянцам, с которыми он до сих пор встречался, эти были на редкость добродушны и дружелюбны.
Где-то начал бить барабан, и пульс у Питера невольно припустил, догоняя низкий рокочущий ритм. Жрец показал на одну из хижин, и до Питера дошло, что ритуал для него отнюдь не закончен. Он недоуменно поглядел на посвятителя, потом в ту сторону, куда ему указывали, пожал плечами и, решив, что играть так играть, пошел, куда велели. Барабанщики обступили крошечное строение кольцом. Шаман шел рядом, и Питер осмелился спросить его шепотом:
– О Дедушка, вы оказали мне великую честь. Но где же мой друг? Разве он не должен был тоже посвятиться сегодня?
Старейшина заулыбался и радостно закивал головой.
– Он и посвятился! Менее часа назад. Ты вскоре его увидишь. А теперь, сын мой, тебе предстоит узнать тайны жизни и смерти. Сначала жизни – и это Второй Обет Дамбаллы.
С этими словами он распахнул утлую дверь хижины. Питер шагнул внутрь и окинул тесное помещение быстрым взглядом. Места хватало только на тюфяк на полу, и он был уже занят.
Черная ее плоть мерцала в свете тянувшихся рядами свечей. Само воплощение гаитянской женственности, жизненной силы этой земли, приглашающе раскинулось перед ним. Пульс у Питера и так уже бился молотом, гормоны плясали в крови. Барабаны снаружи додумали все за него, хотя думать в подобной ситуации было решительно не о чем. Женщина была нага, и через мгновение он последовал ее примеру. Вгромоздившись на нее и отринув – нетерпеливо, как и она – все предварительные танцы, он, наконец, увидал ее лицо и так и раскрыл рот. Это была та самая женщина, у хижины которой они с Метеллием оставили машину. Глаза ее сверкали белками, взгляд оказался совершенно пуст, затерявшись где-то в пучине экстаза, столь же духовного, сколь и сексуального. Женщина пребывала в трансе одержимости, без сомнения, полагая себя лошадкой, сосудом любовной лоа, Эрзули. Никогда, никогда в жизни ему и в голову не приходило, что он когда-нибудь окажется в постели с человеком в таком состоянии. Он ринулся в нее тараном, колотясь, как безумный. Она была как вулкан, как необъезженный мустанг. Он сдерживался, собирался с силой и снова нырял домой, пока не взорвался всем, что в нем было. О, что за чудо!
Едва переводя дух, он скатился с женщины, чувствуя, как ее гибкие члены содрогаются, извиваются, постепенно утихая. Она так ничего и не сказала. И в этом безмолвии после любви Питер расслышал низкие ноты песнопения. Мужские голоса гудели сбоку от хижины, повторяя призыв:
– Ниггурат!
– Йиг! – отвечали им женские.
Интересно, что конкретно это значит? Общий смысл был ему ясен: он только что поучаствовал в святом ритуале старше Баала и Ашеры[26], в иерогамии – священном браке богини и бога, земли и неба. Такие обряды служили магической гарантией земного плодородия. И тут до Питера дошло, что он только что выставил на обозрение свое пятнистое тело, свою недокрашенную кожу! Впрочем, его любовнице было не до того: она не замечала ровным счетом ничего – не заметила и этого.
Он едва успел вытереться и надеть одежду обратно, как старый жрец распахнул дверь: в проем сразу всунулось столько хохочущих, жадных, веселых лиц, сколько тот физически смог вместить. Старик поманил его наружу. Парочка пожилых женщин тут же просочилась внутрь, чтобы позаботиться об одержимой, которая только-только начала всплывать из глубин транса. Питер качался от недавнего экстаза и изнеможения, но отдыха ему никто не обещал. Приветливые руки уже заталкивали его в другую хижину, меньше размером, изо всех углов которой курился дым. Видимо, это парилка – частый элемент ритуалов перехода, распространенный по всему миру, пронеслась у него смутная мысль. Такие встречаются в дописьменных культурах самых разных частей света: в Сибири, Меланезии, у жителей амазонских джунглей. Откуда-то из затуманенных глубин мозга Питеру помахала ручкой мысль, что хижина с дымом символизирует чрево второго рождения – рождения на высшем плане. Это испытание, призванное посредством кислородного голодания и сенсорной депривации довести человека до галлюцинаций, в которых обычно фигурируют традиционные тотемные изображения племени. Интересно, а что увидит он – если вообще что-то увидит, конечно?
Спотыкаясь то ли от чрезмрного рвения эскорта, то ли от последствий головокружения, Питер рухнул на пол в озаренной огнем хижине. Земля оказалась ровной, но совсем не твердой. Свет моргал; Питеру неистово захотелось спать. Когда еще он столько спал? Питер не помнил. Он все куда-то плыл, плыл. Наверное, он опять уснул, потому что теперь ему чудилась шеренга фигур, сидящих или склоняющихся над ним – слишком длинная для такой маленькой хижины. Кажется, он должен их знать… Что-то знакомое в них определенно было. А потом он вспомнил эти лица, явившиеся ему в толпе прошлой ночью, на ритуале, который он практически позабыл. Может, теперь он вспомнит… когда эти хунганы, эти бокоры, татуированные и клейменые колдуны, снова явились ему. Отблеск огня вытворял с их обликом странные вещи, но страннее всего казались Питеру их тени – решительно не совпадавшие с телами, которые их отбрасывали. Колдун в середине, с кольцами в ушах и жуткими шрамами на шее… нависавшая над ним тень напомнила Питеру Великого Тулу с когтями на извивающихся щупальцах. У остальных тени были другие, но такие же неуместные. О, да – Древние… Он начал вспоминать.
Их предводитель открыл глаза, и Питер не увидел ни радужки, ни зрачка – одна только сияющая зелень, словно пронзенная лучами солнца морская вода над головой у ныряльщика. Старец заговорил. Казалось, он говорил уже какое-то время, будто кто-то включил радио на середине передачи. Слова были обращены определенно к нему, Питеру.
– …нам известно, что ты взыскуешь знания. Все истинные искатели рано или поздно приходят к нам, как пришел и ты. Здесь они причащаются высшему пути, пути в прошлое – которое может настать снова. Но ты – избранный среди них, юный сэр. Древние недаром послали тебя сюда. Ты поможешь нам вернуть прошлое Древних Владык…
В голове у Питера пронеслось, что, наверное, стоит принять позу, выражающую уважение или даже преклонение перед этими святыми старейшинами общины, но внутри у него было пусто, а голова с трудом понимала, что вообще ему говорят. Он валялся перед ними, словно кукла, и надеялся только, что их это не обидит.
– Мы знаем, что ты хочешь выведать наши тайны, дабы выдать их внешнему миру и тем прославиться. Этого мы тебе не позволим. Но славу свою ты получишь. Ты напишешь книгу – мы скажем, что тебе можно рассказать людям. Они даже смогут проверить твои слова. И когда прославишься ты – прославимся и мы. И тогда мы пошлем к тебе гонца еще кое с чем, что ты сможешь дать миру. Этот мир любит снадобья!
Шорох смеха заплясал между стен.
– Тогда, два или три года спустя, ты будешь уже всемирно известным профессором, и ты скажешь всем, что нашел у нас кое-что удивительное. Ты скажешь, что знахари старого острова не так уж глупы, что им ведомы тайны джунглей и того, что произрастает в них. Они знают порошки, умеющие возвышать дух, и увеличивать мужество, и сгонять жир с белых задниц. Они и правда все это могут – и многое другое, чего не покажут ваши химические тесты. Так ты, сын мой, научишь их сердца любить прошлое Древних Владык. И в тот день вы, белые, запоете, как поем мы: то не мертво, что вечность охраняет; смерть вместе с вечностью порою умирает.
Питер не видел, как они ушли. Возможно, он успел потерять сознание, прямо во сне. Очнулся он с уверенностью, что его тайком опоили, еще даже до того, как запихали в парную. Теперь от всего этого дыма он кашлял – кашель его, собственно, и пробудил. Было в испарениях что-то такое, от чего пазухи немилосердно жгло, а мозгу никак не удавалось проснуться. Но это, конечно, была часть испытания, так что он особенно и не волновался. А вот куда подевался Метеллий, действительно интересно! Может, он где-то в лагере, проходит какие-то похожие испытания? Ой, вот же он! И все-таки Питер от неожиданности содрогнулся, хоть и обрадовался приходу друга.
– Ах, Питер! Не надо мне было тебя сюда приводить!
Метеллий парил над ним – должно быть, встал на колени, чтобы заглянуть во взмокшее лицо товарища по посвящению. Питер улыбнулся и протянул руку, чтобы ободряюще похлопать его по плечу, но почему-то не достал.
– Нет-нет, Мет, у нас все хорошо! Все гораздо лучше, чем я думал… Ну и шрам же у тебя вот тут… Как тебя…
Его черная физиономия была странно расплывчатой и серой от дыма. Метеллий подождал, пока Питер сгонит в одно стадо упорно разбегавшиеся мысли.
– Они сказали, ты прошел ритуал… испытание… тест… что-там-еще… Ох, дай мне минутку…
– Да, mon ami, я принял Третий Обет Дамбаллы. На этом этапе человек полностью отдает себя Древним.
– А Второй обет совсем недурен, скажу я тебе… У меня еще ни с кем не было такого…
– А что же Первый, друг мой? Ты отведал питье? Тебе дали соленую чашу?
– Да знаю я, знаю… Там была кровь. Я так и думал – совершенно обычный элемент архаических ритуалов. Прирезали какого-нибудь козла…
– Козла того звали Метеллий, – ответствовал черный человек, сомкнув уста и раскрыв новые – поперек горла! – в жуткой ухмылке.
– Это не шрам, друг мой. Теперь моя кровь – в тебе. Поэтому я и смог прийти к тебе вот так, пока разум твой открыт внешним влияниям. У меня мало времени. А у тебя – и того меньше.
Питер стряхнул остатки оцепенения и рывком поднял себя в сидячее положение. Широко распахнутыми глазами он уставился в лицо мертвого друга – но чем больше прояснялось у него в голове, тем туманнее становились черты Метеллия.
– Нет, Метеллий, я…
Слова пришли из ниоткуда, как тихий шорох.
– Ты теперь не смеешь противиться Древним и не можешь уйти без их позволения. Не смей открыто бунтовать против них. Но не смей и служить им. Я скоро…
И он пропал.
Как следует проснуться у Питера так и не вышло. В голове гудело безо всяких барабанов. Дым почти рассеялся, по каковой причине, рассудил Питер, у него и прочистилось в мозгах. Он попробовал прилечь на минутку, но от этого голова разболелась только еще хуже. Тогда он перекатился на четвереньки, чтобы встать… но по дороге наткнулся на лежащее навзничь тело и в ужасе отпрянул. Воспоминания перемешались – ему показалось, что это женщина, с которой он был несколько часов назад… Но нет, это была не она.
Питер так и отпрыгнул от Метеллия, над которым, казалось, тщательно поработал мясник. Горлом он явно не ограничился – он с него просто начал. Наяву Метеллий выглядел совсем не так, как у Питера во сне… но в этом проклятом месте не было никакого смысла гадать, где сон, где явь и даже в чем разница между ними. Все здесь было одинаково реально. Питер распахнул хлипкую дверь и, шатаясь, побрел наружу. Полукруг старейшин культа, а с ними знакомая пара бугаев и несколько совсем маленьких мальчиков уже ждали нового посвященного. Его эффектный выход застал одних врасплох и разбудил других. Дети разбежались, утратив на время интерес к чужаку. Несколько человек встали и придвинулись как-то уж слишком близко, тяжело, словно бы угрожающе дыша, образуя вокруг него сплошную стену. Странно у них тут встречают гостей и новых братьев по вере! Зато они явно читали его мысли, как раскрытую книгу. Старые привязанности против новых? Самое время отринуть прошлое и броситься в объятия будущего – и чем дольше они продержат его здесь, у себя, вдали от дома, от семьи и коллег, тем легче свершится переход.
На их вежливые вопросы о том, как он себя чувствует, Питер дал такие же вежливые, пустые ответы. Он должен был увидеть труп Метеллия, это понятно – часть ритуального опыта, «тайны жизни и смерти». Ну, и, конечно, предупреждение: такое может случиться и с ним, усомнись он только. Попробуй он выразить горе и гнев по поводу ритуального убийства друга, и подозрений не избежать. Нет, лучше уж пусть и дальше думают, что как всякий белый человек (о да, они знают!) он видел в Метеллии просто чернокожего слугу, наемника, расходный материал и не более того.
– Я… видел великие вещи. Слышал великие слова… Слова судьбы…
Старейшины заулыбались и переглянулись. Питер знал, что нечто подобное они и ожидали услышать.
До самого вечера он слушал и записывал: старики выполнили данное ему обещание – инициация означала раскрытие тайн. Питер наелся преданиями культа по самые уши. Впрочем, история общины оказалась крайне скудной. От года к году жизнь в их крошечном мирке почти не менялась – да она и из века в век оставалась той же самой, не считая разве что введения рабства. Но даже оно никак не повлияло на веру, которая благополучно выжила и в рабских кварталах, пусть даже жертвоприношения временно прекратились. Время от времени, в определенные ночи, рабам удавалось улизнуть на болота. По большей части предания общины касались Древних Владык, старых богов – Питер этого и ожидал, но теперь он сидел зачарованный, охваченный каким-то болезненным трансом, а перед его внутренним взором разворачивались дряхлые сказки и причудливые теогонии, подобных которым он при всем своем богатом научном опыте до сих пор не встречал. Это была настоящая сокровищница подлинной и древней традиции – куда больше, чем он мечтал. Даже отправляясь на Гаити в надежде обнаружить какой-нибудь непочатый клад, он ничего такого не ожидал. Старейшины дали понять, что большую часть полученной информации ему разрешат поведать миру в форме ученых монографий. Да, они решили пожертвовать традиционной секретностью, но это было необходимо, дабы замостить путь Древним – дабы их прошлое могло вернуться в мир.
Люди должны знать своих Хозяев, чтобы должным образом приветствовать их, когда настанет великий день. Были и более великие тайны, к которым две полученные им степени посвящения пока не допускали, и о них он спрашивать не дерзнул – да и старейшины вряд ли разрешили бы ему вынести это знание с острова. Впрочем, Питер отнюдь не горел желанием поскорее продвинуться дальше в мистериях культа, памятуя, какое знание обрел на пике инициации злосчастный Метеллий. Последние слова, сказанные тенью в видении, никак не шли у него из головы. Друг оставил ему непростую задачу. Питер страшился выразить хоть малейшее сопротивление или сомнение в отведенной ему в этом заговоре великой роли, но и не мог себе позволить стать их сообщником, их марионеткой. Он ждал словно бы сигнала… сигнала, который не придет уже никогда – ибо обещавший его был мертв. Шли дни и недели, а наставления все продолжались. Питер и не подозревал, что где-то в мире еще существует подобное религиозное богатство. Сколь же древней должна быть мифология, чтобы стать такой сложной, такой всеохватной, такой изобилующей деталями! Выяснить точный возраст традиции не представлялось никакой возможности. Предания возводили ее происхождение, конечно, к самим Древним, и утверждали, что они явились на эту планету из каких-то совершенно иных миров. Здесь-то история и тонула в трясине мифа, чтобы никогда уже не вынырнуть на поверхность. Кажется, он снова начинал мыслить как антрополог. Сидя вечерами у костра и проглядывая свои записи, он ловил себя на том, что ищет методы и приемы, способные выстроить запутанные символы и сюжеты в некую стройную картину. Да сам Леви-Стросс[27] и тот спасовал бы перед этими прожженными мифотворцами! Ясно, по крайней мере, одно: если ему когда-нибудь удастся выбраться отсюда живым и невредимым, материалов у него хватит не на одну монографию, а на целую серию, да на такую, что по сравнению с ней знаменитый Виктор Тернер[28] с его ндембу[29] будет выглядеть как ребенок, описавший в дневничке свой день рождения!
Ох, если бы только на этом можно было закончить… но словно траурная сень висела над ним. Питер понимал, что вряд ли старейшины станут противиться его возвращению во внешний мир (который он некогда звал «реальным»… но чем теперь стала реальность?) – раз уж именно от этого и зависит успех их плана. Но сколько еще ужасов выпадет ему на долю, прежде чем они отпустят его? Там, дома, ему всегда удавалось благополучно выкинуть эту часть полевой работы антрополога из головы. Культурный релятивизм и все такое прочее: кто он, сын Запада, такой, чтобы судить древние обычаи? Как раз сегодня ночью должен был снова состояться ритуал с призыванием Древних, чтобы верующие могли хотя бы чуть-чуть причаститься экстазу прошлого, которое, благодаря их новому брату, вот-вот грозило вернуться. Питер знал, что он не сможет, просто не сможет еще раз смотреть, как несчастных жертв выбирают из толпы, чтобы они разорвали друг друга в кровавой мясорубке, предшествующей церемонии. О, да, он слишком хорошо вспомнил ту, самую первую ночь.
В кругу у него было почетное место рядом с шаманами и бокорами. Позади собралась кучка детей. Ему даже думать не хотелось о том, что они увидят сегодня… хотя они, должно быть, успели привыкнуть к подобным зрелищам. Питер стал любимцем детишек, особенно после того, как с его кожи принялась сходить краска, и с каждым днем та становилась все светлее и светлее, приблизившись уже к своему первоначальному тону. Детей это совершенно околдовало – они так и ходили за ним повсюду стайкой утят.
Но вот час пробил, и один из жрецов, как Питер и боялся, приступил к традиционным призываниям. Интересно, отметил он про себя: притворяться перед чужаками нужды больше не было, но ритуал все равно основывался на древней формуле, перечислявшей имена богов водуна, под чьими личинами выступали жуткие сущности, которым на самом деле служила община. Таково свойство традиций – они выживают, несмотря ни на что, даже когда всякое рациональное обоснование уже давно покинуло их. Легба, Огун, Эрзули… звучало в ночи. Дамбалла, Самди…
Как и в прошлый раз, энтузиазм толпы рос на глазах. Однако… что-то было не так. Что-то творилось там, за границами круга. Ропот удивления прокатился по людскому морю. Питер вытянул шею, пытаясь хоть что-то разглядеть за головами старейшин. Что бы это ни было, оно уже охватило весь внешний периметр. Питер инстинктивно обернулся к своим юным аколитам, собравшимся позади, и на самом чистом креольском приказал убираться отсюда и идти по домам, а лучше – вон из деревни, быстро!
Смятение нарастало. Слышались какие-то удары, как будто тела падали наземь или сталкивались в битве. Начался бунт? Кто-то уже впал в одержимость? Поднялся крик – и в нем были не просто страх или боль. Нет, вопли священного ужаса разорвали похожую на влажную черную вату лесную ночь. Питер уже вскочил на ноги и заметался в толпе, не понимая, что ему делать, куда бежать. Если началась война, какую сторону ему принять? Как вражеский отряд сумел подобраться к деревне незамеченным? Он уже скользил в лужах крови на утоптанной земле… а через мгновение споткнулся о первое тело. Кровавая жатва неслась над кострами. Еще мгновение, и его жизнь тоже оборвется под косой жнеца. Фонари дико раскачивались и гасли один за другим. Факелы падали… некоторыми кто-то размахивал во тьме, как оружием, но явно без особого успеха.
Глаза у Питера щипало от пота. Внезапно посреди побоища взгляд его выхватил нечто невозможное, невероятное – Метеллий был там, зияя багровой улыбкой на горле. Впрочем, ужасная рана ничуть не мешала ему управляться с мачете. Он рубил направо и налево, не ведая усталости живых. Мертвый, он сам стал жнецом… И он трудился не один. Словно бригада рабочих, рубящих джунгли, чтобы расчистить поле под посевы или просеку под новое шоссе, десятки фигур вставали за ним, вооруженные ножами, дубинами и мачете – в полном безмолвии, с лицами, неразличимыми в этом слабом свете. Впрочем, ближайший из гостей самым неуместным образом щеголял в цилиндре и черных очках и сложение имел костлявое – и не заподозришь, что он способен наносить такие удары!
Захваченные врасплох колдуны тем временем начали приходить в себя. Никакого видимого оружия у них не было, но руками они размахивали точно так, будто сжимали в них смертоносные булавы и мечи. Питер знал, что бокоры принялись колдовать. Выглядело это как довольно бездарная пантомима, но судя по тому, что он слышал – или думал, что слышит, – что-то все-таки происходило. До него доносилось эхо взрывов, хотя самих взрывов видно не было, – будто следующие за извержением незримого вулкана подземные толчки. Что-то творилось на плане, которого он видеть не мог. Впрочем, что бы это ни было, на захватчиков это особого впечатления не произвело. Один или двое исчезли – не пали, поверженные, а просто растворились. Возможно, они ушли по собственной воле, ибо битва близилась к концу. В ярости Метеллиева возмездия под мечами воинства духов, татуированные головы так и летали по деревне – будто кокосовые орехи, сорванные ураганом. Шел настоящий ливень из крови, так что Питеру даже пришлось отплевываться – но она все равно заливалась ему и в нос и в рот. Алый туман сгустился над поляной; Питер задыхался и кашлял, думая, что у него вот-вот разорвутся легкие. Кое-как он добрался до края прогалины – и обнаружил там все те же перепуганные, но исполненные любопытства юные мордочки, следившие за резней. Их глазенки стали еще больше – если такое вообще бывает – когда Питер приблизился к ним: да, зрелище вышло дикое и ужасное, он и сам это понимал. Но они продолжали смотреть ему за спину, даже когда он подошел вплотную… Он обернулся. Сзади стоял Метеллий. Он посмотрел на свой истекающий кровью мачете и отшвырнул его прочь, в лес, а потом протянул руку Питеру – но когда тот кинулся было к нему, отогнал его нетерпеливым жестом. Он что-то сказал, но из уст его не вышло ни звука, а прочесть по губам Питер не сумел. Впрочем, и так было ясно: Метеллий попрощался.
А потом на поляне никого не стало.
По ушам Питеру ударила внезапная и полная тишина. Никто из взрослых членов общины не выжил. Победителей их тоже нигде не было видно. Питер знал, куда они ушли: туда же, куда и Метеллий. Истинные лоа свершили свое возмездие, и его друг причастился их благородной битве.
Что до него самого, Питер знал, что ему делать. Он соберет осиротевших деревенских детишек и поведет их назад, долгой дорогой вниз, с гор, к людям. Сколько-то человек влезет к нему в джип; остальных заберут власти. Остается надеяться, что все они найдут себе новый дом… впрочем, все для них будет лучше, чем это.
Тут он остановился и бросил взгляд в сторону хижины, где провел эти дни. Все его бумаги остались там, и даже несколько магнитофонных записей. Вся его ненаписанная пока книга была там. Вся его карьера. Но кто теперь ему поверит? Мифы и ритуалы маленькой уединенной общины – вырезанной ныне под корень? В битве, где выжил один только он? И как это все будет выглядеть?
Питер повернулся к деревне спиной, пересчитал детей и двинулся в сторону тропы.
Дуэйн Раймел. Драгоценности Шарлотты
– Возможно, рассказ об этих событиях, что произошли в трухлявом старом городишке, вызовет у вас недоверие, – сказал Константин Теунис, вольготно раскинувшись в кресле. – Но мне они все равно кажутся небезынтересными.
Мы расположились в его изысканной гостиной, освещенной уютно потрескивающим камином. Все светильники уже погасили; холодный осенний ветер пугающе завывал над крышей, обещая скорый снегопад. Но никакие мерцающие тени и суровость погоды не могли сравниться по силе производимого впечатления с самим Теунисом. Попыхивая трубкой, он неотрывно глядел на ревущее в камине пламя, глубоко уйдя в свои мысли. Он позвал меня сегодня специально, чтобы поведать какую-то историю – а какую, так до сих пор и не объяснил.
– Вы помните мои июльские каникулы, Сингл?
– Разумеется, – ответил я, припоминая, что старый городок, о котором он говорит – это наверняка Хэмпдон, где он гостил неделю в поисках уединения и древностей заодно.
– Там со мной случилась весьма примечательная цепочка событий, о которой я молчал все это время. Двое федеральных агентов, шериф и я сам – вот и все, кто занимался этим делом. Они по долгу службы, я – из чистого любопытства. И, представьте себе, мы обнаружили… Но я вынужден вернуться немного назад.
Как вам прекрасно известно, Хэмпдон представляет собой самую очаровательную смесь старого и нового – я отправился туда в том числе и по этой причине. Это совершенно уединенное место, зажатое со всех сторон негостеприимными горами и населенное аборигенами, которые верят любой сплетне, какая только попадает им в уши. Чужаков они не особенно любят, так что мое прибытие в местную гостиницу не доставило удовольствия ни мне, ни им. Но я твердо задался целью изучить некоторые образцы резьбы по камню, встречающиеся поблизости, и немного полазить по местным пещерам. Целых пять дней я превосходно проводил время, в изобилии поглощая добрый горный воздух, исследуя красоты ландшафта и заодно впитывая отборные деревенские сплетни. Буквально на каждом углу меня ждали горячие слухи, приглушенные шепотки, зловещие тайны, отнимавшие, казалось, все время местных бездельников и острословов. Бывало и так, что попытки убедить некоторых из них довериться мне успехом не увенчивались – скажем прямо, иногда местные жители чурались самого моего присутствия. Хозяин постоялого двора был особенно угрюм и откровенно плевал на то, подают ли мне вовремя еду.
С какого-то момента стало ясно, что все это нескончаемое бормотание вращается вокруг неких баснословных камней, именуемых «драгоценностями Шарлотты». Ничего более конкретного узнать, впрочем, не удалось. Было очень славно наблюдать, как собравшиеся группкой селяне тотчас же замолкали, стоило мне подойти поближе. Конечно, загадочные камни все больше и больше занимали мое воображение; я жаждал хоть с кем-нибудь поделиться своими догадками. Темные пещеры неуклонно теряли в привлекательности, уступая пальму первенства бессвязной болтовне жалкой городской братии.
Вообразите мое удивление, когда на шестой день, войдя к себе в отель, я увидал в холле двух ответственного вида джентльменов, которых ранее неоднократно встречал в Кройдене. Это и были те агенты, о которых я вам упоминал. Мы обменялись приветствиями. Казалось, они не меньше моего рады встретить знакомого в этом захолустье. Автомобиль свой они припарковали на задах – вот почему, подходя к отелю, я его не заметил. К счастью, комнату они получили как раз рядом с моей.
Мы немедленно нашли общий язык – разумеется, насколько позволял их род деятельности. Для такой деревеньки двое – это уже серьезная сила; я понял, что назревает облава или что-то не менее важное. О цели их визита не знал никто, кроме окружного шерифа, и информация эта ни в коем случае не должна просочиться наружу, так они сказали.
Обоим было около сорока; общался со мной в основном тот, что постарше, Сарджент. Его компаньон, Робертс, был не такой разговорчивый. Одеты они были в гражданское, и я сомневаюсь, что хоть кто-то из деревенских заподозрил, кто они такие и зачем явились сюда. Я сам узнал об их миссии совершенно случайно, и случай этот привел к череде самых необычайных событий из тех, в которые я в своей жизни влипал. Но я снова забегаю вперед.
В тот день за ужином эти двое были странно тихи. За тем же столиком восседал неотесанного облика индивидуум; я подумал, что это, должно быть, и есть шериф. Я сидел у себя в уголку, неторопливо ковыряясь в поданной мне взъерошенным официантом тарелке. Они ничего не заказывали. В комнате царила странная напряженность. Прочие посетители занимались своими делами. Через ближайшее открытое окно неслось отдаленное кваканье лягушек. Оба агента были обращены ко мне в профиль; шериф смотрел ровно в противоположном направлении. Все эти детали я привожу вам исключительно затем, чтобы вы хорошенько представили себе обстановку. Как я уже сказал, лягушки вопили, и воздух был тяжелый, будто от предчувствия чего-то непонятного, но зловещего.
Внезапно из ниоткуда раздался удар колокола, сладостный, как золотой сентябрьский полдень. Комнату мгновенно заполнила волна звука, нежного и вместе с тем гибельного, звеневшего в холодном горном воздухе, словно голоса нимф. По коже у меня побежали мурашки. В этой эльфийской музыке отчетливо ощущалось нечто непостижимое и запретное. Воздух на мгновение пронизала осязаемая, вибрирующая сила – зыбкая, словно радуга, но ошеломительная и жуткая, ибо совершенно неземная. Сказать, откуда она исходит, было невозможно. Ее одновременно источали темные холмы и сама комната. Я сидел, как громом пораженный; пальцы мои, дрожа, выстукивали по крышке стола. На местных жителей звон подействовал не менее удивительно: каждый замер на месте, зачарованно прислушиваясь. Шериф вскочил на ноги, ругаясь вполголоса. На лицах обоих маршалов запечатлелось благоговейное изумление – мое наверняка отражало то же самое чувство.
Бог мой, Сингл, я до сих пор слышу этот звон! Пленительное эхо, внезапное, захватывающее дух, невыразимо злое и нереальное… Я просто ничего не понимал. Люди вокруг меня, казалось, узнали звук – и устрашились его. Шериф схватил шляпу и поспешно выбежал из едва освещенной комнаты, а вслед за ним и агенты, бросив по дороге взгляд в открытое окно. Я услышал, как они обежали дом, раскочегарили свой мощный автомобиль и с ревом унеслись в ночь. Мне оставалось только гадать, была ли цель их вояжа как-то связана со зловещей, чарующей музыкой. Я вышел вон из столовой, не в силах выкинуть ее из головы. Нет нужды описывать ужас и панику, запечатлевшиеся на лицах всех, кто был в этой комнате. Было что-то кошмарное в том, какой эффект произвел на них этот единственный колокольный удар – лишь смутно отразившийся в моей собственной тревоге.
Той ночью меня разбудили голоса. Странный звон заполнял все мои мысли перед отходом ко сну, так что спал я неглубоко. Голоса доносились из соседней комнаты; из-за тонких стен слова было слышно очень отчетливо, хотя, уверяю вас, подслушивать я совершенно не собирался. Кровать моя стояла недалеко от стены. Я протер глаза и увидел платок лунного света на полу – а потом прислушался к разговору, который вели трое моих знакомцев, так поспешно и таинственно покинувших трактир сегодня вечером.
Наконец-то выяснилось, что они выслеживали двоих подозрительных типов, тайно прибывших в Хэмпдон накануне. Я еще подумал, странно, что я никого не заметил, но, как вам известно, местные жители мне ничего не рассказывали. Я ждал, что они скажут что-нибудь о таинственном одиноком звоне, и, наконец, какое-то время спустя беседа и вправду повернула в этом направлении. Мне было ужасно любопытно, почему они так долго с этим тянули. К вящему моему удивлению, оба чужака ничего о звуке не знали; их он поставил в тупик точно так же, как и меня. Затаив дыхание, я слушал, как они забрасывали шерифа вопросами, он же, казалось, был не особенно склонен поддерживать тему. Впрочем, после долгой интерлюдии парень рассказал весьма необычную историю. Вот как я ее запомнил:
…давным-давно, когда Хэмпдон был просто деревней, некий странный человек явился сюда – один бог знает, откуда – со своей дочерью по имени Шарлотта, и построил себе в холмах дом. Никто не мог сказать, как давно это было, но он и сейчас все еще жил в нем – теперь уже совсем старик. Люди давно уже перестали ходить мимо этого проклятого места, где ветхая хижина скорчилась под сенью нависавших над нею утесов. Его красавица-дочь, Шарлотта, упала с этой кручи и разбилась насмерть – так гласила легенда, – и старый Крут так больше и не оправился от потрясения.
Одни говорили, что он выстроил огромную гробницу где-то в холмах и положил в ней свое возлюбленное дитя; другие – что он увез дочь далеко, в другие края. Большинство, впрочем, верило в тайную гробницу. Года через два после смерти девушки поползли слухи, что в ее могиле захоронены драгоценности неисчислимой стоимости. Никто, разумеется, не знал, какие именно: кто говорил, бриллианты, кто – жемчуга, а кто – опалы. Среди молодежи зрели планы напасть на Крута, отыскать тайный склеп и разграбить эти баснословные сокровища. Дело ясное, что дело темное, но горожане годами только об этом и говорили – особенно после того, как произошел один инцидент.
Некая группа молодых людей числом пять решила отправиться в экспедицию в холмы и найти таинственное погребение. Было это почти двадцать лет назад; к тому времени разговоры о загадочных драгоценностях уже вызывали разве что смех. Никто не потрудился ни о чем спросить старого Крута – да о нем даже и не вспомнили. Мародеры вышли в путь утром и появились только поздним вечером. Они вели какие-то бессвязные речи о том, что нашли нужное место, но войти испугались – по неким смутным, неясным причинам. Никто не сумел выжать из этой пятерки ничего конкретного. Они не спешили распространяться о событиях этого дня, так что о таинственной могиле горожане, считай, так ничего и не узнали.
На следующий день они ушли в лихорадочной спешке, не позаботившись никому сказать, где именно располагается их находка. Горожане прождали еще целый день, все еще вежливо дивясь безрассудству молодежи. Однако в ту ночь никто из парней домой не пришел. И не только в ту – они больше никогда не вернулись! Ни следа их не было найдено! Десятки партий уходили на поиски в горы, но никто так и не раскрыл тайну пропавшей пятерки.
Больше люди не смеялись, когда кто-нибудь заводил речь о драгоценностях Шарлотты, как с тех пор стали называть клад. Некоторые вообще сомневались, что он существует – как, например, сам рассказчик-шериф. Однако есть еще одна деталь во всей этой истории – самая странная и значительная из всех. Той ночью, когда пятерку ожидали назад – часов в восемь вечера, чтобы быть точным, – случилось нечто необычайное. Откуда-то из холмов донесся блаженный, медовый звон! А сегодня эта проклятая музыка случилась снова – в первый раз с тех самых пор, – и все кинулись считать своих родных… боясь кого-нибудь недосчитаться.
Но и это еще не все. Где-то с месяц назад два потрепанных гражданина явились в Хэмпдон и поселились в полуразрушенной хижине неподалеку от дома Крута. Шерифу они с самого начала не понравились, но повесить на них было нечего, так что он просто ждал своего часа. В какой-то момент он увидал, как они входят к старику в дом, что само по себе было странно, так как чужих тот не жаловал. Шериф схоронился в кустах, и вскоре они вышли наружу с самой черной ненавистью и гневом на лицах. Вслед им неслись ругательства хозяина, приказывавшего проваливать с его земли вместе со своим гнусным предложением. Когда они уже немного отошли, Крут вышел на крыльцо и заорал так громко, что шериф в точности расслышал его слова:
– …и если вы еще раз пойдете баловаться с теми камнями, колокол прозвонит вновь!
Шериф не знал, нашли ли чужаки какой-то смысл в этой загадочной фразе, но, судя по их лицам, таки нашли. Это было всего два дня назад. Затем прибыли маршалы…
– Стоит ли удивляться, что я подскочил на месте и тут же кинулся проверять хижину тех парней? – заключил шериф. – А сегодня, вы слышали, звон раздался снова…
Спал я скверно, а поутру решил очистить совесть. За завтраком я признался маршалам в том, что услышал ночью. Поначалу они выразили неудовольствие, но потом даже обрадовались, что могут довериться мне. Вся история произвела на них не меньшее впечатление, чем на меня. Они полагали, что есть нечто зловещее в этих краях и в том, что здесь происходит – эта мысль беспокоила и меня. Мы как раз обсуждали события, когда прибыл шериф, и меня представили человеку, чей рассказ я слушал ночью. Стоит только познакомиться с ним поближе, как тут же понимаешь, насколько это любопытная личность. Сарджент и Робертс объяснили, что я интересуюсь всем этим делом и случайно подслушал вчерашнюю историю. Впрочем, шериф был более чем рад заполучить еще одного человека к себе в команду.
Мы немедленно отправились домой к Круту, чтобы расследовать пропажу двоих чужаков. Меня больше всего интересовал таинственный звук – как, полагаю, и шерифа. Но ситуация вышла такая запутанная, что никто из нас не имел ни малейшего понятия, с чего начинать. Пока машина, фырча, катилась вдоль по дороге к ветхому строению, я случайно бросил взгляд на шерифа. Вместо того, чтобы смотреть вперед, на быстро приближающуюся цель поездки, он жадно рыскал взглядом по неприступным лесистым склонам. Бедняга ни словом не упомянул, что среди пропавших пятерых был его родной брат…
Мы высадились у полуразвалившейся хибары. Единственным признаком жизни была тоненькая ленточка дыма из покосившейся трубы. Высоко вверху над домом склонялись силуэты темных холмов; повсюду виднелись зазубренные выступы черной скальной породы. Кругом стояли высоченные, мшистые сосны, укутывая хижину плотным одеялом вечного сумрака.
Мы взошли на крыльцо, и шериф забарабанил в дверь. Несколько мгновений изнутри не было слышно ни звука, затем раздались прихрамывающие шаги, и дверь со скрипом отворилась. Древний морщинистый лик одарил нас свирепым взглядом. Глаза у мистера Крута были глубоко запавшие и налитые кровью, а рукой он из последних сил опирался на дверной косяк.
– Что вам надо? – прошептал он едва слышно; его покрытые пятнами пальцы мертвой хваткой цеплялись за палку.
Вперед выступил Сарджент.
– Скажите, вы сегодня утром видели ваших соседей?
– Моих соседей! – прокаркал старик. – Эти чертовы воры мне не соседи! Я не видал их и не имею ни малейшего желания!
– Почему это? – поинтересовался Сарджент.
– Почему? – захрипел Крут. – Да потому что они допытывались, как им проникнуть в гробницу моей доченьки, моей кровиночки, чтобы добраться до ее камней!
Его голос с каждым словом слабел и под конец стих совсем. И вдруг:
– Но я сказал им! Сказал! И прошлой… ночью… прошлой ночью…, – ему едва хватало дыхания. – Колокол… прозвонил… вновь! Золотой колокол! Моя…
– Скорее! Идемте! – воскликнул шериф.
Мы повернули к машине, но старик так и остался стоять в проеме, бормоча что-то сам себе. Я едва расслышал его последние слова, но никогда их не забуду.
– …и скоро прозвонит опять! Опять… потому что… я хорошо знаю дорогу… Через древние врата… и дальше… туда… где в Йите моей Шарлотте… уже ничего не грозит… и я пройду…
Остальное потонуло в реве мотора – о, как мне жаль, что мы не дослушали! Сказанное могло оказаться ключом ко всей загадке… Когда развалюха скрылась из виду за поворотом, я ощутил укол странной печали. Шериф сосредоточенно глядел на вьющуюся впереди дорогу. Конечно, он услышал…
Мы на минутку остановились у второй хижины, где обитали двое бродяг, но нашли ее абсолютно пустой, хотя и со знаками недавнего присутствия человека. После визита к старику Круту дом выглядел каким-то слишком пустым и мрачным, так что мы поспешно покинули его. Автомобиль припустил дальше по извилистой дороге, уносясь все дальше от его гнилых стен (от этого я, признаюсь, испытывал немалое облегчение), будто намекавших на что-то совсем чуждое и зловещее, к чему даже и близко-то подходить не стоит. Странным образом я чувствовал, что прежние жильцы уже никогда не вернутся в это презренное жилище.
Тем же вечером я покинул Хэмпдон и до сих пор не знаю, удалось ли моим друзьям раскрыть тайну. Во всяком случае, в газетах об этом ничего не было. Насколько я могу судить, она осталась неприкосновенной. Но меня до сих пор преследует выражение глаз этого Крута. Какая-то глубокая мудрость скрывалась в звуках его дряхлого голоса – мудрость, говорить о которой живым, возможно, и вовсе не стоит.
Пока мой экипаж выписывал многочисленные повороты, увлекая меня прочь от Хэмпдона, я смотрел, как его подмигивающие огоньки тают в вечерней дымке. Далеко на западе последние лучи заката купали холмы в розовом золоте, а ниже в долинах и ущельях уже сгущались тени. И когда эта дивная картина уже начала гаснуть, сквозь рык мотора я услыхал единственный, зовущий, незабываемый колокольный удар, еще долго катавшийся эхом среди ночных холмов.
Мэнли Уэйд Уэллманн. Литеры из холодного пламени
Некогда «Эль»[30] огибал этот угол и следующий за ним кусок узкой, мощенной грубым булыжником улицы. Потом его убрали, и теперь обшарпанные многоквартирные дома по обе стороны выглядели опустившимися старыми бродягами, человеческими руинами, готовыми вот-вот рухнуть без поддержки эстакады. Меж двумя такими строениями из потускневшего от времени красного кирпича втиснулось третье – тоже кирпичное, но покрытое таким толстым слоем дешевой желтой краски, что только она, наверное, и не давала ему рассыпаться на месте. Нижний этаж занимала крайне сомнительного вида ручная прачечная; сбоку дверь вела в расположенные наверху квартиры.
Роули Торн обратился к потрепанному, мутноглазому лендлорду на известном ими обоим языке:
– Кавет Лесли еще…
Лендлорд медленно покачал головой.
– Даже не встает.
– У него бывает врач?
– Дважды в день. Сказал мне, что надежды нет, но Кавет Лесли упорно не хочет в больницу.
– Спасибо.
Торн повернулся к двери и взялся огромной ручищей за ручку; пальцы когтями охватили край.
Собой он был чрезмерно тучен, но крепок, как водруженная на опоры бочка. Голову носил бритую, а нос имел крючковатый, что делало его похожим на орла, мудрого и недоброго.
– Скажите Лесли, – попросил он, – что друг заходил справиться о нем.
– Я никогда с ним не разговариваю, – ответствовал лендлорд, и Торн поклонился и ушел, закрыв за собою дверь.
Снаружи он прислушался. Хозяин уковылял в свою собственную сумрачную берлогу. Торн тут же попробовал дверь – она отворилась (уходя, он поднял собачку автоматического запора). Он тихонько проскользнул через лишенный окон вестибюль и вскарабкался по лестнице, такой узкой, что плечи его касались обеих стен сразу. Место пахло ветхой одеждой, как все древние нью-йоркские трущобы. Из таких вот курятников гангстеры «Пяти углов» и «Дохлых кроликов» в стародавние времена выступали на свои веселые бандитские войны, а городская шпана ходила толпами на Противопризывные бунты 1863 года[31] и на марш протеста, когда Макриди играл Макбета в «Астор Плейс Опера Хаус»[32].
Коридор наверху оказался такой же узкий, как лестница, только еще темнее, но Торн хорошо знал дорогу до нужной двери. Та охотно открылась – замок давно сломался. Комната походила, скорее, на тюремную камеру. С гипса хлопьями сходила специальная хорошо маскирующая грязь зеленая краска. Глядящее на задний двор единственное грязнющее окно было затянуто паутиной.
Человек на протертой лежанке пошевелился, вздохнул и повернул свое бледное, как плесень, лицо к двери.
– Кто там? – произнес он усталым дрожащим голосом.
Роули Торн быстро опустился на колени и наклонился к нему поближе, как хищная птица к добыче.
– Ты был Каветом Лесли, – сказал он. – Постарайся вспомнить.
Тоненькая, как палочка, рука выпросталась из-под потрепанного одеяла и потерла закрытые глаза.
– Запрещено, – прохрипел лежащий. – Мне запрещено вспоминать. Я забыл все, кроме… кроме…
Голос угас, затем с усилием произнес два последних слова:
– …моих уроков.
– Ты был Каветом Лесли. Я – Роули Торн.
– Роули Торн! – Голос стал и сильней, и быстрее. – Имя сие прославится в аду!
– Оно и на земле прославится, – серьезно пообещал Роули Торн. – Я пришел за твоей книгой. Дай ее мне, Лесли. Она стоит обеих наших жизней и еще стократ больше.
– Не зови меня Лесли. Я забыл это имя с тех пор…
– С тех пор как учился в Школе Глубин, – закончил за него Торн. – Я это знаю. У тебя есть книга, ее дают всем, кто оканчивает Школу.
– Мало кто оканчивает, – простонал человек на кушетке. – Многие начинают, но немногие доходят до конца.
– Школа находится глубоко под землей, – подтолкнул его Торн. – Вспоминай.
– Да, под землей. Никакого света не должно проникать туда: он может уничтожить то, чему там учат. Очутившись в Школе, ученик остается, пока не закончит курс, или… уходит… так же, во тьме.
– Там есть литеры, буквы из холодного пламени, – продолжал Торн.
– Буквы из холодного пламени, – эхом отозвался тихий голос. – Их можно читать в темноте. Один раз в день… один раз в день открывается люк и рука, мохнатая от черной шерсти, кидает вниз пищу. Я закончил… я провел в этой школе семь лет – или сто! Кто теперь скажет, сколько?
Он всхлипнул и захныкал.
– Дай же мне книгу, – настаивал Торн. – Она у тебя где-то здесь.
Человек, не желавший более зваться Каветом Лесли, приподнялся на локте. Для его бесплотного тела усилие вышло почти титаническое. Глаза он все еще держал закрытыми, но лицо обратил к Торну.
– Откуда тебе знать?
– Это моя профессия – знать. Я произношу кое-какие заклинания – и кое-какие голоса шепчут мне что-то в ответ. Они не в состоянии дать мне мудрость, которой я взыскую, но говорят, что она заключена в твоей книге. Давай ее сюда.
– Не тебе владеть ею, Роули Торн. Ты плоть от плоти Школы, но книга предназначена только тем, кто доучился, кто провел в этой могильной тьме долгие годы. Годы!
– Книгу! – резко бросил посетитель.
Его ручища сомкнулась на костлявом плече, мастерски вонзив концы пальцев в нервное сплетение. Выпускник Школы Глубин взвыл.
– Ты делаешь мне больно!
– Я пришел за книгой. И я ее получу.
– Я призову духов к себе на помощь… Тобкта…
Что еще он хотел сказать, так и осталось неизвестным, так как Торн закрыл ему исполинской ладонью трепещущий рот, и слова смялись в нечленораздельный стон. Зажав ему худющую челюсть, как конюх – лошади, Торн ткнул Кавета Лесли головой в матрас, а пальцем свободной руки поддел веко. Пытаемый конвульсивно задергался и на мгновение освободил рот.
– О-о-о-о-о-о! – завыл он. – Только не свет… после всех этих лет…
– Книга. Если ты готов отдать ее, подними палец.
Дрожащие пальцы сомкнулись в кулак – все, кроме указательного. Торн снял захват.
– Где?
– В матрасе.
Вмиг и со всей силы Торн рубанул жестким ребром ладони по тощему трепещущему горлу – как топором по бревну. Человек, некогда бывший Каветом Лесли, забился, разинул рот и резко обмяк. Торн поймал жалкое запястье, поискал пульс, постоял молча с минуту, потом кивнул и улыбнулся сам себе.
– Кончено, – пробормотал он. – Гораздо эффективнее, чем удавка.
Он свалил тело с кушетки и быстро ощупал весь матрас; нашел шишку и разорвал ветхую обивку. Наружу была извлечена книга, не больше школьного букваря размером, переплетенная в какую-то темную, некрашеную кожу, поросшую густым и грубым, черным, как сажа, волосом. Торн сунул ее к себе под пальто и вышел вон.
Джон Танстон сидел один у себя в кабинете. Не особенно похожем на кабинет – скорее, на гостиную: не меньше трех кресел оккупировали пол – мягких, хорошо продавленных кресел, откуда легко можно дотянуться и до книжных полок, и до напольного поставца с пепельницей и курительными принадлежностями, и до кофейного столика. Была там и обтянутая кожей кушетка, ибо Танстон считал труды умственные не менее утомительными, чем физические, и любил, чтобы в процессе научных штудий или написания книг его кружал максимальный комфорт.
Как раз сейчас он восседал в самом удобном из кресел, лицом к камину, в котором горел настоящий, живой огонь – один из немногих, еще оставшихся в Нью-Йорке. Джон Танстон был выше, чем Роули Торн, и почти столь же массивен – может быть, даже коренастее телом, хотя и не такой плотный. Его физиономия со сломанным носом и маленькими подстриженными усиками могла бы принадлежать человеку свирепому и материалистичному, если бы не высота вздымавшегося над нею лба, увенчанного тщательно причесанными волосами. Одного этого уже было достаточно, чтобы получилась голова мыслителя. Руки отличались таким чудовищным размером, что обычно требовалось поглядеть еще раз, чтобы оценить, насколько превосходной они формы. Темные глаза умели пылать, презирать, смеяться, глядеть честно или загадочно – по желанию хозяина. На его коленях лежала большая серая книга с багряным, испещренным золотыми буквами корешком. Он как раз обдумывал абзац на раскрытой странице:
Перетасовав и сняв колоду описанным здесь способом, выберите одну карту наугад. Изучайте изображенный на ней предмет в течение времени, которого хватило бы, чтобы медленно сосчитать до двадцати. Затем устремите взгляд прямо перед собой и смотрите, неподвижно и не мигая, пока перед вами не окажется как бы закрытая дверь, на которой изображен выбранный вами предмет. Сделайте образ в уме более ясным и продолжайте удерживать, пока дверь не распахнется, и вы не ощутите, что теперь можете войти и увидеть, услышать или иным образом познать то, что за нею…
То же самое, что в китайской магической игре И Цзин, которую исследовал и с которой экспериментировал У. Б. Сибрук[33], думал Джон Танстон. Хорошо, что именно он, а не кто-то другой, менее подготовленный к подобного рода работе, наткнулся на книгу и сопутствующую ей колоду карт в той букинистической лавке в Бруклине. Возможно, это и есть какая-то англизированная форма «Ицзин», рассуждал он, глядя на странный, архаический доггерель[34], нацарапанный чьей-то неизвестной рукой на форзаце:
Немало злых и скверных книг Помимо этой я постиг, Чтоб дьявола узнать скорей И подчинить себе, ей-ей. Святой Дунстан мог тоже так, Чтоб Крест сиял сквозь мглу и мрак. Будь славною, моя стезя, Ведь по-другому мне нельзя.Кто это написал? Что такое случилось с ним, что он продал свою странную книгу старьевщику? Наверное, если бы заклинание и вправду открыло дверь в мир духов, Танстон уже бы об этом знал.
Он взял колоду с поставца рядом с креслом, стасовал, снял и открыл карту. Она несла примитивное цветное изображение гротескного получеловеческого существа, сплошь покрытого иголками и с огромными крыльями, как у летучей мыши, за спиной. Танстон слегка улыбнулся и устроился поудобней в кресле. Глаза его сузились и уставились в самое сердце горящего в камине алого пламени…
Иллюзия пришла скорее, чем он думал. Сначала она была маленькой, как изукрашенная крышка сигарной шкатулки, но тут же принялась расти и в размере, и в четкости, затмевая даже картину камина, в который глядел Танстон. Дверь выглядела массивной, зеленой, и мышекрылая фигура на ней тускло мерцала, словно ростовая инкрустация из перламутра. Он сосредоточился на ней, поймал себя на том, что обшаривает глазами дверь в поисках щеколды или ручки, нашел ее – большой металлический крюк. Через мгновение дверь распахнулась, будто сила его взгляда толкнула ее внутрь.
Он помнил, что предписывала дальше книга: восстань из тела и иди в дверь – но никакого движения он не почувствовал, ни физического, ни духовного. Ибо через дверной проем он разглядел только… свой собственный кабинет, ту его часть, что была у него за спиной, словно бы отраженную в зеркале. Однако нет, потому что в зеркале левое становится правым – он видел заднюю часть комнаты, в точности какой ее знал.
И она была не пуста!
Вкрадчивая, подвижная темнота не то текла, не то кралась по ковру между креслом и пепельницей, словно осьминог по морскому дну. Танстон смотрел во все глаза. Это было не облако и не тень, но что-то плотное, хотя и не вполне ясно очерченное. Оно подползало ближе и ближе к самому порогу воображаемой двери – и там начало вздыматься стройной башнею мрака.
Танстон подумал, что если картина в дверном проеме с точностью воспроизводит комнату позади него, если она просматривается почти до того места, где стоит его кресло… если, иными словами, нечто темное, неопределенное и текучее раскручивается там сейчас… то оно должно быть прямо у него за спиной. Он не шевельнулся, даже дыхание не стало быстрее.
Тьма обретала форму – как бы безлистного дерева с изможденным стволом и движущимися, щупальцеподобными ветвями – и поднималась уже до самого потолка потусторонней комнаты. Усики качались, словно от легкого ветерка, извивались и тянулись вниз – точно над тем местом, где могла бы находиться голова сидящего в кресле человека. Если эта штуковина и вправду была сейчас позади него, она определенно тянулась к его голове.
Танстон прыгнул прямо из кресла вперед, туда, где маячила дверь. Оказавшись на безопасном расстоянии, он выпрямился и совершенно кошачьим, несмотря на всю свою борцовскую тушу, движением развернулся на полупальцах. Из всего множества странных заклинаний, прочитанных за годы не менее странных исследований, одно само прыгнуло ему в уста – то, что из «Египетских тайн»:
Стань недвижим, во имя небес! Ни огня не причиняй, ни пламени, ни иной пагубы!
У себя за креслом он увидел высокую черную тень; венчающие ее щупальца свисали как раз над тем местом, где только что было его тело. Свет гаснущего камина не позволял разглядеть силуэт и детали, но сейчас тень была достаточно плотной. Танстон знал, что отступать нельзя ни на шаг, но рядом, на расстоянии вытянутой руки, был массивный старый письменный стол. Молниеносным броском он подцепил ручку ящика, дернул, сунул внутрь руку и выхватил тонкую палочку – ничего особенного с виду, просто грубо оструганный прутик боярышника. Выставив деревяшку перед собой, как кинжал, он двинулся к размытому гостю. Ткнув в его сторону заостренным концом прута, он начал:
– Повелеваю и заклинаю тебя именем…
Сущность содрогнулась. Щупальца ее растопырились и затрепетали, так что она стала на миг похожей на гигантскую сухопарую длань, молящую о пощаде. Пока Танстон сверкал на нее глазами и тыкал палкой, черный очерк утратил четкость и стал на глазах растворяться, как чернила растворяются в воде. Черный превратился в серый, тень съежилась, заскользила к двери и просочилась, судя по всему, между нею и косяком. Воздух очистился, и Танстон вытер лицо свободной от палочки рукой.
Нагнувшись, он подобрал книгу, которая соскользнула у него с колен, и посмотрел в огонь. Дверь, если она, конечно, существовала где-нибудь, кроме его воображения, бесследно пропала. Танстон взял с поставца трубку и сунул в рот. Лицом он был бледен, как смерть, но чиркнувшая спичкой рука совсем не дрожала.
Книгу он аккуратно положил на стол.
– Кто бы ты ни был, написавший эти слова, – молвил он, – и где бы ты сейчас ни находился, спасибо, что предостерег. Я буду осторожнее.
Он обошел кабинет, задержавшись над ковром, где возникла тень, потыкал его ногой, даже встал на четвереньки и понюхал. Потом покачал головой.
– Ни следа, ни знака, – пробормотал он, – и, однако же, на несколько мгновений она стала реальной и достаточно сильной… И я знаю только одного человека, которому хватит ума и воли, чтобы вот так на меня напасть.
Он выпрямился.
– Роули Торн!
Джон Танстон взял шляпу и плащ, спустился в холл, вышел на улицу и остановил такси.
– Отвезите меня к номеру восемьдесят восемь по Масгрейв-лейн, Гринвич-Виллидж, – велел он шоферу.
Крошечная книжная лавка походила на грязную, засиженную летучими мышами пещеру. Чтобы проникнуть туда, Танстону пришлось спуститься с тротуара на несколько ступенек, мимо вытертой почти до неразличимости вывески «ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КНИГИ». Под землей сходство становилось еще разительнее. Словно бы ты оказался в естественного происхождения гроте, где кругом громоздились геологические напластования книг самых причудливых форм и размеров – на полках, на стендах, на столах, кучами прямо на полу, как отвалы породы. С потолка на проводе свисала голая лампочка, но света ее хватало лишь на переднее помещение. Ни единый луч не смел проникнуть за порог дальней комнаты. Как всегда, безо всяких зрительных картинок, Танстон ощущил там присутствие еще одной книжной пещеры, еще больше размером, где сталактиты из томов наверняка каким-то непостижимым образом свисали даже с потолка.
– Я была уверена, что вы придете, мистер Танстон, – приветливо проворчал дальний угол, и старая хозяйка проковыляла из сумрака вперед.
Она оказалась грузная, седая, потрепанная, но лик имела горделивый и клювастый, а глаза и зубы – как у двадцатилетней девицы.
– Профессор Рейн[35] и Джозеф Деннингер могут сколько угодно писать книги и доказывать возможность передавать мысли на расстоянии. Я же просто сижу тут и практикую это искусство – с теми, чей разум сонастроен моему. Вроде вас, мистер Танстон. Рискну сказать, вы пришли сюда за книгой.
– Предположим, – сказал Танстон, – мне нужен экземпляр «Некрономикона»?
– Предположим, – подхватила старуха, – я дала его вам.
Она обернулась к ближайшей полке, вытащила несколько книг и сунула руку в открывшуюся за ними полость.
– Никто из известных мне людей не способен открыть «Некрономикон» и не влипнуть в неприятности. Для всякого другого цена была бы непомерно высокой. Вам же, мистер Тан…
– Положите книгу, где взяли! – резко велел он.
Она только поглядела на него своими яркими молодыми глазами, поставила книги на место и стала ждать, что он еще скажет.
– Я знал, что он у вас есть. Я хотел только увериться, что он все еще у вас. И здесь и останется.
– Останется, – пообещала хозяйка, – если только не понадобится вам.
– А Роули Торн сюда захаживает?
– Торн? Такой, вроде разжиревшего белоголового орлана? Месяцами не бывает. У него денег нет, чтобы заплатить мои цены – учитывая, сколько я заламываю ему даже за дешевые репринты Альберта Великого.
– Доброго вам вечера, миссис Харлан, – сказал Танстон. – Вы очень добры.
– Это вы добры, – возразила она. – Ко мне и к куче других людей. Когда вы умрете, мистер Танстон (а это, надеюсь, будет еще очень нескоро), целое поколение будет отмаливать вашу душу до славы господней. Могу я вам кое-что сказать?
– Прошу вас. – Он замер уже почти на пороге.
– Торн был здесь однажды, просил меня о любезности. Речь шла о старом больном бедняге, который живет – если это, конечно, можно назвать жизнью – в многоквартирном доме на другом конце города. Его зовут Кавет Лесли. Торн уполномочил меня заплатить любую цену за книгу, находившуюся во владении этого самого Лесли.
– Не «Некрономикон»? – поспешно спросил Танстон.
Она покачала седой головой.
– «Некрономикон» он спрашивал за день до этого, я сказала, что у меня такого на продажу нет – чистая правда, между прочим. Я так поняла, по его мнению, книга Кавета Лесли вполне может его заменить.
– Как же называлась эта книга?
Она сморщилась, и лицо ее стало похоже на чрезвычайно умудренный грецкий орех.
– По его словам, у нее нет названия. Я должна была сказать: «Ваш старый учебник».
– М-м-м-м, – нахмурившись, промычал Танстон. – А адрес какой?
Она записала адрес на клочке бумаги. Танстон поглядел на него и улыбнулся.
– И еще раз доброго вечера, миссис Харлан. Некоторые книги должны оставаться в живых, несмотря на всю их опасность. Для ученых исследований вроде моего они нужны. Вы – самый лучший и мудрейший хранитель, какой только мог им достаться.
Она еще долго смотрела ему вслед. Откуда-то из глубин магазина вышел черный кот и потерся о ее ноги.
– Если бы я сама хотела заниматься магией по этим книгам, – задумчиво сообщила она ему, – я бы скостила себе годков и окрутила Джона Танстона. Никогда эта графиня Монтесеко не оценит его по достоинству!
Убогое место, где проживал Кавет Лесли, мало что смогло ему рассказать. Лендлорд по-английски не понимал, и Танстону пришлось перепробовать еще пару языков, прежде чем он сумел-таки выяснить, что Лесли долго болел, что его лечил врач из благотворительной организации и что сегодня он умер – по всей вероятности, от спазма трахеи. Доллара хватило, чтобы Танстону милостиво позволили осмотреть последний нищенский приют стрика.
Тело уже унесли. Посетитель сунул нос во все углы, нашел разорванный матрас, оттянул ткань и внимательно изучил прямоугольный след в древней комковатой набивке. Книгу определенно хранили здесь. Он даже потрогал углубление – оно оказалось странно холодным. Танстон быстро обернулся, глядя через комнату расфокусированным взглядом. Какая-то фигура была здесь… растаявшая, как только он повернулся, но оставившая по себе некий… образ. Танстон тихо присвистнул.
– Миссис Харлан книгу не добыла, – пробормотал он себе под нос. – Следом пришел Торн… и добился своего. Так-так, и где же наш Торн?
На улице уже стемнело. Танстон какое-то время постоял перед неряшливым зданием, пока снова не поймал ощущение, что нечто глядит на него из тьмы, осторожно приближается. Он опять проделал тот же маневр: резко обернулся и не то увидел, не то почувствовал, как прочь скользнула едва различимая тень. В том направлении он и пошел. Чувство присутствия испарилось, но он продолжал идти, пока ночь не пахнула бесполезностью. И снова он встал и стоял, изо всех сил делая беззаботный вид, пока некий голос не шепнул у него в голове об опасности. Крутанувшись на месте, он снова взял след. Так он прошел несколько кварталов, один раз поменяв направление. Что бы за ним ни шпионило (или, возможно, хотело напасть на него из засады) – оно постепенно отступало туда, откуда пришло. И вот он уже стоит перед некой дверью в некоем отеле.
Роули Торн открыл ему в жилете и без пиджака. Вид он имел спокойный и даже победоносный.
– Входи, Танстон, – сказал он с издевательской сердечностью. – Это гораздо больше, чем я смел надеяться.
– Я засек и выследил твою ищейку, чем бы она там ни была, – ответил Танстон, переступая порог. – Она-то и привела меня сюда.
– Так я и знал, – кивнул Торн, глухо поблескивая бритым черепом в коричневатом свете маленькой настольной лампы.
Больше в комнате ничего не горело.
– Не присядешь ли? – Он взял с подлокотника мягкого кресла книгу в какой-то замысловатой косматой обложке. – Видишь? Никогда бы не подумал, но, оказывается, бывают книги, которые в буквальном смысле рассказывают именно то, что ты хочешь узнать.
– И за одну такую ты убил Кавета Лесли, не так ли? – поинтересовался Танстон, бросая шляпу на кровать.
Торн прищелкнул языком.
– Шляпа на кровати – это к несчастью, – укорил гостя он. – Кавет Лесли уже выжил из всего, что у него было, кроме жалкого обрубка физического «я». И, уверен, продолжает в том же духе, так как подобного рода опыт и штудии делают душу непригодной для любого тривиального посмертия. Но он оставил мне довольно интересное наследство.
Он опустил глаза на открытые страницы.
– Мне, видимо, должно польстить, что первой своей задачей ты поставил обездвижить меня, – прокомментировал Танстон, привалившись своим огромным плечом к дверному косяку.
– Польстить? Может быть, но удивить – вряд ли. В конце концов, ты снова и снова чинил мне препятствия, пожиная урожай…
– Да брось ты, Торн. Из тебя даже честный дьяволопоклонник не выйдет. Тебе нет никакого дела до того, утвердится ли власть Сатаны или нет.
Торн поджал свои и без того твердые губы.
– Вынужден признать, что ты прав. Фанатик из меня никудышный. А вот Кавет Лесли им был. Он поступил в Школу Глубин – слыхал о такой?
– А как же, слыхал. Находится в подземельях ниже самой преисподней… где-то на этом континенте. В один прекрасный день я найду ее и быстренько сверну им учебный план.
– Так вот, Лесли поступил в Школу Глубин, – продолжал Торн, – и прошел полный курс, который она предлагает своим студентам. Заодно и прикончил в себе существо, способное испытывать счастье. Он не мог больше смотреть на свет или собраться с силами, чтобы встать и пойти… или хотя бы сесть. Возможно, смерть стала для него облегчением – хотя, не зная в точности, что ожидало его по ту сторону порога, уверенным быть никак нельзя. К чему я веду? К тому, что он вынес всю эту жалкую жизнь под землей ради того, чтобы получить в дар книгу. Теперь она принадлежит мне, и безо всяких там жутких испытаний. Да не тянись ты за ней, Танстон. Все равно прочесть ничего не сможешь.
Он взял ее, открыл и протянул ему. Страницы были серые и пустые.
– Она написана буквами из холодного огня, – напомнил ему Танстон. – Их видно только в темноте.
– Тогда давай выключим свет?
Торн погасил лампу.
Танстон, так и застрявший в дверях в своем праздном оцепенении, не в силах даже пошевелиться, осознал, что комната полностью запечатана. Тьма воцарилась абсолютная. Измерения и направления исчезли, как не бывало. Торн заговорил снова, откуда-то из удушающего мрака:
– Очень умно с твоей стороны остаться поближе к двери. Хочешь попробовать уйти?
– Вот еще! Буду я бегать от зла, – возразил ему Танстон. – Я пришел не для того, чтобы снова убегать.
– Но ты дверь хотя бы открыть попробуй, – почти упрашивал Торн.
Танстон протянул руку к ручке и не нашел ни ее, ни даже самой двери. Внезапно он понял, что и на дверной косяк больше не опирается: косяка тоже не было, как и вообще ничего плотного, на что можно спокойно опереться.
– Как жалко, что ты не знаешь, где находишься, правда? – съязвил в темноте Торн. – А вот я знаю – это написано тут, у меня на странице, буквами из холодного пламени.
Танстон потихоньку сделал шаг в направлении голоса. Когда Торн заговорил, он уже опять был за пределами досягаемости.
– Хочешь, я опишу тебе это место, Танстон? Оно где-то на природе. Дует легкий ветерок. – Танстон тут же почувствовал его, слабый и теплый – и вонючий, будто дыхание какого-то мерзкого маленького зверя.
– Кругом сплошь деревья да кусты. Это вообще-то густой лес, но именно тут они растут пореже. Потому что не далее чем в десяти шагах уже начинается открытое пространство. Я перенес тебя на границу весьма интересных мест, Танстон, одной только силой слова.
Танстон сделал еще шаг. Под ногой вместо ковра была мягкая земля.
– Ты там, где всегда хотел оказаться, – обратился он к Торну. – Где что ты скажешь, то и будет. Но тебе еще много придется сказать, прежде чем жизнь станет такой, как ты хочешь.
Он сделал третий шаг, на сей раз молча.
– Кто тебе поверит?
– Все мне поверят. – Голос Торна звучал почти весело. – Как только факт доказан, он перестает казаться чудесным. Гипнотизм когда-то называли магией, а теперь он – тривиальная наука. Такая же судьба постигла и телепатию: всего и делов-то – эксперименты в Дьюкском университете и пара передач на нью-йоркском радио. И так же оно будет, когда я во всеуслышанье и на понятном языке расскажу о своей работе… но не засиделись ли мы с тобой в темноте?
Да, в следующее мгновение в зрении появился какой-то смысл. Уже после Танстон пытался вспомнить, какого же цвета был увиденный им свет… или, скорее, имитация света. Возможно, рептильно-зеленого, но точнее сказать сложно. В этом гнилостном сиянии кругом бледно проступили чахлые облетевшие деревья, голая иссохшая земля, из которой они тянулись, поляна за ними. Насчет горизонта или неба он был уже меньше уверен.
Что-то двигалось невдалеке. Торн, судя по силуэту. Танстон заметил вспышку взгляда, словно бы глаза у того светились собственным светом.
– Эта местность, – донеслось до Танстона, – может быть совершенно разными вещами. Возможно, это другое измерение – ты, кстати, веришь в то, что есть больше измерений, чем мы знаем? Или некий мир духовной природы. Или тот же наш мир, но в другую эпоху. Я перенес тебя сюда, Танстон, ничего не делая и даже не говоря – я просто читал в моей книге.
Танстон незаметно сунул руку в карман. Его указательный палец коснулся чего-то гладкого, тяжелого, прямоугольного. Он знал, что это – зажигалка. Шэрон, графиня Монтесеко, подарила ее ему в момент счастливой благодарности.
– Холодный огонь, – продолжал вещать Торн. – Эти слова и буквы – язык, известный только в Школе Глубин, но одного их вида уже довольно, чтобы обрести и само знание. Довольно, чтобы творить и направлять. Это место достаточно просторно, чтобы тут водились и другие живые твари, кроме нас, ты не находишь?
Танстон различал сгустки черного сумрака на фоне зеленого сумрака поляны. Огромные, плотные сгустки, медленно, но явно намеренно надвигавшиеся из чащи. Где-то позади него некое массивное тело сухо хрустело, пробираясь через подлесок.
– Как ты думаешь, эти твари голодные? – вслух рассуждал Торн. – Будут, если я помыслю их такими. Хотя вообще-то, Танстон, я сделал уже достаточно, чтобы тебе было, чем заняться. Я, пожалуй, готов оставить тебя здесь, с ними – тоже силой мысли, конечно – и забрать с собой книгу с литерами из холодного пламени. А поскольку у тебя холодного пламени нет…
– …зато у меня есть горячее, – сообщил Танстон и прыгнул.
Это был могучий рывок, немыслимо быстрый. Танстон помимо всего прочего был еще и тренированным атлетом. Вся его впечатляющая туша врезалась в Торна, и они двое, сцепившись, вломились в хрусткий рахитичный куст. Рухнув под тяжестью противника, Торн постарался выпростать руку с книгой подальше, чтобы Танстон ее не достал. Но вражеская рука устремилась за ней, и не одна – в ней очутилась зажигалка. Щелчок колесика, и вырвалось пламя – теплое, оранжевое пламя, длинным языком лизнувшее грубую косматую шерсть на некрашеной коже, оплетавшей книгу.
Торн взвыл и бросил ее. Мгновение спустя он вывернулся и вскочил на ноги. Танстон уже стоял, закрывая добычу от Торна. Пламя росло и металось у него за спиной, выцветая и бледнея на глазах, как будто пожирало что-то жирное и гнилое.
– Мне конец! – вскричал Торн и кинулся вперед низким броском, как блокирующий игрок на футбольном поле.
Сам опытный футболист, Танстон присел, дав голому черепу Торна со всего размаху встретиться с жестким коленным суставом. Рыкнув, Торн растянулся плашмя, перекатился и снова вскочил.
– Погаси огонь, Танстон! – взмолился он. – Ты нас обоих уничтожишь!
– Почему бы не рискнуть, – пробормотал тот, снова отгораживая его от горящей книги.
Торн опять бросился в битву. Одна исполинская длань превратилась в коготь и нацелилась Танстону прямо в лицо. Тот нырнул под ней, всадил плечо в подмышку нападающей руки и нажал вверх. Торн отшатнулся назад, запнулся и упал на четвереньки, выжидая. Поднятое к противнику лицо гляделось резной маской ужаса, призванной устрашать верующих в каком-нибудь демонском храме. Разглядеть ее было несложно – догорающая книга выдала последнюю яростную вспышку… и умерла. Танстон бросил на нее быстрый взгляд и втоптал мерцающие обугленные останки страниц в землю.
Снова сгустилась тьма, на сей раз даже без гнилушечной зелени. Ни ветерка, ни звука – стихло качанье ветвей, никто не крался украдкой через лес, не топотал по мертвой земле. Даже дыхание Торна куда-то подевалось.
Танстон шагнул в сторону, шаря руками, нащупал край стола, потом маленькую лампу, выключатель – и нажал. Он снова был в номере отеля. Хозяин как раз неуклюже поднимался на ноги.
Пока Торн тряс головой, чтобы хоть как-то прочистить мозги, Танстон сгреб со стола кипу бумаг и быстро проглядел их.
– Полагаю, – сказал он мягко, но довольно высокомерно, – мы можем считать все произошедшее небольшой игрой воображения.
– Если ты будешь звать его так, ты солжешь, – процедил Торн, обнажив стиснутые, измазанные кровью зубы.
– Ложь, сказанная во спасение – белейшая из лжей… Эти тексты могли бы представлять определенный интерес, будь они хоть сколько-нибудь убедительны.
– Книга, – пробормотал Торн. – Книга всех убедит. Я затащил тебя в страну за пределами всякого воображения, использовав лишь крупицу мудрости, содержащейся в книге.
– В книге? – переспросил Танстон. – Это в какой же? Никакой книги тут нет.
– Ты поджег ее. Она сгорела там, где мы дрались. Пепел ее до сих пор там, а мы вернулись сюда, ибо сила ее иссякла.
Танстон опустил взгляд на бумаги.
– К чему говорить о том, что сгорело? Вот это я бы ни за что не сжег. Оно вызовет интерес кое у кого помимо меня.
Он поднял глаза и посмотрел на хозяина комнаты.
– Итак, ты снова напал на меня, Торн. И я обратил тебя в бегство.
– Тот, кто сражался и бежал с поля боя… – Роули Торн нашел в себе силы расхохотаться. – Ты сам знаешь, что там дальше, Танстон. Тебе придется дать мне сбежать на сей раз. А к следующей битве я уже буду лучше знать, как с тобой обращаться.
– Увы, тебе не убежать.
Танстон сунул в рот сигарету и прикурил от зажигалки, которую все еще держал в руке.
Торн зацепил свои тяжелые большие пальцы за карманы жилета.
– А кто мне помешает? Ты? Вот уж не думаю. Мы с тобой снова в обычной реальности. Если ты опять поднимешь на меня руку, это будет бой не на жизнь, а на смерть. Мы с тобой оба большие и сильные; ты мог бы меня убить, но хотел бы я на это посмотреть! Потом тебя приговорили бы за убийство. Возможно бы даже казнили. – Торнов бледный острый язык облизал сухие твердые губы. – Никто бы тебе не поверил, если бы даже ты попытался объяснить.
– Нет, конечно, никто бы не поверил, – мягко согласился Танстон. – Именно поэтому объяснять я предоставлю тебе.
– Мне? – вскричал Торн, снова смеясь. – Объяснять что? И кому?
– По дороге сюда, – сказал Танстон, – я составил план. Из холла внизу я кое-кому позвонил и сказал куда ехать. О нет, не полиции. Доктору. А вот, наверное, как раз и он!
В комнату вошел сухощавый сероглазый человек. За ним следовали двое дюжих и очень внимательных парней в белых халатах. Танстон молча подал ему бумаги, которые взял со стола.
Врач поглядел на первую страницу, потом на вторую. Его взгляд озарился профессиональным интересом. С приветливой улыбкой он пошел навстречу Торну.
– Вы ведь тот самый джентльмен, посмотреть которого меня попросил мистер Танстон? – полюбопытствовал он. – Да-да, я вижу, вы выглядите нервным и чрезвычайно утомленным. Вероятно, глубокий отдых, когда вас никто не будет беспокоить…
Лицо Торна исказилось.
– Вы! Да как вы смеете!
Он было сделал угрожающий жест, но двое белых халатов тут же придвинулись к нему поближе и встали с обеих сторон.
– Нахал! – продолжал он уже более спокойно. – Я не более безумен, чем вы!
– Ну, разумеется, нет, – охотно согласился врач.
Он еще раз глянул на записи, крякнул, сложил их и аккуратно засунул во внутренний карман пиджака. Танстон слегка кивнул в знак прощания, подхватил с кровати шляпу и беззаботно вышел.
– Да какой же вы сумасшедший, голубчик, – продолжал доктор. – Вы просто устали. А теперь если вы соблаговолите ответить на пару вопросов…
– Каких еще вопросов?! – вызверился Торн.
– Вы правда верите, что можете вызывать духов и творить чудеса одним только усилием разума?
– Да если бы у меня только была книга, я бы вам показал, что я могу и чего нет! – взорвался в ответ Торн гневно и, пожалуй, довольно-таки истерично.
– Какая книга?
– Танстон уничтожил ее! Сжег!
– Ах, прошу вас! – добродушно отозвался врач. – Вы же о Джоне Танстоне говорите, о знаменитом книголюбе! Нет никакой книги, дружок, и никогда не было. Вам просто нужен отдых. Идемте со мной!
Торн взвыл, как дикий зверь, и кинулся на мучителя. Тот одним гладким движением ускользнул.
– Отведите его в машину, ребята, – бросил он белым халатам.
Они тотчас сомкнули порядки, и каждый взял Торна за плечо. Тот попробовал было рычать и вырываться, но господа в белом мастерским движением вывернули ему руки назад. Усмиренный, он вышел из комнаты между ними.
Танстон и графиня Монтесеко пили коктейль за своим любимым дальним столиком в ресторане на Сорок седьмой улице. Их тут знали и любили; ни один официант не осмелится прервать их тет-а-тет, пока его не позовут.
– Ну что ж, – молвила графиня. – Выкладывай, в какую ужасную переделку ты ввязался вчера вечером.
– Ни в какую переделку я не ввязался. Мне ничто не грозило, – улыбнулся Танстон.
– Рассказывайте сказки. Я вчера была на концерте, потом на приеме, но меня всю дорогу захлестывало ощущение, что ты сражаешься и страдаешь. На мне был крест, который ты подарил, я зажала его в руке и молилась – молилась час за часом…
– Вот поэтому-то, – сказал Танстон, – мне ничего и не грозило.
Генри Хасс. Ужас Векры
…и древний неумерший ужас Влекущий нас и телом и душой, Туда, где бледные светила смотрят страшно И помнят край, откуда он пришел. И тьма, где ждут бессонные Они, При звуке Имени невольно содрогнется. «Чудовища и иже с ними»Сегодня, когда после тех достопамятных событий минуло двенадцать лет, из Векры снова начали поступать какие-то смутные слухи. Вряд ли больше чем слухи, но им все равно удалось всколыхнуть во мне былой ужас. Да, именно ужас, ибо теперь я понимаю, что дюжину лет назад, оказавшись на те несколько адских секунд на самой грани безумия, я проиграл. Я тогда воспользовался динамитом (так хочется надеяться, что его оказалось достаточно) и думал, что на этом-то все и кончится. Теперь остается только гадать, то ли это самое зло, с которым повстречался я, или какое-то новое его исчадие, новая поросль, искоренить которую не удастся уже никогда. Возможно, и сейчас-то уже слишком поздно. Все это время я хранил молчание, но теперь намерен рассказать всю историю, и если даже после этого не смогу найти помощь, видимо, мне самому придется снова…
Но чтобы не скатиться уж в совершеннейший беспорядок, я лучше начну свой рассказ с того самого, первого дня, двенадцать лет назад.
Мы с Брюсом Тарлтоном возвращались в Бостон из двухнедельного похода. Брюс сидел за рулем, и я очень скоро начал подозревать, что еще в Норт-Итоне он взял на развилке неверный поворот. Впрочем, друг мой виду не подавал и хранил упорное молчание. Грунтовая дорога на глазах становилась все уже, все ухабистее; мне казалось, она нарочно заманивает нас дальше и дальше в это странное новоанглийское захолустье – крайне, надо сказать, неприятное чувство. Она так и вилась сквозь мрачные перелески, где ветви низко склонялись над головой, причудливо шишковатые и искривленные. Странная, тусклая, бесцветная растительность обступала ее со всех сторон. Мы переезжали какие-то речушки по узеньким деревянным мостам, чьи неприбитые доски громко тарахтели под медленно крутящимися колесами; углублялись в небольшие долины, где свет закатного солнца почему-то откровенно давил на психику, да и выглядел каким-то подозрительно неярким. По большей части долины были каменистые и бесплодные, но некоторое время спустя нам стали попадаться и скверно возделанные поля, и неуклюжие, квадратные, некрашеные фермерские домики, притулившиеся на склонах холмов вдали от дороги и всем своим видом напоминавшие что-то дохлое, какую-то падаль, валяющуюся под лучами этого нездорового солнца.
С самого Норт-Итона мы с Брюсом почти не разговаривали, но мне почему-то казалось, что он втайне наслаждается происходящим. Наконец мы перевалили через шаткий деревянный мосток, повернули вместе с дорогой направо и как-то очень внезапно очутились в маленькой деревушке. Первым моим впечатлением было удивление, что она вообще тут стоит; вторым – что это место мне категорически не нравится.
– Надо думать, это и есть Векра, – пробормотал Брюс себе под нос.
– А ты откуда знаешь?
– А? Вообще-то на том конце моста был знак. Ты его просмотрел?
Я подозрительно уставился на друга. Нет, знака я действительно не заметил, это-то и странно, потому что последние миль двадцать я все глаза проглядел, выискивая что-нибудь подобное, хоть какой-то признак жизни в окружающем унылом запустении. Впрочем, я ничего ему не ответил, а вместо этого огляделся кругом. Очевидно, Векра в прошлом знавала куда лучшие дни. Ряды бревенчатых каркасных домов выстроились по обе стороны дороги, которая – на этом, по крайней мере, отрезке – явно считала себя главной городской улицей. Сейчас большинство из них стояли заброшенные, пустые и сильно порченные погодой – за ними давно уже никто не присматривал. Лишь немногие являли жалкие признаки обитаемости: в наступающих сумерках там и сям слабо теплились масляные лампы. На таком убогом фоне наше положение выглядело еще жальче. По всей видимости, выбраться из этой богом забытой дыры можно было только той же дорогой, что мы сюда приехали, а перспектива трястись по ней в ночной темени меня как-то совсем не вдохновляла.
Мы зашли в нечто, сходившее в здешних краях, видимо, за лавку общего профиля, – чтобы узнать, нельзя ли тут где-нибудь заночевать. Маленький, согнутый, жилистый старичок заковылял нам навстречу. Мне он, признаться, тоже сразу не понравился. Может, все дело было в глазках – в хитрых черных глазках, так и зыркавших сквозь завесу спутанных, грязных, седых волос. А может – в его причудливом старообразном диалекте и в манере говорить так, будто он тайно радуется нашим несчастьям.
– Никак заблудилися, юные господа, а? Видал я, как вы подкатили с той стороны, дак сразу же и смекнул, что к чему. Много чужаков этой дорогой приезжаеть: все как един на развилке в Нор-Итоне нетудыть сворачивають.
Он всмотрелся в нас и гаденько захихикал.
– Все-е-е они прямиком в Векру попадають, потому как куды ж ище им попасть-та, кроме как сюдыть.
Я нервно поглядел на Брюса – только чтобы обнаружить, что мой легкомысленный друг слушает архаический говор старика с неподдельным интересом. После еще одной гнусной усмешечки тот продолжал.
– Дак вот я же ж и говорю, те, кто в Векру при свете дня попадають, все разворачиваються обратноть, в Нор-Итон. А уж те, кто на ночь глядючи… таковые очинно пужаются катить назад до утра. Вы-то из каковских будете?
Он уставился на нас; белки глаз у него были желтые и все в кровавых жилках.
– Думаю, мы останемся на ночь, – поспешно вставил я. – Если кто-нибудь будет так любезен…
– Ото ж! Я смекаю, Эб Кори можеть приютить вас на всюйную ночь. Евойное место найтить несложно будеть – большой такой дом в самом конце дороги. Эбу скажите, мол, Лайл Уилсон вас к нему послал.
Когда мы выходили в дверь, я оглянулся и увидал, что старикан все еще пялится на нас. Слышать его я не мог, но, держу пари, он снова злобно хихикал.
– Не нравится он мне, – пожаловался я Брюсу.
Брюс хихикнул – это прозвучало не сильно лучше, чем у старого поганца.
– А мне нравится. Не обращай внимания, он просто старый чудак. Надо будет зайти завтра сюда и побеседовать с ним пообстоятельнее.
Дом Кори мы нашли без проблем. Хозяин – высокий, сухопарый, с тягучей, медленной речью – принял нас весьма флегматично. Зато жена его как-то вяло встревожилась. Было в ней нечто трагическое, особенно в глазах – будто много лет назад она много страдала, да так с тех пор и не смогла забыть. Она подала нам простую, но сытную трапезу, которую мы с благодарностью и вкусили. Столовая оказалась большая и выглядела век эдак на девятнадцатый (включая и запах). Освещали ее две-три масляные лампы, по углам теснились тени. Казалось, в нее набилось несколько десятков детей всевозможных форм и размеров, хотя потом мы выяснили, что их было всего пять. Когда мать отослала их наверх, спать, они всей гроздью расселись на лестнице и принялись с любопытством таращиться на нас сквозь перила.
– Много у вас тут бывает чужаков? – спросил Брюс, когда мы, наконец, покончили с едой.
– С последнего раза несколько месяцев прошло, – отозвался Кори.
Он явно был не любитель поговорить.
Брюс раскурил трубку и выпустил к потолку кольцо дыма. Следующее его высказывание оказалось настолько внезапным и находчивым, что обомлел даже я.
– Я слыхал, у вас тут в округе есть всякая странная земля, а? Я – правительственный почвенный инспектор, приехал из Бостона.
Я чуть челюсть не потерял от этой лжи, учитывая, что Брюс даже рядом не стоял ни с какой инспекцией, но он послал мне суровый взгляд: «Не лезь!»
О земле, в особенности о своей земле, и в особенности о том, что с ней не так, Эб Кори был очень даже готов поговорить! Они болтали больше часа. Я молча курил свои сигареты и с неиссякающим удивлением слушал, как Брюс разглагольствует о земле, демонстрируя прямо-таки недюжинные знания. На самом деле он преподавал языки в Бостонском колледже – что может быть дальше от почвоведа; но я давно уже понял, что от Брюса Тарлтона всегда стоит ждать неожиданного.
Прежде чем отправляться на боковую, мы вышли переставить машину. И вернулись как раз вовремя, чтобы услышать, как миссис Кори ругается с мужем; речь, кажется, шла о том, где нас укладывать. Кори упрямо тряс головой, а его миссис захлопнула рот, как только мы вошли.
– Комната наверху, в заднем крыле, – объяснил хозяин, карабкаясь впереди нас по древней деревянной лестнице с лампой в руке. – Цельных полвека про нее какую-то байку рассказывают… Марта в последнее время заставила меня ее закрыть. Дом построил мой дед, крыло добавили позже.
– Привидений как, нету? – поинтересовался, фиглярствуя, Брюс.
Я заметил ненатуральность интонации и придушенный смех в голосе, а Эб Кори – нет.
– Нетуть! – совершенно серьезно сказал он. – Байка про то, что людям в этой комнате иногда снится забавный такой сон. Какой – не знаю. Марта утверждает, что знает, да вот только не рассказывает. Я сам там пару разов ночевал, да только ничего мне не снилось.
– Порядок! – солидно сказал Брюс. – Я тоже снов не вижу.
– Научный человек вроде вас не станет путаться с такой дребеденью. Там детская кушетка стоит, на нее может лечь кто-то один. А через холл есть еще одна маленькая комнатка. Звиняйте, лучшего ничего нет.
Пока мы шли по узкому коридору в заднюю часть дома, я нерешительно оглядывался по сторонам. Лампа бросала бледный, изменчивый отсвет на оклеенные обоями, вытертые до коричневой гладкости многими поколениями стены. Я остановился у моей двери, а Брюс проследовал дальше, к своей, в самом конце холла.
– Я пойду завтра на южное поле, мистер Тарлтон, – молвил Эб, отпирая ее. – Надеюсь, вы найдете время зайти и поглядеть землю.
Брюс кивнул. Я подождал, пока Эб мастерски спустится вниз в полной темноте, затем быстро перебежал через холл туда, где все еще с лампой в руке стоял мой друг.
– Мне это все не нравится, – решительно заявил я. – Что это еще за басни про…
– Иди сюда, я тебе все расскажу.
Повсюду в доме царил этот сырой, вековой, особенный запах. Я бы даже сказал, желтый запах. Я с ним уже сталкивался в других ветхих домах, но в тот миг, как мы открыли дверь комнаты, он словно бы усилился стократ, стал почти осязаемым. Мы очутились не то в спальне, не то в кладовой. По одну сторону как попало громоздились сундуки, коробки, сломанные столы и стулья. Брюс повыше поднял лампу, огляделся и самым довольным образом осклабился: в дальнем углу он приметил высоченный неуклюжий книжный шкаф, и, протанцевав прямиком туда, принялся жадно изучать поблекшие корешки. Вытащил один том, потом другой, третий.
Я застонал. Конечно, он давно уже запланировал этот демарш: кто как не Брюс намеренно затащил нас в эту проклятую глушь. Я сел на хлипкий стул и мрачно уставился на него.
– Ну, хорошо, что на этот раз? – со вздохом спросил я. – Только не надо снова заливать про этот твой «Некрономикон»; я знаю, что все это сказки.
Брюс у нас был эксперт по всяким жутким традициям и запретным книгам по этим традициям; он имел привычку цитировать мне некий «Некрономикон», от которого у меня в буквальном смысле мурашки по всем местам бегали.
– Что на этот раз? – возмутился он. – Да ты только посмотри сюда! Не «Некрономикон», конечно, но все равно невероятно интересно!
Он сунул пару потертых, переплетенных в кожу томов мне в руки. Я глянул на названия: первая была «Тайны, наводящие ужас» маркиза Гросса, вторая – «Немедийские хроники». Я поднял взгляд на Брюса: он был положительно в восторге.
– Ты что, правда хочешь сказать, что не ожидал здесь найти ничего такого?
– Разумеется, нет! Признаю, я завез нас сюда специально, потому что до меня дошли кое-какие слухи…
– Что-то, связанное с этим сном?
– Что-то совершенно не связанное ни с каким сном. И я удивлен при виде этих книг не меньше твоего. Вот эти две я уже встречал раньше, в сильно отцензурированном виде. А вот этой даже никогда не видел, хотя и слышал о ней мельком.
Он с нежностью поглядел на третью книгу, которую держал в руке. Глаза его так и пылали неистовым предвкушением.
Я протянул руку за томом, и он отдал его мне почти с неохотой. Книга была огромная, тяжелая, с ломкими, побуревшими страницами. Ни на корешке, ни на обложке названия не было, но на первой странице я обнаружил почти выцветшие буквы: Ч-У-Д-О-В-И-Щ-А-И-И-Ж-Е-С-Н-И-М-И. Каждое слово было выписано от руки отдельными заглавными буквами. Никакого автора. Я положил книгу на колени. Кожаный переплет по углам был совсем истерт, а местами уже рассыпа́лся. Я наугад перевернул несколько страниц; тонкая бурая пыль взвилась облачком и набилась мне в нос. Я чихнул.
– Эй! Ты там поосторожнее с этой книгой!
Брюс решительно отобрал у меня реликвию и только что баюкать не принялся, как мать – свое дитя. Я еще раз оглядел комнату, понюхал мерзкий на вкус воздух и со словами:
– Я спать хочу. Спокойной ночи, – ретировался.
Не думаю, что он меня услышал. Когда я закрывал за собою дверь, мой друг уже сидел, сгорбившись, над столом и при свете масляной лампы любовно таращился в «Чудовищ».
На следующее утро я рано спустился к завтраку – только чтобы узнать от миссис Кори, что Брюс меня уже опередил. Он поел очень быстро и просил передать, что отправляется на встречу с Лайлом Уилсоном. Имя она произнесла с таким неодобрением, что стало сразу ясно, насколько ей не нравится наш вчерашний знакомец. Впрочем, не мне ее в этом винить. Я отказался от завтрака, думая только о том, как бы поскорее выбраться из этого гнилого городишки. Увы, меня ждало разочарование. Добравшись до лавки старого Уилсона, я обнаружил хозяина с Брюсом за беседой, исполненной самой живой искренности, чтобы не сказать, взаимной приязни. Я подошел как раз вовремя, что услышать, как разливается Уилсон:
– …словей нетуть, как я рад, что вы порешили тут, у нас, задержаться. Мало кому из чужаков тут нравиться. Я не раз слышал, как они бають, мол, и свет-то у нас тут нездоровый, и земля, и вообще все вокруг типа негожее…
Завидев меня, он на мгновение заткнулся, потом припустил с новым пылом: видать, нечасто ему на долю выпадала столь обширная аудитория.
– Вы уж дозволяйте мне сказать вам кое-что, юные сэры – они, быть можеть, и правы. Есть мне, что порассказать о том, почему да отчего так вышло, да только ни за что вы мне не поверите. Но вот что я вам скажу, господа хорошие: есть в этом мире много такого, что глазам не открыто, и есть иные создания, кроме тех, что по земле ходють…
Ухмыляясь во всю пасть, он переводил взгляд с одного из нас на другого, и я даже отступил на шаг, подальше от его смрадного дыхания.
– Вы про созданий наподобие… – подхватил неожиданно Брюс, закончив фразу словом, повторить которое я бы и пытаться не стал.
У Лайла Уилсона чуть глаза на лоб не вылезли от изумления. Он воззрился на Брюса с внезапной подозрительностью.
– Я читал про него, – поспешил объяснить тот, – в книге под названием «Чудовища и иже с ними».
И он сам пристально уставился на старика, чтобы не пропустить его реакцию на эти слова. Последовал вздох облегчения.
– А, в этой книге. Там немного найдешь. Она принадлежала старому Хансу Зиклеру, деду Эба Кори, который как раз дом-то и построил, значить. У меня, знаете ли, и получше книга сыщеться…
И он снова хихикнул в этой своей гадкой манере, так что у меня аж мороз по спине пробежал. Старик замолчал и вытаращился на Брюса, словно ждал с его стороны изъявлений любопытства – тот мудро остался безучастным.
– Ну, дак я все равно вам скажу. У меня есть дневник старого Зика! Он раньше у Кори был, да только он мне однажды и говорить, хочу, мол, сжечь ентую пакость. Надо думать, он его почитать попробовал. Я выпросил его у Эба, и вот что я вам скажу: он был рад-радешенек избавиться от книги в счет кое-какого должка, что у него передо мной был. Сказал, ему все равно, что с ней будеть, главное, чтоб ему не надо было такое в доме держать.
Брюс уже с трудом сдерживал интерес; у него чуть голос петуха не дал, когда он небрежно спросил:
– Так вы говорите, дневник все еще у вас?
– Ото ж! Я смекаю, я единственный, кто в него заглядывал, за исключением самого Эба Кори, а уж он-то не думаю, чтобы сильно много прочел. Он думал, все это стариковские бредни.
– А вы знаете ли, – заговорил он уже куда тише и доверительнее, – я прямо рад, что вы, парни, сюда заглянули. Наши-то меня давно не слушають. А все потому, что бояться, да! Бояться того, что я могу им порассказать про старого Зиклера… и всякие вещи, которыми он занимался. Всякие вещи… неправильные. Но иногда, бывалоча, подумаешь, да повспоминаешь, да почитаешь снова в дневнике, так и возжелаешь… попробовать ведь хочеться, я ведь тоже всякое знаю, из того же, что старый Зик… А иногда прямо страсть такая обуреваеть, что…
Он резко замолчал, будто испугавшись, что и так сказал слишком много, и дикий огонечек постепенно угас у него в глазах.
– Молод я тогда еще был, – продолжал он уже спокойнее, – когда за старым Зиком подглядывал, но помню все хорошо. И коли даже земля год от году лучше становиться, и все дела тут уже не так плохи, как бывалоча раньше, енто значить только что вскоре – а может, и не вскоре – они снова за дело возьмуться. Вы молодого мальца Мунро возьмите: он, говорять, ушел в лес, да и упал в овраг. Но я-то лучше знаю. Если он в овраг упал, почему же они тела не нашли?
Он придвинул табуретку поближе к Брюсу и повторил почти вызывающе:
– А? Тело-то, спрашиваеться, где?
И старик снова хихикнул, довольный учиненной сенсацией.
Весь этот бред мне уже начал положительно надоедать. Я сказал, что пойду обратно домой. Брюс отсутствующе кивнул. Когда я уходил, он сидел, наклонившись к Лайлу Уилсону, который как раз принялся развивать новую безумную теорию, и пожирал его глазами.
В полдень мой друг объявился к ланчу; мысли его явно были заняты чем-то своим – и это что-то его немало озадачивало. Интересно, какие еще дикие истории ему удалось выжать из словоохотливого мистера Уилсона? О, кстати! Я вспомнил, что тоже кое-что собирался у Брюса спросить, да забыл.
– Ну и как, тебе снилось что-нибудь ночью? – поинтересовался я почти нагло.
Эб Кори, только что вернувшийся с полей, уставился на меня с любопытством, но не то чтобы сердито. Зато миссис Кори метнула в меня взгляд, заставивший пожалеть, что я вообще разинул рот. Как бы там ни было, а Брюсова ответа от Брюса ждали мы все, и она – испуганней прочих.
– Да, – ответил он, – снилось. Это-то и странно, потому что обычно я никаких снов не вижу. Возможно, дело все в том, что я допоздна засиделся за книгами…
При этих словах миссис Кори метнула в него еще один взгляд – на сей раз озадаченный.
– Ой, – сказал Брюс. – Вы уж меня извините, если мне не полагалось лезть в этот шкаф, но, видите ли, меня вообще очень интересуют такие традиции.
– Все в порядке, сэр, продолжайте.
– Что там насчет сна? – напомнил я ему. – Хотя вряд ли ты его запомнил. Большинство людей не…
– Отчего же, запомнил. Это был на самом деле кусочек сна, но слишком яркий, чтобы я мог его забыть. Я вроде бы шел где-то в тумане, по узкой грунтовой дороге. Справа тянулась ржавая проволочная изгородь, потом в ней обнаружился проем. Я машинально повернул и пролез сквозь него, и пошел по тропинке, обегавшей сзади какой-то большой дом.
Брюс поглядел на меня и улыбнулся, словно рассказывал сказку маленькому ребенку.
– Все это время меня, прошу заметить, что-то вело – я шел не по своей воле. Я знал, что должен сделать над собой усилие и бежать прочь, но в то же время самым парадоксальным образом очень хотел поскорее добраться туда, куда меня тянуло. Тропинка вся заросла буйной травой и сорняками, и я вдруг понял, где иду: по кладбищу. Кругом высились надгробные камни… то есть на самом деле не камни – большинство из них были простые деревянные таблички с именами, покосившиеся и заросшие всякой зеленью. Потом прямо передо мной я увидел невысокую цементную гробницу. Она была вся потрескавшаяся и поросшая мхом, но деревянная дверь висела на месте и громадные железные петли, даже насквозь проржавевшие, все еще работали. Мгновение я стоял перед этой дверью. Теперь я очень сильно ощущал зов, практически страсть к тому, что ждало меня внутри. Не сомневаюсь, что я бы вошел – я успел уже сделать шаг – если бы не проснулся. Я лежал на койке в своей комнате наверху, а в голову мне дуло из открытого окна. Окно я закрыл и снова заснул, но больше никаких снов этой ночью не видел.
Я посмотрел на миссис Кори. Пока Брюс разглагольствовал, она сидела, молчаливая и напряженная, сейчас же кусала себе губы, словно боялась закричать – но бесполезно: весь крик неразбавленным плескался у нее в глазах. Во внезапном возбуждении она вскочила и выбежала из комнаты.
Муж ее продолжал молча есть.
– Марта очень легко расстраивается, – безмятежно заметил он. – Но, возможно, у нее есть на то причина. Видите ли, у нее была сестра, которая однажды ночевала в той комнате. Ей приснился тот же самый сон, а потом она… просто исчезла. Ни следа от нее не осталось. А до того был еще мальчишка Мунро – я все помню, как будто это было вчера.
– Да-да, Лайл Уилсон упоминал исчезновение молодого Мунро, – подхватил Брюс. – Вам что-нибудь об этом известно?
– Ничего, кроме того, что он играл в полях неподалеку от оврага, а потом пропал. Мы его обыскались, но так ничего и не нашли. А потом – это где-то через неделю – его младший братик прибежал домой в ажитации и сказал, что видел лицо Вилли и с ним еще много других.
– Его лицо? – Брюс аж выпрямился. – Именно так он и сказал?
– Да. Это все, что он смог сказать. Он видел лицо брата и много других с ним. Он играл внизу, в овраге, но где точно – не помнил.
Брюс поглядел на меня. Он больше не улыбался. Кори, кажется, относился ко всему происходящему стоически.
– Конечно, – флегматично продолжал он, – бывало, что лошади пропадали, и коровы, и тоже бесследно. Это все случилось несколько лет назад. Земля еще тогда была плохая, а с тех пор получшела, хотя и не сильно. До самого недавнего времени…
– И что вы обо всем этом думаете, Эб?
Тот бесстрастно посмотрел на Брюса.
– Вы – человек научный, мистер Тарлтон. Я просто пытаюсь жить здесь с земли, с которой… с которой что-то не так. Вы сказали, книги вроде этих, наверху, у вас что-то типа хобби. Тогда вы должны знать обо всем об этом больше моего. Я однажды заглянул в одну из них – всего разок – и не особо много в ней понял, зато могу сказать: такие книги до добра вас не доведут, это уж точно. Но это ваши дела. А я просто стараюсь слишком уж много об этом не думать.
Это была самая длинная речь, которую мне довелось слышать от Эба Кори, и по мне, так достаточно определенная. Брюс, кажется, пришел к такому же выводу.
– Думаю, надо будет после обеда сходить поглядеть на вашу землю, мистер Кори, – сказал он.
– Сделайте милость, мистер Тарлтон, сделайте милость. Я буду на южном поле.
Я молча слушал этот разговор, и что-то в нем меня беспокоило… я бы даже сказал, навязчиво преследовало и никак не желало никуда деваться из головы. Ах, да, Брюсов сон! Я встал из-за стола, оставив остальных продолжать беседу, и отправился наверх, гадая, что же в рассказе о сне так меня встревожило. Тропинка через кладбище… старая гробница… что-то зовет изнутри…
Повинуясь внезапному импульсу, я проскользнул в комнату, где ночевал Брюс. Единственное окно было все еще задернуто линялой зеленой шторой. Я отодвинул ее – и еще не успев посмотреть, я уже все знал. Потом я таки посмотрел и увидел. Картина хлынула мне в мозг, будто его ведром холодной воды обдали. И стоя там, в оцепенении, я ощутил первую волну космического ужаса, которой вскоре суждено было захлестнуть и меня, и Брюса, и почти что свести нас с ума.
А за окном бежала узкая грунтовая дорога, и справа ее окаймляла ржавая проволочная ограда. Вон дыра в ней, а вон и заросшая травой тропинка и повалившиеся надгробия на старом заброшенном кладбище – прямо за нашим домом. И потрескавшаяся цементная гробница – все, как рассказывал Брюс, только совсем рядом, за окном.
Несколько часов спустя, идучи через поле, я рассказал Брюсу об этом открытии: кладбище за домом и все прочее, совсем как в его сне. Он совсем не удивился, и сказал, что тоже это видел.
– Ты, кажется, начинаешь думать, что увиденное мною вовсе не было сном – что я вправду гулял в ночи по тропинке к тому склепу. Так вот, нет. Это был просто сон. Я совершенно уверен, что из комнаты не выходил.
На мгновение мне показалось, что он не прочь сказать и больше – но Брюс уже передумал.
Зато меня теперь разобрало любопытство: не жадность к древним знаниям, какую демонстрировал Брюс, а скорее, уж неуемный скептицизм.
– Лайл Уилсон рассказал тебе еще что-нибудь интересное? Как там тот дневник – ты же небось помираешь от желания его поскорее увидеть?
– Я его уже видел – но, увы, недостаточно. Он вынес его из дома и зачитал мне кое-какие фрагменты. Помнишь, он говорил, что его временами накрывает настоящей жаждой? Я сказал, что такое и со мной случается – тогда-то он и принес дневник.
– Жаждой чего, скажи мне ради бога?
– Не знаю. Но боюсь, бог тут совсем ни при чем, о чем бы этот Уилсон на самом деле ни толковал. Вот это-то я и хотел у него выяснить.
– И как, удалось?
– По правде сказать, очень мало. Я слишком уж любопытствовал, и Лайл что-то заподозрил. Но все равно прочел мне несколько кусочков из этого самого дневника Ханса Зиклера, так что я смог сложить два и два. Помнишь, как Кори говорил, что его дед построил этот дом, а заднее крыло добавил потом? Так оно и есть. Ты, может, заметил, что комната выходит почти прямиком на кладбище?
– Так что же там с дневником? – продолжал настаивать я.
– Я узнал немногое. Старый Зиклер имел привычку поздними вечерами сидеть у окна той задней комнаты наверху и бормотать какой-то вздор. С дороги окно хорошо видно; прохожие вскоре прониклись идеей, что он совсем спятил. Уилсон говорит, он тогда был совсем мальчишкой, но хорошо помнит, как старый Зик торчал в том окне, и даже слышал его речи. Жуткое было зрелище. Так вот, судя по всему, в той гробнице что-то такое было, и Зиклер уверился, что оно ему отвечает, правда как-то странно. Не словами, а в уме. Что-то вроде неземной такой телепатии, как я понимаю. Объяснить попонятнее старый Зик все равно не мог. Короче, оно чему-то учило Зиклера, а временами за что-то его благодарило. Вот было бы здорово прочесть весь этот раздел дневника, да Лайл больно жадный. Хитрая бестия! Ага, а еще в те времена куча домашней скотины попропадала и даже несколько человек детей. Судя по всему, Зиклер их всех тщательно записывал, но расположить все эти данные в какой-то связной последовательности не так-то легко. Лайл читал мне кусками из разных частей дневника, все время перепрыгивал и все на меня глазел – какое впечатление оно производит.
Было там одно место, где Зиклер вроде бы был недоволен и даже разочарован, волновался и хотел узнать больше, но для этого ему бы понадобилось найти некий параграф в «Некрономиконе». Он даже деньги копил, чтобы съездить в Аркхэм: у них там в Мискатонском университете, по слухам, спрятан один экземпляр, так он хотел на него взглянуть. Но в итоге так никуда и не поехал, по крайней мере, в дневнике об этом не упоминается. Да и Лайл говорил, что Зик никогда не покидал Векры. Здесь и помер, причем естественной смертью, хотя и мямлил какую-то жуть перед самой кончиной.
За этим разговором мы дошли до южного поля, где и застали Эба Кори – за пахотой. Он ненадолго прервал работу и стал глядеть, как Брюс роется в земле то там, то сям.
– Бьюсь об заклад, вы никогда такой почвы не видали, мистер Тарлтон, – мрачно прокомментировал он, когда Брюс выпрямился с образцом в руке.
– Ну, и выиграли бы, – отвечал тот. – Да вы только поглядите на это!
Он передал ком земли мне. Это оказалась самая необычная почва, какую я в жизни видал: странного серого цвета, почти порошкообразная, хотя и не пересушенная – даже, скорей, влажноватая. Больше всего она походила на слегка сырой пепел. Земля выглядела какой-то оскверненной и недоброй – она даже на ощупь была гадкой, совсем не такой, какой полагается быть хорошей, свежей земле. Я поскорей уронил ее, едва подавив дрожь, и нервно вытер пальцы о штаны. Брюс изумленно воззрился на Эба.
– То есть вы хотите сказать, что в ней еще что-то растет?
– А то как же. Она тут еще не такая плохая, как поближе к дому.
– Поближе к старому кладбищу, вы хотите сказать?
Эб поглядел на Брюса, потом пожал плечами.
– Да один черт. И не такая плохая, какой была во дни моего деда. Единственное что, в ней ничего до нормального размера не дорастает, и частенько многие вещи… ну, такие, странные бывают, искривленные. Но все достаточно съедобное.
– Интересно, а дед-то ваш что об этом всем думал? Ну, о земле. Должны же у него были какие-то мысли встречаться на этот счет?
Эб снова пожал плечами.
– Какая разница, что папаша Зиклер думал, на склоне-то лет в особенности. Он о ту пору совсем уже ку-ку стал, все это знали. Могу только сказать, что он к этой земле привязался… или как-то себя к ней привязал, уж не знаю. Помню, он как-то сказал, что земля нам не принадлежит. И то, как он это сказал… он явно имел в виду не только этот кусочек, а всю землю, вообще – везде. У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомню, что он тогда говорил. Мол, что мы тут всего лишь на время, и когда-нибудь Они пробудятся и заберут землю вновь под свою руку, потому что Им-то она на деле и принадлежит. Их он всегда с таким особым почтением поминал вроде как.
У Брюса глаза так и зажглись интересом.
– А ваш дед не говорил, как или когда это наступит? – жадно спросил он. – Не упоминал какие-нибудь имена – Ллоигор, например? Или Б’Мот? Или Фтахар?
Но Эб ничего такого не вспомнил. Слишком уж много мудреных слов говорил в бытность свою папаша Зиклер.
Брюс сунул образец злой земли в конверт, и мы собрались уходить. Но еще один, последний вопрос он все-таки задал:
– Не припомните, Лайл Уилсон в последнее время не ездил случайно в Аркхэм? Может, упоминал, что был, например, в библиотеке Мискатонского университета?
– Не, – покачал головой Эб, потом вроде бы что-то вспомнил. – Может, вы про тот раз говорите, чуть больше года назад. Уилсон тогда куда-то ездил, отсутствовал дня два или три, но никому и словом не обмолвился, где он был.
– Спасибо.
Брюс глубоко ушел в свои мысли. Кори снова взялся за плуг. Мы двинулись через поле к достославному оврагу.
Он оказался глубокий, с крутыми склонами, весь заросший кустарником и низкорослыми деревьями. Зато в направлении дома, где-то в четверти мили от нас, он расширялся в небольшую лощину, заканчивающуюся тем самым старым кладбищем. Некоторое время Брюс стоял, устремив пристальный взор в овраг, потом отвернулся.
– Кстати, что это за имена, которые ты спрашивал у Кори? – поинтересовался я по дороге домой. – И что они означают? Я даже пытаться не стану выговорить их так как ты!
Я расхохотался. Брюс смеяться не стал.
– Что они означают? – повторил он; голос его звучал незнакомо, я таким его еще никогда не слышал. – Я почти уже уверился, что они ничего не означают, что это просто набор звуков. Но теперь… о, мой бог, кажется, я снова начинаю верить. Существуют ли живые воплощения этих имен? Возможно, это знал старый Зиклер. И другие – время от времени, на всем протяжении истории. В конце концов, сами имена никуда не деваются, а с ними и слухи, и книги – все они живы, а там, где есть легенда, есть и то, на чем она стоит, некая фактологическая база, которую можно проследить сквозь века до самого источника.
Больше я ничего от Брюса не добился – да и не надо было. Долгие годы я знал, что он изучает всякие древние традиции: ни малейшего интереса во мне они никогда не вызывали. У него в библиотеке имелась целая полка очень старых книг, не говоря уже о шкафах фантастики на ту же тему. Несколько образцов я и сам прочел и немало позабавился. Глубоко в голове у меня сидела успокоительная уверенность, что это просто сказки и не более того. Но теперь уверенность эта куда-то подевалась, а вместе с нею и чувство безопасности. Фантастика, конечно, фантастикой, но вдруг она и вправду на чем-то таком основана – и думать об этом «чем-то» мне решительно, категорически не хотелось. Мою смутную тревогу полили и удобрили слова Брюса – и даже не столько сами слова, сколько то, как он их произнес: «Но теперь… о, мой бог, кажется, я снова начинаю верить». До какой степени и во что верил Брюс, я понятия не имел. Как и того, что он пытается разузнать и зачем покидал комнату той ночью. Сейчас я сомневаюсь, что мог бы как-то его остановить, даже если бы все понимал. Зато совершенно ясно, что ни один из нас даже не подозревал, как медленно и неуклонно все движется к трагической развязке.
Вечером после ужина Брюс поднялся к себе, намереваясь, по его словам, поглубже закопаться в те старые книги. Я вышел на крыльцо, выкурить трубочку. Мне вообще больше нравится курить на свежем воздухе и по ночам – это помогает думать, а подумать мне сейчас отнюдь не мешало. В голове у меня была каша, но я все равно пытался решить для себя, во что из всех этих «древних сказок» я осмеливался, а во что откровенно боялся верить. Единственное, что мне было ясно абсолютно четко, это что Векра мне нравится все меньше и меньше. Если Брюс утром откажется уезжать, я заберу машину, и поминай как звали.
Обнаружив, что табак у меня почти весь вышел, я двинулся к лавке Лайла Уилсона. Внутри оказалось темно. Я взошел на крыльцо и уже собирался было толкнуть дверь – вдруг он еще не закрылся – но подумал, что хозяин может быть уже в постели, и надо бы, по идее, подождать до утра. Сбежав по ступенькам, я уже почти вышел на дорогу, как вдруг дверь позади отворилась. Я обернулся и раскрыл рот, чтобы окликнуть старого Уилсона… но что-то меня остановило – возможно, интуиция, а возможно, Лайлово поведение.
Я видел его совсем смутно, а он меня не видел вовсе, но то, как аккуратно он прикрыл дверь и прокрался через скрипучее крыльцо, пробудило во мне любопытство. Он исчез за углом лавки. Я украдкой последовал за ним.
Он отворил калитку на задах своего участка, пересек поле и через низенькую ограду перебрался на следующее. Я держался на безопасном расстоянии, стараясь только не потерять его из виду. Он вроде бы что-то нес под мышкой – что, разглядеть было невозможно, но, кажется, толстую книгу. Ага, явно дневник, к которому они с Брюсом оба так прикипели.
Вскоре стало ясно, что направляется он к оврагу. Дорогу Уилсон определенно знал, так как направление держал уверенно и явно понимал, куда идет. В какой-то момент я потерял его во тьме, кинулся вперед, налетел на какие-то низко свисающие ветки и расцарапал себе лицо. Когда я добрался, наконец, до оврага, Уилсон уже исчез из виду, но я слышал в темноте, как он карабкается вниз по какой-то близлежащей тропинке. Несколько минут я потратил на поиски, но, в конце концов, нашел ее и стал спускаться. Ну, спускаться – это очень цивилизованно сказано; скорее уж я скользил, катился и кувыркался по крутому склону почти в полном мраке и прибыл на дно, пролетев последние футов пять головой вперед. Я встал и кое-как отряхнул одежду. Лайла Уилсона к тому времени уже нигде не было видно – и слышно тоже. До меня не доносилось ни звука, я даже не мог определить, в каком направлении он пошел. И да, если ночь до сих пор казалась мне темной, то на дне этого оврага царила поистине стигийская тьма. Рассерженный и растерянный, я попробовал было влезть по тропинке назад, но не смог. Какое-то время я так и стоял там, на дне, потирая свои синяки и проклиная себя за идиотизм. Потом вспомнил, что овраг дальше становится мельче и где-то через четверть мили выходит прямо к границе кладбища – остается только ковылять в том направлении. Никуда, в конце концов, этот Уилсон от меня не убежит – может, я еще по дороге на него наткнусь.
Один раз по пути мне почудился какой-то звук: будто металлом ударили о металл – но больше он не повторялся. Я шел во тьме, избегая по мере возможности кустов и деревьев. И только уже выйдя почти что на кладбище я вспомнил – внезапно и с ужасом – кое-что из того, что рассказывал нам Эб Кори: о маленьком Мунро, который играл в овраге и примчался стремглав домой, крича, что он видел лицо, лицо своего пропавшего брата и с ним «много других». Это воспоминание изрядно меня подстегнуло: я ускорил шаг. Срезав через угол кладбища к дому, я посмотрел на окно задней комнаты – света в нем не было. Решив, что Брюс, должно быть, уже спит, я обогнул дом, вбежал в парадную дверь и, едва дыша, кинулся наверх, чтобы, если понадобится, разбудить его и поведать о ночных экскурсиях Лайла Уилсона – наверняка это что-нибудь для него значит. Я толкнул дверь, ворвался в комнату и, резко сбавив шаг, двинулся через сумрак к столу, на котором точно была масляная лампа. Одной рукой я шарил в кармане на предмет спичек, а другой – по столешнице, ища светильник.
– Черт!
Лампу-то я благополучно нашарил да только сразу же обжегся об еще горячий стеклянный колпак. Брюс, должно быть, ее погасил всего несколько минут назад. Наконец, я сумел снова ее запалить, и когда по комнате заметались тени, я убедился, что Брюса здесь нет. Более того, он сегодня даже не ложился. Наверное, вышел глотнуть свежего воздуха, решил я.
На столе лежал раскрытый один из его тяжеленных томов, в котором я признал «Чудовищ и иже с ними», а рядом – свинцовый карандаш. Кажется, Брюс сверял некоторые параграфы текста, отчеркивая их карандашом: следы были едва заметны на желтоватых, хрупких страницах.
Вознамерившись его подождать, я пододвинул себе кресло и уселся читать так дотошно выделенные Брюсом пассажи. Сейчас, двенадцать лет спустя, я уже не очень хорошо их помню; впрочем, память сохранила, что они отличались причудливой староанглийской орфографией. Первый, на который упал мой взгляд, выглядел примерно так:
Ибо сии суть не явлены, понеже ждут во терпении, аще придет их время. Вельми могуча та тьма, в коей оне обитают, ибо сон не мкнет очи их. Далече они друг от друже, но имут меж собою диавольское собеседование. Под землями дальнего Севера, сиречь Гипербореи, яко зовом бысти в древние времена, ждут оне. И далече на Востоке, под горами обширныме, тако глаголют во языцех. И во землях новых и обскурантных, что за морями, они доподлинно суть. Мореходы рекут об явлениях неизреченных на островах сокрытых. Истинно страшное рекут о судьбине тех, кто на дно пошел с кораблем обреченным. Ибо Твари сии суть безымянны, но со всею верностию пошли от колена древнего, от зовомых Б’Мот и Фтахар, Ллоигор и Катулн и иных еще. Во молчании ожидают оне зова Старейшин…
Тут я бросил читать, понимая, что все это звучит мне смутно знакомо. Кажется, что-то подобное уже встречалось в старых Брюсовых книгах. Я быстро перелистнул несколько страниц – вдруг он еще что-нибудь там отметил. И верно. Я снова принялся читать.
Бысть смертные, кто почитают Их и Им поклоняются, и иные, малые числом, коих Они наставляют во знании тайном. Из них один Эйбон из Гипербореи древней, и иные с ним иже…
Во внезапной вспышке воспоминания передо мной предстал старик Зиклер, торчащий в этом самом окне и талдычащий какой-то вздор кому-то в могиле, на кладбище – причем собеседник ему вроде бы даже отвечал. И снова я углубился в книгу, жадно выискивая отмеченные Брюсом фрагменты.
Ибо способы сии разные суть, вельми позабытые, коими Их пробудить возможно, и тогда становятся Они на время беспокойны и нетерпеливы и являют силу Свою. Из способов же один, Эйбоном описанный во книге его, таков буде…
Дальше следовало начало длиннющего заклинания из совершенно друг от друга не отличимых слов. Большая их часть побледнела и истерлась, будто от постоянного обращения к этой странице. И снова мне привиделся старый Зиклер, бормочущий в своем окне. Любопытство мое разгорелось уже сверх всякой меры. Я перевернул несколько страниц назад, туда, где начинались Брюсовы отметки.
Тако же злы оные суть, что земля, под которой лежат Оне, порчена бысть, странно и причудливо вельми, и даже самая почва, и странно то, что произрастает на ней. Альхазред во хронике его глаголет: тот, кого увлекли Оне во тенета Свои (пагубной силой Своей, кою источают, пробуждены бысти), пребывает навеки частью Их, немертвой, но новою и ранее не бывшею, и странною телесами, силе Их и мощи споспешествующею. И еще тако глаголил Альхазред: зол тот разум, коий пленен, но не взят, и пагубна земля…
Тут я снова прервал чтение, и взгляд мой перескочил на следующую страницу, где друг мой выделил сразу несколько абзацев, да так, будто они имели особую, первостатейную важность. Их я прочел с особым вниманием.
Суть промеж Них таковые, кто не спит и ждет беспокойно все время. Глаголют, что Оне унаследовали от Старейшин власть звать к себе зверей малых, животных; такоже скотину домашнюю и детей малых, и отроков; дале же слабых и немощных; дале всякого, кто спит близко, кому посылают Оне некий сон иже видение. И глаголют, что всякий, кого Оне тако позовут, станет Частию Их (сиречь, Все-во-Едином, коего Старейшины ожидают) и наставляет Тварей и самую землю, в которой Оные суть. Тако когда минет час, возрадуются Оне истинным достижением и труд Их окончен був; тако унаследуют Оне землю, коия некогда бысти Их.
А ведь еще Зиклер, помнится, говорил, что земля нам не принадлежит! И миссис Кори все намекала на тех, кто спал в этой самой комнате и видел один и тот же сон, а потом бесследно исчез. И Брюсов сон прошлой ночью, про кладбище и гробницу, что прямо за домом… Минут пять я сидел там, при свете мигающей масляной лампы, припоминая эти и другие вещи – а потом вскочил, как подброшенный, потому что меня захлестнула волна ледяного, липкого ужаса. И я еще жду, когда Брюс возвратится домой!
В то мгновение я понял, что делать. Прыгая через несколько ступенек, я ринулся вниз по лестнице и выскочил в темную ночь. Машину мы оставили за углом. Сорок пятого автоматического, который Брюс обычно держал в бардачке, на месте не оказалось – как и фонаря. Впрочем, какая, к черту, разница! Другой фонарик обнаружился в моих вещах: батарейки уже почти сели, но и на том спасибо.
Я проник сквозь дыру в изгороди и двинулся по бежавшей позади дома тропинке прямиком к склепу. Именно сюда Брюса что-то тащило во сне против его воли. Уж меня-то, по крайней мере, ничего не тащило, в этом я мог быть уверен. Вот заставь дурака богу молиться, черт его раздери…
Только оказавшись непосредственно перед гробницей, я убедился, что Брюс здесь и вправду был. Тяжеленная дощатая дверь стояла приоткрытая, прочертив на земле небольшую дугу. Железная цепь, удерживавшая ее, висела оборванная. Дальше дверь не открывалась, но я как-то умудрился протиснуться внутрь. Порыскав фонариком по сторонам, я обнаружил с одной стороны несколько полусгнивших деревянных гробов. Едва глянув на них, я обшарил влажные, заплесневелые цементные стены – и вскрикнул от удивления! Даже понятия не имея, что ищу, я уже все нашел. В задней части мавзолея в цементе зияла квадратная дыра. Я быстро подошел к ней и ткнул фонариком внутрь: коридор за нею шел слегка под уклон футов десять, а потом, кажется, выравнивался. Преисполненный решимости последовать за Брюсом, куда бы он ни отправился, я низко нагнулся и полез в проход.
В конце уклона я снова посветил вперед. Сердце у меня подпрыгнуло от волнения: коридор оказался узкий, но достаточно высокий, чтобы можно было выпрямиться в полный рост – и он простирался гораздо дальше, чем хватало слабого лучика света! Я медленно двинулся вперед.
В темноте едва различались другие коридоры, поменьше, ответвлявшиеся от основного… а вот что меня действительно поразило, так это что он бежал, судя по всему, прямиком к оврагу!
Кругом царила застоялая, мерзкая вонь, накатывавшая на меня волнами, которые впору было пощупать рукой. Я потрогал мокрую стену и аж содрогнулся: это была та же самая затхлая, сыроватая, серая почва, которую пробовал на поле Брюс – только гораздо хуже. Тут она оказалась еще и слизистой. Она только что не шевелилась у меня под пальцами, словно была… живой. Никогда я еще не был так близок к тому, чтобы бросить все и кинуться назад, но вместо этого заскрипел зубами и продолжил путь.
Нога моя ткнулась во что-то твердое. Нагнувшись и пошарив по полу, я поднял Брюсов автоматический пистолет. Он был еще чуть-чуть теплый… – значит, из него недавно стреляли. Все сомнения покинули меня, оставив только страх и дурное предчувствие. Я стоял там, в зловонном подземелье, держа в руке недавно стрелявший чужой пистолет, и думал, что мне делать.
Как обычно, все решили за меня. Я услышал звук. Быстро погасив фонарь, я остался в темноте, напряженно прислушиваясь. Сердце так колотило мне кровью в уши, что я едва сумел различить тот звук, когда он пришел снова. Но я все-таки услышал – слабый и дальний, а совсем не близкий, как мне вначале показалось. Это был голос. Невнятный и смазанный голос, вроде бы певший какие-то заклинания или гимны, и гимны эти были богомерзки и чужды всему живому, несмотря на всю свою зыбкость, уж в этом я был уверен. Я стоял и слушал, а звук тек ко мне издалека, по коридору, убегавшему к оврагу. Он был радостный и даже ликующий, то возносил торжествующие хвалы, то снова падал до исковерканного, полного непотребных смыслов бормотания, от которого у меня вся кожа шла мурашками, хотя ни единого слова я различить не мог.
Я стоял там и слушал этот отвратительный ритуал, понимая, что мне надо что-то собрать воедино… что какие-то куски головоломки расползаются из-под пальцев… что-то связанное с Лайлом Уилсоном… но никак не мог вспомнить… Мысли стали какие-то спутанные и беспомощно трепыхались в голове. Не дерзая включить фонарь, я ощупью прошел несколько шагов вперед.
– Брюс! – позвал я негромко и прислушался.
Потом чуть громче:
– Брюс! Ты меня слышишь? Я знаю, ты где-то здесь!
И тогда – о, боже! – я услышал что-то еще, какой-то другой звук, к гимну не относившийся, куда более близкий, прямо передо мной. Я встал как вкопанный, задержал дыхание и навострил уши. Что-то во тьме, всего в нескольких ярдах впереди, двигалось в моем направлении.
– Брюс, это ты? – снова позвал я.
И внезапно понял, что слышу совсем не шаги, ничего даже близко похожего на шаги – и ни на что слышанное мною раньше. Мне никогда не снились кошмары; я никогда не знал гадкого страха замкнутых пространств. Никогда я не пробуждался посреди ночи в холодном поту, оттого что нечто нечистое и чудовищное подбирается ко мне из темноты, так что рука сама лихорадочно бросалась шарить в поисках шнура от лампы, и не падал, взмокший, обратно на подушки и не страшился снова смежить веки.
Как было бы хорошо никогда не нажимать на кнопку фонарика там, в коридоре под могилами! Ибо что-то стояло в коридоре, едва вырисовываясь в немощном луче света – и я знаю только, что оно не было человеком. Я выстрелил и не промахнулся. У меня оставалось только три пули, и я помню, как каждая из них вошла в плоть с влажным, чавкающим звуком, как камушек в густой ил. Прошло едва ли больше десяти секунд, но для меня они стали десятью вечностями. Я вовремя понял, что света оно не боится, просто слегка – и ненадолго – растерялось.
А потом оно вроде бы шагнуло чуть ближе в свет и оказалось целиком на виду. Я не слышал собственного крика, но, должно быть, кричал, так как потом горло у меня оказалось сорвано. Помню, как разум прощался со мной, на глазах утекая в водоворот хаотического ужаса. Видимо, я пошевелился и, видимо, снова закричал. Да, я сам медленно, равномерно пошел ему навстречу – и я ничего не мог с этим поделать! Я знал, что надо подойти еще, еще, ближе, пока…
Пока что – я так и не узнал. Ибо в этот самый момент волна прохладного покоя накрыла ярящийся прибой паники. Это не я шел вперед – это какая-то часть меня, жившая эпохи назад, ныне пыталась вернуться в мягкое, теплое, такое надежное забвение изначальности. Это было то же экстатическое ощущение, что я испытывал в детстве, когда набирал полные ладошки жирной черной грязи и сжимал ее в кулаках, так что она медленно, сладко текла наружу – только усиленное тысячекратно, уютное, сонное, логичное. Но что-то в нем было не так, что-то смутно царапало, беспокоило… Был и еще какой-то я, другой, далекий и неважный, но какой-то назойливый, вредный, требующий не сдаваться, не возвращаться… требующий вспомнить. Но что вспомнить? Этот далекий смешной я, такой жалкий, такой глупый, пытался с комариной настойчивостью разорвать окружавшую меня блаженную тьму. Пытался что-то сказать… что надо что-то сделать…
Со сном? Это что же, сон? Несколько эонов назад кто-то рассказал мне свой сон… про то, как его неодолимо влекло… о стремлении… даже о страсти.
Как же быстро вернулся ко мне разум, несомый новым валом паники! Я все вспомнил. Как же скоро вернулся я в смрадный коридор, где древняя часть меня и молодая слились в судорожном рывке, и я увидал…
И тогда закричал в третий раз, и в последний, единственное членораздельное слово:
– Брюс!!!
Я уже был совсем близко к этой штуке, что звала меня и тянула к себе, и видел ее совершенно ясно. И с этим последним воплем что-то во мне встрепенулось, всколыхнулось, и внезапно я ощутил прилив сил. А вместе с ним и то, как нечто пытается помочь мне вырвать свой разум из гущи морока; нечто мягко, настойчиво толкает меня, шепча: не приближайся! не двигайся! назад! прочь! скорее!
И это-то нечто было самым жутким кошмаром, потому что я знал, что на меня смотрит Брюс…
Каким чудовищным усилием я оторвал взгляд и мысли от того, что было передо мной, я не знаю и не узнаю уже никогда. Я просто не помню. А помню только, как рванулся отчаянно назад, вверх, покрыв эти жалкие десять футов уклона, а что-то беззвучно плыло позади и что-то коснулось моей лодыжки, когда я протискивался через квадратную дыру обратно в гробницу… и еще – омерзительный влажный звук, даже с присвистом, когда нечто ударилось – опоздав всего на мгновение! – как огромная мокрая губка, об стену с той стороны.
Оставалось сделать только одно. Выбравшись из гробницы, я помчался через кладбище к оврагу. Я знал, что ищу, и нашел его, несмотря ни на какую тьму. Он был в небольшой лощинке, хорошо спрятанный в чаще кустарника и вьющихся лоз – другой конец коридора.
Крошечное устье перекрывала железная решетчатая дверь, поставленная, вероятно, самим Лайлом Уилсоном. Сейчас она стояла нараспашку, на ней болтался пружинный замок. В самом начале коридора смутно виднелся мистер Уилсон собственной персоной: припав к земле, он упоенно прислушивался. До него уже донеслись мои револьверные выстрелы, потом крики – и тишина.
Вот он начал новый гимн, тихий, но постепенно взраставший в громкости, подымаясь до торжествующего хвалебного пэана.
Слова мне все равно не удалось бы запомнить, как я ни пытайся. Едва ли это было что-то членораздельное. Мистер Уилсон сопроводил пение небольшим кощунственным ритуалом, а потом пустился в пляс, от которого в иных обстоятельствах меня вывернуло бы наизнанку; но я уже уставил позади всякие пределы чувствительности.
Он не видел меня и не слышал – до тех самых пор, когда я шагнул вперед и, захлопнув калитку, защелкнул на ней замок. Самое дикое во всем этом то, что пение не прекратилось, даже когда он кинулся на меня, скрючив пальцы, как когти, и капая с губ белесой пеной. Он врезался в решетку, вцепился в нее и затряс… а затем пение превратилось в тошнотворное бульканье ужаса – когда он понял, что должно случиться дальше.
Лайл Уилсон осел на пол в устье тоннеля, корчась от животного страха. Тут-то, думаю, разум его и оставил, так как вскоре его вопли обратились в непоследовательный бред, звучавший воспоминанием о каком-то кошмарном и давно мертвом языке. Я ждал там, пока не уверился, что слышу, как к нам по коридору стремительно шелестит тот изначальный ужас…
Книгу, которую Брюс читал в свою последнюю ночь, я, конечно, уничтожил. Я и сам могу с течением времени позабыть большую часть того, что успел мельком в ней проглядеть. Но только не этот абзац:
…тот, кого увлекли Оне во тенета Свои (пагубной силой Своей, коею источают, пробуждены бысти), пребывает навеки частью Их, немертвой, но новою и ранее не бывшею, и странною телесами, силе Их и мощи споспешествующею.
Я уже говорил, что провел там, во мраке коридора, всего десять секунд, которые показались мне десятью бесконечностями – но разум мой тогда онемел. И весь ужас воспоминания обрушился только потом…
Если есть на свете боги, я молю их ниспослать моему несчастному мозгу покой. И с тою же верностью, что есть на свете злые твари, я молю их дать мне забыть. Но увы, никто не желает ответить ни на первую мою молитву, ни на вторую, так что я вынужден помнить, помнить эту вздымающуюся, извивающуюся громаду переливающегося, радужного зла, всю состоящую из форм и в то же время бесформенную… эту примордиальную, квазиаморфную сущность, движущуюся, как двигается червь… эту незрячую массу, незавершенную сама в себе, но обладающую властью влечь к себе людей – о, все это я бы еще мог забыть. Все это еще не заставило бы меня видеть сны и просыпаться с криком в ледяном, рвотном ужасе перед тьмою.
А вот те смутные лица, глядевшие из нее… навечно ставшие ее частью, все еще страшным образом живые, с широко распахнутыми глазами, полными ужасом понимания… эти лишенные речи человеческие лица, молящие в безмолвной агонии, чтобы я их уничтожил, и эту тварь вместе с ними, тварь, которой быть не должно… эти искаженные лица, замешанные и заключенные в текучие части этой кощунственной… вещи – эти лица, среди которых я различил, смутно, но безошибочно, лицо моего друга, Брюса Тарлтона – их я не забуду уже никогда.
Чарльз Э. Таннер. Из кувшина
У каждого из нас найдется друг, которого мы бы не прочь увидеть засунутым в какой-нибудь кувшин, под пробку – уж не отрицайте. Так оно повелось от начала времен. В общем, будьте осторожны в следующий раз, когда на благотворительном базаре решите подцепить любопытную посудину с прилавка со всякой мелочевкой… Убедитесь сначала, что она точно пустая.
Я представляю вашему вниманию – по настоянию моего друга, Джеймса Фрэнсиса Деннинга – отчет о событии или, вернее, о целой серии событий, случившихся с ним, по его словам, в конце лета – начале осени 1940 года. Делаю я это вовсе не потому, что, подобно Деннингу, питаю надежду, будто публикация может вызвать серьезное расследование явлений, предположительно имевших место в тот период, но лишь затем, чтобы зафиксировать эту информацию для тех, кто станет в будущем изучать всякие оккультные феномены – или уж психологию, как вам больше нравится. Лично я так до сих пор и не определился, к какой из двух категорий мой рассказ следует отнести.
Будь я из тех, для кого нормальным элементом реальности являются всякие там ведьмы, вампиры да оборотни, я бы и на мгновение не усомнился в правдивости деннинговской истории, потому что этот человек свято верит себе сам; к тому же явный недостаток воображения и прозаический, я бы даже сказал, буквальный образ жизни вплоть до указанных событий служат весомым аргументом в его пользу. Ну, и в качестве косвенной улики у нас есть еще нервный срыв блестящего молодого Эдварда Барнса Халпина, который сам по себе о многом говорит. Сей юный исследователь оккультной истории и малоизвестных религий долгие годы близко знал Деннинга, и это у него, Деннинга, в доме беднягу постиг удар, превративший его в увечное, апатичное создание – каким мы знаем его сейчас. Все это – голый факт, подтвердить который может любое количество народу. Что до Деннингова объяснения этому факту, могу сказать только, что оно заслуживает самого тщательного изучения. Если есть в нем вообще хоть какая-то доля истины, ее необходимо самым тщательным образом установить, проверить и записать.
Итак, к делу.
Все началось, по словам Деннинга, летом прошлого года, когда его занесло на распродажу имущества одного из тех маленьких магазинчиков всякого старья, которые гордо именуют себя лавками древностей, а в народе известны разве что как барахолки. Прилавки щеголяли обычным компотом из индийских диковинок, стекла, викторианской мебели и старых книг. Денниг упорно таскался на все подобные мероприятия, потакая своему единственному пороку – загромождать собственную берлогу штабелями дешевых и бесполезных сувениров со всех частей света.
Из этой конкретно пучины он торжествующе вынырнул с резным слоновым бивнем, шаманской маской с Аляски – и глиняным кувшином. Кувшин был совершенно обычный, круглобокий, с коротким цилиндрическим горлышком и глазурованной полосой посередине – синяя глазурь с забавными угловатыми желтыми буквами, в которых даже наш безграмотный Деннинг опознал дальних родственников греческого алфавита. Аукционер сказал, что кувшин страшно древний, не то сирийский, не то самарянский, и в подтверждение гордо ткнул в печать, удерживающую крышку на месте. Крышка тоже была керамическая, под стать самому кувшину, всаженная прямо в горлышко, на манер пробки, и запечатанная со всех сторон обожженной глиной. Вот на этой-то обожженной глине, или что там это было, и был отпечатан весьма любопытный рисунок: два переплетенных треугольника, образующих шестиконечную звезду, с тремя непонятными символами в центре. Аукционер о значении всего этого имел не больше понятия, чем сам Деннинг, зато сумел напустить такого туману, что мой друг клюнул. Он купил кувшин и притащил его домой, где водрузил, несмотря на ворчание жены, на каминную полку в гостиной.
Там посудина и пребывала в относительном забвении месяца четыре или пять. Я говорю, в относительном, так как, судя по всему, это не мешало ей служить постоянным камнем преткновения и даже, не побоюсь этого слова, причиной домашних раздоров между Деннингом и его супругой. Что, впрочем, было вполне естественно, ибо какая достойная леди согласится, чтобы лучшую комнату в доме, и без того небольшом, набивали всяким, с ее точки зрения, бесполезным хламом. Как бы там ни было, а кувшин остался, где стоял. В свете грядущих событий жутко даже представить себе, что эта ужасная вещь торчала там день за днем, в самой обычной гостиной – более того, ее регулярно снимали с полки, вытирали от пыли и бездумно ставили обратно.
Однако именно так дело и обстояло – вплоть до первого визита юного Халпина. Они с Деннингом были давние знакомцы, но за последний год их дружба расцвела пышным цветом – Халпин усердно просвещал товарища относительно бесконечных накопленных им антикварных курьезов. Они работали в одной и той же компании и виделись каждый день – неудивительно, что джентльмены сдружились, хотя ни один из них ни разу не бывал у другого в гостях. Некоторые детали резьбы на пресловутом слоновьем бивне заинтересовали Халпина настолько, что он решил нанести коллеге визит и полюбоваться на приобретение собственными глазами. Молодому человеку тогда не было еще и тридцати, но он уже считался признанным авторитетом в тех таинственных областях мистического и оккультного толка, где царят Черчуорд, Форт, Лавкрафт и вся Мискатонская школа. Его эссе по кое-каким темным местам из «Cultes des Goules»[36] д’Эрлетта были весьма благосклонно приняты американскими оккультистами, не говоря уже об его переводах ранее вычеркнутых фрагментов из гэльской «Leabhar Mor Dubh»[37]. Короче, он был весьма многообещающий студент, в котором признаки явно зарождающейся шизофрении прямо-таки поражали своим полным отсутствием. Одной из характернейших черт его натуры, по словам Деннинга, был живой интерес практически ко всему окружающему.
– Именно так он себя и вел в тот вечер, когда впервые меня посетил, – рассказывал мне Деннинг. – Он тщательно осмотрел бивень, разъяснил все интересные изображения, какие только мог, а остальные наскоро перерисовал, чтобы забрать домой и как следует изучить. Потом взгляд его забегал по комнате и вскоре приметил еще какую-то мелочь, не помню, какую точно, но разговор сразу же переключился на нее. У меня имелась парочка фолсомских наконечников для стрел – этих любопытных кремневых поделок, которые считаются гораздо старше, чем все, что можно найти в Америке, вместе взятое – так он толковал о них добрых минут двадцать. Потом он положил их на место и принялся снова кружить по комнате, подцепил что-то еще и стал рассказывать уже о нем. Я вообще жутко много узнал от Эдда Халпина – но в ту ночь, надо полагать, больше, чем в любую другую нашу встречу. А потом он увидал этот кувшинчик, и глаза у него так и загорелись.
Ну да, так и загорелись, положив начало череде событий, из-за которых нам теперь и приходится все это рассказывать. Халпин в приступе неуемного любопытства схватил кувшин и впился в него взглядом, а потом вдруг страшно разволновался.
– Он же ужасно старый! – вырвалось у него. – Это древнееврейский, смотри, Джим! Где, ради всего святого, ты раздобыл эту вещь?
Деннинг рассказал все как есть, но любопытства его молодого коллеги это не удовлетворило. Несколько минут он пытался всеми правдами и неправдами вытянуть у друга информацию, которой тот очевидным образом не обладал. Было ясно, что Халпин уже знает о находке больше, чем Деннинг, так что поток вопросов вскорости иссяк.
– Но ты хотя бы знаешь, что это за штука, правда? – полюбопытствовал Халпин напоследок. – Что, неужели аукционер ничего тебе о ней не сказал? А предыдущего владельца ты видел? Господи, Деннинг! Как ты вообще можешь собирать все это, если тебе даже не интересно, что оно собой представляет и откуда взялось?
Праведный гнев его был столь непритворным, что Деннинг ударился в извинения, и Халпин неожиданно смилостивился, рассмеялся и принялся объяснять.
– Эта шестиконечная звезда, Джим, известна как Соломонова Печать. В еврейской каббале этим могущественным знаком пользовались многие тысячи лет. Меня заинтересовало его использование в одном артефакте вместе с финикийскими буквами – здесь, на корпусе сосуда, видишь? Вероятнее всего, это свидетельствует об огромной древности предмета. Ты только представь, ведь возможно, это подлинная печать самого Соломона!
– Джим! – Интонация его вдруг резко изменилась. – Джим, продай мне эту вещь, а?
Сейчас кажется невероятным, что Деннинг не уловил ничего необычного в этом осторожном объяснении Халпина. Молодой исследователь явно сознавал всю важность кувшина, но Деннинг настаивает, что для него эта краткая лекция была лишена всякого смысла. Для ясности заметим, что Деннинг-то никаким исследователем отродясь не был, ничего не слыхал ни о каббале, ни об Абдуле Альхазреде или Иоахиме Кордовском – хотя «Тысячу и одну ночь» где-то по молодости скорее всего читал. Одно это уже должно было дать ему какой-то ключ к происходящему. Но нет – он утверждает, что отказался продавать вазу Халпину просто из коллекционерского упрямства. Он посчитал, его собственными словами выражаясь, что «если она для него стоит десятку долларов – то ведь и для меня она стоила не меньше».
Халпин попробовал увеличить первоначальную ставку, но Деннинг уперся и ни в какую. Молодой человек удалился – правда, с позволением приходить в любое время и изучать кувшин, сколько его душе будет угодно.
На протяжении следующих трех недель он и вправду несколько раз приходил. Скопировал надпись на синем бордюре, сделал восковой оттиск печати, сфотографировал сосуд и даже измерил и взвесил его. И все это время его интерес рос час от часу, а вместе с ним росла и предлагаемая цена. Под конец, неспособный повышать и дальше, он опустился до того, что стал умолять хозяина продать артефакт, и тут-то Деннинг, наконец, рассердился.
– Я ему сказал, – рассказывал Деннинг, – я сказал ему, что у меня его просьбы уже в печенках сидят. Еще я сказал, что не продам эту чертову вазу, и все тут, и даже если это будет стоить мне нашей дружбы, кувшин останется моим, точка. Тогда Халпин принялся гнуть в другую сторону – просил открыть кувшин и посмотреть, что внутри. Но у меня был хороший повод не идти у него на поводу: он мне сам говорил, насколько важен этот оттиск печати на глине, и ломать ее я не собирался ни за какие коврижки. На этот счет я проявил такую твердость, что он сдался и принес извинения. Ну, это я тогда думал, что он сдался. Теперь-то понятно, что нет.
Теперь это нам всем понятно. На самом деле Халпин вознамерился открыть сосуд любой ценой, а отказался только от одной идеи – честно купить его. Однако несмотря на все его дальнейшие действия, не следует думать, что он пал до банального воровства. Поведение юноши вполне объяснимо для всякого, кто в состоянии встать на точку зрения человека науки. Ему открылась возможность изучить одну из сложнейших проблем во всем оккультном искусстве, а чье-то тупое упрямство вкупе с невежеством чинят препятствия!
Халпин решил перехитрить Деннинга, и неважно, как далеко ему для этого придется зайти. Вот так и вышло, что несколько дней спустя Джим Деннинг пробудился в ранний утренний час от легкого и какого-то непривычного шума на нижнем этаже дома. Наполовину проснувшись, он поначалу просто лежал и с прохладцей размышлял, что бы это такое могло быть. Может, жене не спится, и она отправилась вниз за ночным перекусом? Или это шальная мышь шебуршит на кухне? Возможно, донесшийся с жениной постели сонный вздох убедил его, что это не она, а вслед за этим загадочный звук повторился – глухой лязг металла о другой, чем-то обмотанный металл. Весь сон мгновенно слетел с него; Деннинг вскочил, нашарил халат и тапочки и на цыпочках прокрался по лестнице вниз, задержавшись только за тем, чтобы извлечь из ящика стола спрятанный там револьвер.
С лестничной площадки он разглядел смутный свет в гостиной и снова услышал точно такой же лязг. Перегнувшись как следует через перила, он сумел заглянуть в комнату и различить на фоне лежавшего на полу платка света от фонарика темный силуэт мужчины. Впрочем, длинное пальто и шляпа лишали фигуру всякой индивидуальности. Пришелец склонялся над каким-то круглым объектом: вот он поднял молоток и опустил его, резко, но крайне точно, на рукоять долота, которое сжимал в другой руке. Молоток оказался обернут тряпкой, но все равно ночь огласил глухой лязг, который, собственно, Деннига и разбудил. Разумеется, мой друг сразу понял, кто орудует у него в гостиной и над каким круглым предметом он так усердно трудится. Увы, прошло несколько секунд – он никак не мог собраться с силами, чтобы поднять тревогу или остановить грабителя – и эти несколько секунд решили все. Сам Деннинг не сумел мне внятно объяснить причину подобного промедления, однако я его достаточно хорошо знаю и думаю, что им просто-напросто овладело любопытство. Ему ужасно захотелось узнать, на что Халпину так сдалась эта чертова ваза. В общем, он сидел тихо, но, как оказалось недостаточно, так как несколько мгновений спустя некий легкий шум с его стороны достиг ушей Халпина, и тот ударился в панику. Последний кусок печати как раз отвалился – молодой человек вскочил, так и сжимая в руках крышку от кувшина, в которую бессознательно вцепился. Почти вне себя от ужаса, что его поймали, как говорят законники, in flagrante delicto[38], он затараторил, сбивчиво и моляще:
– Только не надо звать полицию, Джим! Послушай меня! Я не собирался его красть, Джим, поверь мне. Если бы я хотел украсть, я бы давно уже был таков вместе с кувшином. Честно, Джим! Дай, я все тебе расскажу… Да, это один из Соломоновых кувшинов. Я просто хотел открыть его, Джим! Боже правый, да неужели ты даже никогда о них не читал? Есть же всякие арабские сказки, легенды – ты же должен был слышать хоть что-то! Я тебе все сейчас расскажу…
Пока он болтал, Деннинг успел спуститься в комнату, подойти к горе-грабителю, взять его плечи и хорошенько потрясти.
– Прекрати молоть чепуху, Халпин! Не валяй дурака. И кувшин, и его содержимое пока еще мои. Возьми себя в руки и выкладывай все, что у тебя есть про него.
Халпин проглотил свою панику и испустил глубокий вздох.
– Существует множество арабских и еврейских легенд, в которых говорится о группе или классе сущностей, именуемых джиннами. Значительная часть этой информации, разумеется – форменные благоглупости, но насколько мы можем судить, джинны – это такие сверхсущества с иного, отличного от нашего плана бытия. Их еще называют Древними, Старшими или Преадамитами. Возможно, есть и еще десятки имен – если это действительно те же самые сущности, что фигурируют в мифах других стран и народов. Они правили миром в дочеловеческие времена, но междоусобные распри и сложившиеся во время Ледникового периода условия привели к тому, что они почти исчезли с лица земли. Впрочем, немногие оставшиеся в живых причиняли достаточно вреда людям вплоть до эпохи царя Соломона.
Арабские легенды утверждают, что он был величайшим из всех владык земных, и с оккультной точки зрения, я полагаю, это действительно так – несмотря на то, что царство его даже в том веке представляло собой крошечную точку на карте. Зато магические познания Соломона оказались достаточно велики, чтобы пойти войной на джиннов и победить. А дальше, поскольку убить их не было никакой возможности (обмен веществ у них кардинально отличается от нашего), он загнал их в кувшины, запечатал и вверг в пучину морскую!
Деннинг продолжал тупо смотреть на него.
– Но не хочешь же ты сказать мне, что ожидаешь найти в этом кувшине джинна, а, Халпин? Нежели ты такой суеверный дурак, чтобы верить…
– Джим, я не знаю, во что верить, а во что нет! История не сохранила данных о том, чтобы такие сосуды кто-то находил раньше. Но я знаю, что Древние некогда действительно существовали, и, изучив этот кувшин, оккультист мог бы очень многое узнать о…
Пока тот разглагольствовал, взгляд Деннинга упал на кувшин, который валялся там, где упал, когда Халпин вскочил на ноги. Все волосы у него на шее встали дыбом от ужаса.
– Ради всего святого, Халпин! – выговорил он, заикаясь. – Ты только погляди…
Не успел он договорить, как Халпин уже впился взглядом в свою вожделенную посудину – и отвести его уже не смог. А из горлышка прямо у них на глазах медленно, как слизняк, ползла какая-то густая, тягучая, синеватая, слабо светящаяся масса. Она растекалась лужей по полу, выпуская во все стороны интересно изогнутые ложноножки и вообще вела себя не как инертная вязкая среда, а как… как амеба под микроскопом. И к тому же из нее поднимались – будто она была сверхлетучим веществом – короткие струйки густого пара или дыма. До их слуха донеслось поначалу едва различимое, а затем уже более громкое, размеренное, неторопливое «клак – клак – кла-а-ак» – и его издавала, распространяясь, сама масса!
Двое мужчин совершенно позабыли о своей ссоре. Деннинг подошел к Халпину поближе и в страхе вцепился ему в плечо. Тот стоял, окаменев, будто статуя, но дышал при этом, как спринтер. И так они стояли там, и стояли, и стояли… глядя, как это фантастическое желе течет, дымясь, по полу.
Полагаю, больше всего их напугало свечение, исходившее от таинственного вещества – тусклый, синеватый отблеск, весьма своеобразного оттенка, который никак не мог быть отражением фонарика, до сих пор отбрасывавшего хвост света на пол. Источаемый им туман тоже обладал определенными свойствами, ибо вел себя не как обычный туман, а как нечто практически разумное. Он плавал под потолком комнаты и будто чего-то искал, при этом избегая обоих мужчин, будто страшился коснуться их. И он постоянно прибывал! Масса на полу очевидным образом испарялась – было ясно, что она скоро совсем закончится.
– Это… это одно из тех твоих созданий, да, Халпин? – прошептал Деннинг, внезапно охрипнув.
Но Халпин ничего не ответил, а только сжимал ему руку – все сильней и сильней.
А дымка меж тем начала медленно вращаться, исторгнув у него, наконец, глубокий, судорожный вздох. Кажется, это зрелище в чем-то его убедило: он наклонился к Деннингу и прошептал в ответ с известной уверенностью в голосе:
– Это точно один из них, Джим. Иди, встань у двери, я сейчас сам с ним разберусь. Я кое-чего знаю из книг – много их прочел.
Деннинг послушно попятился, благодарный за предложение, хотя и не зная, чего ему теперь больше бояться – синей слизи или старого приятеля, которому такие жуткие вещи, оказывается, были не в новинку. Стоя у порога и смутно надеясь, что предательские ноги не подведут, если вдруг возникнет необходимость срочно бежать, он наблюдал за жутким процессом материализации. У меня есть основания полагать, что от последствий этого переживания он так никогда полностью и не оправился – ибо, несомненно, вся его жизненная философия в то мгновение изменилась необратимо. Я заметил, что Деннинг теперь регулярно ходит в церковь… Впрочем, тогда он, как я уже говорил, просто стоял и смотрел. Смотрел, как пар или дым, или туман, или что там такое это было, вращается все быстрей и быстрей, поглощая заблудившиеся струйки, успевшие расползтись по углам комнаты, всасывая их в центральный столп и становясь постепенно почти осязаемым. О да, осязаемым. Наконец, он перестал крутиться и теперь возвышался посреди гостиной, подрагивая, изгибаясь – желеобразный, гибкий, но тем не менее совершенно плотный.
И будто невидимый скульптор у них на глазах лепил его, столп изменялся. Впадины появлялись тут, выпуклости – там; сама поверхность неуловимо становилась другой. Она больше не была гладкой и полупрозрачной, нет – теперь она стала грубой и чешуйчатой, утратила большей частью свою лучезарность и обрела неопределенный, мшисто-зеленый оттенок, став… чем-то. Или кем-то. По мнению Деннинга, это и был самый страшный момент во всем приключении. И не потому что представшая их глазам тварь была как-то особенно ужасна собой – просто в этот самый миг мимо дома проехал какой-то запоздалый автомобиль, и свет его фар бросил зловещий отблеск на стены и потолок. И вот этот-то контраст между обычным, нормальным миром, в котором имел счастье обитать этот злосчастный автомобилист, и творившимся в его собственной гостиной кошмаром, чуть не оказался слишком для разума замершего у двери человека. Ну, и кроме того, фары только яснее высветили все омерзительные подробности облика возвышавшегося над ними существа.
Потому что существо именно возвышалось. Росту в нем, судя по всему, было футов девять, потому что голова его доставала до потолка маленькой Деннинговой комнатки. Оно обладало приблизительным человекоподобием – то есть стояло прямо и конечностей имело четыре, две верхних и две нижних. Еще у него была голова и что-то вроде лица на ней. На этом, впрочем, сходство с человеком заканчивалось. Голову венчал высокий гребень, бежавший ото лба назад, к основанию шеи. Ни глаз, ни носа на лице не наблюдалось – их место занимало нечто вроде цветка морского анемона; под ним располагался рот с верхней губой, похожей на сильно выдающийся мясистый клюв, так что все устье имело форму эдакой сардонической буквы «V».
Передняя часть туловища отличалась плоской, равномерной гладкостью ящеричного брюшка, ноги были длинные, чешуйчатые и ужасно костлявые. То же можно было сказать и о руках, оканчивавшихся поразительно деликатными и поразительно человеческими кистями. Халпин наблюдал за материализацией с жадностью ястреба, и как только процесс завершился, как только сокращение мускулов засвидетельствовало сознательный контроль над ними со стороны хозяина, ученый разразился потоком странных, нечленораздельных слов. Оказывается, Деннинг был настолько взвинчен, что разум его бессознательно зафиксировал каждую деталь происходящего, и слова, произнесенные Халпином, он запомнил с точностью до звука. Тот говорил на каком-то малоизвестном языке, и перевода мне отыскать не удалось, так что я просто воспроизведу их здесь для всякого исследователя, которые пожелает работать с ними дальше:
– Iä, Psuchawrl! – вскричал он. – Ng topuothikl Shelemoh, ma’kthoqui h’nirl!
Услышав это, ужас зашевелился. Он наклонился и сделал шаг к распрямившемуся Халпину. Лицевая розетка у него приподнялась, как брови у удивившегося человека, а затем – он заговорил. Халпин, что странно, ответил ему по-английски.
– Я требую платы! – храбро воскликнул он. – Никогда еще не случалось такого, чтобы кого-то из вашего племени освободили и он взамен не даровал бы освободителю исполнение одного желания – если в его силах такое исполнить.
Тварь поклонилась – взаправду поклонилась. Глубоким – нечеловечески глубоким – голосом она выразила то, что могло быть только согласием. Джинн сцепил руки там, где у него, по идее, располагалась грудь, и склонился в издевательском смирении, распознать которое сумел даже парализованный ужасом Деннинг.
– Очень хорошо! – важно сказал ему на это преступно беспечный Халпин. – Я хочу знать! Таково мое желание – знать. Я всю свою жизнь был исследователем, я искал, искал и так ничего и не нашел. А теперь – я хочу познать природу вещей, причину и смысл бытия и конец, к которому мы все идем. Скажи мне, зачем мы здесь, какое место человек занимает в этой вселенной, а вселенная – в космосе!
Тварь, джинн, или чем она там на самом деле была, снова поклонилась. Почему, ну почему Халпин в упор не видел, что она откровенно над ним издевается! Она снова сцепила свои невероятные человеческие руки вместе, потом развела их в стороны, и с пальцев на пальцы прыгнул целый рой искр. В гуще этой блистающей круговерти нечто начало обретать форму, стало прямоугольным, потом плотным и, наконец, превратилось в небольшое окно. В окно за серебряной решеткой, с мнимо прозрачными ставнями, за которыми – с того места, где стоял Деннинг, по крайней мере – не было ничего, одна лишь кромешная чернота. Чудовище сделало какое-то движение головой и произнесло одно только слово – и единственное, которое Деннинг сумел разобрать.
Оно сказало:
– Смотри!
…и Халпин послушно сделал шаг вперед и заглянул в окно.
Деннинг утверждает, что пока он смотрел, можно было сосчитать примерно до десяти. Потом молодой человек сделал пару шагов назад, споткнулся о кушетку и сел.
– О! – тихо пробормотал он. – Вот, значит, как!
По мнению Деннинга, он сказал это совсем как маленький ребенок, которому любящий родитель только что разъяснил какой-то важный и трудный вопрос – и больше не пытался ни встать, ни как-то прокомментировать узнанное, ни издать еще хоть какой-то звук.
А джинн, или Древний, или демон, или ангел, словом, это непостижимое существо снова поклонилось, отвернулось и попросту исчезло.
После этого транс ужаса, в котором благополучно пребывал Деннинг все это время, каким-то образом спал с него, он кинулся к выключателю, и комнату залил свет.
Пустой кувшин валялся на полу – а на софе сидел человек, глядевший в пустоту перед собой с выражением несказанного отчаяния на лице.
Мало что осталось поведать. Деннинг позвал жену, кратко и криво пересказал ей случившееся (полиция потом получила расширенную версию событий), а остаток ночи честно пытался привести Халпина в чувство. Наутро послали за доктором, и молодого человека перевезли в его собственную квартиру. Оттуда Халпин перекочевал в государственное учреждение для душевнобольных, где и пребывает в настоящий момент. Он постоянно погружен в размышления. Если обратиться к нему или попробовать как-то расшевелить, он смотрит на вас с печальной и жалостливой улыбкой, а потом снова уходит в себя. И помимо этой улыбки, полной беспомощного сострадания к обреченным, единственная его эмоция – полное и абсолютное отчаяние.
Эдмонд Гамильтон. Разум Земли
Лэндона я не видал года два – вплоть до того самого дня, когда Нью-Йорк узнал, что такое ужас.
Этот день помнят все – вскоре после полудня земля неожиданно задрожала, встряхнув весь остров с его гордыми башнями и рассыпавшимися вдребезги окнами. Но даже последовавшая за этим буря панических криков не смогла заглушить долгий, скрежещущий гул движущейся земли под ногами.
Я как раз по случаю был в центре и продирался сквозь торопливо спешащую по своим делам толпу, когда мощный толчок и дрожь в глубинах земли вдруг превратили ее в смятое ужасом, мелово-бледное, хрипло блеющее стадо. Целых пять минут она вместе со всеми нью-йоркскими миллионами пробовала на вкус незнакомый, настоящий, физический страх, а земля колыхалась у нее под ногами. Потом дрожь стихла, и я увидел Лэндона.
Он стоял в толчее почти напротив меня, и лицо у него было такое странное, что я не сразу его узнал. А все дело в том, что на нем была написана не просто паника, которую и так источали все вокруг, а ужас за пределами всякого ужаса, глубокий и чуждый человеческой психике кошмар. Темные его глаза глядели с этой белой искаженной маски, словно в самое жерло преисподней. Ну да, потом я его все-таки узнал.
– Кларк Лэндон! – закричал я. – Почему ты мне не сказал, что возвращаешься? Я даже не знал, что ты в стране!
Он так пригвоздил меня взглядом, что у меня мороз по коже пробежал.
– Я только два часа назад приземлился, Моррис, – негромко сказал он. – Долбаных два часа, и видишь, что успело случиться.
– В чем дело, Лэндон? – встревожился я. – Неужели это землетрясеньице тебя расстроило? Ну не после же того, полярного, которое ты благополучно пережил – я как раз о нем сейчас читаю…
– Ах, полярное… – так же тихо промолвил он. – Стало быть, ты читаешь о том, как погибли Тревис и Скил, а я выжил? Да, я уцелел. И с тех пор побывал во всех землетрясениях, принявшихся раздирать эту планету – в Норвегии, в России, в Египте, в Италии, Англии – а теперь даже тут, в Нью-Йорке.
– Можно подумать, землетрясения следуют за тобой по пятам! – вскричал пораженный я. – Но говорят, что все эти большие и малые сотрясения – следствия того полярного катаклизма, через который ты прошел. Говорят, он чего-то где-то стронул и стал причиной серии толчков, которые с тех пор прокатились по всей Земле.
– С тех самых пор, – медленно повторил Лэндон. – Да, именно с него-то, первого, все и началось.
Он смотрел куда-то сквозь меня, погрузившись в странную отрешенность. Улицы вокруг нас уже почти пришли в свой обычный вид; миллионы граждан стряхнули краткую панику и вернулись к своим торопливым делам, от которых никакое землетрясение не способно их надолго отвлечь. Куда-то несущиеся прохожие уже безмятежно толкали нас плечами со всех сторон.
– Слушай-ка, Лэндон, – взял я быка за рога. – Ты совершенно погано выглядишь. Моя квартира всего в паре кварталов отсюда; идем ко мне, посидишь, придешь в себя – тебе скоро станет лучше.
– Боюсь, этого недостаточно, чтобы мне стало лучше, Моррис, – отозвался он.
Но со мной все-таки пошел. И когда мы уселись у окна с видом на муравьиные тропы уличного транспорта, расчертившие весь город, – кажется, даже немного расслабился. Сидя напротив, я пытался понять, что за странный ужас до сих пор терзает его, – но сумел лишь убедиться, что страх этот вполне реален, и что Лэндон, судя по всему, стал совершенно другим человеком.
Тот Кларк Лэндон, которого знал я, гибкий, черноволосый парень, которому опасность обещала только одно – живейшее наслаждение, вряд ли вообще понимал значение слова «страх». Геология и приключения были его двойняшками-хобби, и к обоим он относился с одинаковой страстью, а унаследованные от предков деньги предоставили возможность сочетать одно с другим в бесконечных экспедициях, с которыми он и его неразлучные друзья по науке и авантюрам, Дэвид Тревис и Герберт Скил, прочесывали самые отдаленные уголки мира. Больше двух лет назад Лэндон, Тревис и Скил как раз отправились в одну такую, в район Северного полюса. Цель ее Лэндон обозначил как исследование неких геологических аномалий, по косвенным данным, существующих неподалеку от полюса, но всем и так было ясно, что ими движет жажда новых приключений – не в меньшей, во всяком случае, степени, чем желание пополнить сокровищницу геологических знаний человечества.
Эти трое отправились в путь на зафрахтованном Лэндоном ледоколе, который доставил их аж к северным берегам Земли Гранта. Оттуда Лэндон, Тревис и Скил двинулись дальше на север на собачьих упряжках и в сопровождении двух эскимосов, полагая, что с имеющимся оснащением вполне смогут достичь места назначения, расположенного в нескольких сотнях миль южнее полюса, и без проблем вернуться назад.
Через десять дней после высадки с судна случилось страшное землетрясение, с беспрецедентной яростью сотрясшее весь арктический регион. Эпицентр, по данным сейсмографов, находился немного южнее полюса. Доставившая путешественников шхуна чудом избежала гибели, смогла-таки увернуться от движущихся льдов и, как и было оговорено в контракте, продолжила ждать партию – хотя надежда таяла буквально на глазах. За первой катастрофой последовали целых две недели толчков послабее, распространявшихся, что интересно, на юг. Потом объявились Лэндон и один из эскимосов. Этот последний умер на следующий день. Лэндон и сам был в очень тяжелом состоянии, но его удалось вернуть к жизни. Он рассказал команде корабля, что основной удар действительно случился ровно там, где стояла экспедиция, и что Тревис, Скил и второй эскимос в результате лишились жизни. Путь на юг восстановил его силы, и, фантастическим образом избегнув столкновения с расплодившимися в этих морях айсбергами, ледокол прибыл в Галифакс. Пока Лэндон был там, случилось еще одно жуткое землетрясение, уничтожившее половину города. Самому ему удалось уцелеть. За последующие два года о Лэндоне благополучно забыли, но сама полярная катастрофа частенько всплывала то там, то сям, потому что с тех самых пор землю принялись терзать сильнейшие толчки и тектонические сдвиги. Они бессистемно перескакивали с одной локации на другую: с Ньюфаундленда в Норвегию, из России в Египет, из Италии, в Англию. Ученые пришли к выводу, что причиной их являются серийные подвижки в структуре планеты, нарушенной великим полярным толчком, в котором необъяснимым образом удалось выжить Лэндону.
О нем самом я не слышал вообще ничего с тех самых пор, как он покинул Галифакс. И вот теперь он сидел напротив, а я недоуменно глазел на то, до какой степени он изменился. Не иначе как все было крупными буквами написано у меня на лице…
– Думаешь, что я изменился, Моррис? – спросил Лэндон, бросив на меня мимолетный взгляд. – Да не спорь, я знаю, что изменился. Я знаю, что отпечаталось на мне…
– Тревис и Скил… – неуклюже начал я.
– Тревис и Скил мертвы, – мрачно оборвал меня он. – И им крупно повезло. Не их гибель изменила меня, хотя они были самыми лучшими друзьями, о каких только может мечтать человек. Дело все в том, как они погибли…
– Трое нас вышли в путь, – продолжал он, глядя сквозь меня. – И третий все еще жив. Интересно, надолго ли?
– Лэндон, ты слишком на этом зациклился, – попробовал вмешаться я. – Я могу себе представить, каким страшным опытом для тебя стало это полярное землетрясение, но…
– Нет, не можешь! – взорвался он. – Никто не может! Моррис, ты только что видел меня в полной панике, когда город затрясло. Скажи, ты удивился?
– Если честно, да, – медленно проговорил я. – Но я понимаю, до чего тебя довело то, первое землетрясение – и все остальные, которые случились с тобою с тех пор.
– То, что они случились со мной, была совсем не случайность. – Внезапно он наклонился вперед и схватил меня за руку. – Моррис, ты можешь себе вообразить такую вещь, как землетрясения, следующие за человеком по всей земле, куда бы он ни отправился, преследующие его, ищущие? Корежащие землю, переворачивающие города и убивающие десятки тысяч людей, чтобы только добраться до одного этого беглеца? Землетрясения, гоняющиеся за одним-единственным человеком с убийственными намерениями?
– Землетрясения, гоняющиеся за человеком? – переспросил я. – Какая дикая идея! Не думаешь же ты на том только основании, что волею случая оказался за последние два года во всех этих местах…
– Я не думаю, – отрезал он. – Я знаю. Я совершенно уверен в том, что землетрясения преследуют меня по всей земле эти два года намеренно и целенаправленно. Даже сегодня, через два часа после того, как я приземлился в городе, они наглядно доказали, что все еще висят у меня на хвосте!
– Лэндон, ну не можешь же ты в самом деле верить в такую чушь! – запротестовал я. – Возьми себя в руки, парень, давай рассуждать логично. Землетрясение – это просто перемещение земных масс. Как такое явление может намеренно следовать за тобой?
– Я-то знаю, как. – Взгляд у него сделался странный. – Тревис и Скил тоже знали – пока не умерли. А я знаю и все еще жив – до поры до времени. Я тебе расскажу, Моррис. Заранее не сомневаюсь, что ты мне не поверишь – просто не сможешь, как не поверил бы я сам два года назад. Но ты не верь и просто запомни: мы, люди, многого на свете не знаем, и меньше всего – ту землю, по которой ходим.
Прошло уже два года с тех пор, как мы, Тревис, Скил и я, взяли курс на север. Мы вышли из Сент-Джона на крепкой канадской посудине, специально построенной для работы в условиях Арктики, и с канадской же командой. Корабль должен был доставить нас на самую северную оконечность Грантовой Земли, дальше мы шли сами. Целью нашей экспедиции была крупная ледяная вершина на скальном основании, расположенная милях в трехстах от полюса в нашу сторону. Мы о ней узнали сразу из нескольких источников: она стала камнем преткновения у двух воздушных партий, пролетавших над полюсом. Первая утверждала, что видела большую гору: сквозь прорехи в сплошном ледяном панцире они заметили скальное основание; вторая – что никакой горы в указанной точке нет и отродясь не было. Вот за этим-то мы трое и шли на север – посмотреть, есть там гора или нет.
Если ты хоть что-нибудь знаешь о геологии, то должен понимать, что может означать для науки такая гора, торчащая посреди снежной пустыни на самой макушке мира. Ее наличие безошибочно доказало бы, что подо всеми этими льдами лежит великий полярный континент, и, возможно, сумело бы пролить свет на целый ряд загадок, до сих пор ставящих эту благородную науку в тупик. Можешь себе представить, как нас троих воодушевляла даже самая возможность обнаружить такую гору!
Северный полюс, как тебе превосходно известно, – это, подобно южному, не точка, а целый регион. Наша Земля у полюсов сплющена, и вот эта плоскость вокруг Северного полюса и есть вершина, или, если угодно, центр мира. Там, в этой бескрайней ледяной пустыне, предположительно возвышалась гора, и мы были твердо намерены найти ее.
Наша груженная всем необходимым шхуна вышла из Сент-Джона и два месяца пробиралась по ледяным фьордам к северному концу Земли Гранта. Мы с Тревисом и Скилом подготовили снаряжение и взяли в Северном Девоне пару эскимосов, которые должны были проделать финальный этап пути вместе с нами, – дюжих, выносливых парней по имени Носкат и Шан. На борту вместе с нами находились сани и две собачьих упряжки; мы были готовы двинуться на север, как только море достаточно замерзнет.
Вскоре оно замерзло, и мы пошли. Мы несли войлочные палатки, специальное химическое топливо малого объема и массы, съестные припасы, инструменты и по автоматическому пистолету на брата. Тревис, Скил и Носкат ехали на первых санях, мы с Шаном – на вторых. Десять дней мы двигались на север через бесконечную снежную равнину, делая миль по тридцать в день. Десять дней, триста миль – кажется, не так уж много, да? Ты только учитывай, что это был, так сказать, ад в разрезе. Представь себе мир, в котором все, вообще все, обратилось в сверкающий лед, который простирается во все стороны до самого горизонта, – ничего, кроме светоносной белизны, от которой ломит глаза. Мир, в котором чертов полярный день не кончается никогда – и тебя от него уже мутит. Мир, в котором полярный холод сжимает тебя, как в кулаке, пробираясь через онемелую плоть до самых костей. Представил?
Вот через такой мир мы и шли. Десять дней – каждый казался неделей. Мы просыпались, заталкивали в себя полутеплую еду, распрямляли задубевшие члены, складывали палатки и запрягали собак. И снова шли на север, через гребни и всхолмья снежной пустыни, как пигмеи, затерявшиеся на бескрайней снежной равнине. Все десять дней – пока на десятый не увидели на горизонте гору.
Мы поначалу даже глазам своим не поверили. Мы уже насколько механически тащились вперед, что в этом непрестанном сражении с окружающим миром позабыли о том, куда и зачем идем. И вот когда взгляд наш уперся в эту вершину, вонзающуюся в стального цвета небо далеко впереди, закованную в лед, с темными прорехами по бокам, нас прямо-таки прорвало – мы кричали и кричали, и не могли остановиться.
Мы ринулись вперед, уже почти не замечая трудностей. Еще через день мы подошли к подножию горы, в тысяче футов ниже самой нижней из темных каверн в сплошной глыбе льда.
Ночью мы встали там – и едва смогли уснуть, ликуя от достигнутой цели. Но нас ждали серьезные проблемы. По мере приближения к горе собаки принялись скулить и выть. Их приходилось бить, чтобы заставить двигаться вперед; оба эскимоса постоянно что-то ворчали про себя. И стоило нам разбить лагерь, как земля легонько задрожала – будто заворочалась во сне, так что палатка наша заходила ходуном, а ледяное поле вокруг нее все пошло трещинами.
Мы, признаться, несколько удивились, столкнувшись с подобной тектонической активностью в этом регионе, но и только. А вот на наших эскимосов это событие произвело колоссальное впечатление. Их темнокожие лица стали совершенно синими от страха; несколько минут они что-то лопотали на своем языке, испуганно глядя вверх, на нависавший над нами колоссальный ледяной пик, а потом в панике бросились к нам. Собаки к этому времени принялись странно визжать и плакать, словно от ужаса.
– Нам нельзя здесь оставаться! – взволнованно сообщил нам Носкат. – Это запретная гора на вершине мира, весь наш народ избегать ее. Мы не знать что ваша идти сюда!
– Запретная гора? – переспросил Тревис в своей обычной манере. – И кто же ее запретил?
– Земля ее запретить! – сказал Носкат. – Земля такая же живая как мы. Ей все равно, как люди ходить по ее широкому телу, пока они не приближаться к этой горе!
– Земля живая? Да что за бред ты тут несешь? – властно оборвал его Тревис.
– Это эскимосская картина мира, – вмешался Скил. – Я об этом уже слышал раньше. Они считают, что земля – огромное живое существо, а мы, люди, – просто что-то вроде насекомых, живущих у нее на теле.
– Какая идиотская картина! – пожал плечами Тревис и повернулся обратно к Носкату. – И с какой же стати эта ваша живая земля запрещает кому-то приближаться к этой горе, а?
– Потому что в этой горе находиться разум земли, ее мозг, – торжественно сказал Носкат, а Шан неистово закивал в знак согласия. – Земле не нравиться, что мы так близко подходить к ее мозгу, она шевелить свое большое тело у нас под ногами, чтобы отпугнуть.
– Чушь! – отрезал Тревис. – Никакое это не предупреждение, а просто маленькое землетрясение – нормальное явление природы.
– Все землетрясения – движения тела земли, – упрямо повторил Носкат. – Земля может двигать телом как сама пожелать.
– Это звучит достаточно логично, Тревис, – ухмыляясь, вставил я.
Он резко обернулся ко мне.
– Только не надо их в этом поощрять, Лэндон, – свирепо бросил он. – У нас и так с ними достаточно проблем.
– Это были самые обычные подземные толчки, – обратился он снова к Носкату и Шану, – а все ваши россказни о живой земле – форменные бредни. Мы останемся тут, по меньшей мере, на два дня, и вы двое будете стоять лагерем, пока мы поднимемся на гору, чтобы хорошенько ее изучить.
– Но ваша не должна изучать гору, – взмолился эскимос. – Ваша не сметь приближаться к мозгу земли! Если ваша…
– Довольно! – гавкнул Тревис. – Ты и Шан будете ждать здесь, мы пойдем исследовать гору, и точка. Никаких больше разговоров об этом!
Когда Носкат и Шан удалились в свою палатку, Тревис обернулся к нам с выражением самого живого отвращения на лице.
– Вот уж повезло, так повезло! – воскликнул он в сердцах. – Надо было добраться сюда, чтобы этим двоим снесло крышу от местных суеверий!
– Интересно, насколько это суеверия, – протянул задумчиво Скил.
Мы, оторопев, уставились на него.
– Да какого черта! – вскричал я. – Ты что, веришь в этот вздор о земле как живом и мыслящем существе?
Но Скил был на диво серьезен.
– Я и постраннее вещи слыхал на своем веку, Лэндон. Почему бы земле и не быть живым организмом, а не просто массой неодушевленной материи, как мы привыкли полагать? Да, нам она кажется мертвой, но таким же может казаться и человек всем живущим на нем и в нем микробам. Земле ничто не мешает быть живым существом – все планеты могут оказаться такими, просто их природа и масштабы настолько отличны от наших, что мы не в силах себе этого представить. А если земля живая, она вполне может обладать и сознанием, и разумом, и разум этот в таком случае действует на совершенно чуждых нам планах бытия…
– А дальше ты скажешь, что этот самый земной разум, как утверждает Носкат, находится где-то здесь, в этой горе? – недоверчиво подхватил Тревис.
– Не скажу, – улыбнулся Скил. – Хотя если бы земля и вправду была живым и разумным существом, ее разум должен был бы где-нибудь находиться – и почему бы, собственно, не прямо здесь, на макушке мира?
– А я вот скажу, что ты чокнутый геолог, – вставил я. – Ты ничем не лучше этих двух эскимосов.
– Короче, там этот ваш земной мозг или нет, – резюмировал Тревис, потягиваясь, – а завтра утром мы полезем на эту гору, и точка.
Мы закопались в меховые одеяла, свернулись и, хотя снаружи собаки то и дело снова принимались испуганно скулить, моментально уснули.
Когда мы проснулись, часы уже показывали утро – кто-то тряс нас, пытаясь добудиться. Однако оказалось, что это новая серия толчков сотрясает лагерь, не менее сильная, чем вчера, а может, даже и более. Не успели мы продрать глаза, как все прекратилось и зубодробительный треск льда стих.
Мы поскорее влезли в дневную одежду. Собаки, развизжавшиеся, когда землетрясение началось, смолкли, будто охваченные невыразимым страхом. Палатка все еще качалась от затихающих судорог земли.
– Опять эти чертовы толчки! – выругался Тревис. – Поправьте меня, если я ошибаюсь, но теперь с этими черномазыми детьми погибели совсем сладу не будет.
Пророчество его тут же сбылось. Не успели мы выбраться из палатки в обжигающую полярную стужу, как Носкат и Шан накинулись на нас. Оба были в состоянии полнейшей паники.
По их мнению, дрожь была новым и уже более настойчивым признаком того, что земля недовольна нашим присутствием поблизости от средоточия ее разума и предупреждает, чтобы мы как можно скорее поворачивали оглобли на юг и отправлялись восвояси, пока она не уничтожила нас на месте. Они зашли так далеко, чтобы заявить: если мы не послушаемся, они сами отправятся на юг, без нас, и заберут одни сани.
– Вы останетесь тут, как миленькие. – Холодный голос Тревиса достучался до них даже сквозь мглу ужаса. – Так как сами прекрасно понимаете, что с вами сделают, если вы объявитесь на корабле раньше срока и без нас.
– Но если вы полезть на эту гору, земной разум очень разгневаться! – взвыл Шан. – Вся земля на вас очень разгневаться!
– Хватит с меня этой идиотской болтовни о земле и ее мозгах! – сердито оборвал его Тревис. – Вы двое останетесь тут и будете ждать, пока мы не вернемся – или пойдете с нами. Выбирайте!
От такой альтернативы Носкат и Шан лишились дара речи. Я велел им присмотреть за собаками, которые продолжали вести себя странно, и стал вместе с Тревисом и Скилом готовиться к восхождению на ледяную гору.
Не надеясь принести обратно никаких образцов, даже если нам удастся-таки достичь одного из видневшихся в склонах гротов, мы взяли с собой только по ледорубу на каждого и один камнеруб. На поясе у нас были пистолеты – специально для запугивания эскимосов, если те вдруг решатся сбежать. Мы связались веревкой и, отвесив посредством Тревиса последнее предупреждение аборигенам, полезли вверх по ледяной стене. В тысяче футов над нами в панцире горы виднелось круглое, темное отверстие, ведущее, как мы полагали, к ее каменному телу – вот его-то мы твердо намеревались достичь. Если нам удастся хотя бы бегло его осмотреть, можно считать, что все наше путешествие затевалось не зря.
Поначалу подъем оказался невероятно сложным. Тревис шел впереди, вырубая ступеньки ледорубом по мере необходимости, пользуясь каждой неровностью, каждой трещинкой во льду. Мы со Скилом буквально висели у него на хвосте. Тяжелые меховые одеяния сильно мешали нам, а от холода не спасали – он умудрялся забираться даже под них. Каждые несколько ярдов нам приходилось отдыхать, цепляясь за голый лед, будто какие-то мохнатые зверюги. На каком-то таком привале я посмотрел вниз и увидел Носката и Шана – они стояли возле крошечных отсюда саней и палаток и напряженно следили за нашим продвижением. Потом рельеф склона временно скрыл их от глаз: в нем образовалась ложбина, слегка облегчившая нам путь.
Теперь мы могли ясно различить круглое отверстие во льду у себя над головой – и даже понять, что оно действительно достает до черного каменного тела горы. Это подстегнуло наш энтузиазм, мы припустили вверх. Ледоруб Тревиса бодро грохотал впереди, пока он не ухватился, наконец, за край грота, не влез, подтянувшись, внутрь и не втащил следом нас со Скилом.
Мы просто лежали там, на полу пещеры, едва переводя дух, когда пришел новый толчок, и земля затряслась – куда сильнее прежнего. Казалось, вся гора и ледяные поля вокруг так и заходили ходуном, а откуда-то снизу донесся могучий глухой рев. Мы не шевелились. Через мгновение все прекратилось.
– Боже ты мой! – воскликнут Тревис, когда мы встали. – Если бы это случилось мгновенье назад, на склоне, худо бы нам пришлось.
– Чертовы толчки! – выразился я. – Если этот последний таки спугнул Носката и Шана, я совсем не удивлюсь.
Мы глянули вниз и увидели их на льду рядом с палатками. Оба стояли на коленях и делали отчаянные жесты в сторону нас и горы – видимо, умоляли вернуться.
Мы отрицательно затрясли головами, а Тревис красноречиво и нелицеприятно велел им оставаться где стоят. Вроде бы они чуточку успокоились, и он снова повернулся к нам.
– Думаю, никуда они не денутся, – сказал Тревис. – Им страшнее возвращаться на корабль без нас, чем торчать тут. Но нам и самим хорошо бы не засиживаться наверху слишком долго.
Скил уже жадно таращился в глубину пещеры, в устье которой мы оказались.
– Вы только поглядите! – только и сумел выдавить он.
Мы поглядели и сами буквально остолбенели. Мы стояли в самом конце совершенно круглого тоннеля, убегавшего по прямой и слегка под уклон внутрь горного массива. Диаметра в нем было футов тридцать – и да, он оказался совершенно прямой, словно пробуренный гигантским сверлом. Льда в нем не было совсем, зато был устойчивый поток сквозняка. Мы быстро обследовали стены – потом обследовали их еще раз, с нарастающим изумлением. Настоящий кошмар геолога! Порода была начисто лишена страт – просто гладкий черный камень, словно явившийся из самого сердца земли.
– Ну, мы с вами кое-что нашли, помяните мое слово! – воскликнул вне себя от возбуждения Тревис. – Это же довулканическая порода! Ни о чем таком геология до сих пор и слыхом не слыхивала!
– А это отверстие, этот ведущий в гору тоннель? – вмешался я. – Что могло его сформировать?
– Один бог знает, Лэндон! Но остальные отверстия в склонах горы просто обязаны представлять собой точно такие же тоннели. И все они наверняка ведут в какое-то центральное пространство или полость, судя по сквозняку, по крайней мере!
Тревис отцепил от пояса плоский металлический фонарик и посветил им в тоннель. Слабый, трепещущий лучик пробежал несколько сотен футов, но выхватил из тьмы только те же неизменно гладкие, черные каменные стены.
– Узнать, куда он ведет, мы сможем только одним способом, джентльмены, – молвил Тревис. – Идемте и посмотрим. Вы, двое, пошли!
И мы пошли вниз. Угол наклона оказался недостаточно велик, чтобы представлять для нас опасность, но пол, как и стены, отличался такой гладкостью, что идти было нелегко. Мы как раз сражались со скользкой поверхностью, когда пришел новый толчок; коридор закачался, буквально выдернув пол у нас из-под ног. Мы к тому времени были так взволнованы геологическими странностями тоннеля и всей горы вместе с ним, что на маленькое землетрясение уже не обратили никакого внимания. Мы шли вперед; луч Тревисова фонарика рыскал впереди, а круг белого света в устье пещеры отступал все дальше назад и вверх. На следующую судорогу, настигшую нас несколько мгновений спустя, нам уже было совершенно наплевать – как и на ту, что случилась непосредственно за ней.
Так мы шли где-то с четверть часа и прошли, наверное, с полмили. Теперь туннель слегка изгибался, вместо того чтобы бежать прямо, как по линейке, однако, направление сохранял – вниз и к центру горы. Тряска и содрогания земли уже стали почти непрерывными. Стены тоннеля качались – не то чтобы слишком сильно, но весьма заметно, а звук постоянного движения земных масс превратился в грозный монотонный гул и ворчание, поднимавшееся откуда-то снизу. Странность этого затяжного землетрясения поборола даже наше восторженное возбуждение, и мы встали посреди тоннельной дуги; Тревис быстро чиркал лучом света то взад, то вперед.
– Странная все-таки тряска! – воскликнул он. – Слишком постоянная. И к тому же, кажется, усиливается.
– По мне, так вся эта гора донельзя странная, – отозвался Скил. – Скажите, вы, парни, ничего особенного не почувствовали?
Мы так и уставились на него. Мы действительно кое-что чувствовали, и ощущение это постоянно нарастало – такое необычное, что ни Тревис, ни я не отважились о нем даже упомянуть. Это было ощущение осязаемой и могущественной силы, которая текла мимо нас и насквозь из самого сердца горы, и сила эта оказывала крайне непривычное воздействие на мою волю. Проще всего будет описать эффект так: чем дальше мы углублялись в туннель, тем больше над моей волей и личностью брала верх некая другая воля или сила, совершенно чужая и чуждая. Иными словами, я с каждым шагом становился все меньше Кларком Лэндоном и все больше чем-то огромным и странным, чье сознание неуклонно вытесняло из меня лэндоновское.
– Да, я почувствовал, – сказал я Скилу. – Не знал, что и ты тоже. А ты, Тревис?
Тот озадаченно кивнул.
– Я тоже почувствовал. Там, внизу, должен быть источник радиоактивного или электромагнитного излучения; чем ближе мы к нему подходим, тем сильнее он на нас действует.
– А землетрясение? – спросил Скил. – Стоит ли нам идти дальше, невзирая на него и на это, как ты говоришь, излучение?
– Да к черту ваше землетрясение! – раздраженно воскликнул Тревис. – Там, внутри горы, кроется что-то невиданное, потрясающее, и мы пойдем вперед, землетрясение там или нет!
– А ты что думаешь, Лэндон? – настаивал Скил.
Я с сомнением переводил взгляд с него на Тревиса и обратно.
– Ну, в конце концов, мы бывали и в худших передрягах, – сказал я наконец. – И, думаю, Тревис совершенно прав, что там, в горе, спрятано нечто удивительное.
– Да я и сам так думаю, – заметил Скил. – Но эта тряска совершенно очевидно намекает, что шли бы мы с вами обратно!
– Ох, нет! Опять эта дребедень! – застонал Тревис. – Ты что, опять собираешься читать нам лекцию про земные мозги? Хватит с нас Носката!
– Нет, – возразил Скил. – Если вы идете дальше, я с вами.
– Так пойдемте же дальше! – подытожил я. – Мы все равно особенно далеко не зайдем, потому что решили не торчать тут слишком долго – помните?
И мы снова пошли. Туннель пологой дугой загибался вниз. Ветер все так же упорно дул мимо нас вдоль по коридору, и я невольно задумался, что же там, в конце, такое, и зачем ему все эти воздушные потоки, которые оно втягивает через выходящие на склоны горы туннели…
А толчки между тем стали еще сильнее; должно быть, уже вся гора гневно сотрясалась у нас под ногами. Мы двигались вперед, не перемолвившись по этому поводу ни словом. Ставить ноги прочно на скользкий и вдобавок качающийся пол становилось все труднее; нас периодически кидало об стену, иногда даже весьма чувствительно. Но мы все равно шли; тайна, которую, несомненно, скрывала гора, влекла нас вперед.
Ибо неведомая сила, наступавшая на нас со всех сторон со всевозрастающей мощью, явно была неизвестна науке – и никому из цивилизованных людей. Ощущение натиска чьей-то колоссальной воли становилось все отчетливее, все неодолимее. Ты вообще можешь представить себе силу столько чудовищную, что одна только близость к ней уже чувствуется как вполне осязаемое давление, Моррис? Вот как раз это мы и переживали. Скил был очень серьезен; Тревиса, судя по всему, одолевали самые противоречивые эмоции. Опасливо, нерешительно, но мы все-таки продвигались вперед. Землю трясло уже совершенно немилосердно; стены туннеля ревели и содрогались. Но все происходящее было так странно, от осознания того, что некая гигантская, загадочная сила хочет нам воспрепятствовать, так мутилось в голове, что на подобные мелочи мы уже не обращали никакого внимания.
Заложив еще одну дугу по бегущему вниз туннелю, мы увидали вдали смутный, призрачный свет и услыхали сквозь зубодробительный треск шевелящихся скал негромкий, равномерный гул. Будто куклы, ведомые какой-то посторонней волей, мы двинулись вперед, к этому свету. По мере приближения к нему натиск странной силы сверху усилился до такой степени, что почти пригнул нас к земле. Последний толчок едва не сбил нас с ног, но даже Скил, кажется, уже не возражал, ибо в это самое мгновение мы достигли источника этого мерцающего света и внезапно выбрались из темного туннеля в какое-то открытое, сияющее пространство. Где и замерли, остолбенев.
В тот же миг землетрясение полностью прекратилось, но мы этого факта совершенно не заметили – разве что бессознательно. Перед нами раскинулась обширная пещера, столь огромная, что должна бы, по идее, занимать всю гору целиком. Она имела с полмили в диаметре и была конической по форме.
Дюжина туннелей открывалась в нее. Пещеру заливал дрожащий, мерцающий свет, исходивший от… без сомнения, самого фантастического и грандиозного объекта, который только доводилось видеть человеку. Я даже сейчас не смогу описать тебе и одной десятой всего грозного великолепия этой штуки, покоившейся в самом центре этой конической пещеры, прямо на каменном полу; штуки, на которую теперь зачарованно таращились мы трое.
Попробуй представить себе огромное яйцо, состоящее из чистого света, футов ста высотой, стоящее на узком конце. Вот это мы тогда и увидели – колоссальный овоид из света или чистой энергии, возвышавшийся посреди пещеры и излучавший заливавшее ее сияние, а заодно боровшуюся с нами загадочную силу и низкий рокочущий гул, который мы заслышали еще в туннеле.
Этот овоид был, казалось, всех цветов сразу. Они менялись с непредсказуемой быстротой, как на стремительно перематываемой кинопленке. И эти летящие краски воспроизводили все цвета, какие только есть на земле. То он вдруг вспыхивал багрянцем вулканического жерла, истекающего жидким пламенем. То алый сменялся безмятежной синевой, какая бывает только у горных озер. Синева превращалась в теплый коричневый оттенок свежей борозды, а он, в свою очередь, – в зелень океанских глубин или желтизну весенних цветов.
Все это менялось, вращалось и плыло в гигантском яйце света – безостановочно, непрерывно. И подобно тому, как в этих цветах отражались все краски живой земли, так и в мягком гуле овоида сливались и перемешивались все естественные звуки природы: грохот лавин и медленно ползущих ледников и треск страдающего камня. То в нем слышался вой ураганов, то нежный шепот морских бризов; то лепет ручьев, то шорох дождя, то величавый хор бьющегося о землю прибоя.
От нижнего конца яйца отходили бесчисленные световые щупальца, углублявшиеся в скальное ложе пещеры – не в отверстия, а прямо в сам камень, проникая сквозь него беспрепятственно, как… как свет сквозь стекло. Даже в том потрясенном состоянии мне подумалось, что эти световые тентакли, должно быть, неизмеримо длинны и отсюда, с обледенелой макушки мира, уходят в самую толщу земли, обнимая всю планету.
Пока мы со Скилом и Тревисом не могли оторвать глаз от этого сверхъестественного зрелища, из нижнего конца яйца выстрелило, формируясь буквально у нас на глазах, новое сияющее щупальце. Оно прочертило всю пещеру и обвилось вокруг нас. Хваткой этот мерцающий свет мог сравниться разве что с литой сталью; забрав нас, он вернулся к своему источнику.
Теперь между нами и яйцом были считанные футы. Что и говорить, странная вышла сцена: титаническая пещера, невероятный светящийся овоид посередине, мигающий разными красками, гудящий, размахивающий тентаклями – и сжимающий в безжалостном световом кулаке Тревиса, Скила и меня!
Эта светящаяся штуковина держала нас так, будто хотела рассмотреть поближе, и каким-то образом я без тени сомнений знал, что она нас действительно рассматривает, изучает и препарирует посредством каких-то таинственных, скрытых в этой массе света чувств, которые не имеют ни малейшего сходства с теми чувствами, которые знакомы нам, и оперируют на совершенно иных планах бытия. Воздействие ее неизмеримого разума, ее неодолимой воли было вполне осязаемым.
До моих ушей сквозь гул возвышающегося над нами яйца донесся тонкий, как комариный писк, голос Скила:
– Разум Земли! Эскимосы были правы – это сам земной разум!
– Разум Земли… – беззвучно, одними губами повторили мы с Тревисом, так пока и не выйдя из ступора.
Ибо каким-то образом мы уже знали, и знали с абсолютной точностью, что перед нами действительно мозг живой земли, божественный разум, объемлющий все цвета и все звуки, какие только существуют в ее необъятном теле, и проницающий весь ее организм своими световыми щупальцами, будто нервными волокнами.
Да, эскимосы оказались правы. И этому обитающему в ледяной горе разуму было совершенно наплевать, как там по телу планеты ползали люди, пока они не подползали к нему слишком близко. Ибо воистину планета есть лишь тело для этого циклопического разума, и как микробы обитают на нас, даже не подозревая, что эта обширная неодушевленная масса – самое настоящее живое существо, так и мы живем на Земле, не имея ни малейшего понятия, что и она живет своей жизнью, настолько непостижимой для нас, что проще считать ее вовсе мертвой.
Люди веками поступали так – поколения и поколения крошечных паразитов – и вот теперь три микроба набрались самоубийственной смелости и заявились в эти сокровенные чертоги, презрев предупреждающие сотрясения земли; они проникли в святая святых, и теперь земля изловила их и изучала, решая, как поступить с ними далее.
– Эти световые тентакли! – пищал мне прямо в ухо Тревис. – Они наверняка идут от мозга земли и через всю планету, как мышцы!
– Да, теперь мы знаем, как получаются подземные толчки и землетрясения! – пропищал я в ответ.
А щупальца тем временем поднесли нас поближе к мозгу. Ты можешь себе такое вообразить? Да, световое яйцо держало нас щупальцем и изучало, как человек мог бы изучать троих крошечных насекомых, которых он на себе даже не замечал – пока они вконец не обнаглели.
И его сокрушительная воля никуда не делась – она все так же просвечивала нас насквозь, давила со всех сторон, частично узурпируя нашу волю и разум. Я был не просто Кларк Лэндон, но вдобавок еще и часть державшего меня земного разума. По странному, нечеловеческому выражению лиц Тревиса и Скила я знал, что и они испытывают то же самое.
Жалкие дела и мнения Кларка Лэндона мне были больше не интересны. Сознание мое перепрыгнуло от его мелких забот к вещам, бесконечно более масштабным. При этом каким-то фрагментом себя я понимал, что так поступил не я сам, а некое отражение или эхо земного разума, проникшего в меня.
Как мне описать свои чувства? Я словно бы действительно влился в это колоссальное сознание, думал его думы и воспринимал происходящее, как он. Мой разум обитал уже не в крошечном организме, состоящем из костей, коллоидных частиц и кровяных телец, но в огромном теле, наделенном совершенно иной, непривычной жизнью. Как будто мое тело – вся планета с ее каменным скелетом и кровотоком из жидкого огня, омывающего внутренности. И все бесчисленные множества обитающих на мне жизненных форм, водных и сухопутных, не имели для меня, занятого собственными великими делами, ни малейшего значения.
Я, земной разум, а вовсе не Кларк Лэндон, восседал ныне на своем престоле в расположенных на вершине мира палатах. Отсюда я осознавал все свое огромное тело с той же легкостью, с какой человек осознает свои руки и ноги – ибо в него проникали мои световые щупальца, проникали до самых дальних уголков, и при помощи их я мог совершать произвольные движения любой его частью.
Вот я пошевелил одним из этих могучих мускулов, и ответом стал страшный подземный толчок на другой стороне земли! Вот сократился другой, и где-то с гор сошла лавина! Обитающие на мне крошечные существа не вызывали у меня ни малейшего интереса – даже когда гибли тысячами от очередного телесного движения.
Ибо ни я, ни мое планетарное тело не пребывали в покое – мы непрерывно двигались! Мы неслись на немыслимой скорости сквозь бесконечное пространство, и в его далеких глубинах я сознавал присутствие других живых планет – кто-то был больше меня, кто-то меньше, но все – живые, той же исполинской жизнью, что и я, и каждая – со своим собственным великим разумом.
О да – и от этих планет через пустоту ко мне приходили послания. Природу подобной коммуникации я, Кларк Лэндон, даже отдаленно представить себе не мог, но она была постоянной и непрерывной – фантастический разговор одной живой планеты с другой через просторы космоса, обмен мыслями, намерениями…
Потому что в том, как я и прочие могучие разумы несли свои тела через вселенную, было совершенно определенное намерение. Мы двигались не случайно, не наобум, но осознанно, преднамеренно, вместе с немыслимой четкостью следуя какому-то общему замыслу, некоему геометрическому танцу живых планетарных сущностей сквозь мировое пространство.
И вот так, причащаясь до некоторой степени этим надчеловеческим смыслам и целям планетарного разума, я ощущал и его отношение к самому себе, к Кларку Лэндону, а с ним к Тревису и Скилу – беспомощным, взятым в плен созданием ужасным и таинственным сверх всякой меры. Я был тем, кого изучали, – и тем, кто изучал.
А все дело в том, что этого изучающего никогда ни в малейшей степени не заботили микроскопические обитатели его кожи – за исключением тех редких случаев, когда они неосторожно приближались к вместилищу его сознания. Тогда он просто стряхивал их, отгонял, шевеля той или иной частью тела.
Но вот нашлись эти трое, которых не вышло стряхнуть; которые с безмозглой дерзостью проникли в его жилище, куда до сих пор не было доступа никому. И вот он – то есть я – так удивился их неожиданной и беспримерной наглости, что поймал их живыми и теперь рассматривал. Вот до такой степени мне, Кларку Лэндону, удалось понять его мысли. А еще мне удалось – пока мы с Тревисом и Скилом тщетно извивались в неодолимой хватке светового щупальца – ощутить желание земного разума поближе познакомиться с одним из нас. Поэтому я не удивился, когда новое щупальце выстрелило из основания яйца и, взяв, Скила, подняло его в воздух, поближе, оставив меня и Тревиса плененными на полу. Перестав бороться, мы в каком-то оцепенении наблюдали полет Скила к сияющему яйцу. Его свет, кажется, пронзал нашего друга насквозь, пока щупальце поворачивало его так и эдак, словно беспомощную куклу.
Я знал, что Скила пристально изучают, потому что любопытная раздвоенность ума, благодаря которой я был сразу и Кларком Лэндоном, и земным разумом, все еще сохранялась. Я смотрел на моего товарища снизу, и я же с небрежным любопытством разглядывал мельчайшее существо, поднеся его поближе к глазам. И это я, земной разум, вытянул еще одно световое щупальце, чтобы схватить этот крошечный кусочек жизни.
А потом в алой вспышке ужаса я вдруг перестал быть земным разумом, и остался только Кларком Лэндоном, который истошно орал хором с Тревисом и бессильно махал на светящееся яйцо ручонками – потому что эти два щупальца только что мимоходом разорвали тело Скила пополам!
Щупальца держали два красных комка рваной плоти и костей, а царственный овоид изучал их с тем же спокойствием и бесстрастием, с каким человек мог разорвать какое-нибудь насекомое и потом рассматривать его внутреннюю структуру.
– Скил! – яростно кричал Тревис, перекрывая непрестанный мягкий гул. – Этот монстр убил Сскила!
– Он его препарирует! – вторил я. – Я убью проклятую тварь! Я ее убью!
Я отчаянно заизвивался, пытаясь дотянуться до пистолета у себя на поясе, но щупальце держало нас с Тревисом так крепко, что мне не удалось двинуть рукой ни на дюйм.
Земной разум между тем продолжал разглядывать разорванное тело нашего друга. Краски все так же менялись и плыли внутри него; звуки все так же слитно гудели; могучая воля осязаемо затопляла нас, даря странное ощущение единства с этой чудовищной сущностью. Однако даже это неодолимое присутствие теперь затмевалось во мне неистовым гневом – нашего давнего товарища только что безжалостно убили прямо у нас на глазах! Тревис и я пищали в адрес овоида самые жуткие угрозы; разумеется, он обращал на нас не больше внимания, чем человек – на грозно шевелящего усиками муравья у себя под ногой. А потом он разорвал останки Скила еще на несколько кусочков. Порассматривав их еще пару секунд, он бросил их на пол, и те же два щупальца прянули к нам с Тревисом.
Первым они схватили Тревиса и поднесли его поближе к боку яйца, туда, где совсем недавно болтался Скил. Еще одно щупальце продолжало удерживать меня на полу. Однако пока те два занимались Тревисом, хватка моего несколько ослабла, и тут-то мне удалось вытащить из-за пояса пистолет. И пока тварь занималась Тревисом, я прицелился и выпустил несколько пуль вверх, прямо в световое тело овоида.
Это было сделано исключительно в помрачении ярости, так как, разумеется, я не питал никакой осознанной надежды хоть как-то повредить этой форме, состоящей из чистой энергии, или заключенному в ней разуму. Но даже бессознательно я не ожидал настолько катастрофической реакции, последовавшей сразу за тем, как пули проникли в него.
Разум земли полыхнул сплошным чистым багрянцем адских топок и холокоста, краснотой сверхчеловеческого, космического гнева. Колоссальная ярость вырвалась из него волной разрушительной силы и когда она прокатилась через мой разум, я понял, что только что совершил величайший мыслимый грех против вселенной – напал на мозг живого планетарного тела, на котором обитали я сам и вся моя микроскопическая раса!
Все исполинские световые щупальца овоида заплясали по пещере в диких конвульсиях неутолимого гнева. Тревиса швырнуло об стену и размазало в красную жижу силой удара. Меня бросили не слабее, но я угодил, к счастью, не в стену, а прямиком в устье тоннеля, по которому мы пришли. Вся земля, в которую уходили извивающиеся щупальца обезумевшего от злобы разума, затряслась и заходила ходуном, издавая грохочущий рев. Я, шатаясь, поднялся на ноги. Пещера, тоннель и вообще вся гора качались подо мной, как жухлый лист на ветке, который треплет ноябрьский ветер. Мозг, казалось, на мгновение забыл про меня, и занимался тем, что сотрясал весь полярный регион! Воспользовавшись моментом, я развернулся и кинулся в тоннель, подальше от этого устрашающего зрелища – слепой, нерассуждающий ужас гнал меня вперед по коридору, который то и дело подбрасывал меня в воздух и ударял об стены. Я знал, что как только приступ ярости у мозга пройдет, он вспомнит обо мне, и тогда его возмездие неминуемо обрушится на меня.
Не могу сказать, сколько времени я пробирался наверх по тоннелю, то падая, сбитый с ног неистовыми содроганиями горы, то вновь с трудом поднимаясь на ноги, то карабкаясь на четвереньках. Помню только скрежет и вой камня вокруг, камня, готового раздавить меня с каждым новым подземным толчком. Белое пятно света впереди показалось как раз в то мгновение, когда первая волна толчков пошла на спад – видимо, ярость земного разума начала стихать.
Я бросился вперед с удвоенной силой и выскочил из устья тоннеля на склон горы. Внизу и докуда хватало глаз, простиралась сверкающая ледяная равнина – но теперь она была смята и вздыблена, словно волы могучего моря, исторгнув из себя настоящие горные хребты и кряжи, свидетельствующие о силе недавнего землетрясения.
Я начал поспешно спускаться по склону, следуя вырубленной нами с Тревисом и Скилом тропинке. Сверху раздался грохот, и водопад льда и камня обрушился на меня. К счастью, я успел растянуться под каменным козырьком, и лавина прошла в основном мимо и поверх. Земной разум явно все вспомнил, отыскал меня на своем теле и теперь намеревался убить.
Пока я лез вниз по склону, он предпринял еще три попытки. Еще два оползня прошли в опасной близости от меня, и один раз тряхнуло всю гору, от подножья до макушки, – еще немного и меня бы сбросило со склона. Боже, что это был за кошмар – скользить вниз по склону, пытаясь не сорваться, когда сама земля вознамерилась тебя уничтожить!
До сих пор не знаю, как мне удалось добраться донизу живым, пусть даже изрядно пораненным и оглушенным от ужаса. На месте нашего лагеря оказался один только Носкат, а с ним одни сани и три собаки. Шан со вторыми санями и упряжкой пал жертвой движущихся льдов. Носкат кинулся ко мне, лепеча что-то о мести земного разума, о сильном толчке, погубившем Шана и сотрясшем всю землю вокруг горы. Я сурово оборвал эти излияния, и мы помчались с ним на юг через льды, прочь от злополучной горы. Не прошло и двух часов, как новый могучий толчок расколол лед, по которому мы ехали. Прямо перед нами возникла расселина, в которую мы чуть не свалились.
Носкат кричал, что мы умрем, что мы оскорбили разум земли, и что куда бы мы теперь ни пошли, он об этом узнает и будет стараться нас убить. Но я несся вперед, подгоняемый безумным желанием как можно скорее оказаться подальше от ледяной твердыни, скрывавшей этот чудовищный мозг.
Следующая неделя пролетела незаметно в белом ледяном аду: мы летели на юг; гнев земли следовал за нами буквально по пятам. Девять раз нам угрожали землетрясения дьявольской силы, внезапно преграждая путь трещинами во льду или движущимися прямо по суше айсбергами, подбрасывая нас в воздух внезапными толчками. Как мы выжили – мне теперь даже трудно представить. Но ужас гнал нас вперед – ужас не перед землетрясениями даже, а перед тем, кто был им причиной.
Не раз за эту неделю мне приходило в голову, что Тревису и Скилу еще очень повезло: их просто убили на месте. А за мной теперь без устали гнался чуждый, нечеловеческий, неутомимый, убийственный разум! Но я все равно бежал и не имел ни малейшего желания останавливаться. Ближе к концу недели Носкат выбился из сил. С ним в санях, умирающим и бормочущим какую-то невнятицу о мозге земли, я продолжал пробиваться на юг и, в конце концов, достиг корабля.
Команде, возбужденно обсуждавшей ужасный катаклизм, едва не погубивший судно и, кажется, имевший эпицентром ту самую точку на карте, куда отправились мы с Тревисом и Скилом, я, разумеется, солгал. Я сообщил, что у нас произошло невероятной силы землетрясение, унесшее жизни обоих американцев и одного эскимоса. Носкат умер, не приходя в сознание, так что опровергнуть меня было решительно некому. Как бы там ни было, корабль двинулся на юг.
Я молился, чтобы земной разум оставил преследование, но в глубине души все же боялся – о, как я боялся! И страх мой, конечно же, оправдался, ибо когда мы проходили неподалеку от Гриннеловой Земли, там случился обвал ледника, и огромная ледяная гора разминулась с нами буквально на несколько футов. Еще пару дней спустя подводный толчок едва нас не потопил. Матросы толковали о неустойчивой тектонической обстановке, объяснявшейся изначальным полярным землетрясением, но я-то знал правду: мои молитвы остались без ответа – земной разум не даст мне уйти живым. Вскоре мы добрались до Галифакса, где я убедился, что он не остановится даже перед тем, чтобы стереть с лица земли весь человеческий род, лишь бы добраться до дерзкого, осмелившегося на него напасть: землетрясение уничтожило половину города и убило многие тысячи его жителей. Мне снова удалось ускользнуть – чисто по счастливой случайности: когда начались толчки, я был в парке, на открытой местности.
Ученые в газетах утверждали, подобно морякам, что мощный полярный толчок что-то там нарушил во внутренней структуре земли, что и повлекло за собой серию землетрясений. Увы, я отдавал себе отчет, как далеки они от истины. Эти шевеления земли имели единственную цель – убить меня. Я бежал из Галифакса. Казалось, его погибшее население тычет в меня мертвыми пальцами – в того, кто навлек на них эту страшную, безвинную участь. Я нанял яхту и поплыл в Норвегию, где в день моего прибытия случилось землетрясение, причинившее немалый вред. К тому времени я уже старался держаться подальше от зданий и даже ночевал исключительно на свежем воздухе. Из Норвегии я кинулся в Россию. Ее постигла серия из трех опустошительных землетрясений, и третье меня практически достало, несмотря на все предосторожности. В Египте дело обернулось еще хуже. Моего присутствия в Александрии хватило для подземного толчка и цунами, погубивших новые невинные тысячи. Я устремился на север, в Италию, на которую тут же обрушились беспрецедентные землетрясения и оползни, продолжавшиеся все время моего пребывания. Я полетел в Англию – землетрясения достали меня даже там.
Я понимал, что рано или поздно, несмотря на все мои старания держаться подальше от способных обрушиться зданий, а также от гор и холмов, с которых может сойти лавина, земной разум все равно найдет меня. Но я бежал, я пытался спастись – и сел на корабль домой. Сегодня днем я прибыл в Нью-Йорк, и ты сам видел, Моррис, что случилось дальше.
Я еще и пары часов не провел на этой земле, а она уже задрожала. Да, для местных жителей это была всего лишь дрожь, зато для меня – предупреждение. Предупреждение о том, что враг знает, где я, и все еще хочет забрать мою жизнь. Да, он все еще следует за мной с самыми убийственными намерениями, и именно поэтому, Моррис, я не осмелюсь остаться здесь. Если я это сделаю, придет новое землетрясение или приливная волна – снова пострадают люди! Тысячи, Моррис, если не десятки тысяч! На мне и так уже кровь бесчисленных жертв, я не хочу, чтобы из-за меня погибли новые толпы. Так что мне придется бежать, придется уехать, пока я не навлек на этот город ужасную участь его предшественников.
Вот какую историю Кларк Лэндон поведал мне в моей нью-йоркской квартире. Несколько часов спустя он уехал. А что я мог ему сказать? Мы расстались на вокзале – он сел на поезд в Новый Орлеан. Я больше никогда его не видел, но пристально следил за его дальнейшими перемещениями – до самого конца. Дальше я привожу для вас краткий их пересказ.
Поезд сошел с рельс за пару сотен миль до места назначения из-за внезапного подземного толчка. Судя по приведенным в газетах спискам пострадавших (с десяток человек погибло, гораздо больше получили ранения), Лэндону удалось спастись. Еще несколько толчков разной силы настигли его в Новом Орлеане, но все тут же прекратилось, стоило ему отплыть в Мексику.
Через десять дней жуткое землетрясение разрушило Тегульчипан, что в северной части страны, а с ним близлежащие деревни Каузо и Сантлионе. Пресса сообщила о пятидесяти жертвах и о спасении американца по имени Кларк Лэндон.
Далее он двинулся на юг. Серия более или менее непрерывных землетрясений следовала за ним. В Прогресо (Юкатан) двойной толчок не оставил от города камня на камне и унес жизни трех четвертей населения. И снова газеты сообщили, что Лэндон чудом спасся и проследовал в Гватемалу.
Там и наступил конец. В самый день его прибытия произошло землетрясение невероятной силы. Радио и телевидение кричали о внезапности и беспрецедентной мощи толчков и о многочисленных открывшихся в земной поверхности трещинах. А еще о странном самоубийстве некоего американца (как потом выяснилось, его фамилия была Лэндон). По показаниям очевидцев, он выбежал на улицу, вдоль которой расселась земля, и что-то прокричал, как будто умоляя кого-то прекратить мучить людей. Толчки вместо того, чтобы уняться, с каждой секундой становились все ужаснее; Лэндон снова закричал – на сей раз о том, что он сдается, что не надо больше опустошать землю – подбежал к ближайшей пропасти и кинулся туда. Те же самые очевидцы утверждали, что сразу же после этого трещина закрылась.
Со смертью Лэндона землетрясение почти сразу же прекратилось, толчки стихли. Хотя несколько зданий серьезно пострадало и побилось много стекол, жертв не было, так что у Гватемалы оказался серьезный повод для радости. Только после первых сенсационных статей о внезапном прекращении землетрясений по всей земле люди обратили внимание на такую мелкую деталь, как странное самоубийство Лэндона.
Гватемала действителньо оказалась последней в цепочке жутких катастроф, почти два года опустошавших планету. Нет, конечно, у нас и после нее были незначительные тектонические возмущения то там, то сям – но ничего похожего на ту необъяснимую цепочку катаклизмов, начавшихся на Северном полюсе и прокатившихся по обоим полушариям.
Вот и вся история, и я не намерен даже пытаться ее объяснить – и не ждите. Потому что закончиться она должна не ответами, а вопросами – вопросами, ответить на которые может только сама природа. Ну, или невероятная сказка, которую рассказал мне тем нью-йоркским утром Кларк Лэндон.
Можно ли считать ее буквальной правдой? Действительно ли Лэндон, Тревис и Скил проникли в ту ледяную гору на самой макушке мира и нашли там средоточие разума нашей планеты, телом котором служит вся Земля? Возможно ли, чтобы страшные землетрясения терзали ее в течение двух лет только потому, что Лэндон напал на этот самый земной разум? То, что землетрясения преследовали Лэндона, в точности соответствуя его маршрутам – неоспоримый факт. Было ли это такое причудливое совпадение или осознанные телодвижения Земли, посредством которых ее сознание пыталось свести счеты с Лэндоном, непонятно, и мнений на этот счет может быть много.
Что же до того, последнего землетрясения в Гватемале, когда Лэндон призвал разум земли прекратить геноцид и бросился в разверзшуюся пропасть… Сам он, несомненно, считал, что послужил причиной бесчисленных смертей и разрушения ни в чем не повинных городов – только потому, что продолжал жить, а значит, остановить побоище и удовлетворить жажду мести может, лишь пожертвовав собой. И снова неоспоримый факт заключается в том, что как только Лэндон бросился в ту расселину, землетрясения прекратились – не только в Гватемале, но и по всей земле. Было ли это просто-напросто еще одно совпадение? Или самопожертвование американского ученого было не напрасным?
Именно такими вопросами – а вовсе не ответами на них – эта история и должна закончиться. Кто знает, действительно ли где-то в пещере на крайнем севере пребывает яйцо живого света, которое Лэндон окрестил земным разумом, и действительно ли мы, искренне считающие себя властелинами мира, суть всего лишь колония микроскопических паразитов, обитающих на живом теле планеты… возможно, мы никогда не сумеем ответить на этот вопрос, и так, наверное, будет лучше – для всех.
Элвин Дж. Пауэрс. Под чуждым углом
– Простите, но это все, что есть в библиотеке по вашей теме.
Я попробовал было спорить, но тут же понял, что проку в этом никакого. Думать надо было головой: вместо того, чтобы тащиться в грозу, на ночь глядя, в этот мавзолей знаний, нужно было двигать прямым ходом в университет. А пока эта девица тщетно искала нужные мне книги, университетская библиотека уже точно успела закрыться. Между тем сочинение по ранней истории человека, которое мне читать завтра на семинаре, пребывало в прискорбно не законченном виде. Я поплелся прочь, гадая, стоит ли надеяться, что какой-нибудь книжный в городе еще открыт в столь поздний час. И, если уж на то пошло, может ли искомая литература найтись в обычном книжном…
Тут что-то коснулось моей руки.
Рядом со мной – прямо-таки непосредственно за плечом – обнаружился некий старик, седыми волосами и бородой смахивавший на учителя из какой-нибудь местной школы. Однако внимание мое приковала даже не снежная шевелюра, а глаза: глубоко посаженные, темные и словно бы скрывающие в глубине намек на тайные и запретные знания. Я уже собрался было его послать, но тут он обезоруживающе улыбнулся.
– Они все безнадежные материалисты, – сказал он негромко. – Я слышал, какие книги вы спрашивали, уж простите. Возможно, я смогу вам помочь. Мое собственное скромное собрание к вашим услугам.
Я рассыпался в благодарностях. Не стоит отвергать дары богов, если уж им приспичило что-то подарить, тем более что сочинение – дело нешуточное.
– Я живу тут, неподалеку, – сообщил он, когда я выразил согласие ознакомиться с его библиотекой. – Там все еще дождь, как я погляжу? Отлично, возьмем кеб.
Не успел я и рта раскрыть, как он уже увлек меня из библиотеки в такси, шепнул что-то шоферу, и мы затарахтели в ночь.
Не то чтобы мне сильно нравилось это приключение, но я был уверен в собственной способности позаботиться о себе и потому не напрягался. Пока машина катила вперед, я разглядывал своего спутника. Его окружала неопределенная аура антикварности, да и одет он был в плащ с капюшоном – до сего момента это несообразное одеяние как-то не бросилось мне в глаза.
Однако шло время, и мне становилось все более некомфортно. Внезапно автомобиль затормозил перед шеренгой старых домов из бурого песчаника, тип в плаще расплатился с кебменом, и мы вышли. Эта часть города была мне незнакома, и я уставился на особняк с некоторым опасением… но тут же заметил под дальним фонарем патрульную полицейскую машину и, уверившись, что, если что, помощь не замедлит прибыть, взошел вслед за стариком по ступеням крыльца.
Внутри у меня челюсть так и отвалилась: комната по контрасту со скромным обликом дома была обставлена просто роскошно. В каждом углу торчали какие-нибудь древности со всех концов земли: угрюмое изваяние с острова Пасхи, великолепный египетский саркофаг, резные нефритовые статуэтки, миниатюрные индейские тотемы, майянские каменные таблички и прочее, прочее, прочее.
– Интересно, правда? – осведомился старик, нарушив воцарившееся молчание.
Я и рад был бы привести тут имя хозяина дворца, да только по каким-то неведомым причинам даже не спросил его. И мне никогда, никогда больше не удавалось найти этот дом, хотя я и несколько раз обыскивал ради него весь город.
Внутри у меня проснулся историк, и я принялся изучать некоторые из экспонатов более пристально. Они были, без сомнения, подлинные и стоили небольшое состояние – или даже не очень небольшое.
– Все собрал я сам, – молвил хозяин. – Но идемте со мной – нам в библиотеку, там вы найдете то, что искали.
Он повел меня в следующую комнату, где изумление мое лишь удвоилось. Все стены занимали книги – всевозможные книги, самых разных тем и размеров. Однако несмотря на первый приступ энтузиазма, я никак не мог избавиться от ощущения, что в комнате чего-то не хватает. Внимательно оглядевшись по сторонам, я, наконец, понял – чего. Библиотека не была прямоугольной. Две стены, пол, потолок – все сходилось вместе под углом… под весьма причудливым углом. И он выглядел так, будто туда можно войти, в эту точку схода – и дальше, сквозь нее, за пределы нормального плана бытия. Впрочем окружающие литературные богатства мигом отвлекли мое внимание от особенностей местной архитектуры.
Прямо передо мной простиралась полка, набитая всеми запретными книгами, странные и тревожные слухи о которых когда-либо доходили до моих ушей. «De Vermis Mysteriis» Людвига Принна, «Книга ночи» Жака Москеа, несколько томов фон Люнцта, Пьера Эревиля и Диркаса. На других автора не значилось – одно только название. Я увидел «Песнь Иста», «Книгу Эйбона» и много других, о которых я даже никогда не слыхал. И, разумеется, два переплетенных в черную кожу тома чуть в стороне: один был «Некрономикон» Абдула Альхазреда; на втором было написано просто «Ктулху» – но от этого слова у меня мурашки побежали по спине.
– Полагаю, здесь вы найдете все необходимое, – сказал мой хозяин, извлекая с полки книгу. – На «Станцы Дзян» вполне можно положиться. Садитесь, я вам почитаю.
Полчаса он читал мне вслух, рисуя живые картины доисторического мира – самого творения и странных народов, населявших планету до появления ариев. Увы, ничего из этой информации я не мог использовать, не рискуя быть осмеянным на семинаре. Когда он закончил, я так ему и сказал.
– Безнадежные материалисты, правда? – фыркнул он. – Ну, хотя бы вы сами будете обо всем этом знать. Хотите услышать еще?
Я согласился, и он снял с полки том, название которого я разглядеть не успел.
– Я зажгу кое-какие благовония, если вы не против, – сообщил он и сопроводил свои слова действием. – Это поможет вам слушать.
В этом я усомнился, но возражать все равно не стал. Он уселся в кресло и снова принялся читать – на сей раз на совершенно незнакомом мне языке, хотя я вообще-то лингвист. Ну, что-то вроде лингвиста. Он читал, едкое благовоние дымило, и меня стало клонить в сон.
Но я все равно помню… как стал и помимо всякой собственной воли пошел – в сторону того самого угла библиотеки, что так заинтриговал меня раньше. К своему ужасу и изумлению, я, кажется, прошел сквозь твердую стену. Был момент темноты и невыносимого холода, а затем я открыл глаза и узрел вид, который, уверен, до сих пор не открывался смертным очам.
Это был город – но что за город! Повсюду кругом вздымались огромные купола. Изящные минареты тянулись свои иглы к небу. На меня обрушилось ощущение чуждого присутствия. И моя тень… теней у меня теперь было две! Я огляделся – в холодном жестяном небе висело два солнца. Ужас затопил меня, но я решительно отмел эмоции в сторону. Да, я очутился в какой-то странной вселенной, но заботить меня должно одно: как вернуться домой, на свою собственную планету – и это затмевало все прочие мысли, даже чисто научный интерес к этому чудовищному месту.
Я двинулся вперед, по пустынным улицам… Всякие интересные детали прямо-таки бросались в глаза. Город был, несомненно, древний, очень древний, и уже много лет как заброшенный – может быть, даже не лет, а веков. Величавые колонны и балюстрады во многих местах лежали обрушенные.
Впереди передо мной поднималось некое здание, даже более внушительное и великолепное, чем прочие, и там… я увидел его.
С тех пор я успел узнать, что эта штука называется шоггот – шарообразная масса протоплазмы, футов пятнадцати в диаметре, способная принимать любую форму, какую только пожелает; созданная в качестве слуги некоторых обитающих во вселенной рас – сильная, упорная, неуничтожимая и, что хуже всего, разумная!
Видимо, она охраняла то здание уже неисчислимые века. Пока я стоял, парализованный ужасом, она резво покатилась ко мне, выбрасывая по дороги щупальца в разные стороны.
Она уже почти добралась до меня, хлеща псевдоподами, когда я стряхнул-таки оцепенение и смог, наконец, двигаться. Я отскочил, повернулся и побежал, а она помчалась следом, и скорость ее, надо сказать, оказалась вполне сопоставима с моей.
Куда я бежал и как долго, я уже не помню. Время утратило всякое значение, пока я петлял и прятался по всему проклятому городу, а тварь преследовала меня по пятам. Видимо, только чистая удача привела меня на ту окаймленную руинами улицу. Там стояло разрушенное здание, подставив свой мертвый остов ветрам. По какому-то капризу судьбы колонны и стены попадали в таком порядке, что… – у меня сердце так и подпрыгнуло в груди! – образовали угол! Угол, приведший меня в этот фантастический мир!
Шоггот уже настигал, пришла пора действовать. Угол еще мог оказаться не тем, но я все равно угодил в ловушку, так что терять мне было решительно нечего. И я слепо ринулся в сходящийся клин.
Меня снова охватил холод… и тьма – и я с грохотом рухнул наземь. Я перекатился, вскочил, а потом… – ох, ты, боже мой! – следом за мной проломился шоггот, приземлившись всего в каких-нибудь пяти ярдах.
Мы оказались на дороге, ведущей в город, так что я припустил что было сил к приветливо мигавшим огням, а следом скакала эта жуть. Однако когда я оказался под первым же фонарем, она затормозила, поотстала, а потом и вовсе развернулась и исчезла.
О, она еще выследит меня. В том странном ином мире у нее была своя работа – защищать определенное место. Я вторгся в него и теперь должен был умереть. Она выполнит свою задачу, пусть и в другой вселенной. Я знаю, что она рыщет где-то поблизости, пользуясь своей сверхъестественной способностью к мимикрии… и ждет. Она непременно меня найдет, даже на крыше самого высокого здания в городе, где я пишу эти строки.
Я уже смирился со смертью. Но когда она покончит со мной… что тогда? Чудовище здесь. Вы поняли? Оно здесь! И оно не может вернуться домой, в свой собственный мир. Что оно станет делать? Какой ужас примется сеять? Какие немыслимые кошмары ждут человеческий род? Я-то уже не узнаю.
Джеймс Кози. Наследство в кристалле
Агата Симмонс выжидательно наклонилась вперед.
– Сколько еще, доктор?
Человек у кровати метнул в нее быстрый, исполненный отвращения взгляд, затем с профессиональным видом посмотрел на часы.
– Не могу сказать, – тихо ответил он. – Возможно, полчаса. Возможно, минут десять.
Он моргнул и продолжил рыться у себя в саквояже.
Агата промолчала. Джонатан лежал, закрыв глаза; грудь едва поднималась – он еще дышал. Она улыбнулась.
Как же долго… Как долго она ждала этот дом! Кузену уже, должно быть, хорошо за восемьдесят. В прошлом она все время боялась, что он ее переживет – как пережил всех остальных родственников. Но теперь…
– Мне нужно принести воды. – В ее мысли вклинился голос доктора. – Сделать раствор…
Он еще немного повозился с подкожной иглой и двинулся к двери. Агата не слышала его; взгляд ее блуждал по обширной сумрачной спальне. Тени, задернутые шторы… Дверь затворилась за доктором. Распростертая на огромном ложе под балдахином фигура пошевелилась.
– Ну что, Агата, не терпится?
Она чуть не подскочила. Джонатан Майлз с трудом приподнялся на локте и теперь смотрел на нее с глумливым выражением на тонком, темном лице.
– Я… что ты, Джонатан. Я очень надеюсь, что ты скоро поправишься.
– Ха! Это я-то скоро поправлюсь! Ты мне грифа напоминаешь, Агата: так и ждешь, когда я, наконец, сдохну. Да уж, жаль, что и говорить. Автокатастрофа… сломанные ребра, осложнения… Бьюсь об заклад, я бы и тебя пережил.
Голос прервался, хотя губы продолжали двигаться. Агата нахмурилась было, но заметив, что дыхание кузена стало поверхностней и медленнее, постаралась сдержать улыбку.
Никто не знал, как Джонатану Майлзу удалось скопить такое внушительное состояние. Он был просто ученый, вечно шастал по каким-то малодоступным локациям в дальних краях – археолог-любитель, одним словом. И вдруг, уже в зрелые годы, разбогател. На закате дней он жил совсем один – мрачный старый затворник в мрачном старом доме, пресекающий любые попытки родственников заявиться с визитом.
Агата еще раз жадно оглядела комнату. Этот огромный дом – и все, что в нем есть! – скоро будет принадлежать ей. Потом взгляд ее упал на кольцо у Джонатана на пальце. Какой, однако, крупный бриллиант… Мистер Майлз хихикнул.
– А ты, оказывается, алчная женщина, Агата.
– Да что ты такое го…
– А я не люблю алчных женщин.
Она промолчала. За такие деньги уж можно стерпеть несколько последних колкостей.
Тут у нее глаза полезли на лоб: повоевав немного с кольцом, Джонатан протянул драгоценность ей.
– На, Агата. – Улыбка у него была лишь слегка издевательской. – Бери. Небольшой знак уважения с моей стороны. Нет, не благодари…
Он сделал слабый жест рукой и снова утонул в подушках.
– Ты все равно его сцапаешь, когда я умру – так что я отдаю тебе его сейчас, сам.
– Джонатан, я в самом деле понятия не имела…
– Кольцо теперь твое, – тихо промолвил Джонатан. – Оно немало помогло мне в жизни… даже очень помогло.
Его плечи затряслись от внезапного смеха.
Агата не могла отвести взгляд от перстня. Это на самом деле был не бриллиант: огромный розоватый кристалл, искрившийся даже в полумраке спальни, вставленный в массивную серебряную оправу с вырезанными на ней странными символами.
– Что ты имеешь в виду, Джонатан… помог тебе?
Кузен ее, казалось, не слышал. Взгляд его был устремлен в потолок, губы дрожали.
– Моя душа, – прошептал он едва слышно. – Боюсь, сделка была… недостаточно… справедливой.
– Что?
Ответа не последовало.
Агата посмотрела на него. Глаза Джонатана были закрыты.
Он не дышал.
Агата глубоко вздохнула и пошла к двери.
Уолтер Симмонс ждал ее в гостиной. Когда жена показалась из спальни, он виновато мигнул и попробовал спрятать сигару.
– Он умер, Уолтер. Слышишь – умер! Этот дом… его деньги… Всё наше!
Она так и сияла.
– Гм… что ж, отлично! – ответствовал Уолтер, хотя внутри его передернуло от бессердечия супруги.
Из кухни возник доктор, вооруженный подкожным шприцем.
– Что такое? Вы сказали, он…
– Мертв! – объявила с гордой улыбкой Агата.
Дом наконец-то принадлежит ей, со всеми потрохами! Можно не ждать, пока медицина завершит все необходимые формальности и благополучно освободит плацдарм.
Уолтер Симмонс услышал, как за врачом захлопнулась дверь, и невольно постыдился, что тому пришлось иметь дело с Агатой в теперешнем ее настроении.
– Уолтер!
Какой же у нее все-таки пронзительный голос…
– Да, дорогая?
Жена подозрительно принюхалась.
– Сигара! Сколько раз можно тебе повторять…
– Ну, прости, прости, – нервно сказал Уолтер.
– Ладно. Итак, что у нас есть? Гостиная… мерзкая старая халупа. Слишком мрачная. Повесим ситцевые шторы вместо этих жутких черных драпри. Тут все надо поменять, вообще все! Может, мы его вообще продадим… потом.
– Да, дорогая.
– Разумеется, ты бросишь свое бухгалтерское дело, – продолжала размышлять Агата. – Какое-то время мы, скорее всего, поживем тут…
Уолтер Симмонс смиренно кивнул. Все десять лет, прошедшие со времени их свадьбы, он вел положительно собачью жизнь. Сделай то. Подай это. Прекрати курить в комнате свои гадкие сигары, ты же знаешь, у меня астма. А теперь Агата заграбастает все деньги… Жизнь станет еще невыносимее.
Ее высокая громоздкая фигура металась из двери в дверь, что-то восклицая, распекая, критикуя, планируя… Уолтер вздохнул и потихоньку ускользнул в хозяйский кабинет.
Это была огромная темная комната с причудливыми картинами на стенах; в центре возвышалась пыльная громада письменного стола, заваленная горами книг.
Уолтер поглядел на книги. Они были старые и местами даже плесневелые. Некоторое время он завороженно таращился на них, потом взял одну, открыл и нахмурился.
– Греческая, – проворчал он с отвращением.
Ему хватило четырех лет греческого в колледже, благодарю покорно. Прищурившись, он попробовал разобрать хоть что-то в расползшихся по страницам черных строчках…
Уолтер Симмонс резко побледнел, со стуком захлопнул книгу и даже отскочил от стола. Там он постоял некоторое время, подозрительно потирая руки, словно к ним могла пристать какая-то зараза. Вскоре, однако, любопытство пересилило страх, и он сделал шаг обратно, пристально глядя на книгу, но, впрочем, не дотрагиваясь до нее. Шевеля губами, он попробовал разобрать выцветший темный шрифт на обложке.
– Нек… Некрономикон.
Он заморгал. Потом осторожно откинул обложку и воззрился на первую страницу.
Мелкими и четкими буквами на ней значилось:
«Перевод на греч. Абдула Альхазреда».
Дальше смотреть книгу Уолтер Симмонс не стал – вспомнил, что успел прочитать, и содрогнулся.
Он перевел взгляд на другие. Одна привлекла его внимание.
«De Vermis Mysteriis», Принн.
В середине в качестве закладки виднелся клочок белой бумаги. Уолтер храбро открыл книгу, нахмурился: она была на латыни, которую он знал весьма слабо – но на полях обнаружились карандашные переводы. На закладке было нацарапано:
Trans E103—
Не принимай даров ни от некроманта, ни от демона. Укради, купи, заслужи, но не бери ничего ни в дар, ни в наследство.
Слово «наследство» было обведено красным карандашом.
Уолтер Симмонс уставился на странные иероглифические значки прямо под абзацем и облизнул губы. Потом окинул взглядом темный кабинет – и быстро выбежал вон.
– УОЛТЕР!!
– Да, дорогая! – Отирая пот со лба, он вошел в гостиную.
Агата бросила на него свирепый взгляд.
– Я стараюсь, рассказываю тебе, как мы поменяем тут весь дизайн, потом оборачиваюсь – а тебя где-то носит! Отлично, просто отлично…
Она запнулась посреди фразы.
– Ты ничего не слышал?
Уолтер с трудом сглотнул.
– Нет, я…
Звук повторился – слабое треньканье дверного колокольчика.
Они с женой уставились друг на друга.
– Наверное, доктор, – фыркнула Агата, заглаживая назад выбившуюся прядь. – Небось уже позвонил в похоронное бюро, они приехали забрать тело.
Уолтер открыл дверь, близоруко прищурился… – и отступил. Незнакомец на крыльце поклонился. Он был высок и облачен в безупречный фрак и полосатые брюки. Уолтер зачарованно уставился на его рыжую бороду.
– Добрый день! – Визитер выпрямился и вступил в дом, одарив Агату обезоруживающей улыбкой.
Та подавила внезапно нахлынувшее дурное предчувствие.
– Что вам нужно?
– Мне-то? – незнакомец снова улыбнулся – странной, как показалось Уолтеру, улыбкой. – Я пришел справиться о Джонатане. Он…
– Мертв, – сообщила Агата. – Скончался десять минут назад.
– Какая жалость! Десять минут, говорите? Не ожидал, что он протянет так долго. Вышел за лимит времени на целых три часа. А, ну ладно. Суровый парень, этот наш Джонатан. Я… решил заглянуть, посмотреть, из-за чего вышла проволочка.
Одной рукой он при этом рассеянно оглаживал бороду.
Уолтер Симмонс отступил на шаг в холл. Что-то эдакое светилось в глазах у визитера, и ему это решительно не нравилось. И эта его манера разглядывать чужой дом – как-то слишком… оценивающе.
– Могу я узнать ваше имя?
– Мое имя? – Глаза его полыхнули как-то уже совсем неприлично. – Сат… – а, ну его. Неважно. Я занимался для Джонатана всякими… юридическими вопросами.
– Юридическими?
– Именно. Это в основном при моем посредстве Джонатан добыл все свои деньги – и этот дом.
Взгляд его еще раз обежал комнату и остановился на хрустальном перстне у Агаты на пальце.
– Ага!
– Что не так? – беспокойно поежилась она.
– Это кольцо. Хотите верьте, хотите нет, но его дал Джонатану я. Оно… сильно помогло ему. Да, весьма помогло.
– Ах, вот как, – отрезала Агата. – Значит, вы дали? Ну, так теперь оно мое, видите? Он отдал его мне.
– Отдал вам? – Плечи у незнакомца тихо затряслись, и он даже состроил хохочущую рожу, хотя не издал ни звука. – Ну, так это же прекрасно! А он парень не промах, наш Джонатан. С юмором у него всегда было хорошо. Ну что ж, я первым делом всегда предупреждаю новых клиентов…
– Предупреждаете?
– О да. Кольцо, видите ли… Оно принадлежит Джонатану. И ему бы лучше было остаться с ним.
– Если вы пытаетесь мне угрожать…
– Уверяю вас, нет. – Он снова улыбнулся этой своей странной улыбкой, а рука вспорхнула к волнистой рыжей бороде. – Этот дом также входил в заключенный нами контракт. Его тоже придется забрать вместе со всем остальным…
Уолтер Симмонс его не слушал. Объятый страхом, он пялился на голову незнакомца. На два, если конкретнее, завитка волос у него прямо надо лбом, похожих… похожих…
И еще эта тень на стене позади него. Очень силуэт этой тени смущал Уолтера.
Однако к Агате самообладание вернулось довольно быстро.
– Что вам здесь надо?
– Ничего – пока. – Гость изящно поклонился им обоим. – Я выяснил все, что хотел. Всего наилучшего.
Симмонсы стояли молча, пока он шел через холл к двери. Потом он ее открыл. Потом вышел.
– Ну, ничего себе! – взорвалась Агата. – Да чтобы я еще когда-нибудь… Пытался запугать меня и вытянуть кольцо! Уолтер! А ну, марш – посмотри, куда он пошел!
Уолтер нехотя выглянул в окно. Незнакомца нигде не было видно.
– Газон перед домом мы тоже поменяем, – сказала у него за спиной Агата.
Уолтер молча кивнул. Он гадал, почему это лужайка у них вся такая пожухшая… и даже будто бы обожженная.
Погребение Джонатана состоялось вчера.
Как можно скорее, сказала Агата похоронной конторе. Контора любезно пошла ей навстречу. Уолтеру отчаянно хотелось сигару.
Агата окинула дом взором собственника.
– Завтра мы пойдем прямиком в банк, – заявила она. – Поглядим, что там у него в сейфе.
– Но, – проблеял беспомощно Уолтер неожиданно для себя, – дорогая, не думаю, что это будет выглядеть прилично. Так скоро после похорон…
– Не веди себя как ребенок! Конечно, это будет выглядеть совершенно прилично. Ремонтники тоже начнут завтра.
Уолтер вздохнул и поглядел на старый дом, громадный и какой-то костлявый, нависавший над ними в сгущавшихся сумерках. Словно древний пустой череп, подумал он. Окна как две темные глазницы, дверь как…
Тут все мысли у него внезапно кончились.
– Смотри! – он схватил Агату за локоть.
Агата посмотрела. Потом у нее отвалилась челюсть, а еще потом из разверстого рта раздался крик, и она принялась пронзительно звать пожарных, полицию, кого угодно – чтобы они пришли и спасли ее дом. Ее дом! Ее прекрасный большой дом!
Потому что он горел.
Все было бесполезно. Пожарные долго метали в ночь серебряные струи брандспойтов. Агата как могла мешала бригаде, пока кто-то из них не оттеснил ее, наконец, в толпу зевак, проворчав:
– Назад, леди! Держитесь заднее! Мы делаем все, что можем.
Уолтер даже не пытался вылезти из толпы – он стоял и глядел на огонь, красивый и алый, взметывающий хвостами, ярко сиявший на черном ночном небе. Он слушал дальние вопли сирен, ощущал смятение зевак… И не мог сдержать улыбки.
Он вспомнил, что успел прочитать в книге на столе у покойного Джонатана Майлза. Такие книги и вправду нужно уничтожать. Уолтер думал обо всем этом и о том, что, наверное, не смог бы жить в этом доме, и о том, как он теперь рад.
После он, правда, уже не так радовался. Агата продолжала завывать и винить во всем случившемся попеременно его, Уолтера, пожарных и чертова визитера трехдневной давности.
– Это все ты виноват! Ты сам это знаешь! Ты уронил сигарету на ковер… или еще что-нибудь куда-нибудь – и все загорелось…
Она на время замолчала – глотнуть воздуха.
– Но, Агата, я не…
– Умолкни!
Уолтер скорчился за рулем машины и промолчал.
– Или это тот паршивец, – грозно продолжала она, – который приходил третьего дня. Говорил еще, что он адвокат! С такой-то бородищей и идиотской улыбкой! Зуб даю, это он сделал! А все потому, что я не отдала ему кольцо!
Уолтер ничего не сказал. Этот парень что-то там толковал о Джонатане. Что он удачно пошутил, когда передал кольцо Агате? И еще этот странный кристалл…
– Ладно, как бы там ни было, – продолжала та с видом мнимой беззаботности, – ценные бумаги в сейфе в полной безопасности. На семьсот пятьдесят тысяч, так, по крайней мере, сказали душеприказчики.
– И потом, у меня есть вот это. – Она задумчиво погладила кольцо. – Интересно, сколько оно стоит? Сверкает очень миленько, правда, Уолтер?
– Да, дорогая, – механически ответил он.
Он искоса глянул на кольцо – и аж содрогнулся, разглядев вырезанные на оправе символы: странные, переплетенные руны, вроде тех, что красовались на закладке из Джонатанова кабинета.
– Агата, – смиренно начал он, – Агата… может быть, нам лучше продать это кольцо. Я думаю…
Ответа не последовало.
Он повернулся к жене.
Та глядела прямо в кристалл с напряженным и восторженным вниманием. Уолтер Симмонс нервно облизнул губы. В темноте камень в кольце приобрел красноватый оттенок и пульсировал – странно и неравномерно. Все это выглядело, прямо скажем… зловеще. Да, назовем вещи свои именами, кристалл казался каким-то зловредным сияющим оком…
На следующее утро они отправились в банк. Агата мчалась впереди, раздуваясь от чувства собственной важности; Уолтер подпрыгивал позади на буксире, маленький и ничтожный, как всегда.
Агата высокомерно проинформировала клерка, что перед ним наследники покойного Джонатана Майлза, а также о цели их визита.
– Конечно, мэм, – сказал тот. – Прошу за мной – сюда.
Они спустились в хранилище.
– Мистер Майлз, как вам известно, всегда вел с нами дела по почте, – сообщил клерк, задержавшись перед дверью.
– Ну, разумеется, – оборвала его Агата. – Давайте заглянем в сейф.
Он медленно вытащил две сейфовых ячейки и отпер замки.
– В своем последнем письме мистер Майлз сообщил нам, что в этой у него оборотных ценных бумаг на двести тысяч долларов, – бесстрастно сообщил он. – А вот в этой – почти полмиллиона в облигациях…
Тут голос его прервался. Он отчаянно заморгал.
Агата посмотрела в ящик, потом Уолтер посмотрел в ящик, потом голос Агаты вырос до пронзительного, яростного визга, которым она потребовала сообщить, куда, к чертовой матери, девались ее деньги, кто их украл, и почему, вашу налево и направо, банк не в состоянии позаботиться о том, что принадлежит ей, а также, в конце концов, может, это неправильная ячейка?
Где, я вас спрашиваю, деньги?
На этот вопрос банковский клерк ей ответить не смог.
Оба ящика оказались пусты. Таков был свершившийся факт.
На короткое мгновенье, пока Агата хищно зыркала во все стороны, дрожа от гнева и то сжимая, то разжимая кулаки, ей послышался дальний перезвон чьего-то издевательского смеха.
Джонатанова смеха, если называть вещи своими именами.
Президент банка тоже ничего не сумел объяснить. Он со всей серьезностью сообщил им, что фирма предпримет самое тщательное расследование происшествия, но Агата отказалась этим утешаться.
– Мы их засудим, вот что мы сделаем! – мрачно пообещала она Уолтеру. – Сначала дом, потом еще эти деньги! Ты понимаешь, что все это значит?
– Да, дорогая, – ответил Уолтер немного устало. – Полагаю, мне надо вернуться на работу.
– Уж конечно! И, более того…
Тут она разразилась очередным монологом.
Уолтер молчал. Он думал. Думал о том, что сказал тот незнакомец.
«Дом придется забрать вместе со всем остальным…»
С остальным… Банковские активы. Дом. Всё… Учитывая, как выглядела тень этого парня, неудивительно, что президент банка оказался не в состоянии объяснить поведение ценных бумаг во вверенном ему сейфе.
Остаток недели прошел вяло. Им удалось продать участок, на котором стоял дом, за довольно жалкую сумму, но это принесло Агате хотя бы толику удовлетворения.
– Я теперь смогу купить то меховое манто от «Моденс», всегда его хотела, – сказала она ему в пятницу вечером за ужином. – И, может быть, кое-какое новое серебро…
Уолтеров лоб пошел морщинами.
– А как насчет трубки, которую ты обещала мне на Рождество, дорогая? Помнишь, красный вересковый корень…
– Ах, замолчи! Все время только о себе и думаешь. Бывают же на свете мужья, которые хоть немного заботятся о своих женах, а? Так, посмотрим… Надену его в церковь в воскресенье. Пусть все обзавидуются. Уолтер! Ты получил обратно свою работу?
– Да, – медленно проговорил Уолтер. – Получил.
Что он теперь получает на десять долларов в неделю меньше, он решил ей не говорить. Скажи только, и она ему всю жизнь отравит и еще будет донимать расспросами, с какой стати он не отстаивает свои права, почему ведет себя не как настоящий мужчина, а как маленькая серая мышка, всю свою жизнь. А и правда, почему?
– Сахар мне дай!
Ее голос ворвался в его мысли – пронзительный, резкий, сердитый. Уолтер машинально потянулся за сахарницей, и рука его застыла в воздухе.
Сахар был уже у Агаты. Уолтер готов был поклясться, что еще десять секунд назад чертова посудина стояла у его тарелки. А еще он мог поклясться, что видел уголком глаза промелькнувшую через весь стол тускло-красную вспышку.
Это случилось после ужина. Уолтер сидел в гостиной с газетой и привычно грыз себя за то, что не осмеливается закурить сигару.
– Уолтер!
Он поднял глаза. Агата стояла в дверях. Лицо у нее было очень белое.
Он медленно встал и проследовал в кухню.
– Уолтер… смотри…
Он посмотрел. Вся посуда, чисто вымытая и сверкающая, аккуратными рядами стояла, где ей и полагалось.
– Очень хорошо, дорогая, – похвалил Уолтер, попутно стараясь выдумать еще какой-нибудь комплимент. – Очень быстро и…
– Не дури, Уолтер! Я ее не мыла!
– А?
– Ага. Я стояла у морозилки, убирала еду и думала… о‘кей, я думала, что вот бы у меня был муж, который достаточно заботится о своей жене, чтобы помыть за нее всю посуду. А потом я вроде бы увидела что-то красное.
– Красное?
– Да. Оно промелькнуло позади меня. Как бы вспышка такая. Я обернулась – а оно уже все. Помыто!
– О! – слабо пролепетал Уолтер.
А потом взгляд его упал на Агатино кольцо. Оно пламенело рубиновым огнем.
Часов около четырех утра на следующее утро Уолтера Симмонса довольно грубо разбудили. Рядом с ним Агата истошно вопила фальцетом – не просыпаясь.
Потом она резко подскочила, вцепилась, дрожа, в него и так провисела добрых минут пять, пока ему не удалось, наконец, ее успокоить.
– Ах, Уолт! – истерически всхлипывала она. – Ох, Уолт, мне приснился плохой сон!
Уолтом она его не звала уже лет десять.
– Мне снилось, что в этом кольце сидит такой забавный красный человечек, он все смеялся надо мной и прятал лицо. Я хотела, чтобы он разбил кристалл и дал мне на себя посмотреть, но он не соглашался. А потом он таки показал мне лицо… и оно было ужасно!
Она судорожно захлюпала, потом замолчала и рассеянно уставилась на перстень.
Уолтер Симмонс облизнул губы.
– Агата… – сказал он. – Агата!
Она снова подскочила и воззрилась на него.
– Чего тебе?
– Слушай, Агата, может, ты продашь это кольцо?
– Продам?
Он сглотнул и попытался взять себя в руки.
– Ну, да. Ты говорила, что оно тебя пугает…
Она посмотрела на кольцо и странно улыбнулась.
– Говорила. Но я передумала.
Утром Уолтер Симмонс пошел на работу со скверным предчувствием, которое угнездилось у него во внутренностях и, кажется, с увлечением их глодало. От зрелища Агаты сидящей на диване и не отрывающей взгляда от подмигивающего розового кристалла у себя на пальце, ему легче не стало. Она ему даже до свиданья не сказала! Вечером Уолтер домой не пошел – а пошел вместо этого в библиотеку и целых полтора часа копался там в секции «Демонология»… пока не нашел то, что искал.
Фамильяр, – прочел он, – есть демон, приданный колдуну или ведьме как часть договора с Сатаной. В прежние времена обитал обычно в теле жабы или черной кошки. В дальнейшем, однако, сформировалась традиция выбирать в качестве местопребывания фамильяра какой-нибудь более личный предмет обихода – браслет, ожерелье, кольцо…
– Ага, – тихо сказал себе Уолтер.
И продолжил читать.
…если владелец фамильяра умирает или срок его договора с Сатаной истекает, беса надлежит похоронить вместе с владельцем. Если в обладание им вступит другое лицо, бес обязан временно ему повиноваться, но может попутно вытворять какие ему заблагорассудится шалости. Если же упомянуть в присутствии фамильяра Имя Господне…
Тяжело сглотнув, Уолтер Симмонс прочел следующие несколько строк. После чего вскочил и спешно покинул библиотеку; его коротенькие толстые ножки так и мелькали, а глазки перепуганно таращились в ночь.
Теперь понятно, кто был этот разряженный в пух и прах незнакомец.
Теперь понятно, что это за кольцо.
И кроме того ему было совершенно ясно, что случится, если Агата наденет его завтра в церковь.
Когда он прибыл домой, Агата лежала, свернувшись, на диване и все так же завороженно пялилась в кольцо. Она подняла взгляд и подарила мужу сонную улыбку.
– Ах, ты уже дома?
Уолтер заморгал.
– Погляди, Уолт! Погляди на мое новое манто.
Он мельком посмотрел на новое меховое манто и кивнул.
– Да, дорогая. Очень мило.
– Погоди пока они увидят меня в нем завтра в церкви. И с этим кольцом, разумеется.
Она улыбнулась, предвкушая…
Что и говорить, вела она себя странно.
– Агата, дорогая, – прошептал он почти через силу. – Послушай меня. Твое кольцо… Не надевай его завтра в церковь.
– Почему это? – Она посмотрела на него уже с куда более знакомым выражением.
– Потому что… Оно плохое, Агата. Злое. Милая, окажи мне эту услугу, прошу.
Она отсутствующе кивнула.
– Пожелай, – сказал он. – Пожелай, чтобы ужин был готов – прямо сейчас.
Ее губы шевельнулись. На мгновение кристалл на пальцы вспыхнул неземным сиянием, и Уолтеру привиделось, как что-то красное прошмыгнуло в сторону кухни, а потом обратно.
– А теперь, – выдавил он, – пойдем в кухню.
Он, в принципе, ожидал увидеть нечто подобное, но зрелище все равно вышло довольно пугающее.
Жаркое было готово, стол – накрыт, картошка – превращена в пюре, салат – смешан. Только садись да ешь!
– Вот, – слабо проблеял он. – Видишь?
Агата улыбалась.
– Конечно, вижу. Это все кольцо.
Уолтер попробовал задавить черный вал паники в зародыше. Получилось не очень.
– Значит, ты от него избавишься, правда? Продашь или…
– Ну, конечно, нет. Оно мне нравится. Такое… интересное.
Она все так же неотрывно глядела в камень.
Весь ужин Уолтер попеременно то спорил, то молил, то канючил – но все тщетно. Агата полюбила кольцо. И завтра определенно собиралась надеть его в церковь, нравится это Уолтеру или нет. Точка.
А наутро в церкви все соседи были просто уничтожены новой шубой Агаты. Под их ахи и охи она вертелась и так, и сяк, сияя загадочным и небрежным выражением лица. На Уолтера снизошел какой-то тупой фатализм. Он не огрызался даже на самые ядовитые реплики жены и почти не обращал внимания на ее обычные «Уолтер! Немедленно сядь прямо! На нас люди смотрят!».
Тем временем служба неторопливо перевалила на второй час, и Агата почему-то перестала его шпынять. Теперь она снова как загипнотизированная смотрела в кристалл у себя на пальце. Уолтер вспомнил, что прочел вчера в библиотеке, и покрепче зажмурил глаза. Перестать дрожать у него никак не получалось.
Псалмы закончились. Пастор повернулся к конгрегации и воздел длани в благословляющем жесте.
Ну, вот и оно. Уолтер затаил дыхание.
– Во имя Господне мир да пребудет со всеми вами! – прогремел пасторский глас.
Агата рядом заледенела. А потом закричала – совершенно жутко.
Поднялась сутолока, гомон, кто-то чего-то требовал, кто-то спрашивал, что там случилось, кто-то что-то восклицал и уже даже пытался куда-то бежать.
Очень медленно Уолтер Симмонс повернулся и посмотрел Агате в лицо. Глаза у нее были расширены, а выражение в них застыло такое, что у него волосы зашевелились на загривке. Он перевел взгляд на кольцо.
И совсем не удивился, увидав, что тусклое алое сияние куда-то пропало. Кристалл был бел и лишен всякого блеска, словно бы нечто, обитавшее в нем, сгинуло навеки. Интересно, каким фамильяр предстал Агате, когда вырвался из кольца?
Никаких сложностей не возникло. Сердечная недостаточность, сказал коронер.
На похоронах странная апатия Уолтера заслужила не один комментарий.
– Даже не пытается делать печальную физиономию, – прошептал кто-то из знакомых. – Впрочем, оно и неудивительно, учитывая, как она с ним обращалась. Порядочная сука она была, эта Агата.
Добрые и сочувствующие соседи Уолтера Симмонса удивились бы куда больше – и даже наверняка встревожились! – повстречай они его следующей ночью. Правда, для этого им пришлось бы оказаться на кладбище, где вдовец украдкой копался в могиле всего недельной давности – ну, максимум двухнедельной. На надгробии значилось имя Джонатана Майлза.
О, им бы нашлось что сказать – а подумать и тем паче! – увидь они, как Уолтер опускает в могилу кольцо с неким кристаллом.
Кольцо, которое, наконец-то, вернулось к своему прежнему хозяину.
С. Холл Томпсон. Воля Клода Эшера
I
Они меня заперли. Всего мгновение назад я – возможно, в последний раз – услыхал лязг тройных засовов, вогнанных на место. Дверь в эту голую белую комнату выглядит вполне обычно, но на самом деле обита совершенно непроницаемой сталью. Сотрудники этого учреждения пошли на все, чтобы гарантировать невозможность побега. Уж они-то читали мое досье. Меня внесли в список пациентов опасных и «склонных к рецидивам насилия». Я с ними спорить не стал. Какой смысл доказывать, что все мое насилие осталось далеко в прошлом, что нет у меня больше ни склонностей, ни сил – во всяком случае, еще на одну попытку к бегству. Им невдомек, что свобода хоть что-то значила для меня, пока оставалась надежда… надежда спасти Грацию Тейн от того ужаса, вернувшегося из гнилого чрева могилы, чтобы предъявить на нее права. Теперь надежды больше нет – есть только долгожданная свобода смерти.
Умереть с тем же успехом можно и в сумасшедшем доме – какая, в самом деле, разница, где? Сегодня осмотр – физический и ментальный – практически спустили на тормозах. Так, пустая рутина, формальность, нужная только «для архива». Доктор уже ушел. Это не тот, кто меня обычно осматривает. Наверное, в заведении он новенький. Крошечный такой человечек, разборчиво одетый, с красным лицом и вульгарной бриллиантовой галстучной булавкой. С того мгновенья, как он взглянул на отвратительную маску, которой стало мое лицо, вокруг его рта залегли складки гадливости и страха. А ведь кто-то из белых, отутюженных санитаров наверняка предупредил его о моем кошмарном случае. Я совсем не возражал, когда он не стал подходить ко мне ближе нужного. Скорее, даже пожалел беднягу – уж больно в неловкой ситуации он оказался. Я и покрепче желудком встречал – даже их при виде меня отбрасывало к стене, а потом тошнило в бессильном ужасе. Мое имя, моя нечестивая история, слухи о гниющем, но дышащем полутрупе, в который я превратился, давно уже стали легендой в серых лабиринтах сего приюта скорби. Не могу винить их – поневоле испытаешь облегчение при мысли, что скоро сбросишь это жуткое бремя, предашь эту массу содрогающейся плоти, в которой уже не осталось ничего человеческого, игу червей и забвению.
Прежде чем уйти, доктор нацарапал что-то у себя в блокноте. Конечно, первой строчкой шло имя – Клод Эшер; а дальше, под сегодняшней датой – несколько безликих и всеобъясняющих слов: «Прогноз негативный. Безнадежное повреждение психики. Болезнь в неизлечимой стадии. Скорая кончина». Наблюдая за медленным, болезненным танцем его ручки по бумаге, я испытал одно последнее искушение – заговорить. Меня охватила яростная потребность закричать, выплюнуть в этого новичка канонаду моих привычных протестов, в бессильной надежде, что вдруг он мне поверит. Богохульные слова поднялись на мгновение к горлу, как вода в колодце, и вытолкнули на поверхность глухой носовой всхлип. Доктор быстро поднял на меня взгляд, и проступившее в нем тревожное отвращение сказало мне всю правду. Говорить совершенно ни к чему. Он такой же как все остальные – ласковый голос и ни во что не верящая улыбка. Он выслушает весь этот жуткий кошмар, который я называю историей Грации, и брата, и моей, спокойно и понимающе кивнет в конце, и уйдет, больше прежнего уверившись, что я абсолютно, бесспорно сумасшедший. Я промолчал. Последняя искра надежды замигала и погасла. Я знал, что никто, никогда уже не поверит, что я никакой не Клод Эшер. Потому что Клод Эшер – этой мой брат.
Только не поймите меня неправильно. Это вовсе не какой-нибудь тривиальный случай спутанной идентичности, а нечто гораздо более ужасное и злое. Это дьявольский план, замысленный и приведенный в исполнение извращенным разумом, одержимым жаждой мщения; разумом, стакнувшимся с силами тьмы, приученным к давно забытым, запретным ритуалам и заклинаниям. Никому бы и в голову не пришло спутать меня с Клодом Эшером. Напротив, с самого раннего детства никто не верил, что мы братья. Трудно себе представить двух менее похожих созданий, чем мы с ним. Вообразите себе обычного, нормального мальчика и затем мужчину – среднего сложения, среднего веса, с ничем не примечательными чертами, с умеренным, чтобы не сказать вялым нравом, короче, совершенную норму во всем – и вот перед вами мой портрет. А теперь возьмите полную противоположность всему этому – и это будет мой брат, Клод.
Он всегда отличался крайней хрупкостью здоровья и странной меланхолией. Голова казалась слишком крупной для такого тоненького тела, а лицо вечно затеняла бледность, страшно беспокоившая нашего отца. Нос у Клода был длинный и тонкий, с необычайно чувствительными ноздрями, а глаза, широко расставленные и утопленные глубоко в глазницы, сияли каким-то безрадостным блеском. Я с самого начала был сильнее, не говоря уже о том, что старше, но это Клод с его тщедушным телом и могучей волей безраздельно правил в Иннисвичском Приорате.
В какой-то момент дорога, что вьется через безжизненные, истерзанные Атлантикой, пустынные побережья северного Нью-Джерси, вдруг выпускает сплошь заросший колючей ежевикой боковой отводок. Ничего не подозревающий путник вдруг упирается в указующий прочь от моря перст с надписью: «ИННИСВИЧ – ½ МИЛИ». Мало кто в наши дни решается на него свернуть. Те, кто знает этот край, стараются обходить стороной Иннисвич со всеми его легендами, обвесившими старую прибрежную деревушку, будто ветхие, грязные тряпки. Много чего рассказывают о Приорате, угнездившемся на самой северной оконечности Иннисвича, а немногочисленные жители городка, еще цепляющиеся за свои дома, пользуются по всей округе дурной славой. А ведь в те давние дни, до явления Клода Эшера, все здесь было по-другому. Мой отец, Эдмунд Эшер, служил пастором Иннисвичской лютеранской церкви. В Приорат он попал тихим, уже немолодым человеком, средних лет, но при молоденькой жене, а через два года у них появился я. В ту ночь, когда родился мой брат, Клод Эшер, вместе с ним в Приорат вошла смерть.
В ту ночь, когда родился Клод… На самом деле я никогда о ней так не думал. Для меня это всегда была ночь, когда умерла мама. Даже я, сущий ребенок тогда, не мог не почувствовать всепроникающей обреченности, затопившей весь дом с самого утра. Сырой морской ветер с востока нес запах дождя, и я вынужденно просидел весь день дома. Внутри было непривычно тихо, только отец негромко, будто крадучись мерил шагами библиотеку и вымученно улыбался всякий раз, как ему случалось встретиться взглядом со мной. Я еще не знал, что близится время родов – просто мама в последние недели была как-то необычно бледна, и наши огромные холодные комнаты без ее смеха казались особенно бесприютными. Ближе к ночи вызвали деревенского доктора, круглого человечка со щечками-яблочками, по имени Эллерби. Он как всегда принес мне из лавки ириску. Вскоре после того как он исчез за поворотом ведущей на второй этаж лестницы, меня отправили в постель. Часами – так мне, по крайней мере, казалось – я лежал в темноте, а свинцовые тучи катились на берег с моря, чреватые грозой. Дождь хлестал в стекла, и я, наконец-то, уснул, весь в слезах, потому что мама не пришла поцеловать меня на ночь.
Думаю, пробудил меня все-таки крик. Теперь-то я знаю, что на тот момент вопли боли давно уже стихли, вместе с последним маминым дыханием. Должно быть, какое-то последнее горестное эхо, заблудившееся в наших темных комнатах, нашло, наконец, дорогу в мой затуманенный сном младенческий разум. Онемев от холодного, безымянного ужаса, я заковылял по извилистой, крытой ковром лестнице. На площадке меня остановил тихий, полный отчаяния, одинокий звук – и сквозь открытую дверь библиотеки я увидал их. Отец утонул в кожаном кресле у погасшего камина, просыпавшегося золой на решетку; свет свечей плясал на ладонях, закрывших лицо. Согнутые плечи сотрясались от неудержимых рыданий. Через мгновение из тени выступил доктор Эллерби – таким торжественным и бледным я его еще не видел. Свою тонкую, бессильную руку он положил папе на плечо.
– Я… я знаю, как мало помогают слова, поверь, Эдмунд. – Голос его звучал глухо. – Просто хочу, чтобы ты знал: я сделал все возможное. Миссис Эшер…
Он встряхнул покатыми плечами, словно слабо гневаясь на судьбу.
– Миссис Эшер просто была недостаточно сильна. Это само по себе странно… ребенок оказался как будто бы слишком велик для нее. Он прямо высосал из матери все силы, всю волю. Словно…
Слова его канули во тьму, куда вслед за ними уже падал и я. Я хотел закричать, заплакать, но не мог. Страх и одиночество стиснули мне грудь; я едва мог дышать. Потом, уже годы спустя, конец этой неоконченной фразы Эллерби так и преследовал меня: «…словно он убил ее, чтобы выжить самому».
Они похоронили маму в тенистом уголке кладбища, за церковью. Вся деревня пришла и стояла там, под иглами ливня, склонив головы в безмолвном горе. И сквозь все это, требовательный и наглый, пробивался воинственный вой младенца Клода. В этих властительных воплях было что-то отчаянно неправильное, чтобы не сказать нечестивое – как будто этот темноголовый горлопан уже был запанибрата со смертью и не собирался ни горевать, ни, тем паче, пасовать перед ее неумолимым лицом.
С того дня и дальше Иннисвичский Приорат находился в полной и безраздельной собственности моего брата. Завывания, впрочем, очень скоро прекратились, и голос Клода с самых младых ногтей приобрел странно свистящие и шипящие модуляции – но менее властным от этого не стал. Напротив, сама его тихая мягкость, казалось, лишь способствовала силе, и влияние его на слушателя от этого только возрастало. Воля Клода, а отнюдь не его голос, правила Приоратом и всеми его обитателями. Голос был просто инструментом.
Папа стал Клоду настоящим рабом. Вся нежнейшая, невзыскательная любовь, которую он питал к маме, пока та была жива, теперь досталась ему. Надо думать, отец видел в младшем сыне последнюю память о той, чья могила теперь была вечно убрана цветами – во всякое время года. Мне его было ужасно жалко – ибо мой брат, это слабое, отрешенное, задумчивое создание, абсолютно не нуждался ни в любви, ни в помощи. Всю свою жизнь Клод Эшер был совершенно холоден и самодостаточен – и, более того, способен получить все, чего бы ни пожелал.
Постоянное беспокойство по поводу сомнительного здоровья Клода привело к дальнейшим эскападам со стороны отца. Вместо того чтобы отослать мальчишку в школу и избавить от гнетущей атмосферы Приората, папа принялся нанимать частных учителей. План, разумеется, с треском провалился. Раз за разом все начиналось хорошо, но стоило очередному ученому джентльмену или леди свить в Приорате уютное и хлебное гнездышко, как тут же все шло насмарку. Попечение об одном-единственном мальчике представлялось им удачнейшей в мире синекурой, но в какой-то момент каждый из них понимал, что чувствует к питомцу живейшую неприязнь, открытую или тайную. Никто в итоге не задерживался в Иннисвиче больше, чем на пару недель. Когда очередной бедолага покидал наш негостеприимный кров, мне иногда случалось поглядеть из сада вверх, и за окном второго этажа я видел бледную, тонкую физиономию Клода: по его бесцветным губам неизменно блуждала довольная и злобная улыбка. Стоило назойливому чужаку оставить наши пределы, и вороватый изоляционизм моего дражайшего брата снова окутывал Приорат, будто гробовым покровом.
II
В восточном крыле Приората, за массивной барочной дверью пряталась комната, которой я никогда в жизни не видел. Нечестивые слухи о ней будоражили добропорядочный Иннисвич с одной достопамятной ночи в конце XVIII века. Отец никогда ни словом не обмолвился нам о жутких легендах, гнездившихся и шептавших гнусности за этим резным порталом. С него было довольно, что сто лет назад комнату заперли и забыли. Но мы с Клодом держали ушки на макушке и потому слышали как приходящая прислуга из деревни, ежась от удовольствия, шепотом смакует кошмарные подробности тайных злодеяний, отошедших в далекое прошлое.
В 1793 году Иавис Дризен, тогдашний пастор иннисвичской церкви, возвратился из длительного отпуска в Европе и привез с собой женщину, с которой успел познакомиться и, более того, пожениться на континенте. В архивах местной библиотеки сохранились письменные упоминания о ее необычайной красоте – довольно разрозненные и по большей части двусмысленные или даже оскорбительные. Впрочем, в одном все эти свидетельства соглашались друг с другом: супруга Иависа Дризена была тайной последовательницей ведовства. Она родилась в какой-то неизвестной и пользующейся дурной славой венгерской деревушке. Вскоре уже весь Иннисвич шептался, что эта колдунья, эта наложница сил тьмы недостойна жить среди честных христиан, а в ту ночь, когда истеричная, тупоголовая баба, прислуживавшая Дризенам, сбежала из Приората, вопя на всю деревню, шепот перерос чуть ли не в революцию. Изловив старуху, деревенские попробовали выяснить причину ее припадка, и тут-то и всплыла загадочная комната в восточном крыле. Там пытливые селяне обнаружили ответы на все свои вопросы – в виде обугленных останков молодой жены Иависа Дризена, прикованных к вертелу в фундаментальных размеров старинном камине. На одной из массивных потолочных балок бесшумно раскачивался труп самого пастора Иависа. На следующий день тела вынесли из комнаты и похоронили, а само помещение запечатали.
Так вот, когда Клоду Эшеру стукнуло двенадцать, он потребовал эту комнату себе во владение.
Отец разволновался пуще прежнего и, наконец-то, открыто заявил, что его беспокоит нездоровый индивидуализм Клода – а тот, реквизировав комнату в восточном крыле, прекратил практически все контакты с внешним миром. И вправду было что-то болезненное и тревожащее душу в том, как он сидел дни и ночи напролет в своем неприкосновенном убежище. Тяжелая, покрытая затейливой резьбой деревянная дверь неизменно стояла запертой. В ясные сухие дни Клод, бывало, часами и безо всякой цели бродил по пустынному выцветшему берегу моря; ключ от комнаты он, разумеется, всегда носил с собой. Подгоняемый любопытством и отцовскими сетованьями, я частенько пытался найти хоть какие-то общие с братом интересы, которые могли бы свести нас поближе и дать мне возможность проникнуть в ту тайну, которую он столь ревниво прятал в своем одиноком, населенном призраками прошлого обиталище. Раз или два я даже пытался составить ему компанию в экспедициях вдоль линии прибоя, но его мрачная неразговорчивость очень ясно дала понять, что мне тут не рады. В конце концов, я разочаровался и оставил эти тщетные попытки. Всем было бы лучше, если бы я так никогда и не набрался смелости бросить Клоду вызов и проникнуть в его запретную комнату, – но, увы, тут в дело вмешался мой ирландский сеттер, Тэм.
Зная, что я обожаю собак, отец подарил мне его на двадцать второй день рожденья. В возрасте чуть больше года он уже был отлично дрессирован. Ум он имел острый, глаза добрые, а шерсть – того дивного медного цвета, который делает всю породу исключительным образчиком красоты. Не успел я оглянуться, как мы с Тэмом уже были неразлучны: куда я, туда и он. Его бурные, временами потешные игры хоть немного развеивали сумрак, вечно окутывавший наш Приорат, который будто весь зарос какой-то липкой, удушающей грязью, не пропускавшей ни солнечный свет, ни обычную человеческую радость. И, разумеется, Клод возненавидел Тэма с первого же взгляда.
Словно повинуясь некому врожденному инстинкту, пес избегал моего брата. Это было совсем не ново: все животные выказывали к нему самую живейшую неприязнь. Наверняка присущая им первобытная чувствительность предупреждала их о скрытом в нем зле, недоступном куда более грубым и тяжеловесным чувствам человека. Обычно эта открытая враждебность вызывала у Клода лишь некоторое сардоническое веселье. Но Тэм его откровенно раздражал. Возможно, причина была в том, что пес вторгся на территорию Приората, где до тех пор властвовал исключительно Клод. При каждом удобном случае он довольно неуклюже пытался приручить пса, лишь усиливая тем самым мои подозрения.
В тот день мы с Тэмом, как обычно, резвились в серой, сумеречной тишине сада. Я веселился, глядя, как пес носится за трухлявой ясеневой палочкой, которую я кидал ему от забора в сторону мощенной плитняком террасы – на нее выходила своими стеклянными створными дверями библиотека. Вдруг сеттер сделал стойку, так и не добежав до палочки, а потом поджал хвост. Вся его огненная фигура, озаренная светом близящегося к закату солнца, напряглась, брыли задрожали, обнажая клыки. Задорный, славный Тэм в мгновение ока превратился в перепуганное животное.
Я поднял глаза и обнаружил, что над Тэмовой игрушкой стоит Клод. Он улыбался, его бледные губы кривились, показывая мелкие острые зубы, но во взгляде никакого веселья не было. Зато была злоба человека, которому помешали. Мне показалось, что он вздрогнул, когда в горле Тэма заворочался глухой рык – и не успел я вмешаться, как мой брат с хриплым хохотом сцапал собаку. Я услышал, как он бормочет: «А ну, иди, сюда, чертенок!» – а потом услышал дикий визг Тэма, и почти сразу же резкий вскрик боли.
– Тэм! – закричал я. – Тэм, фу! Ко мне!
Варварская сцена закончилась так же внезапно как началась. В ясеневой рощице воцарилась страшная, тяжелая тишина. Лист спланировал к моим ногам и лег на холодный камень. Тэм, жалобно скуля, кинулся ко мне и прижался к ногам: он весь дрожал. Клод не ругался – он даже ни слова не вымолвил. Он просто стоял и смотрел пустым взглядом на кровь, капавшую из двух ранок на тыльной стороне его бледной руки. Потом перевел взгляд на прячущуюся за меня собаку, и в нем сверкнула такая затаенная злоба, такая сатанинская ненависть, что, наверное, старше самого человеческого рода – огненный отголосок забытых эонов, когда эта ненависть правила миром. Прошло одно длинное мгновение. Клод развернулся и сквозь стеклянное окно-дверь исчез в сумраке библиотеки. Я утешительно потрепал Тэма по холке, но рука у меня тряслась. Я сказал себе не дурить, сказал, что бояться нечего… но вечером Тэм исчез.
Я, как обычно, отправился к конуре, спустить собаку с привязи и повести на ежедневную прогулку по деревне – но обнаружил только измочаленный конец поводка, привязанного к железному кольцу возле дверцы. И вот там, стоя в сгущающейся душной тьме, я словно во вспышке вспомнил едва сдерживаемую ярость на бескровной физиономии Клода, а сразу же вслед за ним мне привиделась запретная дверь в восточном крыле, надгробье всякой истины.
Меня прошиб озноб. Я сказал себе, что у меня просто распоясалось воображение. Вполне возможно, Тэм просто перегрыз привязь и умчался навстречу свободе – носится сейчас где-нибудь по деревне и ждет меня. Но и идя по тропинке в Иннисвич, и расспрашивая завсегдатаев трактира, и болтая с игравшими на улице в салки детишками, я уже знал, что мне скажут. Никто Тэма не видел и не слышал – с самого вчерашнего вечера, когда мы с ним были тут в последний раз. Непривычная холодная ярость захватила меня целиком. Возвращаясь в Приорат, я понимал, что сегодня взломаю святилище Клода, чего бы мне это ни стоило.
Прежде чем уйти домой, в деревню, экономка оставила для меня в библиотеке поднос, на котором обнаружились сандвичи, сконы и кофейник горячего шоколада. Я ни к чему не притронулся. Осторожно прокравшись через катакомбы нижнего холла в сумрачную, как склеп, буфетную, я нашел там то, что мне было нужно. Из ржавого, редко используемого ящика с инструментами я извлек моток толстой проволоки, загнул один конец в аккуратный крюк и так же беззвучно и бдительно проделал обратный путь, после чего поднялся по широкой, вьющейся спиралью лестнице наверх. Где-то в доме вековая балка проскрипела зловещее одинокое ругательство. Из комнаты в самом начале лестницы доносился тяжелый, успокаивающе обычный храп отца. Чуть дальше дверь в спальню Клода стояла приоткрытая. Света внутри не было. Я задержал дыхание и вперил взгляд в стигийскую тьму комнаты. Медленно, очень медленно водянистый лунный свет нарисовал мне распростертую на кровати под балдахином фигуру Клода. Брат дышал размеренно и глубоко.
Изо всех сил стараясь не шуметь – мое усердие удивило меня самого – я прикрыл ему дверь и двинулся сквозь тени дальше, к комнате в восточном крыле.
Я совсем не был уверен, что мне все удастся. Крученая проволока извивалась в моих неверных пальцах, грохоча в старинном замке, будто откованные в аду цепи какого-нибудь добропорядочного призрака. Понятия не имею, сколько я там воевал с дверью, пока меня не вознаградил, наконец, глухой скрежет несговорчивого механизма. Я толкнул тяжелую дверь мокрой от пота рукой, и она бесшумно отворилась внутрь. Густая тьма, казалось, потекла изнутри и чуть не засосала меня в черный водоворот. Мне внезапно стало дурно. Жуткие, отдающие могилой миазмы нахлынули со всех сторон. Это была вонь забытых веков, тошнотворная, эктоплазмическая аура мертвой плоти. Я запалил свечу и при ее свете разглядел расчищенный на столе, среди зловеще мерцающей стеклянной лабораторной посуды, реторт и пробирок непонятно какой давности, небольшой круг. Посреди него возвышалась статуэтка, вырезанная словно бы из сырого, точеного гнилью дерева. Я шагнул вперед и уставился на произведение искусства, одновременно изысканное и невыразимо злое; меня не оставляло ощущение, что руки, изваявшие эту вещь, направлял какой-то нечестивый гений. Никакое человеческое мастерство не сумело бы породить столь сверхъестественно совершенное изображение Тэма. Миниатюрное животное лежало на боку и смотрело в пламя свечи жутко пустым глазом. Горло от уха до уха зияло страшной расселиной, и из этой мастерски изображенной раны сочился мерзкий зеленый ихор, медленно расползавшийся лужей по изрезанной поверхности стола.
Не могу сказать, сколько я стоял там, таращась на этот зловонный, разлагающийся портрет смерти. Разрозненные и невыносимые видения милого зверя, который так много для меня значил, мерцали в окружающей тьме. Физическая немочь вернулась, скрутила мне желудок; я подумал о Тэме, который сейчас где-то далеко, один, плачет, роняя последние капли своей недолгой жизни.
За завтраком наутро экономка ворвалась в столовую и сообщила, что со мной срочно хочет поговорить деревенский рыбак. Конечно, они нашли Тэма.
Пронизывающий холодный туман жадными пальцами наползал на берег с Атлантики. Он завивался, как эктоплазма со спиритического сеанса среди промокших от росы трав, жесткими иглами торчавших по гребням дюн. Я встал на колени рядом с жалкими, обмякшими останками, наполовину погребенными под нанесенным ветрами песком. Глубокая медь шерсти на шее Тэма была испачкана чем-то еще более красным и вдобавок липким. Ужасный разрез алел, как гротескная улыбка идиота. Пес был мертв уже много часов. Я встал. Рыбак украдкой вытер слезу с выжженной солью щеки.
– Мы в деревне все любили Тэма, сэр… Он был такой добрый с детьми.
Он тряхнул головой.
– Это должна быть прямо очень большая тварюга, чтобы вот так раскроить ему глотку…
Я промолчал. Потом послал его за лопатой и куском просмоленной парусины. Мы завернули Тэма в холстину и похоронили там же, на дюне. Песок был сырой и холодный. Туман так и струился в неглубокую яму могилы. Когда мы забросали ее, я отметил место одной-единственной вылизанной морем ракушкой. Все время, пока мы работали, я раздумывал над словами рыбака. О да, ничто, существующее в природе, ни человек, ни зверь, не причиняло вреда моему Тэму. Его уничтожило что-то совсем другое.
Отец правды так и не узнал. Я предоставил ему верить в сказку, которая ходила по деревне: будто на Тэма напала и убила какая-то бродячая зверюга. Никакого желания давать папе лишние поводы для волнения у меня не было и в помине. Годы и без того тяжким бременем ложились ему на плечи; он так и не оправился от смерти мамы – я хотел, чтобы свои угасающие дни он провел хотя бы в относительном мире.
Вскоре после ужина я сказал, что иду спать. На лестнице рядом со мной незаметно возник Клод. Он ни слова мне не сказал, но задержался у моей двери. Невольно я посмотрел на него. Он улыбался. Его взрослое бледное лицо никак не сочеталось с мальчишеской одеждой – и, о да, я уже видел на нем такое выражение раньше. Это была та же триумфальная, исполненная жестокого веселья улыбка, что и в тот день, когда последний учитель покидал Иннисвичский Приорат. Клод Эшер снова победил дерзкого, осмелившегося вторгнуться на его территорию. После долгой паузы он тихо сказал: «Спокойной ночи!» – и удалился по окутанному тенями коридору, который вел в восточное крыло.
Больше я его не видел почти четыре года.
III
На следующее утро, не дожидаясь, пока Клод встанет и спустится к завтраку, я попрощался с отцом и отбыл, как уже некоторое время планировал, в Принстон – учиться журналистике. Несколько месяцев темные воспоминания об этих последних часах в Приорате маячили где-то на периферии рассудка, но постепенно нормальная человеческая забывчивость взяла верх: память сложила страшную судьбу Тэма на затянутую паутиной полку в архиве, захлопнула дверь и повернула ключ. Жизнь в университете была приятно обыденной и ничем не напоминала ту, которую я вел раньше, в тени брата в Иннисвичском Приорате. Единственной ниточкой, еще связывавшей меня с Клодом в эти четыре счастливых, суматошных года, оставалась переписка с отцом. Увы, с течением времени его письма становились все более натянутыми. Изо всех сил стараясь казаться веселым и всем довольным, он ничего не мог поделать с подспудно проникающей в них тревогой о Клоде. Случайные, скудные фразы там и сям намекали, что брат становится все более скрытным, все более неуправляемым. Каждая ввергала меня вновь в бесконечные мрачные лабиринты памяти, воскрешая отвратительное, ухмыляющееся лицо, которое я хотел поскорее забыть. К тому же бывали мгновения, когда мне казалось, что тлетворное влияние брата способно достать меня даже здесь. Для кое-каких консервативных элементов университетской общественности, среди которых встречались уроженцы Иннисвича и ближайшей округи, я стал предметом довольно-таки оскорбительного любопытства. На меня смотрели искоса как на «того парня из Иннисвичского Приората – ну, вы знаете… братца Клода Эшера».
Когда на вручение степени в Принстон приехал отец, Клод увязался за ним. Вспоминая тот вечер у меня в гостиной, я теперь уже понимаю, что не будь мы с папой так ослеплены желанием разглядеть в Клоде хоть что-то хорошее, мы бы с самого начала угадали страшную правду. Вместо этого мы с отчаянной надеждой слушали брата, тихим голосом вещавшего нам о своем решении послужить человечеству на медицинском поприще. Счастливый впервые за долгие годы, отец впитывал каждый звук его лицемерной, кощунственной лжи. Прежде чем отправиться почивать, он сказал мне на ухо, что был бы признателен, если бы я посоветовал Клоду самый лучший профильный университет. Вот уж поистине предел мечтаний! Давать брату советы казалось мне идеей нелепой и даже претенциозной. В лучшем случае он меня просто засмеет.
Когда я вернулся в гостиную, Клод сидел развалившись в потертом кожаном кресле перед камином. Даже в теплом розовом свете дровяного огня его лицо казалось необычайно бледным. Помню, я еще подумал, что у него, должно быть, анемия. Он выглядел замерзшим, но холод этот явно проникал глубже всякой плоти, сжимая ледяными пальцами саму душу. Стоило мне усесться в кресло напротив и зажечь трубку, как он уже впился в меня взглядом. Любопытно, что древняя тайная злоба обращенной ко мне улыбки ныне была явственно окрашена страхом. Признаться, я удивился. Пока я раздумывал, как бы вывести разговор на нужную тему, Клод начал сам:
– Я, знаешь ли, уже определился с колледжем…
– О… нет, я не знал.
– Так вот – да.
Его тусклые холодные глаза вдруг сверкнули тихим коварством. Мне еще тогда стоило понять, что его выбор ничего хорошего нам не сулит. Но, честно говоря, я не почувствовал ничего – лишь смутное и слегка тревожное удивление – когда он сказал:
– Я решил поступить в Мискатонский университет.
Название он произнес с необычной гулкой четкостью, и в этот миг я снова уловил невольный проблеск тревоги за его скрытной улыбающейся маской. Можно подумать, Клод боялся, что я узнаю это слово – как будто, с ним было связано что-то порочащее, компрометирующее, и он отчаянно надеялся, что мне ничего не известно. Когда я поинтересовался, где находится Мискатон и какова его репутация, он почти незаметно для постороннего взгляда расслабился. Своим шипящим и странно гипнотическим голосом он принялся рисовать приятнейшую картину: богатый колледж с древними традициями, расположившийся среди живописных холмов Аркхэма, что в северной части Новой Англии. Той ночью он ни словом не обмолвился о том, какие богопротивные ужасы скрываются за увитыми плющом стенами Мискатонской библиотеки. Все свою чарующую ложь он излил на меня с неподражаемой естественностью. И, несмотря на слабое предчувствие опасности, мучившее меня с самого начала разговора, в конце его я одобрил выбор Клода. Главным образом потому, что глядя на его ухмыляющуюся, заледенелую в своем упорстве физиономию, я понимал, что все равно никак не смогу повлиять на его решение.
Первый курс в Мискатоне Клод одолел просто блестяще. Его оценки были настолько выше среднего, что заслужили в итоге восторженное, полное комплиментов письмо от декана. Я помню, как все сомнения смыло с лица читавшего сию эпистолу отца: он передал мне бумагу с выражением поистине детской гордости за свое произведение. Да и сам я был чрезвычайно польщен столь безоговорочной похвалой моему брату. Даже скверные предчувствия, весь год терзавшие меня, начали понемногу таять. А потом я прочел список предметов, в которых Клод так отличился, и теплое сиянье библиотечного камина, перед которым стояло мое кресло, словно задуло порывом холодного ветра. «Медиевистика: древние культы и секты», «История некромансии», «Сохранившаяся до наших дней литература по ведовству».
Жуткие заглавия кружили перед моим внутренним взором, скалились, прятались в темных углах комнаты. Вот тогда-то мне и открылось все чудовищное бесстыдство выбора Клода.
На втором курсе Мискатона брат приехал в Приорат на Рождество. Не успел он и двух дней пробыть дома, как отец внезапно и тяжело занемог. Причиной стал спор.
Я как раз шел мимо приоткрытой двери в библиотеку, когда услыхал отцовский голос. Я был только что из деревни, на моих задубевших от зимнего холода щеках уже готовилась расцвести приличная празднику улыбка, как вдруг… Я встал как вкопанный. Они меня не слышали. Отец сгорбился в кресле за своим письменным столом; рот его в мягком ламповом свете выглядел причудливо искривленным, глаза – испуганными. По пергаментно-сухой коже расползалась нездоровая бледность. Клод, стоя спиной ко мне, молча глядел на оранжевый освежеванный труп полена в камине.
– Клод… – Голос отца звучал глухо, словно на грудь ему давило некое тяжкое бремя. – Ты должен понять…
– Я понимаю…
Он говорил едва слышно, но с какой-то зверской твердостью.
– Нет, ты не… – Отец взмахнул бессильной, оплетенной синими венами рукой. – Пойми, что я делаю это для твоего же собственного блага. Да, мать оставила тебе по завещанию кое-какие деньги – поровну тебе и твоему брату – но они были помещены в траст и находятся на моем попечении до твоего совершеннолетия… или до моей смерти. Клод, ты должен остаться в Мискатоне. Ты…
– Я тебе уже сказа: меня тошнит от колледжа! Я уже узнал там все, что можно. Мне нужны эти деньги! Я хочу путешествовать, хочу увидеть Тибет и Китай. Хочу пожить на юге, в Индии…
Он стремительно повернулся к отцу, и я впервые увидал у него во взгляде кипучую, лихорадочную ненависть пополам с неконтролируемым гневом. Я увидал, как отец слабеет под натиском этого бесчеловечного взора. Голос брата взлетел до безумного, мучительного вопля; он навис над скорчившейся в кресле фигуркой:
– Говорю тебе, мне нужны эти деньги!
– Клод!
Я шагнул в комнату, и свертки из лавки хлынули у меня из рук. Елочные игрушки разлетелись об пол, усеяв его мириадами алых и зеленых осколков. Клод замер в нескольких футах от кресла. Отец обратил на меня широко распахнутые глаза, в которых плескались ужас и облегчение. Он снова поднял безнадежно слабую руку, словно хотел заговорить, но тут же откинулся на подушки, смертельно-бледный и бесчувственный. Задыхаясь от гнева и омерзения, я оттолкнул Клода и упал на колени подле отца. Пульс едва бился в его тонком запястье.
– Почему ты не оставишь его в покое? – прорычал я. – Почему не уберешься отсюда к дьяволу?
– Я все равно получу то, что мне нужно, – спокойно ответил он. – Так или иначе.
Только ужасное состояние отца помогло мне выплыть из холодных, вязких пучин безумия, куда я оказался ввергнут словами брата. Не успела дверь библиотеки закрыться за ним, как я уже звонил доктору Эллерби. Он приехал немедля. Годы сделали его толще и почти лишили волос. Он прописал успокоительное и несколько дней постельного режима… но я увидал на его дородном, цветущем лице то же бессильное изумление, которое помнил по ночи, когда умерла мать. Уверенным профессиональным тоном он заявил, что отцу нужно во что бы то ни стало избегать волнений. Я практически мог читать его мысли: в этом древнем доме, думал он, процветает зараза, исцелить которую не в силах никакая мирская медицина.
Доктор Эллерби навещал нас каждый вечер. Механически и с фальшивой бодростью осмотрев пациента, он спускался в библиотеку, пропустить столь необходимый в подобных обстоятельствах стаканчик. Я смотрел на его удрученно поникшие плечи: он обычно стоял у окна, глядя на лиловую зимнюю тень нашей ясеневой рощицы. Через какое-то время он медленно качал головой и произносил голосом тяжелым и утомленным:
– Все это так странно. Я просто не могу объяснить происходящее. Мы с твоим отцом знакомы с самого дня его приезда в Иннисвич: у него никогда не было проблем с кровью. Их и сейчас нет! А между тем… между тем кровь будто утекает из его организма, капля за каплей.
Слова могли быть разные, но их горький, страшный смысл оставался неизменным. Они отдавались тревожным эхом в каком-то потайном уголке моего разума, вплетаясь в холодные, ядовитые каденции другого голоса. Я снова и снова слышал звонкий хруст битых елочных игрушек под ногой у Клода и жуткое бормотанье этого бледного призрака: «Так или иначе, я все равно получу то, что мне нужно».
А одним февральским утром, когда я неба сеял ледяной дождь, в Иннисвичский Приорат доставили письмо. Оно было адресовано отцу и подписано неким Джонатаном Уайлдером, деканом Мискатонского университета. Дорогая бумага слабо шуршала под моими дрожащими пальцами. Дурное предчувствие поднялось вязкой волной, забивая легкие, лишая сил дышать. Письмо оказалось совсем коротким, а фразировка – темной и странно сконфуженной. Автор не сказал практически ничего внятного, но более чем прозрачно намекал на какой-то непонятный страх, владевший его разумом. Первым делом он заявлял, что не в силах доверить суть дела бумаге, а потому был бы весьма признателен, если бы отец приехал к нему в университет, дабы они могли в частном порядке обсудить некие необычайные обстоятельства, приведшие к чрезвычайно прискорбному повороту в академической карьере его сына, Клода.
Отец так никогда и не увидел письма. В следующую субботу поздно вечером я сел на поезд в Аркхэм. Устало откинувшись на блекло-зеленые подушки спального вагона, я неотрывно глядел в квадрат непроницаемой тьмы, служивший мне окном. Я не видел призрачных пейзажей, через которые тарахтел наш состав, подобно какому-то гигантскому фосфоресцирующему червю, вечно ползущему в могильном мраке. Перед моими горящими от бессонницы глазами, словно в гипнотическом, растленном данс-макабре так и плавало последнее предложение из письма Джонатана Уайлдера:
Поверьте, мне крайне тяжело вам это сообщать, но после долгих раздумий Правление Мискатонского университета сочло положение безвыходным и исключило вашего сына, Клода Эшера, из нашего учебного заведения.
IV
Джонатан Уайлдер оказался высоким бледным человеком, тщательно прятавшим мрачную неприязнь взгляда за поблескивающим забралом пенсне. Он сложил кончики костлявых пальцев и долго безмолвно глядел в окно, на голые просторы университетского кампуса, пристально изучая дальнюю гряду серых холмов, окаймлявшую Аркхэм и щурясь на льдистый отблеск зимнего солнца на лениво извивающейся между ними ленте реки. Внезапно он резко и решительно повернулся ко мне и откашлялся.
– Надеюсь, вы поймете нашу позицию по данному вопросу, мистер Эшер. Правление было более чем готово проявить к вашему брату снисходительность, учитывая, какой блестящий интеллект… Но, увы…
Он неопределенно пожал плечами и вытер пенсне о рукав своего серо-стального костюма.
– Дело в том, что с самого начала Клод выказывал довольно… как бы это сказать… нездоровый? Да, решительно нездоровый интерес к предметам, абсолютно противоположным самим концептуальным основам медицинской науки. Практически все свое время он проводил в университетской библиотеке…
Вы… что-нибудь слышали о библиотеке Мискатонского университета, мистер Эшер? Нет, вижу, что не слышали. Что ж, довольно будет сказать, что на данный момент наша библиотека может похвастаться самым обширным в мире собранием источников запретного и эзотерического характера. В закрытой секции имеются единственные сохранившиеся копии таких изданий, как «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта и «Книга Эйбона»… да, и, представьте себе, даже ужасный «Некрономикон».
Интересно, что даже Джонатан Уайлдер неудержимо содрогнулся и умолк, произнося эти проклятые названия. Когда он снова заговорил, голос его был тише шепота.
– Ваш брат, мистер Эшер, переписывал эти страшные источники целыми страницами. Как-то раз одна из библиотекарей (совершенно здравомыслящая и во всех отношениях надежная молодая особа, уверяю вас) уже много позже закрытия обнаружила Клода Эшера в темном углу между стеллажей: он пытался бормотать какое-то заклинание на непонятном языке. Она клялась, что в лице его… не было ничего человеческого.
Мистер Уайлдер судорожно перевел дух.
– Есть и другие свидетельства. Поговаривали о каких-то странных происшествиях на квартире у вашего брата, на Пикхэм-сквер. Скверные запахи, знаете ли, и страдальческие рыдающие голоса.
– Разумеется, – тут он поднял руку в упреждающем жесте, – по крайней мере, частично все это может оказаться и наветом недоброжелателей. Возможно, кто-то что-то преувеличил, но как бы там ни было, россказни про Клода Эшера наносят Мискатонскому университету заметный моральный ущерб. Численность студентов падает, многие уезжают посреди семестра и безо всякой видимой причины – всего-то навсего пообщавшись недолго с вашим братом. Видите ли, эзотерические традиции, сведениями о которых богата наша библиотека, усваиваются очень хорошо… когда их усваивает нормальный, здоровый разум… Но разум Клода Эшера…
Он смущенно умолк.
– В общем, вы, я уверен, понимаете, в каком положении мы оказались…
– Да, – медленно проговорил я. – Да… я понимаю.
Недружелюбная, изрядно побитая временем физиономия человека, открывшего мне дверь в дом брата, так и застыла от одного только упоминания его имени.
– Мистера Эшера нет, – отрезал он.
– Понятно… Что ж, я подожду у него в комнатах.
Я сделал шаг вперед и едва на получил дверью в лицо. Желтушный свет уличного фонаря недвусмысленно подмигнул у него во взгляде – жестком и настороженном. Я вытащил бумажник.
– Все в порядке, я его брат.
Он взял долларовую банкноту, даже не поблагодарив, буркнул: «Верхний этаж», – и дал мне пройти.
– Спасибо, – я помолчал. – Кстати, мистер Эшер сегодня съезжает… совсем.
С уверенностью сказать трудно, но в тусклом свете грязной лампочки мне показалось, что лицо старика внезапно просветлело от невысказанного облегчения. И уже поднимаясь по лестничному колодцу из киммерийской тьмы первого этажа, я услышал, как он проворчал: «Да, сэр», – с таким жаром, словно это было «Слава богу!».
Как только я вошел в комнату, внимание мое привлек некий неуловимый запах, одновременно тошнотворно сладкий и жгучий, которым в комнате было пропитано буквально все. Почти сразу я понял, что вдыхаю едкие испарения масляного пигмента, смешанного со скипидаром: под световым окном в крыше стоял мольберт, а на нем, скрытый под тонкой тряпкой – холст в процессе работы. Справа от мольберта располагался старинный секретер, заваленный испачканными краской кистями; сверху лежала палитра. Автоматически, словно движимый неким мистическим инстинктом, я подошел к столу. И только оказавшись непосредственно над нею, я разглядел раскрытую книгу, наполовину погребенную под красками и кистями.
На страницы падал бледный свет от настольной лампы. Вонь бесчисленных лет ударила мне в ноздри, когда я наклонился, чтобы разглядеть древние иероглифы, расползавшиеся, будто какая-то насекомая гадость, по бумаге. Лежащий передо мной том оказался одним из ранних изданий Альберта Великого. Внизу правой от меня страницы был отчеркнут один-единственный абзац. Желудок мой скрутило от отвращения, когда я прочитал следующие кощунственные строки:
…три капли крови изыму у тебя: первую из сердца, вторую из печени и третью от корня жизни твоей. Сим изыму я у тебя всю силу и утратишь ты огонь.
Рядом с этим средневековым заклинанием на широких пожелтевших полях красовалась пометка собственным паукообразным почерком Клода:
«Из Приората никаких новостей, но уверен, что заклинание работает. Портрет завершен. Вскоре меня ожидает победа. Я получу то, что хочу».
Сложно сказать, какие дикие предположения пронеслись сквозь мой разум в то мгновенье. Знаю только, что какая-то импульсивная, перепуганная ненависть согнула мои пальцы в когти, которые вцепились в тряпку на мольберте и сорвали ее прочь. Ужасный крик поднялся у меня в горле, я отшатнулся, беспомощно глядя на отвратительную гниющую… вещь, созданную моим братом. И по сей день здесь, в белостенном убежище моей камеры в приюте умалишенных, я лежу иногда на грани сна и бодрствования, не в силах пошевелиться, в параличе засыпающего, а жуткие образы той картины пляшут на фоне темного занавеса моих закрытых век. И я молюсь, чтобы никакое смертное око больше не осквернил ужас подобный тому, что я увидал той ночью на Пикхэм-сквер.
Гнусными цветами какого-то неземного спектра Клод Эшер живописал паноптикум неких канцерозных, слизистых, студенистых тварей, обитающих разве что за порогом тьмы внешней. Дьявольски ухмыляющиеся, амебоподобные, гангренозные сущности клубились в сумраке этого мерзопакостного холста, а из их ползучей массы прямо у меня на глазах проступал портрет… того, что некогда было человеком. Представшее мне лицо было едва прикрыто обесцвеченной, поеденной червем кожей. Синеватые губы корчились в агонии, а глаза в ямах черепа глядели жалко и умоляюще. Ни единой целой черты не осталось в этом руиноподобном лице, но все же в нем присутствовало нечто явно и кошмарно знакомое. Я сделал один неверный шаг к картине и встал, не в силах двинуться дальше. Дикое подозрение вспыхнуло у меня в голове, когда я вдруг обратил внимание на крошечные алые шарики, усеявшие эту распадающуюся плоть. Как будто каждая пора кожи источала кровавую росу!
– Ты всегда любил совать нос не в свои дела, Ричард…
По сумрачным уголкам придавленной низким потолком комнаты рассыпалось ледяное эхо; шипящий, но твердый, как сталь, голос казался ненастоящим. Только повернувшись и узрев угловатую, облаченную в черное фигуру Клода в дверях, я уверился, что смятенное воображение не играет со мной гадкую шутку. Увы, кривящая губы брата полуулыбка была совершенно и ужасно реальной. Утопленные в бледную, неподвижную маску лица черные, будто из оникса вырезанные глаза сверкали едким юмором.
– Боюсь, мое маленькое произведение тебя несколько… обескуражило, – промурлыкал он. – Знаешь, Ричард, чувствительным душам лучше всегда заниматься исключительно своими делами, а в чужие не лезть.
Знакомый бессильный гнев затуманил мне зрение. Ядовитая улыбочка Клода померкла было, но тут же расцвела опять. Когда голос вернулся ко мне, он был глух и едва поддавался контролю.
– Иди, собирай вещи. Я забронировал нам билеты на полуночный поезд до Иннисвича.
До Приората мы добрались к полудню на следующий день. Зимняя буря пронеслась над деревней и укатилась вглубь континента; от серого, игольно-острого ливня затянутые плющом стены дома враждебно блестели. В библиотеке горел камин; перед ним стоял, ожидая нас, доктор Эллерби. Одного взгляда на него хватило, чтобы страшное подозрение, зародившееся вчера ночью в тесной мансарде на Пикхэм-сквер, обратилось в зловонную и отвратительную реальность. В этот миг я понял, кто был изображен на том адском портрете. Мой отец скончался. Клод даже не попытался изобразить сыновнее горе – как и скрыть, насколько ему не терпится прочитать завещание.
Люди в деревне шептались. Простые, суеверные жители Иннисвича толковали о демонах и сожителях дьявола, дерзающих смеяться в лицо смерти. Наглая, бесчеловечная веселость брата уже стала притчей во языцех, которую передавали из уст в уста наши дряхлые охотники за ведьмами. Только горстка смельчаков, ближайших к отцу и к Церкви, пришла сказать ему последнее прости, да и те бежали в спешке, испуганно оглядываясь на черную фигуру Клода Эшера, четко выделявшуюся на фоне угрожающе мрачного неба. Через две недели после похорон и одну – после оглашения завещания Клод обналичил чек на полную сумму всех унаследованных им денег и исчез.
V
Из спасения так легко сделать религию. Можно убежать от воспоминаний об ужасе и спрятаться в добровольном забвении. Можно заполнить жизнь лихорадочной деятельностью, которая вытеснит тени былого зла. Я все это знаю. Я сам так делал целых восемь лет. И до некоторой степени у меня получилось.
Я купил скромный беленый коттедж на окраинах курорта в южном Джерси и делил свое время примерно поровну между ним и Приоратом. У меня завелись новые друзья. Я заставил себя вращаться в обществе обычных, мирских людей с невиданным ранее рвением. Через какое-то время я сумел вновь заняться литературной карьерой, долгое время пребывавшей в небрежении. Сам себе я говорил, что спасся, но все равно не мог пройти мимо той запертой двери в восточном крыле дома без приступа тошнотворного озноба. И да, до сих пор бывали мгновенья, когда в погруженной в сумерки библиотеке меня вдруг прошибал холодный пот, и голос Клода Эшера демоническим эхом катался по темным углам. К счастью, все эти неприятные ощущения были преходящи: от них превосходно лечили смех друзей и напряженная творческая работа. Злой гений моего брата до сих пор обретался где-то в мире, но я надеялся и постепенно укреплялся в вере, что он покинул мою жизнь навсегда. Я больше не произносил его имени. Я ничего о нем не знал и знать не желал. Лишь один-единственный раз за все эти годы я получил о нем весть.
По счастливому стечению обстоятельств моя первая книга вызвала благосклонный интерес в определенных кругах – меня вдруг стали приглашать интеллектуалы. Я посещал бесчисленные коктейли и званые ужины, и на одной из таких вечеринок как раз и повстречал Генри Бонифаса. Это был маленький хрупкий человечек, почти женственный, с длинными волосами, которые он носил узлом на макушке, и буйной бородой им под стать. Он застенчиво пожал мне руку, но потом повторил мое имя, и его бледные глаза внезапно просветлели. Мне захотелось от него поскорее избавиться. Вспоминая, что сказала хозяйка вечера, пока вела меня к нему сквозь толпу, я испытал внезапное и отчетливое дурное предчувствие. Он был художник-сюрреалист, только что из Вест-Индии, а несколько лет назад преподавал в Мискатонском университете.
– Эшер… – промурлыкал он голосом тихим, но каким-то очень настойчивым. – О, конечно! Я же знал, что уже слышал это имя!
Странный интерес снова вспышкой промелькнул за зеркалом глаз.
– Вы же, должно быть, брат Клода Эшера…
Уже долгие годы никто так меня не называл. Гадкие эти слова так и заметались у меня в голове стаей бесплотных шепотов. Брат Клода Эшера! Сам звук этого имени будто отворил у меня внутри какие-то адские врата: весь древний и старательно забытый ужас поднялся в груди неотступной приливной волной.
– Да, – глухо сказал я. – Так и есть…
Глаза Бонифаса сузились, впиваясь мне в лицо. Тон его остался легким, даже робким, но за этой робостью чувствовалась железная безжалостность разведки боем.
– Я так полагаю, вы давненько о нем не слыхали? Нет. Уверен, что нет. Тогда у меня есть для вас новости…
Я хотел сказать, чтобы он замолчал и оставил свои чертовы новости при себе; чтобы прекратил сыпать мне соль в отверстые язвы своей гнусной болтовней – но вместо этого лишь стоял и смотрел.
– О да… На самом деле я слышал недавно о Клоде, когда был в Вест-Индии. Интересный… он всегда был крайне интересный парень. Я достаточно хорошо его знал – давно, в Мискатоне: он посещал мои занятия по изобразительному искусству. Говорил, что хочет научиться писать маслом, чтобы создать некий портрет…
У меня пот выступил на ладонях. Разлагающееся чудовище с Пикхэм-сквер воспряло перед моим мысленным взором. А Генри Бонифас меж тем продолжал жужжать:
– Так о чем это я? Ах да, об Индиях. Черномазые там сказали мне, что какой-то белый человек живет в глубине страны среди знахарей и учится вуду. Видимо, он как-то сумел втереться к ним в доверие. Его приняли в культ и допустили ко всяким отвратительным обрядам… и его имя, как я узнал, было Клод Эшер.
Бонифас неторопливо покачал своей маленькой головкой.
– Просто поразительный парень, о да. Что меня больше всего удивляет, так это как ему удалось там выжить. Он же никогда не был особенным крепышом, правда? А вы бы знали, какие жуткие болезни свирепствуют в глубине страны – и все смертельные. Просто чудо, что его ничего не берет.
Я почувствовал, как против воли злая улыбка прокралась на мои стиснутые губы.
– О, не беспокойтесь о Клоде, – сказал я горько. – У него невероятная воля к жизни. Такого ничто не убьет…
Слова упали промеж нас, холодные и тяжелые. После недолгого молчания я извинился и оставил Генри Бонифаса глядеть мне вслед этими его сверкающими любопытными птичьими глазками. Я никогда его больше не видел, но на протяжении последующих пропитанных кромешным ужасом лет память моя не раз тянулась сквозь бесконечный мрак к тому вечеру, когда я, сам того не желая, изрек проклятое пророчество: «Такого ничто не убьет…» Распознай я тогда извращенную истину этих слов, я мог бы спасти Грацию Тейн – и себя заодно. Я мог бы уничтожить Клода Эшера еще до того, как он стал неуничтожим.
В начале октября 1926 года я снова вернулся в монастырскую тишину Иннисвичского Приората, намереваясь провести там зиму и завершить мою вторую книгу. Столь продолжительный период свободы от тлетворного влияния брата пошел Приорату на пользу: он снова превратился в уединенную тихую гавань, какой я его помнил по раннему детству. Живя удобной, но простой жизнью и отдаваясь всецело работе, я стал почти счастлив…
Мой второй роман так никогда и не был закончен.
Не прошло и месяца с моего возвращения в Приорат, как пришло письмо.
Мой милый Ричард
Догадываюсь, что ты надеялся никогда больше обо мне не слышать. Крайне жаль тебя разочаровывать, однако факт остается фактом: блудный сын устал блуждать и готов возвратиться под отчий кров. Сколь бы ни была тебе противна эта идея, ты же не откажешь обожающему тебя брату в праве жить в доме наших общих предков, правда? Будь хорошим мальчиком и приготовь одну из лучших спален, Ричард. Синяя в западном крыле подойдет лучше всего – ибо, видишь ли, я возвращаюсь не как уехал, не один. Я везу домой невесту.
За следующую неделю новость распространилась с пугающей быстротой. Иннисвич снова затопил ужас – скоропостижный, как какая-нибудь опухоль, чей рост не заметили вовремя. Самые дикие слухи перескакивали с улицы на улицу, из дома в дом. Что это за неведомая тварь, на которой женился Клод Эшер? Кто она, на что похожа? Предсказывали явление женщины невиданной красоты, но странной и злой; намекали на второе пришествие ведьмы, которую Иавис Дризен сжег у себя в камине больше века назад. Еще даже ни разу не видев ее, жители Иннисвича умирали от страха перед женой моего брата. Признаюсь, и я тоже непонятным образом страшился ее – безымянной женщины, связавшей с Клодом свою судьбу.
Я приканчивал уже шестой бренди, когда на подъездную дорожку завернул автомобиль. Заслышав его, я вскочил.
Воспоминания о том вечере до сих пор возвращаются ко мне фрагментами, картинками, достойными кошмара, навязчивыми образами, таящимися до времени в каких-то тайных закоулках мозга и то вспыхивающими, то снова тонущими в желтой мгле пережитого. Я снова слышу металлический зов кованого дверного молотка, разносящийся по темным залам Приората. Я помню шелест платья и почтительное бормотанье экономки:
– Проходите, сударь, мадам. Мастер Ричард сейчас в библиотеке.
Помню, как повернулся к двери. На пороге стоял Клод Эшер. Он сильно изменился – казался выше, чем во время нашего последнего свиданья. Орлиный лик выглядел бледнее и истощеннее, и, однако же, обрел некую правильность черт, делавшую его красивым эффектной, сардонической красотой. Клод, каким я его помнил, всегда относился к своему внешнему виду с намеренным безразличием. Ныне же его дорогой, превосходно скроенный твидовый костюм, рубашка с мягким воротником и вязаный галстук являли образчик наилучшего вкуса. Легким шагом он пересек комнату и приблизился ко мне; его рука в моей оказалась ненормально холодной.
– Ричард, старина! – улыбнулся он. – Сколько лет, сколько зим…
Сказать, что меня поразила непринужденная сердечность его тона – это не сказать ничего. Я решил, что помимо зловещего Вест-Индского захолустья Клод успел благополучно побывать и в Европе – его своеобразный голос успел добавить к силе звучания еще и очень характерные континентальные интонации: он теперь говорил с едва заметным немецким акцентом.
– Прости, что мы так опоздали. Эти поезда… они всегда…
Должно быть, он заметил, что я его не слушаю. Мой взгляд был устремлен ему за спину, к дверям в библиотеку. На лице брата промелькнуло слегка озадаченное выражение, но оно тут же сменилось улыбкой.
– Ах, Грация, душа моя…
Я в жизни не встречал никого похожего на Грацию Тейн. Лицо – мягкий овал, обрамленный взметенными ветром рыжими волосами, оттенявшими нежнейшую белизну кожи; робкая улыбка трогала уголки полных, идеально розовых губ… Когда она подошла поближе, я обратил внимание на довольно широко расставленные глаза, черные, как ягоды терна и необычайно кроткие. Дорожный костюм из плотного твида был не в состоянии скрыть изящества фигуры.
Нас разделяло всего несколько футов. Взгляд ее на мгновение задержался на мне. Будто издалека донесся тихий смешок Клода.
– Ну, что же, моя дорогая? Ты разве не хочешь поздороваться с Ричардом?
И когда ее черные глаза скользнули в сторону, чтобы встретить взгляд Клода, в них случилась тонкая, но явственная перемена. В мерцающем янтарном отсвете камина они мгновенно потеплели – и принялись ласкать лицо моего брата с каким-то гипнотическим безмолвным обожанием. Только когда он наградил ее едва заметным кивком, Грация снова заметила мое присутствие. Я взял ее протянутую руку. Когда она заговорила, голос оказался грудной и с изумительными модуляциями, однако слова прозвучали неуверенно, словно у маленькой девочки, хорошо затвердившей урок.
– Я так давно ждала нашей встречи, Ричард…
Даже вспомнить не могу, что я пробормотал в ответ. В тот миг, когда эти теплые нежные пальчики коснулись моих, непривычное мальчишеское смущение комом встало у меня в горле. Некоторое время я не мог оторвать взгляда от красоты Грации Тейн, потом понял, что, кажется, уже неприлично долго держу ее за руку – и поспешно отпустил. Видимо, я покраснел. Осознав, что Клод пристально меня изучает, я посмотрел на него и успел заметить знакомый зловредный изгиб плотно сжатых губ. Вся прежняя извращенность была на месте; несмотря на новообретенные континентальные манеры, Клод Эшер не изменился ни на йоту.
Ужин, конечно, не задался. Я был слишком напуган. Это был необычный, неэгоистичный страх – страх не за себя; он свернулся у меня внутри холодными кольцами, пока я пытался сидеть, есть, разглядывать Грацию Тейн. Я видел, как снова и снова детское обожание смягчало и ее без того прелестные черты; стоило Клоду посмотреть в ее сторону, как они озарялись улыбкой. Это была нежная, благоговейная улыбка – и все же чем дольше я ее наблюдал, тем крепче убеждался, что передо мною маска, не вполне способная скрыть безмолвную невыразимую усталость, украдкой мелькавшую во взгляде в мгновенья душевной открытости. Я больше не боялся жены моего брата – теперь я боялся за нее. Меня преследовало чувство, что вкрадчивое зло, сопутствовавшее Клоду с самого рождения, уже тянет свои настойчивые, скользкие щупальца к этой девушке, намереваясь ее уничтожить, как всегда уничтожало все, чего только касалось. И внезапно я понял, что не дам этому случиться. Я не хочу, чтобы с Грацией произошло что-то плохое. Это была самая чудесная женщина на свете – такого просто нельзя допустить.
Когда Клод и Грация поднялись по широкой лестнице наверх и растворились во тьме коридора, я не сразу пошел спать. Вернувшись к остывшему камину, я налил себе виски из стоявшего на столике графина. Увы, он меня не согрел. Я был утомлен и растерян, но знал, что даже если лягу, уснуть все равно не смогу. Понятия не имею, сколько я просидел в кресле у пустого камина… счет стаканам я давно уже потерял. Ничто на свете больше не интересовало меня, кроме бледного, испуганного призрака, плававшего во тьме под закрытыми веками – хрупкой фигурки Грации Тейн. Тени выползли из углов и сомкнулись надо мной, а сквозь французские окна в комнату заструился влажный, холодный туман, будто ничто материальное уже не могло его остановить. Ужас взял меня за грудь, когда из глухой, желтоватой его пелены возникли две зыбкие фигуры. Лицо Грации было искажено ужасом, изгнавшим с него всю красоту. Губы ее шевельнулись, будто бы в крике, но ни звука с них не слетело. Медленно брела она сквозь лабиринты внешней тьмы, а за ней по пятам, хохоча угрюмым смехом, терзавшим ей слух, гналась распухшая, истекающая слизью тварь, которая была Клодом Эшером. Топот ног ритмично бил в уши, словно ритуальные барабаны какого-то племени демоноплокнников. Все ближе… все ближе…
Я, наверное, все еще спал. Холодный пот струился из подмышек по бокам; руки дрожали – глаза были открыты. Постепенно знакомая обстановка библиотеки проступила из мрака. Но адский пульс шаманских барабанов не прекратился! На одно кошмарное мгновение я усомнился в здравости своего рассудка. Онемевшие члены болезненно распрямлялись, нехотя возвращаясь под знамена разума. На нетвердых ногах я проковылял к порогу комнаты и, опершись для верности на дверной косяк, понял, что звуки эти не были плодом моего больного воображения. Увы, ритмичный бой, отдававшийся во тьме лестничного колодца, как какое-то чудовищное сердце, был самый что ни на есть настоящий.
Он шел из комнаты в восточном крыле. Пока непослушные ноги волокли меня вверх по нескончаемому склону лестницы, я уже безошибочно знал, куда направляюсь. С каждым шагом демонический барабан становился все громче, грохоча между каменных стен высокого, узкого коридора, что вел в восточное крыло. Губы мои пересохли; воздух хрипел в горле. Мгновение, показавшееся мне целой вечностью, я стоял, тупо уставясь на открытый замок, висевший в засовной петле на той проклятой резной двери. Ручка показалась адски-холодной моей неуклюжей ладони. Створка бесшумно распахнулась внутрь.
Языческая вакханалия барабана громом ударила мне в уши. Мой брат сидел, скрестив ноги, на полу, спиной к двери, утонув в складках багрового плаща. Это его бескровные руки отбивали гипнотическую пляску проклятых по лоснящейся коже причудливо разукрашенного дикарского тамтама. В древней ритуальной жаровне, стоявшей между ним и Грацией, тлело бело-синее пламя – единственный источник света в комнате. С каждым набухшим, тяжелым ударом барабана язык огня, шипя, вспыхивал нечестивым сияньем. И в этом зловещем пульсирующем свете я не мог оторвать глаз от случившейся с Клодовой невестой перемены.
Бледная маска, плавающая в каком-то фосфоресцирующем нимбе, больше не принадлежала Грации Тейн. Нежный овал стал угловатым; сухая серая кожа натянулась на выступивших скулах. Глаза, такие большие и невинные, провалились в затененные впадины черепа и сверкали до неприятного ярко и лукаво. Рот превратился в узкую, бескровную щель, горько изогнутую по углам. Это лицо оскверняло девичью прелесть ее облаченного в ночную сорочку тела. И прямо у меня на глазах эта жуткая перемена усугублялась: с каждым ударом тамтама тонкое, мудрое зло проступало в этих изможденных глазах.
Постепенно, почти недоступно для восприятия, порочное, чувственное биенье сделалось тише. Я все так же стоял, остолбенев от ужаса, в проеме двери. Над негромким рокотом тамтама поднялся тонкий безбожный вой, более животный, чем человеческий. Чуждые гласные рвались с уст Клода Эшера, распускаясь, подобно ядовитым тропическим цветам. Нечестивые звуки заклинания плыли, извиваясь, сквозь застоявшийся воздух, как струи гноя, выпущенного из вскрытого абсцесса.
Лицо, еще недавно принадлежавшее Грации, напряглось. Едкая, до ужаса знакомая улыбка исказила губы, а юное, гибкое тело медленно, будто змея, повинующаяся месмерическому пенью дудки факира, закачалось в такт богохульной мелодии заклинания. Затем неистовый визгливый голос вдруг вознесся до крика, и странно акцентированные, но все-таки узнаваемые слова затрепетали в зловонном сумраке комнаты:
– Изыди, воля, что слабее моей! Изыди и дай место мне! Грация Тейн извергнута прочь, и плоть сия принадлежит мне! Этими глазами да узрю; этими пальцами да коснусь! Этими устами скажу! Скажу! Скажу!
Гневный приказ холодным стоном отозвался в барабане. Пламя в жаровне вскинулось высоко, и, глядя, в его бело-синие пучины, Грация Тейн вдруг затихла. Одни только белые губы двигались на лишенной всякого выражения маске лица. И изошел из них голос, спокойный и шипящий, мужской, с тенью немецкого акцента…
– Это тело – мое. Ибо плоть сия есть дом для духа моего. Клод Эшер. Я – Клод Эшер. Я…
– Грация! – Ее имя вырвалось мучительным воплем из моего пересохшего горла.
– Клод… – удивленно прошептали ее уста.
Неприятная костлявость, нездоровые тени пропали, краска вернулась на щеки, а с нею и нежность черт. Взгляд медленно скользил с Клода на меня, в нем плескалось испуганное удивление ребенка, вдруг проснувшегося в незнакомом и странном месте.
– Ричард… где мы? Что случилось? Я чувствую такую слабость…
Голос ее иссяк, всякая сила покинула мышцы, белая ткань прошелестела, и девушка распростерлась на полу и осталась недвижима. Я первым подскочил к ней. Руки ее были холодны, как лед, и мокры. Кажется, я звал ее по имени и баюкал в своих объятиях… а потом внезапно осознал присутствие рядом какой-то тени – над нами нависал Клод Эшер.
– Я позабочусь о своей жене, Ричард.
Знакомое каменное спокойствие вернулось в его голос. Я непонимающе воззрился на бесцветное пятно лица. В неверном свете жаровни мне показалось, что его кожа испещрена какими-то коричневатыми пятнами.
– Нам лучше позвать доктора… – с трудом проговорил я.
– Не стоит, она в полном порядке.
– Но…
– Это просто обморок, – веско промолвил Клод. – Ей нужно отдохнуть. Я отнесу ее в нашу комнату.
Он поднял ее на руки и вышел; сорочка шелковисто задела меня по руке. Я слышал погребальный стук его шагов, удалявшихся по коридору. Страх и смятение вливались в меня с каждым вздохом. Мне хотелось выпить, но я стоял там, в фосфорическом свете жаровни, и не двигался с места. Мысль скорее бежать к телефону, звонить доктору Эллерби пронеслась через голову, но умерла по дороге. Где-то в кипящей тьме этой чертовой комнаты вдруг возникло звонкое эхо и отчетливо заметалось меж стен. Я вновь услыхал шипящий, странно выговаривающий слова голос, слетавший с губ Грации Тейн:
– Ибо плоть сия есть дом духа моего. Клод Эшер! Я – Клод Эшер!
Его смех вывел меня из оцепенения. Клод стоял на пороге дьявольской комнаты. Замеченные мной коричневые пятна теперь проступили сильнее; его лицо действительно походило на череп, обтянутый сухой, лишенной красок кожей. Он, казалось, даже дышал с трудом. Впрочем, гнев успел уступить место обычной любезной непроницаемости; кошачья улыбка вернулась. Сверкающие глаза смеялись – но без тени радости.
– Бедняга Ричард. Как бы тебе уже научиться не лезть не в свое дело, а? Если ты, конечно, намерен и дальше оставаться такой брезгливой овцой.
За мнимо добродушной шуткой чувствовалась угроза – и она размешала угли моей ярости, уже было подернувшиеся холодной золой страха. Изможденное детское личико Грации на миг встало у меня перед глазами.
– Что ты с ней делаешь, Клод? – Голос мой звучал хрипло.
Он ответил не сразу. Опустившись в кресло, которое только что занимала она, он на несколько долгих мгновений устремил свой взор в раскаленное добела сердце пляшущего огня. Улыбка снова исказила его черты; непристойное веселье заплясало в темноте запавших глазниц.
– Она и вправду очень хороша, да? – мягко спросил он.
– Она достойная женщина, – возразил я. – Она хороший человек, а ты творишь с ней что-то гадкое. Я желаю знать, что стоит за всем этим мерзостным спектаклем.
– Ах, вот как? – Его кинжальный взгляд скрестился с моим. – Неужели правда хочешь, а, Ричард? Ты в этом уверен? А вдруг это снова оскорбит твою нежную душу? Милая леди вдохновила тебя, дорогой братец. Она превратила тебя в рыцаря в сверкающих доспехах.
– На твоем месте, – рот его сжался в тугую линию, – я бы оставил всякие помышления о том, чтобы «спасти» леди Грацию. Видишь ли, то, что ты так вульгарно обозвал мерзостным спектаклем, на деле представляет собой научный эксперимент. Грация – моя ассистентка, и я не намерен отказываться от ее помощи. Она идеальный объект… возможно, потому что так безумно в меня влюблена.
Клод, видимо, отметил гадливость, охватившую меня от грязной многозначительности его слов. С издевательской улыбкой он кивнул.
– Да, милый Ричард, жена мне исключительно предана. Именно поэтому мои эксперименты оказались столь успешны. Понимаешь ли, я уверен, что при определенных условиях достаточно могущественная воля может захватить тело другого человека, пересадив, так сказать, доминирующую личность на свежую почву и заставив второго участника эксперимента обменяться с нею телами. По сути дела, для этого нужны только достаточная концентрация и подходящий объект, в высшей степени восприимчивый к воле экспериментатора.
Пока он говорил, в глазах Клода разгорелся поистине маниакальный огонь. Он упивался каждым словом, будто это было языческое заклинание.
– И вот я нашел этот объект…
– Ты не можешь, – тупо проговорил я. – Не можешь поступать так с Грацией. Она такая красивая. Она…
– Так в этом-то все и дело! – лихорадочно прошептал Клод. – Красивая, говоришь? Да она самое прекрасное создание, которое я в жизни видал! Ты только подумай, Ричард! Представь себе, чего я смогу достичь с такой красотой! Вообрази себе женщину, обладающую ее красотой и моей личностью – моим разумом, направляющим эту самую красоту! Да такая женщина сможет властвовать над любым мужчиной… над миллионом мужчин… над империей… над целым миром!
Мне стоило огромного труда не перейти на крик.
– Говорю тебе, этого делать нельзя! Я тебе не позволю. Знаю я эти твои «эксперименты»! Я знаю, что ты сделал с папой и Тэмом! Ты и пальцем не тронешь Грацию. Либо ты оставляешь ее в покое, либо я иду в полицию!
– Нет, Ричард, – тихо сказал мне брат. – В полицию ты не пойдешь. Еще немного, и ты успокоишься… ты сможешь подумать головой. И тогда ты поймешь истинность того, что я сказал тебе относительно Грации. Она полностью, всецело моя. Она никогда не засвидетельствует ничего из диких историй, которые ты способен рассказать властям. Напротив, раскрой ты только рот, и она с готовностью присоединится к моим показаниям, что ты сошел с ума.
И он вышел, беззвучно прикрыв за собою дверь.
VI
Я ничего не мог поделать. Мне оставалось только смотреть, как злокозненный гений Клода Эшера медленно, но неотвратимо подчиняет себе Иннисвичский Приорат. К концу первой недели я уже чувствовал себя в собственном доме беспомощным чужаком, столкнувшимся с чем-то невыразимо ужасным и не смеющим сделать ничего, кроме как повернуться к кошмару спиной. Мои нервы были натянуты, будто струны чувствительного инструмента – еще один поворот колка, и я просто рассыплюсь в руках жестокого настройщика. День за днем я наблюдал, как Грация бродит по сумрачным коридорам Приората… как все бледнее становятся ее нежные щеки… как за прозрачным зеркалом глаз извивается тошнотворный ужас. Снова и снова я отправлялся на прогулку, твердо намереваясь на сей раз закончить ее в полицейском участке – но так и не решался, памятуя о жутком в своей рациональности предупреждении брата.
Я пробуждался по ночам, дрожа от неистовой ярости, а под сводами дома отголосками грома гулял пульс адских барабанов. После таких ночей брату становилось явно и откровенно лучше, а Грация раз от раза делалась все бледнее, все молчаливее. Я понимал, что девушка, скользившая, как бесплотный дух, из комнаты в комнату нашего мрачного дома и улыбавшаяся со смирением и обожанием Клоду, уже не была настоящей Грацией. Я знал, что он ее контролирует, что ее безмолвная преданность ему служит проявлением какой-то чудовищной разновидности месмеризма – но доказать свою теорию не мог никак. Возможно, я бы никогда не узнал настоящую Грацию Тейн, если бы не простуда.
Она свалила Клода внезапно, в середине третьей недели. День выдался облачный и на редкость зябкий. Сырость с моря проникала в просторные комнаты Приората, несмотря на закрытые окна, и никакой огонь был не в силах пронать этот холод. Клод просидел весь день, запершись в восточном крыле. Когда он вышел к ужину, его изможденные щеки покрывал непривычный румянец. Обведенные красным глаза глядели до странности смущенно, стоило его взгляду встретиться с моим. За едой царило тягостное молчание. Грация обеспокоенно посматривала на мужа, но он на нее не глядел и ушел спать сразу же после трапезы.
Мне удалось задремать лишь сильно после полуночи. Странная молчаливость брата пугала меня. Со времени приезда зло в нем успело разрастись в наглую, насмешливую тварь, то отпускавшую колкие двусмысленности, то хохотавшую ядовитым смехом – нынешний Клод был сам на себя не похож. Мне оставалось только гадать, что привело к подобной перемене. Ответ пришел в виде белой фигуры, возникшей у моего одра среди ночи, словно какой-то неупокоенный дух. Должно быть, я вскрикнул, когда меня коснулась холодная рука, потому что легкие пальцы тут же надавили мне на губы, призывая к молчанию. Тяжело дыша, я воззрился на омытую лунным сиянием прелесть милого личика Грации Тейн.
– Ричард! – в шепоте ее звучала кроткая настоятельность. – Ричард, идем скорее… Я боюсь… боюсь, что…
Она попыталась изгнать из голоса дрожь.
– Это Клод… он стонет, я слышала. Это так ужасно. Он у себя в спальне… не пускает меня. Ричард, я боюсь, что он болен. Я это чувствую. Мы должны что-то для него сделать, помочь…
Глядя в широко распахнутую тьму ее глаз, слушая звенящую в словах тревогу и ужас, я испытал внезапный укол надежды. Стоявшая у моей постели девушка больше не была безвольным автоматом, который я привык встречать в коридорах Приората. Впервые с самой первой нашей встречи в Грации Тейн билась неподдельная, трепещущая жизнь. Ее рука в моей была влажной; вместе мы двинулись сквозь киммерийскую тьму верхнего холла. Не помню, сколько мы простояли у Клодовой спальни, прислушиваясь и едва дыша; зато помню, как судорожно вцепилась она в меня, когда из-за тяжелой дубовой створки донесся приглушенный, мучительный стон. Я схватился за ледяной металл и резко дернул, распахнув упрямую дверь настежь.
Дикий вой, разорвавший ночь в следующее мгновенье, был уже не от боли – это был злобный вопль разгневанного зверя. На одно ужасное мгновенье я узрел на кровати брата белое чудовище с лихорадочно сверкающими глазами, покрытой пятнами кожей, свежим шрамом рта, изрыгавшим тот самый раздираемый яростью крик. Грация подле меня ахнула. Тотчас же Клод Эшер отвернулся от нас и скрылся из виду под грудой одеял.
– Вон отсюда! Вон из моей комнаты и не смейте больше сюда входить!
– Клод… ты болен… дай нам тебе помочь. – Грация неуверенно шагнула к нему.
– Не подходи! – приказал хриплый шепот. – Я тебе говорил никогда сюда не входить! Оставьте меня в покое!
– Разреши, я позову Эллерби, Клод, – сказал я как можно более ровным голосом.
– Нет! Мне не нужен врач! Мне никто не нужен. Нет причин поднимать шум. Это просто рецидив лихорадки, которую я подхватил в тропиках. Все пройдет. Оставьте меня в покое, все!
К утру ничего не изменилось. Несмотря на просьбы жены, Клод решительно отказывался пускать кого-либо к себе в комнату. Я молча стоял и слушал, как Грация через дверь умоляет его быть благоразумным и позвать доктора. Он ответил ей только раз, спокойным и безнадежным голосом: велел оставлять ему еду на подносе в коридоре и обещал, что всего через несколько дней он уже будет в порядке. Все дальнейшие увещевания Грации оставались без ответа. Лишь иногда какой-то шорох проникал сквозь запертую на все засовы дверь… а вместе с ним и тошнотворный запах гниения, который с каждой минутой становился, казалось, все сильней и сильнее.
Как всегда, Клод Эшер победил. Мы оставили его в покое. Святилище скверны оставалось запертым больше недели. Время шло, и во мне поселилась странная надежда, которая одновременно пугала меня и приводила в тайный восторг. А что если эта проклятая дверь не откроется больше никогда?
Эта неделя распустилась тропическим цветком посреди задушенного грибами болота ненависти и порока, в которое превратилась моя жизнь – увы, ее великолепие оказалось столь же мимолетно. Единственное, что породили красивого эти последние страшные дни в Инниссвиче… нежное дуновение простой, нормальной жизни в выгребной яме безумия и злобы… О да, ибо в те недолгие часы мне открылась истинная Грация Тейн. Освободившись внезапно от зла, погребенного в комнате на верхнем этаже, она стала той, кем должна была стать – милым созданием, исполненным смешливого веселья и тихой нежности; беззаботным ребенком, обожавшим носиться по белым приморским пескам наперегонки с соленым ветром, овевающим щеки и играющим бронзовым шелком кудрей. Несмотря на тень Клода у нее за спиной, эта новая Грация вскоре расположила к себе деревенских, которых мы встречали на ставших любимой привычкой вечерних прогулках. Словно бы темная вуаль, отделявшая ее от реальности и дозволявшая видеть только Клода и никого кроме него, вдруг исчезла – и созерцая ее прелестное, полное жизни лицо, слушая ее теплый голос, чувствуя трепет ладони в моей руке, я знал, что люблю… люблю жену моего брата.
Но занавес снова упал. Неожиданно для себя обретя Грацию, милость мою божью, я так же внезапно ее потерял. Вечером девятого дня Клод восстал из мертвых и потребовал свою собственность назад.
Мы с Грацией играли в триктрак у окна в библиотеке. Помню, как последние янтарные лучи солнца пылали у нее в глазах, когда она почти с нежностью потешалась над чередой моих проигрышей. И помню, как смех оборвался – так резко, так окончательно… будто умер. Я поднял взгляд и увидал, как краска сбегает с ее щек; темные колодцы глаз вдруг утратили глубину, обмелели, стали безмолвны и тайны; побелевшие губы шевельнулись, но ни звука не слетело с них. Шорох раздался позади, и я повернул голову, уже зная, что увижу. В полумраке, окутывавшем порог, стоял, улыбаясь, живой скелет – и это был Клод Эшер.
Посреди пустыни лица одна только трещина рта, да еще утонувшие в ямах карбункулы глаз еще свидетельствовали о том, что какая-то беззаконная жизнь еще теплится в этом лишенном плоти теле. Обтянутый сухой, бесцветной кожей лоб будто распух; линия волос отодвинулась заметно назад. Нездоровые коричневые пятна исчезли, но лучше от этого не стало: лицо обрело землисто-желтый цвет и избороздилось морщинами. Толстый темный шарф обвивал горло, а руки скрывали светлые лайковые перчатки (признаться, это показалось мне страннее всего). С того памятного дня Клода без них я больше не видел.
– Ну-ну… – Его искривленные губы едва шевелились, но тихий голос сохранил все былое насмешливое коварство. – Какая трогательная домашняя сцена!
Пронзительные угольки глаз повернулись в черных провалах глазниц и впились в тусклую бледность жениного лица.
– Уверен, Ричард был очаровательным заместителем, моя дорогая, но… Неужели выздоровление любимого мужа не вызовет у тебя чуточку больше восторга?
С гипнотической грацией виртуозно управляемой марионетки Грация поднялась с приоконной скамьи. Бледная ручка задела доску, и несколько алых шашек просыпалось на ковер – она не заметила. Медленно, очень медленно она пересекла библиотеку, в которой будто вдруг сгустились сумерки, и подошла к Клоду. Ее обнаженные руки взлетели, сильным жестом обвились вокруг его шеи, и она со страстью приникла поцелуем к отвратительной ране его рта. Долго они стояли там, не размыкая объятий, во мраке, и все это время брат над плечом затихшей Грации улыбался мне, будто дьявол. Той ночью в Приорате снова забили барабаны.
Я было подумал, что у меня кошмар. Всего мгновенье назад демонический ритм колотился в мои барабанные перепонки, рождаясь где-то в глубинах ночного Приората. Но стояло мне поднять голову с промокшей от пота подушки, уставясь в готовую задушить темноту, звук резко прекратился. Я сел, напряженно ожидая. Тишина казалась безграничной и вечной, как в могиле – будто остановилось какое-то титаническое сердце. Я попробовал расслабиться, провел неуклюжей рукою по лбу и даже издал смешок, превратившийся на выходе из горла в глухой хрип. Сердито улегшись обратно в постель, я сказал себе, что это все расшалившиеся нервы – не помогло. Чем дольше я лежал, не давая дрожать заледеневшим рукам и прислушиваясь к каждому неверному ночному шороху, тем сильнее ощущал надвигающуюся опасность, липким саваном обнимающую мой отчий дом. Тишина была неестественной – так молчит безумный убийца, прежде чем нанести удар. Проклиная распоясавшиеся нервы, я отбросил одеяло и влез в халат и тапочки. Влажный холодный сквозняк закрутился вокруг голых лодыжек, когда я отворил дверь спальни и ступил в непроглядную тьму коридора. Инстинктивно я повернул в сторону восточного крыла. Лунный свет тек сквозь единственное большое окно в верхнем холле, расчерчивая пол причудливой решеткой из черных теней. Переходя вброд этот мертвенный водоем, я увидел ее.
– Грация!
Она, казалось, не услышала, скользя ко мне из теней в шелесте белого шелка. Звук был похож на предостерегающее шипение ядовитой змеи. Лицо ее было изможденным и угловатым; глубоко посаженные глаза так и вонзились в меня, а узкая щель рта зазмеилась сардонической усмешкой. Язык, розовый и странно заостренный, выстрелил меж пересохших губ.
– Убить! – прошептали они; истекающий ядом голос не принадлежал Грации Тейн. – Я должна убить… Другого выхода нет… От него могут быть проблемы… Так будет лучше… Да… уничтожить… убить. Убить! Убить!
Сверху вниз в мою грудь устремился нож; я успел схватить ее за талию. Бритвенно-острое лезвие оцарапало мне левую щеку. По челюсти побежала струйка крови.
Держать ее было нелегко; Грация отчаянно дралась, и сила ее никак не вязалась с очевидной хрупкостью тела… она сражалась с энергией отчаявшегося безумца. Зубы скалились из-под закатанных, как у зверя, бескровных губ.
– Ты! – шипела она. – Я тебя убью! Уничтожу! Вечная тишина!
– Грация! – я решительно встряхнул ее. – Прекрати! Ты меня слышишь? Немедленно перестань!
Я сильно ударил ее ладонью по искаженному истерией лицу, и внезапно все стихло. Безумный гнев уступил место растерянности; глаза расширились, разом вернув себе глубину и тепло; тени исчезли. Ее влажные розовые губы задрожали; перепуганный взгляд заметался между свежим порезом у меня на лице и поблескивающим лезвием ножа, который она все еще сжимала в руке. Она ахнула, пальцы ее непроизвольно разжались; нож со стуком упал на пол. Наши глаза встретились, и через секунду она очутилась у меня в объятиях.
– Ах, Ричард… Рик, я не хотела… я не понимала, что творю… Он заставил меня… Это все барабан… и его голос… Он был тут, у меня в голове…
Запах ее волос… и нежность щеки, касающейся моей… Она легонько стерла кровь рукавом своей ночной рубашки.
– Все хорошо, – пробормотал я. – Все уже хорошо…
Я крепко прижал ее к себе, она вся дрожала, а потом заплакала – тихонько и растерянно, как маленькая девочка.
– Мне страшно, Рик… мне так страшно! Он что-то со мной делает, он…
Она вцепилась в меня и отчаянно затрясла головой.
– Не позволяй ему больше… пожалуйста, не позволяй! Обещай, что ты меня ему не отдашь!
– Нет. – Голос мой прозвучал твердо. – Он больше ничего тебе не сделает. Он больше никогда ничего тебе не сделает.
– Вот он, триумф истинной любви!
Эти саркастичные, обремененные горечью слова словно вырвали ее из моих рук. Стоя на пороге тени, сверкая глубоко запавшими глазами с иссеченного складками лица, совершенно мертвого в этом лунном свете, Клод Эшер смеялся.
– Ты ее не получишь. Ты же и сам это знаешь, не правда ли, Ричард? Я старался быть с тобой терпеливым, но, боюсь, твоя назойливость уже ни в какие ворота не лезет. Видишь ли, Грация для меня больше чем женщина, больше, чем жена. Она – самая моя жизнь, моя единственная надежда. И я никогда не дам тебе отнять эту надежду!
Он поплыл ко мне через озеро лунного света; в каждом шаге сквозило злое, текучее изящество, почти кошачье. Слепящий взор перескакивал с Грации на меня и обратно. Ненавистная улыбка снова заиграла в уголках рта.
– Ты же все равно не понимаешь, правда, милый братец? Как, думаешь ты, Грация может быть моей единственной надеждой на жизнь? Неважно. Лучше тебе такого не знать. Мы же не хотим лишний раз тревожить твою чувствительную душу – в последнюю-то ночь? Конечно, нет. Мы хотим, чтобы бы пребывал в покое и мире, чтобы как следует подготовился – к смерти.
Дальнейшее я помню не очень отчетливо. Эти убийственные минуты возвращаются лишь в кратких разрозненных вспышках. Вот Клод с маниакальной силой кидается на меня, вот его ледяные костлявые пальцы смыкаются у меня на горле. Кажется, кричит Грация. Бледное, ненавистное лицо так близко к моему… гнилостное дыхание шипит, я чувствую кожей его тепло. Вот я падаю назад под ударом тела. Тьма и лунный свет ходят хороводом у меня в голове. Легкие сейчас разорвутся… потом, как-то инстинктивно извернувшись, я освобождаюсь. Воздух с хрипом рвется в грудь. Я буквально раздавливаю Клода об сырую каменную стену. Мои пальцы в его волосах, сильный рывок вперед, а потом назад… Когда его череп в третий раз встречается со стеной, остервенелая хватка слабеет. Он оседает на пол у моих ног, дергается и затихает.
Нет, Клод не умер. Пурпурные веки опустились, скрыв безумный блеск глаз, белая пустыня лица обрела покой, но его злое сердце у меня под рукой продолжало биться, хотя и совсем слабо. Автоматически, охваченный каким-то отрешенным, но целеустремленным спокойствием, я связал его по рукам и ногам тяжелыми шнурами от штор, отнес к нему в комнату и уложил на кровать под балдахином. А потом запер комнату. Грация уже перестала плакать, но рука ее была холодна и мелко дрожала в моей. Мы быстро сошли по темной лестнице в библиотеку. Там я заговорил – я сказал ей, что бояться больше нечего, что все уже кончено. Я разжег камин и налил нам обоим виски. Все это время одна-единственная мысль упорно кружила за панцирем внешнего спокойствия. Я знал, что нашей безопасности ради для Клода Эшера в мире было только одно место – Государственный Приют для Невменяемых Преступников. Допив стакан, я сделал два телефонных звонка.
Я попросил доктора Эллерби и полицию прибыть в Иннисвичский Приорат как можно скорее.
VII
Все прошло очень тихо. Никаких лишних фактов не просочилось в газеты. Нескольких репортеров, которых редакции выслали освещать процесс, просто не пустили в зал суда. Разочарованные, они разбежались по телефонным будкам и продиктовали пустые официальные сводки, способные лишь намекнуть на мерзостную истину. Если кто-то и опубликовал эти статейки, место им нашлось разве что в уголке одной из внутренних страниц, куда мало кто заглядывает. Потом газетчики попробовали другой подход: они засели в иннисвичском трактире и принялись задавать вопросы. Но и там их ждала неудача. Возможно, из уважения к памяти моего отца, возможно, еще по какой-то причине, но деревенские встречали настырных журналистов холодным взглядом, а рот держали на замке. Так отвратительная тайна Иннисвичского Приората и запятнавший наше доброе имя стыд оказались сокрыты под покровом милосердного молчания.
Единственным формальным обвинением, предъявленным Клоду Эшеру, было нападение с целью убийства. Я вышел свидетелем и рассказал, как он покушался на мою жизнь. Ничего другого не понадобилось – дело довершили психиатры. Это оказалось нетрудно: достаточно просто было подвергнуть Клода перекрестному допросу; запротоколировать боязливые, неохотные показания соседей, знакомых со странностями моего брата; побеседовать с тревожным, скрытным джентльменом исполнявшим обязанности декана Мискатонского университета и прочесть письмо от некоего Генри Бонифаса, во время оно преподававшего Клоду живопись.
Вспомнили странную радость, с которой Клод воспринял известие об отцовской смерти, а заодно и жуткий портрет с Пикхэм-сквер и убийственные инкантации из Альберта Великого. В итоге моего брата объявили неизлечимо помешанным.
В последний день освидетельствования я один приехал в больницу. Я один выстоял последний неистовый натиск его немигающего, полного ненависти взгляда и угадал за изнуренной маской лица ледяной гнев могучего, расчетливого ума. Ни жестокости, ни истерии не было на ней. Меж двух облаченных в белое санитаров Клод спокойно пошел к дверям смотрового кабинета. Там он, однако, остановился и обернулся ко мне. Раннее дождливое утро бросало на него серый отсвет, черты словно бы разгладились и размылись – он снова был прежний, цинично ухмыляющийся, несокрушимый Клод.
– Только не думай, что ты победил, Ричард, – спокойно бросил он мне. – Не стоит обманываться. Они могут меня запереть, поставить засовы на дверь и решетки на окна – но им никогда не взять под стражу истинного Клода Эшера. Я снова буду свободен. Рано или поздно, так или иначе, а я до тебя доберусь. До тебя и моей милой жены. И я отомщу.
Приглушенный смех едва пробился сквозь плотно сомкнутые губы.
– Тебе сейчас трудно в это поверить… Ты только подожди, Ричард. Подожди, и тогда мы посмотрим…
Я слушал успокоительное бормотание докторов, смотрел, как мой брат исчезает за поворотом коридора… Где-то вдалеке открылась и закрылась дверь. Сквозь туман донеслось металлическое лязганье засова. Я сказал себе, что Клод навсегда ушел из моей жизни. Но я сам себе не верил. Это последнее предупреждение неустанно кружилось эхом у меня в голове – что-то во мне совершенно отчетливо знало, что с Клодом Эшером еще не покончено.
Мнимый мир и довольство воцарились в Иннисвиче… О, как же отчаянно мы с Грацией нуждались в душевное покое! Это счастье было ненастоящим; просто решимость скорее откреститься от страшного прошлого словно бы раздернула тяжелые пыльные шторы, державшие дом в вечном мраке, и впустила слабенький, робкий лучик нормальности. Следующие несколько месяцев я с наслаждением наблюдал, как Грация медленно возвращает себе юную, свежую жизненность, бывшую на самом деле неотъемлемой частью ее натуры и, увы, так ненадолго распустившуюся у меня на глазах в ту неделю, пока Клод болел. Она снова смеялась, гуляла со мной по выметенным зимними ветрами пескам побережья, устраивала маленькие сюрпризы, изысканные ужины – и да, это именно она убедила меня вернуться к писательской деятельности. Спроси нас кто-нибудь, и мы с уверенностью сказали бы, что совершенно счастливы. Конечно, это была бы ложь. Я писал, но те несколько опусов, которые мне удалось из себя выжать, оказались откровенно слабы: им недоставало спонтанности. Проза выходила чахлая и перегруженная странной тревогой. Это не мешало нам с Грацией строить планы. Мы толковали о путешествиях, о браке, но некий беспокойный призрак все время витал между нами – мы знали, что всем этим прожектам не суждено сбыться… что пока эта извращенная, ненавистная тварь в приюте живет и дышит, Грации никогда не быть свободной. Как одинокие дети, мы забавлялись своими жалкими играми, пытаясь не замечать, как кругом сгущается ночь, наползая из всех углов.
Нелегко отследить последовательно, как так вышло, что я стал меняться. Думаю, все началось с непроизвольного смятения, с беспокойства, принявшегося осаждать мой разум уже через считанные дни после того, как Клода посадили под замок. Я пристрастился к одиноким прогулкам по самым отдаленным, изъеденным солью пляжам нашей округи; кипучая тревога безжалостно снедала мой разум. Со мной случались ужасные мгновения пустоты и отрешенности – и тогда какое-то дикое возбуждение словно бы взбиралось по моему позвоночнику и гнало в ночь, вон из спальни, заставляя бродить по лабиринтам Приората и переполняя ощущением безграничной, несокрушимой силы. Не раз и не два я приходил в себя, дрожа от холода, промокший от пота, стоя перед той резной дверью в восточном крыле дома – перед вратами в адский склеп, где все напоминало о богопротивном зле по имени Клод Эшер. Потом эти состояния проходили, так же внезапно, как и появлялись, и я, дрожащий, растерянный, падал на кровать и проваливался в глубокий, беспокойный сон. Грации я об этих ночных припадках даже не заикался… и все же временами я встречал ее взгляд и читал в нем под покровом нежности испуганный вопрос – она чувствовала, что что-то не так. Ее безмолвные подозрения оправдались в тот вечер, когда мне пришло в голову сесть за пианино.
Я говорил себе, что музыка, возможно, окажет успокаивающее действие на мои нервы. На самом деле это была всего лишь, как сейчас говорят, рационализация странного, необычайно горячего желания играть, вдруг овладевшего мной буквально на ровном месте. Желтеющие клавиши казались холодными и какими-то липкими, но мои пальцы порхали по ним с изяществом и невиданной доселе легкостью. Приторная меланхолия шопеновского ноктюрна лилась в окутанную сумерками комнату; низкие ноты темно пульсировали, мучая мой сверхчувствительный слух… а потом в какой-то момент музыка перестала быть Шопеном. Настойчивые, дисгармоничные аккорды под лихорадочно пляшущими руками налились жестокостью и злой радостью. В барабанный ритм басов вплетались визгливые верха, напоминая нечестивые завывания мириадов потерянных душ. Безбожные звуки уносились в ночь, заставляя тени в углах комнаты непристойно извиваться. Лишь однажды несчастная утроба инструмента исторгала при мне такую адскую музыку. Мелодия, рвавшаяся с клавиш, была песней проклятых, которую исполняла Грация для Клода Эшера.
Я знал, что она стоит позади. Ноздри у меня затрепетали: запах ее волос и кожи, казалось, затопил всю комнату. Пальцы мои онемели и замерли; последний взвизг музыки повис в пустоте, словно ядовитые испарения, и, наконец, стих. Я медленно повернулся. Ее платье для прогулок выделялось в затененном проеме дверей ярким желтым пятном; ее лицо, мягкая полнота уст, спелость тела были одновременно чисты и утонченно соблазнительны. Я уже стоял перед ней и ощущал твердость и теплоту ее руки. Улыбка, всего мгновение назад трепетавшая у нее на губах, растаяла; глаза внезапно разгорелись страхом. Кажется, я улыбнулся – во всяком случае, ощутил, как мои губы непослушно, принужденно изогнулись. Язык во рту шевельнулся и словно бы из ниоткуда пришел голос, сказавший:
– Грация, милая… невеста моя… возлюбленная!
Чистый неразбавленный ужас исказил ее лицо, когда я наклонился к ней с поцелуем. Она вырвала у меня руку и прижалась к стене; слова спотыкались, голос звучал пронзительно и молящее:
– Нет! Оставь меня в покое! Пожалуйста, ты должен оставить меня в покое!
Где-то в отдаленном уголке моего разума раздался звук, похожий на удар хлыста. Затуманенное зрение внезапно очистилось, и я впервые разглядел ужас и отвращение, смешавшиеся у нее на лице. Меня охватила невероятная слабость; пот струился, щекоча, по шее. Желудок сжался от полной беспомощности и растерянности. Я тупо уставился на хрупкое создание, скорчившееся передо мной, закрыв лицо руками. В горле царила страшная сухость, слова рождались с неимоверным трудом.
– Что это… Грация, что я сделал? Что…
Я умолк. Она отняла руки от лица и долго глядела на меня, озадаченная, испуганная. А еще через мгновение она тихо плакала у меня в объятиях. В рыданиях, сотрясавших ее теплое тело, звучала странная нота облегчения. Мое отупелое удивление от этого лишь возросло.
– Что такое? – мягко повторил я. – Что тебя так напугало?
– Ничего… – Она покачала головой, и издала надтреснутый истерический смешок. – Прости меня, дорогой. У меня было престранное чувство… Должно быть, это все музыка. Его музыка. И… и твое лицо. Оно было такое бледное, и ты так характерно улыбался… такой кривой, гадкой улыбкой. Я просто…
Смешок снова булькнул и захлебнулся в рыдании.
– Я понимаю, как неправдоподобно это звучит… но на мгновение мне показалось… мне показалось, что передо мной Клод!
VIII
Я не спал. Камин в спальне давно погас, оставив несколько багровых угольев. Уже сильно после полуночи, буря, грозившая побережью весь день, наконец, обрушилась на Иннисвич. Я сидел очень тихо, во власти странного напряжения, слушая дальний рокот моря, насмешливым эхом повторявший слова Грации Тейн: «Мне показалось, что передо мной Клод… показалось, что Клод… Клод… Клод…» Замерзший, дрожащий, я вскочил на ноги и принялся бесцельно мерить шагами пол. Молния распорола тьму за окном. Я посмотрел в ночь и выругался. Открывая новую бутылку ржаного виски и наполняя стакан, я едва удержал их в руках, так что стекло зазвенело о стекло. Я снова упал в кресло, стараясь не слушать сводящий с ума грохот прибоя. Это повторялось опять и опять, уже не первый раз за эти окутанные тьмой предутренние часы. Все было тщетно, заснуть я не мог. И нет, я не спал, когда услышал бой барабана.
В какой-то забытой расселине моего разума полыхнул алым непобедимый сигнал опасности. Нет! Мозг взорвался беззвучным криком. Не смей! Не сдавайся! Не дай Клоду победить! Вернись! Вернись сейчас же… в себя… в свое собственное тело! Ты должен! Я чувствовал, как мои онемелые губы кривятся в безумном, мучительном усилии произнести хоть слово.
– Нет! – прорычал мой голос, перекрывая барабанный гул. – Нет! Вернись! Я должен вернуться…
Неимоверным рывком я заставил себя встать. Ноги были как студень. Не помню, как я ковылял сквозь зловонный сумрак, помню лишь как очутился перед дверью – перед черным прямоугольником, зияющим последней надеждой на спасение… – и как шипящий язык огня в жаровне за спиной подпрыгнул выше, простирая жестокие, жаркие пальцы, стараясь меня удержать. Я уже почти переступил порог, почти оказался в коридоре, когда это случилось.
Глухой, настойчивый звук пронзил мозг, словно тупой иглой. Барабан! Это же барабан! Я пошатнулся и врезался в дверной косяк; ноги налились свинцовой тяжестью, не в силах держаться стоймя, я накренился и соскользнул на пол. Я попытался закричать – ничего не вышло. Безмолвный, лишенный голоса, я летел в бездонную пропасть ненависти. И оттуда, из взметнувшейся вязким, смоляным водоворотом черноты, готовой поглотить меня навек, явился тихо веющий голос Клода Эшера:
– Ты мой, Ричард! Истинно говорю тебе, что плоть сия принадлежит мне! Я возвратился! Я пришел вернуть себе свободу – свободу в теле, которое некогда было твоим. Слышишь меня, брат? Я буду свободен, а ты – погребен! Ты, возлюбленный брат мой! Ты!
Смех глумливо вскипел где-то в пучине заливавшей мне глаза ночи. Последним безумным усильем я попробовал встать, хватая ртом воздух, но рухнул вперед и остался лежать, совершенно и окончательно беспомощный…
И все это время откуда-то из далекого далека, из иного мгновения и года, негромкий шипящий голос моего проклятого брата цинично вещал мне на ухо:
– Видишь, Ричард, это было не трудно. Совсем не трудно. Теперь это тело мое. Слышишь? Мое! Направляемое моим разумом, думающее мои мысли, исполняющее мою волю…
Кощунственные слова раскатились воющим смехом, и эхо умерло где-то в стерильной тишине бесконечных коридоров…
Первым осознанным ощущением стала гложущая боль, впившаяся, кажется, в каждый дюйм моего тела, пожирающая мою плоть, как какое-то ненасытное, острозубое чудовище. Из последних сил я открыл глаза. Веки были странно распухшие; сквозь узенькие щелочки видно было крайне смутно. Кругом царила белизна – я различил беленый потолок и высокие бесцветные стены. Справа через окно струился бледный лунный свет. Я заморгал и попробовал сфокусировать взгляд на размытом прямоугольнике окна. И тогда бритвенно-острый ужас полоснул мой разум. Луна, лившая свое мертвенное сияние в эту голую комнату, оказалась в равномерную полоску – окно закрывала стальная решетка!
Хриплый вопль прорвался сквозь мои онемевшие толстые губы. Нет! Это не могут быть мои ноги – эти жуткие костлявые ходули на кровати, покрытые иссушенной, вспухшей кожей, испещренные гноящимися коричневыми язвами! В ужасе я рванул покрывавшую меня ночную сорочку, и мне тут же стало невыносимо дурно. Белесую плоть словно кто-то освежевал, она вся сочилась сукровицей, как если бы ею пировали мириады червей. Отвратительная, тошнотворная вонь ударила мне в нос. Завывая, я вскочил и кинулся к забранному решеткой тюремному окну. Наверное, я умолял; скорее всего, плакал. А потом в оконном стекле, превращенном в зеркало внешней тьмой, я увидал омытый лунными лучами кошмар лица.
Таращившаяся на меня из оконной рамы тварь уже не слишком походила на человека. Огромный белый лоб разнесло сверх всяких нормальных пропорций; толстую глыбу носа прорезали две дыры ноздрей – все вместе походило на львиную морду, под которой разверзалась гнилая дыра, бывшая, видимо, ртом. Утонувшие в двух сине-черных ямах булавочные головки безумного пламени злобно сверкали. Бровей не было вовсе, а взмокшие от пота редкие пряди волос, усеивавшие воспаленный скальп, создавали впечатление какой-то чудовищной медузы, восставшей из чрева моря. И пока я смотрел, эти бесформенные губы медленно сложились в злобную ухмылку, и я понял, что ужас в окне, торжествующий свою безумную победу, был лицом Клода Эшера!
Я захлебнулся криком. Осознание хлынуло в меня густой, удушающей волной. Так вот какую кощунственную цель преследовали ритуалы, которым я стал свидетелем в восточном крыле Иннисвичского Приората! Так вот зачем моему брату понадобилось тело Грации Тейн… и власть ее изумительной красоты над миром была тут лишь вторичной выгодой! О да, Клоду Эшеру было нужно новое тело. Ибо плоть, в которой его дух обитал с самого рождения, была поражена недугом и медлила всего в одном шаге от могилы. Здоровое, молодое тело жены и вправду было его единственной надеждой на жизнь – и он готов был обменять его на эту гору гнилого мяса, которую я лицезрел теперь в зеркале ночного окна. И когда я не дал ему завладеть телом Грации, он в отместку завладел моим!
Слепо ринувшись к обитой сталью двери, я колотил в нее, пока омерзительная каша этих разлагающихся рук не стала брызгать кровью. Я чувствовал шевеление губ и слышал, как чужой голос вопит из изъеденного болезнью горла. Слова уносились в ночное безмолвие приюта безумных.
– Мой брат! Клод! Найдите Клода! Он украл мое тело! Он победил! Он на свободе! Вы должны его найти! Он уничтожит Грацию… Он заберет ее, как забрал меня… Прошу вас! Выпустите меня отсюда! Я должен его остановить! Пожалуйста!
Они пришли. Они были одеты в белые халаты. Они качали головами и говорили тихими, успокаивающими голосами. Они улыбались добрыми, мудрыми улыбками, которые говорили: бедняга совершенно спятил, пожалейте его. Они привязали меня к кровати и отошли в сторонку, пошептаться между собой. Вскоре тот, что с седыми волосами, вернулся, держа в руке шприц для подкожных инъекций. Игла легко вошла в сгиб локтя. Седовласый заговорил ласковым, тихим голосом:
– Успокойтесь, Клод. Вы слишком серьезно все воспринимаете. Все хорошо, вы просто больны, дайте нам вам помочь…
Он подарил мне еще одну механическую улыбку.
– Вы уже месяц ведете себя как настоящий плохой мальчик. Вот поэтому нам и приходится делать вам уколы. Я вам уже много раз говорил, Клод – постарайтесь вспомнить. Ваш брат, Ричард, уже почти неделю назад уехал из страны…
Я тупо покачал головой, язык заерзал в омерзительной на вкус дыре рта.
– Грация? – выдавил я. – Где Грация?
Седовласый посмотрел в сторону. Размытые белые фигуры остальных врачей запереминались с ноги на ногу и что-то сочувственно забормотали. Успокоительное, наконец, заработало, и голоса превратились в отдаленный глухой рокот, похожий на прибой. Разговаривавший со мной доктор попробовал что-то объяснить все тем же вкрадчивым голосом. Увы, слова уже не достигали моего сознания. Впрочем, все и так было ясно. Тихий, победоносный смех забурлил где-то в белой бездне палаты – куда бы мой брат ни отправился, Грация была вместе с ним. Клод Эшер победил – теперь уже окончательно. Никакого страха во мне не осталось – он умер вместе с надеждой спасти Грацию. Я знаю, что никогда у меня не было ни единого шанса одолеть это инфернальное зло. Клод был – и есть – слишком силен для меня. Слишком силен для всех нас. И в это самое мгновенье его грязный разум продолжает жить. Возможно, он уже уничтожил Грацию, как уничтожил меня. Иногда я думаю о том, скольким еще душам выпадет та же чудовищная участь. Увы, о том знает лишь бог. Зато мы хотя бы можем отдохнуть – для уничтоженных самое страшное уже позади. Ничего больше не осталось нам… – разве только предупредить.
Вы прочтете это и усмехнетесь. Назовете дикими бреднями безумца, балансирующего на осыпающемся из-под ног краю могилы. О да, люди станут смеяться. Но это будет нервный, испуганный смех – не очень-то естественный. Потому что в конце концов, сопоставив рассказанное мною с широко известными фактами, они поймут, что я был прав. Клод Эшер продолжит свой путь. Ибо, несмотря на все свое безумие, он, я думаю, сумел воплотить тайную мечту любого из нас – достичь единственного истинного бессмертия. Бессмертия ума, не заключенного в тюрьме одного-единственного тела, но способного переходить в другие и так навеки избежать мук болезней и ужаса могилы.
О, какая жестокость, какая ирония заключена в том, что именно такой человек сделал столь великое открытие! Более того, это смертельно опасно – и не только для меня, не только для Грации и для прочих, кто сразился с Клодом и проиграл. Нам уже ничего не грозит. Зато Клод Эшер грозит вам. Возможно, он сейчас рядом – да, рядом с вами; говорит устами возлюбленного, смотрит глазами старого, преданного друга, улыбается своей древней, загадочной улыбкой. Смейтесь, если хотите – смейтесь, но помните: воля Клода Эшера обладает силой, которой нипочем кровь и плоть. Одно за другим он сокрушил все препятствия на своем пути. Даже смерть смиренно склонилась перед ним. И то, чего воля эта не смогла покорить, она уничтожила. Если вы сомневаетесь в том, что такое возможно, вспомните обо мне. Именно эта безбожная воля узурпировала мое чистое, здоровое тело и ввергла меня в темницу этой распухшей, страдающей плоти, все эти двадцать лет заживо гниющей от проказы.
Дэвид М. Келлер. Последняя война
Томпсон одиноко сидел у себя в библиотеке и читал очень старую книгу, написанную на пергаменте и переплетенную в загорелую кожу китайца, убитого магом в пустыне Гоби. Восточная печень не сумела ни раскрыть тайн прошлого, ни хоть что-нибудь рассказать о будущем. Зато кожа отлично сгодилась – на обложку для книги, которой суждено было спасти человеческий род. Ученый нередко листал этот древний том, тщетно пытаясь разгадать его секреты – до сих самых пор. Сегодня, посреди ночи, он вдруг наткнулся на ключ к тайне. До самого утра он читал, а нарастающий ужас все крепче сжимал его душу в ледяных когтях. Наконец, о, наконец, он смог расшифровать послание, так долго скрывавшееся в старом фолианте! Свеча у него над плечом затрепетала под дыханием надвигающегося рока. Смерть парила на крыльях ужаса.
– Мир и все в нем сущее будут уничтожены! – прошептал Томпсон. – Один я понимаю нависшую над нами опасность. Один я в силах спасти человеческий род. Но кто я такой – всего лишь мечтатель. Наука должна помочь мне! Лишь науке под силу победить в последней войне!
Той ночью Томпсон читал о Сатурне – далекой, таинственной, грозной планете; о крае высоких гор и бездн, столь глубоких, что упавшему в них камню понадобятся годы, чтобы достичь места последнего своего упокоения. Он читал о пещерах, высеченных в камне миллионами утративших всякую надежду рабов, молившихся лишь о смерти, что может положить конец их страданиям; о тоннелях, озаренных холодным сиянием гигантских светляков, прикованных к колоннам и питающихся грибами вперемешку с фосфором; о городах, населенных древнейшими народами. Книга описывала и этих существ – ни в чем не подобных человеку, но обладающих обликом, вообразить который доступно разве что курильщику опиума; нечистых чудовищ, поклоняющихся богу, которому нет места в этом мире. Бог сей, злой, могучий и страшный во гневе, ужасный разумом, ждал целую вечность, движимый одним лишь желанием – покорить Землю, поработить тела людей, а души их ввергнуть в места вечных мук.
Томпсон продолжал читать. В конце он переписал себе одну из страниц; рука его при этом дрожала. Даже выводя непослушные буквы, он гадал, правильно ли расшифровал древний язык.
Властью над Сатурном не удовольствуется Великий Ктулху. Прекрасные собою жители Венеры погибли: мужчины – возводя подземные города, а женщины – в лабораториях, за ужасными генетическими экспериментами. Ученые с Меркурия неустанно трудятся, изобретая новые средства разрушения, а армии Марса уже готовятся завоевывать иные миры. Много обличий у Ктулху, но обычно он предстает в виде гигантской жабы с гипнотическими глазами, ядовитыми когтями и разумом, который разуму земному понять не под силу. Малые божества Сатурна все пребывают во власти этого великого бога. В назначенный час он придет на Землю и обратит ее в пустыню. Да устрашится всякий, кто читает эти слова! Он придет с космическими кораблями, механическими армиями, ядами и отвратительными орудиями. И если всего этого окажется недостаточно, он, в конце концов, превратится в прекрасную женщину и соблазном красоты своей поработит и будет мучить все души земные.
Свеча замигала.
– По крайней мере, – пробормотал Томпсон, – нас предупредили.
И люди земли вняли его предупреждению! Организация Объединенных Наций воздвигла огромную экспериментальную лабораторию в Аризонской пустыне. Толстыми стенами вознеслась она – исполинская коническая пирамида – к грозному небу, откуда должны были пасть на землю силы врага. Астрономы несли круглосуточную вахту, высматривая неприятельские корабли. Ученые выискивали в спектре новые элементы сатурнианской природы. Биологи неустанно совершенствовали убийственных тварей и готовили иммунные сыворотки, способные защитить в бактериологической войне. Химики искали взрывчатые вещества, что мощнее атомной бомбы. Строились воздушные корабли на ракетной тяге. Однако главное открытие сделал Дженкинс – и сделал его на основе идеи Томпсона. Оно было так ново по форме, так тонко по действию и так могущественно, что эти двое надеялись: если все остальное окажется бессильно, это их детище сумеет решить исход последней войны.
Много кто помогал в создании нового оружия, но каждая группа отвечала лишь за часть проекта. Дженкинс свел части вместе, оживил и превратил в идеальное целое – под надзором и при помощи мечтателя-Томпсона.
– Это рука судьбы! – вскричал Дженкинс.
– Я бы назвал ее, скорее, рукой бога! – поправил его Томпсон.
А тем временем на Сатурне кипела бурная деятельность. Великий Ктулху наконец довел своих механических слуг до полного совершенства. Металлические тела, электрифицированные мозги – в своих подземных лабораториях они теперь могли выполнять задачи, непосильные для величайших ученых Земли.
Каждое их действие, каждое движение творческого ума направлялось и контролировалось мистической силой Великого Бога. Все свои мечты он уже воплотил в явь. Вся его история свидетельствовала, что война начатая есть война выигранная. Оставалась самая малость – завоевать Землю. Живущий от начала времен, уверенный, что никогда не умрет, Ктулху нетерпеливо жаждал покорить последнюю из планет. День за днем, ночь за ночью он повелевал механическими людьми, неустанно работающими над достижением цели. Химики и биологи преподнесли ему новую формулу войны, ужаснее которой еще не бывало.
– Я уничтожу их города! – похвалялся Ктулху малым богам. – Я обращу их Землю в пустыню. Я ввергну их в отчаяние, и тогда утратят они силы сопротивляться, и единственным их мечтанием будет смерть, ибо неведомо им, что я заберу их души и стану мучить множеством нечестивых и непотребных способов – и так пройдет вечность. Вечность!
Механические люди завершили строительство космического корабля, способного пересечь бескрайнюю бездну небес и, приземлившись на Земле, довершить миссию разрушения. Великолепно исполненный, снабженный ракетным двигателем, он был прекрасен, а весь его маршрут – спланирован до мельчайших деталей. Разработчики не упустили ничего. Гипнотизирующий, всемогущий разум Великого Бога полностью подчинил себе механических людей, так что окончательный результат, смертоносный корабль, представлял собою поистине шедевр дьявольской фантазии. Команды на нем не было. Стартовав, он немедленно и самостоятельно направлялся на Землю – целеустремленно, будто гвоздь, притягиваемый магнитом. Ктулху никому не доверял запуск своего детища. В назначенный час он лично проследовал к пусковой шахте, где покоился корабль и в последний раз осмотрел его во всех подробностях. В последний раз он выверил курс таким образом, чтобы тот приземлился в плодороднейшем кукурузном поясе Соединенных Штатов. Наконец он нажал красную кнопку, и металлический цилиндр взмыл в небо.
– Этим жалким землянам теперь будет чем заняться! – крикнул он младшим богам.
– Велик Ктулху и велика слава его! – отвечали они.
А тем временем длинная цилиндрическая ракета приблизилась к Земле, облетела ее, зависла над долиною Миссисипи, дезинтегрировалась и сбросила свой груз на сочную черную землю. Подхваченные ветром, крошечные семена рассеялись по огромной территории, проникли в почву, мгновенно проросли и уже через день стояли в полный рост. Лишенные корней мужские растения заползли на женские и оплодотворили их. На следующий день созревшие плоды лопнули, разбрасывая семена следующего поколения.
Эти растения оказались не только плотоядны, но вдобавок еще и источали пары, убивавшие всякого, кто их вдыхал, и сок, обжигавший и разлагавший всякую коснувшуюся его плоть. Миллионами они перекочевали из сельской местности в города, неся с собой смерть, столь стремительную, что избежать ее не было никакой возможности. Одна лишь сухая безжизненная пустыня выстояла. Именно там ждали воздушные корабли, специально приготовленные на случай опасности. Теперь в бой вступили они со своими огнеметами и терпеливо, методично принялись уничтожать смертельные растения.
В конце концов, не осталось ни одного. Первая атака бога Ктулху потерпела поражение. Города Земли оказались разрушены, но лучшие представители человеческого рода выжили и были готовы драться не на жизнь, а на смерть.
Тогда Ктулху приступил ко второму этапу своего плана – последнему на пути к неизбежной победе. Он был уверен, что хорошо знает человеческую душу, ее тайные желания и фатальные слабости. На сей раз он применил не самое современное оружие, но, напротив, самое древнее из известных всем формам жизни на всех планетах. Он настолько не сомневался в успехе, что решил отправиться на Землю сам, лично, без сопровождения даже самых доверенных из малых богов – да, спуститься на Землю и добиться победы голыми, так сказать, руками, сиречь одной только магической силой, которой ни один землянин не сумеет сопротивляться.
Он велел своим механическим подданным построить круглый корабль с одной-единственной дверью. Когда она открывалась, другой шар, куда меньшего размера, вылетал наружу и нисходил на Землю в направляющем луче яркого света.
И вот в этом самом шаре Великий Бог устремился к маленькой голубой планете – последняя финишная прямая, в конце которой победителя ждет венок.
Исполинская жаба выпрыгнула из меньшего шара неподалеку от развалин какого-то города в Юте и гигантскими скачками понеслась в Аризону. Там, в пустыне, среди вулканических скал и мертвых кедров, Ктулху претерпел метаморфозу, явившую миру его изначальную двойственность. Жаба исчезла, а на ее месте стояли мужчина и женщина – да такие, что никому и в кошмарном сне не приснятся! Ну а если приснятся, так там же на месте и помрешь от невыразимого ужаса.
Должное время жили эти мужчина и женщина в пустыне. Та, что самка – одноглазая, с длинным хвостом, с человеческими пальцами, заканчивающимися длинными когтями – оставшись одна, имела обыкновение трясти ослиными ушами и трубным гласом звать своего самца. Он же голени имел как у человека, бедра – как у медведя, туловище – как у быка, и голову – как у дьявола. Заслышав зов самки, он мчался к ней, ревя исполненную страсти любовную песнь. Ибо он до последней подробности был именно таким мужчиной, каких любят именно такие женщины.
О, какая любовь их соединяла!
Вот так они и жили в саду Эдемском, всячески удовлетворяя друг друга. Когда же самка очутилась в деликатном положении, самец понял, что медовый месяц подошел к концу, сунул голову в расселину скалы и умер. Его душа, будучи половинкой бога из иного мира, просто перешла в новое тело, которое самка как раз готовилась выпустить на свет. А потом она родила малыша и тоже в свою очередь умерла. И вот бог снова был цел и сам в себе един, в образе смертельной угрозы для всего мироздания – прекрасной женщины.
Стоя одна в пустыне, она постигла силу свою. Кто из мужчин сумел бы устоять перед ее чарами? Оказавшись в ее власти, всякий стал бы ей рабом. Так женщины всегда поступали с мужчинами, и ныне Ктулху, став Супер-Женщиной, намеревался показать всему их роду, что они – не более, чем животные, которых она вмиг обведет вокруг своего нежного пальчика, выпьет их кровь до последней капли и швырнет души в геенну огненную.
Но дело в том, что Томпсон предвидел приход Женщины. Те последние страницы старой книги достаточно внятно его предупредили. С помощью Дженкинса он заранее приготовил ей ловушку. Вопрос оставался только один: сработает ли она?
Женщина летела над пустыней. Ее пленительное лицо сияло предвкушением победы. Ее прелестные пальцы шевелились, мечтая о том, как они будут разрывать мужчин на части. Внутри ее Великий Бог так и сиял при мысли о том, как именно он будет терзать и мучить их души. Только одного он так и не понял – что прекрасное тело, в котором он поселился, в силу естественного выверта мозга обладало неуемным любопытством и неутолимо желало любви.
Внезапно Женщина увидала гигантскую руку, вздымающуюся прямо из песчаных дюн. Это была весьма мужская рука – с короткими, сильными пальцами, с покрытым жесткими волосами тылом, но с мягкой ладонью.
– Что за прекрасная рука! – вскричала Женщина. – Я могла бы отдохнуть в этой теплой ладони, пока пальцы будут ласкать мое нежное тело.
И она немедленно забралась на руку и свернулась там.
– Люби меня, о, дивная мужская рука! – повелела она.
И тотчас же пальцы сомкнулись и медленно раздавили ее до смерти. Можете себе представить, как вопил Ктулху! Больше не было ему места, где жить на Земле. Он потерпел поражение – полное и окончательное. Оставалось только вернуться с позором на Сатурн. Человек выиграл войну. Человеческий род был спасен. И на руинах прежней возникла новая цивилизация – гораздо лучше той.
Артур Пендрагон. Ужас Данстебла
Нельзя, чтобы палеографа считали сумасшедшим. Дабы избежать подобных инсинуаций, эту историю, которую ныне добавляю в книгу воспоминаний, я таил до самого своего выхода на пенсию. В ее достоверности можете не сомневаться. Память никогда не подводила меня в работе с землей – не предаст и сейчас, ибо воспоминание о тех ужасных событиях, случившихся в лесу к северу от Данстебла, я несу всю жизнь, будто старую, но так и не закрывшуюся рану.
Я прибыл в Данстебл, что в северной части Новой Англии, прямиком из Британского музея в марте 1920 года с целью отыскать и изучить давно утраченные источники племени краснокожих индейцев-масскват. То был скрытный и таинственный народ, жители соленых приморских болот, истребленный вскоре после основания колонии в Массачусетском заливе. Мои пожитки выкинули из скрипучего пассажирского поезда на станции Бостон и Мэн, расположенной на окраине городка. С платформы, притулившейся возле крошечного викторианского здания, вид открывался на редкость унылый. Нескончаемая февральская морось стерла пейзаж до монотонной серости утопающих в грязи равнин и увенчанных жалким кустарником всхолмий. Я оказался бы в весьма затруднительном положении, если бы не один характерно новоанглийский тип, прохлаждавшийся в компании станционного смотрителя в телеграфной конторе. Вступив в блаженное тепло зала ожидания, я был довольно высокомерно осмотрен с головы до ног (особенного внимания удостоились истекающий водой дождевик и чужеземный крой костюма) и удостоен сухого замечания:
– Никак туристический сезон начался.
Говоривший мне сразу не понравился (можно же было ограничиться улыбкой), однако поскольку никого больше на горизонте не наблюдалось, я решил, что могу стерпеть немного аборигенной надменности и даже поддержать вежливую беседу, если меня подбросят в город, а уж ради славного места для постоя – и подавно. После недолгого обмена репликами он встал и нехотя предложил подвезти меня в Данстебл, если я помогу загрузить его колымагу.
Мы взгромоздили на нее несколько ящиков с запчастями для его лесопилки – судя по всему, единственной представительницы индустрии в этом фермерском краю – и туда же покидали мои вещи. Фургон неторопливо волокся сквозь холодный туман. Мой спутник неожиданно оказался куда более разговорчивым, чем принято думать о местных уроженцах. До города он успел рассказать мне (хотя и довольно фрагментарно) о своем предприятии, о завидной репутации в городе, о степени достатка. Его семья, Варнумы, жила в Данстебле с самого дня основания, а лично он представлял собой наилучший плод этого почтенного древа. В свои сорок пока еще не женатый, он все же намеревался с течением времени обзавестись и супругой, и потомством – дабы продолжить гордый род Варнумов.
Фургон свернул на мощеную и более широкую магистраль, отрекомендовавшуюся как Черная Северная Дорога. Варнум внезапно оборвал свой монолог и подозрительно воззрился на меня, а потом спросил, с чего это я поперся вдоль всего побережья в Данстебл. Я решил положить конец его эгоистическим излияниям и сделать ставку на священный ужас перед ученостью, свойственный всем представителям среднего класса.
– Я – Томас Грааль из Британского музея, – сообщил ему я, – и приехал отыскать Паукватога.
К моему изумлению, он узнал имя величайшего колдуна массакватов, темного Мерлина всех новоанглийских племен. Моя растерянность от него не укрылась.
– Ах, да. Наша семья имела определенные… контакты с Паукватогом, когда впервые высадилась на этом берегу.
Он загадочно улыбнулся и намекнул на кое-какие дневники, которые унаследовал вместе с отцовской усадьбой. О природе этих… контактов и об их ужасных последствиях мне суждено было узнать лишь позднее.
А тем временем мы вкатили на крытый мост через реку Пенаубскет, на дальнем берегу которой и лежал Данстебл – его огни слабо мерцали сквозь сгущавшиеся сумерки.
– Надо полагать, что раз так, вы двинете на север, в леса, – изрек Варнум. – Нелегко вам придется, если станете искать себе спутника.
Я сказал, что могу хорошо заплатить, а работа будет не особенно трудная – так, помахать немного лопатой.
– Три фактора работают против вас, – сообщил он мне. – Первый: землю уже потихоньку размораживает, и фермеры скоро начнут сев. Второй: на прошлой неделе на Пенаубскете и Кеннебаго вскрылся лед, так что через несколько дней лесопилка заработает на полную мощность.
Он щелкнул поводьями, когда мы съехали с моста на главную улицу.
– И третий: никто не пойдет в лес севернее, чем лагеря лесорубов – с тех пор, как по реке поплыли звери.
Он ткнул пальцем в пруд возле небольшой плотины, совсем рядом с лесопилкой. Маслянисто-черная вода кипела и завивалась бесконечными водоворотами.
– Этот пруд уже раза два или три с начала оттепели был полон дохлых зверей. Приплывают по течению откуда-то выше последнего лесоповала. Белки, лисы, даже пара оленей была. Никогда ничего подобного не видел.
Я поинтересовался, как они все умерли.
– Насколько мы поняли, утонули. Как будто что-то затащило их в реку. Когда в предгорьях тает снег, река становится очень злой – сами увидите ее через недельку во всей красе. С тех пор никто дальше лагерей не ходил. Суеверные крестьяне, что с них возьмешь.
Он криво усмехнулся.
– А мои люди, ходившие дальше лагерей штабелировать спиленный лес, даже говорили, что видели какой-то свет по ночам в самой чаще, ближе к болотам. Мне так и не удалось их убедить, что это были обычные блуждающие огоньки.
Ага, популярное название ignis fatuus – свечения, плавающего ночью над трясинами; причиной его является медленное окисление продуктов распада растительной массы.
– Но они же должны были навидаться такого в этих краях, – возразил я. – Дело-то самое обычное. Болот здесь достаточно, я из поезда видел, пока ехал.
Варнум фыркнул.
– Они все говорят, это было что-то совсем другое. Свет горел постоянно, не мигал и перемещался с болота в лес. Теперь никто не хочет идти в лагеря – ленивые ослы! Глаз да глаз за ними нужен, все время!
Мы встали перед одноименным городу трактиром – он выглядел так, будто последний раз его ремонтировали еще в колониальные времена.
– Вот с чем вам предстоит столкнуться, мистер Грааль-из-Музея.
Варнум выкинул мой багаж прямо на грязный тротуар.
– Ежели вы проделали весь этот путь, только чтобы выкопать какого-то трехсотлетнего индейца, будьте готовы к мелким проблемам вроде этой. А ежели спросите меня, так все вы, гробокопатели, малость ку-ку.
Он захохотал и хлестнул упряжку. Та растворилась в упрямой мороси, окатив меня напоследок жидкой грязью из-под колес. Промерзший и чумазый, я собрал свои вещи и вошел в трактир.
Варнум оказался совершенно прав, предсказывая, что проводника будет найти трудновато. На следующее утро, после беспокойной ночи на ветхом ложе под балдахином, я начал наводить справки. В лавке («Продовольствие и промышленные товары») меня встретили с молчаливостью и настороженностью, достойной горцев Новой Англии. Фермеры и рабочие сначала смолкли, когда я вошел, потом слегка остолбенели от моего акцента. Когда я рассказал им, чего мне надо, они беспокойно заерзали. Я пообещал хорошее недельное жалованье и насладился разыгравшейся на некоторых лицах битвой между естественной жадностью и неким необъяснимым ужасом. Все, однако же, отказались, бормоча неуклюжие оправдания и приговаривая:
– Ну, уж на лесопилке-то вы точно кого-нибудь найдете.
Пруд уже был полон связанными в плоты бревнами, которые привели по течению сплавщики. Визг гигантской пилы где-то в чреве фабрики дрожал в сыром утреннем воздухе. В конторе меня проинформировали, что лесопилка с сегодняшнего дня вводит ночную смену, так что на целую неделю никого из рабочих не отпустят. Более того, бригадир усомнился, что я вообще найду хоть кого-нибудь в городе, потому что слухи о мертвых животных и огнях в лесу преисполнили местных лютым страхом, и никто из них дальше лесозаготовок на обеих реках ни за какие коврижки не пойдет.
Когда я вышел из конторы, на берегу небольшого канальца, соединявшего фабричный пруд с громадными темными резервуарами под кирпичным зданием, где ток воды вращал подземные колеса, оживлявшие пилу, как раз собралась небольшая толпа.
Запруда из деревянных поплавков, скованных вместе тяжелой цепью, перекрывала устье канала, чтобы в колеса не попадал никакой мусор. Об эту границу билось множество тушек всякого мелкого зверья. Я вклинился между праздно судачащими рабочими, чтобы поближе разглядеть улов. Там были обычные серые белки, бурундуки и несколько крупных зайцев – сплошь лесной люд, который обычно воды избегает. Ближайшая ко мне белка не имела никаких признаков болезни или насильственной смерти: она со всей очевидностью утонула, так как грудная полость у нее была полна воды. Варнум, помнится, как раз и толковал о подобных случаях в последние несколько недель. На мгновение я почувствовал странную жуть. Неужто вся эта живность сама утопилась, вроде тех леммингов, которые у меня на глазах буквально запрудили Тронхейм-фьорд в Норвегии в прошлом году? Или что-то загнало их в воду – что-то настолько невыносимое для их примитивного звериного ума, что они предпочли его присутствию ненавистную для них реку?
В трактир я вернулся, донельзя озадаченный и полным прудом зверюшек на лесопилке, и, тем более, необъяснимым страхом горожан при одной только мысли отправиться на север дальше лесоповалов вверх по течению. Нет, если прижмет, так я и один пойду: прошлой осенью я отчетливо разглядел с воздуха остатки основного массакватского поселения – ничем другим оно быть просто не могло. Правда, локация эта находилась в тридцати пяти милях к северу от Данстебла через незнакомый лес, так что переход будет не из легких.
Не успел я всерьез опечалиться, как явился слуга с письмом от мистера Варнума: последний был бы счастлив пригласить меня сегодня к ужину. Любая компания лучше, чем пустой, вымерший город после наступления темноты, так что я с готовностью отправился с парнем все в том же фургоне в особняк Варнума, гадая по пути, в чем причина подобного гостеприимства со стороны человека, который был не очень-то рад моему приезду в город – раз уж произвести на меня впечатление масштабами своей власти ему все равно не удалось.
Хозяин вышел встречать меня на порог своего сильно напоминавшего шотландский пасторский дом жилища. Проводив меня в гостиную, он понимающе улыбнулся.
– Слыхал, вам не слишком повезло сегодня в лавке и на лесопилке.
– Нет, – ответствовал я. – Все оказались слишком заняты. А, может, просто испугались идти в лес за лагеря.
– Трусливая, суеверная деревенщина в большинстве своем! С тех пор как на лесопилку поплыли эти дохлые зверюшки, ведут себя, как старые бабы.
Варнум выразил свое отношение к теме презрительным взмахом руки и щедро плеснул мне «старого доброго колониального алкоголя», метко прозванного «Песий нос» – добавил в стакан теплого эля хорошую стопку джина. Вкус вышел жуткий, но я все равно проглотил это пойло, хотя бы из уважения к подобной попытке гостеприимства.
– Кстати, вы сегодня-то у пруда были? – поинтересовался он.
– Да, – сказал я, – и там снова полно зверья. Из тех, кто обычно близко к воде не подходит. Выглядит странно и даже немного зловеще.
– Сдается мне, мистер Грааль-из-Музея, – молвил Варнум с насмешливым удивлением, – что вы начинаете колебаться насчет этой вашей экспедиции в поисках индейского колдуна? Только не говорите мне, что парочка утонувших бурундуков испугала человека науки!
– Мой дорогой Варнум, – сказал я, немало уязвленный, – позвольте вас заверить, что мне случалось видать вещи и куда более зловещие, чем белки в пруду. В чем бы ни было дело, жернова науки перемелют и это зерно, уж будьте спокойны.
Варнум фыркнул и пригласил меня проследовать в столовую, где его антикварная экономка уже накрыла ужин. В меню был… вареный новоанглийский ужин, по-другому и не назовешь, еще более пресный, чем та безвкусная стряпня, которую поглощает Британия. Сражаясь с ним, я отпустил парочку комментариев относительно галереи портретов – по большей части в стиле американского примитивизма, – покрывавших стены комнаты. Варнум являл более чем поразительное сходство с первым из них, хотя ряд фамильных черт фигурировал и на всех остальных: маленькие глазки с тяжелыми веками, бессодержательный лоб, крупный нос и на удивление узенький и тонкогубый рот в тяжелых и чувственных челюстях.
– А, вы заметили сходство между стариной Престером и мной! – молвил Варнум, даже прервав ради этого процесс хищнического пожирания дымящейся пищи. – Настоящий повеса! Для представителя старой гвардии он, можно сказать, натурально прожигал жизнь. Вам бы стоило прочесть его дневники. Я их, ей-богу, покажу после ужина!
Он смахнул с пиджака кусочек капусты.
– Мне говорили, что я прямо-таки реинкарнация старины Престера. Но дальше внешнего сходства дело не пошло: у меня на баб времени нет. Слишком много всяких дел: лесопилка, городской совет, а теперь еще с этой лесной историей разбираться!
Меня, признаться, удивил такой недостаток интереса к женскому полу – я и сам, впрочем, ни с кем не имел отношений… после той хорошенькой, но вздорной ботанички еще в Гарварде, которая, спору нет, была совершенно очаровательна… пока ее квартирка, битком набитая плотоядными растениями, не вымотала мне все нервы. Варнумова же холодность, решил я, была просто еще одним симптомом всепоглощающей амбициозности, каковой и объяснялись все его надменные замашки.
Мы восстали из останков трапезы и вернулись в гостиную, дабы насладиться сигарами и дневником почтенного Престера Варнума. Хозяин извинился и вышел, чтобы принести его, переадресовав меня перед отбытием к бару с напитками. Я послушно обследовал унылую шеренгу американской «огненной воды», совершенно не годящейся для цивилизованной глотки. Боевой дух у меня, разумеется, упал, но тут я обнаружил в дальнем углу початую фляжку куантро. Сахар на горлышке за годы неупотребления успел превратиться в нерушимую печать – Варнум со всей очевидностью был не любитель чудесного напитка. Я сумел, наконец, скрутить крышку и нацедить себе в стакан на палец, когда он вернулся с несколькими переплетенными в телячью кожу «октаво».
Перво-наперво он вознамерился ознакомить меня с амурными похождениями своего славного предка. Никакого особого интереса они не представляли – обычное эгоманиакальное блеянье безо всякой литературной или исторической ценности. Куда любопытнее мне показалась история исчезновения племени массакват – первопричиной которого и явился наш достойный Престер Варнум собственной персоной. Его мелкий и тесный почерк хладнокровно живописал трагедию целого народа.
Весною 1657 года Престер Варнум в сопровождении проводника-мохеганина по имени Мамтунк пошел от деревеньки Данстебл на север вдоль берега Пенаубскета. Целью его был поиск пригодных для лесопильного предприятия сосен. По дороге они наткнулись на женщину из племени массакват. Отбросив ради насилия весь свой непримиримый кальвинизм, Престер сполна ею насладился; на предупреждения Мамтунка, что Данстеблу из-за этого могут грозить неприятности со стороны массакватов, он никакого внимания не обратил. Женщина потом от них сбежала и с позором возвратилась к своему племени.
Вскоре после этого Престера свалила в лесу лихорадка; верный мохеганин дотащил его обратно в Данстебл на волокуше. Когда они прибыли, городок был охвачен второй со времени его основания девять лет назад вспышкой морового поветрия. Хуже того, дружественный дикарь сообщил жителям, что колонист изнасиловал жену Паукватога, шамана массакватов, и теперь племя готовится к войне. В то черное лето Данстебл только тем и занимался, что хоронил мертвых и готовился к атаке индейцев. Оспа унесла больше трети поселенцев, включая и самого Мамтунка. Престер Варнум, однако, выздоровел и был уже на ногах, когда стало известно, что все массакваты до одного вымерли от неизвестной белой заразы, принесенной в племя женой Паукватога. Кроме этой новости вестник доставил еще и слух о проклятии, которое наложил на насильника шаман: он предрек, что род, произведший на свет эту презренную тварь, прервется самым ужасным образом и в точности так, как вымерли массакваты. Престер, разумеется, заявил, что все это предрассудки, и действительно умер мирно, во сне, на семьдесят третьем году жизни, оставив немалое потомство. О, его было кому оплакивать, что в Данстебле, что в близлежащих индейских становищах!
Я закрыл тетрадь и медленно выдохнул. Рассказ о бессмысленной гибели массакватов меня изрядно расстроил. Вспышка спички, от которой хозяин прикурил свою потухшую сигару, а потом гостеприимно протянул мне, вернула меня в мир живых.
Варнум многозначительно откашлялся. Пока я блуждал в воспоминаниях его пращура, потомку не терпелось поделиться какой-то идеей.
– Вы, должно быть, весь вечер гадаете, с чего это я вас пригласил, – начал он. – Это… этот феномен, как вы его называете, начинает мне досаждать. За лагерями, между Пенаубскетом и болотами, есть места с превосходными соснами, и я хочу этот лес за любую цену.
– Это если вы сумеете загнать туда своих рабочих, – заметил я. – Сдается мне, кишка у них тонковата.
Варнум сделал хороший глоток бурбона.
– Вот именно! Пока у этих зверюшек, что плывут вниз по реке, нет никакого объяснения, мои ребята будут нервные, как бык в сезон мошки, и в лес их действительно не загонишь. Мы знаем, что животные утонули. Ветеринар обследовал несколько трупов: это определенно не болезнь; шкура у всех цела; шерсть без подпалин, значит, пожара не было – одна только вода в легких. Вопрос в том, какого дьявола они все попрыгали в Пенаубскет?
– Возможно, их туда загнали, – предположил я.
– Кто?
– Всадник без головы? – Я отхлебнул куантро.
Варнуму оттенок юмора в моем голосе оказался недоступен.
– Ну, слушайте, вы-то сами ведь не суеверны, правда?
– Это была шутка, – заверил я его.
– А! Короче, какова бы ни была причина, я не позволю, чтобы моих ребят беспокоили какие-то там блуждающие огоньки и мокрые белки. Я пойду туда вместе с вами! Вы когда отправляетесь?
Я так и вскипел от этой манеры констатировать, что у меня, дескать появилась компания, но виду постарался не подать. Еще не хватало, чтобы мои эмоции отражались на лице! По крайней мере, это все равно лучше, чем лезть в леса в одиночку.
– Планирую выходить послезавтра, – сказал я довольно холодно. – А завтра пойду найму лошадей на конюшне.
– Вот и ладненько, увидимся послезавтра, – заявил Варнум, подымаясь из-за стола.
Судя по всему, прием был окончен – хотя не пробило еще и десяти. Никакого обмена любезностями на крыльце не последовало – хозяин буркнул: «Спокойной ночи!», – и этим ограничился. Будто лакея отпускал, ей-богу.
Едучи в фургоне обратно в трактир, я продолжал кипеть. Надо же, какие все-таки скверные у него манеры! Ради проводника к месту раскопок мне придется терпеть его компанию, и самой приятной из моих экспедиций эти две недели явно не станут. В качестве утешения я погладил маленькую куантро, которую под шумок сунул в карман пальто. «Зачем переводить добро на такую лишенную вкуса дубину!» – подумал я и расхохотался. Первые лягушки дружно ответили мне с болот, где над зимними рогозами висел, словно пророчество, бледный голубоватый блуждающий огонек.
* * *
К нашей встрече два дня спустя я успел нанять четырех лошадей – двух верховых и двух вьючных. На то, чтобы подготовить оборудование, которое понадобится мне для работы с захоронениями массакватов – щупы, лопаты, кирки, метелочки и ящики из прочного дерева с ямкой обивкой внутри, куда можно будет складывать найденные на месте берестяные грамоты – ушел почти целый день. Вот этот багаж плюс провизия, полевое снаряжение, оружие и экземпляр «О человеке» Поупа составили поклажу двух лошадей.
Мы выехали из Данстебла на восходе солнца, ясным погожим днем – такие для новоанглийской весны вообще-то редкость. Я показал Варнуму мои карты и отсчеты по компасу, и он сказал, что для последнего броска к месту захоронения нам отлично сгодится самая северная из лесорубных стоянок, так что мы сможем большую часть маршрута держаться хорошо проторенных троп.
Вступив в великие новоанглийские леса, я испытал чуть ли не религиозный трепет, с каким не сталкивался больше ни в одних джунглях, вельде или тундре этой планеты. Кругом царило задумчивое безмолвие. Свет, проходя сквозь кроны сосен и тсуг, становился зеленым, так что даже самый воздух, которым дышишь, тут обретал оттенок обступавшей нас со всех сторон растительности. Лошади ступали почти бесшумно по толстому ковру рыжей хвои, копившемуся тут столетиями. Стоило закричать птице, и в тишине раскатывалось громоподобное эхо – впору почувствовать себя богохульником, забредшим в темный и величавый храм. Мелкие городки и селения этих краев мой трепет тоже, судя по всему, разделяли и лепились вдоль прибрежных соленых болот, предпочитая знакомые опасности угрюмой северной Атлантики, тайнам этих чащоб. И названия у них были сплошь окоченевшие и непоколебимые, под стать холодному упорству первых поселенцев – День Субботний, Ледяное Озеро, Ветряное Русло, Колокольная Отмель.
Варнума подобные чувства не беспокоили. Он ехал впереди меня, втянув голову в огромный шерстяной шарф, погрузившись в мысли о летящих сроках, досковых футах и расстояниях от Пенаубскета до лесопилки в Данстебле. К незыблемо дурному предчувствию, владевшему мной с момента выезда из города, он тоже остался совершенно неуязвим. Мои же мысли упорно возвращались к картине безжизненно кружащихся в черной воде зверюшек… и к голубому сиянию, так похожему на блуждающие огоньки, но страшащему лесорубов больше, чем весенний разлив Пенаубскета. Я старался сосредоточиться на предстоящей работе – найти место, раскопать, обнаружить захоронения, идентифицировать, скопировать массакватские пиктограммы… но здесь, в этом зеленом свете и тишине, эмоции обретали какую-то неодолимую силу.
Утром третьего дня, после ночевки в самом северном из лагерей, мы прибыли к месту назначения. Читатель наверняка подивится той легкости, с которой мы обнаружили племенную территорию масскватов. Дело в том, что вдобавок к компасным данным и картам у меня был в запасе еще один фактор – та почти абсолютная стерильность, которую обретает земля, много лет используемая для стойбища. Постоянное вытаптывание, огни очагов и кузниц, слив щелочных растворов, после примитивного дубления кож – все это настолько высолаживает и истощает почву, что выжить на ней после этого в состоянии только самые выносливые из растений.
Я узнал место тотчас же, как только мы выломились из соснового подлеска на круглую поляну акров пятнадцати в диаметре. Хозяйственных ям тут не наблюдалось – все отбросы давно размели летние ураганы и растащили лесные звери. Сохранились, однако, ряды темных впадин в земле, куда когда-то были воткнуты сваи массакватских жилищ. Кроме них земля локация не несла никаких признаков человеческого пребывания. Если тут и удастся что-то найти, так разве только поломанный наконечник стрелы или осколок керамики, или еще какой-нибудь артефакт племенного быта. Берестяные свитки с пиктограммами будут явно не здесь, а в захоронениях – распределенные между могилами вождей и главных воинов. В отличие от многих соседей, оставлявших трупы на деревянном помосте или просто в развилке дерева, тлеть естественным путем, племя Паукватога сжигало своих мертвых и хоронило пепел. Мы поставили лагерь в центре поляны, расположив две одиночных палатки ярдах в двадцати друг от друга по обе стороны от кострища. Мне не терпелось найти кладбище, а Варнуму – прокатиться по окрестным лесам, посмотреть сосны и заодно выяснить, что там так напугало его ребят. В итоге мы договорились встретиться в лагере перед закатом.
За этот длинный день я успел произвести поверхностные предварительные раскопки на кладбище, которое благополучно нашел в миле к северо-западу от становища – а вскоре обнаружил и первые пиктограммы в могиле, судя по всему, одного из главных воинов племени. Примитивные схематичные фигурки могли бы выйти из-под руки ребенка, так они были просты. Тщательно выведенные ягодным соком на берестяных листах, они идеально сохранились в толще щелочного пепла, на целые века защитившего их от грибков и бактерий. Однако пока разум мой ликовал от находки, чувства корчились от того же скверного предчувствия, что владело мной с самого выхода из Данстебла. Возможно, дело было в общей бесприютности этого места, а возможно, в торжественности момента – и не такое почувствуешь, ступая по следам давно исчезнувшего народа. Какова бы ни была причина, я испытал огромное облегчение, застав в лагере ожидавшего меня Варнума. Он успел разжечь костер, хотя до заката было еще далеко, и как раз совал в огонь новое сухое полено.
– Ну, как, нашли ваши индейские комиксы? – поинтересовался он, поднимая на меня глаза.
– Да, источники захоронены вместе с останками, как я и предполагал. Я сегодня только сливки снял, но пиктограммы, кажется, сохранились просто поразительно хорошо. Правда, вот что интересно – я не нашел могилы Паукватога, хотя она должна очень явственно выделяться на общем фоне. На ней по крайней мере, должен стоять каменный каирн.
Варнум глядел в огонь с совершенно отсутствующим выражением – ему явно было неинтересно.
– Возможно, старого факира забрали прямиком на индейские небеса. Он же у них был знахарь или что-то вроде того?
– Ну, возможно, я просто проглядел могилу. Но она и вправду должна быть большая и легко различимая, с огромным количеством предметов – так всегда хоронили шаманов.
Я налил себе чашку кофе.
– А ваш день как прошел? Нашли что-нибудь… вообще что-нибудь?
Варнум коротко хохотнул.
– Ничего ровным счетом. Эти старухи, гордо именующие себя дровосеками, напугались блуждающих огоньков, как я и говорил. Никаких следов, ничего необычного на мили и мили вокруг. Движущиеся голубые огни – это ж надо!
– А как же звери в пруду? – вставил я.
– А черт их знает, как! Вдруг у них припадок какой случился, вот они и попрыгали в воду! Это могло быть что угодно.
От него несло абсолютной уверенностью в себе, но меня от предчувствия, уже прочно поселившегося в мозгу, она избавить все равно не могла.
Полная тьма окутала лес, и мы поскорее закончили ужин. Варнум встал в круге отбрасываемого костром свете, с хрустом потянулся и поскреб небритую челюсть.
– Завтра снова идете копать? – спросил он.
– Да, попробую найти-таки могилу Паукватога. А вы?
– Поеду миль на восемь к северо-западу. Там сосновая роща, отсюда выглядит на редкость завлекательно.
Он почесал бок и, ни слова больше не говоря, залез к себе в палатку и задернул полог.
Когда накатил ночной холод, я сгреб жар в костре и ушел к себе, забрав с собой несколько берестяных свитков. Еще где-то час я сидел при свете керосиновой лампы, расшифровывая те, что показались мне полегче для понимания.
Они оказались довольно фрагментарны, но говорили все о последних днях племени, во время эпидемии оспы, которую индейцы сочли проклятием, павшим на них из-за сожительства жены Паукватога с белым колонистом. В одной из грамот говорилось о том, что при первых же оспинах у нее на теле женщину самым жестоким образом убили, а труп в буквальном смысле швырнули собакам. Увы, такая ужасная жертва не оградила племя от беды: все последующие свитки изобиловали изображениями расчлененных тел – так массакваты обозначали умерших от болезни. Живые не успевали проводить по умершим обряды и умирали прямо рядом с погребальными кострами.
Обнаружив, что уже дремлю над своими берестами, я задул лампу, улегся и моментально провалился в сон.
Однако вскоре после полуночи я проснулся – оттого, что Варнум бесцеремонно тряс меня за плечо. В свете его фонарика на батарейке поблескивало дуло ружья.
– Вставайте, – скомандовал он. – Снаружи что-то неладное творится.
Я натянул брюки и схватил собственное ружье. Во тьме жарко мерцали угли костра.
– К северо-востоку от нас, – тихо сказал Варнум. – Животные.
Я навострил уши, стараясь расслышать что-нибудь сквозь рев Пенаубскета, который ночью стал еще громче. Когда я засыпал, единственными звуками были мерный стрекот цикад и жутковатые стенания козодоя… Я и до сих пор слышал только их да реку. Поглядев на Варнума, я пожал плечами.
– Погодите, пока сменится ветер, – бросил он.
Ветер, до сих пор дувший в спину, с душераздирающей неторопливостью обогнул нас и теперь обдавал холодом лица. Мы стояли, вперив взгляд в черноту леса. Сменив направление, ветер принес намек на звук – на самой границе слышимости. Постепенно он вырос в многоголосый тонкий щебет. В ужасе я понял, что это хор звериных голосов.
– Движется сюда, – процедил Варнум и снял ружье с предохранителя.
– Что-то их гонит? – спросил я.
– Понятия не имею. Никогда такого не слышал.
Пока он говорил, щебет успел превратиться в неслаженный хор, состоящий из отдельных панически воющих голосов. За ним пришел треск ломящихся сквозь подлесок тел. Мы упали на колено возле палаток, взяли ружья на изготовку… – и волна маленьких темных теней хлынула на озаренную лампой полянку и покатилась по земле, наполнив ночь стрекотом и писком. Кто-то из зверей побольше, не рассчитав, промчался прямо через кострище, взметнув фонтаны искр и озарив стоящие рядом сосны. Белки вверху промахивались мимо ветвей и падали в круг света, а потом, растерянные и перепуганные, одним прыжком снова исчезали во тьме. Обе наши палатки не выдержали этого нашествия; оборудование разбросало по всему лагерю и по окрестным кустам. Внезапно взрослый олень ворвался на становище и слепо ринулся на нас, грозно опустив корону рогов. Мы выпалили одновременно, пули вошли в бока, подняв облачка мелкого лесного мусора; олень взвился в воздух и замертво рухнул наземь.
Вся эта звериная орда безошибочно направлялась к Пенаубскету, словно подгоняемая невидимым пастухом. Позади мы слышали череду всплесков – авангард уже достиг крутого берега и теперь скидывался в воду. Звук при этом и не думал утихать – жуткий хоровой стон, рожденный невыносимым ужасом. А потом нашествие кончилось, так же быстро, как началось. Ночь снова была тиха. Шумела река, трещали цикады, где-то плюхал одинокий водоворот. Ни слова не говоря, мы прождали четверть часа – все так же стоя на одном колене, ружья сняты с предохранителей, фонари горят – не отрывая взгляда от черной стены деревьев. Воздух был холоден, но Варнум все равно вытер заливавший глаза пот.
– Вы что-то увидели? – спросил я.
– Я… не знаю.
Он неуверенно поднялся и принялся разжигать костер.
– На мгновение мне показалось, что я вижу… что-то голубое… вроде как свет сквозь деревья. Но он был такой слабый, что я не уверен…
– Что могло быть источником такого света? – озадаченно спросил я. – Никакого огня в лесу не было, и никаких звуков тоже – только крики животных. И все равно они бежали, будто спасали свою жизнь…
В отсвете костра лицо Варнума выглядело совершенно изможденным.
– Вы правда думаете что я похож на Престера? – выдавил он.
– Ну… да. Я бы сказал, сходство просто поразительное. А почему вы спрашиваете?
Было что-то жуткое в таком вопросе… и в таких обстоятельствах.
– Так, просто подумалось… – Он рассмеялся, но звук вышел сухой и трескучий; в нем звучал не юмор, а страх.
Остаток ночи мы просидели у огня, подремывая опершись на ружья, но так и не решившись заснуть совсем. Первый нездоровый отсвет зари сквозь поднимавшиеся с болот туманы стал самым отрадным зрелищем на свете. С наступлением дня мы заново поставили палатки и рискнули-таки несколько часов отдохнуть. К девяти утра толстобокое солнце разогнало ночную стужу.
Когда я затягивал подпругу на грузовой лошади, готовясь к короткому броску на кладбище, ко мне подошел Варнум.
– Скажите, сколько вы еще намерены здесь оставаться?
Вся его надменность, так досаждавшая мне в прошлом, куда-то подевалась. Более того, вопрос прозвучал даже умоляюще.
– После этой ночи не могу вам точно сказать, – ответил я. – На самом деле я думал остаться, как минимум, на неделю, но теперь никак не могу отделаться от ощущения, что с этим лесом что-то капитально не так. О поведении этих зверей нужно известить власти.
– Но сколько конкретно? – настаивал он.
– Если я не найду могилу Паукватога сегодня, мы уедем самое позднее через три дня.
– Тогда по рукам! – сказал Варнум.
Вместе с надменностью успело исчезнуть и его стремление изучить местные лесные ресурсы.
Мы поехали на кладбище. Каждый был погружен в собственные мысли. Варнума совершенно выбил из колеи ночной набег лесного зверья, закончившийся в Пенаубскете. Что до меня, то, признаюсь, я был весьма озадачен и даже обеспокоен. Насколько я знал, ничто в мире природы не могло вызвать у животных такого рода реакцию – кроме, разве что, лесного пожара. Но никакого огня в заросшем грибами, пропитанном сыростью подлеске в ту ночь решительно не наблюдалось, кроме бледных свечений над примыкающими к реке болотами – довольно зловещих, но совершенно безвредных. Болезнетворные микроорганизмы, конечно, могут вызывать подобное безумие, но я не знал ни одного, способного воздействовать на такое количество разных видов одновременно. Будь я зоологом, возможность пронаблюдать новый интереснейший феномен в поведении лесных жителей меня бы наверняка воодушевила. Но как археологу и эпиграфисту, лишь случайно соприкасающемуся с животным царством – да и то разве что в народных преданиях, – мне оставалось только развести руками.
Тот второй день мы оба провели, работая на кладбище. Я отказался от первоначального плана собрать как можно больше второстепенных свитков и сосредоточился целиком на поисках захоронения Паукватога. Варнум и я снова и снова вбивали железные щупы в кремнистую почву, локализуя индивидуальные могилы по мягкости содержимого на контрасте с плотной землей вокруг. Пока мы обследовали место, я заметил, что руки у Варнума дрожат. Он часто сглатывал, и хотя день выдался не из жарких, лицо и шея у него были постоянно мокрые. Его словно накрыло какой-то темной тенью.
Только во второй половине дня наши пробы показали участок мягкой почвы. Судя по размерам, это могла быть только могила какого-то важного члена племени. Пока мы прокапывались сквозь слои сосновой хвои и сухой бесплодной земли, я все больше укреплялся во мнении, что мы нашли то, что искали. Дальше пошли снизки вампума и раковин-каури, которыми дух должен был оплатить свой переход в мир иной. За ними – почерневшая от огня кухонная утварь, превосходное оружие и останки того, что три сотни лет назад было богатыми ритуальными облачениями. Но важнее всего, разумеется, были бы берестяные свитки с хроникой жизни великого шамана, его подвигов, происхождения и смерти.
Мы углублялись в могилу. Напряжение Варнума росло с каждым футом – и уже частично передалось и мне. Он не говорил ни слова, но тревога читалась по его дерганым движениям и по сосредоточенному выражению лица. Я на своем веку раскопал немало могил, но сейчас странным образом разделял его эмоции. Странный беспричинный страх растекался над индейским кладбищем.
Наконец, мы достигли слоя пепла, в котором обычно обнаруживают свитки. Тело или оставшиеся от него кости находятся прямо под ним. Очень осторожно, с помощью кисти и старого крючка для омаров, я высвободил свитки из защищавшей их корки пепла и один за другим передал их стоявшему на коленях на краю раскопа Варнуму. Один он тут же уронил и извинился за свою неуклюжесть, сказав, что он, честно сказать, сам не свой. Признаться, и я, стоя над местом последнего упокоения величайшего из племенных колдунов северо-востока, не мог похвастаться абсолютным самообладанием.
Очистив свитки и упаковав их в ящик с мягкими гнездами, я подошел к Варнуму, сидевшему неподалеку в каком-то тупом оцепенении.
– Ну что, посмотрим?
Он отрывисто кивнул и встал с заметной неохотой. Мы спустились в раскоп и кирками вгрызлись в затвердевший пепел, способный, по поверью массакватов, сохранить тело для вечности, ибо всякий нанесенный останкам вред отзовется и духу в мире ином. Мы прошли где-то с пол-ярда серого пепла, когда кирка Варнума звонко грохнула о гранитное ложе.
– О, боже! – прошептал он себе под нос. – Вот и дно.
Я продолжил копать в своем углу участка, пытаясь найти хоть какие-то фрагменты останков – увы, в могиле не было ни единого кусочка кости.
– Ничего, – тихо сказал я.
Мы уставились друг на друга. Слой пепла был не нарушен, погребальные дары пребывали в полном порядке, захоронение явно триста лет никто не тревожил – и, тем не менее, никакого тела.
Лоб Варнума снова покрылся бисеринами пота. Сумеречный лес, только что такой безмятежный, вдруг в одночасье сделался недобрым.
– Но не могут же тела просто так брать и исчезать, правда? – почти взмолился Варнум.
– Объяснение есть всегда, – заверил его я. – Иногда почва попадается аномально кислая, и вода постоянно выщелачивается, так что распадаются кости, одежда – даже металлические предметы. Но тогда должны оставаться волосы. Если речь идет о женщине, то целые ярды волос, так как они продолжают расти еще некоторое время после смерти.
– Следов воды тут нет, – возразил Варнум. – Дно могилы из твердого гранита, а волос никаких не осталось. Как будто и тела тут никогда не было.
– Забавно, да? Эти индейцы никогда не делали фальшивых могил. Перед нами настоящее захоронение, но с останками необъяснимым образом что-то стряслось. Никогда раньше я ничего подобного не встречал.
Мы вылезли наверх. Вечерело. Свет сам стал пепельного оттенка.
– Здесь мы сделали все, что могли, – подытожил я. – За следующие два дня я окончательно расчищу свитки и законсервирую для путешествсия домой. Дальше мы забросаем могилу и оставим старину Паукватога палеонтологам. А в Данстебле нам нужно будет непременно известить власти о панике среди животных.
Варнум помог мне приторочить контейнеры со свитками к сбруе вьючной лошади. Мы благополучно доехали до лагеря и прибыли буквально за минуту до того, как на лес пала вселенская тьма. Ввиду возможности нового нашествия, мы решили по очереди сторожить – все те ночи, которые нам еще осталось провести на этом месте.
Следующие два дня я действительно потратил на подготовку находок к транспортировке обратно в Данстебл и дальше – в Британский музей. Каждую частичку пепла, способную повредить нежную поверхность покрытой символами бересты, надлежало тщательно удалить; затем нанести на свитки слой парафина, который предохранит их от воздействия атмосферного воздуха – этого будет достаточно, пока не представится возможность произвести более надежную и долговременную консервацию. Несмотря на то, что все мое внимание занимали наши находки, прогрессирующее падение боевого духа у Варнума просто-таки бросалось в глаза. После нашего первого похода на могилу он всю ночь промучился кошмарами. Сидя в дозоре у костра, я слушал, как он стонет и разговаривает – увы, нечленораздельно – с каким-то неведомым собеседником. Когда пришел его черед заступать на вахту, ему было явно не по себе – в глазах застыло совершенно загнанное выражение, рассеявшееся только с наступлением утра.
На следующую ночь ему стало еще хуже. Я даже решил его разбудить, потому что звуки, которые изрыгала во сне его глотка, уже даже на человеческие не походили.
– Все то же, что и прошлой ночью, – выдавил он, щурясь на свет моей лампы. – Я вижу, как сплю в палатке и как вы сидите на посту – но в ночи рядом с поляной есть что-то еще, оно медленно движется к нам. Вы его не видите – не можете видеть – но оно там и идет… идет за мной!
Он был практически в состоянии истерики, и поэтому я решил отстоять за него вахту. Я дал Варнуму успокоительное из аптечки в надежде, что оно хотя бы положит конец жутким звукам и крикам, что он издавал во сне. Когда он уснул, я обошел поляну кругом и вернулся к своему месту у костра. Там я уселся, закутавшись в одеяло и некоторое время раздумывал, не заняться ли расшифровкой свитков Паукватога. Свет от углей, впрочем, был слишком слаб. Да и вряд ли бы мне удалось надолго сосредоточиться на пиктограммах, учитывая странность ситуации. Мысли мои были заняты неестественным ужасом, повисшим над Данстеблом и этими лесами – причем ужасом невысказанным, охватывавшим горожан при одной только мысли о том, чтобы углубиться в чащу севернее лагерей… Перед глазами так и стояли тушки зверья, безвольно кружащие в пруду лесопилки, а в ушах эхом отдавался визг несущейся через лес на верную гибель орды. А теперь еще эти останки шамана, бесстыдно отсутствующие на своем месте в нетронутой могиле.
Усилием воли я постарался отвлечься от этой темы – по той простой причине, что сидел теперь в ржавом отблеске умирающего костра насмерть перепуганный. Я – взрослый человек, и со времени резни в лесу Белло[39] прошло всего несколько лет. Вот там я действительно боялся, но не выдал ни тени эмоции, так как кругом были мои боевые товарищи. Со свойственным благородной эпохе романтизмом мы все почитали себя обреченными на смерть и потому сдерживались. Но здесь, в черном лесу, где каждый вдох отдавал на губах плесенью, не было ни вспышек канонады, ни визга шрапнели, поливающей траншеи, ни глухого стука пуль, косящих оливковые ряды мундиров – только мерный шорох листьев да запах бессчетных веков гниения и распада. Да еще тишина. Невыносимая тишина. Я не доверяю никакому скоплению людей, численностью превышающему взвод британской пехоты, но этой ночью не отказался бы от хорошей такой болтливой толпы.
Дабы привести себя в чувство, я полез к себе в сумку и извлек зачитанный до дыр томик Александра Поупа, моего любимого Поупа, чей стройный слог утешал меня не в одном таком дозоре. Я сгорбился у огня, поплотнее закутался в одеяло, прислонил ружье к коленке и энергичным пинком отправил все дурные предчувствия подальше. До рассвета оставалось часа два, и я только что дочитал «Виндзорский лес», когда пришла боль.
Без малейшего предупреждения я вдруг оказался в горниле подлинной агонии. Каждый сустав, нерв и орган скручивало столь сильной болью, что она была почти изысканной. Книга выпала у меня из рук. Я прокусил себе язык и вспомнил вкус крови. Совершенно парализованный, я начал падать вперед, сгорая заживо от боли и страха, но не способный ни крикнуть, ни даже почти что дышать. Краткий миг падения показался мне целым днем. Несмотря на общую отупелость рассудка, некая его мельчайшая холодная фракция бесстрастно и с невероятной скоростью перебирала возможные причины столь внезапного состояния. Кровоизлияние в мозг? Травма позвоночного столба, повредившая центральные нервные сплетения? Сильный удар в область мозжечка? Лежа щекой на мокром мху, я беспомощно созерцал через костер Варнумову палатку, почти теряя разум от спазмов, сотрясавших все мои конечности. «Боже ты мой, – пронеслось у меня в голове. – Вот и конец».
И тогда на периферии поля зрения, скользя вдоль края поляны, беззвучно, неотвратимо явилось… оно. Холодное голубое сияние, мертвенное фосфоресцентное свечение, ничуть не согревавшее обнимавшую его со всех сторон ночь. Оно пересекло открытое пространство; боль моя с его приближением лишь усилилась, но никакого милосердного забытья не принесла. Свечение прошло сквозь огонь, не потревожив ни уголька, ни взметнув ни искорки в столб теплого воздуха. Не обращая на меня никакого внимания, оно двинулось к палатке Варнума, откуда неслись звуки очередного кошмара, приглушенные вопли ума, сражающегося с ужасным противником.
Пока я слушал, валяясь у костра, будто свежезабитая скотина, тембр воплей изменился, и Варнум, судя по всему, проснулся. Свечение нависло над палаткой, потом охватило ее целиком: неземной свет играл на стропах и холстине, как огни святого Эльма – на корабельных снастях. Полог отлетел в сторону, и Варнум выскочил наружу, голый до пояса, хватая скрюченными пальцами то себя, то воздух; он весь был окружен голубым светом. Мускулы на руках и груди корчило в спазмах. По жутким воплям я понял, что и его охватила та же невыразимая мука. В безумии он помчался вкруг огня, поджигая штаны и тщетно пытаясь оторваться от мучителя.
– Грааль, ради Господа, помогите! – провыл он.
Свет облекал его, будто плащ. Все его члены пульсировали нечестивым сиянием и колотили в разные стороны, как у буйнопомешанного.
Во внезапном потрясении, которое я почувствовал даже сквозь боль, я понял, что Варнум сейчас побежит к реке. Он исчез из поля зрения, а крики боли слились с хрустом подлеска. Я попробовал пошевелить рукой, схватить ружье или хоть головешку из костра – что угодно, лишь бы вытеснить ужас действием. Но я лежал парализованный, настолько же надежно, как если бы мне перебили хребет. Я мог только лежать и всхлипывать, пока вопли затихали вдали и, наконец, совсем исчезли, канув в неумолчный рев Пенобскета. Мысль, что Варнум разделил судьбу утонувших зверюшек, оказалась последней. За ней пришло благословенное небытие.
Я пришел в себя незадолго до рассвета. Сначала сознание было спутанное, но потом прояснилось. И паралич, и боль полностью прошли – осталось только неистовое желание поскорее бежать отсюда, оставить это проклятое место. Я добежал до реки и рухнул на влажные листья, ожидая, что ужас может вернуться в любой момент. Мысли о Престере Варнуме, о проклятии Паукватога, павшем на весь его род, о разверстой могиле галопом промчались через мой разум, но надо всеми ними царил образ голубого сияния, плывущего через поляну и сквозь костер, словно какой-нибудь нарисованный сумасшедшим сюрреалистом ангел смерти.
Когда рассвело, я вернулся в лагерь и поспешно упаковал основное оборудование и бесценные свитки, бросив палатки и утварь на произвол судьбы. Потом я быстро поскакал на могильник, забрал несколько оставленных там вчера необработанных свитков, а затем устремился прямиком через лес к Данстеблу – настолько быстро, насколько позволяли вьючные лошади и оставшийся без седока скакун Варнума.
Привычный и уже приевшийся ужас висел над городом, когда я въехал в него после двухдневного пути через леса. Лесопилка стояла. Горожане сгрудились вдоль главной улицы. В полицейском участке шериф округа Сассекс как раз разговаривал с коронером. Утром в пруду обнаружили тело Варнума, принесенное, как и тушки зверей до него, волнами Пенобскета.
Учитывая обстоятельства смерти, я несколько подредактировал свои показания. Все равно события той достопамятной ночи выглядели слишком невероятными, чтобы в них хоть кто-то поверил. В общем, я рассказал, что услыхал, как Варнум в помрачении рассудка кричит в лесу, удаляясь в сторону реки, где он, по всей видимости, сорвался с крутого обрыва и утонул.
Власти приняли мою версию событий без малейшего недоверия. После этого мы отправились в местное похоронное бюро взглянуть на тело. Проведя в воде всего каких-то тридцать шесть часов, оно все равно сильно пострадало и побилось о встречающиеся в Пенобскете коряги и мели. Впрочем, это был точно Варнум. То, что осталось от его лица, застыло в улыбке, исполненной жуткой иронии – настоящий risus sardonicus.[40] Участки уцелевшей кожи были сплошь покрыты красноватыми рубцами и пятнами.
Коронер заметил, что я прямо-таки остолбенел при виде этих отметин. Он потыкал в холодную плоть острием карандаша.
– Пчелиные укусы, – сказал он. – Варнум, должно быть, наступил на пчелиное гнездо и, преследуемый насекомыми, побеждал к реке.
Тон его, правда, говорил, что он сам своему диагнозу не верит. Я покивал в знак согласия – мнимого, ибо в свое время уже видал подобные поражения кожи. Дело было в Александрии… и они безошибочно свидетельствовали о первой стадии оспы. На следующее утро я закончил все свои дела в Данстебле, не желая оставаться на похороны человека, погибшего столь ужасной смертью практически у меня на глазах. Сидя в поезде, мчавшемся на юг, к Бостону и цивилизации, я перебирал в памяти события на индейском кладбище… отсюда они казались видениями температурного бреда. Однако они были реальны – не менее, во всяком случае, реальны, чем ящик со свитками в багажном вагоне, повествующими о гибели племени и проклятии рода Варнумов. Интересно, кто мне поверит, если я вдруг вздумаю рассказать, что после смерти моего попутчика, собирая на индейском кладбище оставшиеся берестяные грамоты, я увидал на самом дне раскрытой могилы пятно тонкого порошка цвета кости, формой и размером напоминающее лежащего человека – и понял, что три века спустя Паукватог, шаман племени массакватов, наконец, упокоился в мире.
Артур Пендрагон. Адская колыбель
Какие темные тайны привели Лоренса Коллума на грань нервной истерии? Какое невыносимое бремя заставило молить о помощи, подобно страдающему безумцу? Эти и другие вопросы относительно плачевного состояния, в котором пребывал ныне владетель Коллум-хауса, осаждали разум доктора Натана Баттрика, пока он ехал на своей двуколке домой по мосту через Пенаубскет, что на самой окраине Дня Субботнего – городка в северной части Новой Англии. В иных обстоятельствах он бы мирно дремал сейчас на облучке, убаюканный криками козодоев и покоем вечерних сумерек. Но пока тело его отчаянно алкало сна, разум никак не мог обрести покой.
Таинственный недуг, превращавший для Коллума каждый божий день в сущий кошмар, немало озадачивал доктора. Все доступные фармакопее в 1924 году седативные препараты он уже проверил, и все они доказали свое бессилие перед снедавшей душу пациента жгучей тревогой. В отчаянии от бесполезности таблеток и инъекций доктор обратился к народным средствам, о каких узнаешь разве что от древних старух в самых дальних от моря холмах. Но даже настой белены на чае и лепестки амариллиса под язык не принесли страдальцу облегчения. Баттрик испробовал все фольклорные панацеи, которые ранее профессионально презирал – и ничего. Они оказались не более эффективны, чем самые продвинутые снадобья, какие только мог предложить ему в помощь ХХ век.
Когда из сумерек выплыли огни Дня Субботнего, осыпавшие гранитную громаду Галлоугласс-хилл, Баттрик встряхнулся и наскоро перелистал в уме историю болезни. Итак, что мы имеем? Лоренс Коллум, сорок семь лет, церебральная аневризма (размягчение участка мозговой артерии, способное прорваться хоть завтра, хоть через пять лет, хоть, с тем же успехом, и никогда); последний представитель выдающегося рода, пошедшего от Дрейпера Коллума. В 1706 году сей достойный джентльмен возглавил экспедицию на север из Данстебла, обнаружившую на североатлантическом побережье прекрасную защищенную бухту, вокруг которой и суждено было вырасти приморскому городку по имени День Субботний – кстати, стоял прекрасный августовский день, и к тому же действительно суббота.
С тех пор Коллумы всегда оставались у власти, хотя жизнь вели до странности уединенную, и Лоренс из них всех был, пожалуй что, главный отшельник. С тех пор, как умерла его сестра, Эмма, а ему самому диагностировали аневризму, он затворился в своем готическом особняке из серого камня в конце Уиндхэм-роуд. Его рука все еще чувствовалась в городских делах, но ныне от Лоренса остался разве что призрак. Вся его жизнь теперь протекала за гротескными дверями Коллум-хауса, оформленными парой гигантских кашалотовых челюстей – наследие прошлого патриарха, Капитана Хью.
Эти скудные факты да пара любезностей, которыми Баттрик обменялся с Коллумом во время его нечастых визитов в город – вот и все, что он знал о хозяине усадьбы до тех пор, пока на горизонте не замаячила аневризма. Ну, и была еще мрачная сцена в ночь смерти Эммы два года тому назад. При ней присутствовали врач, брат и большая часть домашней прислуги. Баттрику врезались в память последние слова Эммы.
– Лоренс, – проговорила она, вцепившись Лоренсу в руку с такой силой, что даже костяшки побелели, – ты ведь останешься… на посту?
– Я… о, да, дорогая, конечно, – ответил тот, но глаза его приобрели откровенно затравленное выражение.
В следующее мгновение жизнь хрупкой старой девы оборвалась с последним вздохом, и миссия доктора на том благополучно завершилась.
После кончины Эммы Баттрик ничего не слыхал о Коллуме целых полтора года. А потом посреди ночи его разбудил телефонный звонок. Доктор обреченно вылез из кровати, ожидая срочного вызова к одной из трех потенциальных рожениц, но вместо этого услыхал в трубке почти истерический голос, умолявший его сделать хоть что-нибудь – и от потрясения проснулся на месте. Годы медицинской практики несколько притупили его чувствительность к чужой боли, но этот голос был исполнен такой неподдельной муки, что слушающий невольно заражался ею, впадая в какой-то метафизический резонанс. Доктор вскочил в экипаж и помчался через недовольно ворчащую реку, вдоль по Уиндхэм-роуд, освещенной только холодным сиянием перевалившей за третью четверть луны.
После этого дикого марш-броска он обнаружил Коллума в гостиной особняка в состоянии крайнего беспокойства – динамик телефона так и валялся рядом, не донесенный до крюка. Взрослый мужчина скорчился в огромном ветхом кресле, всхлипывая, как перепуганный ребенок, что по контрасту с его шестифутовым ростом выглядело довольно жутко.
Он был закутан в халат, но из-под подола виднелись манжеты брюк, испачканные засохшей грязью.
Баттрик быстро дал пациенту стандартную дозу успокоительного. Никакого эффекта лекарство не возымело. Вторая инъекция сумела успокоить Коллума или хотя бы снять физические симптомы истерии. Но даже когда снадобье подавило дрожь во всем теле, глаза его все равно остались стеклянными от страха. Баттрик так и сяк пытался выспросить о причине столь внезапного расстройства, и каждый раз изможденное лицо Коллума все глубже зарывалось в бархатную обивку кресла.
– Не могу вам сказать… я не должен, – вяло бормотал он под воздействием успокоительного. – Никто никогда не узнает! Я на посту… на посту…
Помимо собственной воли доктор ощутил прилив необъяснимого страха – опять это странное слово… то самое, что в прошлый раз слетело с холодеющих губ Эммы Коллум.
Опиаты наконец-то взяли верх над нервами несчастного. С помощью Амадея, престарелого камердинера родом явно из канадской Акадии, Баттрик переместил безвольное тело на кушетку у камина, оставил флакон таблеток и удалился, пообещав, что непременно навестит больного на следующий день. В город он возвратился, разбитый физически, но изнемогающий от любопытства. Что за происшествие или мания могли бы объяснить такой внезапный коллапс Лоренса? Что за таинственный смысл заключен в этом слове, которое он продолжал бормотать даже в наркотическом ступоре?
За несколько месяцев, последовавших за первым ночным вызовом, доктор не так уж много узнал о делах Коллум-хауса. Он диагностировал Лоренсу аневризму, но пришел к выводу, что крайняя нервозность пациента и потеря веса с этим физическим недугом не связаны ровным счетом никак. Над ним будто довлела какая-то тяжкая ответственность, какое-то невыносимое бремя… возможно, дело было в самом фамильном доме, мрачном разрушающемся особняке, от безвылазного пребывания в котором разум наследника постепенно мутился.
Помимо этого «поста», о котором упоминали и Эмма, и Лоренс, был во всем этом деле и еще один необычный момент. Баттрик обратил внимание, что Коллум старается никогда не подходить к большому гобелену, висящему в гостиной – еще одной реликвии, оставшейся от эпохи Капитана Хью. И тема, и исполнение были до крайности малоприятны – весьма реалистичное изображение ведьмовского шабаша. Нагие тела женщин рдели в сиянии большого костра, освещавшем кроме них еще и окровавленную жертву. После нескольких визитов Баттрик понемногу привык к этой мрачной сцене – но Коллум никогда не подходил к шпалере ближе чем на пять футов. Иногда доктору казалось, что Лоренс как будто прислушивается к ней, словно оттуда и вправду слышен гогот ведовского ковена.
Вскоре Баттрик привык и к тому, что духовный недуг его клиента слабо поддается излечению химическими средствами. Что и говорить, непростая вышла задача – а с таким скрытным и неразговорчивым пациентом и вовсе почти невыполнимая. Так размышлял заслуженный лекарь Дня Субботнего, подъезжая на своей упряжке к ветхому каркасному домишке, в котором принимал страждущих еще его отец. Поставив лошадь в конюшню, он съел ужин и блаженно нырнул в объятия одеял, тихо надеясь, что никакие серьезные недуги и несчастные случаи не потревожат его покой в эту ночь. Последней осознанной мыслью у него в голове была не молитва Творцу, но та загадочная фраза, полная темных, таинственных смыслов – а в устах Эммы еще и предчувствия зла: «Ты ведь останешься на посту?».
На следующий день Баттрик снова шагнул под зубастую китовую арку Коллум-хауса, не уставая дивиться монолитному костяному изгибу этого монумента семейной эксцентричности. Два дня в неделю он пользовал Лоренса Коллума сразу и от аневризмы, и от нервных припадков. За дверью доктора уже поджидал Амадей. Дом стоял холодный и промозглый. В тесной прихожей старый акадец вдруг придвинулся к Баттрику и даже схватил его за локоть на удивление сильной рукой – раньше он себе таких вольностей не позволял.
– M’sieur le docteur,[41] – проскрипел он. – Не удивляйтесь, если хозяин станет вам говорить сегодня что-то странное.
На его морщинистых губах играла улыбка, но холодный взгляд лишал ее всякого дружелюбия.
– Хозяин уже некоторое время как толкует странные вещи – верить им не надо. C’est la maladie – это просто болезнь, ничего более.
Баттрика подобная фамильярность со стороны слуги порядком возмутила. Сколько он ни посещал этот многострадальный дом, Амадей всегда казался ему странным. Тем более что всякий раз, как Коллум предпринимал жалкие попытки поддержать беседу, старик бесстыдно подслушивал у дверей. По какой-то необъяснимой причине присутствие акадца всегда настораживало Баттрика, словно было в старом, сгорбленном камердинере какое-то тайное зло. Мрачной атмосфере Коллум-хауса он, надо признаться, соответствовал как нельзя лучше.
Доктор поспешно высвободился из Амадеевой хватки и ретировался в гостиную. Коллум привычно сидел как можно дальше от гобелена. При виде доктора он поднялся, хотя ноги его почти не держали.
– Это… так мило, что вы пришли, Натан, – с трудом выговорил он.
Даже рискуя в любое мгновение разлететься на тысячи осколков, разум наследника автоматически следовал торными тропами светской любезности, уготованными куда более безмятежным душам.
Баттрик поставил саквояж на обитую узорчатой тканью тахту и окинул пациента быстрым профессиональным взглядом. Ухудшения со времени последнего визита его испугали. Хозяин дома был закутан, как в одеяло, в багряный халат, скроенный на куда более мощную фигуру – так плачевно усохло его тело под гнетом душевного недуга. Глаза, глубоко сидящие в темных ямах, сверкали неестественно ярко. Коллум нервно теребил кисть на конце пояса, и Баттрика потрясло, насколько его рука походила на Эммину накануне смерти – такая же бескровная, с желтоватыми ногтями. Ему уже случалось видеть пациентов со злокачественными опухолями, которые вот так же угасали на глазах. Но плачевное состояние Коллума было результатом какого-то ментального рака, угрожавшего уничтожить сразу и тело, и разум. Хоть ставки делай, что из них откажет первым!
Однако сегодня Лоренс, казалось, сиял какой-то лихорадочной решимостью. Он жестом велел Баттрику закрыть саквояж и нервно откашлялся.
– Боюсь, Натан, я был вам не лучшим пациентом. Все ваши заботы, все ваши усилия пошли прахом.
Он взмахнул оплетенной синими венами рукой.
– Меня ничто не излечит, поймите. Ничто не снимет бремя этой ужасной обязанности, что взвалена на мои плечи…
Он внезапно умолк и словно бы снова прислушался к гобелену, но затем вернулся к начатой мысли и продолжал:
– Все бесполезно, если только я каким-то образом не сумею освободить свой разум от этой службы, уйти с этого тягостного поста…
Он чуть ли не выплюнул это слово, со смесью страха и отвращения.
– Я умру, если не открою кому-нибудь эту тайну, и она тогда уйдет вместе со мной. А если я ее открою – умрет она, и я вместе с ней. Любопытный выходит парадокс, а, Баттрик?
Доктор встал, чтобы дать больному успокоительное, ибо в речи его уже слышались характерные интонации бреда. Тот остановил его, бормоча:
– Не сейчас… только не сейчас… погодите.
Через мгновение лицо его обрело суровую серьезность, голос стал холоднее, но вместе с тем и угрюмей.
– Вы, должно быть, уже заподозрили, Натан, что причина моих страданий весьма необычна. Аневризма, – тут он постучал себя по черепу, – это так, пустяки. Мы, Коллумы, страдали и от более странных болезней. Главная проблема лежит куда глубже, не в этой немощной плоти.
Он, казалось, задумался, но вскоре продолжил:
– Я терпел, пока мог, неся это жуткое бремя куда дольше, чем сам полагал возможным. Я не такой сильный, как Эмма. Выходит, не так уж много во мне от Коллумов. Сестра удивительно походила на нашего отца, Капитана Хью – такая же волевая. Она надежно хранила тайну нашего семейного кошмара – по-другому и не назовешь – пока жила. А я… сломался. Два года, Натан! Два года непрестанного страха – и несколько месяцев совершенного отчаяния!
Баттрика против воли захватил рассказ Лоренса… Внезапно он замер. Какой-то звук… приглушенный крик или стон раздался со стороны таинственного гобелена. Коллум заметил взгляд доктора.
– Погодите, друг мой. Вскоре вы узнаете все. А сейчас, сделайте милость, дослушайте до конца.
Он махнул рукой старому слуге, ошивавшемуся в дверях гостиной.
– Это все, Амадей. Возвращайтесь к своим обязанностям.
Тот нехотя прошаркал куда-то в глубину дома. Когда шаги затихли вдали, Коллум вернулся к своему монологу.
– Настало вам, Натан, время узнать тщательно хранимый секрет этого дома. Я расскажу вам все или хотя бы умру, пытаясь. Разделить с кем-то это невыносимое бремя – вот мой единственный шанс сохранить здравость рассудка.
Его губы дрожали; он изо всех сил пытался сохранять спокойствие.
– Нелегко поделиться таким знаньем, но я должен… должен, несмотря на пророчество, или точно сойду с ума. Потерпите, Натан, я вам расскажу эту историю, как смогу.
Баттрик скованно присел на диван. На мгновение ему захотелось запретить Коллуму рассказывать свои сказки. Зачем ему, Натану Баттрику, знать чужие тайны? Он занимается больным телом, а не рассудком. День Субботний со своими суровыми обитателями, бескрайними лесами с одной стороны и грозной Атлантикой – с другой, и без того был достаточно мрачен – только зловещих секретов Коллум-хауса ему не хватало! Но если Лоренс не обретет облегчения, либо страдания сведут его с ума, либо от напряжения аневризма лопнет. Доктор уселся поудобнее и принял из дрожащей руки пациента бокал темного хереса.
– Натан, – начал Коллум, – вы слыхали когда-нибудь такое имя – Лигейя?
– Лигейя была… если я не ошибаюсь, второй женой вашего батюшки, Капитана Хью, – ответил тот.
– Да, если ее можно так назвать…
Баттрик тут же понял, откуда в Коллуме такая горечь. Когда Лигейя прибыла в День Субботний, он был еще совсем мальчик, но странные слухи о ней, ходившие средь горожан, все равно прочно запечатлелись у него в памяти. После смерти своей первой жены, матери Эммы и Лоренса, Капитан Хью вверил детей заботам кого-то из родственников, а сам отправился в свой последний рейс на пароходе «Огункит» – в балтийский порт Ригу. Возвратившись два года спустя в День Субботний, он привез сундуки торговых трофеев, а с ними и новую хозяйку для Коллум-хауса, черноволосую красавицу Лигейю. Вскоре по городку поползли о женщине самые нелепые слухи. Наверняка не один из них вышел из добродетельных уст местных кумушек, завидовавших ее чужеземным чарам. Ибо Лигейя была прекрасна странной красотой: высокая, с блистающим, как луна, восточным лицом, волнистыми движениями и сильным акцентом. Самой примечательной ее чертой были черные, будто вороново крыло, волосы – чернее ночи в северных лесах. Кто бы там ни распускал слухи, а вскоре весь День Субботний только о ней и говорил. Рассказывали, что с новой зозяйкой в Коллум-хаусе поселились совы и козодои. До тех пор ночные летуны водились лишь далеко за городом, а теперь так и кишели в саду усадьбы, оглашая сумрак хлопаньем крыльев.
Были и такие, кто утверждал, что на Вальпургиеву ночь Лигейю видели нагой в лесу на окраине города. Некая личность, которой не сиделось дома в такой час, рассказывала, как светящееся облако прошло над домами со стороны моря: от него слышались голоса, бормочущие на непонятных языках. Древняя старушка, живущая возле Галлоугласс-хилл, клялась и божилась, что Лигейя проводит дни напролет в компании старых индейских вождей – всего, что осталось от вымершего племени пекуот. Этот почти исчезнувший с лица земли народ, говорят, обладал властью над морем и воздухом.
Более интеллектуальная часть горожан отмахивалась от этих слухов как от нелепых сказок. Однако то, что Лигейя обладает над Капитаном какой-то мистической властью, было ясно всем. Неотесанный шкипер обращался с нею на публике подчеркнуто предупредительно – в отличие от первой жены, с которой был всегда невоспитан и груб. Некоторые даже шептались, что в его отношении к высокой красавице, которую он почтительно вел под руку по навощенным полам фамильного особняка, явно чувствуется страх.
На людях она вела себя безупречно: держалась высокомерно, светские обычаи знала превосходно, дистанцию соблюдала, но говорила с отменной вежливостью. Во время визитов в город выглядела достойной женой богатого землевладельца. Мало кто заметил понимающие взгляды, которые она изредка бросала на самых отверженных из изгоев местного общества.
Через год после ее приезда в День Субботний Лигейя изготовилась стать матерью. Хью Коллум прекратил свои частые поездки в город и затворился с нею в доме в конце Уиндхэм-роуд. Соседи решили, что причина этому – деликатное положение жены. Ни одна душа не понимала, что за прямодушным и грубым фасадом скрывается дух, глубоко раненный неким знанием, которым он не мог поделиться решительно ни с кем. Через несколько дней после родов до Дня докатились слухи, что и мать, и дитя погибли. За роженицей смотрел отец Натана Баттрика. На многочисленные расспросы он отвечал, что сделать ничего было нельзя, но никаких подробностей трагедии так и не раскрыл. Натан помнил, что еще долго после происшествия он был необычно молчалив, словно раздумывал над какой-то неразрешимой задачей. А однажды сказал сыну, что если тот намерен стать врачом, ему придется узнать о Коллумах кое-что важное – когда-нибудь, в будущем.
Город вернулся к своей нормальной жизни. Останки Лигейи кремировали и отправили, согласно ее пожеланию, к ней на родину. Маленький гроб младенца занял свое место в семейном склепе рядом с предками Коллума. Отец так никогда и не открыл Натану тайну – потому что умер от сердечного приступа несколько месяцев спустя. На этом известные Баттрику факты о Лигейе подходили к концу.
– Она ведьма, будь прокляты ее глаза! – вскричал Лоренс, который ближе к концу рассказа совершенно утратил самообладание.
Все долго сдерживаемые эмоции хлынули наружу мощным потоком.
– И эта тварь не мертва, слышите вы меня? Не мертва!
Доктор вскочил на ноги, намереваясь силой удержать Коллума, который уже был готов бежать из комнаты вон. В то же мгновение страшный шум раздался из-за гобелена – визг, в котором не было ничего человеческого, и вслед за ним глухие удары, будто какое-то тело слова и снова билось об стену.
– Оно слышало! Оно все слышало! – закричал Коллум, оборачиваясь к ковру. – Тебе больше не удержать меня! Моя вахта закончена! Закончена!
Последние его слова захлебнулись рыданием, и он простерся без чувств на кушетке.
Зловещие звуки лишь стали еще громче, пока гобелен и сама стена под ним буквально не заходили ходуном. Амадей ворвался в комнату; лицо его сморщилось от гнева. Судя по всему, последнюю сцену он пропустил.
– Слабак! Свинья! – оскалился он. – Он нас всех обрек на смерть, месье, на смерть!
И он кинулся прочь через холл. За топотом последовал скрип тяжелой двери, потом жуткие завывания, треск бычьего кнута и крик боли. Все это закончилось жалкими рыданиями – а потом в Коллум-хаусе воцарилась тишина.
Баттрик стоял на коленях возле наследника, пытаясь всеми средствами привести его в чувство. На мгновение он испугался, что аневризма прикончила его, но вот веки Лоренса затрепетали, и он начал медленно приходить в себя.
– Какое облегчение, Натан, – выдохнул он через некоторое время. – Я больше не пленник в собственном доме. Больше не сторож ужасному наследию, переданному мне Эммой…
– Боже милостивый, Лоренс, – воскликнул Натан. – Что вы там прячете, за этой стеной?
– Я все равно не смогу вам это описать, – отвечал тот. – Подойдите к ковру. Вы сами все увидите.
Баттрик неуверенно сделал несколько шагов к богато изукрашенной ткани. Он даже дыхание задержал в предвкушении того, что должно случиться.
– У вас под рукой шнур. Откройте занавес, – распорядился Коллум.
Доктор нащупал шнур с грузом на конце, закрыл на мгновенье глаза, потом открыл и решительно потянул. Гобелен послушно скользнул вбок вдоль стены. Она оказалась лишенной каких-либо украшений и даже краски. На уровне глаз располагалось небольшое круглое забранное стеклом отверстие. Баттрик заколебался. Он бросил взгляд на Лоренса, который слабо махнул ему с кушетки рукой, и, наконец, приник к глазку. Тихий стон сорвался у него с губ, а рука сама схватилась за горло.
Сквозь глазок открывался вид на куда меньшего размера комнату, скрытую за стеной гостиной. Непосредственно напротив располагалась тяжелая стальная дверь с таким же глазком и прочной решеткой внизу, через которую, будь она открыта, мог бы проползти человек. Перед решеткой валялись обглоданные кости и стояла миска с водой – очевидно, через нее в камеру доставлялась пища. Сероватый свет сочился сквозь ленточные окна под потолком по обе стороны комнаты. Пряди каких-то волокон, черных, коричневых, желтых, усеивали пол. А в дальнем углу скорчился обитатель этой камеры, обликом столь мало похожий на человека, что зрение Баттрика тут же затуманилось, отказываясь видеть нечто настолько противоестественное.
Существо лежало на полу, приподнявшись на руках и тяжело дышало… Живой человеческий торс, если подобный обрубок можно назвать такими словами. Черные, как вороново крыло, волосы свисали колтунами и космами с деформированного черепа. Из-под косматых бровей лихорадочно сверкали яркие глаза. Единственной выдающейся частью лица был рудиментарный нос, ноздри которого так и ходили ходуном, как у принюхивающегося зверя. Губы, сведенные в дьявольскую ухмылку, открывали бледные зубы, больше похожие на клыки хищника.
Тварь была нага, за исключением потрепанной набедренной повязки, намотанной посреди тела. Туловище являло поистине сверхчеловеческую мускулатуру – руки, толстые, как фонарные столбы, наполовину заросшую шерстью бочкообразную грудь. Нижние же конечности были иссохшие и самым жалким образом волочились за верхней частью тела. Это отнюдь не мешало чудовищному созданию с удивительным проворством таскать себя по камере, держа собственный вес исключительно силою рук и скрюченных, будто когти, пальцев. Когда оно заметалось из угла в угол, из глубины его могучей темной груди донеслось зловещее, нечленораздельное бормотание.
– О, боже, боже мой! – прошептал Баттрик, не веря своим глазам.
На своем веку ему случалось видеть людей, искалеченных по воле жестокого случая в лагерях лесорубов, не говоря уже о жутких уродствах у мертворожденных младенцев. Но никогда еще разум его не пытался отказать при виде столь масштабного порока физического развития. Доктор бессильно оперся на стену у глазка, чувствуя, что ноги не желают его держать.
– Что это такое, Лоренс? – слабо спросил он. – Откуда… откуда оно взялось?
– Теперь вы понимаете, какое тяжкое бремя я нес все эти месяцы, Натан? – горько отозвался Коллум. – Эта тварь находится у нас на попечении со дня смерти второй жены моего отца. Это Адское Дитя Лигейи!
Лицезрея реакцию доктора, Коллум сам на глазах изменился. Теперь он куда лучше владел собой, словно возможность разделить тайну с кем-то посторонним и вправду сняла с его души страшное бремя. При виде овладевшего доктором отвращения Коллуму хватило ума снова наполнить бокал из приземистого корабельного графина и предложить Баттрику, который медленно, словно сомнамбула, отошел от гобелена.
– Сядьте, Натан, и успокойтесь, – велел наследник. – Полагаю, у вас появилось много вопросов по поводу нашего… дурного семени.
Когда доктор немного пришел в себя, Коллум подробно рассказал ему о происхождении узника тайной комнаты. На смертном одре Лигейя прокляла дом Коллумов, пообещав, что если они не сохранят тайну ее ребенка до достижения им зрелости, весь их род вымрет. Обязанность заботиться о дьявольском отродье будет передаваться от одного члена семьи к другому. Только смерть может освободить хранителя, ответственного за здоровье и кормление твари, от его службы. Они поймут, сказала Лигейя, когда дитя перестанет нуждаться в защите.
Капитан Хью Коллум всегда презирал суеверия и проклятия. Но тут оккультная сторона бытия сама вторглась под его кров в образе этого невероятного ребенка, с самого младенчества окруженного аурой зла. Капитан знал, что не он породил такое чудовище. Убежденность в том, что Лигейя сожительствовала с духом тьмы, и это дитя есть не что иное как залог дьявольской любви, постепенно росла в нем.
Он не стал крестить ребенка. Изгоя поселили в комнате-сейфе сразу за стеной гостиной – эту камеру хранители стали сардонически называть Колыбелью. С той поры обитателя тюрьмы за гобеленом знали под именем Адского Дитяти.
– Итак, Натан, если верить пророчеству Лигейи, вы разговариваете с мертвецом. Хранитель, выдавший тайну, должен умереть.
– Какой суеверный бред! – вскричал Баттрик, уже оправившийся от первоначального потрясения. – Посмотрите на себя, Лоренс: вы сейчас более расслаблены, чем за все эти последние месяцы. Я пока не в состоянии дать удовлетворительного объяснения тому, что увидел… Как и тому, почему это существо все еще живо, несмотря на такие жуткие пороки развития. Но у всего этого должны быть совершенно естественные причины. Признаюсь, поначалу я испытал сильное потрясение. Тварь действительно ужасна. И, тем не менее, не вижу, чего вам в ней бояться. Наверняка мы сможем договориться, чтобы отныне за этим существом присматривали в специализированном учреждении, чтобы окончательно снять с вас эту малоприятную ответственность. Что до адских детей и отцов – право, Лоренс, такой образ мыслей больше пристал горскому фермеру, чем наследнику рода Коллумов!
– Это потому, что вы не вполне понимаете, какую ужасную опасность представляет это чудовище! – вскричал хозяин дома. – Его необходимо уничтожить, пока оно не натворило еще какого-нибудь зла! Оно только начало, уверяю вас!
Баттрик протянул руку, чтобы успокоить Коллума, который опять начал впадать в ажитацию.
– Какое зло? О чем вы толкуете?
– Помните мой первый ночной звонок вам? Помните, в каком кошмарном я был тогда состоянии?
Доктор кивнул.
– А Рупеля Олдхэма помните?
Баттрик невольно поморщился. Старого охотника на нутрий нашли в луже глубиной в фут на обочине грунтовой дороги через Мохеганское болото. Баттрику тогда пришлось выписывать свидетельство о смерти. Тело было сильно изуродовано, а на лице застыло выражение крайнего ужаса.
– Вы же не хотите сказать, что… – Доктор ткнул пальцем в гобелен.
Коллум кивнул.
– Оно вырвалось на свободу, – беспомощно сказал он. – Мы недооценили его силу, и он высадил деревянную дверь, которую мы потом заменили железной. Мы с Амадеем кинулись в погоню. Было очень темно. Весенние ливни размыли все вокруг в непролазную грязь.
Коллум погрузился в картины кровавого прошлого, и голос его стал сонным.
– Сначала мы с Амадеем не знали, куда податься, где его искать. Стояли вдвоем на дороге, он с кнутом, я с фонарем… Оно могло убежать в любом направлении… А потом мы услыхали, как вопят козодои над болотом в долине, что позади усадьбы. Кошмарные, злобные звуки, Натан! Они кружили там целой стаей, как безумные! Мы кинулись через лес на грунтовую дорогу через топь. Птицы орали все громче, все пронзительнее, пока мы не увидели, наконец, на фоне серого неба то место, над которым они роились. Помню, я ругался, что у меня не хватило ума прихватить пистолет. А потом свет фонаря выхватил из сумрака фигуры на дороге. Ох, Натан! Бедняга Олдхэм наклонился проверить свои силки, и тут оно напало на него, прямо там, в грязи, по колено в стоячей воде! Когда мы подбежали, оно… питалось! Амадей хлестнул его кнутом, и оно отступило. Для Олдхэма уже ничего нельзя было сделать. Выражение его лица было ужасно. Вдвоем мы отволокли тварь назад, в дом и водворили в колыбель. Тогда она была более смиренной, боялась кнута – теперь уже почти не боится.
Коллум умолк и смочил пересохшие губы хересом.
– Ужас этого происшествия настолько выбил меня из колеи, что мне пришлось призвать на помощь вас, а иначе я потерял бы рассудок.
– Нам следовало распознать в этом убийстве безошибочный признак того, что чудовище взрослеет. Но мы решили, что смерть Олдхэма была просто ужасной случайностью. Через месяц умер мой садовник, Арнольд. Не считая Амадея, это был последний из наших слуг. Той ночью монстр снова вырвался на свободу. Меня разбудили крики летающих над домом козодоев… Гроб стоял у нас в гостиной. Тварь добралась до него, перевернула… Когда я вошел, она рвала труп.
Коллум в муках сжал кулаки.
– Вы понимаете, с чем мне пришлось жить, Натан? Вас все еще удивляет, что от нервов у меня ничего не осталось?
Баттрик беспокойно поежился: рассказ Коллума против воли затягивал его в какую-то мрачную бездну. Теперь и ему стало неуютно сидеть всего в нескольких футах от гобелена. Сколько раз он входил в эту ветхую комнату, чтобы принести облегчение больному – и даже не подозревая, что за ужас отделяют от него всего несколько дюймов гипса и досок.
– Тогда мы поняли, – снова заговорил Коллум, – что его мерзостные аппетиты со временем только растут. Мы осознали, что эти дикие события – отнюдь не случайность. Воплощение зла, рожденное второй женой моего отца – не могу и никогда не смогу называть ее даже мачехой – воистину повзрослело. Целую неделю после похорон Арнольда оно кричало. Эти крики я буду слышать до самого своего смертного часа. Страшный, злобный вой, который было слышно даже за стенами дома. Амадей с кнутом больше не могли держать его в повиновении. Я затыкал себе уши ватой, принимал лауданум, напивался до бесчувствия – ничего не помогало. Ничто не могло укротить дьявольское отродье. Именно тогда, уже дойдя до грани, я принял решение… и если человек может быть проклят за что-нибудь – я буду. Я должен был заставить его замолчать, вы понимаете, Натан? Должен!
Баттрик медленно кивнул, не дерзая предположить, какое мрачное откровение ждет его дальше.
– Я приказал Амадею… – и вот, даже сейчас я не могу заставить себя сказать это вслух!
Коллум отчаянно сражался с подступающими эмоциями. Он даже вскочил с кушетки и принялся мерить шагами комнату.
– Помимо того, что он мой единственный слуга и камердинер, – наконец выдавил Лоресн, – Амадей еще и сторож нашего городского кладбища. Понимаете, что я хочу сказать?
– То есть те кости в камере… и пряди на полу – это волосы? – недоверчиво вопросил Баттрик.
– Представляете, сколько вечеров я лежал, простертый в этом самом кресле, слушая звуки кощунственной трапезы этого демона? Представляете, как часто я думал о том, чтобы убить себя – да я бы на что угодно пошел, лишь бы только избавиться от этой чудовищной опеки! Даже Амадей не устоял перед заразой – я думаю, ему нравится ухаживать за тварью и наказывать ее кнутом: так он чувствует свою власть. Старик считает меня слабым и презирает, потому что нервы мои не выдерживают напряжения. Но это бремя, Натан… помоги мне Боже, я – опекун вурдалака!
За этим исполненным страсти признанием последовало долгое молчание. Воздух в комнате сгустился. Баттрик встал и открыл французские двери, выходившие на террасу и дальше – на подъездную дорожку. Небо все еще пылало, и только хор лягушек на Мохеганских болотах возвещал о приближении ночи. Ночные птицы, гнездившиеся вокруг дома, еще не вылетели на свою сумрачную вахту.
– Есть ли опасность, что оно снова вырвется на свободу, Лоренс? – спросил в тишине доктор.
– Железная дверь до сих пор выдерживала все его попытки, – ответил тот. – Иногда оно кидается на дверь по часу кряду. Его ярость ужасна. К счастью, пока дверь и косяк выдерживают.
Он тяжело вздохнул.
– Но одной только железной двери не хватит, чтобы удержать такое могучее зло. Его надо уничтожить, Натан, и поскорее. Я больше не могу защищать город от его аппетитов. А теперь, когда я открыл вам нашу фамильную тайну, я чувствую, что действовать придется быстро, иначе зверь войдет в силу, и уже ничто не сможет его остановить. Оно слышало, как я предал его, и теперь алчет моей смерти.
Это окончательно убедило Баттрика. Цивилизованные добродетели благоразумия и милосердия утратили над ним всякую власть. Собственный сегодняшний опыт и отчаяние хозяина дома пробудили в нем первобытный страх неизвестного. Он согласился принять участие в уничтожении твари и поклялся, что никому ни слова об этом не скажет.
Коллум заверил его, что вполне в состоянии провести еще одну ночь в доме бок о бок с Адским Дитятей, и Баттрик решил вернуться в город. Назавтра он снова приедет в усадьбу, чтобы вместе с хозяином спланировать казнь и погребение чудовища, так как копать могилу все равно лучше при свете дня.
На крыльце, стоя под зубастой китовой аркой, Коллум крепко пожал ему руку.
– Жалко, что отец не сделал этого с самого начала, – сказал он. – Тогда и он, и мы с Эммой могли бы избегнуть этой напасти, что так медленно выпивала наши жизни.
Он пробежал рукой по холодной кости.
– Я знаю, что где бы он сейчас ни был, отец одобряет то, что мы намерены совершить.
Баттрик молча кивнул в знак согласия. Он пожелал хозяину дома доброй ночи и погнал упряжку во тьму. Когда он проезжал ворота, козодои снова затянули свою неумолчную песнь. Их скрежещущие вопли мигом лишили осенний вечер всякого покоя.
Дома доктор долго лежал без сна: живые картины того, что он увидел и услышал сегодня, не давали сомкнуть глаз. Стоило ему смежить веки, как Адская Колыбель тут же вставала перед мысленным взором во всех отвратительных подробностях. Как ни старался, он не мог стереть из памяти яростный лик Дитяти, исполненный такого зла, что, казалось, просто невозможно измучить живую плоть и кости до такой степени, чтобы они обрели такое дьявольское подобие. Еще бы Капитан Хью не отказался считать себя родителем подобного монстра!
А теперь и он, Баттрик, оказался причастен к ужасу Коллумов… Он поклялся уничтожить существо, в котором, несмотря на невротические протесты Лоренса и непонятное отцовство, еще могла тлеть искра человеческого начала. Да, оно злое и инстинктивно склонное к убийству, но достаточно ли этого, спрашивал доктор себя, чтобы предать куда более великую клятву, обязавшую его, Натана Баттрика, использовать свои профессиональные умения только ради сохранения жизни? Положение выглядело безвыходным, и доктор ворочался с боку на бок, не в силах понять, что же ему делать с такими противоречивыми обязательствами.
Три часа он лежал, глядя, как медленно ползет по стене платок лунного света… а потом у кровати зазвонил телефон. В приливе внезапного ясновидения Баттрик понял, что это не какой-нибудь обычный вызов к больному. Он выпрыгнул из кровати и сдернул воронку с крюка. Голос Лоренса Коллума зазвенел у него в ухе:
– Натан, скорее сюда! Мы не в силах его удержать! Оно сейчас вырвется из Колыбели!
На заднем плане раздавался треск дерева и дикий, неистовый вой, какого не услышишь из человеческой глотки. Телефон грохнулся на пол, Баттрик заметался по комнате, сражаясь с одеждой, а потом выскочил в двери и помчался в сарай, не чувствуя укусов первого мороза. Со сверхъестественной скоростью он запряг лошадей и погнал их прочь от теплого стойла – в ледяную тьму дороги, где луна едва пробивалась сквозь сплошной полог нависших ветвей. Через пять минут после звонка упряжка, сверкая выкаченными глазами и закусив удила, промчалась через мост, оставив позади Пенаубскет, и загрохотала по Уиндхэм-роуд.
Доктор всегда старался быть своим кобылам добрым хозяином, но сейчас нещадно нахлестывал их, сопровождая экзекуцию выражениями, в обычных обстоятельствах совершенно чуждыми его устам. Черные купы кленов и дубов проносились мимо, их острые ветви до крови хлестали его по лицу, когда кабриолет проносился слишком уж близко к обочине. Дважды казалось, что все – и экипаж, и лошади, и возница – сейчас полетит в тартарары, таким карьером они шли через повороты, где гранитные утесы оттесняли дорогу то вправо, то влево. Если бы какой-то добропорядочный горожанин оказался в сей глухой час на дороге, он бы перекрестился от ужаса, созерцая, как мимо, повинуясь ударам кнута, летит эта адская колесница. Баттрику казалось, что прошла уже целая вечность, но наконец впереди засверкали огни Коллум-хауса. У каменных столбов, отмечавших границу усадьбы, лошади встали, едва не скинув кучера с облучка. Кнут щелкнул раз, другой, но они решительно отказались двигаться дальше и стояли, дрожа и готовые в любое мгновение вскинуться на дыбы пред лицом ужаса, который их обостренные чувства ощущали даже на таком расстоянии.
Проклиная все на свете, доктор спрыгнул наземь и бросился к дому пешком. Осенние ливни замесили глину подъездной дорожки в непролазную кашу. Несколько раз он спотыкался и едва не подвернул лодыжку. Сквозь собственное натужное дыхание он различил пронзительные тонкие крики: козодои так и вились над крышей, образуя густое облако. Эта туча то взмывала в небо, затмевая даже луну, то самоубийственно обрушивалась к земле, то снова взлетала вверх. Все кругом было наполнено треском и хлопаньем крыльев.
Французские двери, которые он сам открыл, казалось, в какой-то другой жизни, теперь стояли распахнутые настежь. В гостиной горел свет. Чуть не всхлипывая от изнеможения, Баттрик взобрался на террасу и прислонился к дверному косяку.
– Лоренс! – закричал он, едва переводя дух. – Лоренс, где вы?
Неверным взглядом доктор окинул комнату. Оттоманка, на которую он сегодня ставил свой саквояж, лежала опрокинутая, ткань была распорота, набивка лезла наружу. Гобелен на стене висел на одном угле, ниспадая складками на пол. В некрашеной стене под ним зияла дыра, обрамленная острой щепой и ломаной штукатуркой. Судя по всему, узник силой проложил себе дорогу наружу из Колыбели.
Баттрик неуверенно шагнул внутрь, ошеломленный разгромом этой некогда столь элегантной комнаты. Из-за перевернутой софы внезапно раздался стон – или скорее уж вздох, в котором уже не было сил даже выразить боль. Коллум лежал у стены, со всей очевидностью брошенный об нее с нечеловеческой силой, когда чудовище вырвалось из заточения.
– Лоренс! Как вы, друг мой? – вскричал врач.
На лбу хозяина дома алела глубокая рана.
– Найдите Амадея, прошу вас… присмотрите за ним. Он в холле… я боюсь… боюсь, оно его поймало, Натан.
Слугу он нашел на полпути к стальной двери Колыбели. Очевидно, Адское Дитя схватило его за пояс и со всей силы ударило об пол. Рядом с мертвым акадцем валялся пастуший кнут – жалкое оружие супротив такой сверхъестественной силы и злобы.
Доктор поскорее вернулся к Коллуму. Подобное потрясение могло оказаться фатальным для аневризмы, способной прорваться от малейшего напряжения. Однако наследник знаками дал понять, что с ним пока еще все в порядке, не считая раны на лбу.
– Оно вырвалось наружу, – прошептал он. – Ровно перед вашим приходом я слышал, как оно царапалось где-то около портика. Слава богу, оно, по крайней мере, перестало кричать. Я больше не мог выносить эти звуки!
– В доме есть огнестрельное оружие?
– Только вон та антикварная штука, но она дала осечку. – Коллум показал на маленький пистолет, валявшийся посреди комнаты на полу. – Я попытался выпалить по нему, когда оно проломилось через стену, но механизм от старости заржавел. Тварь отшвырнула меня, как куклу, и бросилась за Амадеем – ему так нравилось бить ее кнутом. Но она вернется за мной, Натан. Теперь она совсем взрослая и в охраннике больше не нуждается.
Коллум слабо улыбнулся, на его бледное лицо легла тень тоски.
– Если цена за свободу от этого адского бремени – смерть, я с радостью ее уплачу, – молвил он.
Баттрик замер. Где-то за открытыми в ночь дверями раздалось глубокое, шумное дыхание зверя, а вслед за ним – исторгнутый из дикой глотки короткий рык.
– Надо закрыть и забаррикадировать эти двери, – пробормотал доктор себе под нос, ибо Коллум уже погрузился в подобное трансу забытье.
Он подобрал тяжелую каминную кочергу и осторожно двинулся через холл.
– Если оно накинется на меня, целить нужно в глаза. В глаза…
Двери в дом стояли широко распахнутые. Висевшая над верхушками деревьев луна озаряла ступени, по которым Баттрик непременно взошел бы, не проникни он в дом через террасу. Птичьи вопли стихли. Козодои расселись по дубам и вязам, словно предвкушая кульминацию и развязку. Стоя в тени дверного проема, доктор вперил взор во тьму лужайки, пытаясь разглядеть там хоть что-нибудь. Ни звука, ни шевеления. Он сделал шаг наружу и быстро глянул в одну сторону и в другую. Лунный свет затоплял лужайку и заросшие тропинки сада. Время от времени случайный щебет раздавался с деревьев. Баттрик медленно выдохнул. Видимо, тварь убежала прочь – наверное, на Мохеганские болота, где когда-то изловила свою первую жертву. Наутро ею займется поисковая партия – им эта задача будет куда больше впору, чем пожилому врачу, вооруженному одной лишь кочергой!
Вытирая лоб рукавом, Баттрик шагнул под портик из кашалотовых челюстей. Луна выхватила из тьмы эксцентричное архитектурное украшение во всей его белизне. Доктор погладил рукой гладкую кость, благодарный за ее надежную, холодную прочность. Изогнутые столпы словно вливали в него новую силу. Встав на крыльце и не испытывая ни малейшего желания покидать пятно падавшего изнутри света, он еще раз обозрел местность. Все было тихо. «После восхода мы загоним чудовище в болото, – подумал он. – Там ему от нас не укрыться».
Внезапно деревья по краям лужайки дружно взмахнули ветвями – это козодои снова взмыли в воздух, унося с собой все спокойствие. Доктор поспешно стал подниматься по ступенькам, стремясь укрыться в относительной безопасности дома – и на последней из них заметил угнездившуюся на самом верху арки, где скрещивались кашалотовы кости, темную массу. В тот же миг утробный вопль, от которого затрясся весь портик, накрыл его. Баттрик в ужасе задрал голову. На вершине арки, вцепившись в кости когтями, восседало Адское Дитя! Его длинные спутанные волосы ниспадали каскадом, скрывая место стыковки челюстей. Фантастически развитые мускулы плеч и рук вздулись, когда чудовище изготовилось броситься вниз, на доктора. За долю секунды, ушедшую на то, чтобы снова подобрать брошенную было кочергу, Баттрик успел подумать, что на него давно уже устроили засаду тут, у парадного входа, ожидая, что, получив призыв о помощи, он пройдет именно здесь. Монстр забрался на портик и сидел там, скрытый в тени парапета, чтобы спрыгнуть на жертву, когда она, ни о чем не подозревая, будет входить в дом.
А потом все мысли покинули голову Натана Баттрика, потому что макабрическая фигура взлетела с арки и с воплем кинулась на него.
Кочерга прочертила в воздухе дугу, целя туда, где в этот момент должны были находиться глаза гадины – но поразила лишь пустоту. Потому что когда Баттрик еще только замахивался, длинные, вороново-черные космы запутались в кованом обрамлении свода арки, построенной Капитаном Хью. Инерция падения пронесла Адское Дитя между костяных дуг, но длилось оно не больше секунды, потому что страшный рывок тут же его остановил, и тварь закачалась между колонн, как какая-то гротескная марионетка, подвешенная за собственные волосы.
Доктор не дыша глядел на неистовые конвульсии существа. Оно извивалось и корчилось, пытаясь снова влезть назад, на арку; огромные руки колотили во все стороны; из горла вырывались исполненные неистового гнева вопли; лицо отчаянно гримасничало от боли и ярости; пена хлопьями летела с кривящихся губ. На мгновение показалось, что волосы не выдержат такой вес и оборвутся, но затем глухой треск, похожий на пистолетный выстрел, положил судорогам конец. Шея сломалась, и Адское Дитя повисло безвольным мешком над крыльцом дома, на который оно десятилетиями наводило ужас.
Лишенный всяких сил зрелищем этого невольного самоубийства, Баттрик там же, на крыльце, упал на колени. Долгие минуты просидел он там, дрожа и все еще машинально сжимая рукоять бесполезной уже кочерги. Постепенно дрожь стихла, и, внезапно вспомнив о наследнике, все еще ожидавшем помощи внутри, Баттрик поднялся и, шатаясь, двинулся обратно, в гостиную.
Коллум сидел, прислонившись спиною к стене. Лицо его было пепельно-серым, но глаза засверкали от удивления, когда доктор бухнулся на пол подле него.
– Вы… вы живы, Натан, – прошептал он. – А тварь… она…
Доктор быстро пересказал события, приведшие к гибели Адского Дитяти. Лоренс слушал его с трудом: все говорило о том, что он стремительно погружается в состояние, от которого больше уже не оправится. Последние минуты оказались фатальными для аневризмы.
– Так значит, я свободен! – прошептал Коллум. – Наконец-то свободен от этого страшного бремени. Ах, какое счастье, какое невероятное счастье…
Его голос оборвался последним всхлипом. Баттрик осторожно подсунул ему под голову подушку и пальцами закрыл глаза. Хозяин Коллум-хауса, последний сторож Адского Дитяти, упокоился в мире.
Некоторое время доктор стоял среди руин гостиной, пытаясь понять смысл последних событий. Два трупа лежали в пустом доме. С костяной арки на крыльце свисало тело адского отродья этой несчастной семьи, убитого архитектурной прихотью своего первого опекуна. Череда мрачных происшествий была слишком чудовищна, и разум отказывался ее понимать.
Однако пора было действовать. Движимый некой благородной верностью, пережившей даже кончину последнего из Коллумов, доктор поклялся себе, что никому не откроет ужасной тайны, к которой оказался причастен. Пробравшись сквозь сломанную стену в Колыбель, он ликвидировал все следы пребывания в ней дьявольского узника, потом срезал труп в портике и с трудом заволок его в свой кабриолет.
Шагом проведя артачащихся лошадей по пожарной дороге через Мохеганскую топь, он захоронил останки проклятой жизни, приведшей к краху дом Коллумов, на дальнем берегу болота – и только после этого известил констебля.
Полученные офицером показания не возбудили никакого лишнего любопытства. Ночью Баттрик получил звонок из Коллум-хауса: страдавшему от аневризмы наследнику рода срочно требовалась медицинская помощь. Ближе к концу беседы связь неожиданно оборвалась. Прибыв в усадьбу, доктор обнаружил, что, по всей видимости, в дом проник грабитель – человек недюжинной силы, который убил Амадея и нанес Лоренсу один удар по черепу, увы, достаточного для разрыва аневризмы. Не сумев взломать железную дверь сейфовой комнаты, грабитель проник туда через стену гостиной, но не нашел никаких сокровищ, так как хранилище уже много лет не использовалось по назначению.
Ни один человек в Дне Субботнем – и даже проводивший расследование констебль – не подверг сомнению показания доктора. Натан Баттрик хранил в душе память о той жуткой ночи в Коллум-хаузе, пока смерть не освободила и его от черного этого бремени.
Жители деревни редко говорят о трагедии Коллумов. Поскольку наследников у рода не обнаружилось, дом отошел округу Уиндхэм, а власти снесли его ради строительных материалов. Семейный склеп Коллумов на городском кладбище заперли навсегда. Теперь на замкнутом со всех сторон северным лесом погосте царит мир.
А вот на Мохеганских болотах мира нет – козодои кружат там в сумерках. Они поселились в низине со времени сноса Коллум-хауза, и на закате огромная стая поднимается над стоячими бочагами. Несколько птиц непременно сидят на странном кургане возле бегущей сквозь топи пожарной дороги. Каждый год холм становится будто бы немного больше.
Егерь, первым заметивший любопытное явление природы, считает, что все дело в подземном клубке корней от ивовых деревьев, которыми густо заросли берега. Но уж больно странно кричат там птицы – настойчиво, страстно, будто побуждая что-то в этой куче земли расти. Весьма маловероятно, чтобы кто-то из городских заинтересовался этим феноменом – они от природы не слишком-то любопытны. Что бы ни творилось внутри холма, вряд ли кто-то помешает процессу в свое время благополучно дойти до конца.
Стефан Алетти. Последний труд Петра Апонского
I
Прошлой весной я приехал в Италию, полный надежды быстро и победоносно дописать докторскую диссертацию по культуре Ренессанса. Падуя, Перуджа, Равенна, Флоренция – одни только имена этих городов заставляли меня дрожать от восторга. И это я, я – в самом сердце Возрождения, изумрудного и золотого утра человечества, наставшего, наконец, после долгой, невежественной ночи Средневековья! Меня ждали роскошные холмы, где гулял Петрарка, распевая о Лауре, где Данте грезил о Беатриче. Это здесь Ландини дал свое имя каденции, расцветившей всю добарочную музыку; под этими лазурными тосканскими небесами Леонардо и Микеланджело пытались сотворить из людей ангелов. Однако я охотился за более редкой и скрытной дичью, чем эти видные за версту гиганты. Я искал человека, канувшего в одном из тех темных трагических омутов, которых не лишен даже Ренессанс. Пьетро ди Апоно родился в 1250 году и, что логично, в Апоно – крошечной деревеньке неподалеку от Падуи. Он был человек поистине великий – философ, писатель, поэт, математик и астролог. В типичной манере своего времени он обратил все эти разнообразные навыки на благо медицины: его врачебная слава докатилась даже до великого, скрытого за высокими стенами града Парижа, где Петра Апонского считали ни много ни мало чудотворцем. Вернувшись в Италию человеком знаменитым, он ввязался в идиотскую ссору с соседом из-за права пользования колодцем на его территории. Сосед, судя по всему, был сварливый хам и, в конце концов, запретил Пьетро пользоваться колодцем, после чего тот в несколько дней таинственным образом пересох. По округе поползли слухи, что старый Пьетро – колдун, и что это он из чистой вредности осушил драгоценный источник.
Из этого зернышка вздора произросло целое дерево небылиц и легенд, которое в итоге и рухнуло несчастному философу на голову: им вскорости заинтересовалась инквизиция.
Инквизиторы забрали безобидного старика себе и принялись поджаривать его мясо, дробить кости и всячески менять его физический облик: Пьетро все равно не признавался ни в споспешестве демонов, ни в сожительстве с дьяволом. Увы, тело его оказалось слабее воли, и бедняга умер лютой смертью, хотя и совершенно свободный духом.
Инквизиция обиделась, что им не дали казнить еретика и всего через несколько дней после похорон злосчастного Пьетро группа благочестивых отцов отправилась выкапывать тело и сжигать его на площади при максимальном стечении народа. К их ужасу, выяснилось, что тела в могиле нет – восстало и ушло, как все решили! – и монахи спешно ретировались в Падую, разнося слухи, которые вскоре превратились в легенду.
Нет нужды уточнять, что объяснение всему этому было – и далеко не такое мистическое. Один из друзей и благодетелей Пьетро, некий Джироламо да Падова, эксгумировал труп и перезахоронил его в собственной крипте, дабы спасти дух старого товарища от непотребств, которые намеревалась учинить инквизиция. Из всех ныне живущих об этом знал лишь я, так как мне удалось отыскать коллекцию старых писем и среди них – отправленную Джироламо доверенному другу эпистолу, в которой «воскресение», собственно, и разъяснялось. В нем Джироламо упоминал, что забрал себе все книги Пьетро, кроме одной, которую тот как раз переводил в момент ареста.
Это вполне в обычае маэстро Пьетро, – добавлял он, – вытаскивать все на свет Божий, сколь бы ни было оно мерзостно. Он верил, что свет разума сделает прекрасным и святым что угодно, но говорю тебе, любезный мой Лудовико, сия книга из Парижа воистину от диавола. Проклятый со времен незапамятных, сей пергамент погубил всех, кто к нему прикасался, и последним из них, как видишь, стал наш Пьетро. Он пытался по обыкновению обратить зло к добру и приставить содержавшиеся в нем богохульства к делу помощи и исцеления, но, увы, фантастические кровавые ритуалы и гимны осквернения потрясли даже нашего доброго друга. Он решил, что книга слишком кощунственна и слишком низменна, чтобы ее можно было исправить, и вознамерился уничтожить и ее, и свой неполный пока еще перевод. Но Святая Инквизиция забрала его, прежде чем он успел завершить начатое. К счастью, когда на пороге объявились святые отцы, он успел спрятать то и другое за книгами у себя в шкафу. Я спас их. Перевод ныне погребен вместе с автором в нашем семейном склепе в церкви Сан-Джузеппе, а сам пергамент, недостойный покоиться в святой земле, зарыт за стенами города. Надеюсь, все это не подвергло опасности мою собственную душу.
И вот теперь я, скромный студент, собирался отыскать останки и последний труд легендарного Петра Апонского.
II
Сама книга меня ужасно заинтересовала. Что бы это могло быть? Может, один из ранних латинских переводов «Некрономикона»? Или легендарный перевод жутких «Мнемабических фрагментов», выполненный в свое время Деланкром? Или вообще какой-то доселе неизвестный памятник античной или готической фантазии? Я тут же вообразил свою докторскую в виде аннотированного издания этого совершенно нового, уникального источника – первого, между прочим, за семьсот лет! Как это было бы чудесно!
Род Джироламо пресекся во время великой чумы, заставившей Боккаччо бежать во Флоренцию и произвести там на свет «Декамерон». Следовательно, за склепом в крипте Сан-Джузеппе давно уже никто не присматривал, и сам он имел лишь второстепенную археологическую ценность – а потому мою просьбу пустить студента в церковь на ночь, поизучать древнюю эпиграфику, монахи охотно откликнулись.
Оказавшись, наконец, один – и немало нервничая от компании давно умерших итальянцев – я принялся исследовать руинизированные усыпальницы. Цементная замазка гробов давно раскрошилась, так что дабы совладать с крышками оказалось достаточно элементарного технического мышления, лома и сильной спины.
Родич за родичем являлись познакомиться со мной – Антонелло, Джорджо, Тонио, Лючия… Все, что осталось от них – заплесневелые черепа и произвольный набор костей в красиво украшенных мраморных саркофагах; останки уже утратили целостность, а вместе с нею и всякое подобие человеческому телу. Просто куча костей и горка бархата или шелка, изъеденного червем в мелкие лоскутья. Рад добавить, что по непонятной причине мне даже в голову не пришло, что я оскверняю могилы. Ученым свойственно с головой уходить в работу – именно это и случилось со мной. Я человек не особенно храбрый, даже на кладбище в полночь без сопровождающих бы не пошел, но той страшной ночью в церкви был совершенно один – главным образом потому, что не желал ни с кем делиться своими гипотетическими открытиями. Мародерствовал себе тихонько в крипте, рылся в старых костях и тряпках, и голова моя была занята исключительно наукой, хотя и в довольно эгоистическом ключе.
Был, наверное, тот самый темный час перед рассветом, когда я вскрыл могилу рядом с Джироламо. В ней возлежало на удивление превосходно сохранившееся тело, но жутко переломанное и искалеченное, с остатками льняных бинтов на руках и ногах. Череп располагался под странным углом к позвоночнику, а безгубый рот с частично выбитыми зубами был широко раззявлен, так что даже сейчас, семьсот лет спустя, казалось, что его обладатель воет от боли. Все мои силы разом куда-то улетучились. Предо мной, несомненно, был Пьетро ди Апоно, весь в свидетельствах милосердия инквизиции. Затхлый и гнилостный запах давно запечатанной могилы ударил мне в ноздри да так, что желудок скрутило, и я принялся хватать ртом воздух. Я вскочил, кинулся к лестнице наверх и одолел ее в два прыжка.
Казалось, церковь теперь заполняли миллионы шуршащих и шепчущих, незримых глазу тварей, которых мое взбесившееся воображение с готовностью наделило обликом. Я почти видел тени всех мужчин, женщин и даже детей, когда-либо вступавших под эти своды. Насмерть перепуганный, я упал на колени и прежде чем совсем лишиться чувств, почти узрел шествующую ко мне через темный неф процессию сгнившего духовенства, ухмыляющуюся и размахивающую кадильницами, которые источали багровый дым и благоухали тою же жуткой вонью, что хлынула из-под крышки последнего пристанища Петра Апонского. Я рухнул на скамью, и последнее, что я помню, был вырезанный на ее боку крест – он принес мне облегчение. Рассвет уже начал затоплять церковь своим призрачным серебром, когда я очнулся. Обширная храмина стояла пустая.
III
Все еще купаясь в поту, я кое-как встал, проковылял ко входу в крипту и спустился по ступенькам – каждая предоставила мне уникальную возможность поупражнять силу воли, всю, сколько ее у меня осталось. В склепе я очутился перед выбором: закрыть крышку гроба и оставить работу историкам похрабрее, или все-таки обыскать его как следует на предмет свитка. К своему вековечному проклятию, я препоясал чресла и выбрал второй путь.
Поднеся лампу поближе к трупу, я решил хорошенько его разглядеть. С ночи он не изменился ни на йоту. Уверившись в этом, я испытал огромное облегчение: видимо, ничто, кроме собственных лихорадочных фантазий, не гонялось за мной несколько часов назад вверх по лестнице и вдоль по нефу. Жалость к бедняге Пьетро преисполнила меня. Охваченный сантиментами, я не сразу заметил невыцветшую, все еще яркую алую ленточку возле раздавленной правой руки тела.
Сердце у меня так и екнуло: ленточка обвивала пергаментный свиток. Я поспешно схватил его и с большим усилием – оказалось, что с ночи я успел значительно ослабеть – вдвинул крышку на место. Быстро собрав инструменты и свет, я кинулся вон из церкви.
Даже несвежий запах, въевшийся в руки и рубашку, оказался бессилен перед несравненным ароматом итальянского утра в начале лета. Все вокруг так и сияло чистым золотом во славе своей, и к тому времени как я добрался до своего временного пристанища, ночные ужасы положительно благорастворились, и меня охватила блаженная истома. Спал я крепко и без снов и пробудился в вечерних сумерках.
К наступлению ночи я был уже совершенно бодр и снова несколько нервозен. Одевшись, я взял в руки свиток. Он оказался почти в фут шириной и довольно толстый: судя по всему, Пьетро успел-таки углубиться в перевод, прежде чем злая судьба настигла его.
Я развернул пергамент, отметив, что после всех этих веков он остался на диво пластичным и прочным. Настоящее сокровище! Источник содержал не только перевод как таковой: пометки на полях на просторечном итальянском вполне тянули на редакторский комментарий. Не знаю, на каком языке изначально был оригинал, но переводили его явно на латынь. Название четко выделялось вверху страницы – «Gloriae Cruoris» (на английском, грубо говоря, «Слава крови» или «Слава кровопролитию»). Автора звали Серпенсис – не то настоящее имя, не то латинизация, кто его разберет. Начальные ремарки Пьетро оказались весьма продуманны и осторожны; можно себе представить терзания ученого, пытающегося извлечь что-то ценное из откровенного богохульства.
Давайте проанализируем, – писал он, – свойства крови в том порядке, в котором приводит их ученый Серпенсис. Прежде всего, кровь есть сок жизни, подобно тому как тело – ее сосуд.
Далее он выдвигал тезис, что кровь есть первичная жизненная сила, что без нее человек умирает, а с нею – и неважно, с чьей! – способен продлить свою жизнь дальше всех нормальных пределов. В заключение Серпенсис утверждал, что после всех необходимых осквернений оператор обретает нечувствительность к запаху и прикосновению к мертвецам, а с нею и способность общаться с ними, высвобождать их души и брать их к себе на службу. Сила человеческая измеряется количеством душ, которыми он повелевает, и количество это можно значительно увеличить, осуществляя одновременно два таинства: убийства и пития крови.
Я был вне себя от отвращения, как, должно быть, и Пьетро за много веков до меня. «Глория» оказалась работой вампира и некрофила, в стародавние времена, не то античные, не то средневековые, терроризировавшего всю округу и, по всей видимости, возглавлявшего некий чудовищный и грязный культ. Такое и вправду нелегко было превратить в приличное и достойное научное исследование, на котором можно защитить докторскую.
И все же я продолжал читать. Я слишком много поставил на эту книгу, чтобы вот так отворачиваться от нее в приступе ужаса, как в свое время сделал мой предшественник. Проглядывая изобилующий кровавыми подробностями текст, я сражался скорее с отвращением и тошнотой, чем со страхом. Поля манускрипта были испещрены комментариями Пьетро о том, как он сопротивлялся злым чарам, которые, как он чувствовал, начинают оказывать на него тлетворное влияние. Дабы рассеять сгущавшуюся атмосферу зла, он применял разнообразные песнопения и не менее действенные заклинания белой магии. Я, конечно, ничего подобного не делал. Я просто планомерно продирался сквозь чащу средневековой латыни и итальянского, нисходя, так сказать, духовно в бездны бесчеловечности и деградации, какие раньше и вообразить себе не мог. Серпенсис был воистину великий вурдалак, рядом с которым бесславный злодей Жиль де Ре показался бы изнеженным слабаком.
Нескоро я добрался до конца свитка. В последнем разделе содержалось, надо полагать, первое из целой серии заклинаний, применяемых для того, чтобы всем своим существом предаться демонам, ведающим вампирической стороной жизни. И тут по собственной дурости я решил самолично произвести обряд. Нарисовав мелом на полу пентаграмму, я зажег две свечи и принялся читать вслух из манускрипта. Это оказалось весьма волнительно – воспроизводить звуки, которых никто веками не слышал. И вот в этом настроении актера, вдыхающего новую жизнь в шедевр древней драматургии, я и ощутил первые слабоуловимые изменения в окружающей обстановке.
Вокруг свечей сгустилась тьма, так что света вдруг стало хватать дюймов на шесть или около того, а остальная комната – то есть почти вся – погрузилась в полнейший мрак. Только что книжные шкафы и стены еще смутно виднелись, и вот они уже совершенно пропали, растворились, как будто их и не было, и ближайшая ко мне свеча озаряла теперь рукопись, мою руку – и больше ничего. И с этой расползающейся тьмою пришел запах: устрашающая амальгама выгребной ямы и могилы, до жути похожая на вонь в церковной крипте, которую я за двадцать четыре часа еще не успел как следует забыть. На этом этапе я уже ничего так не желал, как бросить все, ибо понял, что и вправду умудрился пересечь тонкую черту между реальным и нереальным, между естественным и сверхъестественным. И я уже был невероятно, до крайности испуган! Увы, при этом я понимал, что больше не могу похвастаться полным контролем за происходящим – при всем желании остановиться я не мог и, проклиная себя, продолжал свои демонические инкантации.
Налетел порыв гнилого ветра, и комната озарилась багрово-алым светом, залившим вдруг ее всю безо всякого видимого источника. Прямо рядом со мной, в пределах пентаграммы, начала образовываться некая форма. Она будто бы собиралась из фрагментов, как киносъемка чего-то взрывающегося, прокрученная на проекторе задом наперед. Буквально на расстоянии вытянутой руки от меня она на глазах принимала до ужаса человекообразный облик. Я говорю, человекообразный, потому что ее параметры были приблизительно человеческие – но все равно недостаточно, чтобы ее можно было принять за что-то другое, не за то, что она есть. А была она кощунственным видением из самых адских глубин, из темнейших уголков человеческой души. Ее трепещущее алое лицо было обращено ко мне, и я, глядя прямо в него, странным образом видел не просто красный, сочащийся влагой, лишенный всяких определенных черт студень, но необозримые просторы лесов, рек и гор – некий изначальный пейзаж, напомнивший мне равнины Галлии в те времена, когда Париж был еще просто безымянным островом; Галлии, которой предстояло прождать целые эоны, пока где-то по соседству не родится способный завоевать ее Цезарь.
Ужас был уже слишком силен, чтобы я мог оставаться в сознании. Я взвизгнул и уронил манускрипт в клубящиеся волны тьмы. Алое растаяло в черном, и я успел увидеть, как тварь тянется ко мне. Дальше я просто отключился, и последнее, что я помню, это окружающий меня слегка светящийся сырой туман, сам по себе неосязаемый, но несущий в себе прочную костяную структуру, которую я уже явственно ощущал у себя вокруг талии.
Не думаю, что оставался без чувств больше нескольких минут. Придя в себя, я даже с закрытыми глазами мог сказать, что в комнате все еще темно. Слишком напуганный, чтобы пошевелиться или даже поднять веки, я остался валяться в том же положении, в которое упал… пока мою квартиру не залил долгожданный солнечный свет.
IV
На сей раз заря не принесла с собой ни радости жизни, ни сил, чтобы возобновить раскопки в церкви. Я кое-как встал и обыскал комнату, дабы убедиться, что она пуста. Пуста-то она была, но в ней царил жуткий разгром. Вихрь раскидал абсолютно все – бумаги, книги, домашнюю утварь, даже тарелки. Все валялось где попало, рваное и сломанное. Признаться, я отчаянно надеялся, что смогу поутру списать все ночные события на чрезмерно разыгравшееся воображение. Увы, нет, это был отнюдь не сон.
Прежде чем спрятать чудовищный труд Пьетро ди Апоно, я прочел последний его комментарий к ритуалу, который почти что довел до конца.
Эта тварь слишком сильна для меня! Я не в состоянии сопротивляться ее магии – у нее под началом все адские легионы, все ее слуги, как человеческой, так и нечеловеческой природы. Несмотря на все мое знание алхимии и магии, я едва избегнул последнего ритуала, так что дух мой все еще принадлежит Богу и мне. Я не стану больше продолжать эту работу и рисковать душой и вечным спасением. Избави тебя Боже, читатель, от знания, содержащегося в этой проклятой книге. Если только ты сам не сильнее меня, даже не пытайся сделать то, что тут описано. И уж конечно не ищи книгу во всей полноте, как она есть. Во имя Господа я прослежу, чтобы мой список «Gloriae Cruoris» был уничтожен…
На этом манифест обрывался, прямо посреди предложения. Тут Пьетро, надо полагать, помчался прятать пергамент и манускрипт, ибо судьба его в лице инквизиции уже стучалась в двери. А я, дурак, только что попробовал материализовать это святотатство, не обладая ни малейшими знаниями о магии, хоть белой, хоть черной.
V
Прошло около недели с той ужасающей ночи. Я больше не работал – и не спал. Стоит мне закрыть глаза, как на все мои чувства тут же обрушивается лавина багряных освежеванных трупов и вездесущей крови – озер, фонтанов крови! Я совершенно утратил аппетит, но одна только мысль о крови наполняет меня ощущением, слишком похожим на голод… Когда мне случается пройти мимо лавки мясника, увидеть сквозь приоткрытую дверь разнообразных животных, висящих головой вниз, со вскрытым, истекающим кровью горлом… мое собственное горло распухает, а рассудок начинает мутиться от предвкушения. Мне приходится брать себя в руки, чтобы не ворваться в магазин и не учинить что-нибудь ужасное и отвратительное. Что бы ни заполучило мою душу, она все еще до некоторой степени моя: я все еще чувствую, думаю, нормально функционирую… но с каждым днем теряю цельность, а жажда крови время от времени становится такой всепоглощающей, что напрочь изгоняет все другие чувства и мысли. Я даже о помощи попросить не могу, потому что нет на свете больше людей, сведущих в белой магии и магическом целительстве. Любой нормальный врач тут же спишет все происходящее на какой-нибудь залихватский психоз и засунет меня в приют для умалишенных.
Слава богу, души и разума у меня еще осталось довольно, чтобы сжечь последний труд Петра Апонского. Очень надеюсь, что место, где Джироламо выбрал похоронить пергамент с оригиналом, навеки останется тайной.
Хотя я нечаянно и совершил первое из требуемых по букве ритуала осквернений и вступил по недомыслию в неподобающее сообщение с духами мертвых, судя по всему, изобилующими в церкви Сан-Джузеппе, первый обряд я все-таки не завершил. Единственная моя надежда теперь – умереть, пока добро во мне еще в состоянии одолеть неотвратимо растущее злое влияние, разъедающее мой разум и плоть, подобно проказе. Я утратил все, чем был, и все, чем мог бы стать; но воля к добру пока еще сильнее воли ко злу, и потому я постараюсь спасти свою душу – пока еще в силах сделать это.
Тех, кому случится это прочитать, я прошу молиться за меня и никогда, никогда не любопытствовать по поводу всяких нездоровых вещей. Цивилизованный человек давно потерял все знания и умения, необходимые, чтобы сражаться с этим злом. Если какой-нибудь неразумный дурак вроде вашего покорного слуги найдет полный список «Gloriae Cruoris», послушайте меня, последнего, кого эта проклятая книга уничтожила… надеюсь, последнего… – не экспериментируйте с нею, даже не читайте ее! Сожгите ее, иначе помоги вам Бог – вам и всему человеческому роду!
Пойду, приму яд и выйду еще один, последний раз под дивное итальянское солнце – погляжу на эти прекрасные тополя… я буду так по ним скучать!
Стефан Алетти. Око Хора
I
Вот эта рукопись, я привожу ее здесь в первоначальном виде, в каком получил от Джорджа Уоррена, египтолога-любителя из Нью-Йорка, тем невероятно знойным июньским днем. Меня зовут Майкл Киртон. Я занимаюсь импортом красителей, а в город Вади Хадальфа приезжал по делам бизнеса – это последняя остановка перед тем, как поезд отправляется через ужасную Нубийскую пустыню в Абу Хамед. Уоррен только что возвратился из экспедиции в локацию, расположенную неподалеку от Акаши, небольшого городка в семидесяти пяти милях от Вади Хадальфы. У него был шок пополам с лихорадкой, куча синяков и порезов. За оставшуюся ему неделю он успел напечатать нижеследующий отчет и передать мне копию на хранение. Очень хорошо, что он это сделал, потому что оригинал с его смертью канул неизвестно куда. Я этого человека едва знал, так что не стану делать никаких комментариев относительно состояния его душевного здоровья непосредственно перед кончиной. Что бы там ни случилось в Нубийской пустыне – это было ужасно, ибо физическое его состояние приходится оценить как «хуже некуда». При всем при этом разум его, как мне показалось, оставался совершенно ясен. В любом случае предоставлю читателю делать на основании прочитанного свои собственные выводы.
М.К.«Восстал я, восстал, как могучий [златой] сокол, что выходит из яйца своего; лечу и парю я, подобно соколу, чья спина четырех локтей в ширину, а крылья – как халцедон из южных земель».
Так начинается глава о том, как превратиться в Золотого Сокола из египетской Книги Мертвых.
«Подай мне, боже (это говорится Осирису), чтобы меня устрашились, дозволь мне стать ужасом смертным».
Эти слова – которые я впервые прочел, когда был еще мальчишкой – ныне обрели новое и совершенно кошмарное измерение, уходящее в глубь времен и затрагивающее самый архаический человеческий страх – страх смерти и произрастающую из него потребность души в богах. Человек все еще умирает, а боги его живут и живут бесконечно – теперь я это знаю. Когда-нибудь мы узрим Исиду и Осириса, Птаха, Анубиса, Иштар, Шамаша и даже Зевса с Юпитером. Ибо они ждут.
Не знаю, откуда начать свой рассказ… но на тот случай если он окажется единственным источником по всем этим событиям, начну с самого начала.
А для этого довольно будет сказать, что я прибыл в Каир пять лет назад – египтолог-любитель, которому волей судьбы или удачи, повезло к тридцати годам обзавестись преогромной суммой денег.
Деньги же мгновенно дали мне шанс прибиться к экспедиции в нижнюю Нубию, организованной Каирским музеем. Мне тут же стало ясно, что единственная причина моего в ней участия – тот незамысловатый факт, что я финансировал все предприятие. Мне дозволялось присутствовать – но только в качестве наблюдателя. Хотя я быстро заделался другом Мустафы, бригадира землекопов, весь остальной штат обращался со мной с холодной любезностью, а попытки лезть в их профессиональные дела встречал откровенным презрением.
Тем не менее, я участвовал в экспедициях три археологических сезона кряду, хотя моя роль в открытии ряда захоронений додинастического периода и Древнего царства ни в каких анналах не зафиксирована. В конце концов, роль молчаливого привидения с кошельком мне порядком надоела, я отозвал финансирование и отправился в Нубию самостоятельно, в сопровождении Мустафы, который, по мнению музейщиков, был уже староват для полевой работы.
Вот так мы и оказались в Асуане. Там я обнаружил, что моя слава (то есть репутация человека с большим мешком денег) воистину бежит впереди колесницы, и очень скоро познакомился с Уильямом Кирком и Андрию Калатисом. Кирк был британский египтолог, уже очень старый и почти всегда нетрезвый. Среди своих папирусов он обнаружил несколько счетов на поставку зерна жрецам храма Сокологлавого Хора, а в одном – даже подробнейшие указания, где этот храм находится. К моему изумлению, он располагался неподалеку от города, чьи руины благополучно дошли до наших дней – в десяти милях от Акаши, что в свою очередь рукой подать от Асуана.
Калатис, молодой авантюрист родом из Греции, предложил составить мне компанию в экспедиции (финансируемой, разумеется, мною) по поиску этого храма. Тщательно проверив академическую репутацию Кирка и поглядев на его папирус (он был, бесспорно, подлинный), я решил, что почему бы и не попробовать. Успех принесет мне всемирную славу и признание в научных кругах. Калатису я не слишком доверял, но о себе-то позаботиться в любом случае мог, да и Мустафа со своими землекопами всегда будет под рукой. Никаких особых неприятностей от грека я не ждал – по крайней мере, пока мы не найдем чего-нибудь по-настоящему ценного, такого, что лучше украсть, чем отдать египетскому правительству.
Первый сезон мы потратили частью на разведку местности, частью на копание длинных рядов траншей в выбранной локации. Кирк был уже слишком стар, чтобы выезжать в поле, зато Калатис, к вящему моему удивлению, оказался превосходным компаньоном и хорошим работником – несмотря на то, что не нашел никаких сокровищ и тут же страшно по этому поводу расстроился.
Второй сезон продвигался примерно в том же духе, пока однажды утром в самом начале месяца Мустафа не ворвался к нам в палатку с объявлением, что он, кажется, нашел начало лестничного пролета. Не прошло и пары часов, как мы уже откопали семь каменных ступеней и маленькую, узкую дверь.
II
Печать была не нарушена! Мы с Калатисом в изумлении уставились друг на друга. Невскрытое захоронение означало для меня беспрецедентную археологическую находку, а для него – возможное богатство, о котором он так давно мечтал.
Я схватил долото и там же, в полдневной нубийской жаре, несколькими ударами разбил печать, остававшуюся в благословенной неприкосновенности с того самого мгновения, как ее сюда поставили – тысячи лет тому назад!
Каково же было наше удивление, когда, проникнув в таившуюся за дверью затхлую тьму, мы обнаружили только пустую камеру менее пяти футов в длину и около трех в ширину. Правда, в конце комнаты виднелась еще одна узкая каменная лестница. Носильщики и землекопы, разумеется, оказались слишком суеверны, чтобы входить с нами, и, оставив Мустафу присматривать за ними (потому что на сей раз опытных музейных копателей мы с собой не взяли), мы с Калатисом волей-неволей полезли вниз вдвоем. Оба слегка нервничали – что поделать, любители; обоих занимала мысль, в каком состоянии мы найдем могилу после стольких лет забвения. Кроме того, раз уж она оказалась нетронута, в ней нас до сих пор могла поджидать какая-нибудь хитрая ловушка, предназначенная специально для гробокопателей. Мы осторожно и медленно двинулись вниз по лестнице, светя фонарями вперед. Воздух был жутко горячий и насыщенный пылью, так что нам даже пришлось закрыть рот носовым платком, а то бы у нас прямо там, на месте, сработал рвотный рефлекс.
Вот так неспешно мы достигли дна лестницы – всего за каких-нибудь пятнадцать минут. Жара стояла настолько удушающая, что нам пришлось лечь на пол и перевести дух, постоянно вытирая лоб, потому что с нас буквально ручьем текло.
Теперь мы были в просторной камере; вдоль стен громоздились ящики, поднимаясь от пола футов на семь, а то и больше. Заметив это, Калатис тут же отправился их изучать. Я велел ему быть поосторожнее, так как ящики запросто могли развалиться от одного прикосновения… однако осмотр принес невиданный результат: все они оказались не из позолоченного дерева, как я предполагал, а из чистого золота! Там было, наверное, сто большущих ящиков, сплошь золото с инкрустацией из ляпис-лазури и коралла, необычайно изысканной по исполнению. Калатис сгреб ящик с верха одной пирамиды и с большим трудом спустил его на пол. Мы склонились над ним, и пока я искал печать или защелку, он в своей торопливости просто отбил крышку долотом. Я чуть не вызверился на него, потому что в археологии нечего делать тем, кто готов сломать артефакт, лишь бы сэкономить пару секунд.
В ящике обнаружилось изображение Хора, бога-сокола, сына Исиды и Осириса, Мстителя, изумительно тонкой работы. Оно насчитывало фута полтора в длину, а в самой широкой части – по плечам – дюймов семь в ширину. Изящество, текучесть линий и, если позволите, несколько упадочный стиль относили датировку к позднему периоду египетской истории – даже, возможно, ко времени римской оккупации. Фигура была полая и, видимо, предназначалась для мумифицированного тельца сокола, священной птицы Хора.
Калатис стоял ошеломленный невероятными богатствами, открывшимися нашему взору; в товарно-денежном отношении это была величайшая археологическая находка в истории. Он принялся скакать кругом, плясать и распевать на греческом что-то там про свою добрую удачу. По какой-то непонятной причине его ужимки порядком меня напугали. У меня до сих пор не было никаких доказательств, что это именно усыпальница… с тем же успехом комната могла оказаться складом или сокровищницей крупного храма. И все же я безотчетно ощущал присутствие чего-то очень древнего… невообразимо диковинного… совсем близко от нас. И оно наблюдало.
Тут луч моего фонарика выхватил из тьмы какое-то движение: что-то шевелилось на вершине ближайшей пирамиды из ящиков. Я крикнул Калатису, который мгновенно протрезвел, взял себя в руки и сам посветил фонарем туда же, наверх. Сначала мы не увидели ничего, потом приблизились на пару шагов и над краем ящика различили какой-то силуэт и две уставившиеся на нас красные точки. Это была птица – не нетопырь! – да, птица, и, судя по очертаниям, преогромная!
Когда мы подошли футов на пять, тварь снялась оттуда и с жуткими воплями принялась биться о стены и ящики, как обычно поступают пернатые, попавшие в замкнутое пространство. Наконец она, хлопая крыльями, уселась на верхушку другой кучи ящиков и злобно воззрилась оттуда на нас.
К этому времени нервы у меня были настолько на взводе, что я бы с готовностью кинулся обратно, вверх по лестнице, на свежий воздух. Мы были с ног до головы покрыты пылью, грязью и штукатуркой, поднятыми в воздух безумными метаньями птицы. На самом деле опытный археолог давно бы уже вылез наверх – собирать оборудование, протягивать провода для электрического освещения, готовить кисти и тряпки для очистки древних артефактов. Ох, как бы дорого я дал, чтобы поступить тогда именно так!
Но, несмотря на мои протесты, Калатис пожелал осмотреть всю комнату, прежде чем возвращаться. На самом деле она представляла собой, скорее, длинный коридор, так как простиралась вперед футов на пятьдесят, очевидно сужаясь к окончанию. Там в толще камня виднелся небольшой проем. Оставив позади тускло сияющие сокровища, мы прошли в третью камеру. Она снова оказалась длинная и узкая, и в дальнем ее конце луч фонаря выхватил из тьмы стоящую фигуру человека с соколиной головой. Было в ней что-то такое, что мгновенно приковывало взгляд… Нет ничего необычного в статуях, стоящих в святилищах или усыпальницах, но эту камеру буквально заполняло ощущение какого-то живого присутствия – и источником его была статуя! Не знаю, почувствовал ли что-то подобное Калатис – и если да, то с его стороны подойти к изваянию было актом необычайного мужества. Лично я полагаю, что он и не подозревал об ауре ужаса, царившей в этом месте. Возможно, дело в том, что мой разум был привычен к египетской образности, а его – нет… короче, он ничего не почувствовал.
Так это или нет, а грек подошел прямо к скульптуре, и его фонарь высветил каждую деталь. Это и вправду было изображение Хора, божественного сына Исиды и Осириса, отмстителя за убийство отца, чье небесное око озаряет мир днем и дарует покой ночью. Он был показан во весь рост, в характерной египетской идущей позе, с одной ногой впереди другой. Руки были сжаты в кулаки, а большие круглые глаза под огромной двойной короной Верхнего и Нижнего Египта – закрыты. На тот момент у меня еще не было никаких прямых свидетельств, что мои страхи не беспочвенны, но тут, к моему невыразимому ужасу, статуя рывком открыла глаза и уставилась на Калатиса! Я завопил, ибо во мраке подземелья птичий взгляд полыхнул такой алой злобой, что стало ясно – нам никогда не вынести сокровища отсюда на свет божий! Калатис встал как вкопанный, потом выхватил пистолет и навел его на божество. Казалось, прошли часы, пока эти двое стояли напротив и пожирали друг друга глазами. А потом статуя Хора начала медленно двигаться. Вековая пыль посыпалась с нее серо-белыми облаками. Несколько мгновений Калатис стоял, не в силах пошевелиться, а затем выстрелил. Первая пуля звонко брякнула о тело, но не произвела никакого эффекта – только взметнула громадную тучу пыли. Затем очень быстро Калатис расстрелял весь барабан – за каждым залпом следовал стук и еще одно облако пыли.
К этому времени создание было от нас уже ярдах в пяти. Ни я, ни Калатис не могли сдвинуться с места: мы стояли совершенно парализованные. Затем внезапным прыжком сокол прянул к нам и схватил Калатиса. Тот так закричал, что буквально выбил меня из ступора – я снова обрел способность передвигать ноги. Я сам вытащил пистолет и, обойдя монстра сбоку, хорошенько прицелился и выпустил пулю прямиком ему в висок. Снова облако пыли – и на сей раз несколько перьев! Тварь ослабила хватку, но Калатис был уже либо мертв, либо без чувств, так как он мешком свалился на пол. Сокол же, уронив жертву, обернулся и уставил на меня гневный взор. Я мгновенно взял ноги в руки и кинулся прочь по длинному коридору, уставленному ящиками с сокровищами.
Самое ужасное, что теперь меня преследовали птицы – коридор был полон ими, огромными птицами с пылающими глазами и острыми клювами, которые впивались мне в одежду и в плоть. Все это были соколы. Несмотря на их внезапный натиск, я сумел прорваться через коридор и вверх по предательски узкой лестнице. Меня всегда поражала способность человеческого организма справляться со, скажем так, необычными и опасными обстоятельствами. Мой оглушенный ужасом разум практически спал, и в его отсутствие тело само приняло на себя командование и потащило меня вперед. К счастью, лестница оказалась действительно слишком узка – много птиц вместе со мной в пролет не поместилось. Теперь они уже представляли меньшую угрозу для жизни, да и я был так разбит болью и страхом, что почти не чувствовал их когтей. Время от времени я спотыкался и падал на четвереньки – ступеньки были неодинаковой высоты – и тогда удары клювов живо поднимали меня снова на ноги и гнали вперед.
Понятия не имею, сколько времени у меня ушло на подъем – даже угадать не берусь.
Оказавшись в преддверии, я рухнул наземь и, поскольку камера была очень мала, прополз остаток пути. Солнце уже садилось, свет тускнел. Почувствовав под собой вместо камня песок, я понял, что сил у меня совсем не осталось – никаких. Я ожидал, что тут-то меня и заклюют до смерти, но соколы вылетели из склепа и, вместо того, чтобы прикончить жертву, почему-то расселись на карнизе над входом. Там они и сидели, глазея на меня, но нападать больше не пытались.
Землекопы так перепугались, что удержать их не смогло бы ничто – они в суматохе бежали прочь; со мною остался один Мустафа. Он-то как раз кинулся ко мне, а не от меня – еще бы, мой внешний вид встревожил бы кого угодно. Когда мне потом, позже дали зеркало, я с ним охотно согласился: вся моя физиономия представляла собой пейзаж из синяков, ссадин и длинных рваных ран от соколиных клювов. Чудо еще, что они не добрались до глаз. Остальное тело тоже было в ужасном состоянии, а от одежды после этого побоища мало что осталось. Я слег, и если бы не постоянная забота Мустафы, наверняка отдал бы концы еще по дороге назад. Приплыв по Нилу в Вади Хадальфу, мы уже без труда добрались на поезде до нашей асуанской базы.
Не прошло еще и двух недель с того страшного дня, но даже спустя столь короткое время воспоминания об этом фантастическом происшествии начинают бледнеть – таково свойство человеческой психики. Мустафа-то мне верит, но он просто суеверный старый бедуин, воспитанный на страшных местных сказках. Кирк и еще несколько временно находящихся в Египте джентльменов полагают, что я либо лгу, либо брежу. У меня нет никакого способа доказать свою правоту – кроме как отправиться туда снова, а этого я делать не намерен, учитывая, что Калатис мертв, а сам я все еще не совсем здоров.
Я телеграфировал своему агенту в Нью-Йорк, чтобы держал фонды наготове. Уже сегодня вечером я буду в поезде на Каир, а там меня ждет музей (куда вообще-то надо был отправиться в первую очередь). Я постараюсь убедить их в том, что говорю правду, и вообще в важности моего открытия. В Книге Мертвых указаны способы умиротворения Великого Сокола при помощи заклинаний: со сверхъестественным можно бороться только сверхъестественными же методами! И когда Хор успокоится, мою находку можно будет каталогизировать и опубликовать, а мое имя займет по праву причитающееся ему место во главе списка выдающихся египтологов.
На тот случай, если со мной что-нибудь произойдет… – я печатаю это под копирку и передам экземпляр одному из живущих здесь бизнесменов, Майклу Киртону, потому что он во всем этом деле – лицо наименее заинтересованное и вряд ли станет выдумывать на этот счет какие-то собственные теории.
Джордж Уоррен
Эта копия подписана лично Джорджем Уорреном. Очень хорошо, что он успел передать мне рукопись, так как на поезд он вечером не сел. Оригинал отчета так никто и не увидел.
Примерно в час отхода поезда тело Джорджа Уоррена было обнаружено у него в комнате. Причину смерти установить не смогли: он просто лежал у себя на кровати лицом вниз, сцепив, что само по себе достаточно любопытно, обе руки на шее под затылком. В комнате царил жуткий беспорядок. Вся она была буквально усыпана перьями.
Майкл КиртонСтефан Алетти. Комната в подвале
Я пишу эти строки в попытке пролить хоть какой-то свет на недавнюю серию ужасных убийств, всколыхнувших Лондон. Никаких реальных улик у меня нет – ничего, кроме знания, что по городу свободно бродит опасная тварь, с привычками которой я невольно и помимо всякого своего желания оказался знаком. На текущий момент было совершено семь убийств. Четыре жертвы – женщины, две из них пожилого возраста, две – совсем молоденькие; из остальных троих один – некий бизнесмен не вполне определенного рода занятий, другой – лавочник, третий – офицер полиции, явившийся на крики одной из жертв. Все преступления случились ранним вечером или ночью и в особо темных местах, таких как оканчивающиеся тупиком закоулки, узкие проходы между домами, внутренние дворы и т. д. И все – неподалеку от номера двенадцать по Кэннингтон-лейн, что в Челси.
Никаких сексуальных обертонов в преступлениях не наблюдалось. До единого источника их можно проследить разве что по причине особого зверства. В каждом случае жертву буквально разорвали на куски, хотя отсутствие следов от зубов позволяет предположить, что убийца – все-таки человек. Скажем так, гуманоид. И нет, это не какой-нибудь там безумец, рыщущий в ночи по улицам и жаждущий воплотить свои сексуальные фантазии, подобно прославленному Потрошителю из предыдущего поколения. Я уверен, что это существо – представитель вида, находящегося за пределами человеческого бытия и понимания. Полиция не станет меня слушать – после двойного убийства сэра Гарольда Волвертона и его камердинера они бы вообще предпочли забыть о моем существовании. Если бы то дело получило заслуженное освещение в прессе, достаточное количество восприимчивых людей пришло бы к тем же самым выводам, с которыми я намерен вас ознакомить, но ввиду высокого положения жертвы и богатства ее наследников, а также недавнего окончания бурской войны, журналисты полностью его проигнорировали.
Нет, я-то обрел некоторую славу. Я ни в коем случае не был самым известным или влиятельным в Англии исследователем психических феноменов – или, как сейчас говорят, «охотником за призраками» – но вообще-то проделал в свое время недурную работу для Общества Психических Исследований, колледжа Психических Наук и Мэрилебонского Спиритического Общества. Я опубликовал несколько монографий, написал книгу по спиритуализму, выпустил несколько брошюр, где описывал свои приключения в разных так называемых «домах с привидениями». Сэр Гарольд Волвертон некогда состоял президентом Королевского Колледжа – в те времена он был самым респектабельным из джентльменов, занимавшихся этой не столь уж респектабельной наукой. Его работы считались самыми здравомыслящими и академически корректными из всех, что вообще выходили из спиритуалистской среды. Скажем прямо, тогда сэр Гарольд единственный из всего нашего братства обладал достаточно приличной репутацией, чтобы появляться на публике, не боясь слишком узких лбов, к несчастью, поставляемых в комплекте с чересчур большими ртами.
Где-то в 1885 году в Лондоне произошла чрезвычайно таинственная трагедия. Сэр Гарольд, тогда едва-едва произведенный в рыцари, собирался жениться на юной леди из хорошей семьи, по имени Джессика Тернер – да, приходившейся родственницей тому самому художнику. Она погибла при весьма загадочных обстоятельствах, после чего сэр Гарольд распустил свое Спиритуалистическое Общество Челси и совершенно отошел от светской жизни. То был бурный период в истории империи, происшествие вскоре было вытеснено другими, более интересными новостями, и со временем о нем совершенно забыли.
Однако на прошлой неделе я неожиданно получил от сэра Гарольда письмо с приглашением явиться к нему в дом на Кэннингтон-лейн. Времени на ответ я тратить не стал и вскоре уже сидел в экипаже, пробиравшемся через извилистые улочки Челси.
Сказать, что я был потрясен видом сэра Гарольда – это не сказать ничего. Всем знакомы его фотографии в расцвете сил: широкая грудь, грива рыжих волос спадает на уши и чуть ниже сливается с пышными усами; в зубах непременно массивная сигара, которой он величаво дымит – чем не квинтэссенция британского джентльмена! Я, конечно, понимал, что эти снимки сделаны двадцать лет назад, но никак не ожидал, что время обойдется с моделью так безжалостно. Лицо у него было совершенно голое, а на голове виднелся венчик легких, клочковатых, совершенно седых волос. Он сидел в кресле-каталке, с закутанными в плед ногами. Толстые руки, некогда такие сильные, паралитически дрожали; глаза – в юности и в зрелые годы самая повелительная его черта – были пусты и влажны. В год трагической смерти невесты ему стукнуло сорок – теперь никак не могло быть больше чем, под шестьдесят. Выглядел он, однако, на все восемьдесят.
– Я решил, – молвил он, следя, как лакей выходит из комнаты и закрывает за собой раздвижные двери, – опубликовать мои дневники за 1884 и 1885 годы. Они заканчиваются той ночью, когда умерла моя невеста, Джессика. Вы поможете мне все организовать?
– Разумеется, сэр Гарольд, – ответил я. – Но наверняка есть люди, которые сделают это для вас более профессионально, поскольку лучше меня знакомы с данной областью. Я сам вообще-то работаю через литературного агента.
– Я выбрал именно вас, – прервал меня он, – и тому есть несколько причин.
Он с усилием подъехал к книжному шкафу, нетерпеливым жестом велев не беспокоиться, когда я вскочил, чтобы предложить ему помощь. Взяв с полки два красиво переплетенных тома, он покатил обратно к столу и бросил их на сукно. Поднялось огромное облако пыли – возраст фолиантов был явно солиден.
– Во-первых, – продолжил он, – вы, предположительно, ученый. И будучи ученым, должны проследить, чтобы их опубликовали именно как отчеты о научных экспериментах. Их ни в коем случае не должны считать романом или еще какой художественной литературой. Это серьезная книга, и восприниматься она должна серьезно. Во-вторых, я считаю вас джентльменом. Как в любом дневнике, здесь есть аллюзии на определенные вопросы частного характера, которые при издании нужно полностью убрать. Могу я вам доверить эту задачу?
– Да, вне всякого сомнения, – сказал я. – Но почему, позвольте спросить, вы так долго откладывали публикацию дневников, если они содержат столь важную научную информацию?
Некоторое время сэр Гарольд молчал.
– Вы забываетесь, – сказал он наконец, когда тишина уже стала невыносимой. – Вы, молодые, считаете все, что делаете, таким новым и волнующим, а между тем мы, в Обществе Челси, проделывали все то же самое еще пятнадцать лет назад. И мы тоже мнили себя учеными! И, подобно вам, играли с вещами, управиться с которыми были совершенно не готовы. Очень скоро вы повторите наши ошибки!
– Ошибки?! – запротестовал я. – Давайте не будем валить все в одну кучу! Мы стоим на пороге великих открытий! Еще немного, и мы наведем мосты между миром живых и миром мертвых! Мы проникнем за завесу!
Я слышал, как от волнения невольно повышаю голос.
– И будьте уверены, сэр Гарольд, мы пользуемся самыми современными научными методами и принимаем все меры предосторожности!
– Вздор! – закричал он с яростью, какой я не ожидал в таком хрупком на вид старике. – Не надо мне рассказывать о ваших «научных методах»! Если вы едете открывать полюс, вы берете с собой шубу и бутылку бренди. Вот это научно! Если едете рыться в египетских песках – берете веер и бутылку джина. Это да – научно! А вы, сударь – какие меры предосторожности вы можете принять против того, что незримо и неизвестно? Вы хоть понимаете, какие невероятные силы, какое неукрощенное зло можете призвать чисто по случайности? Какие меры вы примете против этого, а, сэр? Что вы возьмете с собой? Дождевик? Пистолет? Или, может, распятие? Поверьте мне, сэр, если и есть на свете бог, он преспокойно дождется, пока вы умрете, и лишь затем явится на сцену! Дьявол не так вежлив, он ждать не станет!
За время этой тирады я встал, потому что никому не дозволено говорить со мной в таком тоне. Тут вам не какой-нибудь XIX век!
Когда я брал трость, он заговорил снова.
– Пожалуйста, сядьте, сэр. Я сожалею, что так раскричался.
Он снова обратился в слабого, безвредного старичка. Какая поразительная физическая перемена!
– Очень хорошо. – Я возвратился в кресло с видом оскорбленного достоинства. – Но вам придется все мне объяснить, прежде чем мы продолжим. Я уверен в наших экспериментах: они доказали, что тьма по ту сторону могилы не несет для нас ничего страшного, кроме наших же собственных предрассудков и физических ограничений. От медиумов я узнал, что духи мира иного дружелюбны, они хотят помогать нам, наставлять нас, чтобы мы не боялись смерти, но воспринимали ее лишь как снятие завесы, затенявшей глаза наши при жизни земной.
Я сел, довольный своей разумной речью, и элегантно поместил трость между колен. Уже смеркалось – стояла середина зимы – и вместе с надвигающейся темнотой пришел и весьма осязаемый холод.
– Очень хорошо, – сказал в свою очередь сэр Гарольд.
Он подкатил к бару с напитками и достал два бокала для хереса. Плеснув в каждый довольно весомую порцию янтарной жидкости, он протянул мне бо́льшую. Я взял и принялся потягивать вино, соблюдая «молчание знатока» – уважительную паузу, которую джентльмен обязан выдержать, прежде чем прокомментировать качество напитка.
– Превосходный херес, – сказал я.
Стихотворные цитаты все куда-то разом улетучились из головы, да и по правде сказать, мне не терпелось услышать историю сэра Гарольда.
– Да, – отозвался он, рассеянно уставясь на стакан. – Он довольно старый.
Несколько мгновений он крутил посудину в руке, любуясь игрой света.
– В декабре 1884 года, – начал он тихо, – было образовано Спиритуалистическое Общество Челси. Оно состояло из Джессики, моей невесты; Томаса Уолтерса, романиста; доктора Эдмунда Воэна из Королевского Хирургического Колледжа и, собственно, меня. Для начала мы просто выследили всех местных спиритуалистов и пригласили их ко мне. В подвальной комнате я выставил стол и пять стульев. Медиумы, отличавшиеся самыми поразительными феноменами у себя дома, оказались совершенно неинтересными вдали от своих веревочек, подъемных блоков и тайных ящиков – никаких вам призраков, духов или бесплотных звуков. Впрочем, кое-кто из так называемых спиритуалистов и вправду обладал некоторой… восприимчивостью, назовем это так. Они что-то такое почувствовали в подвале, и, что забавно, большинство описало это в одних и тех же словах: они ощутили зло – какую-то темную враждебную сущность, которая обитала или, лучше будет сказать, пребывала в подземелье.
Поначалу мы ничего не почувствовали – ну, тьма и тьма. Но когда мы продолжили эти сеансы, большинство – Уолтер составил единственное исключение – стало ощущать физическую подавленность, которую не удавалось списать просто на страх темноты или, если уж на то пошло, на суггестию.
Как-то раз, незадолго до того, как мы потеряли Джессику, мы с Воэном практиковали автоматическое письмо. Лампа внезапно погасла. Ветра никакого не было, дверь – из тяжелого дуба, заперта на засов, так что вариант сквозняка полностью исключается. Уже после мы проверили лампу – она была на три четверти полна, фитиль в абсолютном порядке. Итак, свет погас, и мы оказались в полной темноте, к которой глаз привыкает не сразу. На меня немедленно навалилось ощущение всепоглощающей черноты – не тьмы, а, я настаиваю, черноты и даже, что еще хуже, ненависти. Что-то в комнате излучало чудовищную активную ненависть, направленную, возможно, на меня или на Воэна, или на нас обоих, но на самом деле на весь человеческий род – на живых вообще.
Я был ошеломлен, почти задушен этой злобой, к которой теперь добавился и растущий внутри панический ужас. Я попробовал шевельнуться, обнаружил, что это совершенно невозможно, и, стараясь звучать как можно нормальнее, попросил Воэна зажечь лампу. Он прошептал, чтобы не сказать – едва выдохнул, что не в состоянии этого сделать. Именно тогда мы и поняли, что находимся в жуткой опасности – хотя что конкретно нам угрожает, даже не подозревали. Так мы там и просидели всю ночь – съежившись бок о бок и дрожа от страха и от холода. Когда свет зари начал сочиться сквозь окна подвальной комнаты, к нам вернулись силы двигаться. Когда солнце начало согревать город, мы, наконец, вырвались из подземелья, с красными глазами и в состоянии крайней паники.
Мы с Воэном на негнущихся ногах проследовали наверх, он принял от меня стакан бренди и тут же, не откладывая в долгий ящик, покинул ряды Общества. Видимо, как раз тогда я впервые осознал, что обладаю неким медиумическим даром – а, возможно, и Воэн тоже.
Несмотря на пережитый ужас, я продолжил работу – и собственную, и Общества. Мы занимались исследованиями, проводили сеансы и все такое прочее; надо сказать, с некоторым успехом, но никогда ничего подобного той ночи больше не повторялось. А потом я провел свой последний сеанс.
Мы решили устроить его как раз перед Рождеством. Ночь выдалась морозная… я как сейчас помню, что от сосулек, свисавших с козырька перед подвальным окном, на стол и пол падали неравномерные полосатые тени, как будто мы сидели в тюремной камере. Час был поздний – половина двенадцатого или даже полночь. Стояла мертвая тишина, нарушаемая только стуком лошадиных копыт на улице да перезвоном санных колокольцев.
За столом нас в ту ночь сидело пятеро: Джессика, на которой я собирался жениться сразу после Нового года; Уолтерс и двое наших новых членов: один студент, из Кембриджа, кажется, по фамилии Уилсон, приехавший домой на каникулы, а другой ученый, некто Тайс. Вроде бы, он занимался гидравликой. Непосредственно перед сеансом мы все подняли бокалы за Новый год, так как дальше собирались расстаться на несколько недель. Думаю, это были последние счастливые мгновенья в моей жизни. Я так хорошо помню Джессику… она сидела за столом ровно напротив меня. Ее белокурые волосы были уложены высоким узлом, а на шее поблескивало топазовое ожерелье-стойка – мой рождественский подарок. Она была такая красивая…
Сэр Гарольд помолчал, созерцая то, что осталось ныне в далеком прошлом.
– А потом молодой Уилсон задул свечи, и мы приступили к работе.
Почти тотчас же воздух в комнате сгустился, словно она стала меньше и теснее. У меня закружилась голова, я подумал, что, наверное, выпил многовато хереса за наступающий год. Однако я тут же понял, что это не алкогольная дурнота, так как чувства мои были обострены до предела. Я дал голове откинуться на спинку стула; лоб мой начала покрывать обильная испарина. Через несколько минут я услыхал несколько ахов и открыл глаза. К моему неописуемому ужасу, я увидал, что частично свечусь из-за какой-то фосфоресцентной субстанции, которой, кажется, измазано у меня все лицо. Первая мысль была, конечно, поскорее ее стереть, но тут я снова понял, что не могу пошевелиться. Я просто сидел там, парализованный, а субстанция – надо полагать, эктоплазма – так и капала с меня, вытекая, как мне потом сказали, у меня изо рта. На ощупь она была как бы липкая, и я с каждой секундой терял силы.
В комнате между тем становилось светлее – по мере того как усиливалось сияние этого инфернального вещества. Вскоре оно уже плавало в воздухе и, кажется, начинало медленно принимать какую-то форму. Поначалу она была совсем неопределенная – просто некая округлая масса, но потом стала… – как бы это описать? – лепиться в воздухе, светлые участки – к светлым, темные к темным, образуя лицо – большое, круглое лицо. Оно плавало перед нами, кажется, несколько минут (хотя на самом деле, возможно, не дольше пары секунд), пока не сделалось совершенно отчетливым. Оно было безволосое, с огромными закрытыми глазами, и походило на труп, выставленный для прощания – такое бледное и безмятежное. Было, впрочем, в самой его структуре нечто… мягко говоря, нечеловеческое. Нос был плоский с широкими ноздрями, а губы – если они вообще у него имелись – обнажали огромные неровные зубы, весьма неприятные на вид.
Пока мы таращились, как оно плавает над нами, студенистая белая субстанция принялась образовывать что-то вроде тела – длинного, тощего, но каким-то непонятным образом намекающего на огромную силу. А потом веки начали медленно подниматься, открывая – помоги мне, Боже! – громадные зеленые глаза, лишенные зрачков, злые и страшные. Мы не знали, видят ли они что-нибудь и даже вообще смотрят ли на нас, но мне (и, как я потом узнал, всем нам) показалось, что мы определенно привлекли внимание этой сущности. Затем ужасный рот внезапно отворился, и комнату заполнил могучий шепчущий звук, подобный грохоту дальнего водопада. Звук рос и становился все громче, пока не сделался прямо-таки оглушающим. Именно на этом этапе я и потерял сознание.
В чувство меня привел Тайс. Я лежал на ступеньках подвала, одежда моя была изорвана в клочья. Тайс был весь в крови и синяках, а Уолтерс убежал за доктором. Джессика и юный Уилсон погибли. Уже потом, в больнице, Уолтерс рассказал мне, что тварь начала двигаться, сначала довольно неуклюже, враскачку, затем с проворством и, наконец, с невиданной скоростью. Сначала она просто металась по комнате – Тайс сказал, искала выход – потом, по мере того, как рев нарастал, вокруг нее начал завиваться могучий вихрь, сшибавший со стола пепельницы и задувший лампу. К этому времени все уже повскакали со своих мест и пытались по мере сил выбраться из комнаты, хотя Тайс сказал, что Джессика пыталась пробиться сквозь этот водоворот ко мне. Последнее, что помнили Тайс и Уолтерс, это как чудовище, наконец, на них кинулось. Им как-то удалось открыть дверь и вырваться наружу – хотя потом они с беспримерной храбростью несколько раз возвращались, чтобы вытащить оставшихся. Оба согласились в том, что, вытащив меня, они так и не смогли найти молодого Уилсона, а Джессика… Джессика в помощи уже не нуждалась.
Уилсона-то потом нашли. Он лежал, раздавленный мраморным столом, который буквально пролетел через всю комнату и приземлился ногами кверху в противоположном углу. Джессику покалечили так, что ее нельзя было узнать. Я отпросился из госпиталя, чтобы прийти к ней на похороны, и после службы заставил гробовщика открыть запечатанный гроб, чтобы в последний раз взглянуть на мою прекрасную возлюбленную. За все прошедшие годы не было ни одного мгновения, когда бы я не пожалел о своей настойчивости. Она была разбита в кашу – сплошные кровоподтеки и рваные раны. То, что некогда было лицом, вообще утратило всякое человекоподобие. Зрелище это настолько меня потрясло, что я упал в обморок, и меня снова забрали в больницу, на сей раз на несколько месяцев.
Старик одним глотком прикончил свой напиток и уставил потухший взор в пол.
– Спиритуалистическое Общество Челси было, разумеется, распущено, а подвальная комната заперта. Я так никогда полностью и не оправился. Какая-то часть меня… моя жизненная сила была высосана досуха. Насколько я понимаю, она может до сих пор пребывать там, в подвале, запертая и ожидающая освобождения.
Сэр Гарольд откинулся у себя в кресле, изможденный необходимостью вновь погрузиться в столь ужасные воспоминания и, тем более, поделиться ими – скорее всего, впервые с тех самых пор – с другим человеком. Я неловко поерзал у себя в кресле. За окнами сгустилась тьма, и в комнате было довольно холодно.
– Мой дорогой сэр Гарольд, – пробормотал я, пытаясь утешить старого джентльмена. – Это поистине ужасная история.
Я не то чтобы полностью в нее поверил, но в искренности рассказчика сомневаться не приходилось. Я верил, что он верил в свои слова.
– Возможно, по большей части все это представляло собой… некое субъективное явление, – осторожно начал я. – Скорее, что-то вроде галлюцинации, чем буквальное физическое событие?
Сэр Гарольд рывком выпрямился у себя в кресле и обжег меня свирепым взглядом, так не вязавшимся с его внешней слабостью.
– Так вы изволите сомневаться в моем рассказе?!
– Что вы, конечно, нет! – поспешил сдать на попятный я. – Но вы же и сами признаете, что провели большую часть событий без сознания. Возможно, Тайс или Уолтерс…
– Тайс и Уолтерс были джентльменами, – властно прервал меня он. – И в их свидетельствах я не сомневаюсь ни секунды. Они поклялись в собственной правдивости на предварительном следствии. Тайс на настоящий момент уже умер, а Уолтерс лет десять тому назад уехал в Южную Америку, и связь с ним прервалась.
Он с вызовом посмотрел мне прямо в глаза.
– Таких доказательств вам довольно?
Я откашлялся.
– Видите ли, я должен быть совершенно уверен, что материал, который я намереваюсь представить публике, соответствует истине. Полагаю, что человек вашей репутации должен быть настроен так же. Давайте взглянем на дело с точки зрения права: вся приведенная вами информация – не более, чем слухи. Без Уолтерса или Тайса, способных подтвердить ваш рассказ, критики как внутри спиритуалистских кругов, так и вне их просто-напросто подымут вас на смех.
Я замолчал, опасаясь, что зашел слишком далеко. Но старик все же умел держать себя в руках.
– И каких же вы хотите доказательств спустя такое долгое время? – осведомился он.
– Сеанс, – коротко ответил я. – Мы должны доказать всему миру, что в подвале действительно обитает некая демоническая сила. Пустите туда меня и группу специалистов из Мэрилебонского Спиритуалистческого Общества. Мы проведем сеанс под строгим контролем, и результаты либо подтвердят, либо опровергнут…
– Нет. Никаких групп, – твердо сказал он. – Вы хотите доказательств – я вам это устрою. Нам никто не нужен, кроме нас двоих. Я не хочу повторения той бойни. Двух смертей за сеанс более чем достаточно.
– Но, сэр Гарольд, я вовсе не имел в виду, что проводить его нужно вам! – запротестовал я, пораженный, что старик может захотеть снова прожить те ужасные события. – Подумайте о вашем возрасте и состоянии здоровья!
Ни то, ни другое значения не имеет, – отрезал он. – Кроме того, я – проводник этой сущности. Думаю, ей для полной материализации необходим именно я. Она забрала половину меня в прошлый раз – теперь сумеет получить и остальное, или пусть возвращает то, чего я лишился по ее милости. В том и другом случае я почту себя удовлетворенным.
Не знаю, почему я согласился. По большей части из любопытства, но, признаюсь, что мысль о скандальной славе, пусть это и не делает мне чести, показалась довольно возбуждающей. Я и в самом деле верил, что на сеансе ничего или почти ничего не случится, зато ужасный невроз сэра Уолтера, с которым он жил все эти годы, пройдет, когда он поймет, что все это была игра его воображения или мистификация Тайса и Уолтерса. О гибели Джессики и студента я как-то позабыл.
В общем, мы решили провести сеанс той же ночью.
Сэр Гарольд зажег лампу и сделал мне знак везти его к лестнице. Медленно и с большим трудом (потому что спускать человека в кресле-коляске по ступеням – дело отнюдь не простое) мы двинулись вниз. Лампа бросала пляшущие тени на обшитые панелями красного дерева стены. Вековое безмолвие дома разлеталось вдребезги от грохота больших, сделанных из твердой резины, колес неуклюжего кресла.
Наконец мы добрались до подвальной двери. Первая часть истории Волвертона, очевидно, была правдой. Тут давно уже никого не бывало: бросив взгляд назад, я ясно различил в густой пыли собственные следы и длинные змеистые полосы, оставленные креслом. Взяв у сэра Гарольда лампу, я посветил на дверь: она была закрыта на засов и забита крест-накрест большими досками на манер входа в готовое к сносу здание. Дерево двери расселось там, где в него вошли гвозди, так что отодрать доски и отодвинуть засов в итоге оказалось совсем нетрудно.
Оказавшись в подвале, я подкатил сэра Гарольда к дальнему концу стола. Воистину это был огромный и тяжелый стол. И он, и вся комната были укрыты толстым слоем пыли. Кроме ее залежей помещение в остальном выглядело совершенно нормальным… да еще вот стулья валялись под окнами перевернутые. Ни слова не говоря, сэр Гарольд поставил лампу на стол и откинулся на спинку кресла, тем самым давая мне знак начинать сеанс.
Я устроился как можно удобнее, стерев предварительно пыль носовым платком с сиденья и подлокотников моего кресла. Сев, я еще раз спросил Волвертона, точно ли он намерен продолжать.
– Со всей определенностью, – холодно отвечал он.
Я задул лампу. В воцарившейся тьме поначалу было ровным счетом ничего не видно, но уже через несколько мгновений я начал различать напротив, на том конце стола, согбенную фигуру. Голова сэра Гарольда откинулась, опираясь шеей на плетеную спинку кресла. Рот медленно открылся, являя полный комплект не очень ровных и запятнанных табаком зубов. Глаза его оставались открыты, но выглядели настолько незрячими, что меня даже холод пробрал. Я сидел, глядя на него минут, наверное, сорок пять – а потом заметил, что его дыхание, кажется, остановилось. Признаться, я испугался за жизнь старого джентльмена: вдруг от ужасных воспоминаний – таких для него реальных – с ним приключился сердечный приступ! А потом в этом подвальном сумраке он вдруг принялся источать смутное желтоватое сияние. Я оглянулся на забранные матовым стеклом окна – свет исходил не от них. Всепоглощающий ужас начал охватывать меня. На своем веку я принимал участие в бесчисленных сеансах с самыми прославленными медиумами мира, но ни разу не испытывал ни малейшего страха. А сейчас с меня градом катил пот, и я никак не мог отвести взгляд от странной фигуры напротив.
И вот, глядя на нее, я заметил, как в ноздрях и углах рта постепенно собирается некая молочно-белая, вязкая, слизистая субстанция. Захваченный этим зрелищем, я молча наблюдал, как она бесшумно течет из носа и рта вниз по подбородку. Она тихо светилась собственным, равномерно пульсирующим светом, похожим на то, как если бы вы смотрели на очень далекий фонарь под водой. Также я обратил внимание, что эктоплазма вместо того, чтобы освещать комнату, лишь делала ее еще темнее. Еще совсем недавно отдельные предметы – и прежде всего сломанные стулья под окном – были видны достаточно четко, и вот уже в темноте выделялись только голова и плечи сэра Гарольда, его шея и манишка рубашки да несколько дюймов стола вокруг.
Теперь я уже горько жалел, что затеял все это. На свету, да еще со стаканом шерри в руках, истории о громадных зеленых монстрах выглядят такими очаровательно-нелепыми, но когда свет гаснет, их забавность тает на глазах. Мне не раз случалось видеть, как сеанс срывается, стоит только выключить свет – но я профессионал и к таким вещам должен быть привычен. Однако мне еще никогда, никогда не доводилось ощущать присутствия такого зла – и напряжения, оттого, что грядет нечто ужасное. Наверное, солдат в окопе, с минуты на минуту ждущий начала бомбардировки, чувствует нечто подобное.
Теперь тьма давила на меня вполне осязаемо, как мокрое одеяло, от которого замороженные холодной ночью окна стали сочиться влагой. Видно по-прежнему было одного только сэра Гарольда. Его открытые глаза явно ничего не различали. Казалось, он впал в беспамятство, но руки его на коленях яростно сжимались и разжимались. Он без сомнения бодрствовал, но был почти вне себя от ужаса, заново переживая ту ночь, унесшую несколько жизней и заставившую его навсегда удалиться от общества.
Между тем вязкая субстанция, текущая из его носа и рта, стала скапливаться в пространстве между нами, образуя массивный сгусток. Прямо у меня на глазах он стал обретать шарообразную форму – в страхе и отвращении я глядел на это, отчаянно надеясь, что в итоге получится не голова, и когда убедился, что именно к этому-то все и идет, заметался, стараясь стряхнуть оцепенение, приковывавшее меня к стулу. Теперь я понимал, что история сэра Гарольда была чистой правдой, и что мне нужно сделать все возможное, дабы не допустить повторения тех трагических событий. Возможно, и вам иногда снится, что вы в опасности – не очень понятно, в какой, но непосредственно связанной с тем, что вы смертны – и как ни стараетесь, не можете шевельнуться. Вот такой же физический паралич часто сопутствует психическим феноменам. Именно он случился со мной и, надо полагать, с сэром Гарольдом тоже. Некая сила, не то внутренней, не то внешней природы, приковывала нас к стульям, заставляя беспомощно смотреть, как призрачная тварь медленно вытекает из тела сэра Гарольда – или из его разума – и, не торопясь, обретает форму.
Голова уже была хорошо различима: огромная, раза в два больше человеческой, формой напоминающая дыню. Ее поддерживал столп пульсирующей эктоплазмы, постепенно лепящийся в рудиментарное тело с длинным цилиндрическим корпусом и чем-то вроде длинных, тонких рук и ног. В целом фигура была человекоподобной, но определенно не человеческой, ни по форме, ни по содержанию.
Теперь прямо у нас на глазах возникало лицо. Идеально гладкое, не отмеченное никакими экспрессивными чертами, свойственными существам думающим и чувствующим. Это был точно не призрак в обычном понимании слова и, безусловно, дух – то есть существо, пребывающее на отличном от нашего плане бытия, – но дух, который никогда не был человеческим. Скорее это был элементал – дух из тех, что, возможно, населяли землю до людей… и считали нас узурпаторами.
Невероятным усилием я сумел-таки отодвинуть свой стул чуть-чуть от стола. Ножки взвизгнули по грязному полу, и резкий звук помог мне до некоторой степени стряхнуть тяжелый ступор.
– Сэр Гарольд, – выдавил я, – сэр Гарольд, вы должны двигаться!
Он сделал видимое усилие – руки его поднялись до уровня стола и даже попробовали его оттолкнуть, но тщетно. Он слегка повел плечами и тряхнул кистями, как бы говоря: «Видите, я не могу».
Истекая потом от напряжения, я начал тянуться через стол в надежде достать до лампы и включить ее. Она стояла слишком далеко, и к тому же этим движением я приблизился к твари, которая парила, уже почти полностью сформированная, над столешницей – я отшатнулся и съежился у себя на стуле. Еще несколько секунд, и она отделится от сэра Гарольда и заживет собственной жизнью. Я каким-то образом понимал, что нам нужен свет. Нетвердой рукой я полез в карман и достал спички; разумеется, я уронил несколько штук, прежде чем сумел, наконец, зажечь одну. Спичка вспыхнула, я поднял ее повыше, и комната ненадолго осветилась. Тварь тут же принялась растворяться: уже ясно различимые черты ее расплавились обратно в массу эктоплазмы. Но как только спичка замигала, плотность стала к ней возвращаться. Увы, спички не дадут достаточно света, чтобы ее уничтожить, понял я – они только смогут отсрочить ее полное воплощение. И к тому же их у меня оставалось всего пять или шесть. Как только спичка погасла, я немедленно зажег вторую и с тем же эффектом – они лишь откладывали неизбежное. Я решил поставить на кон всё и поджечь все сразу, вместе с коробкой – за эту более долгую и яркую вспышку я попытаюсь добраться до двери.
Чиркнув спичкой, я сунул ее в коробку, и когда та начала дымиться по углам, прицельно подтолкнул ее под извивающуюся в воздухе фигуру, которая уже знала – если, конечно, обладала хоть каким-то интеллектом – что кто-то здесь работает против нее. Когда остальные спички вспыхнули, я взял ноги в руки, прыгнул, отшвырнув стул, к двери, распахнул ее и кинулся по лестнице вверх. На площадке я заорал во все горло, призывая старика-слугу, который почти сразу же примчался из глубин дома, одетый в ночную сорочку.
– Святые небеса, что случилось сэр? – вопросил он, донельзя потрясенный самим моим явлением посреди ночи и тем ужасом, с которым я звал на помощь.
– Скорее зажигайте лампу и идемте со мной! – велел я.
Он исполнил мое распоряжение с недюжинной для его возраста прытью.
Мы оба ринулись вниз, я – впереди. Лампа в руках слуги еще с лестницы плеснула светом в комнату, я жадно устремил туда взгляд через порог: там было совершенно темно, хотя во мраке я смутно различал силуэт сэра Гарольда, сидящего за столом в той же самой позе. Никакой эктоплазмы нигде не было видно. Я выдохнул с облегчением – кажется, мы победили!
Тут старик, наконец, догнал меня, мы вошли в комнату и водрузили лампу на стол.
Зрелище, представшее нашим глазам, я не забуду никогда. Несмотря на все дальнейшие споры, могу со всей ответственностью заявить: я никогда и не сомневался, что передо мной именно сэр Гарольд… хотя полиция согласилась с этим только ввиду полного отсутствия в комнате того, что еще могло бы им быть.
За столом сидел практически скелет, туго обтянутый кожей; глаза так ввалились внутрь черепа, что совсем исчезли из виду. Одежда сэра Гарольда свободно болталась на этом остове, а руки, которые произвольно шевелились всего несколько минут назад, теперь представляли собой лишенные всякого мяса кости, которые в обычных обстоятельствах могли бы принадлежать только человеку, давно покойному.
Я невольно сделал шаг назад от ужаса и налетел на слугу, который едва слышно бормотал, не в силах отвести глаз от жуткой сцены:
– Этого не может быть, этого просто не может быть…
Демон действительно мог полностью материализоваться, но только ценою жизни сэра Гарольда, питаясь не только его разумом и духом, но и телом тоже. Каждая капля эктоплазмы, истекавшая из сэра Гарольда, была каплей его собственной жизненной силы. Неудивительно, что после первой материализации он превратился в дряхлого старика: одни полученные в ту ночь ранения никак не могли объяснить его стремительный физический упадок. И сейчас, глядя на его останки, я понимал, что эта смерть могла означать только одно: тварь жива!
От осознания, что ужасное существо теперь обрело плоть и находится в одной комнате с нами, меня начало неудержимо трясти. Схватив со стола лампу, я поднял ее повыше, обшаривая взглядом каждую тень по углам подвала. До слуги, видимо, тоже что-то дошло, так как он кинулся к двери.
– Не открывайте! – закричал я. – Вы его выпустите!
Я ошибся.
Чудовище уже стояло в холле, сразу за границей отбрасываемого лампой светового круга. Оно было мраморно-желтого цвета, возможно, сливочного (точнее разглядеть было трудно), с более темными пятнами. Росту в нем было футов восемь или девять; голова – идеально круглая, без ушей; длинные, хилые руки с, кажется, слишком большим количеством суставов и громадными костистыми кистями, по футу в поперечнике. Поразительнее всего были его глаза – огромные дыры по обе стороны темного пятна, предположительно являвшегося носом. Как и говорил сэр Гарольд, они действительно сияли зеленым, тусклой яростной зеленью, источавшей первобытный гнев, снести который не сумел бы никто из людей.
Не успел я раскрыть рот, чтобы позвать слугу, велеть ему не покидать световой круг, как одна из этих паучьих лап выстрелила вперед и схватила его поперек туловища. Старик только ахнул, и тут же чудовище с недвусмысленным хрустом разорвало тело пополам и швырнуло останки в комнату, к моим ногам, где они и остались лежать в быстро расплывающейся луже крови.
Злобно полыхнув на меня глазами, оно начало медленно придвигаться. Я выставил лампу перед собой – сердце у меня так и упало: она была всего наполовину полна, масла хватит от силы на несколько часов. И я знал, что как только лампа начнет угасать, тварь станет приближаться… и приближаться… пока не сможет достать меня этими своими жуткими руками.
Так оно и случилось. Время текло, фитиль моргал; она подходила все ближе. Время от времени она тянулась ко мне, но быстро отшатывалась, так как свет, судя по всему, причинял ей боль. Я сидел на краю стола, с ужасом глядя на пустеющее тулово лампы. В ушах у меня звенело от неестественной тишины, а голова кружилась от уже пережитого ужаса – и того, что еще только ждал меня впереди. А чудовище стояло в коридоре, глазея на меня, и пасть его пялилась в широкой щербатой улыбке.
Наконец, буквально за несколько минут до последнего предсмертного содрогания фитиля, за окнами начал разгораться рассвет, и свет потек в комнату через матовые стекла. Тварь стала отодвигаться обратно в холл, оставив меня наедине с двумя ужасными компаньонами. Понимая, что в холле целый день царит сумрак, я последним усилием стряхнул изнеможение и морок. Иногда судьба в минуту испытаний благословляет нас чем-то вроде второго дыхания. Я схватил стул и что было сил кинул его в окно, потом вскочил на стол, смахнул с подоконника битое стекло и выкарабкался на промерзший двор.
Никогда еще Лондон не выглядел таким чарующим; никогда таким сладким не казался мне воздух. Солнце еще не согрело морозное утро, но даже в ранний этот час люди уже спешили на работу, закутанные в шарфы, ритмично испуская облачка переливающегося пара. Наплевав на свое легкое платье и взмокшую от пота спину, я ринулся на улицу, громко зовя на помощь. Когда она прибыла, я лишился чувств.
Полиция отнеслась к моему рассказу с известным скептицизмом, хотя мой шок и невыразимое состояние двух найденных в подвале трупов определенно говорило в его пользу. Коронер поначалу твердо стоял на том, что, судя по состоянию тела, сэр Гарольд мертв уже много месяцев, но, в конце концов, сдался: кольца были точно его, как и некоторые характерные физические признаки, засвидетельствованные личным врачом покойного – между тем, хозяина дома видели в живых не далее как неделю назад, когда сэр Клайв Мэтьюз, баронет, заезжал к нему поговорить о продаже кое-какой земельной собственности близ Брайтона. Более того, у меня имелось письмо сэра Гарольда, датированное всего парой дней до трагической ночи. Ну, и кроме всего этого, старый слуга, которого звали Томом, оказался разорван в буквальном смысле слова пополам, и ни коронер, ни шеф полиции не сумели выдвинуть теорию, кто и при помощи чего мог бы проделать такое с человеческим телом.
Короче говоря, полиция нехотя пришла к заключению, что «некое неизвестное лицо или лица напали на сэра Гарольда Волвертона и его слугу, Томаса Купера, и убили их по неизвестной причине». На том делу и настал конец.
Но чудовище, живое жизнью злосчастного сэра Гарольда, оставившее жалкую иссохшую оболочку таращиться слепым взором в потолок подвальной комнаты, теперь ушло в город, и, я уверен, в последней волне убийств и увечий повинно именно оно.
Полагаю, гнездом его стал ныне заброшенный Волвертон-хаус. Ускользнуть от полиции, прочесавшей после двойного убийства весь дом, ему, полагаю, труда не составило – оно могло скрыться на чердаке или за обшивкой стен, или даже под землей. Кто знает, какими силами оно обладает, и на что способен его разум?
Волвертон-хаус – весьма лакомый кусок недвижимости и к тому же расположен в превосходном районе, но вокруг него вечно клубятся тревожные слухи, так что, думаю, ему еще долго стоять пустым.
Джон Глэсби. Миф
– Ну, – сказал Митчелл, посасывая трубку и пристально глядя на него через стол. – Что вы об этом думаете? Может оно быть подлинным отчетом о событиях или так, очередная утка?
Вид у Нордхерста был скучающий. Он бросил рукопись на стол, выпрямился, зажег сигарету и уставился в окно, выдыхая дым через нос.
– Некоторое время назад я собирался с вами об этом поговорить, Митчелл, – негромко промолвил он. – Знаю, вы подавали на финансирование, чтобы организовать туда экспедицию. Думаю, вы должны знать, что лично я категорически против всего проекта. У вас, как всегда, собственные взгляды на предмет, твердые и непоколебимые. За два или три последних года вы перекопали все, что у нас есть в библиотеке по этой теме. Я даже не пытался вас остановить – вреда от вас никакого не было, а что-нибудь новенькое вы найти могли. Но это…
Он резко махнул рукой в сторону рукописи.
– …Митчелл, право, я был лучшего о вас мнения.
– Но, сэр, – мягко запротестовал тот, приподняв бровь, – вы же не можете вот так, запросто от всего отмахнуться. Должны же мы, по крайней мере, попытаться изучить вопрос поближе. В конце концов, предания острова Пасхи хотя бы частично известны уже очень давно, с тех самых пор, как Роггевен открыл – или, если угодно, еще раз открыл – его на Пасху 1772 года. Но, насколько мне известно, никому до сих пор не удалось раскрыть тайны древнего культа или религии, которой мы обязаны найденными на острове колоссальными каменными изваяниями…
– Доктор Митчелл, – ядовито оборвал его Нордхерст. – Как заведующий кафедрой археологии могу вас заверить, что обладаю достаточной информацией об острове Пасхи, не трудитесь.
– Я со всем уважением отношусь к этому факту, профессор, – примирительно заявил его собеседник, не в силах отделаться от впечатления, что беседа ни к чему не приведет. – Я ни в коем случае не ставлю под сомнение ваши личные знания и компетентность. Все, чего я прошу, это совсем маленькая экспедиция для проверки фактов, приведенных в этом документе. Я совершенно уверен, что записки дона Фелипе Гонсалеса способны пролить свет на тайны, которыми окутано это место.
– Вздор! – Нордхерст с негодованием встряхнул головой. – Неужели вам не приходило в голову, что, организовав экспедицию на основе таких безосновательных, чтобы не сказать нелепых данных, мы выставим себя на посмешище перед всем университетом?
Он даже вскочил на ноги и отошел к окну, где и встал спиной к посетителю.
– Попробуйте посмотреть на это объективно, Митчелл, – продолжал он, не поворачивая головы. – Понимаю, это может оказаться для вас нелегко, так как вы, возможно, сами того не сознавая, пристрастно относитесь к предмету – но рассудите сами, что у нас есть: всего лишь запись в дневнике некоего испанского капитана, который вторым высадился на остров уже после того, как отплыли голландцы. Судя по всему, они с командой некоторое время пробыли на острове и успели объявить его собственностью испанской короны. За это время семеро человек бесследно исчезли, и никто их больше никогда не видел. На корабли они так и не вернулись. Это все, в чем мы можем быть уверены. Эти люди вполне могли остаться на острове: там предостаточно мест, где можно спрятаться, так что отправленные на поиски товарищи по команде никогда тебя не найдут. Впрочем, куда более достоверной мне представляется версия, что островитяне убили их, а тела спрятали.
– Понятно… – Митчелл выбил трубку в пепельницу и откинулся на спинку кресла. – Правильно ли я понимаю, что добро на экспедицию от руководства можно не ждать?
– Не обязательно. Я всего лишь профессор. Вопрос будет поставлен перед комитетом, который я возглавляю. Последнее слово принадлежит ему. Если комитет выскажется против, но вы будете упорствовать, у вас, я полагаю, всегда остается возможность найти под свою идею какое-то частное финансирование – если, конечно, вы сумеете в достаточной степени заинтересовать потенциального спонсора.
– А вы сами не желали бы выступить в таком качестве, сэр?
Нордхерст поглядел на выражение лица собеседника, и в голосе его прорезались повелительные нотки.
– Я понимаю ваши чувства, доктор Митчелл, и слышу в сказанном некоторый сарказм. Несмотря на то, что в ваши теории я не верю, я все-таки прежде всего археолог… и если мне представится возможность отвлечься на время от исполнения обязанностей здесь, в университете, я буду только рад составить вам компанию – хотя бы ради того, чтобы поприсуствовать при вашем провале.
– А если вам придется поприсутствовать при моем триумфе, сэр?
Митчелл медленно поднялся, вцепился в свою рукопись и стоял теперь, вызывающе глядя на Нордхерста через стол.
– Тогда заниматься этим придется не археологам, а специалистам по колдовству и тому подобным смежным темам – если вы сумеете найти хоть одного.
Митчелл помрачнел, но виду попытался не показать. Он примерно этого и ожидал, еще до того, как пришел к Нордхерсту. У профессора просто нет воображения, сказал себе Митчелл, дальше своих каменюк и черепков из раскопа ничего не видит. Что этот Нордхерст вообще понимает? Месопотамия и долина Тигра – вот его потолок. Цивилизация, которую он, Митчелл, пытается найти, вполне способна соперничать с древними культурами, в которых Нордхерст так хорошо разбирается – пусть между ними и пролегают тысячи миль открытого моря. Ему ничего не стоит настроить комитет так, чтобы они отвергли заявку, а на второе персональное слушание после принятия такого решения можно даже не надеяться.
– Вы полагаете, у меня просто буйное воображение, не так ли, профессор?
Тот проследовал обратно, к столу, и опустился в кресло, затушив сигарету в пепельнице.
– Вам и самому недурно было бы признать, что теория у вас дикая и безосновательная.
Однако не успел Митчелл дойти до двери, как его остановили. Нордхерст элегантно восседал в кресле, полностью владея собой, совершенно уверенный, что однажды принятое решение может быть только правильным и ничто его вовеки не изменит.
– Вот что, Митчелл: вам бы следовало побеседовать с Уолтоном. Возможно, это расставит все точки над «i». Если даже и нет… у вас хотя бы схожий образ мыслей.
Улыбка его стала шире и почти злее, когда он сделал этот последний, прощальный залп. Митчелл выскользнул за дверь и прикрыл ее за собой. Он вовсе не ненавидел Нордхерста за то, что тот сказал и что наверняка собирался сделать на собрании комитета – он не мог его ненавидеть. Просто кафедральный чиновник, чего с него взять – все они дальше собственного носа не видят, а до старых легенд им и дела нет.
Он снова раскурил трубку, кинул погасшую спичку в корзину и пошел прочь. Посреди холла он, однако, остановился. Возможно, перемолвиться словечком с Уолтоном – не такая уж плохая идея, подумал он. Уолтон – парень любопытный и себе на уме. Довольно скрытный, но не из принципа, а потому что сфера его интересов как-то не слишком вязалась с тем, чего ожидают от университета. Официально он возглавлял кафедру мифологии – если это можно назвать кафедрой, учитывая, что он был на ней и заведующим, и единственным лектором.
Дорогу к Уолтону в комнату Митчелл нашел не сразу. На часах было самое начало пятого – основные лекции уже кончились, и профессор наверняка освободился. Обнаружив, наконец, желанную дверь, он постучал и вошел. Уолтон сидел в широком кресле перед пустым камином. День для огня выдался слишком жаркий, но в комнате даже при открытом окне было необычно прохладно.
– А, Митчелл. Входите-входите. Нечасто я имею удовольствие вас видеть. Садитесь и выкладывайте, что у вас на уме. Я так понимаю, это не обычный визит вежливости.
– Не совсем. Я тут был у профессора Нордхерста…
– Предлагали послать вас на остров Пасхи? – Уолтон вопросительно поднял бровь.
– А вы откуда знаете? – Митчелл удивленно уставился на него.
– Слухами земля полнится… а уж заведение вроде нашего и подавно, – непринужденно сказал хозяин. – К тому же, должен признаться, у меня эти ваши идеи вызывают немалый интерес. Я прочел кое-какие ваши работы по мифологии острова Пасхи. Сам бы лучше не написал, ей-богу, а я ведь глава профильной кафедры!
– Уверяю вас, я никому не хотел переходить дорогу, когда их писал… – оборонительно начал Митчелл.
– Даже не думайте об этом. В наше время так мало интересуются этими старыми легендами – преступно, я бы сказал, мало. Надеюсь, вам дадут разрешение и деньги на эту экспедицию. Если да, буду набиваться вам в компанию. Не только путешествия ради – мне действительно хотелось бы посмотреть там кое на что своими глазами.
Митчелл сразу же почувствовал себя более уверенно. У Уолтона был какой-никакой вес в комитете, а убежденный сторонник никогда не помешает.
– Я бы с большим удовольствием позвал вас с собой, – кивнул он. – Но на настоящий момент перспективы у меня не самые блестящие. Нордхерст категорически против, а в комитете он самый влиятельный. Если они завернут мне проект, я даже не знаю, куда дальше соваться.
– Давайте решать проблемы по мере поступления, – посоветовал Уолтон. – Возможно, мне удастся склонить чаши весов в вашу пользу, хотя мне бы и не хотелось, чтобы вы возлагали на это слишком большие надежды. На экспедицию такого рода придется выбить несколько тысяч долларов, и, к тому же, вам понадобится разрешение чилийского правительства на исследовательские работы. С этим, впрочем, особых трудностей не предвидится: они обычно охотно разрешают профессиональным археологам работать на острове – если они, конечно, не мешают местному населению жить своей жизнью.
Митчелл жадно наклонился вперед.
– Вы правда думаете, что в моей идее что-то есть? Ну, что на острове до сих пор практикуют какой-то древний культ, и если бы нам только удалось что-то о нем разузнать… что-то, возможно, передаваемое изустно с доисторических времен – нас бы ждали совершенно поразительные открытия относительно статуй?
– Весьма интригующая мысль, – медленно проговорил Уолтон, запуская пальцы в волосы. – Ни секунды не сомневаюсь, что на острове еще полно тайн – на наш век в любом случае хватит.
– Хотел бы я придумать что-то такое, что сможет их убедить – Нордхерста и остальных в комитете. Вы же знаете, какие они… каков их образ мыслей. Любят только то, что уже иссохло в пыль. Чтобы выкопать пару старых черепков двухтысячелетней давности в Месопотамии, они деньги и считать не будут, а сунь им под нос что-нибудь настоящее, грозящее действительно большим открытием, и они примутся клекотать, что это кощунство, что это ни в какие ворота не лезет, а потом накинутся и заклюют.
– Тише, Митчелл, тише, – сказал Уолтон, внимательно разглядывая физиономию гостя. – Рано еще таскать каштаны из огня. Расскажите-ка мне лучше поподробнее про вашу теорию.
Ральф Митчелл подался вперед в кресле. Это был молодой человек, лет за тридцать, эдакого твидово-трубочного типа, всегда ощущавший себя немного не в своей тарелке рядом с настоящими университетскими интеллектуалами. Они его, конечно, терпели, но он подозревал, что никому из них – особенно величественной старой гвардии – по-настоящему не нравился. Уолтон от них, возможно, отличался – хотя бы тем, что был всего лет на пять старше его, и его предмет требовал куда больше воображения и интуиции, чем все остальные, вместе взятые.
– Эти колоссальные каменные статуи острова Пасхи… Я предполагаю, что их воздвигла некая превосходящая по развитию цивилизация за много веков до того, как нынешние обитатели или даже их предки прибыли в те края. Это же за многие мили откуда бы то ни было, вне всех основных морских путей! Хотя я, в принципе, готов принять текущую теорию, что любого, кто покинет берега Южной Америки, ветра и течения неизбежно приведут на остров. Возможно, именно так предки нынешних аборигенов туда и попали несколько веков назад – но я не уверен, что это объяснение работает для той, более высокой и ранней цивилизации.
– Которая пока что не больше чем очередная ваша гипотеза, – серьезно вставил Уолтон.
– Да, именно так, – торжественно подтвердил Митчелл, – но, смею полагать, у меня есть вполне конкретные доказательства в ее пользу.
– Это какие же? – Собеседник уставил на него вопросительный взор из глубин мягкого кресла.
Ральф Митчелл пожал плечами.
– Да хотя бы странные рыбообразные изображения, обнаруженные на основаниях некоторых статуй, и, что еще более важно, статуэтки людей с птичьими головами – их нашли в пещерах на острове.
– Понятно, – кивнул Уолтон. – Вижу, вы времени даром не теряли. К каким же выводам вы пришли на основании этих фрагментарных и редких свидетельств?
– Что на острове Пасхи много тысяч лет назад была чрезвычайно высокоразвитая цивилизация. Не могу вам прямо сейчас сказать, добрая или злая… но почему-то думаю, что злая.
Уолтон сурово посмотрел на него.
– Почему вы так говорите?
– Из-за статуй и вырезанных на них изображений. Все они, очевидно, говорят о неких давних временах, задолго до начала письменной истории – возможно, даже старше египетского Древнего царства – когда на Земле существовали довольно странные культуры. Практически все они на настоящий момент уже уничтожены, остались только какие-то отдельные свидетельства – и довольно много легендарного и фольклорного материала. С последними трудность заключается в том, что нужно еще отсеять зерна истины от впечатляющей массы плевелов – от всех фантазий и преувеличений, которыми они успели обрасти за долгие века. Все эти сюжеты и мотивы, которые можно найти в мифах бесчисленных народов Земли и которые передавались из уст в уста на протяжении тысячелетий. Совершенно естественно, что по дороге их нещадно приукрашивали. И чем они старше, тем глубже запрятана в них правда.
– И вы теперь хотите докопаться до зерна истины, с которого когда-то все и началось, не так ли? – улыбнулся хозяин.
– Да, – медленно кивнул гость. – Я убежден, что ответ или ответы стоит искать именно там, на острове Пасхи. Я говорил кое с кем из тех, кто там был, и все без исключения говорят, что невозможно глядеть на эти гигантские изваяния без ужаса. Я хочу сам на них посмотреть, своими глазами, порасспрашивать людей о местных преданиях, выяснить, осталось ли что-то от древней религии, изучить изображения и надписи на статуях…
– А вы не думали, что кому-то в прошлом уже приходили в голову эти идеи – с тех пор как статуи были открыты? Если то, о чем вы говорите – правда, почему мы до сих пор ничего о них не узнали?
– Понятия не имею. Вполне возможно, кто-то уже самостоятельно открыл правду о статуях и либо заплатил за нее жизнью, либо вынужден был остаться там, на острове, пока корабли не уплыли. Лично я думаю, что именно это и случилось с матросами-испанцами, которые приплыли туда в 1770 году.
– А вот это мне уже нравится, Ральф, – весело сказал Уолтон. – Я рад, что вы пришли с этим ко мне. Не думал, что вы так серьезно настроены – и что вы уже так много раскопали. Большую часть того, что вы мне сейчас рассказали, я уже некоторое время знаю. Легенды острова Пасхи – давно уже один из моих излюбленных предметов исследований, но считаю долгом заметить, что я не особенно далеко с ними продвинулся. Они не только окружены неким флером загадочности – местные жители напрочь отказываются обсуждать их с чужаками.
Он глядел на Митчелла без улыбки, твердым и тяжелым изучающим взглядом.
– К чему конкретно вы хотите подвести ваши исследования?
– К тому, что остров Пасхи может оказаться осколком более крупной, ушедшей под воду земли. Возможно, одного из легендарных континентов, о которых говорится в старых книгах.
– Уж не Му ли? – прошептал его собеседник.
Он наклонился вперед, опершись локтями о колени.
– А вот тут вы попали в самую точку. Возможно, вы напали на след чего-то действительно важного. Не думаю, что нам удастся убедить в этом профессора Нордхерста: он слишком занят своими пыльными черепками. Но мы сможем привлечь к вопросу внимание других членов комитета. Я, во всяком случае, постараюсь сделать все от меня зависящее.
– Нордхерст упоминал, что если для экспедиции вдруг найдутся фонды, он был бы рад поехать.
– Просто ради шанса поглумиться над нами, если мы ничего не найдем и все мероприятие превратится в мыльный пузырь.
– Уверен, это был его единственный мотив, – согласился Митчелл.
В голосе у него проглянула горечь.
– Какое бы решение ни принял комитет, он собирается быть на стороне победителей.
Уолтон кивнул.
– Как бы ни обернулось дело, пока решение не принято, старайтесь не гладить Нордхерста против шерсти. Я тем временем потолкую с другими членами комитета и выясню их позицию. Среди них просто обязано быть несколько сочувствующих, и еще кого-то я наверняка смогу склонить на нашу сторону. Для меня это будет совершенно этичный ход, а вот вам не стоит пытаться их уговаривать, раз уж вы инициатор проекта.
– Думаете, у нас есть хоть какой-то шанс?
Уолтон поджал губы.
– Ответ на это мы узнаем, только когда я с кем-то из них поговорю.
Ничего особенного от обещаний Уолтона Митчелл не ожидал. Тем сильнее он удивился, когда три недели спустя профессор Нордхерст как-то к вечеру пригласил его к себе в кабинет.
– Прошу вас, садитесь, доктор Митчелл, – весомо промолвил он, указывая на стул напротив себя. – Я хотел бы с вами побеседовать.
Митчелл тихонько присел, гадая, что будет дальше. Не иначе что-то связанное с заседанием комитета, которое было сегодня в первой половине дня. Наверняка прикидывает, как бы так помягче передать отказ, горько подумал он, да так, чтобы не выдать, что это он зарубил грант.
– Как вам известно, комитет собирался сегодня утром и обсуждал вашу заявку на грант по финансированию экспедиции на остров Пасхи. В прошлый раз, когда мы обсуждали этот вопрос, я ясно дал вам понять, что не симпатизирую подобным начинаниям и что они не оправдывают столь масштабных денежных вложений со стороны университета. Однако большинство членов комитета пришли к заключению, что из подобной экспедиции может выйти некая польза – иными словами, было принято решение профинансировать ваше путешествие. Ради вашего же блага и ради блага университета в целом я очень надеюсь, что результаты вашей работы будут представлять конкретный научный интерес.
Он скривил губы в сухую улыбку.
– Я также хотел бы вам напомнить, что ожидаю быть включенным в состав экспедиции.
– Разумеется, профессор, о чем речь!
Внутри у Митчелла уже поднималась волна радостного возбуждения, чтобы не сказать ликования. На такое он даже надеяться не мог – и, надо полагать, всем этим он обязан Уолтону! Да уж, последние три недели профессор мифологии даром времени не терял!
– В таком случае решено. Нам остается только определиться со сроками. Полагаю, на подготовку уйдет какое-то время, но я буду вам чрезвычайно признателен, если вы будете держать меня в курсе событий.
Митчелл энергично закивал в знак согласия. Теперь, когда все обернулось в его пользу, можно спокойно забыть, с какой кислой физиономией Нордхерст отреагировал на идею экспедиции в тот, первый раз.
– Я начну подготовку немедленно, – сказал он, вскакивая на ноги.
Теперь, когда первые завалы на пути оказались расчищены, ему не терпелось приняться за дело: странным образом Митчелла преследовало ощущение, что время работает против них. Особенное, ни на что не похожее чувство, к которому он не знал, как подступиться. Где-то там, далеко, в самом сердце Океании, напряженно думал он, кроется ключ к большинству древних преданий мира. Если бы только ему удалось отыскать его, заполучить, отнять у тех, кто его прячет…
Митчелл беспокойно ворочался под простынями, потом спустил-таки ноги на холодный пол каюты и сел на краю койки. Корабль слегка покачивался, снаружи все еще было темно. Он попробовал что-нибудь разглядеть через иллюминатор, но стекло оказалось слишком толстое, и видно не было ничего. Прошлым вечером капитан оценил, что они сейчас немногим более чем в семидесяти милях от острова Пасхи и достигнут его где-то к концу следующего дня. Света в каюте не было. Митчелл сидел в темноте и, довольный, курил. За последние недели, когда продвижение к цели вынужденно замедлилось, а время, кажется, совсем перестало существовать, нетерпение в нем достигло такого накала, что выносить его уже не было сил. Даже сейчас, когда до цели уже было рукой подать, он все равно сидел как на иголках, а внутри у него будто завязался тугой узел – как бутылка шампанского: еще немного и пробку просто выбьет.
Они без труда набрали команду для переоборудованного рыболовецкого траулера, который им удалось зафрахтовать. До сих пор путешествие было небогато событиями. Судно превосходно подходило для океана и оказалось достаточно вместительным для всего их оборудования. Чилийское правительство без проблем выдало все необходимые разрешения, чтобы пристать к острову Пасхи и провести научные исследования.
Митчелл затушил сигарету и почти сразу же зажег другую. Даже это не помогало избавиться от лихорадочного напряжения, владевшего им непрерывно с самого утверждения гранта. Неужели он боится того, что может обнаружить на острове? Или в тех страшных сказках, что ему рассказывали, правда есть какая-то крупица правды? Или же он в глубине души страшится, что Нордхерст таки поднимет его на смех за научную несостоятельность?
Митчелл тщательно обдумал все эти альтернативы и решительно отмел последнюю. Одним только риском оказаться неправым этот подспудный ужас не объяснить. Ну да, Нордхерст не упустит случая поиздеваться и вставить свое «а-я-же-вам-говорил» – но это все, чего стоит опасаться с его стороны.
С другой стороны, если его вера в старшую, невероятно древнюю цивилизацию на острове Пасхи и ее сохранившиеся до наших дней пережитки действительно не на пустом месте растет, слишком уж углубляться в нее может оказаться опасно. Он попробовал выкинуть эту идею из головы. Каковы бы ни были его резоны для поездки сюда, он все равно в первую очередь и прежде всего ученый. А значит, умеет рассмотреть любой вопрос в мельчайших деталях и сбросить со счетов все, что не имеет научного обоснования.
А ну его все к черту, свирепо подумал он, посильнее затягиваясь сигаретой и любуясь, как кончик ярко алеет в темноте. Очень скоро он все узнает сам. Не то чтобы Митчелл надеялся на ошеломительный успех сразу, с места. Местные жители явно не кинутся совершенно незнакомым людям на шею, спеша рассказать все что знают, особенно о своих сокровенных верованиях, и даже когда расскажут, все равно придется отсеять правду от массы выдумок, которой ее попутно изукрасят.
Он долго сидел на койке, погруженный в свои мысли, и даже не заметил, как тьма за иллюминатором выцвела, а из моря неторопливо вынырнуло солнце. Тогда он оделся и вышел на палубу. Крепкий ветер подхватил полы его рубашки и захлопал ими вокруг талии.
Уолтон уже стоял там, облокотившись на перила и глядя в дымку на горизонте. На звук шагов он обернулся.
– Уже немного осталось, Ральф, – сказал он. – Начинаете грызть удила?
– Есть немножко, – признался тот.
Умолкнув, он загляделся на воду, бежавшую мимо борта кружевными пенными лентами.
– Что-то не так? – озабоченно спросил Уолтон. – Вы не слишком-то хорошо выглядите.
– Я просто мало спал сегодня ночью – слишком много всего в голове скопилось. Думаю, причина в этом.
– Что бы ни случилось, не давайте этому испортить вам настроение. Нам предстоит чертова куча работы, я это нутром чую. Возможно, вы вскоре сделаете открытие века.
– Надеюсь только, что вы правы. – Смех Митчелла прозвучал до странности пусто и резко. Радости в нем было маловато.
– Даже думать не хочу о том, чтобы вернуться в университет и чтобы Нордхерст постоянно меня подкалывал тем, как я был неправ. А он ведь с самого начала был против экспедиции! Академическая компетентность, профессиональная интуиция и все такое прочее!
Уолтон ухмыльнулся и сочувственно кивнул.
– Я понимаю ваши чувства. Но почему-то уверен, что об этом вам беспокоиться не стоит. Я и сам много думал об этом месте, и чем больше прикидываю наши шансы, тем отчетливее мне кажется, что вы стоите на пороге чего-то по-настоящему значительного. Только не принимайте это за что-то определенное; пока я могу говорить только о предчувствии, хотя, должен признать, они меня редко обманывают. Думаю, за прошедшие годы у меня выработалось некое чутье.
Он похлопал Митчелла по спине.
– Не пойти ли нам перекусить? Умираю от голода. Это поможет нам скрасить ожидание крика «Земля! Земля!». После всего этого времени на корабле я буду чертовски рад снова ступить на твердый берег.
Они спустились в кают-компанию, где остальные уже наслаждались утренней трапезой. Нордхерст поднял взгляд от полупустой тарелки.
– Все еще уверены, что не зря потратили наши деньги, доктор Митчелл? – безжизненным голосом спросил он.
– Думаю, да. – Ральф постарался говорить ровным тоном. – Но вскоре мы все узнаем.
Тот медленно, с сомнением покачал головой.
– Я почти двадцать пять лет рыскал по руинам в долине Тигра и Евфрата и не нашел ни малейших указаний на существование более древних цивилизаций, чем те, чье существование давно доказано средствами академической науки. Шумерская культура, по моему мнению, самая старая из них.
– Вы не забыли про Му и Атлантиду? – невинно осведомился Уолтон.
Нордхерст страдальчески поморщился.
– Я говорю об исторически доказанных цивилизациях, доктор Уолтон, – ядовито процедил он. – Никаких свидетельств в пользу существования Атлантиды и Му нет.
– А как же древнейшие источники – майянский Пополь Вух или индийские Веды? Разве в них не говорится о гораздо более древних цивилизациях Земли, которые старше даже шумерской на несколько тысяч лет?
– Боюсь, когда речь заходит об источниках, вроде упомянутых вами, я придерживаюсь сугубо научного подхода, – ледяным тоном заявил Нордхерст, пристально глядя на собеседника. – Все эти древние упоминания – доказанная фикция. Пусть фикция весьма профессиональная, высшего, так сказать, порядка, но суть дела от этого не меняется: ни в одном из них нет ни грана истины.
– Ну что вы, профессор, – непринужденно улыбнулся Уолтон. – Нельзя же вот так просто от всего отмахиваться. Если бы на вещи можно было смотреть так, для людей вроде меня жизнь стала бы совсем простой и упорядоченной. Слишком, я бы сказал, простой и упорядоченной. И утратила бы свойственное ей очарование.
– И отнесла бы упомянутые вами источники к той категории, которой они естественным образом принадлежат, – отрезал Нордхерст. – К категории художественной литературы.
– Мне жаль, что вы так думаете, профессор, – возразил Уолтон, не теряя самообладания. – Но у меня такое чувство, что каким бы скептиком вы себя ни считали, даже ваша вера в научный подход пошатнется, когда мы прибудем на остров Пасхи.
– Вот и увидим, – резюмировал тот тоном, ясно говорившим, что беседа на данную тему окончена.
Уже почти стемнело, когда вдали показался остров Пасхи. Он восстал из моря кляксой на горизонте, постепенно обретая объем и форму, пока они пробивались к нему через прибой. Митчелл стоял на палубе и щурился на приближающуюся землю. Даже отсюда ему казалось, что остров окутывает незримая аура тайны. Не удивительно, размышлял он, что, когда сюда впервые прибыли голландцы, местное население больше знало о солнце, луне и звездах, чем о какой-то другой земле за морем. Они жили так далеко от ближайшего места обитания человека, что в их языке было больше слов для обозначения небесных тел, видимых каждый день в ясном небе над головой, чем для других островов – столь далеких, что они почти превратились в легенду.
Они подплыли поближе и бросили якорь в маленькой бухточке, надежно укрывшей их от течения. Митчелл чувствовал на лице дующий с острова ветер – ветер, пахнувший тайнами и немножко ужасом, особенно при мысли о тех резных каменных изваяниях, усеявших зеленые склоны. Представители какой расы позировали для них? Что за давно ушедший народ оставил эти реликвии цивилизации, о природе которой ныне остается только гадать?
Когда он, наконец, спустился в каюту, спать, мысли так и роились у него в голове. Поутру они сойдут на берег и примутся за работу. Как же хочется своими глазами увидеть те странные изображения на каменных статуях, поговорить с живыми людьми – носителями культуры, закопаться по уши в прошлое – в легенды не их собственного народа, но того, что населял этот остров тысячи лет назад, если он вообще был!
Ночью он спал мало и плохо, его дремоту тревожили странные видения, более пугающие и правдоподобные, чем когда-либо. По большей части они выглядели как калейдоскоп разрозненных сцен или мелькающие образы огромных, жутких созданий, шагающих через совершенно незнакомый ландшафт, который, как подсказывало ощущение, он все-таки раньше видел. Кажется, он слышал странные и зловещие напевы, не желавшие заканчиваться, навязчиво звеневшие в ушах, так что в итоге его прошиб пот, а с ним и неудержимая дрожь, которую он никак не мог побороть, сколько ни старался.
Он сел на койке и огляделся, стараясь изо всех сил успокоить рассудок. Откуда взялся этот кошмар, думал он, пока сердце тяжело бухало в груди, постепенно возвращаясь к нормальному, не такому суматошному ритму. Уже почти светало, серый свет сочился в иллюминатор. Митчелл встал босыми ногами на холодный пол каюты и уставился на остров, от которого их теперь отделяло не больше четверти мили.
Он выглядел пустынным и голым – холмистая земля, то там то сям вспухающая скалистыми возвышенностями, с разбросанными кое-где по склонам загадочными статуями, видными даже отсюда. Это зрелище что-то сдвинуло у него в голове, на мгновение дышать стало нечем. Самый воздух над островом, казалось, дышал тайной. Интересно, встал ли уже Нордхерст, подумал он, а если да, то какие чувства в нем пробудил этот странный, повергающий в трепет пейзаж, открывшийся сейчас перед ними. Может быть, и он тоже гадает, что ждет их на этой древней земле. А Уолтон! Он наверняка сгорает от нетерпения, Митчелл был в этом уверен. Родственная душа – единственная среди неверующих.
Завтрак прошел быстро и в молчании. Всем, включая даже Нордхерста, не терпелось сойти на берег – хотя бы для того, чтобы земля под ногами перестала качаться. Они стояли на якоре, но океанский прибой все равно подбрасывал корабль. Митчелл, разумеется, сел в первую шлюпку, вместе с Уолтоном и Нордхерстом.
Серые сумерки сменились розовым сияньем зари, окаймленным золотом. Внезапно над кромкой моря взмыло солнце – одним прыжком, прямо в безоблачные небеса. Лодка ткнулась в каменистый пляж, Уолтон выскочил наружу и протянул руку профессору. Следом высадился Митчелл. Несколько мгновений он стоял, благоговейно глядя вокруг. Трудно поверить, что ты наконец-то там, куда стремился так долго; что тайна, о которой мечтал так много лет – вот она, кругом, повсюду, докуда хватает взгляда! По обе стороны от него простирался серый лавовый берег, обнимая уходящий кверху склон, испещренный там и сям утесами, расселинами, валунами. Все это было высечено руками природы и времени – не человека.
– Боже мой, что за место! – хрипло выдохнул Уолтон.
Широко распахнутыми глазами он глядел на новую землю.
– Если и есть где-то в мире призраки древних цивилизаций, так это здесь!
Нордхерст презрительно фыркнул.
– Поверю, когда увижу, – ядовито сказал он. – Полагаю, нам прежде всего нужно найти подходящее место и разбить лагерь, а затем обследовать местность. Где-то вон на том склоне я заметил несколько крупных каменных фигур, примерно в полумиле отсюда. Думаю, нам не составит труда их отыскать.
– Тем более, что у нас, кажется, появилась компания, – заметил капитан.
Митчелл посмотрел туда, куда тот указывал: толпа туземцев уже собралась на самом верху узкой, извилистой лавовой тропинки, сбегавшей по крутому склону холма прямо перед ними и извивавшейся между гротескно вылепленными каменными глыбами, будто устроенная самой природой лестница.
– Интересно, сколько из них умеет говорить по-английски? – пробормотал Митчелл.
Прежде чем кто-нибудь успел ему ответить, вперед выступил Уолтон. Сложив ладони рупором, он заорал во всю глотку:
– Иа-о-рана куруа!
– Иа-о-рана куруа! – обрушился в ответ водопад голосов.
Звук прокатился вниз по каменной стене, отскакивая от скал, как приливная волна. Говорившие последовали за ним.
Митчелл стоял в сторонке, пока Уолтон разговаривал с аборигенами, сгрудившимися вокруг него. Некоторые из них, как оказалось, разговаривали по-английски и почти все – по-испански, в той или иной мере. Общаться с ними будет несложно, решил он, а вот вытянуть из них что-то по-настоящему ценное – тут дело другое.
Они поставили лагерь и под пытливыми взглядами туземцев перетащили на берег большую часть припасов. Двоих из команды тут же поставили на страже: дикари острова Пасхи давно славились своей вороватостью. У них это считалось чуть ли не подвигом и уж никак не преступлением.
После всего этого Митчелл смог, наконец, двинуться внутрь острова в сопровождении Ултона, Нордхерста и целой свиты из матросов и местных. Полчаса спустя, спотыкаясь на неровной, коварной тропе, они вскарабкались на склон, который Нордхерст заметил еще с моря. Там, повернувшись спиной к прибою и устремив неподвижный взгляд в глубь острова, стояли каменные гиганты. А ведь и верно, подумал Митчелл, все они смотрят прочь от океана.
Жесткая, грубая, пожелтевшая от солнца трава росла вокруг статуй, башнями возвышавшихся над нею, футов на двадцать, а то и больше. Заглянув в их непроницаемые, странные, пугающие глаза, Митчелл невольно поежился. Было в них что-то такое… недоступное пониманию. И даже не скажешь, что именно.
Он украдкой бросил взгляд на Нордхерста. Тот стоял в нескольких ярдах позади, раздавая распоряжения корабельной команде: матросы опирались на кирки и лопаты, готовые приступить к раскопкам. Насколько глубоко им предстоит зайти, прежде чем экспедиция наткнется на что-то достойное внимания, никто не знал. Митчеллу оставалось только гадать… наверняка копать придется до ног статуй, по меньшей мере. Если у них, конечно, вообще были ноги… Судя по размерам голов – единственного, что выдавалось над землей – остальное уходило вниз футов минимум на сорок. А если они по дороге наткнутся на твердую породу, это однозначно замедлит работы и непонятно насколько.
– Что вы об этом думаете, профессор? – спросил он, подходя к группе.
– Не знаю, что вам и сказать, доктор Митчелл. Мы, конечно, можем найти тут что-то, представляющее археологическую ценность, но я бы не рискнул делать ставки. Впрочем, я уверен, тут нет ничего, способного подтвердить вашу теорию о древней, почти доисторической цивилизации.
– Даже сорока футами ниже, у подножия статуй?
– Даже там.
Нордхерст решительно покачал головой, и Митчелл заметил у него в глазах странный блеск, которого там раньше не было. Вот ведь черт, подумал молодой ученый, а ведь он донельзя доволен собой; играет со мной, как кот с мышкой, ждет, пока экспедиция провалится… и мы вернемся домой с парой глиняных черепков столетней давности. А ведь он нам говорил!
Раскопки начали на полдневной жаре. Выступавший на коричневой коже пот только что не закипал. Земля сверху была мягкой, легко поддаваясь киркам. Не прошло и трех часов, как раскоп углубился уже футов на семь. Как Митчелл и предполагал, статуи были утоплены в землю по шею: их тела, впервые за бог знает сколько лет подставленные солнечным лучам, были изваяны из того же самого камня, что и непостижимые головы, величаво смотревшие за холмы, по направлению к центру острова.
Лежа ночью под одеялом в белой палатке, разбитой вместе с другими на гладком плато, Митчелл чувствовал себя до странности довольным. В теле еще гнездилось привычное напряжение; узел внутри пока не распустился – и наверняка не распустится, пока он не узнает доподлинно, что скрывается под землей вокруг статуй. Вскоре взошла луна, оживив колоссальные каменные лица – некоторые из них ему было видно даже отсюда, сквозь неплотно прикрытый клапан палатки. Лежа на боку и глядя в ночь, Митчелл почему-то чувствовал страх. Сотни вопросов жгли его разум, сотни вопросов, на которые у него пока что не было ответов – и ему придется отыскать эти ответы, прежде чем он покинет остров Пасхи.
Что за племя высекло и воздвигло эти невероятные скульптуры и насколько давно? Пятьсот лет назад? Тысячу? Или еще до зари письменной истории в том виде, в каком ею занимались в университете? Днем он успел поговорить с парочкой местных, в надежде разузнать о происхождении статуй. По словам туземцев, их вырезали Древние, они же Длинноухие – в карьере внутри жерла потухшего вулкана, Рано-Рараку. Пока что у него не было ни малейших причин сомневаться в этой версии. На острове определенно должно быть место, где этих колоссов высекли из толщи каменной породы. Немыслимо, чтобы таких громадин каким-то образом доставили сюда с других островов – слишком они все далеко, за морем. И, однако же, его преследовало странное и упрямое ощущение, что есть в этом острове что-то еще… что-то большее, чем они успели увидеть. Да, конечно, они пробыли тут всего один день, и им еще многое предстоит узнать, но… здесь есть что-то скрытое, тайное. Где? Возможно, что в кратере Рано-Рараку… или даже где-то под землей. Надо будет утром порасспрашивать местных еще. А тех, кто ни по-английски, ни по-испански не разумеет, отведем прямиком к Уолтону – пусть работает переводчиком. Какая нежданная удача, что он знает здешний язык – достаточно, во всяком случае, чтобы его понимали. Загадочный он, однако, человек, этот Уолтон, размышлял про себя Митчелл. Многое в нем открывается только сейчас. Вот, скажем, как легко он ориентируется на острове – и как бегло болтает с аборигенами. Дома, в университете, такого за ним ведь и не заподозришь. Какие бывают неожиданные таланты у людей!
В лунной тьме, перед тем как совсем провалиться в сон, перед внутренним взором Митчелла вдруг запрыгали фрагменты какой-то древней демонологии, которую он читал еще в студенческие дни. Он невольно поежился. Было в этом острове определенно что-то странное – слишком далеко он лежал от всех прочих обитаемых человеком земель, слишком ревниво хранил свои тайны от пытливых взоров чужаков. Что же такое, интересно, случилось с теми семью матросами с испанского корабля, вставшего за линией прибоя, как стоял сейчас их собственный? Куда исчезли они под покровом здешней непроницаемой ночи?
Может статься, что, даже разгадав эту загадку, он все равно не сумеет, не успеет никому об этом рассказать. Пока что туземцы казались довольно дружелюбными, они даже выражали готовность помогать в раскопках (если им, конечно, заплатят), но все это могло в одночасье перемениться, стоит ему только закопаться поглубже в прошлое, в то, что, по их мнению, его не касалось. Вот с такими мыслями он и заснул, а когда проснулся, желтый лунный свет уже сменился серостью предрассветных сумерек, на глазах уступавших золотому сиянию солнца.
Несмотря на все тревожные раздумья, Митчелл с аппетитом позавтракал и отправился вместе с остальной партией на раскоп. Теперь работа продвигалась медленнее – они уже достаточно углубились в почву. Там земля была куда тверже, кирка часто натыкалась на скальные выходы, высекая снопики искр; крупные глыбы приходилось выкорчевывать вручную, вырывая из мест привычного отдохновения.
Вокруг снова собрались местные, с интересом глазея в яму, и Митчелл неторопливо направился к ним, прихватив с собой Уолтона.
– Ты собираешься расспрашивать их, Ральф? – спросил тот с толикой тревоги в голосе.
– В целом да. Помимо того, что мы можем обнаружить под землей, думаю, есть шанс многое узнать и у местного населения. Должны же у них быть какие-то легенды, мифы…
– Наверняка должны, да вот только захотят ли они об этом разговаривать – это уже другой вопрос, – предостерег Уолтон. – Мы, конечно, можем попробовать их разговорить, но что-то мне подсказывает, что на успех надеяться не стоит.
Тем временем они подошли к группке туземцев. Митчелл рассматривал их с огромным любопытством. Кожа у них была оливковая, а в чертах не наблюдалось ни малейшего сходства с усеявшими холмы гигантами. Ясно, что человеческие или дочеловеческие подобия этих каменных лиц давно уже покинули остров, утонув в тумане времен.
Как бы там ни было, один из островитян, мужчина лет пятидесяти, с суровым лицом, довольно неплохо изъяснялся по-английски.
– Эти статуи, – начал Митчелл, одним жестом обнимая все плато, где остальная команда копалась в земле под неистовым солнцем, – не знает ли кто-нибудь, когда они были сделаны и кем?
Человек некоторое время пристально его разглядывал – на самом деле так долго, что Митчелл уже отчаялся получить ответ.
– Они стоят тут от начала времен, – медленно проговорил, наконец, тот. – Они вышли из Рано-Рараку. Если пойдешь туда, увидишь много других, не нашедших пока что назначенных мест. Пока они ждут там.
– То есть вы верите, что однажды они найдут себе место и обретут покой? – глуповато спросил Митчелл. – Или они там останутся навсегда?
– Этого мы не знаем. Если они решат уйти оттуда, они уйдут.
– И у вас нет о них никаких историй? Никаких легенд о том, почему их сделали?
– Истории есть, но рассказать их нельзя. Не чужим.
– Почему? – свирепо вопросил Митчелл. – Вы что, боитесь?
Кажется, по лицу собеседника промелькнуло какое-то особое выражение, в Уолтона метнули быстрый взгляд. Митчелл даже растерялся. Он вполне мог понять, когда человек не хочет выдавать какую-то информацию – пока ему не предложат за нее хорошую цену, но вот такого упорства на пустом месте решительно не понимал. Ясно, что туземец чего-то боится, – но чего? Что соплеменники осудят его, если он примется разглагольствовать о святом или раскроет какие-то сурово охраняемые тайны прошлого? Похоже на правду, но должен же он соображать, что остальные аборигены по-английски не говорят и, значит, ни слова из речей этого белого не поймут.
– Есть вещи такие старые, что никому нельзя о них говорить. Они под запретом от начала времен.
Ну, вот они опять, раздраженно подумал Митчелл. Вот он снова налетел со всего маху на стену нерушимого молчания. Как будто знание может убивать… как будто одно только обладание им может оказаться опасным. Зато теперь он был больше прежнего уверен, что знание это существует, что оно передается из уст в уста от одного поколения к другому – древнее знание, зашифрованное в странных напевах, которые он слышал предыдущей ночью, в шепоте ночью у костра, в зловещем плаче над безмолвным плато…
– Если ты не станешь говорить со мной об этом, – грубо сказал он, – покажи, по крайней мере, того, кто станет. Кто не трус и не ребенок.
Если Митчелл и хотел побольнее уязвить собеседника таким неприкрытым оскорблением, его ожидало разочарование. Тот просто поджал губы, покачал головой, развернулся и пошел прочь. Мгновение спустя остальные аборигены последовали за ним.
Кипя от возмущения, Митчелл повернулся к Уолтону.
– И как прикажете разговаривать с такими дикарями?
– А я вас предупреждал, что это будет нелегко, – преспокойно отозвался тот.
Он вытащил трубку, методично набил ее и тщательно раскурил, выдувая дым сквозь сжатые губы.
– Однако думаю, способ все-таки есть. И поблагодарить за него нам придется нашего друга, профессора Нордхерста.
– Вы это о чем? – пуще прежнего рассердился Митчелл.
– У него на лбу написано, что в старые легенды он не верит, о чем бы они ни были. Рано или поздно кто-нибудь покажет ему, как он ошибался. Нам достаточно будет оказаться рядом в нужный момент – уверен, нас ждут ответы на многие вопросы.
Митчелл мрачно поглядел на него.
– Сдается мне, вы знаете об этих островитянах куда больше, чем я думал, – сказал он наконец. – Сначала оказывается, что вы умеете говорить на их языке, причем весьма бегло. А потом – что вы отлично представляете себе образ их мыслей. Как так получилось, скажите на милость?
– Скажем так, я их достаточно подробно изучил, особенно ввиду возможного путешествия сюда. У меня было довольно времени прочесть о них все, что только возможно.
Митчелл не отказался бы продолжить расспросы, но тут в долине чуть ниже раскопа раздался какой-то крик, и он обернулся посмотреть.
Нордхерст взволнованно махал им руками; они кинулись к нему, вниз по склону холма.
– Что у вас? – едва переводя дух спросил Ральф.
Тот показал. Митчелл жадно уставился на тело каменной статуи, расчищенное истекавшими потом землекопами. Он наклонился вперед, Уолтон выглянул из-за его плеча и ахнул. На камне обнаружились изображения, от которых у него мурашки побежали по спине. Ничего подобного он до сих пор не встречал. Картинки были полны смысла… и неприкрытого ужаса – странные создания, не люди и не птицы, но то и другое сразу; необычайная, жуткая жизнь, которую вели эти полутвари… возможно, настоящие гиганты, хотя ничто в картинках не указывало точно на их рост.
– Вы сейчас думаете о тех странных наскальных рисунках в пещерах Новой Гвинеи, – тихонько констатировал Уолтон.
– Ага… и еще в нескольких локациях по всему миру, – кивнул Митчелл.
– Перуанские вот на эти очень похожи… хотя кое-какая разница все-таки есть и может оказаться важной.
– А разве не доказанный факт, что жители острова Пасхи некогда явились из Южной Америки? – ввернул Нордхерст.
– Чистая правда, – сказал Митчелл, выпрямляясь, – но эти рельефы отличаются от тех. В них есть что-то… ужасное, это прямо чувствуется.
– Чушь! Это просто потому, что их только что откопали. А ацтекские и майянские изображения я видел сам, собственными глазами, – высокомерно заявил Нордхерст. – Уж поверьте, я знаю, о чем говорю.
– Ах, извините, – саркастически отозвался Митчелл, сдерживаясь невероятным усилием воли. – Ничуть не собирался ставить под сомнение вашу компетентность в данном вопросе, профессор. Разница между нами одна: я твердо верю, что у этих картинок некогда были живые модели, вы – нет.
– Разумеется, нет! – Нордхерст воззрился на коллегу, очевидно, сомневаясь в здравости его рассудка. – Не станете же вы утверждать, что на этом острове некогда обитала раса существ подобного рода. Какая нелепая, абсурдная мысль!
– Профессор, – процедил Митчелл, изо всех сил стараясь сдерживать гнев, – я верю не только в то, что такая раса существовала здесь, на острове Пасхи, но и в то, что параллельно с ними существовала и другая – великаны, которые создали и воздвигли эти статуи. Более того, я совершенно убежден, мы сумеем найти достаточно доказательств, чтобы убедить в этом даже вас.
Он ожидал продолжения спора, но Нордхерст лишь понимающе улыбнулся и склонился над изображениями, чтобы получше их разглядеть.
Работы продолжались весь день. На теле каменного гиганта, теперь уже наполовину открытом, нашлось много новых рисунков. Судя по всему, росту в статуе было не меньше шестидесяти футов, а вес исчислялся тоннами. Каким образом ее сумели доставить сюда из кратера Рано-Рараку безо всяких машин и механизмов, представлялось совершенно неразрешимой загадкой.
Прошло три недели – и да, раскопки сумели, к вящей радости Митчелла, ответить на ряд вопросов… зато поставили еще сотню, и на эти последние ответов, кажется, не существовало вовсе. Аборигены все еще отказывались разговаривать, несмотря на все ухищрения Уолтона. Никакие подарки рядовым членам племени, их вождю или священнослужителю, как бы его тут ни называли, не возымели ни малейшего эффекта. При этом на любые другие темы они могли общаться часами и в самой дружелюбной манере – но стоило только повернуть разговор на древние времена, до того, как их народ пришел на остров и что этот самый народ на острове обнаружил, как беседа тут же увядала.
Митчелл уже отчаялся найти хоть что-нибудь важное; сарказм профессора Нордхерста день ото дня становился все более неприкрытым. Но однажды вечером, как стемнело, Уолтон пришел к нему в палатку и уселся на раскладной табурет спиной ко входу. Какое-то время он молчал, а потом сказал очень тихо:
– Я разговаривал с одним из стариков и, кажется, наконец-то убедил его кое-что вам рассказать. Насколько важной будет его информация, я не знаю. Но он, видимо, услышал, что обычно говорит наш профессор, и был весьма оскорблен его отношением к местной культуре. В общем, с нами готовы поговорить.
– Он сам попросил вас привести меня? – осторожно поинтересовался Митчелл.
Он уже столько раз пытался выйти на контакт с местными, и его неизменно ждало разочарование. Либо они захлопывали створки у него прямо перед носом, как зловредная устрица, либо болтали и болтали о пустяках, упорно рассказывая то, что он и так знал.
– Да, – кивнул Уолтон. – Возможно, нам, наконец, повезло. Мне кажется, он немного испуган, но говорить будет. И, что важно, он действительно что-то знает, я уверен. Не то вранье, которое они все пытаются нам скормить под видом древних тайн, а что-то и правда стоящее.
– Отлично, я иду, – устало сказал Митчелл, вставая. – Но если это какая-то очередная чушь…
Он не договорил и вышел вслед за Уолтоном в ночь. Половинка луны висела над гладким, как зеркало, морем, бросая причудливые, гротескные тени на вившуюся по склону холма лавовую тропинку.
Налетел ночной ветер, и Митчелл поежился. Лоб и спина его были влажны от пота, и из-за этого одежда неприятно липла к телу. Время тянулось ненормально медленно, это сбивало с толку, дезориентировало… ему казалось, что за ним отовсюду следят чьи-то глаза, враждебные и не принадлежащие островитянам – глаза кого-то, кто скрывался в черных тенях, отбрасываемых луной. Уши непрестанно ловили какие-то легкие звуки, никак не вязавшиеся ни с чем, населявшим остров при дневном свете. Он даже пожалел, что все его чувства так неестественно обострились – но что-то в окружающем одиночестве и покое подстегнуло их, невероятно усилив восприимчивость.
В голову лез всякий иррациональный вздор – о вещах, которые он видел совсем в других местах и как оно все странно сочеталось с тем, на что они наткнулись здесь; о неизвестных, недоступных, чуждых вещах, существовавших с самого начала времен и до сих пор существующих в таких вот заброшенных уголках, как этот, которые цивилизация обошла стороной и где люди все еще верили в старые сказки. Этот заброшенный остров ведь вполне может быть последним оплотом этих чуждых сил на Земле, думал Митчелл. Ему вообще нравилось рассуждать про себя о чем-то подобном, но никогда еще оно не казалось ему настолько живым и пугающе настоящим.
Возможно, и правда все дело в тишине и покое, это им он обязан такими идеями… но что бы Митчелл ни делал, ему никак не удавалось выкинуть их из головы. Кругом царило полное безмолвие. Он даже поймал себя на том, что специально шаркает ногами по камням, чтобы производить хоть какой-то шум и так успокоить нервы, которые уже были совершенно на взводе.
А шевеление вокруг продолжалось. Что-то мелькало, полускрытое в тенях, на самом краю поля зрения, что-то двигалось неуклюже и грузно в ночи. К тому же стало как-то необычно холодно, причем холод этот не желала объясняться тем научным фактом, что они сейчас находились довольно высоко над уровнем моря, а ветер дул прямиком с воды. Не то чтобы что-то было со всей определенностью не так… но воздух вокруг как-то странно волновался, ощущались легкие перепады давления – и все это решительно ускользало от понимания.
Между тем они перевалили через вершину холма и двинулись по узкой извилистой тропке вниз. Впереди не было ничего, кроме тьмы, но вскоре Митчелл разглядел небольшое скопление туземных хижин. Уолтон направился прямиком к одной из них, взобрался по узкой качающейся лестнице и залез внутрь, поманив Митчелла за собой.
Пока он лез вверх, сердце его по какой-то непонятной причине отчаянно колотилось в груди – он не знал, что его ждет внутри, даже не догадывался.
Крошечный светильник подмигивал на столе; за ним сидел древний, умудренного вида старик, положив на столешницу костлявые руки. На взгляд Митчелла, лет ему было не менее девяноста, но по лицу никогда точно не скажешь. Старик мог быть и гораздо старше, тем более что на черепоподобном лице жили, казалось, одни только глаза, пронзительные, быстрые и черные.
– А по-английски он говорит? – осведомился Митчелл, усаживаясь напротив хозяина дома.
– Нет, – покачал головою Уолтон. – Зато знает немного по-испански. Думаю, и ты вполне в состоянии объясниться на этом языке.
Митчелл кивнул, стараясь заставить сердце биться хоть чуть-чуть ровнее. Ну чего, в самом деле, бояться этого человека, попробовал он сказать сам себе. Просто старик думает, что знает какие-то древние тайны – возможно, единственный на острове. Станет ли он говорить? А если да, скажет ли правду, или их ожидает еще одна порция ничем не приправленных фантазий?
– Мой друг говорит, что ты о чем-то хотел мне рассказать, – произнес он медленно и громко на испанском.
Старческие губы дрогнули, и голос, сухой, как бумага, прошелестел:
– Ты приехал сюда задавать вопросы о каменных лицах на острове. О том, кто их сделал и кто принес сюда.
– Это так. Ты что-нибудь о них знаешь?
Тот едва заметно кивнул головой.
– Я не согласился бы ничего тебе рассказать, если бы не думал, что ты способен верить, – тихо прошептал он, сидя очень прямо и неподвижно глядя на гостя пустыми черными глазами. – Твой друг заверил меня, что ты не такой, как другие. Что ты сможешь поверить.
– Да-да. Продолжай.
И снова Митчелл задумался о Уолтоне, но дал мимолетной мысли раствориться во внезапном приливе волнения. Возможно, он наконец-то посрамит Нордхерста, докажет ему, кто тут был прав с самого начала.
– А если я скажу тебе, что великие статуи сами пришли из Рано-Рараку на те места, где ты их нашел – в это ты поверишь?
Теперь в невесомом шепоте прорезалась ирония.
Митчелл почувствовал, как его руки на столе безотчетно напряглись, но тут же усилием воли заставил себя расслабиться. Где-то глубоко, на дне рассудка, он всегда бессознательно подозревал, что к этому оно все и идет – сколь бы невероятной подобная идея ни была.
– Продолжай, – сказал он напряженно. – Я не собираюсь спорить с тем, что ты говоришь.
– Хорошо. – Тот снова чуть заметно кивнул. – Мы живем здесь, на острове Пасхи, уже много столетий, но, как ты наверняка догадался, пришли сюда не первыми. Задолго до нас были другие. Непохожие на нас – непохожие на людей. Рядом с ними мы – как пигмеи. Это были Длинноухие, чьи каменные лица ты видел снаружи. Сейчас они окружили дозором весь остров, следя, чтобы никто не сбежал в море.
– А еще другие? Люди-птицы?
– Да, они тоже тут были. Битва между двумя этими могучими племенами длилась долго. То была изначальная битва между добром и злом, между Древними и Богами.
Ральф Митчелл кивнул: так все становилось на свои места – и изображения на статуях, и то, каким образом они проделали весь многомильный путь от карьеров Рано-Рараку до побережья.
– Значит, добро, в конце концов, победило, – сказал он. – По крайней мере, теперь Нордхерсту придется мне поверить.
Но его собеседник качал головой, и по губам его змеилась странная улыбка.
– Нет, – прошуршал голос. – Это не так. Добро не победило.
Митчелл уставился на него, неспособный ни поймать разбегающиеся мысли, ни, тем паче, облечь их в слова. Странные чувства, чуть не потопившие его по дороге сюда, нахлынули снова. Он уже знал, что имеет в виду старик, но все равно хотел, чтобы тот произнес это вслух.
– Нет? – Он с трудом заставил голос звучать ровно.
– Нет. Это силы зла победили силы добра. Боги были разбиты, и зло до сих пор царит здесь. Но борьба продолжается и будет идти до конца времен.
Митчелл повернулся поглядеть на Уолтона. Тот на него не смотрел: взгляд его был устремлен вперед, губы сжаты в тонкую линию, а на лице застыло странное выражение.
– Ты веришь в то, что он говорит? – поинтересовался он, переходя на английский. – Звучит ведь совершенно неправдоподобно.
– Я предупреждал тебя, что поверить, возможно, будет нелегко, – тихо отозвался тот. – Но у меня нет никаких оснований не верить ему. С какой стати он будет нам лгать? Ему в этом нет никакой выгоды, к тому же это он первый захотел рассказать всю эту историю.
– Возможно, и так, – согласился Митчелл. – Но я почему-то думаю, что дело не в этом. Я склонен верить, что он говорит нам правду.
– Ты понимаешь, что говоришь? Что на этом острове до сих пор существуют если и не остатки той древней расы, то, по крайней мере, люди, творящие зло во имя ее!
– Я понимаю. Я тоже нахожу это невероятным, трудным для понимания, но, поверь, я достаточно хорошо изучил этот народ, чтобы суметь распознать, когда они лгут, а когда говорят правду.
Митчелл повернулся обратно к старику. Пока они говорили, тот глядел пустым взглядом в пространство, не выказывая никакого интереса к гостям – и, возможно, даже не осознавая их присутствия у себя в доме.
Ральф сглотнул и решительно подавил внезапный страх, комом прыгнувший в горло. Чужие, темные, пустые глаза бесстрастно глядели в его, и на мгновение ему показалось, что старика коконом окутывает аура тьмы и зла, растекаясь вокруг, как приливная волна. Он отчаянно заморгал и заставил себя отвести глаза в сторону. Вполне возможно, что туземцы за долгие годы освоили некую форму гипноза, тревожно подумал он.
– У моего народа есть книги, – сказал он как можно спокойнее, – где говорится о людях, что высадились у ваших берегов много-много лет назад. Они пропали на острове, и корабль был вынужден уйти без них. Ты знаешь, что с ними случилось?
– Должно быть, Древние забрали их, – отвечал тот, глядя немигающим взором на чужака.
– Древние? – не унимался Митчелл. – И что, они до сих пор здесь?
– Они все здесь. Те, кого берут себе Древние, обретают бессмертие. Они не могут умереть.
Митчелл невольно задрожал. То, что говорил старик, было, разумеется, невозможно. Бессмыслица какая-то! Кажется, они говорят о совершенно разных вещах, которые между собой не пересекаются. Но черт его побери, если он даст этому невежественному старому дураку побить себя! Нет, он пришел сюда за информацией и получит ее любой ценой! Слишком часто эти аборигены ускользали от ответа! Он искоса глянул на Уолтона, но тот сидел странно молчаливый и, кажется, не спешил принимать в происходящем еще какое-то участие.
– Это бессмертие, о котором вы говорите… – начал Митчелл, – что вы под ним подразумеваете? Что они до сих пор живут тут, как вы и я, и будут жить всегда?
В первый раз старик улыбнулся – улыбка оказалась совершенно беззубая, так что Митчелл невольно содрогнулся.
– Они здесь, с остальными, и здесь они останутся.
Вот и все, что ему удалось вытянуть из старика.
В раздражении Митчелл вскочил на ноги и стоял теперь, гневно глядя на туземца сверху вниз.
– Ну что ж, чего-то в таком роде я и ожидал, – сказал он холодно на испанском, специально, чтобы старик понял каждое слово. – Клубок вранья и полузабытых суеверий – такое мог рассказать кто угодно. Понятия не имею, зачем я вас послушался, Уолтон. Я надеялся, что узнаю тут что-то действительно важное… а на самом деле все больше и больше склоняюсь к тому, что – как ни ненавистна мне сама эта мысль – профессор Нордхерст был всю дорогу прав. Я не найду здесь доказательств своим идеям и теориям. Вся эта экспедиция – напрасная трата времени. Я ухожу… и это последний раз, когда я согласился разговаривать с кем-то из этих идиотов!
Выплюнув эти слова, он развернулся и двинулся к двери – и даже почти успел до нее дойти, когда старик окликнул его. И на сей раз в его голосе было что-то острое, жалящее – и предостерегающее.
– Прежде чем сеньор уйдет, я хотел бы сказать еще одну вещь. Не повторяй ошибку своего друга. Он приехал сюда, ни во что не веря, и клянется, что ничто здесь не заставит его передумать. Он очень глупый человек, потому что многое на этой земле недоступно его пониманию. Я знаю, что они такое, силы тьмы, пустившие корни на этом одиноком острове, между злом и добром. Они родились здесь и не умерли за многие века. И они не умрут, пока жив остров. Они сейчас там, во мраке. Возможно, ты даже ощутил их присутствие по дороге сюда. Но твоему другу предстоит вскоре познакомиться с ними самому, и когда это случится, убедись, что ты не разделяешь его образ мыслей. Доверься вот этому человеку, – тут он медленно качнул головой в сторону Уолтона. – Он – видит. У него разум того, кто верит.
– Это что, угроза? – иронично осведомился Митчелл.
– Не угроза. Предупреждение. Поверь, бессмертие – это совсем не хорошо. По крайней мере, такое.
Целое долгое мгновение Ральф Митчелл прожигал его взглядом, потом откинул соломенную шторку, закрывавшую дверной проем, быстро спустился по шаткой лесенке и очутился, все еще кипя, в непроглядной ночной темноте.
Над ним, в хижине, Уолтон что-то сказал старику на местном языке. Митчелл мрачно улыбнулся. Небось извиняется за безобразное поведение друга. Мог бы и поберечь слова – терпение у него, Митчелла, наконец-то на исходе. Он сыт этими местными тайнами по горло, и плевать, что там лопочут по этому поводу дикари. Если и есть тут, на острове, что-то интересное, что они не хотят ему показывать – отлично! Он не успокоится, пока не найдет его, пока не вытащит из сумрака суеверий на дневной свет и не продемонстрирует с гордостью скептикам.
Но, несмотря на все это, несмотря на пылавший внутри гнев, его странным образом уязвили слова старика. Эти завуалированные угрозы в адрес профессора Нордхерста… что конкретно туземец имел в виду? Они что, правда собираются его убить за веру – или, точнее говоря, за неверие? Маловероятно, чтобы такое могло случиться в наши дни – даже здесь. И тем не менее профессора предупредить, наверное, стоит. Или нет? Он же просто рассмеется ему в лицо, назовет суеверным дураком, скажет, что работа впустую всегда действует людям на нервы. Нет, ничего не надо ему говорить.
Две минуты спустя Уолтон спустился по лесенке и спрыгнул на землю рядом с ним. Ни слова не говоря, он двинулся назад по тропинке, через перевал и вниз, туда, где спал в ночи лагерь.
Ветер поднялся и принялся визжать на них, как какой-нибудь дикий зверь, хватать за одежду, бить в лицо. Снизу вверх прилетел холодный дождь, стал хлестать их, как плетью, так что они в момент промокли насквозь. Губы тут же обметало едкой солью, а чтобы идти, теперь приходилось сгибаться в три погибели против бури.
В небе все еще висела луна – теперь совсем низко над морем, закатываясь за горизонт. Ветер постепенно улегся, и снова стало тихо. Митчелл пробирался вперед, оскальзываясь на гладкой лаве. Уолтон шел легко, держась прямо, как доска, и совсем не смотрел, куда ставит ноги. Кажется, он хорошо знал каждый дюйм тропинки, хотя Митчелл был готов поклясться, что идет он по ней лишь второй раз с тех пор, как нога его ступила на остров. Ну и память у него, раз он может находить дорогу в этом нагромождении скал и почти в полной темноте!
На гребне невысокой седловины они остановились перевести дух и оглядеться. Митчелл уже совсем тяжело дышал, хватая ртом воздух и даже привсхлипывая в царящей здесь, наверху, тишине. Глаза его постепенно привыкли к мраку, и теперь его мучила своеобразная иллюзия: ему казалось, что повсюду кругом них в темноте движутся еще более темные тени. Он даже скосил глаза, чтобы получше их разглядеть, зная, что ночью периферийное зрение куда острее прямого, особенно если глядеть на движущийся объект.
Тени были высоки и гротескны, куда выше человеческого роста, но вполне антропоморфного облика – они скользили по склонам Рано-Рараку на некотором расстоянии от них к востоку. А потом они внезапно превратились из теней во вполне материальные тела: большей частью вертикальные, а иные – извивающиеся по земле, ужасным змеиным движением. Митчелл уже собирался было закричать, но тут рядом оказался Уолтон и закрыл ему рот ладонью, прошипев на ухо приказ стоять тихо. Только когда судорожная дрожь во всем теле у Ральфа прошла, тот убрал руку и отпустил его плечо. Митчелл стоял, онемев при виде того, что открылось ему, со сведенным от ужаса горлом, не способный издать ни звука, захоти он даже орать – а каменные гиганты, навеки застывшие, пожирая глазами пологие, волнистые холмы острова Пасхи, теперь безмолвно шагали сквозь тьму.
Боже мой, вопил его разум, да такие колоссы вообще не имеют права расхаживать тут по земле, и уж тем более в мертвой тишине! От этого зрелища каждый волосок у него на руках встал дыбом в бессловесном, не поддающемся никакому описанию или классификации ужасе. На мгновение у него не осталось сил даже вдохнуть; легкие будто парализовало; глаза настойчиво пытались вылезти из орбит.
Не это ли имел в виду старик, говоря, что Древние, Злые все еще здесь, на острове, что они бессмертны? Теперь он сам это видел, и одной только мысли об этом хватало, чтобы потонуть в неизъяснимом ужасе. Конечно же, Древние бессмертны! Что в целом свете способно пережить эти каменные статуи!
Паника прокатилась через него волною, оставив тело и дух совершенно изможденными. Неизвестно, сколько еще простояли они там, созерцая устрашающую картину. Когда ясность мыслей вернулась к нему, а воздух – в легкие, когда успокоилось безумное сердцебиение, луна уже погрузилась за западный горизонт и исчезла из виду. Ничто больше не двигалось в непроглядной тьме, и только ослепительные, чуждые звезды глядели сверху, ничего не озаряя.
Прошло немало времени, прежде чем Митчелл сумел полностью взять себя в руки и повернуться к Уолтону. Если он и ждал увидать у того на лице выражение кромешного ужаса, его постигло разочарование. Лицо это было непроницаемо.
– Думаю, нам бы лучше пойти, – произнес Уолтон очень ровным голосом. – Остальные начнут нас искать, да и вы, надо полагать, увидели уже достаточно.
– Это все была игра воображения, – прошептал Митчелл себе под нос. – Ну, да, конечно. Просто фантазия. Нервы расшалились после разговора с тем старым идиотом.
Говорил он немного дико, но вряд ли сам это сознавал. Уолтон улыбнулся и пошел вниз по склону холма, по направлению к лагерю.
Там горели факелы; большинство команды, кажется, еще не ложилось. Люди, полностью одетые, торопливо шныряли между палаток – наверное, готовились отправиться на поиски их с Уолтоном, подумал Митчелл, вытирая пот со лба. Никто все равно не поверит, даже надумай они рассказать, что с ними случилось. Он облизнул губы сухим языком и подумал, что теперь все равно придется молчать до конца своих дней, если, конечно, не хочешь закончить их в каком-нибудь приюте для умалишенных. Представляю, что сказал бы на все это Нордхерст!
Как только они вошли в круг света, к ним кинулся капитан. Он был чрезвычайно взволнован.
– Где вас носило в такое время суток, доктор Митчелл? – не особенно вежливо осведомился он. – Надеюсь, профессор с вами?
– Профессор Нордхерст? Нет, его с нами нет…
Митчелл внезапно встревожился. Эти странные угрозы старого туземца… Что он там имел против Нордхерста? Неужели за ними вправду что-то стояло?
– Должно быть, он куда-то ушел сам по себе, – сказал капитан. – Постель стоит разобранная, в нее явно ложились, но, судя по земле в палатке и вокруг, была какая-то борьба. Возможно, пока все остальные спали, местные опять приходили воровать наше имущество, и профессор застал их с поличным. Никто ничего не слышал, хотя Карлтон вроде бы различил какой-то слабый вскрик, но решил, что это чайки. Что профессора нет, мы обнаружили пять минут назад. А потом увидели, что и вы с доктором Уолтоном куда-то подевались.
– Мы с доктором Уолтоном ходили в туземную деревню, – сказал Митчелл лишь самую чуточку слишком быстро. – Но профессора мы там не видели. Если он и пошел куда, то только в противоположную сторону. Луна светила ярко, мы бы увидели его, если бы столкнулись по дороге.
– Утром мы устроим тщательные поиски, сэр, – жестко сказал капитан. – Он, наверное, мог пойти перемолвиться словечком с губернатором, но в такой час это вряд ли было бы уместно. Не беспокойтесь, мы отыщем его, даже если ради этого нам придется перевернуть весь остров вверх дном. Того, что произошло с теми испанцами, больше не повторится.
Они действительно искали весь следующий день и еще несколько дней, но ни малейших признаков профессора Нордхерста так и не обнаружили. Губернатор отрядил на поиски все местное население, наказав прочесать все известные им укромные места, но все оказалось тщетно. Профессор просто исчез с острова, будто его вообще никогда здесь не было.
Шесть недель, пока шли поиски, археологическая партия пробовала копать в разных местах острова. Некоторые свидетельства в пользу теорий Митчелла были действительно найдены, но ввиду таинственного исчезновения Нордхерста никакого ощущения победы они не принесли. Потеряв своего главного противника, Митчелл утратил и весь интерес к экспедиции. Когда настало время отплывать, он был даже рад.
Когда загрохотала якорная цепь, он стоял на палубе, облокотившись на поручни, и глядел на размытое зеленое пятно острова. Через сильный бинокль он различал заметные детали пейзажа, к которым успел так привыкнуть за это время. На обширном склоне виднелась одинокая фигура статуи, которую они откопали и вытащили из земли, растянувшаяся во все свои колоссальные шестьдесят футов. Рядом виднелись другие, все еще стоящие вертикально или лежащие лицом вниз. Митчелл поводил биноклем туда-обратно, с отстраненным интересом рассматривая лица. Есть в них, конечно, какая-то тайна… А потом все мысли разом улетучились у него из головы. Руки затряслись так сильно, что он едва сумел удержать прямо бинокль, глядя на статую, единственную из всех обращенную к морю лицом… – лицом профессора Нордхерста, каким он запомнил его ровно перед тем, как тот исчез.
Хорхе Луис Борхес. Есть многое на свете…
Накануне последнего экзамена в Техасском университете (это в Остине) я узнал, что мой дядюшка, Эдвин Арнетт, скончался от аневризмы на дальней оконечности Южноамериканского континента. Я почувствовал… то, что чувствуют все, когда кто-нибудь умирает – сожаление, теперь уже бесполезное, что не был к нему добрее. Мы слишком часто забываем, что мы – мертвецы, и общаемся с мертвецами.
Я занимался философией, и это именно дядя первым открыл мне ее чарующие хитросплетения, не назвав ни одного лишнего имени, – когда-то давно, у себя дома, в Каса Колорада, что возле Ломаса на окраине Буэнос-Айреса. В идеализм Беркли[42] он посвятил меня с помощью апельсина, который был у нас на десерт после обеда; в парадоксы элеатов[43] – с помощью шахматной доски. Потом, годы спустя, он подсунул мне трактаты Хинтона,[44] пытающиеся продемонстрировать реальность четырехмерного пространства. Читателю предлагалось вообразить его себе, проделывая сложные упражнения с разноцветными кубиками. Никогда не забуду пирамиды и призмы, которые мы возводили у него на полу кабинета.
Мой дядя был инженером. Прежде чем совсем отойти от дел на железной дороге, он вознамерился построить себе дом в Турдере, где можно было бы вести почти деревенскую жизнь в приятной близости от города. И, конечно, архитектором он весьма предсказуемо взял своего ближайшего друга, Александра Мура – бескомпромиссную личность, исповедовавшую не менее бескомпромиссное учение Джона Нокса[45]. Дядюшка, подобно почти всем джентльменам тех дней, был вольнодумец или, уж скорее, агностик – но теологией при этом интересовался, точно так же как интересовался невозможными кубиками Хинтона и хорошо сконструированными кошмарами молодого Герберта Уэллса. Еще он любил собак: у него была огромная овчарка, которой дядя дал имя Сэмюэль Джонсон – в память о своей далекой родине, Личфилде[46].
Каса Колорада стояла на холме; к западу расстилались почерневшие от солнца поля. Араукарии за оградой никак не способствовали рассеянию царившего там мрака. Вместо нормальной плоской крыши Мур соорудил двускатную, крытую черепицей, да вдобавок еще с квадратной часовой башней – она совершенно задавила собой стены и скудные окна. Мальчишкой я принимал все это безобразие как должное – как все мы принимаем как должное все те слабо между собой совместимые вещи, которые только на том основании, что они находятся рядом в пространстве, человек именует миром.
Домой я вернулся в 1921 году. Дабы избежать юридических сложностей, Каса Колораду выставили на аукцион. Купил ее иностранец, некий Макс Преториус, уплативший вдвойне против самой высокой ставки. Стоило только подписать бумаги, и он был уже тут как тут: одним совсем не прекрасным вечером он с двумя помощниками вывез на свалку неподалеку от старой Скотной Дороги всю мебель, все книги и всю утварь из дома. (Хинтоновских книг с картинками кубиков и большущего глобуса мне жалко до сих пор.) На следующий день этот Преториус явился к Муру и предложил кое-какую перестройку, которую архитектор с негодованием отверг. В итоге за работу взялась одна фирма из Буэнос-Айреса. Местные плотники отказались делать для дома новую мебель – из-за выставленных Преториусом условий, которые, в конце концов, принял некий Мариани из Глева. Целых две недели он корпел за закрытыми дверями – почему-то по ночам. И ночью же новый хозяин Каса Колорада въехал в свои владения. Окна больше не открывались, хотя вроде бы из-за ставней в темноте регулярно пробивался свет. Однажды утром молочник нашел на подъездной дорожке овчарку – обезглавленную и искалеченную. Зимой повалили все араукарии. Больше Преториуса никто никогда не видел.
Эти новости, как легко можно представить, изрядно меня встревожили. Сам знаю, что наиболее выдающаяся моя черта – любопытство. То самое любопытство, что свело меня с женщиной, совершенно на меня не похожей, – только чтобы выяснить, кто она такая и как с ней обращаться; потом заставило подсесть на лауданум (результаты совершенно не впечатлили), потом – увлечься трансфинитными числами… и, наконец, удариться в жуткую авантюру, о которой я как раз собираюсь вам рассказать. На свою беду я решил выяснить, что там да как с дядюшкиным домом.
Первым делом я отправился к Александру Муру. Я запомнил его высоким, черноволосым и жилистым – сложение говорило о большой силе. Теперь годы согнули его, а борода совсем поседела. Он принял меня у себя, в Темперли, в доме, предсказуемо выглядевшем копией дядиного, так как оба неукоснительно следовали стандартам неплохого поэта и крайне скверного зодчего – Уильяма Морриса[47]. Разговор вышел не слишком оживленный: чертополох – более чем красноречивый символ Шотландии. Тем не менее, я чувствовал, что щедро заваренный цейлонский чай и не менее щедрая тарелка сконов (которые хозяин дома ломал пополам и намазывал для меня маслом, словно я все еще был мальчишкой) являли апофеоз сурового кальвинистского гостеприимства, на какое только способен шотландец по отношению к племяннику старого друга. Их теологические разногласия с дядей всегда были для обоих эдакой партией в шахматы, где каждый из игроков до некоторой степени сотрудничает с противником.
Однако время шло, а к сути дела я так и не приблизился.
– Молодой человек, – молвил Мур после одной особенно неудобной паузы, – вы явно проделали весь этот путь не для того, чтобы потолковать об Эдвине или Соединенных Штатах – стране, которая крайне мало меня интересует. На самом деле вас беспокоит продажа Каса Колорады и ее странный покупатель. Меня, надо признаться, тоже. Вся эта история меня чрезвычайно огорчает, но вам я расскажу все, что знаю. Увы, это совсем немного.
– Еще до того как Эдвин умер, – продолжал он через какое-то время без малейшей спешки, – мэр вызвал меня к себе в кабинет. С ним был приходской священник. Они попросили меня набросать план для католической часовни и обещали хорошо оплатить работу. Я тут же ответил «нет». Я – слуга Господа и не могу осквернять себя возведением алтарей идолищам.
На этом он умолк.
– Это все? – рискнул спросить я по прошествии нескольких минут.
– Нет. Я к тому, что это еврейское отродье, Преториус, хотел, чтобы я уничтожил собственное произведение и возвел на его месте богомерзкого монстра. Много обличий у скверны, воистину много!
Все это он произнес очень серьезно, после чего встал.
На обратной дороге, заворачивая за угол, я столкнулся с Даниэлем Иберрой. Мы давно знали друг друга, как оно обычно бывает между жителями маленьких городков. Он предложил подвезти меня назад, в Турдеру. Никогда не любил шпану: наверняка мне грозила мерзостная литания жестоких и более-менее апокрифических закулисных россказней… и все же я сдался и приглашение принял. Была уже почти ночь. Когда в нескольких кварталах вдали показалась Каса Колорада, Ибера внезапно повернул в объезд. Я спросил, чего это вдруг, – и полученного ответа, признаться, не ожидал.
– Я – правая рука дона Фелипе, – заявил он мне. – Никто меня слабаком не назовет. Когда молодой Ургоити приехал искать меня аж из Мерло – помнишь, что с ним стало. Короче… Несколько дней назад возвращался я с вечеринки, а ярдах в ста от того дома вроде как увидел что-то. Конь мой попятился, и если бы я не крепко держал поводья в руках и не заставил его таки повернуть на ту улицу, не разговаривал бы я сейчас с тобой, вот помяни мое слово. А увидел я такое, что понятно, чего это конь перетрусил…
Тут Ибера добавил крепкое словечко.
Той ночью я так и не уснул. Лишь на рассвете мне привиделась гравюра, которой я никогда раньше не видел – или, может быть, видел, но забыл: в стиле Пиранези[48], с лабиринтом на ней. Это был каменный амфитеатр, окаймленный кипарисами и поднимавшийся выше их вершин, – без окон и без дверей, только с бесконечным рядом узких вертикальных бойниц. Вооружившись увеличительным стеклом, я искал внутри минотавра, и, в конце концов, нашел. Это было чудище из чудищ, больше бизон, чем бык. Простершись всей своей человеческой тушей на земле, он лежал, охваченный сном. Что, интересно, ему снилось? Или кто?
Тем вечером я специально прошел мимо Каса Колорады. Железные ворота были заперты, а некоторые из их прутьев – погнуты. То, что некогда было садом, теперь сплошь заросло сорняками. Берега неглубокого рва справа были все истоптаны.
Оставалось сделать еще один шаг, но я день за днем откладывал его – не потому что считал напрасной тратой времени, а потому что он приближал меня к неизбежному, к самому последнему из шагов.
Наконец, не питая никаких особых надежд, я отправился в Глев. Плотник Мариани оказался крепким, румяным итальянцем, простым и сердечным – и уже довольно преклонных лет. Одного взгляда на него оказалось довольно, чтобы выкинуть из головы все военные хитрости, которые я заготовил прошлой ночью. Я просто протянул ему свою карточку, которую он торжественно зачитал по складам, почтительно запнувшись на «кандидате наук». Я честно сказал, что интересуюсь мебелью, которую он изготовил для дома в Турдере, который некогда принадлежал моему дядюшке. Он начал рассказывать и рассказывал долго. Даже не стану пытаться перевести на понятный язык этот поток слов и жестов… Среди прочего он сообщил мне, что почитает главной своей обязанностью удовлетворять любые требования клиента, сколь бы дикими они ни казались, а потому выполнил всю работу буквально, по-заказанному. Порывшись в ящиках секретера, он продемонстрировал мне несколько документов, в которых я ни черта не понял; все были подписаны неуловимым Преториусом. (Не иначе как Мариани принял меня за адвоката.) Прощаясь, он сказал, что даже за все золото мира ноги его больше не будет в Турдере, не говоря уже о том чертовом доме. Нет, добавил он, конечно, клиент – это дело святое, но, по его скромному мнению, это сеньор Преториус совсем рехнутый. После этого он немедленно умолк, видимо, в раскаянии, и мне больше не удалось вытянуть из него ни слова. Я, в принципе, на что-то подобное и рассчитывал, но одно дело рассчитывать, и совсем другое – глядеть, как оно действительно происходит. Раз за разом я говорил себе, что совершенно не стремлюсь разгадать эту загадку и что вообще-то единственная настоящая загадка здесь – время, безупречное стечение прошлого, настоящего и будущего, «всегда» и «никогда». Впрочем, подобные размышления все равно ни к чему не вели: просиживая вечера напролет за Шопенгауэром[49] и Ройсом,[50] я потом каждую ночь все равно отправлялся кружить по грязным дорогам вокруг Каса Колорады. Иногда на втором этаже мне виделся проблеск очень белого света; иной раз я, кажется, слышал стон. Вот так я и развлекался вплоть до девятнадцатого января.
Это был один из тех характерных для Буэнос-Айреса дней, когда человек чувствует, что лето его не просто изводит и оскорбляет, но прямо-таки сживает со свету. Где-то в одиннадцать вечера разразилась гроза. Сначала с юга налетел ветер, потом водопадом обрушился дождь. Я заметался в поисках хотя бы дерева. Во внезапной молнийной вспышке я обнаружил себя в двух шагах от железной ограды. Не знаю, из страха ли, из надежды, но я попробовал ворота. Неожиданно для меня они отворились. Я бросился к крыльцу, подгоняемый бурей. Земля и небо хором грозили мне. Дверь в дом оказалась тоже открытой. Дождевой шквал хлестнул меня по лицу, и я вошел.
Плитка пола была почти вся выломана, так что я ступил в заросли травы. Тошнотворный сладкий запах заполнял дом. Справа или слева, уже не помню где, я споткнулся о каменный скат и быстро стал подниматься. Наверху я почти безотчетно повернул электрический выключатель.
Столовая и библиотека из моих воспоминаний ныне, когда стену между ними снесли, представляли собой одну огромную голую комнату, в которой всей мебели стояло предмета два, не больше. Описывать их я не стану и пытаться, так как не вполне уверен (невзирая на жестокий белый свет), что вообще их увидел. Разрешите, я объяснюсь. Чтобы увидеть что-то – действительно увидеть, – мы должны это понимать. Кресло подразумевает восседающее в нем человеческое тело со всеми его суставами и конечностями; ножницы – сам акт разрезания. Что сказать о настольной лампе или об автомобиле? Дикарь не понимает миссионерской библии; пассажир не видит на корабле того же такелажа, что матросы. Если бы мы по-настоящему видели мир, возможно, мы бы начали его понимать. Ни одна из бессмысленных форм, что подарила мне та ночь, не соответствовала человеческому телу и, если уж на то пошло, вообще не подлежала никакому разумному использованию. Зато любая вызывала отвращение и ужас. В одном углу я обнаружил лестницу, которая вела на верхний этаж. Промежутки между железными перекладинами, которых было не более десяти, оказались пространные и нерегулярные. Впрочем, сам факт лестницы, неоспоримо говорящей о наличии рук и ног, был понятен и даже принес мне некоторое облегчение. Я выключил свет и какое-то время прождал в темноте. Ни единый звук не нарушал тишину, однако все эти непонятные вещи вокруг все-таки сильно выбили меня из колеи. Наконец, я принял решение.
Оказавшись наверху, я дрожащей рукой повернул выключатель во второй раз. Там, на нижнем этаже, это были еще только цветочки кошмара – ягодки начались здесь. Предметов мебели было то ли слишком много, то ли совсем мало, но связанных между собой. Припоминаю что-то вроде длинного операционного стола, очень высокого и в форме буквы «U», с круглыми впадинами на каждом конце. Я еще подумал, что это, должно быть, кровать того, кто тут живет, косвенно свидетельствующая об его анатомии, как тень – об анатомии зверя или бога. Откуда-то из Лукана[51] мне на язык прыгнуло слово «амфисбена», определенно намекавшее на то, что суждено было вскоре узреть моим глазам, но отнюдь его не исчерпывавшее. Вспомнил я, конечно, и зеркала, поставленные под углом друг к другу…
Кто же обитал здесь? Чего ему понадобилось на этой планете, не менее враждебной ему, чем этот чужак – нам? Из каких сокрытых пространств астрономии или времени, из каких древних и уже неисчислимых ныне сумерек явился он в этот южноамериканский пригород и в эту, такую обычную среди прочих ночь? Я чувствовал, что легкомысленно вторгаюсь в царство хаоса.
Дождь снаружи прекратился. Я поглядел на часы и с удивлением отметил, что уже два пополуночи. Оставив свет включенным, я осторожно стал спускаться вниз. В том, чтобы слезть по этой лестнице, не было ничего невозможного – главное, слезть, пока жилец дома не вернулся. Думаю, дверей он не запер, просто потому что ему было нечем.
Я как раз нащупывал ногой предпоследнюю перекладину, когда не то услышал, не то ощутил, как нечто медленное, гнетущее и двойное поднимается по скату на первом этаже. Любопытство во мне превозмогло ужас, и глаз я не закрыл.
Рэндалл Гаррет. Безвременный ужас
Прошло уже больше тридцати лет с тех пор, как я повстречался с тем ужасом в загробном храме, но помню его до сих пор, так же ясно, как если бы это случилось всего час назад – и эмоции так же свежи. В те дни, за двадцать лет до рубежа веков, парусные корабли все еще царили в большей части водных пространств этой планеты; теперь уже движимые паром суда за считанные дни покрывают расстояния, на которые прежде уходили месяцы. Все это больше не имеет для меня никакого значения. Я больше не выезжал за границу – с тех самых пор, как вернулся из того вояжа по южным морям, едва живой от лихорадки и делирия, более тридцати лет тому назад.
Полагаю, еще до скончания этого нового века наши исследователи докажут как неоспоримый научный факт то, что я и так уже почитаю за истину. Какие тайны кроются в руинах мегалитических городов, погребенных под зыбучими песками на трех разных континентах Земли? Кто их создал – просто ли наши доисторические предки? Или же они куда старше, чем мы дерзаем предполагать, – произведения некой изначальной расы, с этой ли планеты родом или с другой, из дальней космической дали? Второе звучит дико, фантастично, даже, возможно… безумно, но я верю, что это правда и что, быть может, мой рассказ послужит ко благу тем пытливым умам, кто уже эту правду подозревает. Задолго до того, как наши предки открыли способы использования огня – и даже до того, как вообще развились выше животного облика и разума, на планете этой безраздельно царствовали создания невероятной силы и зловредного интеллекта.
Я всегда был личностью праздной и время свое тратил на исторические исследования, на чтение книг по философии – как натуральной, так и метафизической – и написание статей (которые сам считал весьма учеными) для разных умных журналов. В молодости я был поавантюрнее – много путешествовал, и не только для того, чтобы пользоваться сокровищами величайших университетов мира. Нет, я занимался полевыми исследованиями в разных укромных уголках мира, куда из ученого люда мало кто добирается. Я тогда был совершенно бесстрашный: ни гнилая вонь тропических джунглей, ни засушливый зной суровых пустынь, ни стужа полярных областей меня не пугали. Вплоть до лета того года, когда мне стукнуло двадцать шесть.
Я стоял на палубе «Белой луны», что везла меня домой через южные моря после нескольких месяцев, потраченных на изучение древних руин на одном из островов покрупнее. (Древность этих руин измеряется в лучшем случае веками – к нынешнему моему рассказу они отношения не имеют.) За время, проведенное на корабле, я успел сдружиться с капитаном Борком – повелителем нашего трехмачтовика. Он был коренастый, грубоватый, но добродушный малый, великолепный морской офицер и, к тому же, весьма начитанный в областях, довольно далеко отстоящих от судоходства. Будучи самоучкой, он, тем не менее, вел себя как человек благородного происхождения – такое в те дни среди моряков встречалось нечасто. Лет ему было на дюжину больше, чем мне, но это не помешало нам провести немало часов этого утомительного и однообразного путешествия за обсуждением самых разнообразных тем и предметов, и, рискну заметить, я от него за это время узнал не меньше, чем он от меня. Думаю, мы успели стать хорошими друзьями.
Как-то вечером, помнится, мы засиделись допоздна у него в каюте, беседуя о демонологии.
– Я сам не особо суеверен, сэр, – сказал он мне, – но случаются в море вещи, скажу я вам, каких ни за что не встретишь на земле. И которых я не сумел бы объяснить, даже если бы попытался.
– И вы, капитан, приписываете эти явления бестелесным духам? – осведомился я. – Конечно же, нет.
В слабом свете масляной лампы, покачивавшейся под потолком, лицо его приняло торжественное выражение.
– Наверное, не духам, сэр. Нет, не совсем духам. Чему-то… другому.
Меня это заинтересовало. Я знал, что человек он честный и если уж чего скажет, это будет в точности то, с чем он и вправду столкнулся.
– Чему же тогда, если не духам? – спросил я.
Он задумчиво встал и пошел поглядеть в иллюминатор.
– На самом деле не знаю, – медленно проговорил он своим низким, рокочущим голосом, уставясь в безлунное ночное море. Потом он перевел взгляд на меня, но выражение лица осталось прежним.
– На самом деле не знаю, – повторил он. – Может быть, демонам, может быть, духам, а может, чему-то еще, но это не то чувство, что охватывает вас на кладбище, если вы понимаете, о чем я. Оно какое-то совсем другое. Будто бы есть что-то эдакое вон там…
И он показал вниз – через палубу, через трюм, дальше, в ужасные морские глубины, совсем далеко внизу. Я ничего на это не сказал.
– Вон там, далеко-далеко, – продолжал он торжественно, – есть что-то старое, очень старое, но живое. Куда старше, чем мы способны понять. Возникшее задолго до самой зари времен. Оно там… и оно ждет.
Меня вдруг охватило отвращение – не к капитану, нет, но к морю вообще. Я понял, что и сам тоже ощущал этот безымянный страх, хоть даже о том и не подозревал.
Однако падать жертвой этого странного чувства я совершенно точно не собирался.
– Ну-ну, капитан, – произнес я самым приятным тоном, – все это игра вашего воображения. Что за разум может обитать на самом дне моря?
Долгое мгновение он смотрел на меня, затем выражение его широкого лица изменилось, окрасившись натужной веселостью.
– Ох, сэр, да вы, конечно, правы. Все мы в море мрачнеем. Боюсь, я слишком долго не видал земли. Надо бы задать себе хороший отдых на берегу – точно, так я и сделаю! Встану на якорь на месяц, уж тогда-то все эти глупости из башки повыветрятся. Не желаете ли еще стаканчик, сэр?
Стаканчик я желал, и к тому времени, как оказался, наконец, в собственной каюте, успел почти совсем позабыть этот странный разговор. Улегшись на койку, я моментально заснул.
Пробудил меня надсадный вой ветра в снастях. Корабль тяжко валился из стороны в сторону: очевидно, на нас накинулся шторм. Сверху, с палубы, я слышал крики капитана и старпома. Не очень помню, о чем шла речь, так как не вполне знаком с морской терминологией: но другие члены команды определенно что-то орали им в ответ.
Темень царила непроглядная, а так как стояло лето и мы находились в Южном полушарии, это означало, что еще совсем рано. Я не имел ни малейшего представления, который нынче час, но знал, что спал недолго. Выбравшись из койки, я устремился наверх.
Описать этот шторм мне нелегко даже сейчас. Море ворочалось, будто живая тварь, однако ветер дул совсем несильно. Он все время менялся: то шел с одной стороны, то вдруг с другой, но по-настоящему к штормовой отметке даже не приближался. «Белая луна» виляла под его порывами туда и сюда, будто мы попали в какой-то чудовищный водоворот, регулярно менявший направление вращения. Над самой головой небо было чистое. Звезды ярко сияли по всем направлениям, кроме западного, где кляксой пучилась единственная огромная черная туча.
– Уходите вниз, сэр, уходите вниз! – услышал я крик капитана. – На палубе вы будете только мешать! Идите вниз!
Сказав себе, что я, в конце концов, не моряк, а он полновластный хозяин корабля, я послушно отправился в каюту пережидать эту странную, жуткую бурю. Не знаю, сколько она длилась, потому что в тот день так и не рассвело. Туча с запада растеклась по всему небосклону, словно тяжелый дым, почти затмив солнце, и когда море улеглось до ласковых барашков, небо все еще оставалось густо-серым. Вскоре кто-то забарабанил мне в дверь.
– Капитан желает видеть вас на палубе, сэр, – сообщил снаружи хриплый матросский голос.
Я отправился вслед за его обладателем на верхнюю палубу, где капитан Борк стоял, опершись на поручни правого борта и вперив взор в обнимавшую нас со всех сторон серость.
– Капитан, что случилось? – осведомился я.
– Понюхайте воздух, сэр, – сказал он, не глядя на меня.
И я сам уже обратил внимание на вонь, насыщавшую обычно такой свежий воздух. Это был тошнотворный запах гниющей морской плоти в сочетании с едкой горечью жженой серы. Прежде чем я успел раскрыть рот, чтобы ответить, капитан продолжал:
– Я один раз чуял такое много лет назад. А вам, сэр, случалось? – Он посмотрел на меня.
– Да, один раз, – ответил я. – И не совсем такое – скорее похожее. Это было рядом с вулканом. И тухлой рыбой тогда не пахло.
Капитан Борк медленно кивнул своей массивной головой.
– Да, сэр. Вот именно этим оно и пахнет. Откуда-то с запада.
Он показал туда, где черное облако было гуще всего.
– Где-то было вулканическое извержение, подобных которому я еще не видал. Так я и знал, что это не простой шторм – для тайфунов сейчас не сезон.
– Но откуда же в таком случае так жутко воняет мертвечиной? – поинтересовался я. – Ни один вулкан так пахнуть не станет.
Не успел капитан ответить, как с вершины бизань-мачты донесся крик:
– Земля-я-я-я!
Капитан Борк резко развернулся и прищурился на север, потом вытянул руку:
– И вправду земля, сэр! Вот оттуда-то вонь и идет. Море в этих краях мелкое, но никаким островам тут вообще-то быть не положено. Глядите!
В смутном сумеречном свете я разглядел низкий, угрюмый берег, выдававшийся над все еще неспокойной поверхностью моря. Так вот что произошло! Извержение вулкана и последовавший подземный толчок подняли часть морского дна. Эта глыба черного базальта была частью донного ложа, покоившейся в морских глубинах бессчетные тысячелетия. Именно оттуда, с этого внезапно вознесшегося плато, порывы бриза и доносили до нас одуряющую вонь.
Капитан принялся отдавать приказы. Нужно было произвести кое-какой ремонт, а для этого неплохо бы встать на якорь – поэтому корабль направили к новорожденному острову. Не слишком, впрочем, близко: если случится еще один сейсмический толчок, между «Белой луной» и скалами должен оставаться достаточный зазор.
Море здесь оказалось достаточно мелким, чтобы бросить якорь, и команда бодро принялась за работу. Благоухание острова, хоть и достаточно мерзостное само по себе, было на самом деле не таким уж сильным, так что мы скоро к нему привыкли. От меня пользы на палубе не было никакой; я мог бы преспокойно удалиться к себе в каюту и сидеть там, пока остальные работают… но в этом мрачном, зловонном острове чувствовалось нечто такое, что буквально приковало мое внимание. Берег располагался почти параллельно от нас, по левому борту; я нашел себе местечко, где не рисковал попасться на пути рабочих, и принялся рассматривать землю через подзорную трубу, которую позаимствовал у капитана.
Остров оказался крошечный; его без труда обойдешь пешком, будь он ровный и плоский, – но с такой иззубренной, утесистой, скользкой поверхностью не тут-то было! По ближайшем рассмотрении он выглядел еще более негостеприимно, чем издалека. Ручьи морской воды все еще бежали с верхнего плато, промывая себе дорогу сквозь тектонические залежи слизи, студенисто скользившие по базальтовым склонам вниз, на инкрустированный кораллами пляж. В карманах породы скапливалась тошнотворного вида жижа, выпуская вальяжные и непристойные пузыри. Разглядывая пейзаж, я никак не мог отделаться от ощущения, что уже когда-то видел все это – в неком давнем и тягостном кошмаре.
Тут мое внимание привлекла вершина одного утеса. Она располагалась дальше от берега, так что мне даже пришлось подкрутить фокус подзорной трубы, чтобы яснее ее разглядеть. На мгновение у меня даже дыхание перехватило: слишком уж она походила на обломанную верхушку зубчатой башни!
Разумеется, такого быть не могло. Я твердо сказал себе, что это просто случайное геологическое образование. Но я должен, просто обязан был как следует ее рассмотреть! Я отправился на поиски капитана и испросил позволения взобраться повыше на мачту, чтобы разглядеть утес сверху. Он был так занят, что недолго думая позволение мне даровал. Я залез на мачту, прихватив с собой трубу, и снова вперился в странную башню. Отсюда ее было видно очень хорошо. Прежде всего, там обнаружилась и вторая, парная, но обломанная гораздо ниже первой. Обе поднимались по углам некоего прямоугольного блока, который вполне мог оказаться наполовину погребенным в ландшафте зданием – как будто на острове все еще возвышалась огромная, тысячелетней давности крепость.
Или это все-таки мое непомерно пылкое воображение споро намалевало воздушный замок на месте невинной природной формации? Мне не раз случалось видеть, как под творческой рукой ветра облака в небе принимают причудливые и фантастические формы – может быть, и тут имеет место феномен сходного характера? Я попробовал приструнить фантазию и заставить себя взглянуть на распростершийся передо мною пейзаж как он есть, а не каким ей хотелось бы его видеть. Подзорная труба наглядно свидетельствовала, что поверхность этого безобразного, но довольно внушительно выглядящего образования была сплошь облеплена кораллами и мелкими моллюсками, вроде тех, что колонизируют днища морских судов, если их слишком долго не ставить в сухой док. Края здания – если оно, конечно, было зданием – были не острые, а закругленные. Конечно, бывают и просто случайные совпадения. Подчас естественные скальные образования оказываются за долгие тысячелетия до такой степени покрыты известковыми напластованиями, что простой элемент донного рельефа приобретает смутное сходство с произведением архитектуры. И все же… разве подлинный артефакт сходного размера и формы не выглядел бы точно так же после стольких лет, проведенных на дне моря?
Я никак не мог определиться. Выход был только один, так что я отправился к капитану с новой просьбой.
– Высадиться на берег? – Тот с удивлением воззрился на меня. – Нет, сэр! Такого я позволить не могу. Во-первых, это слишком опасно. Камни на берегу слишком скользкие, там ноге не за что зацепиться. И вы посмотрите на запад – вулкан все еще активен; второй толчок может отправить остров на дно с той же легкостью, с какой первый поднял. Во-вторых, в данный момент я не могу выделить ребят, чтобы отвезти вас на берег в шлюпке – у меня все заняты.
Мне пришлось упереться.
– Капитан, – заявил я, – уверен, вы отдаете себе отчет, какую невероятную научную ценность имеет это открытие. Если эта структура, как я имею основания предполагать, есть творение наших далеких предков, а не просто естественная конфигурация камня, невозможность исследовать ее будет неоценимой потерей для всей современной науки.
На убеждение капитана ушло некоторое время, но когда я сумел уговорить его влезть на мачту и поглядеть своими глазами, он согласился дать мне шлюпку, хотя и скрепя сердце.
– Очень хорошо, сэр, – сказал он, – раз вы так настаиваете. Двое моих парней отвезут вас на берег. Поскольку расстояние тут небольшое, они вернутся на корабль и будут работать, пока вы не позовете. Большего я для вас сделать не могу. Думаю, это серьезный риск, да что там – откровенное безрассудство. Но вы, сэр, не ребенок и имеете право поступать, как сочтете нужным, сколь бы опасно это ни было.
– Честно говоря, сэр, – добавил он, помягчев лицом, – я бы и сам поехал с вами, если бы мог. Но мой долг – оставаться тут, с кораблем.
– Я вас полностью понимаю, капитан, – заверил его я.
На самом деле мне совершенно не хотелось брать его с собой на берег. В те времена я стремился все открытия делать сам. Если это приключение сулило какую-то славу, я хотел ее всю себе. Как же горько я раскаялся в своем юношеском тщеславии!
«Пляж» – если его можно так назвать – в действительности представлял собой просто склон, покрытый острыми кораллами вперемешку с вонючей слизью. Мне хватило ума одеться в водонепроницаемое плюс тяжелые ботинки – но муторный запах вблизи оказался почти невыносимым. Ну, чего просили… того и допросились.
Пляж резко оканчивался отвесной скалой высотой почти в два моих роста, так что мне еще пришлось идти в обход, чтобы найти доступный для подъема склон. Подняться-то я в итоге поднялся, но продвигаться по скользким и одновременно острым камням и вправду было нелегко. Как бы там ни было, я вскоре вылез на более плоскую часть острова.
Не знаю, как описать тот кромешный ужас, что навалился на меня, когда я перевалил через край и увидал это бесстыдно рассевшееся на плато здание. Будь у меня поменьше идиотской храбрости, я бы уже тогда повернул бы назад к берегу и окликнул шлюпку, неуклонно удалявшуюся по направлению к «Белой луне». Но незрелая гордыня, как это часто бывает, взяла верх над здравым смыслом. Взялся за гуж, так уж изволь идти до конца, а не то капитан со всей командой бравого корабля в придачу обзовут тебя трусом!
Я осторожно двинулся через поле заросшего кораллами базальта, но все равно поскальзывался буквально через шаг, то и дело проваливаясь в зловонные лужи рыбной слизи. Сейчас я бы не рискнул еще раз проделать этот путь – я уже куда более нервный, да и мускулы у меня стали слабее. Даже моему молодому и энергичному «я», прямо скажем, сильно повезло, что оно ничего себе не сломало.
Неожиданно идти стало легче. Вокруг этой каменной громады, шагов на десять-двенадцать от основания стен, земля была на удивление ровной и покрытой галькой и мелким песком, а не кораллами. Но даже на таком расстоянии эти мокрые, заросшие стены решительно не желали выдавать, какого они происхождения – природного или искусственного. Медленно, осторожно я пошел вдоль стены на восток, обогнул шагов через тридцать угол и продолжил дальше на север, вдоль короткой стороны прямоугольника. Эта восточная стена оказалась настолько же пустой и неразговорчивой, как и предыдущая. На следующем углу я повернул на запад и двинулся вдоль северной стены. Она тоже ничем не отличалась от южной. И, разумеется, только в последней стене я обнаружил проем.
Я приблизился к бреши со смесью ужаса и азарта. Вот он, наконец, путь к ответам на так настойчиво осаждавшие меня вопросы! На пороге я запнулся, почему-то не решаясь заглянуть внутрь. Пройти дальше было нелегко: огромная каменная глыба лежала плашмя на песке: заполненная грязью канава отмечала место, где она вертикально простояла долгие века, пока недавнее землетрясение не раскачало и не опрокинуло ее, освободив ранее запечатанный проход. В том, что это именно дверной проем, у меня даже сомнений не возникло: одного опасливого взгляда внутрь хватило, чтобы различить гладкий, сухой каменный пол. Даже в этом тусклом свете, лившемся с затянутого дымом неба, этот поразительный факт оставался фактом: таинственное строение действительно имело искусственное происхождение; его возвели какие-то разумные существа, и лежащая у моих ног каменная плита несколько последних тысячелетий запечатывала вход, не давая едкой морской воде проникнуть внутрь.
Плывшие изнутри испарения тоже не слишком хорошо пахли, но запах был скорее сухой и затхлый. Несмотря на стиснувшее мне внутренности скверное предчувствие, я был больше не в силах сдерживать свое естествоиспытательское любопытство.
Я выскользнул из лямок вещмешка, которым меня снабдил капитан, и вытащил самый громоздкий из бывших в нем предметов – морской фонарь. Посражавшись немного с кремнем и кресалом, я сумел, в конце концов, запалить масляный фитиль.
Я очень хорошо помню, как чувствовал себя в тот момент. «Белая луна» как будто очутилась за много лиг от меня, совершенно недосягаемая. Я уговаривал себя, что дрожу с головы до ног только от осознания того, какая невероятная удача свалилась мне на голову; что я оказался именно на этом корабле и именно в этот день исключительно чтобы воспользоваться этой небывалой возможностью, которая была не иначе как чудом. Чуть-чуть другой курс, ветер немного посильнее да настроение капитана малость помрачнее – и не видать мне этих неприветливых берегов как своих ушей. Любая случайность могла лишить меня поразительного открытия, которое я вот-вот сделаю.
Все это я тогда себе сказал. Оглядываясь сейчас на то мгновение, я отчетливо понимаю, что на самом деле просто пытался найти оправдание вставшему комом в горле страху – комом, готовым меня задушить. Уверен, где-то в глубине души я уже доподлинно знал, что это открытие, конечно, изменит всю мою жизнь, – да вот только совсем не так, как я предполагал, когда мечтал об ожидающих впереди славе и удаче.
В общем, лампа, наконец, загорелась; ее теплое желтое сияние в моем смятенном состоянии оказалось как нельзя более кстати. В объятиях ее пляшущего света, словно бы отгородившего меня от недоброй серости дня, я вошел под своды древнего, давно затерянного храма. Откуда, интересно, я узнал, как сумел в одно мгновение догадаться, что огромное, окутанное тенями помещение было местом поклонения? Много раз с тех пор я пытался понять, что же почувствовал тогда, переступая порог. Описать это можно только как вездесущее присутствие, как какую-то вредоносную энергию, которая прибывала и клубилась вокруг. И эта энергия не была ни случайной, ни ненаправленной. Фокус ее находился у дальней стены, на том конце зала, совершенно скрытый от крошечного отважного света моей масляной лампы. Чтобы понять, что это такое, мне поневоле нужно было туда дойти – и пересечь все это колоссальное помещение. Мимолетная бравада, разгоревшаяся было вместе с пламенем фонаря, иссякла, и я двинулся через этот бесконечный зал, зажатый в когтях такого бессловесного ужаса, что разум мой оказался буквально парализован. Я шел не по собственной воле, а просто не решаясь противиться давлению разлитой вокруг силы, неотвратимо влекущей меня вперед, к тому скрытому от глаз месту, где меня ждали ответы на все вопросы, узнавать которые – я с каждым мгновением понимал это все более отчетливо – я больше совершенно не желал!
Лампа качалась с каждым шагом, отбрасывая неверные отблески на окаймлявшие мой путь колонны; покрывавшая их неразборчивая, странная резьба почему-то казалась настолько отталкивающей, что я машинально и быстро отводил от нее взгляд. Время от времени свет падал на другие участки зала, открывая взору целые барханы праха – только это и оставалось от деревянной мебели и стенных драпировок. Какая-то часть меня упрямо оплакивала потерю и сокрушалась, в какой, должно быть, превосходной сохранности все это пребывало до сего дня – пока в храм не ворвался свежий воздух, стократ ускоряя давно отложенный распад драгоценной утвари. Но этот объективный научный интерес почти полностью затмевало облегчение от того, что теперь мне не нужно было смотреть на запечатленные на этих древних гобеленах сцены. И если видимое в свете фонаря будило во мне такой страх, можете себе представить, до чего доводило невидимое! Фантазия с готовностью принялась заполнять тонущие во тьме просторы зала образами. Что скрывалось там, за границей светового круга, пожирая меня взглядом? Не шепот ли раздавался вверху, в царившей под потолком тьме, или это просто морской ветер впервые после стольких веков ласкал постаревшие камни? Эта последняя версия явно соответствовала истине, так как теперь я снова ощущал – и притом донельзя обострившимися чувствами – тухлый запах «пляжа». Или… это был собственный запах храма, порожденный все тем же внезапным разложением некогда живой плоти, какое поразило мгновенно распавшиеся в прах предметы утвари? В первый раз за всю свою недолгую жизнь я проклял воображение, столь услужливо обогащающее физический опыт. Если оно будет так же упорно вызывать призраков на потребу распоясавшимся нервам…
Тут я увидел алтарь.
Он возвышался на вершине длинной лестницы с невысокими ступенями, занимавшей всю ширину нефа. С того места, где я стоял, было видно три ступени, широкую платформу и еще три ступени. В конце второй платформы стояла массивная каменная глыба прямоугольной формы, смутно видневшаяся в едва достававшем туда свете.
Я признал в ней алтарь, потому что теперь ощущал точный фокус той силы, что тащила меня сюда через весь зал. На стене позади и выше нее был идол. Я не различал отсюда даже силуэта, но знал, что он там – и знал, что когда взгляну на него, мне все станет ясно.
В то мгновенье я оглянулся назад через всю эту тьму на лоскуток серого света в форме дверного проема – единственного входа сюда… и единственного же выхода. Я достиг последней еще остававшейся у меня точки выбора. Поставив ногу на первую ступень лестницы, я давал безвозвратное согласие узреть то, что ждало меня в ее конце. А сейчас еще можно было повернуть назад, убежать из этого темного и жуткого места, вернуться на свет дня, каким бы облачным он сегодня ни был. И вот там-то, касаясь носком ботинка твердого камня, когда до цели уже было рукой подать, я устыдился воспоминания о своих диких фантазиях. Я бы охотно поднял сам себя на смех, но, стоя в нескольких шагах от жертвенного камня, просто не сумел этого сделать. Зато я с безупречной логичностью объяснил себе, что правда, какой бы она ни была, навеки исцелит позорную рану, нанесенную мне этим окрашенным кошмарами недолгим путешествием. С величавой и идиотской решимостью я повернулся и сделал шаг.
Когда круг света от моего фонаря захватил, наконец, и алтарь, по моей спине прошла дрожь ужаса. Это оказался не тот нерушимый серый камень, из которого было сделано все в этом храме, но гигантская глыба шершавого белого мрамора. Некогда гладкая и сияющая, а теперь покоробленная и разъеденная… не иначе как самим воздухом, запертым здесь в четырех стенах неизвестно сколько столетий. Минеральный узор на поверхности давно потерялся под разбросанными там и сям пятнами, отливавшими нездоровой белизной, будто какой-то тонкий, бледный гриб расползся по холодному, мерцающему камню.
Поднявшись на платформу, я окинул взглядом весь алтарь, и тут же, несмотря на все мои старания, меня захлестнул новый прилив фантазмов. Для каких кощунственных ритуалов пользовались этим зловещим камнем? Мысль о том, что здесь приносили кровавые жертвы, прочно застряла в голове. Внутренний взор уже рисовал бритвенно-острый клинок, пикирующий к перепуганной жертве, чьи очертания расплывались и никак не желали входить в фокус. Кто – или что – держало это смертоносное оружие? И была ли это лишь игра моего воображения, или я вправду лицезрел сейчас сцену, повторявшуюся здесь так часто, что память о ней пережила все эти бессчетные тысячелетия?
Я знал, что миг настал. Подняв повыше фонарь, я посмотрел на то, чему здесь приносили жертвы в давние времена. Резной кумир на стене никогда не предназначался для глаз живых. Я – единственный, кто когда-либо видел его, и время не смилостивилось над моей памятью: я до сих пор помню невыносимое отвращение, скрутившее меня, когда свет лампы упал на него. Парализованный ужасом, я стоял недвижимо, казалось целую нескончаемую вечность, после чего, почти лишившись рассудка от этого зрелища, швырнул в идола лампу со всей своей силы, словно мог тем его уничтожить. Наверное, я кричал, но помню только оглушительный топот ботинок, когда я мчался навстречу приветливому сумраку все еще пасмурного дня, мчался ради спасения своей души, подальше от омерзительного, выворачивающего наизнанку видения.
Что было дальше, я как раз помню не слишком хорошо. Вроде бы тело мое неслось через песчаное плато обратно, к вонючему черному берегу, пока душа в то же самое время плавилась в горниле абсолютной, тотальной паники. Какой-то спасительный инстинкт направил меня к «Белой луне». Невозможно описать радость, охватившую меня при виде ее мачт, покачивавшихся над зазубренной грядой, отмечавшей край пляжа. Они символизировали убежище, спасение, безопасность. Они обещали благополучие моему балансирующему на самой грани безумия рассудку. Одна-единственная мысль билась в нем: только бы добраться до «Белой луны» – там меня ждет забвение! И тогда можно будет притвориться, что ноги моей никогда не было в этом ужасном храме. Ничего этого просто никогда не случалось!
Как же мне хотелось стереть всякую память об этом месте, о неописуемом ужасе, царившем над этим кощунственным алтарем! Я бежал к спасительным мачтам «Белой луны», поскальзываясь, падая, не обращая никакого внимания на острые кораллы, которые уже изрезали мне конечности в кровь. Со всхлипом облегчения я взлетел на обрыв и рухнул в пролом на пляж.
Боли я никакой не запомнил – только шок от удара, который выбил из меня весь дух. Затем я, слава небесам, погрузился в сладостное забвение обморока.
Потом мне уже рассказали, что я провалялся без сознания двое суток и потому пропустил второе извержение вулкана и новый толчок, после которого милосердное море сомкнулось над тем страшным островом и подобным гробнице храмом. Должно быть, от нанесенных покрытыми всякой дрянью кораллами ран я подхватил какую-то инфекцию, так как следующие пять дней я промучился от жесточайшей лихорадки с бредом. Но какие бы видения ни осаждали меня, я знал, что не выдумал ту резную фигуру над изуверским жертвенником. Никому из живущих не хватит на такое воображения, пусть даже и в бреду.
Я до сих пор ясно вижу ее перед мысленным взором, хотя дорого бы дал, чтобы забыть. Слишком многое она говорила об ужасных и кощунственных ритуалах, творившихся в этом злом месте, отправляемых чудовищными существами, правившими этой планетой четверть миллиона лет тому назад, а то и больше.
Описать этот кошмарный образ почти невозможно, и я не смогу… я не стану заставлять себя делать это. Фигура была худая и изможденная, с двумя крошечными, глубоко запавшими глазками и маленьким ртом, окруженным не то щетиной, не то антеннами. Все мускулы выделялись очень четко, будто мясо у нее было все снаружи. Рук я насчитал всего две, широко раскинутых в стороны. Омерзительные пятипалые кисти и стопы были крепко прибиты гвоздями к огромному каменному кресту!
С. Т. Джоши. Они возвращаются
Никогда еще в истории мировая цивилизация не была так близка к гибели, как два месяца назад – когда произошли события, к которым оказались причастны мы с моим другом и коллегой, Джефферсоном Колером. Никогда еще за все века бытия человеческого на земле наш род не накрывала так неотвратимо тень смерти, рассеянная лишь путем огромных усилий и в самый последний момент. Никогда за весь период письменной истории случай и совпадение не входили в столь тесную конъюнкцию, чтобы едва не стать причиной уничтожения всего человечества. Моя собственная роль в этих событиях была невелика: я послужил лишь жалким и непоследовательным аколитом Колера, который в свою очередь, соединив собранные им разрозненные фрагменты и источники, сумел отследить и расстроить намерения тех, кто вечно посягает на нашу жизнь и свободу, не снаружи, так изнутри, и отвратил – по крайней мере, на ближайшее время – чудовищный и вечно возвращающийся фатум, довлеющий над человеком, пока род его на земле жив.
Ирония, однако, состоит в том, что если бы Колер не спас мир, если бы эти твари изничтожили нас всех, в этом был бы виноват все тот же самый Колер, собственной персоной: именно его неосторожные поступки вновь пробудили к жизни давно забытый заговор тех, кто некогда правил планетой, но затем был побежден и изгнан, и алкал с тех пор в своей космической жажде мщения гибели всего нашего мира. Колер – наш спаситель, но если бы он им не стал, мы бы прокляли его как истребителя.
Ныне Джефферсон Колер уже четыре дня как мертв – скончался от полного физического и ментального изнеможения, глубокий старик в свои сорок два. Я решил записать этот рассказ, дабы показать миру, как близко мы подошли к немыслимой опасности; дабы доказать, что профессор Колер был отнюдь не сумасшедший и даже не эксцентричный оригинал, каким его считали при жизни; благодаря своему гению, он предвидел и предотвратил наступление событий, о масштабах которых мне даже думать не хочется.
Да, человечество спасено – но лишь на время.
Колер был археолог, и мало кто мог бы соперничать с ним в этом деле. Он обладал практически непревзойденными знаниями, но именно чутье возвышало его надо всеми другими и позволяло делать поистине поразительные открытия во многих областях, где тогда царили тьма и невежество. Одна из ранних работ, «Древние цивилизации различных полинезийских островов» (1925), сделала его объектом зависти и одновременно презрения в профессиональной среде: зависти к учености и эрудиции автора и презрения из-за нескольких сделанных в книге экстраполяций, сомнительных, но на первый взгляд довольно доказательных. Это исследование пробудило в нем неутолимую жажду ко всему допотопному и таинственному, со временем развившуюся в подлинную одержимость охотой на всякие загадочные или просто любопытные древние книги – подчас за совершенно баснословные деньги. Какой дурак, спрашивали себя многие, станет выкладывать такую дикую сумму за даже не оригинал, а всего лишь копию чего-то там под названием «Некрономикон», вышедшего из-под пера какого-то сумасшедшего араба по имени Альхазред? Или за «De Vermis Mysteriis» некоего Людвига Принна? Или за «Cultes des Goules» графа д’Эрлетта, или за «L’Histoire des Planetes» Лорана де Лоньеза, или за «Civtates Antiquae Fantasticae»[52] Яванджи Варангаля? Увлечение Колера этими томами во многом как раз и заклеймило его как человека, чьи таланты, пусть даже и выдающиеся, самым прискорбным образом растрачиваются на предметы, граничащие с умопомешательством; а усердное изучение древних языков и диалектов, подчас незнакомых даже лучшим лингвистам, лишь упрочило репутацию законченного эксцентрика. Редко когда фанатизм ведет к чему-то хорошему; однако Колеров фанатизм в итоге спас нам всем жизнь.
Его отшельничество, еще одна черта, над которой многие насмехались, была отнюдь не врожденной, но благоприобретенной за годы остракизма, причиной которому послужили его уникальные теории. Даже будучи сам мишенью почти неприкрытого сарказма со стороны других археологов, он тоже не отказывал себе в возможности посмеяться над коллегами по профессии за «помпезную и отвратительную слепоту ко всему, что они не в силах ни понять, ни объяснить». Особенно стоит вспомнить эпистолярную дискуссию между Колером и сэром Чарльзом Бартоном относительно происхождения и назначения знаменитых статуй острова Пасхи, опубликованную в «Британском археологическом дайджесте». Эти постоянные пикировки с окружающими приводили только к все большей утрате взаимного уважения, так что ко времени описываемых мною событий каждая сторона питала самые серьезные сомнения в компетентности и способностях другой. В итоге я, друживший с Колером всю свою жизнь, остался последним археологом, с которым он еще советовался – по той простой причине, что я единственный не отвергал его взгляды. Я слушал его не просто потому, что потакал старому приятелю; я знал, что нам еще только предстоит отыскать ответы на вопросы, которыми столь богаты мир и вселенная.
Но Колер был прежде всего человек скрытный. Из-за некоего врожденного недостатка веры в людей он отказывался делиться с кем бы то ни было своими мыслями, увлечениями, намерениями. Возможно, он, опираясь на предыдущий опыт, просто-напросто страшился насмешек; но даже это не в состоянии полностью объяснить, почему в самых своих недавних делах он решил скрыть даже от меня, что собирается делать и какая судьба ожидает человечество. Он почти все таил про себя, время от времени кидая мне загадочные намеки. После его ремарок мне оставалось только бессмысленно таращиться в туман зловещих знамений и иносказаний, тщетно пытаясь понять, что же Колер имел в виду. Он до самого конца ничего мне не рассказывал: только на краю гибели я узнал, как близко мы к ней оказались, только тогда понял доселе необъяснимые Колеровы manoeuvres[53].
Цепочка событий начала разворачиваться для меня лишь летом 1940 года. Колер только что возвратился из экспедиции на Аравийский полуостров и пригласил меня погостить у него в Севернфорде, так как желал показать мне «небольшую диковинку, которую откопал в арабской пустыне». Будучи на тот момент не слишком занят, я явился немедленно. Проведя меня в дом, хозяин тут же удалился, чтобы принести загадочный приз, но вскоре вернулся. Было бы и ложью, и банальностью сказать, что от вещи веяло каким-то особым ужасом: нет, ее единственной аномалией была совершенная непонятность. На первый взгляд она представляла собой приблизительно прямоугольный ящик из прозрачного стекла или кристалла тускло-зеленоватого цвета. При этом в нем не виднелось ни щели, ни разъема – если это и был ящик, то способ его использования еще только предстояло открыть. Считать его просто декоративным предметом как-то не получалось, ибо по нашим стандартам его вряд ли можно было назвать хоть сколько-нибудь красивым. Осмотрев находку, я поднял глаза на Колера с выражением молчаливого замешательства.
– Я растерян не менее вашего, – признался он. – Его устройство и назначение ставят меня в тупик. В принципе, материал похож на флюорит; или, если бы не такой тусклый цвет, впору было бы подумать, что это чистый диоптаз. Однако проведенные мной химические пробы показали, что обе гипотезы неверны. Это, безусловно, какой-то кристалл, но в нем как будто нет или почти нет никаких известных науке химических элементов.
– Друг мой, – вскричал я, – вы должны показать эту штуку в Археологическом институте! – Под этим я подразумевал, конечно, Королевский Археологический Институт Великобритании и Ирландии. – Что за находка!
– Нет, Коллинз, нет, – поспешно возразил он. – Моя репутация для этого слишком сомнительна. Они там мигом решат, что с моей стороны это мистификация или какой-то хитро спланированный розыгрыш. Я уже попадал раньше в такие ситуации – результат у них всегда один и тот же.
Эти слова он произнес с безотрадной горечью, в которой сквозили воспоминания о прошлом.
– Откуда вы взяли эту штуку? – поинтересовался я.
– О, это сам по себе вопрос, и прелюбопытный! Наша партия исследовала кое-какие странные руины с колоннами (возможно – хотя и не наверняка – это был знаменитый и «легендарный Ирем, Град Тысячи Колонн») и вышло так, что когда я был один на раскопе, расчищая уже не помню что совком, земля подо мной внезапно просела, и я полетел вниз, в какую-то узкую яму. Я пролетел футов двадцать и приземлился на кучу песка глубоко под землей. Видимо, мое падение вывернуло кристалл из породы, так как я просто увидел, что он лежит рядом со мной, все еще наполовину погребенный в земле. Наши люди видели, как я упал, и кинули мне веревку; я выбрался наверх и принес с собой эту вещь.
Происшествие вышло, как он и говорил, любопытное, но в целом ничего экстраординарного. Когда я спросил, что же он теперь намерен делать с находкой, он ответил:
– Не знаю, Коллинз, просто не знаю. В настоящий момент самое большее, что я могу, это заняться выяснением, как оно устроено и для чего предназначено.
– Погодите-ка, Колер, – внезапно вскричал я, припомнив кое-что из того, что сам прочитал по всяким тайным доктринам – не такого, конечно, уровня, что читал мой друг, но все-таки не совсем уж ничтожное. – А не может это быть Сияющий Тетрагексаэдр Блейка?
– Я уже и сам об этом подумал, Коллинз, но потом отверг гипотезу. Вспомните, что Блейк говорит о Сияющем Тетрагексаэдре: это многогранный кристалл или «сверкающий камень» в «открытом ларце из желтоватого металла». Вдобавок к тому, что у нашей находки нет ни крышки, ни хотя бы линии открытия, она сама представляет собой сделанный из кристалла ящик или даже просто сплошную прямоугольную глыбу кристалла. Что бы это ни было – оно однозначно не Сияющий Тетрагексаэдр.
Колер как загипнотизированный смотрел на эту вещь; мой взгляд тоже был будто прикован к ней неведомой силой. Именно очевидная бесполезность как раз и делала ее особенной, а вовсе не какие-то там физические свойства кристалла. Меня так и подмывает написать, что она источала ауру иномирской природы, или, вернее, изготовления, и сейчас я уже не могу с точностью сказать, таково ли было мое тогдашнее ощущение, или это просто результат несовершенной памяти и позднейших объяснений. Ограничусь тем, что замечу: вещь была странна, но и только; весь ужас начался уже потом.
Целую неделю после визита к Колеру я был по уши занят исследованием римских руин в Уэльсе и публикацией историко-археологического отчета. Да, именно неделю спустя Колер снова вышел на связь и сообщил, что относительно находки наметился некий прогресс. Я как раз тем утром закончил работу и обрадовался, что Колер позвонил в такое удачное время. И снова я предпочту воздержаться от заявлений, что, дескать, мною сразу же овладело ощущение невыразимого ужаса: на самом деле в пучине собственных дел я успел совершенно позабыть о загадочном кристалле. Было бы сущей банальностью сказать, что я недооценил важность и значительность этой вещи – да, недооценил, и притом фатально.
Прогресс, о котором говорил Колер, оказался вовсе не таким значительным, как я рассчитывал. И форма, и цвет объекта остались без изменений; единственной новостью было небольшое свечение в центре, словно бы внутрь его поместили некий фосфоресцирующий шарик. Случилось это очевидным образом само по себе, так как вещь осталась совершенно монолитной; а поскольку мы все еще понятия не имели, зачем этот ящик нужен, то и относительно причин и целей странного свечения никаких догадок строить не могли. Я спросил у Колера, когда это все началось.
– Я впервые заметил свечение сегодня утром, – ответил он. – Но начаться оно могло в любое время ночью. На самом деле меня волнует не это, а что нам теперь с ним делать.
Мне оставалось только согласиться.
– Что же это все означает, дружище? – спросил он больше у себя, чем у меня. – Что же это все означает? Я даже не могу начать по-человечески строить гипотезы, такое оно outré[54] и бессмысленное. Однако никак не могу отделаться от ощущения, что мы попросту не все видим…
– Ответ наверняка может найтись в одной из моих книг, – продолжал он. – Я уже начал их штудировать. У Принна ничего нет, но надо просмотреть еще несколько десятков томов.
Было ясно, что Колер хочет моей помощи в этом деле. Я был совершенно не занят, так что охотно ее предложил. Он принял мои услуги с радостью, наглядно свидетельствовавшей об облегчении – приятно все-таки, когда не нужно ни о чем просить самому! В его воспитанной горьким опытом самодостаточности моему бедному другу было равно отвратительно и просить об услуге, и самому оказывать ее. На предложение немедленно приступить к делу он тоже сразу же согласился, и мы вдвоем удалились в библиотеку, хранившую бесценное собрание профессиональной литературы.
К моему приходу Колер уже на две трети победил «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта; он снова взялся за эту книгу, предложив мне заняться любыми другими по моему выбору. В свое время я так и не дочитал целиком Альхазредов «Некрономикон» и решил, что сейчас самое время восполнить пробел. Взяв рукописную копию, приобретенную Колером у одного старого оккультиста в Массачусетсе, я погрузился в оставшееся из двух кресел и принялся листать. Сколько часов мы провели за чтением, не возьмусь даже гадать. Тот факт, что когда я впервые поднял взгляд от страниц арабского трактата, за окном уже сгустилась ночь, а прадедушкины часы показывали хорошо после девяти, доказывает – время за нашим занятием пролетело поистине незаметно. Отчаяние Колера, не нашедшего у фон Юнцта ни единого, даже самого смутного упоминания о своей находке, могло сравниться только с моим разочарованием в «Некрономиконе». Я одолел половину тома и не нашел в его аллегорических бормотаниях даже отдаленных аллюзий на каменный ящик Колера. Упоминавшийся у Альхазреда ларец, «коий есть окно в пространство и время», был явно Сияющим Тетрагексаэдром, в точности совпадавшим по описанию и с блейковским манускриптом, и с «De Vermis Mysteriis» Принна. А раз так, нам никакой пользы в нем не было. Дальше Альхазред говорил о чем-то под названием «Оружие Ньярлахотепа», но это могло быть совершенно что угодно – от «друидских» камней в Эйвбери до таинственной круглой башни в лесу Биллингтон, что близ Аркхэма (штат Массачусетс). Чуть позже вечером Колер прикончил фон Юнцта и взялся за «Civitates Antiquae Fantasticae» Варангаля, но, увы, даже этот индийский философ, судя по всему, не превзошел Альхазреда с Принном в знании о зеленых кристаллах. Представив себе, что ни один из томов богатой Колеровой библиотеки вполне может не пролить света на интересующую нас тему, мы совсем пали духом. Нашему утомлению было впору соперничать с расстройством, и в половине десятого Колер, джентльмен до последнего, распорядился закончить работу и пойти подкрепить свои силы поздним ужином. Более уместную идею и представить себе невозможно!
Следующий день оказался более продуктивен – впрочем, поняли мы это далеко не сразу. Утро застало меня снова в библиотеке за томом Альхазреда; рядом Колер воевал с Варангалем. Часа, наверное, в четыре пополудни я оторвался, наконец, от неразборчивых и уже расплывающихся каракулей в книге и заглянул в утреннюю газету, небрежно брошенную на пол рядом с креслом. В ней обнаружилась заметка, совсем маленькая и никакого на первый взгляд отношения к делу не имеющая – ее величайшая важность открылась нам лишь позднее. Привожу ее здесь целиком.
ТАЙНАЯ СХОДКА ОККУЛЬТИСТОВ
Бричестер, 2 июля, 1940 г.
Прошлой ночью на вершине Караульного холма, что возле Бричестера, где находится несколько первобытных друидических мегалитов, видели группу из приблизительно двух десятков оккультистов, чей возраст варьировался от восемнадцати до семидесяти лет и старше. Они отправляли некий темный ритуал. Никаких жертв, судя по всему, не приносилось, однако глава группы, человек лет шестидесяти, видимо, исполнявший обязанности жреца, по слухам, возносил некие странные молитвы или песнопения, которым «конгрегация» вторила эхом. Все мероприятие, скорее всего, не имело особой важности, так как церемония продлилась хорошо если полчаса. За последние шесть месяцев это первая встреча подобного рода, и власти опасаются новых исчезновений детей, совпавших по времени с последним таким собранием, состоявшимся в конце декабря 1939 года.
Не могу сказать, что обратил хоть какое-то внимание на эту статейку. Занятый поисками происхождения и назначения нашего таинственного кристалла, я вполне предсказуемо не заинтересовался бредовыми литаниями горстки слабо вменяемых личностей. Помню только, как отметил про себя, что «Бричестер Хералд» должен уже совсем отчаянно нуждаться хоть в каких-то новостях, раз опустился до подобной нелепицы.
Два часа спустя я добил «Некрономикон», а Колер одновременно со мной – огромную томину Варангаля. Результат оказался не лучше вчерашнего: хотя и в «Некрономиконе», и в «Civitates Antiquae Fantasticae» содержались подробные описания Ирема, Града Колонн, ничего хоть отдаленно напоминавшего арабскую находку моего друга, в них не нашлось. Голова у нас обоих уже устала от чтения, так что предложение Колера сделать перерыв на ланч я встретил с энтузиазмом.
Телефон зазвонил сразу после того, как мы закончили трапезу. Подняв трубку, Колер узнал от оператора, что с ним желают связаться из Волверхэмптонского аэропорта – некий джентльмен, проживающий не где-нибудь, а в Аркхэме, штат Массачусетс! Уилмарт, наверняка уже забывший как Колера зовут, точно не мог питать к нам ни малейшего интереса… а учитывая репутацию моего друга как человека эксцентричного и не вполне нормального (не говоря уже о профессиональной зависти коллег), мы просто терялись в догадках, кто бы это мог быть. Впрочем, загадка разрешилась, стоило только американцу произнести пару слов.
– Мередит! – радостно воскликнул Колер в трубку. – Я пятнадцать лет вашего голоса не слыхал! Что, ради всего святого, вы делаете в Тьюксбери?.. Повидать меня? Но зачем?.. А, я понимаю… На самом деле да, но меня преследуют такие неудачи, что я с радостью отложу на время эту затею и займусь чем-нибудь новым… Мы скоро приедем. До встречи!
Повесив трубку, он вкратце пересказал мне суть беседы. Судя по всему, Джозеф Мередит, ныне глава кафедры археологии в Мискатонском университете, один из немногих друзей Колера, приехал в Англию исключительно для того, чтобы поделиться с ним интереснейшим древним иероглифическим текстом, недавно добытым во время университетской экспедиции в Египет. Его сотрудники не сумели расшифровать фрагмент многотысячелетней давности и решили обратиться к Колеру как одному из лучших в мире специалистов по древним языкам. Археолог только что прибыл в Волверхэмптонский аэропорт в Тьюксбери и просил друга приехать забрать его, чтобы мы могли как можно скорее приступить к работе над текстом. Разумеется, Колер сразу же согласился.
Когда мы встретили Мередита в аэропорту, при нем помимо багажа обнаружился еще и небольшой черный чемоданчик – профессиональный контейнер для старых пергаментов, способный защитить их от губительного воздействия времени и стихий. Уже в машине, по дороге к Колеру, Мередит рассказал нам, что он, собственно, нашел.
Этой зимой Мискатон организовал экспедицию на кое-какие египетские раскопки, где среди менее значительных археологических находок была сделана и эта – единственная среди них по-настоящему значительная. Откопали пергамент близ города Куркур, по каковой причине он и получил имя «Куркурского фрагмента». Самые компетентные лингвисты, археологи и антиквары сломали голову, пытаясь выяснить, на каком языке или диалекте он написан; версия современного или древнего варианта египетского языка была отвергнута почти сразу, а поскольку в Египет документ мог преспокойно попасть даже из таких отдаленных мест как, скажем, Индия, его тут же проверили на предмет арабского, санскрита и еще десятка живых и мертвых индийских языков. Все оказалось тщетно: пергамент был написан либо на языке невероятной древности, о котором на земле даже воспоминаний не осталось, либо вообще кодом – по совершенно необъяснимым причинам. Сам Мередит, памятуя о ланговской «Рукописи Войнич», выдвинул теорию, что язык манускрипта может быть гибридным: например, санскритские буквы (что, в общем-то, явствовало из текста) и хеттские или ассирийские слова.
Разработку этой гипотезы только начали, ибо ввиду неизвестного происхождения количество возможных комбинаций не поддавалось практически никакому исчислению. Тут Мередиту пришло в голову пустить по следу Колера – на тот случай если документ и вправду составлен на каком-нибудь редчайшем языке, известном только ему да паре других специалистов того же уровня во всем мире. Вот за этим-то он и приехал.
Колер решительно отказался везти Мередита в отель и предложил взамен собственное гостеприимство. Его многокомнатный каменный особняк, датируемый, вполне вероятно, веком XVI, использовался лишь частично и вполне мог послужить американцу временной резиденцией, а им обоим – научной лабораторией. Только ближе к вечеру мы прибыли в Севернфорд, и предложение Колера немедленно отужинать и освободить остаток дня для работы с рукописью было встречено и Мередитом, и мной с величайшим одобрением.
Это оказался поистине примечательный вечер – не столько даже нашей работой над Куркурским фрагментом, сколько неким происшествием, заставившим нас впервые осознать, что мы стали частью событий куда большего масштаба, чем вначале предполагали.
Мередит отправился спать рано, вполне оправданно сославшись на усталость после путешествия длиной в четыре тысячи миль. Конечно, мы до этого успели показать ему аномальный кристалл Колера – собственно, он сам об этом попросил, так как слышал о находке от одного из участников аравийской экспедиции, мискатонского выпускника по имени Крейг Филипс. Колер охотно сообщил коллеге все факты о своем открытии, о внезапном свечении и наших собственных неудачных попытках выяснить его происхождение и назначение. Колер среди прочего заметил, что свечение со вчерашнего дня стало явно сильнее: фосфоресцирующий шарик внутри уже приближался к диаметру в два с половиной дюйма. Мередит, совершенно естественным образом поглощенный своим собственным артефактом, уделил нашему ровно столько внимания, сколько требовала обычная вежливость, после чего немедленно попытался перевести разговор обратно на новую загадку, которую только что подал хозяину дома, можно сказать, на блюдечке. Задача оказалась не слишком сложной, учитывая, что полный отказ кристалла идти на сотрудничество уже изрядно нас обоих разозлил.
Было, наверное, уже около одиннадцати вечера, когда оно все и случилось. Колер было выдал мне Мередитов манускрипт, наказав составить ряд комбинаций из странных выцветших букв, которые позволили бы ему взломать шифр тысячелетней давности, но через некоторое время велел прекратить, заявив, что, кажется, понял основу и методику составления загадочного текста. Я в свою очередь выдвинул предложение поискать ответа на нашу собственную загадку – например, в сравнительно недавней «L’Histoire des Planetes» (1792) Лорана де Лоньеза, дабы выяснить, не разбирался ли этот современник маркиза де Сада и ла Бретона[55] еще и в древних зеленых кристаллах из Аравии. Язык де Лоньеза, полный раздражающих пунктуационных и лексических архаизмов, сильно затруднял чтение, так что через какое-то время я уже сидел над книжкой, вполовину согнувшись, непрестанно щурясь и водя головой вслед за скользящим по строчкам взглядом. Несколько часов в этом положении ввели меня в такой гипнотический транс, что я совершенно позабыл о Колере, сидящем за столом напротив. И только лишь заслышав некий шорох совсем близко от нас, я впервые за долгое время вынырнул из своей грезы и поднял глаза.
Первое, что я увидел, был другой человек – не Мередит и не Колер – чьи неопрятные одеяния и бессодержательная физиономия неоспоримо свидетельствовали о том, что род свой он ведет не откуда-нибудь, а из величайшего очага местного убожества под названием Нижний Бричестер. Как он сумел пробраться в дом – вот где была самая загадка, ибо цель его явствовала из всей манеры поведения: он направлялся прямиком к мерцающему кристаллу на столе у Колера, и в данный момент его отделяли от приза какие-то считанные ярды.
Сам Колер чудесным образом был так поглощен своими учеными штудиями, что не имел ни малейшего понятия о присутствии в библиотеке чужака, и оторвался от них с выражением досадливого раздражения, только когда я кинулся на злоумышленника и всей собственной тяжестью повалил его на пол. То ли я недооценил силы презренного негодяя, то ли переоценил собственные, но уже через несколько мгновений я лежал спиной на полу нос к носу с нападавшим, на лице которого, правда, теперь сияло выражение абсолютного ужаса. Сейчас он выглядел как человек, которым овладел внезапный приступ неконтролируемого безумия: вор вскочил на ноги и, презрев как цель своих странных поисков, так и возможность сильно пострадать физически, выбросился головой вперед из окна библиотеки. Рухнув на землю в водопаде битого стекла, он тут же взвился и прыжком скрылся в ночи. Слишком потрясенный этим спектаклем, чтобы вымолвить хоть слово, я стоял у окна и глядел на незадачливого voleur,[56] который уже успел заметить, что за ним никто не гонится, и перешел на спокойный шаг. Колер, однако, не дремал. Возникнув позади, он схватил меня за плечо.
– Скорее, Коллинз! За ним! Посмотрите, куда он пойдет!
– Что? – взорвался я. – Ради всего святого – зачем?
– Долго рассказывать – просто бегите за ним. Это жизненно важно! Я почти разгадал Куркурский фрагмент и – Коллинз! В нем говорится о том самом кристалле, который я раскопал! Все складывается одно к одному, все теперь имеет смысл! Теперь я, видимо, даже знаю, зачем грабитель к нам залез. Но, умоляю вас, бегите скорее за ним и узнайте, куда он пойдет. Давайте же!
Протестовать или требовать объяснений было явно бессмысленно – Колер просто не стал бы меня слушать; мне ничего иного не оставалось, кроме как выполнить его просьбу. Выследить вора-неудачника оказалось совсем нетрудно, так как ему даже в голову не пришло, что за ним может кто-то последовать. Он шел себе прогулочным шагом, так что легкость задачи дала мне возможность обдумать на досуге новый ряд загадок, столь неожиданно возникших за последние несколько минут. Наибольший интерес вызывала та беспримерно нелепая отвага, которую только что продемонстрировал наш герой. Что за феноменальная глупость или настоятельная необходимость побудила его совершить попытку к преступлению в присутствии хозяев дома – решить, что у тебя в таких обстоятельствах есть хоть какой-то шанс на успех, можно действительно разве что в глубоком умопомешательстве. А тут еще бессвязные восклицания Колера, что он-де расшифровал древний документ Мередита! Что он мог иметь в виду, говоря, что все теперь складывается одно к одному? И каким, в самом деле, образом могут быть связаны между собой Куркурский фрагмент, наш зеленый кристалл и неудачная попытка ограбления?
Вот, наверное, тогда-то я и начал смутно подозревать, что мы имеем дело с материями великими и скверными, превышающими человеческое понимание, связанными с древними тайнами галактического зла и при этом самым необъяснимым образом – с совершенно обыденными явлениями нашей человеческой реальности, вкупе образующими такую разрушительную цепь роковых событий, что разум при одной только попытке понять их и увязать между собой оказывается опасно балансирующим на самой грани необратимого безумия.
Итак, я вполсилы следил за грабителем, мысленно перебирая эти загадки, разрешить которые, судя по всему, было под силу только Колеру. Сейчас, приближаясь к окраинам Бричестера, я со всей очевидностью понимал, что у нашего буколического разбойника может быть только одна цель – Караульный холм, тот самый, где не так давно творились некие темные оккультные ритуалы.
Зрелище, представшее на холме, меня ничуть не удивило: конгрегация, собиравшаяся тут всего каких-то двадцать четыре часа назад на внушительную, но безобидную ассамблею, снова была на месте, в полном составе, сгрудившись вокруг плоской, столоподобной глыбы камня, лежавшей на самой вершине в окружении резных менгиров, чей почтенный возраст не могла скрыть даже ночная тьма. Схоронившись за купой деревьев, я наблюдал, как мой подопечный робко приближается к ним и, подойдя, судя по облику, к лидеру группы, что-то бормочет, низко склонив голову в самоуничижении и жалобно разводя руками. Когда он закончил, вожак, невысокий, коренастый мужчина лет шестидесяти, внезапно, без предупреждения впал в маниакальную ярость и принялся хлестать провинившегося по щекам, снова и снова, и остановился, только когда у него закончились все силы. Наш бандит, размером раза в два больше мучителя, кажется, и не думал давать сдачи. Он, способный в два счета стереть агрессора в порошок, вместо этого выбрал покорно сносить побои, взирая на коротышку с неизъяснимым почтением, столь же невероятным, сколь и абсурдным. Когда экзекуция наконец завершилась, пожилой padrone[57] распустил собрание и затем удалился сам. Неудачливый юнец, понесший столь жестокое наказание и ставший теперь объектом насмешек и откровенной ненависти остальных, униженно побрел прочь один.
Я возвратился в особняк и доложил об инциденте. Колер все еще работал над нашим египетским документом, но оторвался от него, дабы выслушать рассказ, и покивал медленно и задумчиво, будто бы мои слова лишь подтвердили его понимание происходящего. Он отказался сообщать мне что-либо относительно попытки похищения кристалла или расшифровки Куркурского фрагмента, сказав только, что желает остаться один, дабы без помех закончить перевод. Тут я, однако, заартачился. При виде его изможденного лица и всклокоченной шевелюры, я понял, что мой друг пребывает на грани физического и умственного истощения и решительно заявил, что не дам ему больше работать сегодня вечером, велев взамен пойти и хорошенько выспаться. Колер был то ли слишком слаб, то ли слишком разумен, чтобы мне перечить.
На следующее утро ничего, ровным счетом ничего не говорило, что грядущая ночь увидит кульминацию и завершение ужасных событий, в которые мы волею случая оказались замешаны. Понимая, что раз Колер сумел взломать код Куркурского фрагмента, ему остается только сесть и перевести текст, а это работа кропотливая и долгая, и, значит, от моего присутствия в доме ему будет больше помех, чем пользы, я решил вернуться к собственным археологическим делам. Пролистав свой доклад, я обнаружил в нем ряд необоснованных утверждений, что можно было исправить, только обратившись к соответствующим источникам, и потому, не дожидаясь обеда, отправился прямиком в Оксфорд, где засел в собрании древних рукописей Бодлеанской библиотеки. Когда я закончил работу, день уже перевалил во вторую половину, а будучи сегодня сам себе господин, я решил освежить знакомство с прекрасным Оксфордом, где не бывал больше дюжины лет. Мои архитектурные вкусы тяготеют к высокой готике, так что немногие города способны удовлетворить мою потребность в прекрасном лучше, чем Оксфорд. Должно быть, я несколько часов прогулял там, любуясь зданиями и природой. Думаю, меня можно простить – не так уж часто эстетические прихоти берут надо мною верх… однако даже сейчас я содрогаюсь при мысли, что вернулся в Севернфорд буквально в последнюю минуту – еще чуть-чуть, и было бы уже поздно.
Около семи часов вечера я поужинал в ресторане и, наконец, решил, что уже потратил достаточно времени на всякие фривольности. Домой я прибыл в половине девятого. Утомленный прогулкой, я, вероятно, сразу же заснул, но пробудился минут через сорок пять. В первый раз за день я вспомнил о Колере, о кристалле и о Мередитовом Куркурском фрагменте – и решил позвонить другу и выяснить, как далеко он успел продвинуться. Что интересно, трубку никто не взял, хотя телефон успел прозвонить не один раз. Не мог же Колер отправиться на боковую так рано, да даже если мог – почему на звонок не ответил Мередит? Может, они оба отправились куда-нибудь, как я, по археологическим делам? Или не по делам, а удовольствия ради – вдруг Мередит решил воспользоваться шансом и хоть немного посмотреть Англию, пока он здесь? Вариантов была масса, так что какой смысл гадать? Эта загадка будет попроще других – чтобы решить ее, нужно всего-навсего отправиться лично к Колеру.
Я как следует побарабанил в дверь, потом покричал под окнами, зовя Колера и Мередита по имени – и не особенно удивился, когда мне никто не ответил. Я уже был готов прийти к выводу, что эти двое действительно куда-то отправились на пару, невзирая на поздний час, когда приметил нечто, не совсем уж дезавуировавшее мою гипотезу, но придавшее ей некий новый, любопытный и отчасти зловещий оттенок: Колеров автомобиль все еще стоял в гараже.
Конечно, они могли пойти и пешком, но с тем же успехом их отсутствие могло говорить и о том, что с одним из них, а то и с обоими случилось что-то нехорошее. Я подумал было сесть в собственный автомобиль и поискать их хорошенько по округе, но тут заметил еще одно необычное обстоятельство, мгновенно исключившее все более невинные объяснения ситуации: парадная дверь в дом была не заперта. И причина этому заключалась в том, что замок сломали.
Это была точно не работа Колера и, разумеется, не Мередита. Я тут же вспомнил безуспешную попытку ограбления прошлым вечером, которую Колер посчитал событием большой, хотя и необъяснимой для меня покамест важности. Случилось что-то серьезное, я это понял, и последствия грозили оказаться весьма глобальными – мне нужно было срочно понять, что происходит!
Я принялся обыскивать дом. Первым делом я, конечно, кинулся в библиотеку – и, к счастью, нашел Колера там. Мой бедный друг лежал на полу без сознания: из раны на голове, нанесенной, судя по всему, недавно, текла кровь. Несмотря на весь шок от этого ужасного открытия, я заметил, что в комнате, как ни парадоксально, царил относительный порядок: никаких разбросанных бумаг или перевернутых стульев, никаких книг не на своих местах, за исключением тех, которые достали мы сами. Одно только безжизненное тело Колера свидетельствовало о какой-то физической борьбе. Еще я обратил внимание, что Мередитов Куркурский фрагмент все еще лежит на письменном столе. Первым делом я занялся приведением друга в чувство; к счастью, это удалось без особого труда – рана на голове выглядела, конечно, пугающе, но на поверку оказалась несерьезной. Всего через пару минут Колер хрипло застонал и пошевелился на полу. Когда он открыл глаза, у него по лицу тут же расползся изумленный ужас, снова напомнивший мне о нашем вчерашнем грабителе. Узнав, наконец, меня, он успокоился и с облегчением пробормотал:
– Ах, это всего лишь вы, Коллинз. Слава богу, вы здесь…
Внезапно умолкнув, он побелел и уставился в пространство расширенными глазами, словно бы увидав самый кошмарный ужас, какой только можно вообразить.
– О, мой бог! – только и слетело с его помертвевших губ.
Он с трудом встал с пола и в панике заозирался по комнате, словно что-то искал…
И тут я заметил, что кристалла нигде нет.
– Коллинз, они его забрали! Они забрали его! Скорее, друг мой, мы должны немедленно бежать! Если мы опоздаем…
Невзирая на рану, он кинулся в другую комнату и схватил ружье, а затем, спотыкаясь, потащил меня вон из дома. Стараясь не обращать внимания на его аффектированное состояние, я спросил, что, во имя всего святого, случилось с Мередитом.
– Он отбыл домой, в Аркхэм, – вот какой удивительный ответ я получил.
– Но он же только вчера приехал! Что заставило его так поспешно нас покинуть?
Швырнув мне валявшуюся на кресле в гостиной газету, Колер устремился к выходу, бросив через плечо:
– Ответ там, Коллинз! Читайте на ходу.
И я прочитал. Интересующая нас статья оказалась почти на последней странице, иронически упиханная в самый уголок, словно там надо было хоть чем-нибудь занять место.
СТРАННАЯ ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ
Аркхэм, Массачусетс, США, 3 июля 1940 г.
Берега Чертовой Отмели на Мискатонской реке неподалеку от Иннсмута вчера стали ареной нескольких необычным смертей. Некоторое количество жителей Аркхэма, включая нескольких юных студентов Мискатонского университета, погибли во время рыбалки или купания: их тела были словно разорваны огромными когтями, странным образом пахли рыбой и были измазаны странной зеленой слизью, столь зловонной, что к ним несколько часов не решались подойти. Невозможно определить, дело ли это рук человеческих, однако как власти, так и некоторые пожилые обитатели Аркхэма и Данвича выразили уверенность в том, что эти события как-то связаны с тщательно замалчиваемой интервенцией правительства в Иннсмут зимой 1927—28 гг., а также с ужасающим холокостом в Данвиче несколько месяцев спустя. Кроме того они ссылались на значительные паводки в Вермонтских холмах в конце 1927 года и последовавшее за этим исчезновение престарелого фольклориста по фамилии Экли и сумасшествие мискатонского преподавателя литературы, Альберта Н. Уилмарта. Каким образом все эти происшествия могут быть связаны с нынешней трагедией, не объясняется, однако невозможно не заметить, что жители Иннсмута в последние несколько дней были странно беспокойны, а в глубине Чертовой Отмели несколько раз отмечалась беспрецедентная активность неопознанного свойства. Некоторые психически неустойчивые личности даже зашли так далеко, что принялись бормотать что-то о ритуалах Салемских ведьм, имевших место два с половиной столетия назад. Впрочем, стоит также отметить и то, что никто не взял на себя труд опровергнуть эти слухи.
Полиция продолжает расследование загадочных инцидентов. Власти уже проинформированы, как на федеральном, так и на государственном уровне.
Это, конечно, объясняло внезапное возвращение Мередита домой, хотя к нашим собственным делам вряд ли имело хоть какое-то отношение. И тут – я все еще продолжал бежать куда-то рядом с Колером; дорогу нам освещала одна только луна – я заметил еще одну статью на той же странице.
ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В МОРЕ
Папит, Таити, 3 июля 1940 г.
Приблизительно двадцать человек (многие из них – английские и американские туристы) были убиты вчера ночью так называемыми «морскими чудовищами», явившимися прямиком из океана. Несколько тел найдено изувеченными до неузнаваемости, остальные – с ампутированными конечностями или частично съеденными. След из зеленой слизи вел от тел обратно в воду; вокруг царил запах тухлой рыбы. Полагают, что на самом деле из моря вышли какие-то совершенно обычные для этих широт животные, они же и учинили беспорядок, в то время как «чудовища» – не более чем преувеличение со стороны склонных к суевериям местных жителей.
Итак, у нас два практически идентичных происшествия, которые разделяют десятки тысяч миль… Моя собственная начитанность во всяких странных материях могла предложить только один ответ… однако оставалось непонятным, почему эти твари выбрали для нападения именно этот момент. Если два события никак не были связаны между собой, то это самое поразительное совпадение на моей памяти. Колер все еще стремительно мчался куда-то, поспевать за ним было нелегко. Мы уже были в предместьях Бричестера, и я уже догадался, что наша цель – не что иное как Караульный холм. Больше всего меня впечатлила необычайная решительность Колера: хотя я уже и имел некоторое представление о масштабах разворачивающихся событий, все же истинная их важность, способная заставить человека вот так помчаться сломя голову в ночь, да еще с заряженным ружьем в руках, была мне пока что неясна. Неужто обладание каким-то там прямоугольным куском кристалла, пусть даже аномальной и сверхъестественной природы, могло иметь столь всемирное значение? Что за силы скрывались в его странно мерцавших глубинах? Какими грядущими бедствиями он грозил – и кому? То, что ответ на эти вопросы столь же сложен, сколь и глобален, было и так уже ясно – и могу положа руку на сердце заявить, что никакие дичайшие арабески моего воображения и в сравнение не шли с открывшейся в итоге голой истиной.
Вскоре мы достигли Караульного холма. Спрятавшись вместе с Колером за все той же купой деревьев, я вновь увидал чудовищно знакомую картину: адская конгрегация снова заседала на вершине. На сей раз некоторые из них принесли даже факелы, сообщавшие всей сцене должное зловещее освещение. Люди собрались тесным кольцом вкруг плоского камня: факелоносцы стояли, остальные преклонили колени. Престарелый жрец тоже стоял, вернее, медленно шел к камню, спиной к нам. Дойдя, он что-то на него положил.
Ну, конечно – теперь в центре алтаря лежал наш кристалл!
Даже из нашего убежища было видно, что сияние в центре его стало еще ярче и разрослось по сравнению с тем, каким я его запомнил, раза в два. Воцарилась мертвая тишина, однако в самом воздухе чувствовалось такое сильное напряжение и предчувствие чего-то недоброго, что, казалось, сама природа затаила дыхание в ожидании готовой неминуемо разразиться катастрофы.
Жрец воздел обе руки к небу в жесте взывания. В тот миг, когда он уже раскрыл рот, чтобы заговорить, Колер выпалил из ружья. Старик пал наземь, не издав ни звука. Остальные прихожане тут же подняли ужасный шум, озираясь в поисках того, кто дерзнул так внезапно прервать их церемонию. Долго им искать не пришлось: Колер выскочил из своего убежища и уже бежал к холму, крича, чтобы я следовал за ним.
Да, мы, наверное, с ума сошли, ринувшись очертя голову прямо в гущу этой банды богохульников, однако нас гнала вперед самая настоятельная необходимость. Нас было двое против двадцати, но нами, казалось, овладела какая-то звериная ярость, заставившая когтями и зубами прокладывать себе дорогу вперед. Колер то и дело палил из ружья кому-то в лицо или в живот. Когда я схватил с камня кристалл и сунул его под мышку, на меня нахлынул еще больший гнев на всех этих извращенцев, готовых попрать все, что только есть на свете нормального и разумного, на эту горстку чокнутых негодяев, чья жажда вселенского истребления родилась исключительно из неспособности сосуществовать с расой, настолько превосходящей их в умственном и духовном отношении, что они более не заслуживали именоваться людьми и стали каким-то отдельным видом, гнусным, жутким и упадочным.
Я дрался, царапался, лягался и беззастенчиво пользовался головой в качестве стенобитного орудия, прокладывая себе путь сквозь толпу, виртуозно извиваясь и уворачиваясь от тех, кто пытался отобрать у меня кристалл. Вскоре я выбрался из сутолоки, Колер тут же очутился рядом, и мы ринулись прочь с проворством, какого раньше в себе и не подозревали. Оглянувшись назад, чтобы оценить обстановку, мы обнаружили банду фанатиков на значительном расстоянии позади – но тем не менее продолжающих погоню, спотыкающихся и перепрыгивающих друг через друга, пускающих пену изо рта от ярости, простирающих руки нам вслед, словно мечтая не только вернуть похищенное сокровище, но и разорвать на части дерзких безумцев, посмевших испортить их ритуал. Безумцы оказались достаточно безумны, чтобы припустить пуще всяких человеческих сил, стрелой пролетев через Бричестер, Темпхитлл и Севернфорд и не дав себе ни мгновения роздыху – любое промедление могло оказаться фатальным.
Но приключения еще не закончились. Добравшись до дома Колера, мы устремились не внутрь, а в машину, и помчались прочь – куда, знал, очевидно, только он. Несколько минут спустя мы свернули на обочину близ заброшенной шахты. Внутри Колер забрал у меня кристалл и швырнул его в самую темную и глубокую скважину, какую только смог отыскать, сразу после этого издав тяжкий вздох облегчения. Мы, наверное, целую минуту простояли у черной дыры, но так и не услышали, как кристалл ударился о дно.
Кажется, мы только что спасли весь человеческий род – пока, по крайней мере.
Ответов на все свои вопросы мне пришлось ждать до следующего утра. Измождение наше было столь велико, что, усевшись в кресла у Колера дома, мы немедленно провалились в глухой, тяжелый, лишенный всяких видений сон и пробудились только к полудню. Ночная беготня и долгий отдых хорошо стимулируют аппетит: когда нам подали завтрак, мы отринули всякие манеры и накинулись на еду с энтузиазмом дикарей. Лишь нескоро мы насытились в достаточной мере, чтобы покинуть гостеприимный стол и проследовать снова в библиотеку, где мой друг сумел, наконец, открыть мне правду, которую сам знал всего-ничего – меньше суток.
– Вам не хуже моего известно, Коллинз, – начал он, – как мы влипли во всю эту историю. Я случайно выкопал кристалл в Аравии, привез его в Англию и некоторое время безуспешно пытался выяснить его происхождение и способы использования. Потом я заметил, что он начал светиться изнутри, сперва совсем чуть-чуть, а потом со все возрастающей силой. Мы с вами принялись просматривать доступные источники и литературу, чтобы отыскать какие-то аллюзии на мою находку, но все оказалось тщетно. Затем явился Мередит со своим Куркурским фрагментом из Египта и попросил меня помочь с переводом. Задача на самом деле оказалась крайне простой. Мередит сам выдвинул гипотезу, что это может быть смешение двух языков – так оно и вышло: санскритские буквы образовывали слова, похожие вот на этот «Р’льехский текст».
Дальше случились те странные сходки бричестерских оккультистов на Караульном холме. Они явно что-то замышляли, и сам тот факт, что в первый раз они не сделали ничего серьезного, уже предполагал, что эти люди чего-то ждут – что благополучно и подтвердилось две ночи назад, когда они предприняли колоссальные усилия, чтобы выкрасть у нас кристалл. Было ясно, что он им нужен, да только вот совершенно непонятно, зачем.
Ответ я обнаружил, как и было сказано, в Куркурском фрагменте. Но прежде чем я сообщу вам его, позвольте сначала кое-что показать.
Он подошел к столу и взял оттуда пачку из примерно десяти газетных вырезок – из самых разных лондонских изданий за последние несколько дней.
– Пока вы были в Оксфорде, – продолжал он, протянув их мне, – я телефонировал в Лондон и заказал подшивки «Таймс», «Гардиан» и «Дэйли Телеграф» за эту неделю. (Ехать самому и оставлять кристалл без присмотра я, разумеется, не рискнул.) Прочтите эти статьи – их важность вполне очевидна.
О да, так оно и было! Я прочел о странных смертях и исчезновения в австралийской пустыне, в Гималаях и на ледяных просторах Антарктики. Я узнал о массовых самоубийствах дельфинов в Калифорнии, о возобновлении человеческих жертвоприношений в Манитобе, о беспрецедентных волнениях среди ведущих первобытный образ жизни племен в глубинах Африки, а также в Панаме, на юге Франции, на Юкатанском полуострове, на юге Луизианы, в Полинезии. Корабли сталкивались с необъяснимыми явлениями в Тихом океане, в северной Атлантике и в Мексиканском заливе. Это было просто невероятно и даже хуже того – потому что я уже догадывался, что послужило причиной всех этих событий.
– И так во всем мире, – прокомментировал Колер. – Да, это происходило по всему миру, и инциденты в Новой Англии и на Таити были только частью общей картины. Разумеется, я не мог не спросить себя: почему именно теперь? Какие неизъяснимые силы заставили этих тварей напасть сейчас? Вот об этом-то мне и рассказал Мередитов Куркурский фрагмент.
Снова подойдя к столу, он подхватил с него лист бумаги с переводом части текста и протянул его мне. Вот что я прочитал:
«…И сподвижники Азатота сперва сотворили Землю игрушкой для богов, которые творили на ней все, что им заблагорассудится, – живые насмешки, блуждающие по ее едва остывшей поверхности, бесспорные свидетельства тотальной ошибки, именуемой Жизнью. Но Ктулху и Глубинные вместе с ним пришли отвоевать себе Землю, чтобы стать на ней богами для самых древних ее обитателей, тех, что были еще до людей. И это не понравилось сподвижникам Азатота, и тогда он всевышним произволением заточил более слабого бога в водах. Потому-то дочеловеческие последователи Ктулху и изготовили Кристалл Замалаштры из элементов, встречавшихся на Югготе, и заключили в нем пламень Ньярлахотепа. Когда звезды находятся в правильном положении, огонь сияет внутри, и да послужит это знаком верующим в Ктулху доставить Кристалл их погребенному богу, ибо восстанет он тогда из тенет своих и сокрушит игрушку богов, именуемую Землей…».
– Нужно ли еще что-нибудь объяснять, друг мой? Вам хорошо известно, что Юггот – не что иное, как недавно открытая планета Плутон. Как и тот факт, что полный оборот ее вокруг Солнца составляет двести сорок восемь лет. Раз в двести сорок восемь лет Плутон оказывается на одной оси с Землей – «звезды находятся в правильном положении». Представляете теперь, что случилось? Я откопал кристалл ровно в этот самый двести сорок восьмой год!
Вы только подумайте, что за поразительное совпадение! Какая невероятная неудача, что я нашел его как раз в тот момент, когда Ктулху можно освободить из тюрьмы! Свечение подтвердило мою догадку. Но почему, спросите вы, Ктулху не освободился еще тысячи лет назад? Почему земля не была уничтожена? Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы Кристалл не потеряли до того, как звезды встали в нужную комбинацию, если бы Ктулху и его дети смогли бы полностью освободиться из своего подводного заточения! А так им оставалось только совершать на человечество случайные и неэффективные набеги, о чем, собственно, и говорится у Йоханссена и в Уилмартовском манускрипте. Без кристалла все их усилия оставались тщетны.
Как бы там ни было, приверженцы культа каким-то образом знают, когда наступает пора, и в итоге активность их вместе с активностью потомства Ктулху внезапно возрастает. Беспорядки последнего времени полностью это подтверждают. На сей раз они знали, что кристалл вернулся в мир, и беспокойство их возросло тысячекратно: в первый раз за тысячу лет у них появился шанс наконец уничтожить мир! С какой бы другой стати один из них попытался украсть кристалл прямо в нашем присутствии? И с чего бы еще им опускаться до физического насилия, когда первая попытка провалилась? Зачем так отчаянно пытаться вернуть кристалл, когда мы отвоевали его назад? И почему подобные происшествия прокатились по всей планете именно сейчас?
И вот еще о чем подумайте, Коллинз: на дворе 1940 год; нам известно, что «звезды находятся в правильном положении». Значит, двести сорок восемь лет назад подобное повторялось. А что у нас было двести сорок восемь лет назад от нынешней даты? Не 1692 ли год, время Салемских судов над ведьмами! Может ли быть иное объяснение этим беспрецедентным событиям? Ведьмы тоже знали, что время пришло – но кристалл был утрачен, и сделать ничего не удалось. Они попробовали актвизировать ритуальную деятельность – причем до такой степени, что их обнаружили, изловили и убили! – но все было бесполезно: без кристалла они ничего не смогли достичь.
Если бы не я, нам не пришлось бы пройти через все это… но вы только задумайтесь, какая удача, что Мередит со своим пергаментом явился точно в нужный момент и дал нам средство противостоять всем этим ужасным событиям! Еще ни разу за всю человеческую историю совпадения не имели такого сокрушительного эффекта, шанс не вторгался столь разрушительно в стечение обстоятельств, и чистая случайность не грозила сперва уничтожить мир, а затем спасти всем нам жизнь!
Можно не беспокоиться о Кристалле Замалаштры еще двести сорок восемь лет – звезды на настоящий момент уже разошлись, и он снова утратил всю свою силу. К тому времени когда настанет новый благоприятный момент, мы с вами оба будем уже мертвы. Станем надеяться, что никакой идиот больше не наткнется на него, подобно мне, а если и наткнется, то оставит его благополучно там, где найдет. Не вижу, как мы могли бы избавить планету от возвращения древнего рока… и не вижу, как гарантировать, чтобы Ктулху в конце концов не вырвался из своей подводной тюрьмы… Неконтролируемое любопытство всегда было и остается злейшим врагом человечества.
Джефферсон Колер умер тридцать шесть дней спустя. За свою недолгую жизнь он успел спасти мир – и оставить по себе наследство вечного ужаса, который рано или поздно сотрет с лица земли весь наш род. Сохранность этого документа жизненно важна для выживания нашей расы: если люди подвергнут сомнению его достоверность, им придется дорого заплатить за свою опрометчивость.
А уж ирония происходящего будет и вовсе бесценна.
Дирк У. Мозиг. Некро-знание
– Чем могу помочь вам, сэр? – Крошечный седобородый старичок услужливо наклонился над прилавком.
Рашид мгновение подумал, но все же прошел мимо, ни слова ни говоря.
Он направился к одному из высоченных шкафов с пыльными книгами, поглядел на них, потом развернулся и углубился в один из слабо освещенных проходов между стеллажами «Старейшей оккультной книготорговой лавки». Гость молча оглядывал ряды ветхих, побуревших, посеревших корешков, мимоходом касаясь то одного заплесневелого тома, то другого. Вытащив один, на хребте которого отсутствовали всякие видимые обозначения, он убедился, что золотые рыбки обошлись с ним немилосердно, и поставил книгу обратно.
Маленький обладатель бороды, придававшей ему сверхъестественное сходство с Зигмундом Фрейдом, только плечами пожал: странные типы, посещавшие этот неухоженный хламовник, частенько его игнорировали – он к этому привык. Фыркнув, он вернулся к экземпляру «Любви с заднего фасада», который подцепил минуту назад – исключительно для борьбы с утренней скукой.
Несмотря на первую половину дня, город уже плавился от жары. Высокий жилистый незнакомец с орлиным носом был единственным покупателем – ну, хотя бы потенциальным – за последние два часа.
– Китаб… у вас есть китаб… книга – китаб-уль… некрут?
– Че-чего? – Продавец удивленно поднял седые брови.
– Книга. Некрут. Эль-некрутик. Некротико? Сати сказал, у вас есть кит, китбуль-маджн…
Старичок ахнул, вцепился в прилавок, так что даже костяшки побелели, и наклонился вперед, всматриваясь в посетителя.
– Это Сатих вас послал? Чертов ублюдок! Ибн-Шармтах! Сукин сын! Вот ведь…
Рашид заметно побледнел, глаза сузились в щелочки, а длинные пальцы пауками полезли под скверно сидящий пиджак.
– Да нет же, я не про вас! Сатих… Сати? – звук «айн» давался коротышке с большим трудом.
Рашид некоторое время таращился на него пустым взглядом, потом попробовал еще раз.
– Некротик? Китаб-уль-маджнн… китаб-уль-некротик-уль-маджнн?
– Да, хорошо-хорошо, черт вас побери! – сказал пожилой двойник Фрейда. – Подождите минутку.
Он нервно обогнул прилавок, проследовал к двери лавки, опустил шторки, быстро перевернул табличку «ОТКРЫТО» и запер замок. Затем повернулся и просеменил мимо Рашида, наблюдавшего за происходящим с примечательным отсутствием интереса.
– Идите за мной.
Худощавый араб молча пошел за ним в глубину магазина.
«ДЖЕК ДЭВИС – ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» гласила покрытая пятнами желтоватая табличка на запертой на висячий замок двери. Старичок – по всей вероятности, не кто иной, как Джек Дэвис собственной персоной, – полез в карман брюк и извлек странного вида ключ. Покупатель придвинулся ближе.
– Попридержи коней, – буркнул хозяин, возясь с замком.
Благодарный щелчок послужил ему наградой. Сняв замок, он толкнул дверь, пошарил по стене в поисках невидимого в темноте выключателя и махнул необычному клиенту – дескать, входи. Маленький чуланчик осветила единственная электрическая лампочка.
Когда Рашид протиснулся в тесную комнатушку – все четыре стены были сплошь заняты книгами самого древнего облика, а остаток места занимал огромный, заваленный бумагами письменный стол – хозяин последовал за ним, тщательно прикрыв дверь и заперев ее все на тот же висячий замок изнутри.
Здесь стоял густой, затхлый запах ветхой бумаги вперемешку с другими, еще менее приятными гнилостными ароматами, но Рашид их, казалось, даже не заметил – как и почти невыносимой жары, царившей в этой почти не вентилируемой комнате. Дэвис со своей стороны принялся обильно потеть. Он не без труда протиснулся вокруг стола и разместился в единственном здесь кресле, стоявшем за ним.
– Итак, «Некротическая Книга», м-м? Вы имеете хоть малейшее представление, куда лезете? – Миниатюрный книготорговец выглядел искренне озабоченным.
– Н’ам… да, да, конечно! – нетерпеливо изрек его собеседник. – И у меня есть цена, вы скорей дать мне книгу…
– Давайте сперва поглядим, что у вас есть. – В голосе Дэвиса проглянуло раздражение.
Высокий скелетоподобный араб быстро расстегнул рубашку, запустил руку за пазуху и вытащил один за другим пять продолговатых пластиковых пакетиков, которые аккуратно разложил на столе перед взмокшим и теперь уже слегка взволнованным продавцом.
– Вот… гашиш, – сообщил он довольно буднично. – Чистый… хорошего качества… кхирун… лучший гашиш… вал-льх!
Дэвис осторожно открыл каждый пакетик и потрогал темную субстанцию внутри сначала кончиком пальца, потом языком.
– Да, кажется, все в порядке… на редкость качественное зелье – где вы его только берете? А, все равно. Но вы точно себе представляете, что хотите купить за него? Возможно, стоит подумать о других книгах той же ценовой категории – глядите, у меня тут есть ни много ни мало оригинал «Книги Эйбона», а кроме того…
Рашид оскалился, и правая его рука выстрелила вперед с немыслимой скоростью, сомкнувшись на горле Дэвиса. Рот у того беззвучно открылся – он на мгновение заглянул в холодные очи самой смерти, вдруг обретшей материальную форму.
– Давай мне некрутическая книга! – Слова резали зловонный воздух, будто ножи.
– Да, хорошо, хорошо… – Дэвис захрипел, пытаясь высвободиться из болезненной хватки. – Хорошо, я сказал! Отпустите меня, черт вас возьми! Позвольте вас предупредить, хотя у меня огромное искушение этого не делать… «Некротическая Книга» чрезвычайно опасна! Я видел, что она сделала с парнем, который владел ею раньше. При одной только мысли у меня желудок выворачивает. Да я бы такой участи худшему своему врагу не пожелал – а я вас заверяю, у меня такие есть! Нечеловеческий конец… или, наоборот, слишком человеческий – но не такой же… Дьявол, если бы начальство не настаивало, чтобы я взял проклятую книгу назад, я бы ее…
– Некрутик китаб! Где?! – перебил его араб, чье терпение очевидным образом иссякло.
– Не уверен, что вы понимаете… – Джек Дэвис предпринял последнюю, отчаянную попытку. – Эта проклятая книга… свиток… пергамент – меня, к счастью, избавили от необходимости ее лицезреть – действительно обладает некротическими силами! Вы знаете, что это означает?
В первый раз легкая улыбка проскользнула по оливковому лицу Рашида Абдула Вахаба Аль-Ираки.
– Да, я знаю. Мы знаем. Китаб Тумарна Аль-Миит-уи-Маджнна обладает властью, равной которой нет у других книг – даже у Китаб-уль-Азиф. Мой повелитель тоже знает – он есть великий собиратель запретного… он знает… он – ‘лим-уль-китаб. Да, Тумарн… Томерон?… нашел… открыл то, что неведомо другим людям и джинни. Некротический книга может заставить плоть гнить – гнить при жизни – как паучий яд, который мой повелитель изучать… loxosceles… а, laeta… некротоксин… обращаться с ним надлежит осторожно. Мы также очень осторожен когда обращаться с некротический китаб Тумарн. Мы никогда не касаться, работать на пространстве… нет, на расстоянии!.. очень безопасно, и еще аль-дуктр… господин собирает, он много других книг, они нас защищают, нет? Мы с многие запретные книги сейчас, много сильных китаб, сильная защита от… снаружи. Так, где эта книга? Который китаб?
– Да вы чокнутые оба! Совсем сумасшедшие! Понятия не имею, как вы собираетесь…
– КИТАБ!
Таким тоном Рашид еще не говорил. В левой руке у него объявился тонкий кинжал.
– Довольно игр, кяфир! Книгу! – повелительно потребовал он.
– Да, ладно, ладно, это, в конце концов, твоя жизнь – и того психа, что тебя нанял. Я честно пытался вас предупредить… вот. Вот она. Уже достаю.
Трясущимися руками Дэвис снял с одной из полок на правой стене четыре толстенных тома, за которыми оказался причудливо изукрашенный и запечатанный ларец. Показав на него пальцем, он прошептал:
– Вот. Забирай чертову шкатулку. Бери ее сам. Чертова книга – или что она там такое – внутри.
Рашид мгновенно обогнул стол и уже стоял перед полкой. Ни секунды не колеблясь, он протянул руки и вытащил ящичек из его тайного убежища, потом повертел его в воздухе, ощупывая пальцами большие восковые печати и тонкую позеленевшую цепочку, которой он был обмотан.
– А, печать Ар-Раджма, все, как и было обещано… но я должен открыть и убедиться…
Джек Дэвис подскочил, бледный, как смерть, и наставил на него маленький синеватый револьвер, который словно по волшебству возник у него в руке.
– Даже думать не смей открывать эту штуку здесь! – взвизгнул он.
Его мокрое от пота лицо являло прелюбопытную с мимической точки зрения смесь гнева и страха. Пистолет смотрел точнехонько Рашиду в лоб.
– Я тебе уже говорил, – продолжал Дэвис едва дыша, – я видел, что случилось с последним идиотом, который путался с этой дрянью, и я не дам тебе открыть чертову шкатулку в моем присутствии, даже не мечтай! Только тронь еще раз одну из печатей, и, клянусь, я тебе мозги вышибу – и, между прочим, окажу тебе этим услугу, еще спасибо мне потом скажешь! Бери проклятый ящик и выметайся отсюда!
Рашид изобразил нечто похожее на ухмылку – происходящее его явно забавляло.
– Ва-альх! Не надо мне угрожать, кяфир! Ухожу… уже ухожу. Ты сам понимаешь, что, если предал нас, и в ларце нет книги Томерона, ты умрешь, и смерть твоя будет хуже… хуже… тысячи преисподних… ва ла’ннат-уль-‘алам ‘алейкум!
Тут араб разразился гомерическим хохотом и ткнул пальцем в дверь, на которой красовался замок.
– Иди отпирай!
Торговец в ажитации кинулся к двери, не сводя оружия с клиента, сдернул замок, распахнул ее и отскочил, дав тому пройти. Рашид проследовал на выход, даже не оглянувшись.
Карло Корелли оторвался от газеты, распростертой на его богато украшенном письменном столе. Один из его телохранителей только что втолкнул в кабинет маленького человечка с седой бородой.
– А, Джек, caro amico[58], как поживаешь? Садись, садись, устраивайся поудобнее. Ты уже читал сегодняшние газеты? Какое безобразие, а? Что за гадкие вещи творятся в этом городе, ц-ц-ц.
– Дьявол, мистер Корелли, и вы так спокойно об этом говорите? – Дэвиса, казалось, поймали враги и завязали в несколько тугих узлов.
– Ой, да ладно тебе, Джек! Ты, сдается мне, не только стареешь – ты делаешься каким-то мягкотелым! А, по-моему, эти чудаки смешные. Ты только вообрази, на какие жертвы они пошли… Забрали у тебя la cosa[59], сунули под стеклянный колпак и ну открывать ее механическими руками, с дистанционным управлением, из другой комнаты – а, каково! Как будто она сейчас возьмет и сделает ба-бах! Джузеппе съездил к ним попозже, прикинулся репортером – так, представь, они даже пентаграммы там нарисовали и кучу свечек зажгли, и еще книги разложили на таких забавных пьедесталах перед смотровым окном! Давай, Джек, расслабься уже! Мы с тобой достаточно долго этим занимаемся…
– Но не этим вот конкретно, мистер Корелли! Всякое барахло – это одно дело, а…
– Ай, Джек, ну, неужели тебе не нравится юмор всей этой ситуации? – расхохотался тучный мужчина за роскошным столом, попыхивая сигарой. – Так и вижу бедных дураков… в окружении всякого оккультного мусора; читают из своих бесполезных книжонок. Этот твой чокнутый араб наверняка что-нибудь декламирует из «Некрономикона» или еще какого старого дерьма. Ха! А этот стукнутый коллекционер, доктор Карл Эриксон, воодушевившись, что ничего страшного не случилось, когда ихние инструменты открыли ларец, велит иракскому воришке прочесть арабский текст из «Некротической книги». О боже, да они, вообрази, даже крыс принесли – трех, рассадили по клеткам вокруг книги, как будто она могла подействовать на них! Эти дурни так и не поняли, что некротические силы книги Томерона, жреца-еретика культа Ленг, этой секты пожирателей трупов, действуют не на тех, кто касался ее, и не на тех, кто стоит кругом! Эй, Джек, ты что-то побледнел… Держу пари, ты и сам не знаешь, как она действует!
– Мистер Корелли, а вы-то знаете, какие силы стоят за этой демонической книгой? Вы понимаете, как она работает? – Коротышка содрогнулся.
– Нет, Джек, не до конца, – но, признаться, я не до конца понимаю, как работают вот эти часы. – Корелли показал на свой дорогой цифровой хронометр. – Или почему самолет летает… или если налить человеку на голову кислоты, какие именно химические реакции от этого начнутся. Кстати, как работает водородная бомба, я тоже не знаю, но, позволь тебя заверить, старина, я не колеблясь воспользуюсь чем угодно из этого списка, если это будет необходимо, удобно и доступно… Не нужно быть механиком, чтобы ездить на автомобиле. Это просто прекрасно, что старый китаёз успел нам рассказать об этой милой книжице все что надо и только потом умер – он, наверное, по-настоящему ненавидел того парня, что его в это дело втянул. Ах, эти коллекционеры – это что-то с чем-то! Нет, милый Джек, я не понимаю эту чертову книгу, я тебе не механик какой-нибудь… но я умею водить машину и книгой пользоваться тоже умею.
– Но это же совсем другое, это вам не машина, не банка с кислотой, не бомба! В книге есть что-то поистине дьявольское, мистер Корелли! Мне она не нравится!
Дэвис зримо затрясся и даже, кажется, стал еще меньше, чем был.
– Не будь глупцом, старина. Я скажу тебе, что с тобой не так. У тебя слишком буйное воображение! Вот, взгляни на эту статью – думаю, ты сам безошибочно определишь, как и когда сработала наша игрушечка. Давай, смотри!
Карло Корелли развернул газету на столе и ткнул в несколько абзацев в репортаже о загадочных смертях, потрясших поутру весь добропорядочный Бостон. Дэвис послушно прочел, безотчетно ощущая внутри мертвящий холод:
…состояние обоих тел было охарактеризовано обнаружившим их швейцаром как частично разложившееся, «сгнило в хлам», если воспользоваться его собственным выражением, хотя гниение, судя по всему, было локализовано на отдельных их частях. Тело доктора Эриксона демонстрировало необычные поражения боковых сторон головы – в особенности ушей, которые, казалось, просто растаяли, вместе с прилегающими областями черепа и мозга. У дворецкого сходные поражения обнаружились вокруг рта и также в районе ушей. Джим Мартин, швейцар, сообщает, что рот дворецкого совершенно сгнил, так что видны были челюстные кости. Полиция отказывается комментировать показания Мартина или допустить к останкам представителей прессы. Ответственный за расследование офицер также отказался сообщить, будет ли обнародован отчет о вскрытии.
Доктор Эриксон был владельцем обширной коллекции редкой и оккультной литературы. Пробелы на полках в той комнате, где были обнаружены тела, побудили некоторых друзей покойного предположить в качестве основного мотива преступления ограбление, однако сам факт убийства так и не был установлен, так как причина смерти остается неясной – как, собственно, и орудие нападения. Была выдвинута версия кислоты, но Мартин отвергает такое, заявляя, что головы жертв выглядят так, словно их разъело изнутри – что само по себе абсурдно. Кстати, Мартин признает, что пропустил накануне вечером несколько стаканчиков.
Читая статью, Джек Дэвис бледнел на глазах, а, дочитав, вскочил с прямо-таки пепельно-бледным лицом, почти в цвет неухоженной бороды – правда тут же зашатался и схватился за торшер, чтобы устоять на ногах.
– Бог мой, мистер Корелли… это совсем как с тем, другим… Значит, есть на свете вещи несказанные, ужасы, которых не в силах вынести человеческий разум, нельзя слушать людскому уху… это безумие, чистое безумие! Если бы я своими глазами не видел, как тот человек… Боже, Корелли, да как вы можете быть так спокойны? Я не хочу больше иметь к этому никакого отношения!
Глаза у него даже немного вылезли из орбит, пока он кричал все это плотному господину за столом из золота и оникса, мирно пускавшему колечки из дыма.
– Джек, помилуй! Слишком буйное воображение, как я тебе и говорил. Ты же не забыл про свою дочь, правда? Синтия Дэвис – такая славная девочка, милая, невинная птичка… Мы же не хотим чтобы что-то подобное случилось с крошкой Синди, правда же, Джек, дорогой? Сядь, мальчик, сядь и успокойся.
Дэвис еще какое-то время постоял, а потом рухнул в кресло, словно все силы вдруг оставили его. Он выглядел совершенно сломленным, на лице проступила покорность.
– Эта… эта… вещь уже вернулась? – выдавил он ломким голосом.
– Конечно, она всегда возвращается! – рассмеялся Корелли и открыл ящик в столе. – Вот она, дружок, гляди!
Своими толстыми, унизанными перстнями пальцами он вытащил большую черную шкатулку с затейливым орнаментом на крышке.
– Как и сказал старый китаёз – смотри!
Джек Дэвис скорчился от ужаса, когда его босс вытащил из черного ящика так хорошо ему знакомый ящичек поменьше – проклятую игрушку Пандоры, созданную Томероном Гнилым. Все ее восковые печати были на месте!
– Не бойся, Джек – возьми, подержи!
– Прошу вас, мистер Корелли… я боюсь, черт вас возьми, мне страшно, неужели в вас, к дьяволу, ничего человеческого не осталось? Неужели вам от нее не страшно? Такого просто не должно существовать! Умоляю, мистер Корелли, может, кто-нибудь другой…
– Довольно! Баста! – Корелли грохнул рукой по столешнице. – Не будь идиотом, Дэвис! Для нас обоих это было фантастически прибыльное предприятие – и ты знаешь, никого другого я использовать не могу. У тебя связи и репутация торговца всякими странными книгами. Никто больше не сможет. Давай, бери уже эту чертову игрушку, она тебя не укусит. Я знаю, ты по-арабски не разумеешь, так что бояться тебе нечего, даже если у тебя от любопытства совсем сорвет крышу. Да и не думаю, что ты когда-нибудь по доброй воле полезешь в меньшую шкатулку. Ты ведь, скорее, собственный гроб откроешь, а? Бери уже, и тогда я, наверное, не стану лично навещать твою крошку-Синди – пока, во всяком случае, нет.
Тут он подмигнул и выдал игривую улыбку.
Едва держась на ногах, Джек Дэвис с видимым отвращением принял странную шкатулку с восковыми печатями и тут же, не медля, принялся заворачивать ее в валявшуюся на столе газету, словно старался не касаться лишний раз руками этого орудия смерти и безумия…
Корелли громко захихикал.
– Мой милый Джек, старик, можно подумать, я змею тебе в руки дал! Уверен, ты со всем справишься, так ведь? Ах, эти охотники за странными книжками – у них бывает действительно превосходный товар! Качество вот этого, последнего – просто первый сорт, выше всяких похвал! Бедные психи на что угодно пойдут, лишь бы раздобыть вожделенную книгу! Ну, каждому свое, да, Джек? Дай мне хорошую пачку «зеленых», и я тебе принесу на блюдечке весь мир… А вот ты, Джек – у тебя есть фетиш?
Дэвис не ответил, устремив пустой взгляд перед собой.
– Боже ты мой, да тебя как пыльным мешком по голове ударили! Подумай лучше о хорошем: твоя комиссия по последнему делу – десять процентов, как обычно, а я положу тебе на счет еще тысчонку – в знак уважения. Кста-а-ти, ты скоро услышишь про одного богатого оккультиста, чудака, известного по имени «Олень» Давида, – так он сам не свой до всяких дурацких книжек. Он как раз давеча узнал – чисто случайно, разумеется… – Тут Корелли снова подмигнул своему молчаливому собеседнику и одарил его радушной улыбкой, – что где-то в этой стране существует копия баснословной и легендарной «Некротической книги» Томерона… Я уже говорил, что он спит и видит, как бы добавить ее к своей коллекции? Он уже где-то слышал твое имя; поговаривают, у тебя может иметься информация – если не сама эта ужасная книга, которой, конечно, никто в глаза не видел…
Корелли снова счастливо расхохотался.
– Стоимость уже удвоена, а то! Ты же знаешь, как эти редкие тома растут в цене, особенно те, что уже больше не издаются, но остаются востребованы… но мне же не нужно тебе все это объяснять, да, Джек? Я так понимаю, у этого парня, Давида, есть кое-какие связи на Востоке, а значит, и доступ к самому лучшему товару в количестве – приятнейшая выйдет сделка, ты так не считаешь? А ведь будут и другие – у нас с тобой настоящая золотая жила, мальчик мой! Кто бы мог подумать, что книги – это так весело! Вряд ли я хоть одну прочел с тех пор, как моя милая покойная матушка забросила мое религиозное образование! Так что ciao, amico,[60] будем на связи, да?
– Прости меня, Синди… – прошептал в ответ Джек Дэвис.
Он медленно распрямился. Газетные листы посыпались к его ногам.
– А вот я, мистер Корелли, читал. Много читал и многое узнал, и даже кое-какой лгхат-уль’арабьях, чертов ты ублюдок, ибн-шармтах…
Улыбка с лица Корелли куда-то испарилась.
– Эй, Джек, ты что, спятил? Армандо! Артуро! Где вас…
Но было уже поздно. Джек Дэвис открыл шкатулку, вытащил книгу и принялся читать глубоким, гулким голосом…
На аукционе разгорелась настоящая свара за кое-какое имущество, от которого решила избавиться недавно овдовевшая синьора Мария Корелли. Особенно отличился некий Оленус Давид, сумевший заполучить одну забавную восточную шкатулку. Глядя, как аукционист передает ее новому счастливому владельцу, Мария Корелли испытала странное облегчение, хотя в чем его причина, объяснить бы вряд ли смогла.
Дональд Р. Берлесон. Ночной автобус
Свой ночной автобус до Браттлборо я поймал в тихом безымянном городке в северном Вермонте – на одной из тех дряхлых остановок, которые виртуозно усиливают и без того владеющее тобой чувство смутной подавленности: неразговорчивые кассирши с оловянными глазами; выцветшие шеренги захватанных журналов и бульварного свойства газет в безжалостном свете голых лампочек; грязные полы; слабый, но вездесущий запах пота и мочи. Воздух был спертый и сырой. Я стоял со своей сумкой среди какого-то тусклого люда и, вздыхая, пялился на примерзшие к циферблату стрелки часов на стене над кассой – и с заметным облегчением увидал автобус, наконец, вынырнувший из темноты и затормозивший перед зданием станции. Я встал в очередь, протянул шоферу билет и влез в салон, где уже сидело несколько пассажиров. Впрочем, мне досталось целое двойное сиденье ближе к хвосту, по правой стороне – рядом со мной так никто и не сел. Я откинулся на мягкую спинку: счастливой способностью спать в автобусах я никогда не обладал, но хоть на какой-то отдых за четыре часа ночного шоссе и бесконечных остановок на таких же вот бесцветных непрошеных станциях надеяться, наверное, можно.
Вскоре автобус отвалил от островка света, и в заоконной тьме потянулись гряды низких холмов, словно тяжелые, аморфные, ускользающие мысли.
Я вытянул, насколько можно, ноги и постарался расслабиться. Только наша колымага как следует разогналась, как водитель сбросил скорость и встал, чтобы подобрать какого-то заблудшего пассажира, торчавшего на обочине дороги. Я его видел только смутно, силуэтом: сначала он рылся по карманам в поисках денег, потом пробирался по проходу в хвост. Автобус дернулся и снова заскользил над дорогой. Новичок пару раз задумался, но, в конце концов, к крайнему моему неудовольствию, выбрал сиденье рядом со мной и торжественно на него плюхнулся. Я покосился на него в почти полной темноте, но благоприятного впечатления предсказуемо не получил; обоняние попробовало исправить ситуацию, но тоже быстро стушевалось. Лица его я не видел, но, кажется, это был костлявый старик, одетый во что-то потрепанное и затхлое. Источаемый им аромат я бы не взялся определить, но уж приятным-то он в любом случае не был, причем впечатление это усиливалось с каждой минутой. Новый сосед словно был болен какой-то потайной и достаточно мерзкой болезнью, и когда он прочистил горло с неподражаемым липко-мокрым звуком, легче мне отнюдь не стало. Я передернулся и наглядно представил себе перспективу ночи на колесах бок о бок с этим отталкивающим субъектом; настроение, и без того не слишком радужное, решительно устремилось к нулевой отметке.
Какое-то время спустя – я упорно глазел на тянущиеся за окном вереницы куполообразных холмов – мне удалось почти потерять попутчика в сонной паутине мыслей, хотя из-за его оскорбительного благоухания дышать приходилось поверхностно, а нос держать отвернутым в другую сторону – счастье еще, что там оказалось окно, в которое можно было глазеть. К сожалению, вскоре реальность бесцеремонно потребовала меня назад. Случилось то, чего я бессознательно страшился с самого начала – сосед решил поговорить.
– Вот еду жену проведать, по ту сторону Акелейвиля.
– Хм, – отозвался я с легчайшим кивком, стараясь не показаться слишком уж грубым, но и не поощрить к продолжению беседы.
Голос у него был какой-то отвратительно мокрый, словно горло полоскали, только со словами. Чуть повернув голову, я поглядел на него и в смутных редких вспышках от фар проносящихся мимо машин узрел совсем не ободряющую картину. Физиономия соседа, даже выхваченная светом на считанные секунды, была до странности серой и с виду нечистой – особенно когда он по-вурдалачьи откатывал губы назад с темных пятнистых зубов и пусто таращился на меня из глубин затененных глазниц. Такие лица впору носить разве что на смертном одре. Когда пассажир на два ряда впереди щелкнул локальным светом над головой, чтобы что-то там почитать, в доставшем до нас слабом сиянии я, оторопев, увидал, что глаза у соседа налиты какой-то желтоватой гноеподобной жидкостью. Меня снова передернуло – да что там, я чуть не задохнулся от близости этого тошнотворного видения, и только странная вялость во всех мышцах не дала мне с криками кинуться к водителю, требуя, чтобы он меня немедленно ссадил.
Время текло со зловредной медлительностью; сосед, которого я видел уголком левого глаза, то и дело поворачивался на меня поглядеть. С каждой минутой вонь становилась все невыносимее; видимо, для всех остальных пассажиров этот факт остался тайной только потому, что они благополучно дрыхли. Удивительно, что тот любитель ночного чтения двумя рядами дальше так до сих пор ничего и не заметил… – если, конечно, не заметил. Сражаясь с благоуханием в тщетных попытках не дать ему проникнуть ко мне в ноздри, я машинально пытался его классифицировать – и не прошло и года, как в голове рассветом взошла мысль, что больше всего это похоже на смрад органического разложения, вроде тухлого мяса, забытого в кухне.
– Гляди-ка…
Слова настигли меня вместе с шипящим дуновением зловонного воздуха, от которого меня чуть не вывернуло. Я через силу заставил себя повернуться к собеседнику.
– Мы приближаемся к Акелейвилю. Через пару минут я вам пожелаю доброй ночи и откланяюсь.
Я слабо улыбнулся, надеясь только, что вздох облегчения вышел не слишком шумный. И на прощание, уже поднимаясь со своего места, он пробрал меня до костей волной неизъяснимого ужаса – просто сказав:
– Ты же меня узнал, правда? Ну, так да – я не такой как ты, молодой человек. Ты-то пока что среди живых. Но обо мне не беспокойся – жена у меня такая ж, как я. Негоже, чтобы тело тосковало в одиночестве.
Он выпрямился в проходе между креслами и в быстрой вспышке бледного света поскреб щеку – зловонной, покрытой струпьями рукой. Плоть резиново подалась под пальцами, стекла вниз, и рука слегка провалилась внутрь. Всех моих сил едва хватило, чтобы не сблевать, – но в этот миг он отвернулся и двинулся вперед, к водителю, знаками показывая, что его надо высадить тут на дорогу.
Когда автобус изрыгнул это жуткое создание, на обочине в свете фар сгрудившихся за нами машин, не способных объехать нашу колымагу из-за плотного движения по встречной полосе, мелькнула еще одна фигура, ожидавшая позднего пассажира – такая же ветхая и потрепанная, как он, с таким же загробным лицом, выжженным с тех пор намертво у меня в памяти. Когда мы отъезжали, они обнимались, трупно улыбаясь друг другу, – такими ночь их и проглотила. Ну что мне стоило отвести взгляд на секунду раньше – тогда небеса избавили бы меня от этого зрелища! Тогда я мог бы и не заметить, что женщина во всей своей кладбищенской красе была очевидным образом на восьмом-девятом месяце беременности!
Питер Кэннон. Оловянное кольцо
Переезд в Нью-Йорк был, возможно, самым умным поступком всей его жизни – хотя, честно признаться, он начал так думать, только помыкавшись несколько месяцев в монотонных и унылых поисках работы и прибившись, наконец, к одному увлекательному, но минимально прибыльному издательскому бизнесу. Отпрыск древней французской гугенотской фамилии, Эдмунд Эймар променял провинциальный Винчестер на метрополию своих пращуров, состоявших в свое время среди самых первых и самых выдающихся ее граждан. Именно здесь он надеялся оставить свой след в этом мире – и не каким-нибудь адвокатом, банкиром или биржевым брокером (именно эти профессии традиционно выбирали мужчины семейства Эймар), а в ремесле пусть победнее, зато побогемнее.
Дело в том, что, будучи обладателем наследного состояния, рачительно собранного несколькими поколениями предков, сменившими друг друга с тех пор, как прапрапрадедушка, Джон Маршал Эймар, заложил ему солидную основу еще до Гражданской войны, Эдмунд Эймар привык наслаждаться привилегиями своего класса. Образовывался он в частной школе, где мог себе позволить слыть мечтателем, чуждым унылой классной рутине. Подобно многим юношам его происхождения, с успеваемостью он не дружил и до колледжа Лиги Плюща, традиционно уготованного представителям их круга, не дотянул. Независимый доход покрывал все его основные нужды: студию на первом этаже в Вест-Сайде с входом со двора; гардероб от «Брукс-Бразерс»; холодильник, набитый готовыми обедами. Свободный от треволнений, сопутствующих большинству молодежи, пытающейся построить карьеру в большом городе, Эймар мог взамен сколько угодно культивировать свои утонченные эстетические запросы. Страстно любя архитектуру, он мог часами фланировать мимо затейливых особнячков, рядами окаймлявших улочки по соседству, смакуя то какой-нибудь элегантный карниз, то изысканную балюстраду. Временами он даже углублялся подальше «в поле», исследуя извилистые переулки и нерегулярную планировку Гринвич-Виллидж и прочих старых районов города. Величавая застройка Манхэттена поначалу угнетала его дух, но со временем взор научился отдыхать на скалистой красоте этих глыб стекла и бетона, взмывавших, подобно арабескам «Тысячи и одной ночи», в беззвездную мглу городского неба.
Он искренне заинтересовался историей Нью-Йорка, в особенности деяниями своего предка, Джона Маршала Эймара, сиявшего на деловом, политическом и светском небосклоне все сороковые и пятидесятые годы XIX века. Все свое свободное время Эдмунд торчал либо в Нью-Йоркском Историческом обществе (поблизости), либо в Музее истории Нью-Йорка (двадцать минут быстрым шагом через Центральный парк) и чем больше узнавал о прадеде, тем больше им очаровывался. Официальные источники описывали добросовестного делового человека, выстроившего транспортную империю, щедро жертвовавшего на республиканскую партию и дававшего роскошные приемы у себя в особняке на Пятой авеню. Письма и дневники современников, однако, намекали на то, что скрывалось за этим фасадом: настоящий искатель истины и красоты, поэт, автор тоненькой книжицы стихов, опубликованной за свой счет в 1849 году. На портретах он представал стройным, моложавым, белокурым, с тенью нездешней улыбки на тонких губах. (Эймар на предка, как ни удивительно, ничуть не походил – правда, ему все говорили, что он точная копия матери.) Ни одно изображение не выдавало приближение возраста: он умер, не дожив и до пятидесяти, от странной затяжной болезни, поставившей в тупик врачей.
Постепенно Эймар по уши погрузился в историю: прошлая литературная жизнь города совершенно захватила его. С особенным удовлетворением он узнал, что в 1844 году Эдгар Аллан По дописывал «Ворона» в фермерском домике, который стоял всего в паре кварталов от его нынешнего жилища, там, где сейчас бежал Бродвей. На старых снимках красовалась белая хижина на деревянном каркасе в тени деревьев, на склоне холма. К концу столетия домик, как водится, снесли, деревья вырубили, а холм сровняли с землей, и только скромная табличка на местном «Спа и Фитнес-Центре» ненавязчиво уведомляла прохожих, что на этом самом месте некогда жил самый прославленный из американских писателей. Эймар среди прочих подписал петицию мэру с просьбой назвать маленький отрезочек 84-й Западной улицы в честь По, а потом строчил сердитые письма в «Таймс», требуя исправить на развешанных повсюду табличках с названием новой улицы безграмотное «Аллен» на нормальное, правильное «Аллан».
Первые несколько лет в Нью-Йорке Эдмунд Эймар тихо гордился, что живет в уже немодном и почти забытом квартале, населенном в основном испаноязычными бедняками. Впрочем, когда город вынырнул, наконец, из периода экономического упадка, благосостояние, будто какая-то вероломная, липкая морская тварь, принялось неуклонно тянуть свои щупальца на север от Линкольн-Центра, жадно проглатывая широкие, ветхие авеню. В поразительно короткие сроки мелкие семейные магазинчики, прачечные самообслуживания и ремонты обуви, этнические бары и общественные клубы, и с ними одинаковые дешевые американские забегаловки уступили место шикарным бутикам и модным ресторанам иностранной кухни. Эймар с отвращением наблюдал, как уродливые двухэтажные коммерческие хибары по сторонам Бродвея под натиском прожорливой строительной лихорадки сдаются жутким высотным многоквартирникам, чьи нищенские близнецы-башенки гротескно обезьянничают изящные оригиналы из Сентрал-Парк-Уэст. Подобно ребенку, слишком рано узнавшему, что это не аист оставил его на грядке под капустным листом, а папа с мамой осуществили грубый физический акт, которому он и обязан своим индивидуальным бытием, Эймар понимал, что стремительное, радикальное развитие архитектурной среды города – не удел далекого прошлого, о котором пишут в учебниках по истории. Нет, оно происходило прямо у него под носом, за углом – только руку протяни.
Разочаровавшись во всем, Эдмунд Эймар еще глубже ушел в свои таинственные, пленяющие воображение исследования. Он переселился в бильярдные и библиотеки почтенных джентльменских клубов, чьи благовоспитанно-узколобые члены все еще чтили старые традиции. Его собственный прапрапрадед самолично основал один такой, атлетического толка, куда, как гласила типичная раздевалочная легенда, привычно ускользал от дел финансовых и семейных. В клубной библиотеке даже сохранился томик его стихов «Дамон, Пифий и Ганимед»: весьма посредственные вирши прославляли мужественные идеалы классической античности. Эймар читал и перечитывал его – вдохновения ради.
Могучий мечтатель с самых младых ногтей, он часто грезил о прошлом Нью-Йорка: ему являлись во сне банды краснокожих, гоняющих скудную дичь по лугам и болотам; комичные голландцы с широкоствольными мушкетами, важно вышагивающие между кирпичными домами со ступенчатыми фронтонами и деревянным забором, который со временем станет Уолл-стрит; бунты черных рабов посреди дыма и пламени; солдатня в красных мундирах, настроенная куда суровее своих голландских предшественников – расквартированная в частных домах и прочесывающая город на предмет незаконного оружия; матросы, теснящиеся на забитых бочками и ящиками верфях на фоне целого леса корабельных мачт; уличные демонстрации с факелами и антипризывными плакатами; мрачный, длиннобородый джентльмен, инспектирующий некий прибрежный склад; другой джентльмен, худощавый и с козлиной бородкой, надзирающий за сооружением гигантского пьедестала на маленьком островке у самого носика Манхэттена; и особенно стройный светловолосый человек с загадочной улыбкой, обращавшийся, казалось, прямо к нему, дразнивший его каким-то смутным, сводящим с ума воспоминанием, обещанием невероятных чудес за пределами обычного человеческого понимания. В этом последнем джентльмене он, пробудившись, с удивлением признал собственного прародителя, пресловутого Джона Маршала Эймара. Предка в его ночных видениях становилось все больше и больше – пока в один прекрасный день, а, точнее говоря, ночь Эймар не сумел разобрать достаточно ясно его слова: выдающийся родоначальник приказывал ему встать, одеться, взять фонарь и отправляться на некую стройку в десяти кварталах от дома, где в куче строительного мусора он найдет кольцо – оловянное кольцо, если быть совсем точным. Не до конца понимая, спит он или уже проснулся, Эймар почему-то послушался и уже очень скоро обнаружил себя блуждающим по одной из многочисленных строек, из-за которых Вест-Сайд нынче подозрительно напоминал Берлин 1945 года. Не особо волнуясь о перспективе быть арестованным за проникновение, он чувствовал, будто его ведет некая сверхъестественная сила и через несколько минут действительно наткнулся на облепленный грязью предмет, который сперва принял за четвертак эпохи до 1965 года. Однако по ближайшем рассмотрении юный кладоискатель, экстатически содрогнувшись (что случается с личностями экзальтированными сплошь и рядом), убедился, что это и есть предмет его поисков. Полбутылки полироли для серебра оказалось достаточно, чтобы у него на ладони заиграло блестящее оловянное колечко, гравированное примитивным растительным орнаментом, с буквами на внутренней стороне, показавшимися ему поначалу какими-то инопланетными иероглифами. Повернув их другой стороной, он, впрочем, разобрал затейливую монограмму – Дж. М.Э.! Заслуженный скептик по части всяческих психических феноменов, Эймар был буквально раздавлен волной эмоций, в которой смешались страх и ликование от такого возмутительно наглядного и поразительного открытия. Он боялся даже гадать, насколько важной могла для него оказаться находка, и только надеялся вскоре прозреть.
Вопрос о сне вообще не стоял, так что остаток ночи он провел, играя с украшением, примеряя его так и эдак – и, в конце концов, решив, что оно идеально садится ему на безымянный палец левой руки.
Разумеется, он пошел в кольце на работу – в арт-галерею близ Мэдисон-авеню, где совсем недавно заделался помощником. Едучи на автобусе через парк, он плавал в таком тумане, что едва замечал, где он и что с ним. А уже усевшись за свой стол и предвкушая обвал давно просроченной, но все еще нуждающейся в ответе корреспонденции, он увидал, как электрическая пишущая машинка на глазах растворяется, обнаруживая под собой не искусственную поверхность «под дерево», а прямо-таки настоящий дуб. Стандартная шариковая ручка, которой он привычно пользовался, прямо у него в руке превратилась в нечто куда тяжелее и элегантнее – в автоматическое перо. Чернильница и песочница как ни в чем не бывало стояли на журнале сделок – где раньше ни одной из них категорически не было. И, разумеется, выглянув из окна третьего этажа, он вместо потока стремительных шумных автомобилей узрел оживленную улицу, по которой неспешно катили во всех направлениях разномастные запряженные лошадьми экипажи. Джентльмены в касторовых шляпах и фраках и уличные торговцы, с густым ирландским акцентом выкликавший свой товар, украшали тротуары. Воздух внезапно стал теплый и зловонный, а тихое жужжание кондиционера куда-то делось.
Словно на пожар, Эймар кинулся на улицу – она оказалась мощенной квадратными, грубо обтесанными камнями, но этому чуду он уделил не больше внимания, чем всему остальному. Он устремился на Пятую авеню, зная, что там-то и найдет свою цель. Палладианский особняк за оградой он узнал сразу – это был дом его предка. Лакей, отворивший дверь в ответ на бесцеремонный грохот дверного молотка, казалось, его ждал и тут же провел в гостиную, декорированную в роскошном стиле готического Возрождения (значит, на дворе была где-то середина Викторианской эры). Там, облокотившись на доску гигантского камина, стоял господин в расцвете ранней зрелости, одетый в прекрасные шелка. Его светлые волосы и мягкие черты будто источали какое-то надмирное сияние.
– Ах, мой дорогой юный друг, добро пожаловать, – молвил Джон Маршал Эймар. – Вы и представить себе не можете, с каким нетерпением я ожидал нашей встречи.
Очутившись лицом к лицу с предметом своих мечтаний, Эймар пришел в такой благоговейный ужас, что сумел только пробормотать какое-то невнятное «спасибо».
– А, вижу, вы щеголяете оловянным кольцом! Ну, конечно, как иначе тогда мы могли бы воссоединиться? Именно благодаря его посредству вы и сумели пересечь границу.
Мгновение его предок не отводил от кольца невиданно пристального взгляда.
– У меня к вам дело чрезвычайной важности, Эдмунд, но здесь мы поговорить не сможем. Войди вдруг моя жена или дети, и мне будет весьма непросто объяснить, как так вышло, что я принимаю никому не известного родственника, проделавшего дальний путь… и тем более во времени.
Лакей с порога доложил, что их ожидает экипаж.
– Идемте же! Поедем туда, где нас никто не побеспокоит.
Пока они ехали через город, прародитель молчал и только улыбался с безмятежностью, доступной лишь обладателям какой-нибудь великой тайны поистине космического масштаба. Из ракушки ландо Эймар созерцал сутолоку знойного, пыльного, переполненного города, принимая свое присутствие в давно ушедшей эпохе как само собой разумеющееся – ну да, XIX век, а что тут такого?
Они приехали на тихую улочку возле реки – возможно, Викокен-стрит – и высадились у дощатого дома с вывеской «Салун» над входом. В слабо освещенной зале банда смуглых матросов осаждала барную стойку. Хозяин провел их в заднюю комнату и нацедил какой-то темной жидкости из безымянной бутыли янтарного стекла.
Свой рассказ Джон Маршал Эймар начал с того, как оловянное кольцо к нему попало. В рамках благотворительной деятельности среди самых неимущих жителей города он нередко навещал трущобы к западу от Пятой авеню. Там он познакомился с кое-какими африканцами, недавно явившимися в Америку через Гаити – с «дикарями», отправлявшими всякие оккультные ритуалы. Произведя на них впечатление своей решимостью проникнуть за завесу, он удостоился права пройти ритуал инициации, на который отваживались немногие. В процессе посвящения его сочли достойным и вручили оловянное кольцо, но с одним условием: он заболеет смертельной болезнью, медленное течение которой рано сведет его в могилу. Впрочем, эта жертва была совершенно необходима, чтобы достичь «бессмертия».
– Я уже мельком увидел то, что лежит за Пределом, – молвил предок, не сумев подавить самодовольной, снисходительной улыбки. – Время – всего лишь иллюзия. Вся история записана в омега-нулевом континууме, имеющем тороидную форму. Гёдель и Рукер в вашем веке, между прочим, совершенно правы в своих рассуждениях об истинной природе пространства и времени в их синтезе.
Далее он объяснил, что его африканские знакомцы, с которыми он умудрился поссориться, забрали кольцо назад – а проще говоря, выкрали. Джон Маршал вынужден был отдать артефакт, и дарованные ему силы в итоге оказались значительно урезаны. К счастью, ему все-таки удалось до некоторой степени сохранить контроль над «психической энергией» кольца, пусть даже на расстоянии. При помощи снов он сумел дотянуться в будущее, до ближайшего своего потомка, достаточно долго обитавшего поблизости от тогдашнего местонахождения волшебного предмета. Как только потомок – не кто иной как он, Эдмунд Эймар – обнаружил украшение, призвать его обратно в прошлое было делом уже относительно простым.
– Я тяжело трудился, чтобы добиться успеха в этом мире, Эдмунд. Я – человек амбициозный. – Джон Маршал Эймар широко улыбнулся, наслаждаясь своим триумфом. – Я успел вкусить лишь толику от славы кольца и больше не питаю интереса к обычным радостям земного бытия. Обстоятельства вынуждали меня вести двойную жизнь, но я не намерен больше носить маску.
– Ты тоже сможешь вознестись туда, где стою я – и, говоря так, я подразумеваю вовсе не «трансцендентальный» опыт, который так превозносят эти новоанглийские хлыщи, Эмерсон и Торо. Тебе нужно будет отказаться от телесной оболочки – но, поверь, эта потеря ничтожно мала в сравнении с достижениями, которые она сулит. К чему еще сорок лет беспомощных дилетантских блужданий, когда, выбрав путь оловянного кольца, ты, например, сможешь познакомиться с моим покойным другом, редактором «Бродвейского журнала», на пике его сил и способностей? Ты сможешь жить в Нью-Йорке любой эпохи – как и когда захочешь! А через миллионы лет от сего дня (тебе, возможно, будет интересно об этом узнать) ты увидишь, как вулканы оденут горизонт и этот город снова превратится в пасторальный рай, свободный от толп неотесанного плебса.
Но мне нужна твоя помощь, Эдмунд. Ты должен отдать мне оловянное кольцо, ибо только тогда мне хватит сил помочь тебе и обеспечить твое окончательное спасение. Ты пойдешь по моим стопам, но сначала тебе придется вернуться в свое собственное время. А уйти ты не сможешь, пока не передашь мне кольцо. Вот так-то, малыш. Хлебни-ка еще грога!
Слегка не в себе от крепкого напитка, Эймар совсем не хотел разочаровывать родича… но и возвращать ему кольцо тоже почему-то не спешил. Однако Джон Маршал был не намерен терпеть, чтобы какой-то мальчишка вставлял ему палки в колеса. Широко и маниакально улыбнувшись, он цапнул потомка за руку. Эдмунд Эймар инстинктивно отпрянул и, неуклюже вскочив на ноги, опрокинул стол, так что посуда с грохотом полетела во все стороны. Более привычный к мужским напиткам предок мгновенно оказался на ногах и схватил его сзади в кольцо. Оба рухнули на посыпанный опилками пол, где и принялись кататься, как какие-нибудь звери, пока на их вопли из передней комнаты не сбежался народ. Темные рожи, полные зверского азарта и предвкушения были последним, что парень увидел перед тем, как потерял сознание.
Когда Эдмунд Эймар пришел в себя, весь в синяках и ссадинах, он обнаружил, что валяется на улице, рядом с каким-то бездомным – тоже простертым навзничь и расхристанным – перед знакомым домом. Именно сюда он вошел несколько часов назад – но сейчас кровля была совсем другая, да и улицу озаряли не газовые фонари, а нормальные, электрические. Эймар встал и поплелся к станции метро «Шеридан-сквер». Что оловянное кольцо исчезло с пальца, он, конечно же, не заметил – слишком был оглушен последними событиями.
В последовавшие за этим месяцы Эдмунд Эймар самым серьезным образом засомневался, такой ли хорошей идеей был на самом деле переезд в Нью-Йорк. Он иносказательно обсудил свой «сон» с терапевтом и некоторое время пытал его на предмет свободной воли и детерминизма, а заодно и парадоксов путешествий во времени.
В конце концов, нудные сессии ему надоели и, словно какой-нибудь закоренелый креационист, отвергающий теорию эволюции, он отказался от услуг психолога и остался при убеждении, что наследственность важнее среды и что человеческая личность носит в основном врожденный характер. Смирившись со всем, что бы ни уготовила ему судьба, утратив интерес к своим обычным эстетическим игрушкам, он забросил всякую работу и даже почти перестал выходить из своей похожей на берлогу квартиры. А еще он начал терять в весе и обрел склонность простужаться и подхватывать легчайшие инфекции.
В ночь перед тем, как ложиться в больницу на анализы, ему опять снилась всякая старина. Он неуверенно пробирался незнакомой тропой в… кажется, в Риверсайд-парке – хотя это был совсем дикий, необлагороженный Риверсайд-парк. Впереди, на живописном утесе, некая фигура в плаще темным силуэтом выделялась на фоне заходящего солнца. Человек обернулся и поглядел ему в глаза – у него была копна паутинно-тонких волос, широкий лоб, светлые глаза и ровные шелковые усики – а потом исчез в зарослях. Поднявшись на его место, Эймар увидал широкую реку – по все видимости, Гудзон. Его дальний берег был сплошь каменистый и увенчанный шевелюрой зелени, быстро темнеющей в надвигавшихся сумерках. Сзади возникла легкая, светловолосая фигура предка. Вытянув руку, на которой сверкнуло оловянное кольцо, он расхохотался низким сардоническим смехом.
Видение поблекло. Эймар снова был в Нью-Йорке своего времени – ночью, в парке, один, и три молодых латиноса стояли перед ним, требуя «живо отдать его сюда, мистер, а не то…». Попытки протестовать, что никакого кольца у него больше нет, ничуть их не удовлетворили, и в момент экстаза между тем, как кулак встретился с его скулой и последующей потерей сознания, Эдмунд Эймар искупался в потоке юной, чистой веры – веры в то, что, как и обещал предок, скоро у него будет все, все на свете!
Дэвид Кауфман. Джон Леманн совсем один
Июль 1993-го.
Начать, наверное, стоит с того, что для меня рассказать что-нибудь – отнюдь не самая простая вещь на свете. Я в этом деле не то чтобы дока. Дальше четвертого класса я так и не пошел, да и тогда чтением особо не увлекался. Зато вот арифметику любил. Арифметика – она не такая, как все остальное; там у тебя есть на что опереться. В арифметической задаче всегда знаешь, что «дано».
Сейчас это немного смешно даже мне, но я правда ничего так не хотел, как поскорее убраться из школы и пойти работать у папаши на ферме. И меня действительно рано выпустили – можно сказать, по нужде.
Понимаете, в те времена можно было легально бросить школу, чтобы помогать по дому – если ты там правда был ну очень сильно нужен. Такой был тогда закон, да. В общем, ждать мне было уже невмоготу, отец во мне нуждался, вот я и бросил школу совсем рано и пошел работать с ним. Самый счастливый день в моей тогдашней жизни.
Мать была против, она хотела, чтобы я доучился, минимум класса до восьмого, но я уперся. Решил, что знаю лучше. Закончил четвертый класс, как обещал, и только меня и видели.
Я все это тут говорю только по одной причине: в школу я пошел с Джоном Леманном, и все эти годы мы с ним были друзья. Тому уже лет, выходит, шестьдесят минуло, так что знаю я его уже ой как долго. А того, что с ним случилось – с ним и с семьей его – никому не пожелаешь.
Его папаши ферма была снизу от фермы моего папаши – ну, ниже по склону долины, что к югу от Гарлоковой Излучины, а как я узнал, что его ферма сразу под моей, так тут-то они обе к нам и перешли, все чин по чину.
Земля у нас была хорошая, низинная. И с водой очинно замечательно, потому что Сасквеханна прямо по ней, можно сказать, и течет. Она даже каждый десятый год или типа того разливается, и земля вокруг становится еще лучше. Воды у нас много – это важно помнить.
Я так никогда и не женился, а Джон – он да, на отличной девушке со Скотного Водоворота, Кэролайн Джейкобс, и детишки у них были, и время шло, как идет оно для каждого из нас, безвозвратно. Потомство, как водится, выросло и не пожелало торчать в эдакой глуши, а подалось в Харрисберг, на заработки, и Кэрри, жене Джоновой, после этого вроде как совсем все по барабану стало.
Нет, вы меня не поймите неправильно: Кэрри мне всегда была симпатична. Правда. Ну, прямо скажем, даже более чем симпатична. Прямо совсем сильно более. Наверное, это тоже важно помнить.
Так вот, первым делом на ум Миллерова лавка приходит, в связи со всем вот этим. Это в Гарлоковой Излучине такое место, куда все ходят; там всякая бакалея продается, и одёжа тоже. И инструменты, и даже чем подзаправиться – так что из Излучины особенно часто выезжать-то и не приходится. Честная такая лавка, хорошая, прямо посреди города, у реки. На моей памяти она четырех хозяев сменила, с тех пор как дом поставили. Мой папаша, значит, строить и помогал. Теперешний хозяин, Билл Миллер, купил лавку у своего троюродного брата, Генри, который решил завязать уже лет тридцать тому как – вот с тех пор он ею и заправляет.
Она обычно открыта уже в восемь, только в такое раннее время там никого нету, окромя самого Билла – возится со всякими ящиками да банками на полках, чтобы все эдак ровно у него стояло, рядами. Редко когда кто еще зайдет – да почти что и никогда. У нас в такую рань в Гарлоковой Излучине мало что происходит: раскочегаривается наш городок медленно. Но городские и те, что с холмов вокруг, почитают Миллерову лавку чем-то вроде зала собраний, так что открыта она, по факту, всегда. Чуть попозжее утром сразу куча народу подваливает, разговоры такие, нормальные, начинаются, все чин по чину. И кофе у него там отменный. Так что часам к десяти-одиннадцати какая-нибудь компания мужиков в рыжих охотничьих куртках уже заседает за вручную сколоченными деревянными столами, локтями прямо на скатерть в красную клетку – цедит горячий кофе, славный, сахару и сливок в нем всегда вдоволь. Слушает, значит, по радио молодого Дейла Геберлейна – это утренний диск-жокей, из Тованды передают. И каждый над евойными шуточками покатывается. Взял себе, скажем, пончик или яичницу с картошкой по-домашнему, наперчил и похохатывает. Вы еще запах кофе прибавьте и, бывает что, бекона ручной резки – и вот вам самый что ни на есть наилучший способ начать день.
Короче, такой вот у нас Миллер. Там-то все и пошло вразнос. Забавно – я жил-то бок о бок с Джоном Леманном, я поговорить вот удавалось разве что у Миллера. Дома-то – ладно что от крыльца до крыльца докричаться можно – все по большей части дела фермерские, день-деньской, до самого вечера. А у Джона семья, всем чего-то надо, так что времени лясы точить со мной у него никогда не хватало. Я-то один жил и тоже все большей частью в бегах, так что встречались мы друг на дружку поглядеть да поговорить все больше после сева, вот такими вот поздними утрами у Миллера. Думаю, он и туда бы не приходил, если б не я – а так хоть подружимся немного, побалакаем, туда-сюда. Я это все очень ценил.
Я тут иногда думаю: он ведь тоже наверняка знал, как неровно я дышу к Кэрри, все эти годы. Может, и лучше, чем она сама, знал. Но я никогда ни словом об этом не обмолвился – ни им двоим, ни какой еще живой душе. Такого я бы просто не сделал, ни в жисть.
Я всегда любил эти утра с ним у Миллера… но особенно те несколько последних разов. Мы просто сидели с ним, болтали и пили этот кофе. Господь всемогущий, как хорошо я это все помню!
И утрата от этого только еще горше.
Есть такие вещи – ты от них, в конце концов, с ума сбрендишь, если будешь в себе таить. Вот прямо совсем чокнешься. Так что, думаю, лучше всего рассказать историю, и неважно, насколько от этого больно – сказать все как есть, вытащить наружу, может, хоть так удастся с ней разобраться. Надо правда будет сразу же сказать: Джонова история меня за живое задела и, чего уж греха таить, напугала.
Ну, в общем так. В конце октября на маленькой ферме дел не то чтобы слишком много: разве что яблоки доубрать да землю под следующий год подготовить, так пару недель в этом конкретном октябре я регулярно наведывался к Миллеру позавтракать с Джоном Леманном да потолковать за кофием. По большей части так, время провести. О первую неделю Джон частенько заявлялся вместе с Кэрри, так что мы все вместе сидели – хорошие были утра. Все как обычно: про фермерские дела перетирали, про охоту; я Кэрри подначивал, да на ужин к ним набивался как-нибудь. Ну и донабивался. Кэрри Леманн, она, я вам скажу, женщина была любезнейшая, добрейшая, самая приветливая из всех, каких я только знал – это уж как пить дать. И – это уже не самая важная вещь на земле, но я все-таки скажу: глаза у нее были такие красивые-красивые, светло-голубые. Те несколько последних раз, что я ее у Миллера видел – я их до сих пор помню. Это вроде как сумма всех наших встреч, когда мне раньше случалось оказаться с нею рядом. Ну, вроде как они были совсем настоящие, а те, прошлые – почти что сны. Не знаю… не могу сказать в точности, чтобы было сразу понятно, как я внутри себя чувствую – не из таковских я.
В общем, потом они стали приходить к Миллеру пореже. Зима уже была не за горами, похолодало ужас как: наверное, им было проще дома сидеть, когда холода ударили. Ничего необычного, я хочу сказать, в этом не было.
А потом случился тот последний раз, когда я видел Кэрри. У нас почти неделю ливмя лило: то примется, то уймется, но лило. Студено было и сыро, и вся эта вода прямиком в Сасквеханну пошла, пока ее не вздуло, как никогда на моей памяти. Я имею в виду, река правда была высока. А мы как раз сидели у Миллера, совсем как всегда.
Правда, на этот раз с Кэрри что-то было капитально не так – сейчас-то это ясно как день. Она к кофе почти что и не притронулась совсем, вот даже прямо не прикоснулась, и в разговоре как-то совсем не участвовала, сколь бы мы ни пытались ее втянуть. И все при этом как-то волновалась и беспокоилась.
А потом и говорит:
– Джон, нам бы домой надо.
Пора, говорит, нам домой. А они вообще-то только пришли. Я прямо не знал, что и думать – они же правда вот только пришли, минут десять назад. И она такая вся нервная сидела, когда говорила, и мысли у нее были где-то далеко. Но я лезть не стал.
– Джон, вода поднимается. – Кэрри уже прямо просила. – Она уже почти совсем высоко. Нам бы домой идти. Когда вода так высоко, надо дома быть – небезопасно это, сам знаешь.
И синие ее глаза стали какие-то старые и блестящие, когда она сказала тихо:
– Река-то уже до самого дома дошла. Достаточно высоко, чтобы оно…
Тут она сама себя за язык-то прикусила и глаза отвела.
Бог ты мой, она и вправду сидела, вся чего-то боялась!
А Джон, он на нее посмотрел так, будто не знал, что ей на это сказать. И тоже глаза отвел. Попробовал было еще о чем-то балакать со мной, но вы бы видели, какой он был смущенный и беспомощный тогда.
А Кэрри, она стала совсем тихая и только глядела на него молящим взглядом. Когда она снова рот раскрыла, так могла только бормотать, и все про высокую воду, какая та опасная и что беды от нее не оберешься – и как им надо скорее домой, чтобы там ничего не пострадало, и как она за них обоих боится… и всякое такое прочее, еще бредовее. И все это – эдак тихо, обрывками, так что даже фразы у нее не заканчивались. Мне было Джона ужасно жалко, и за Кэрри чего-то тревожно. Что-то с ней было совсем не так. Она ненормально себя вела, хоть по своим меркам, хоть по каким хошь – неправильно это, вот так говорить. Слишком она была испуганная – а всего-то ведь дождь и вода в реке поднимается.
В конце концов, Джон эдак рукой ее приобнял да и пошел с нею вон от Миллера. А по пути наклонился и в макушку поцеловал, легонько. Меня это так тронуло, эта любовь его, такая обычная, привычная, как будто так и надо. Он даже, помнится, не оглянулся.
Нет, Джон-то потом еще несколько раз к Миллеру приходил, да только был он какой-то далекий при этом. Просто сидел там, тихий, молчал. Кэрри больше с собой не приводил и на вопросы о ней не отвечал, если кто спрашивал. А потом просто отваливал, будто решал, что на фига он вообще пришел, плохая это была идея. И делал так почти каждый раз.
Кэрри мы так больше никогда и не видали. Нет, сэр, живой я ее с того дня больше не видел.
Было что-то такое странное в воздухе… Забавное такое чувство – ну, вы знаете, как это бывает.
Вот сидишь, бывалоча, вечером на крыльце – неважно, как на дворе холодно, я холодную погоду люблю – и просматривается оно все оттудова аж до Джоновой фермы. Я под конец заметил, что там у них свет горит всегда только на кухне, а наверху – нет. Никогда наверху нету света. А как-то раз, когда мне чего-то не спалось, я в три утра из окна выглянул – так свет, представляете, горел. Ни один фермер в такой час не бодрствует, вы уж мне поверьте. Такого попросту не бывает.
А потом Джон перестал приходить в лавку.
Ну, одно цепляется за другое: в общем, я решил, что у соседей что-то неладное стряслось. Вообразил, что вдруг Кэрри серьезно больна или вроде того. Черт, мы вообще-то все тут старые. Вот я и подумал зайти к ним, повидать, узнать, может, чем подсобить надо. Это почти любому в мире покажется самым нормальным делом, но вы понимайте: у нас, в Гарлоковой Излучине, такое вот вмешательство в личные дела – это очень серьезно; мы тут друг друга лишний раз не беспокоим и навестить не заходим, если нас сперва не позвали. Мы друг друга уважаем и оставляем в покое – держим, так сказать, дистанцию. Но, в конце концов, мне уже терпеть было невмоготу… не мог я оставаться ни при чем, хоть ты тресни, и вот как-то в субботу, поздно вечером, пришел к ним на крыльцо да в дверь и постучал. Никто не ответил. Мне это показалось не к добру, так что вскоре я уже колотил в дверь что было силы. Меня прямо тряхануло, когда Джон все-таки открыл – так, чуть-чуть приотворил эту чертову дверь. В проем я разглядел его кухонный стол – весь в грязной посуде да протухшей еде. В раковине еще гора посуды громоздилась – да и вся кухня выглядела несусветно грязной, прямо-таки заросшей грязью. Да и у Джона видок был такой же одичавший, нечистый. Башка была совсем в беспорядке, рожа бритвы просила, и уже давно. Выглядел он ну совсем не в свой тарелке.
Вот так он и стоял там, дверь только чуточку приоткрыв, вроде как выглядывал, будто боялся, что я возьму да и войду. Тут-то я и смекнул, что что-то не так – потому друзья так друг с другом не поступают. Он еще головой медленно эдак качал, вперед-назад, и уже даже дверь закрывать начал, будто вовсе меня не знал.
– Не велено мне никого внутрь пускать, – вот так вот прямо и сказал.
И голос у него был слабый и перепуганный.
– Нельзя мне, – молвил.
– Джон, – вмешался тут я, – ты должен меня впустить.
Что-то было неправильно, совсем неправильно.
– Я поговорить с тобой хочу, Джон, – сказал я. – Давай уже, пусти меня.
И я начал было уже толкать дверь, как он успел ее захлопнуть – и ничего я поделать не успел. А свет в кухне тут же погас, и весь дом как есть погрузился во тьму. Еще минуту или две я так на крыльце и простоял – все себя по кускам собирал. Совсем я тогда струхнул. И вот, сэр, что я вам скажу: следующее, что я сделал, это обошел кругом дома и заглянул в каждое окно, до какого дотянулся, да только ничего не разглядел, потому как света нигде не было. Ставни я тоже попробовал, но все оказались заперты; и все три двери, и даже ту, которая в подвал – но так ничего и не добился.
Как будто в доме годами никто не жил… Я стоял там, в темноте, и все кругом было тихо – только ночной ветер дул эдак легонько.
Река и правда прибывала, тихо ползла вверх по склону на задах дома. И звук такой хлюпающий, тяжелый издавала – очень зловеще выходило.
В животе у меня крутило болью, пот катился градом, хотя было совсем не жарко. Не иначе как что-то действительно скверное случилось с Кэрри и Джоном. Что именно, я даже гадать не хотел.
Весь следующий день и всю ночь у Джона на участке никакого движения не было. Я все время о нем думал и решил покамест ничего никому не говорить. Дело-то на самом деле было совсем не мое. И вообще, если уж на то пошло, ничего уж совсем необычного-то и не происходило – так, страхи какие-то нелепые.
А назавтра я углядел, как Джон идет через участок к себе в молочную, несет ящик, с виду очень тяжелый. Ну, мне-то со временем все едино, я человек свободный, так что решил, не откладывая, пойти потолковать с ним, пока он в молочной – может, даже дорогу ему заступить и не выпускать, пока он не скажет, как на духу, что у них там творится. Когда я перешагнул порог, он как раз тягал из ящика квартовые банки с персиками и опускал их в корыто с водой, чтобы, значит, охладить. Он поднял на меня глаза, потому что я ему свет загораживал – и не улыбнулся.
– Кэрри всегда персики любила, – сказал.
На сей раз он был весь чистый, отмытый.
– И я тоже, – кивнул медленно, осторожно.
– Много их у нас. Хочешь домой взять? – и протянул мне кварточку.
Ну, прямо скажем, счастливым он при этом не выглядел, вот от слова совсем, а так все было как будто самый обычный день, ничего из ряда вон. Но как-то не верилось мне ему. Неестественно это было, вот хоть зуб давай.
– Ты вот что, – сказал я, стараясь держать в узде и мой голландский темперамент, значит, и страхи заодно с ним. – Что у вас тут происходит, Джон? Какого дьявола с вами творится?
– Ничего тут не происходит, – сказал он медленно, пристально глядя на меня.
Мне не по себе стало. Все-таки его ферма, его земля… Нельзя, чтобы он думал, будто я ему не верю. Если ты человеку не веришь, не доверяешь, ничего между вами хорошего уже не будет. А я этого совсем не хотел.
В общем, я секундочку подождал и решил ломить через лес.
– А Кэрри-то где? – спросил.
Он постоял немного молча, оглядывая меня с ног до головы, а потом решил, видимо, что я право имею.
– В доме, – сказал. – Больна была. Очень сильно больна.
И банку последнюю в корыто опустил.
– Ну, знаешь, – добавил тихо, – моложе-то никто не становится. Правда ведь?
И улыбнуться попробовал, но улыбка не задалась.
– Может, кого-нибудь стоит на подмогу позвать, – сказал я. – Типа руку помощи протянуть, подсобить, знаешь. Многие из нас за честь бы почли…
– Не нужны мне никакие руки, – отрезал он. – И помощи мне не надо.
– Может, Кэрри доктор нужен, – гнул свое я.
– Не нужен, – сказал. – Доктор ей сейчас никакой не поможет.
Вот так вот, мол.
– Ну, – сказал я, – давай хоть я что-нибудь сделаю.
Медленно сказал, ясно, чтобы без непоняток.
– Надо же, чтобы хоть кто-то помогал…
– Не нужна мне никакая помощь, – сказал он и ящик пустой на пол грохнул. – Ничего я ни от кого не хочу.
Почти злой стоял. Я долго глядел на него, но по такому лицу ничего не прочтешь.
– Хорошо, – сказал я, после того как мы минуты две друг на друга пропялились, он на меня, а я на него. – Если ты так хочешь, Джон.
– Да, так я и хочу.
– Ты знаешь, я тебя другом считаю.
– Знаю.
Вот такова была наша беседа в тот день. Я плечами пожал да и ушел. По дороге разок оглянулся: он все так же стоял в дверях молочной да глазами на меня зыркал. А когда отвернулся, я ушел и назад больше не глядел.
Вы когда обо всем этом кумекать будете, понимайте вот что: мы люди сельские и живем одиноко, и обычаи у нас свои. Если Джон хотел в одно рыло смотреть за Кэрри, пока она не умрет, если именно так с ней все и было, то кто я такой – кто мы все такие – чтоб стоять у него на пути. Может показаться дико, но вот так уж у нас все заведено. Мы своими делами занимаемся, а в чужие нос не суем. И если нам помощи не надо, ну что ж, значит, это наши заботы и больше ничьи. Я это в нем понимал. Оно мне совсем не нравилось, но я понимал, да.
Мысль о том, что Кэрри помирать собралась, почти меня раздавила. О том, что я ее больше никогда не увижу. Ужасно про такое думать, вот что я вам скажу. Только дня через два, побившись как следует об эту мысль, я начал подозревать, что, может, тут дело-то нечисто, может, Джон мне всей правды-то не сказал. Вот как-то так сразу я это взял и понял – а потом уже никак эту идею из головы выбросить не мог. Ясно же, что Джон в ту нашу встречу был нервный и весь перепуганный, и вообще сам не свой. Так что, может, как ни крути, а он и вправду чего-то не договаривал.
Может, Кэрри-то совсем и не больна.
Может, все гораздо хуже. Как будто его что-то заставляет вот так странно себя вести. И я решил разобраться, что там да как.
Вечером я сидел на крыльце, на садовых качелях, пинал балду и следил, что там происходит у Джона. Чувствовал я себя с этого подлым и жалким, будто шпион какой, но все равно сидел и смотрел. Когда стемнело, у него остался один только свет в кухне – как всегда.
Иногда, когда что-то идет не так, у организма случается… ну, импульс. Он тебя просто захватывает, и ты ничего не можешь с собой поделать и делаешь первое, что в голову вступило. Просто не можешь не сделать. Вот и со мной так вышло. Ни с того ни с сего я вдруг уже больше не мог сидеть спокойно. Понял, что мне надо идти к Джону домой и типа как проникнуть внутрь и самому посмотреть, как там дела. Хочет он того или нет, и ну его, доверие, к черту. Мне просто необходимо было выяснить, жива ли еще Кэрри, больна ли она и что вообще происходит. Все лучше, чем сидеть тут, на старых качелях, пялиться на свет в кухонном окне и гадать.
Ну, я слез с качелей, спустился с крыльца и двинул к ихнему дому. Желудок мне снова начало крутить от страха, хотя, честно вам сказать, и я сейчас в точности не знаю, чего тогда боялся. Может, просто того, что собирался сделать. Ближе к дому я пошел медленнее. Помню, губы еще стали холодные и липкие, особенно верхняя. Чем ближе я подходил к яркому свету в кухне, тем темнее мне казалось все вокруг. Все той ночью было такое странное и необычное. Накануне дождь шел и все последние недели тоже, а тут небо выдалось такое чистое, такое темное, что звезды повысыпали аж до самого горизонта. Вдалеке виднелись еще дома, в них свет горел, и было совсем непонятно, где звезды, а где окошки – нечасто такое бывает.
Я остановился рядом с калиткой, постоял пару минут и только потом отважился хотя бы на двор зайти. Вот клянусь, до этой ночи понятия не имел, сколько скрипа бывает с одной проклятой старой калитки. В общем, добрался я кое-как до дома, а там согнулся почти что вдвое и шасть к окну: встал тихонечко в уголку и заглянул внутрь.
Там было с непривычки очень светло. Джон сидел один за кухонным столом – смотрел прямиком в окно, но меня точно не видел. Он будто чем-то стукнутый был, как наяву грезил. Головой вот кивнул, потом еще раз, будто кого-то слушал. Между тем в комнате никого больше видно не было.
На лице у Джона было такое несчастное выражение, что я его никогда не забуду; он, кажется, даже плакал. Да на него и смотреть-то было больно.
А потом, сэр, он начал головой эдак качать, типа нет, нет – легонько сначала, потом сильнее, потом совсем сильно, будто с него достаточно, хватит уже. А потом вскочил и даже стул назад, к стене, отшвырнул, и застонал, тихо, потом громче, громче, пока не оказалось, что он уже орет во всю глотку. И еще орет, и еще.
Потом он выбежал из кухни, что-то такое вопя, но ни единого слова я не разобрал.
Это все меня так потрясло, что я застыл на месте как вкопанный. Потом понял, что надо что-то делать, и медленно пошел вкруг дома в темноте, смотря, где бы еще заглянуть внутрь. Ни в одном окне, кроме кухонного, света больше не было. Поверить невозможно… но должен же Джон быть где-то там!
Снаружи уже тоже было совсем темно, я сослепу пнул какое-то ведро или что там еще на дворе валялось и испугался, что внутри услышат. А может, я, наоборот, боялся, что Джон меня не услышит – кто его знает. Я постоял тихо – ничего не случилось. Тишина была мертвая.
На задах дома я прямо оторопел: река поднялась так высоко, что приходилось под ноги смотреть, чтобы в воду не свалиться. Я слышал, как она плещется в темноте, тихо так, густо. Как же она была близко! Огромная, тяжелая, вот какой Сасквеханна была в ту ночь. Темной, тихой и огромной. Величественной даже. Крупные реки – они такие.
Думаю, от дома ее отделяли фута три от силы – совсем близко подошла. И вода все еще прибывала! Я слышал, как в нее валятся вымытые из берега глыбы дерна. Аж мурашки по коже бегали – стоишь вот так, во мраке, а река шепчется уже прямо под стенами дома, будто гигантская змея, медленно так раскручивается, ползет. Я прямо кожей чувствовал, как она подбирается, ладно бы только слышал.
В общем, я осторожно пробрался назад, к кухонному окну, и снова в него заглянул, на сей раз прямо-таки в открытую, не таясь. Но ничего необычного внутри не оказалось – разве что грязь ужасная.
Я подождал минут пять. Джон не вернулся. Все было тихо.
Говорю вам, даже просто стоять там, ничего не делая, было донельзя странно. Небо уже стало почти совсем черное, звезды на нем так и сияли. Такая была бы мирная, тихая ночь, если бы не то, что творилось в доме. Или это просто у страха глаза велики.
Кишки у меня к тому времени уже просто узлом завязало, руки были холодные и мокрые, а в загривок будто кто-то иголки вгонял.
Ну, постоял я еще несколько минут, все пытался решиться на что-то. А потом вдруг враз понял, что делать. Двигаясь как можно тише, я поднялся на крыльцо и встал перед дверью, не решаясь взяться за ручку.
Голова ажно кружилась, бежать хотелось нестерпимо, но ведь Леманны были мои друзья, и я должен был помочь, ну, хоть попытаться, какая бы беда на них ни свалилась. Ну, я тихонько отворил дверь и вошел как можно бесшумнее, но потом ради Джона решил, что шуметь-то надо, наоборот, поболе, чтобы он не подумал, что я тут тайком по его дому рыскаю.
– Джон? – позвал я.
Никто не ответил.
– Джон, ты где?
И снова никакого ответа, совсем.
И вот тут я за него действительно испугался. Решил первым делом наверх наведаться и полез по лестнице на второй этаж, где спальни, так быстро, как мои старые ноги только позволяли. Заглянул в одну, в другую, но ни Джона, ни Кэрри там не нашел. Обе комнаты стояли чистые, прибранные, все чин по чину. Дальше я нашел узкую лестницу на чердак и все там как следует обыскал, но нашел только старые корзины да картинные рамки, да коробки какие-то, линялыми лентами перевязанные. Выглядело все так, словно сюда ни одна живая душа годами не заглядывала.
Я стоял там, дрожал и все никак нового воздуху в легкие набрать не мог. Потом кое-как заставил себя расслабиться, хоть немного, и стал спускаться обратно, в кухню. Словами не передать, как мне худо со всего этого стало. Ихний брак, наша дружба, уходящие годы, то, как мне хорошо было с ними эти последние недели – все смешалось у меня в голове и крутилось там теперь вихрем. Понятия не имею, что я думал тут, наверху, найти, но уж хотя бы что-то – точно. Кэрри нигде в доме не было, это как пить дать – вот где плохая новость. И Джон на зов не отвечал. Осталось проверить только подвал. К тому времени, как я до кухни добрался, усталость уже взяла свое, так что пришлось присесть, посидеть. Стол был заставлен грязными тарелками и пустыми квартовыми банками. От этого мне еще похужело: так и представил, что Джон тут был совсем один, долго, жрал персики из банки, как какой-нибудь старый холостяк, которому уже на все наплевать. А может, персики ему о Кэрри напоминали, откуда мне знать. Хошь так, хошь эдак, а знак все равно плохой.
Ох, господи, как мне тогда только голову не разорвало от всех этих мыслей! Я там, у стола, минут пять, наверное, просидел, все успокоиться пытался. Единственный звук был – тиканье Джоновых часов, которые Кэрри ему с Чикагской Всемирной ярмарки привезла. В общем, дело ясное: придется идти в подвал. Куда там Кэрри подевалась, это другой вопрос, а вот Джону больше быть однозначно негде!
Так что я выдвинулся в холл, свет там включил и оказался прямо перед дверью в погреб. Теперь-то я знал, что такое «трястись, как осиновый лист» – это вот так я боялся того, что мне предстояло. Пришлось даже заставить себя еще немного там постоять – пока не взял себя хоть немножко в руки. Наконец я решил, что готов. Приоткрыл подвальную дверь ровно настолько, чтобы внутрь протиснуться, и шагнул на площадку в самом верху лестницы. Внутри было темно, хоть глаз выколи – как в чернильнице. Я пощелкал выключателем туда-сюда, но лампочка то ли перегорела, то ли вывинтили ее, то ли еще что. Свет, короче, не зажегся. Внизу никого и ничего слышно не было.
– Джон? – позвал я. – Эй, Джон?
Сейчас это как-то странно вспоминать, но я тогда позвал его тихо, почти что громким шепотом. Даже как бы уважительно, что ли. Словно боялся слишком громко кричать. Это важно.
В общем, мне опять не ответили.
Тогда я отворил подвальную дверь пошире – чтобы света, значит, из холла впустить. И пока глаза у меня к темноте не привыкли, сел на вторую сверху ступеньку и просто сидел там, ждал.
Ни звука снизу не доносилось, но я как забрал себе в голову, что Джон где-то там, внизу, и просто на зов мой не отвечает, так и не мог это оттудова больше выбить. С чего я так решил, понятия никакого не имею, не спрашивайте.
Мало-помалу я начал что-то различать и вскоре уже видел большую часть подвала. Печка вон, воздуховоды, верстак, чем-то заваленный, маслобойка, всякое такое. Не то чтобы хорошо, но видно было.
Нигде никакого движения. Я уже было решил, что надумал лишнего, когда вообразил, что Джон Леманн с какой-то радости должен сидеть тут.
Но убедиться-то было надо, так что я медленно, потихоньку, полегоньку, сполз вниз, задницей по ступенькам, одну за раз, пока не оказался, что ли, на третьей снизу – так что оттуда было видно весь погреб, что перед лестницей, что позади нее.
И тогда, помоги мне боже, я и правда кое-что увидал. Я был совсем не готов к тому, что было там, у дальней стены, которая, значит, к реке примыкает. Да хоть миллион лет гадай, все равно такого не нагадаешь.
Все до сих пор было серое, никаких других цветов, но к этому времени я хотя бы детали различать начал. Ближе к речной стене, короче, стояла старая латунная кровать со смятыми простынями. До меня достаточно быстро дошло, что тут-то, видать, Джон и спит – так оно все в точности и выглядело, только почему-то в подвале. Может, с тех самых пор, как Кэрри исчезла, он тут и ночевал.
А между кроватью и стеной возвышался длинный холм, недавно насыпанный на земляном полу. Тут из меня всякий дух-то и вышибло. Я же понял, что это было, сразу понял. Длинный такой холм и слегка закругленный, и я знал, что это такое.
Сразу куча чувств через мою голову пронеслась: страх и гнев, и жалость, и горе. И неизбежное «почему?».
О Боже, боль-то какая…
Понятия не имею, что этот холм делал тут, в подвале. Зачем он ее тут-то похоронил? Она умерла, точно умерла, страхи мои были не напрасны, но Кэрри ведь заслужила нормальную, достойную могилу, чтобы как у людей! А она была вместо этого тут, в тайной яме, в затхлом подвале, в темноте и плесени, да с кроватью под боком. Жуткое, мерзкое место.
Сказать не могу, как мне сразу стало грустно и одиноко. Кэрри-то… Кэрри больше нет.
А потом Джон пошевелился, и я его, наконец, увидал. Он стоял на коленях в головах могилы, сложив руки – и дрожал, я даже в темноте это увидел. Лица его я не разглядел, но поза у него была самая что ни на есть говорящая: молился он, вот что.
Не верится, чтобы он ни шума не слышал, ни моих криков – но внимания-то уж точно не обращал. Будто меня тут вовсе не было.
Он был совсем рядом со стеной. А стена была вдоль реки. И никак по-другому не объяснишь, что случилось дальше – скажу, как есть, прямым текстом.
Я внезапно различил звук, низкий и далекий, вроде как смутный такой шелест или шипение, а потом даже больше как скрежет какой – и он нарастал. И не умолкал. Он становился громче и громче, и ближе, и ближе – пока я не понял, что идет он снаружи. Вскоре это был уже настоящий рев, громкий ворчащий рокот; он шел из реки и приближался к дому, а потом, что бы это ни было – оно врезалось в стену подвала и проломилось насквозь, и вода хлынула внутрь через дыру. И вода подняла Джона, прямо от земли его оторвала, и об стену шмякнула прямо у меня на глазах. Секунды не прошло, клянусь.
Вода с грохотом рвалась внутрь, завывала в дыре, яростно била в подвал, и я закричал, и принялся карабкаться вверх по ступенькам и вон из погреба, а река выдергивала ступеньки у меня из-под ног и на глазах заполняла комнату под самый потолок. Несколько секунд прошло, вот ей-богу не больше.
И я кинулся прочь из дома, как только мог быстрее, а вода уже вытекала из подвала и струилась по всем полам и даже наружу выплескивалась.
Я бежал, пока изо всех сил не выбился – до моего собственного дома ярдов сто оставалось вверх по холму. Там я упал наземь и лежал, не в силах двинуться – такой я был усталый. Лежал, хрипел, стонал и даже всхлипывал. Да, я плакал, потому что напуган был до самых печенок.
Потом я кое-как сел и заставил себя смотреть. И то, что я увидел, даже реальным-то назвать было сложно. Все было какое-то замедленное: вода теперь текла из дома, из дверей и из окон нижнего этажа, негромко так побулькивая, медленно-медленно, будто уже поднялась до отпущенного ей предела. Вытекши, она окружила дом со всех сторон, и стал он как остров в небольшом озерце, соединенном с рекой.
Свет был только лунный, и в нем это все смотрелось ух как зловеще, скажу я вам. Луна так и сверкала на воде, а дом стоял весь черный. С Джоном было покончено, это дело ясное. Не было больше Джона.
А дом меж тем принялся трещать и стонать под тяжелым напором реки, и она толкала его и толкала, пока он не начал разваливаться на глазах. Доски щепились, ухали, треск стоял неимоверный, и уже совсем скоро не было в озере никакого дома, будто никогда его тут не стояло. Пропал, сгинул, река разорвала его на куски.
И все эти куски поплыли по воде прочь, словно у каждого были свои дела, и скоро смотреть уже было не на что. А река снова разгладилась, будто зеркало – как и не было тут никакого двухэтажного дома. Не было никогда.
А, был еще один большой водоворот, прямо передо мной – глубокий, наверное. Секунды две покрутился и исчез. Вот так-то.
Вот и вся история.
Понимаю, как дико оно звучит, но там, в воде, была живая тварь, уж это-то я знаю. Не ведаю, что это было такое, откуда взялось, но оно пробило ту дыру в стене подвала – со стороны реки пробило, и тогда прилив забрал себе и дом, и все, что в нем было, и оставил только этот безмолвный залив, в котором сгинуло все. И водоворот еще. Что-то живое сделало это, я-то уж знаю, о чем говорю.
Но есть еще куча вещей, которых я не знаю.
Я, например, знаю, что случилось с Джоном. И как он умер. Тут вопросов нет. Но вряд ли я или еще кто-нибудь хоть когда-то узнает, что случилось с Кэрри.
Надеюсь, она умерла естественной смертью. В глубине души я уверен, что это не Джон – слишком хорошо мы с ним были знакомы… и только надеюсь, что смерть ее была естественной. Я хочу сказать – что не она сама сделала это… прямо или косвенно.
Я, впрочем, по-любому уверен, что это она была там, в могиле – как уверен, что и сам я в один прекрасный день умру. И что бы там с ней ни случилось, Джон просто сошел с ума от горя. Наверняка так оно все и было.
Я никогда никому не рассказывал о том, что увидел. Потом, конечно, пошли разговоры про жуткое наводнение в долине ниже Гарлоковой Излучины, про затяжные дожди и про бедных Джона с Кэрри.
Но я все равно промолчал. Решил, что это ничье дело, и никого оно не касается, кроме меня. Это я все видел, своими глазами, и мне с этим теперь жить.
Примерно в это же время там кое-какие проблемы случились, в Гарлоковой Излучине, в церкви, и я там был и все видел, но скрыл ото всех, что дело-то вышло очень даже знакомое. Не знаю… решил, наверное, что по одной проблеме за раз – более чем достаточно. Но молчал я отчасти из-за Кэрри. Она тогда, у Миллера в лавке, сказала, что боится чего-то. И что хочет убраться из дома по причине высокой воды. И она тогда сказала, что вода, мол, достаточно высока, «чтобы оно…». Какое-такое «оно» и что оно могло сделать – тот еще вопрос.
Она явно что-то знала, наша Кэрри, иначе бы так не говорила. Ну, в общем, я промолчал, чтобы лодку лишний раз не раскачивать. Может, я и не прав был…
Может…
Но с этими «может не может» всегда так.
Может, Кэрри ни в чем таком плохом была не повинна, и я к ней совершенно несправедлив, когда думаю всякие ужасные вещи… слишком часто, надо сказать, думаю.
Надеюсь, что так. Надеюсь, что перед Богом она была невинна. Но, возможно – ну, просто возможно – она во что-то такое вмешалась, или что-то ее одержало, или она просто знала о чем-то настолько неправильном, чего я даже и понять-то не в силах. Она в тот день прямо напророчила, что беда, мол, идет, так что, скорее всего, по крайней мере знала про ту штуку в воде. Должна была знать.
Откуда знала, как узнала – про это уже никто никогда не расскажет. Некоторых вещей, думаю, лучше и не понимать – себе дороже. Да и какой теперь уже смысл, все равно ничего не исправишь.
Что касается Джона… Не знаю. Когда мы в тот раз разговаривали, и я хотел войти, он сказал, что ему не велено никого пускать, «нельзя ему…» – что бы это ни значило. Голос у него был такой слабый и напуганный. У меня такое ощущение, что он знал гораздо меньше, чем Кэрри.
Да, звучит дико и даже как бы невозможно, но вот так оно все и было. Я знаю из первых рук, потому что сам там был, и я говорю правду. Самое грустное, что я в глубине души знаю: ответов на все эти вопросы у меня не будет никогда. Ужасно это… ужасно так никогда и не узнать правды о Кэрри.
Но одно-то уж точно – в воде было что-то живое. Это я знаю. Даже вот так: знаю. Что-то живое пришло из реки – и наверняка оно все еще там. Откуда бы оно ни взялось – эта тварь все еще где-то там. Может, ждет чего-то.
У Миллера слушок ходит, что, может, кое с кем еще тоже кое-чего случилось, но все молчат в тряпочку. Да одна такая мысль кого хошь испугает!
Я в последнее время много думаю о Кэрри, когда тихо и дел нет. О ней, о глазах ее, голубых, как льдинки, и о прошедших годах. Она всегда жила чистой жизнью. И все время вопросы лезут в голову: что она знала, моя Кэрри? Что она такое сделала? И почему? И вопрос из вопросов – что забрало ее?
Что бы ни явилось к ним из реки, что бы с ними обоими ни случилось, Джон ее любил, какую бы цену ему ни пришлось заплатить за это в конце. Он держался как мужчина, а большего ни от кого просить нельзя. Даже если он из-за нее погиб, из-за того, что она сделала, я верю, он ее все равно любил.
И, наверное, вся эта история так меня потрясла частично из-за того же… и вопросы эти бесконечные, и страх.
Я ведь тоже ее любил, вот в чем все дело.
Густав Майринк. Пурпурная смерть
Тибетец умолк. Некоторое время его истощенная фигура, прямая и недвижная, маячила у костра, затем развернулась и исчезла в джунглях. Сэр Роджер Торнтон вперил взор в огонь. Если бы гость не был саньясином и вдобавок кающимся, если бы путь его не лежал в Бенарес в паломнических целях, ни единому его слову веры бы не было. Но саньясин не лжет сам и чужой лжи не приемлет. И все же… эта ужасная злоба, исказившая на миг азиатские черты! Или, может, это всего лишь пламя костра отразилось так странно в монгольских глазах? Тибетцы ненавидят европейцев и ревниво оберегают тайны своей магии, с помощью коей надеются в один прекрасный миг изничтожить надменных, надутых чужеземцев – когда взойдет заря великого дня.
Он, сэр Ганнибал Роджер Торнтон, один из ненавистного европейского племени, должен самолично убедиться, правда ли, что эти необычайные люди обладают какими-то сверхъестественными силами, – но для этого ему нужны спутники, смелые и отважные, чью волю так просто не сломить, даже если весь ад, завывая, кинется за ними в погоню.
Англичанин произвел смотр своим компаньонам: вот афганец, единственный из них, кого можно считать азиатом, бесстрашный, как барс, но зато суеверный; а вот его европейский слуга… сэр Роджер поднял его пинком трости (Помпей Ябурек был глух как пробка, лет с десяти, но, как ни невероятно это звучит, понимал каждое произнесенное слово, читая по губам).
Сэр Роджер жестами пересказал им, что узнал от Тибетца: днях в двадцати верхового пути отсюда, у самого Химавата, лежит странная земля, окруженная с трех сторон отвесными каменными стенами. Единственная тропа в нее ведет сквозь облако ядовитого газа, сочащегося из земли и способного убить всякое живое существо, что отважится в него вступить. В долине, простирающейся на полсотни квадратных английских миль, в окружении буйной растительности обитает небольшое племя тибетского происхождения. Они носят остроконечные алые шапки и поклоняются злому, сатанинскому отродью в облике павлина. Сия диавольская сущность веками наставляла туземцев в черной магии и поведала им такие тайны, что могли бы всю землю перевернуть вверх тормашками или умертвить в мгновение ока даже самого сильного воина.
Помпей на это насмешливо улыбнулся.
Сэр Роджер меж тем объяснил, что намерен проникнуть в таинственную долину, пройдя через смертельный газ при помощи водолазных шлемов и баков сжатого воздуха. Тут Помпей Ябурек согласно закивал и даже потер радостно свои грязные руки.
Воистину тибетец не солгал. Внизу, под ними, посреди изумрудной зелени лежала странная долина: буро-золотая пустыня, пояс битой ветрами земли – в длину такую пройдешь и за час. Миг – и виденье скрылось из глаз.
Газ, спиралями вившийся из земли, был чистая двуокись углерода. Сэр Роджер, обозревший маршрут безопасно с вершины холма, решил приступить к спуску на следующее утро. Водолазные шлемы, присланные из Бомбея, работали превосходно. Помпей тащил магазинные винтовки и разнообразное оборудование, которое его светлость почел жизненно необходимым для предприятия. Афганец между тем упрямо и боязливо отказался участвовать в экспедиции, пояснив, что с большей охотою заберется в берлогу к голодному тигру. Он, мол, обязан тщательнейшим образом взвесить весь риск, ибо на чаше весов может оказаться ни много ни мало его бессмертная душа. Кончилось тем, что в путь отправились только два европейца.
Водолазные шлемы справились со своей задачей безукоризненно. Их медные шары сверкали на солнце и отбрасывали причудливые тени на ноздреватую землю, из которой маленькими фонтанчиками струился смертельный газ. Сэр Роджер задал быстрый темп, чтобы сжатого воздуха им точно хватило до конца всей зараженной области. Все у него перед глазами плыло, словно сквозь тонкую водяную пелену. Солнце взошло призрачно-зеленым и окрасило дальние ледяные пики «крыши мира», исполинской грядой выделявшиеся на фоне неба, отчего пейзаж тотчас стал казаться зловещим и мертвым.
Вскоре они с Помпеем выбрались на свежий зеленый луг и первым делом запалили спичку, чтобы проверить качество воздуха. Скрутив с головы шлем, сэр Роджер высвободился из ранца с баллоном. Позади высилась стена испарений, поблескивая, будто живая масса воды; аромат цветущей амберии сбивал с ног. Странных расцветок бабочки, сверкающие и размером с ладонь взрослого человека, покоились, будто раскрытые тома магических книг, на недвижных соцветьях.
Хозяин со слугой на значительном расстоянии друг от друга двинулись на запад, туда, где тень леса застилала обзор. Сэр Роджер подал сигнал, и Помпей взвел курок на ружье. Пройдя немного вдоль кромки леса, они оказались на прогалине: хорошо если в четверти английской мили впереди несколько человек (очевидным образом, тибетцев, ибо на головах у них красовались красные остроконечные шапки) стояли полукругом и явно ждали чужаков. Сэр Роджер бесстрашно направился к ним, Помпей – в нескольких шагах позади. Изо всей одежды аборигенов одни только овчинные накидки выглядели знакомо – что касается остального, то впору было усомниться, что это вообще люди: выражение самой злобной ненависти и сверхъестественного, жуткого зла искажало их черты до неузнаваемости. Дав двоим путешественникам подойти поближе, они, повинуясь знаку своего вождя, все как один молнийно-быстрым движением закрыли уши ладонями и принялись вопить во все горло!
Помпей Ябурек вопросительно поглядел на его светлость, потом поднял ружье: странные действия толпы выглядели определенно угрожающими. Однако от того, что случилось дальше, сердце у него подпрыгнуло куда-то в горло. Трепещущее, клубящееся газовое облако немедленно начало собираться вокруг его светлости, чем-то напоминая пары, через которые двое европейцев прошли только что. Очертания сэра Роджера стали будто размываться, обретать неопределенность, как если бы их стирала крутящаяся воронка. Голова его удлинилась, а все тело словно обрушилось в себя, тая на глазах, – и вот уже на том самом месте, где всего пару мгновений назад стоял англичанин, красовалась бледно-лиловая глыба, формой и размером напоминавший небольшую сахарную голову.
Глухой Помпей затрясся от неистового гнева. Поскольку тибетцы продолжали вопить, он прищурился на их пляшущие губы и попробовал разобрать, что они там несут. Это оказалось одно-единственное слово, повторяемое снова и снова. Но тут предводитель выступил вперед, и все остальные тут же прекратили кричать, отняли руки от ушей и кинулись вперед, к Помпею, в ответ на что он принялся палить по толпе как попало из ружья – это их моментально остановило.
Инстинктивно он крикнул им в ответ слово – то самое, которое прочитал по губам: Амалан! Амалан!
Прокричал он его так громко, что вся долина содрогнулась, будто от землетрясения. В голове у него закружилось, все вокруг предстало словно сквозь очки с толстыми стеклами, а земля под ногами так и закачалась. Тибетцы пропали, как его светлость только что – вместо них перед Помпеем валялись в беспорядке одинаковые лиловые конусы.
Однако предводитель был все еще жив. Ноги его уже превратились в голубое пюре, и даже туловище начало ужиматься, как будто человека переваривало внутри некой невидимой твари. Вместо алой шапки тело его теперь венчало подобие епископской митры, в которой сверкали живые, подвижные золотые глаза.
Ябурек размозжил ему череп прикладом, но, увы, не успел предотвратить последнюю атаку врага – умирающий вонзил ему в ногу свой серп. Далее Помпей обозрел раскинувшуюся кругом мизансцену. Куда ни кинь взгляд – ни единой живой души. Резкий запах амберии усилился и стал почти жгучим. Казалось, он исходил непосредственно от пурпурных кеглей – вот их-то Помпей и решил рассмотреть поподробнее. Все они были совершенно одинаковые и состояли из студенистой бледно-лиловой массы. Что до почтенного сэра Роджера Торнтона, то он ныне был совершенно неотличим от остальных фиолетовых пирамидок.
Помпей скрипнул зубами и вогнал каблук лишний раз в то, что осталось от физиономии покойного предводителя, а потом развернулся и кинулся бегом той же дорогой, которой пришел. Еще издалека он заметил медные шлемы, поблескивающие на солнце. Схватив их, он, не теряя времени, накачал полную канистру воздуха и зашагал через газ.
О, Боже, о, Боже, думал он, его светлость погиб! Погиб в этой индийской глуши!
Увенчанные ледяными коронами твердыни гималайского хребта зевали в лицо небесам: что им за дело до страданий одного крошечного, неистово колотящегося человеческого сердечка?
Помпей аккуратно, слово за словом, записал все, что с ним случилось, что он пережил и увидел – хотя к пониманию этих событий еще даже и не приблизился – после чего отослал свой отчет секретарю его светлости в Бомбей, номер семнадцать по улице Адхеритолла. Афганец обещал доставить депешу. Уверившись, что письмо отправлено по назначению, Помпей Ябурек умер – от яда, которым было смазано лезвие тибетского серпа.
– Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его! – пробормотал благоговейно афганец, касаясь лбом земли перед телом усопшего, которое индийские слуги уже убрали цветами и водрузили на костер, дабы сжечь в сопровождении приличных случаю гимнов.
Али Муррад Бей, секретарь, получив ужасные новости, побледнел и немедленно настрочил письмо в редакцию «Индиан Газетт» – и разверзлись хляби! Издание опубликовало «Гибель сэра Роджера Торнтона» на следующий же день, однако утренний выпуск читатели получили на три цельных часа позже обычного. Странный и ужасающий инцидент был повинен в этой проволочке. Кажется, господин Бирендранатх Наороджи, выпускающий редактор, вместе с двумя своими помощниками, был без следа похищен из закрытого рабочего кабинета, где они заседали около полуночи за чтением гранок. Вместо них было обнаружено трио голубых студенистых цилиндров, а между ними – разбросанные листы свежеотпечатанной газеты. Полиция с большим апломбом объявила, что расследование проведено и дело закрыто, невзирая на то, что загадка осталась неразрешенной.
И – о! это было только начало. Десятки человек, всего мгновенье назад мирно листавших газету, попросту исчезли – прямо на глазах у перепуганных прохожих на улицах города. На их месте возвышались ряды маленьких фиолетовых пирамидок – на лестницах, на базарах, в переулках, везде, куда ни кинешь взгляд.
Еще до ночи Бомбей потерял половину своего весьма внушительного населения. Циркуляр управления здравоохранения тут же объявил все порты закрытыми. Всякое транспортное сообщения Бомбея с окружающим миром прекратилось в попытке остановить невиданную новую эпидемию: только такие суровые меры могли, по мнению властей, предотвратить катастрофу. А тем временем телеграф без устали рассылал перепуганные депеши, каждая из которых включала полную перепечатку дела Торнтона, воспроизведенную с точностью до буквы – через океаны, по всему миру!
На следующий же день слишком поздно наложенный карантин был снят. Со всех краев света летели ужасающие новости, что «Пурпурная Смерть» разразилась везде и одновременно, теперь угрожая всему населению земного шара. Все, решительно все потеряли голову; мир превратился в муравейник, куда какой-то фермерский сынок кинул забавы ради горящую трубку с табаком. Австрия, где упорно интересуются только местными новостями, еще неделями оставалась неуязвимой. В Германии мор первым накрыл Гамбург.
Тамошний случай вышел особенно шокирующим. Некий пастор Стулькен, практически глухой по причине почтенного возраста, сидел за ранним завтраком в окружении любимых домочадцев: Теобальд, его старшенький, важно дымил трубкой с длиннющим, на студенческий манер, мундштуком; Йетте, преданная жена и хозяйка дома, Михен, Тинхе – все четырнадцать членов семейства расселись вокруг стола. Седобородый старец развернул свежепринесенную английскую газету и принялся читать домашним вслух «Гибель сэра Роджера Торнтона». Он как раз добрался до странного чужеземного слова «Амалан» и сделал паузу, чтобы укрепить себя глотком кофе. Сразу же после этого он обнаружил, что все его родичи бесследно пропали, а стол окружен пурпурными сгустками какой-то слизи. Из одного торчала трубка с длинным мундштуком.
Все четырнадцать душ прибрал к себе Господь. Благочестивый старец, само собой, лишился чувств.
Неделю спустя Земля потеряла более половины населения. Наконец пролить хоть какой-то свет на ситуацию поручили одному немецкому ученому. Тот факт, что неуязвимыми для заразы оказались только глухие и глухонемые, лег в основу теории, что эпидемия явилась феноменом не биологического, а, скорее, акустического характера. В уединении своего кабинета он накропал длинное научное исследование по теме, затем дал объявление о публичной лекции, снабженное несколькими громкими лозунгами. Объяснение его основывалось на одном темном индийском религиозном тексте, живописавшем возникновение астральных и флюидных вихрей вследствие произнесения вслух некоторых слов, часто встречающихся в магических заклинаниях. Этот мнимый предрассудок, утверждал ученый муж, ныне обрел смысл, благодаря самым современным достижениям в области вибрации и излучения. Лекция была прочитана в Берлине и при таком скоплении заинтересованной публики, что докладчику понадобился мегафон для зачитывания длинных пассажей из его весьма ученой рукописи.
Историческое выступление завершилось так:
– А теперь отправляйтесь к отоларингологу, и пусть он сделает вас глухими, дабы вы при любых обстоятельствах были защищены от слова, которое ни за что нельзя произносить вслух, – а именно «Амалан»!
Секундой позже лектор и вся его аудитория представляли собой не более чем комки лиловой слизи. К счастью, рукопись никуда не делась. Со временем она обрела широкое хождение и тем спасла человеческий род от полного уничтожения.
Несколько десятилетий спустя – то есть году к 1950-му – новая, поголовно глухая раса населяла земной шар. У нее были другие привычки другие обычаи; даже чины и законы собственности – все изменилось. Миром теперь заправлял отоларинголог. Музыкальные партитуры отправились в мусорную корзину – где их уже дожидались алхимические трактаты Средних веков; Моцарт, Бетховен и Вагнер составили компанию Альберту Великому и Бомбасту Парацельсу. Лишь там и сям в пыточных камерах, именуемых музеями, одинокое пыльное пианино еще щерит свои желтые зубы.
(Постскриптум автора: почтеннейшему читателю категорически не рекомендуется публичное чтение вышеизложенного вслух.)
Ричард Ф. Сирайт и Франклин Сирайт. Туманы смерти
Пнеф-Тааль ждал.
Терпеливо.
Больше четырех миллиардов лет Пнеф-Тааль терпеливо ждал, а время шло. Он знал, что когда-нибудь – через пять, десять, пятнадцать миллионов лет в будущем – шанс явится, и он его не упустит.
Он будет ждать. Он будет готов.
Пнеф-Тааль пришел на эту планету, когда она, еще совсем юная, оправлялась после титанического шока своего космического рождения, и с тех самых пор разум его не спал. Даже запертый в каменном склепе-пещере властью Старших Богов – а это иго даже он не в силах был сбросить, – он поддерживал в себе спящую жизнь силой иномирского интеллекта, который так и не принял своего поражения и с ним не смирился. Когда он впервые прибыл на Землю, лишь вступившую тогда в свое предначальное бытие – ей еще и пятисот миллионов лет не исполнилось! – она представляла собой огненный шар пока не застывшей, расплавленной материи.
Миллиарды и многие миллионы лет прошли, пока Земля остывала и на ней развивалась атмосфера – решительно необходимая, чтобы поддерживать жизнь, ввергнутую в проявленность одним могучим взрывом, что царственно повелел кое-каким молекулярным частицам образовать органические соединения, не теряя времени зря. Пока эта жизнь демонстрировала свою неповторимость, усердно делясь на равные и одинаковые элементы, Пнеф-Тааль созерцал это эмбрионическое буйство безо всякого интереса. Развитию многоклеточных живых организмов, плававших в соленых морях и, в конце концов, сумевших обзавестись неким примитивным разумом, он не уделил особого внимания. К пермутациям жизненных форм, вскоре решивших покорить сушу, он отнесся с полнейшим безразличием. Впрочем, тюрьма не наскучила Пнеф-Таалю, ибо его разум обладал способностью в мгновение ока одолевать космические просторы, постигать тайны дальних галактик и отдельных звездных скоплений, проникать в мысли жителей практически бесконечного ассортимента обитаемых планет, представлявших для него хоть какой-то интерес. Мало чего во всей вселенной он действительно не знал – вот разве что как вырваться из оков, наложенных Старшими Богами. А годы шли – миллионы миллионов лет утекали, как вода, и землю громовой стопой уже попирали гигантские рептилии – одаренные малым и смутным сознанием твари, чьим единственным занятием было нескончаемое поддержание собственной жизни посредством набивания вечно пустых желудков.
Пнеф-Тааль прекрасно их понимал. Он стремился к тому же.
Человек ступил на землю, а он все ждал. Цивилизации возносились на пламенеющие высоты и гибли, а он все был погружен в свои мысли – и страдал от голода, способного изничтожить целые галактики! Он думал о том, чем займется, когда вновь вернет себе свободу, которой когда-то наслаждался, когда испещренное звездами мироздание вновь станет ему пиршественным чертогом.
И, перефразируя «Элтдаунские осколки»,
…с поражающей внезапностью сия разумная сущность – могущественная, мнимо неуничтожимая, квазибессмертная – осознала невероятную истину, на мгновение оглушившую ее разум слепящей вспышкой: ее больше ничто не удерживало!
Алан Хасрад, репортер «Аркхэм дэйли ньюс» сидел в своем заставленном книгами кабинете, читая вечернюю почту. Он задумчиво почесал свой внушительный нос и еще раз углубился в весьма любопытное письмо от некоего Б. С. Флетчера, которое только что закончил читать во второй раз. Подтекст у письма был неопределенно зловещий, однако, природа угрозы, на которую так прозрачно намекал автор, осталась нераскрыта. В итоге у Алана создалось впечатление, что над писавшим нависло какое-то неназванное, но вполне реальное зло. Искренний страх (хотя и не ужас, ибо изъяснялся Флетчер с совершенным самообладанием) будто бы сам собою выглядывал из-за мнимо обыденных, даже небрежных слов.
С отправителем Алан был незнаком. Писал тот быстрым академическим почерком; выбор слов и манера сцеплять их в предложения выдавали обладателя недюжинных знаний. В письме объяснялось, что в свое время отправителю доводилось читать о ряде дел весьма таинственного свойства, к которым был причастен Алан, – о событиях поистине причудливых, фантастических; и по этой причине, наряду с заслуженной Аланом репутацией уважаемого журналиста, Флетчер усмотрел в нем возможный источник помощи в некоем затруднении, с которым давеча столкнулся. Он вскользь упомянул, что почти год тому назад удалился на покой и поселился в небольшом и почти отрезанном от мира коттедже на Мглистом озере, что возле Брамвелла – с этой частью Массачусетса Алан был до некоторой степени знаком. Далее автор с двусмысленной сдержанностью упоминал некие необъяснимые явления, причиняющие всей округе немалое беспокойство, но замечал, что было бы нежелательно доверять подробности почте, и что если бы Алан приехал лично, то стал бы свидетелем весьма интересной и убедительной демонстрации.
В целом письмо представляло собой коктейль из старомодных формальностей вперемешку с очевидной растерянностью и глубоким беспокойством. Все это вкупе рождало стойкое впечатление, что автор чего-то сильно боится. Завершалось послание официальным приглашением нанести отправителю визит с подробными инструкциями, как добраться до озерного коттеджа, на тот случай, если Алан решит приехать на машине, и обещанием встретить на станции, если тот выберет поезд. Подо всем этим красовалась цветистая подпись – «Б. С. Флетчер».
В обычных обстоятельствах подобная эпистола пробудила бы в Алане крайне мало энтузиазма. Будучи журналистом и участником (хотя отнюдь и не главным) ряда необычных происшествий, обычно ускользающих от внимания большинства публики, он давно уже привык получать всякого рода послания от образованных чудаков – равно как и не обращать на большинство из них никакого внимания. Однако это письмо выбивалось из общего потока – несомненной искренностью автора и неоспоримой здравостью его рассудка. Мглистое озеро и Брамвелл, говорите… У Алана в той округе жило несколько родственников, которых он даже время от времени навещал, да и кое с кем из местных жителей он водил знакомство, хотя и шапочное. Если уж на то пошло, размышлял он, разве не проскакивало в последнее время в газетах название городка? Вроде бы убийство, да не простое, а с какими-то более чем любопытными деталями?
Следующие несколько минут Алан рылся в старых выпусках «Аркхэм дэйли ньюс», пока не нашел, наконец, тот самый материал. Медленно и куда внимательнее, чем неделю назад, он перечел статью. В ней говорилось о смерти некоего Мосса Кента, фермера, обитавшего на Сомерсвилльской дороге, в полумиле к востоку от Мглистого озера. Кент был старый холостяк, и его натурально не хватились, пока один из соседей случайно не нашел его валяющимся на дворе прямо перед некрашеной деревянной хижиной.
Этим дело не исчерпывалось, но никакой другой важной с практической точки зрения информации в статье не содержалось – за исключением упоминания, что власти все еще продолжают расследование кое-каких обстоятельств неестественного свойства. Странная статейка, подумал Алан, – и не из-за того, о чем в ней говорится, а, наоборот, из-за того, о чем нет. Весьма дразняще выглядит. Он немного пораздумывал, стоит ли тратить день, а то и два на выяснение обстоятельств, и, в конце концов, решил, что не стоит. Последним аргументом послужил тот факт, что Флетчер решительно отказался раскрывать в письме природу своих затруднений, и Алан был этим слегка уязвлен – звать зовут, а зачем – не говорят. Он набросал краткий ответ: да, ему интересно, но он ужасно занят; не желает ли Флетчер в свою очередь приехать в Аркхэм, чтобы обсудить дело, или, по крайней мере, написать о деталях подробнее.
Второе письмо прибыло пять дней спустя. Флетчер, в частности, писал:
…Никоим образом не могу вас винить за отказ приехать в Брамвелл, не обладая полной и исчерпывающей информацией. Увы, у меня не так уж много фактов. Я писал вам в надежде, что, приняв мое приглашение, вы сами увидите и, возможно, поймете и сумеете объяснить эти чрезвычайно неестественные явления…
Сейчас, когда я пишу эти строки, Туманы снова поднимаются из болота позади моего коттеджа. Каждый вечер, между сумерками и наступлением темноты, меня преследует одно и то же зрелище; я наблюдаю его, сидя у окна библиотеки, и приятностью оно не отличается. С каждым разом оно все больше похоже на неуклонное, целенаправленное наступление армии. Первым идет авангард – одинокие разведчики, спиралями вьющиеся вверх из близлежащей сырой трясины; они прощупывают путь для плотных, сумрачных фаланг, следующих за ними по пятам. Полки наступают быстро. Вскоре подтягивается арьергард, и мой маленький коттедж, притулившийся на всхолмье между озером и болотом, оказывается в кольце холодной, извивающейся сырости, скрывающей слабые огонечки Брамвелла за пустошью с эффективностью каменной стены. Мистер Хасрад, этот туман разумен! О, я хорошо представляю, как это звучит, но я не сошел с ума; я точно знаю, что это не галлюцинации. Стоит ли удивляться, что мне так не хотелось всего этого писать, что мое первое послание намеренно было выдержано в столь неопределенном ключе? Я хотел, чтобы вы все увидели сами – эти волны лениво колышущихся испарений, медленно сплетающиеся и скручивающиеся в ледяные, неестественно самостоятельные извивы, окружающие мое жилище живой стеной страха. О, тогда вы бы сами все поняли, тогда бы вы убедились. Услыхав безветренной ночью, как доски коттеджа трещат и подаются под устрашающим внешним давлением – тогда бы вы узнали! И если бы вы просиживали долгие ночные часы до рассвета, наблюдая их мрачное отступление под анемичными лучами бледного, водянистого солнца…
Эти туманы именно таковы, как я вам описываю, мистер Хасрад, и даже еще более. Это зло, и оно угрожает человеческому роду опасностями, равных которым мы и не знали на всем пути нашей эволюции! Уже три недели как окрестные фермеры находят свою скотину умерщвленной, причем самым необычным образом, который я приписываю туманам, а две недели назад они забрали жизнь одного местного старика. Я почти уверен, что во всем виноваты они, хотя вряд ли сумел бы доказать свою позицию в суде. Суть этих нападений я предпочел бы не раскрывать на бумаге, дабы вы не сочли меня умеренно интересным клиническим случаем и не предложили обратиться к психиатру. Приезжайте ко мне, на Мглистое озеро, и я ознакомлю вас со всеми подробностями.
Это письмо было подписано Байярдом С. Флетчером.
Взгляд Алана тут же перескочил на ближайшие книжные полки, побегал по ним и остановился на высоком томе, переплетенном в алую кожу с золотыми буквами на корешке:
«Прежде каменного века»,
Байярд С. Флетчер.
Письмо и книга более чем вероятно вышли из-под одного пера – известного палеонтолога, автора ряда узкоспециализированных работ, из коих «Прежде каменного века» была самой свежей, исчерпывающей и считалась коллегами по профессии редкостным для наших дней вкладом в прогресс их научной отрасли.
Всякие сомнения во вменяемости отправителя растворились, как щепоть соли в стакане воды. Если это и вправду тот самый Байярд Флетчер, на Мглистом озере и вправду должно твориться что-то странное.
Флетчер, по слухам, был мужчина в годах – лет шестидесяти семи или восьми, иными словами, почти что в расцвете умственных способностей. Алан припоминал, что он совсем недавно отказался от кураторского поста в Мискатонском университете, дабы уделять больше времени частным исследованиям и написанию ученых работ. Среди коллег он слыл человеком тихим, необщительным, а в последнее время и вовсе пропал из виду. О его местонахождении знали разве что издатели, немногие близкие друзья да музейная администрация.
Разумные туманы, говорите? Живые, способные на осознанные действия? Смутные подозрения зашевелились в голове у Алана, пробужденные воспоминанием о неких леденящих кровь пассажах из «Некрономикона»… но нет, промелькнувшая было мысль показалась ему недостойной внимания – да ну, такого просто не бывает. Приди она кому-нибудь другому, кроме сдержанного, уравновешенного старого ученого, идея разумного тумана выглядела бы слишком претенциозной, чтобы о ней вообще разговаривать. Но даже и так Алан ни на мгновение не поверил, что нарисованная Флетчером красочная картина вполне соответствовала истине. Гений старого палеонтолога заслуживал уважения; наверняка он наткнулся на нечто решительно аномальное и не вписывающееся ни в какие обыденные рамки. А учитывая одинокую, отрезанную от мира жизнь, оно настолько захватило его разум и подстегнуло воображение, что он, не таясь, признал, в каком бедственном положении оказался. Да, Флетчер нуждался в помощи, и если Алан в состоянии его порадовать и приободрить, а там, глядишь, и найти простое, очевидное объяснение загадочным событиям, которое в состоянии аффекта так легко проглядеть, самое малое, что он может сделать – это поспешить на зов.
И с неохотного согласия редакции Алан засобирался на Мглистое озеро на следующий же день.
Дорога от Аркхэма, этой гнилой, проклятой всеми ведьмами деревушки, вытянувшейся вдоль Атлантики, бежала на юго-восток. Алану она нравилась. Что-то в его собственной беспокойной натуре с готовностью откликалось на дикий, первобытный зов лесной чащи, старой, почти неприступной, молчаливой стражей окаймлявшей дорогу; голых, волнами убегавших вдаль равнин, с которых уже сорвали покров урожая; каменных стен, местами обрушенных; обветшалых ферм и амбаров, шатаясь, балансировавших на грани необратимой гибели. Алан дивился холмам и лесам в осеннем убранстве всех оттенков золота, рыжего и багрянца. Косые лучи предвечернего солнца бросали тени поперек главной улицы Брамвелла, когда Алан остановился на единственном тамошнем светофоре. Он повернул направо, переехал железнодорожные пути и подрулил к единственной же в городе бензозаправке. Вывеска над дверью объявляла владельцем некоего Гарольда Уэббера – с этим круглолицым пожилым джентльменом Алан, помнится, уже встречался. Да вот и он сам – вышел из дверей ленивой походочкой. Подходя к машине и вытирая руки о рваные и испачканные маслом рабочие штаны, он пригляделся, прищурился, признал шофера, и угрюмая линия его рта изогнулась в неком подобии улыбки.
– Вечерок, мистер Хасрад, а?
– Как поживаете, Хэл? Полный бак, пожалуйста.
Гарольд отошел к насосам, сунул пистолет в горловину бензобака, поставил на автомат и вернулся к водительскому окошку.
– Тыщу лет вас не видел, – небрежно молвил он, приступая к мытью окон.
– Да, несколько месяцев я этой дорогой не ездил. А Брамвелл все такой же.
– Да не то чтобы, – кратко и неожиданно возразил Гарольд.
Он энергично потер несколько пятен от насекомых, покончивших с собой на ветровом стекле, потом широким движением вытер его губкой.
– Да ну? – Алан с любопытством на него поглядел. – Неужто что-то новое стряслось? Есть о чем рассказать?
– Ну, не знаю… может статься, что и есть.
Заправщик тревожно перемялся с одной ноги на другую, и голос его как-то упал.
– У нас тут убийства было, два – ух, каких странных. Тут правда любое убийство будет странным, что есть то есть… В миле от деревни. Не говоря уже, что скотины полегло немало, и вся… тем же способом.
– Про одну смерть я, кажется, слышал. Мосс Кент парня звали, так?
– Типа да. Это было первое. А три дня назад второе случиось.
Уэббер стрельнул глазами по улице, туда-сюда, как будто собирался разболтать что-то такое, о чем стоило бы помолчать.
– Короче, на сей-то раз укокошили вдову Фишер. Нашли ее мертвой в десять примерно вечера у нее же на заднем крыльце. Совсем недалеко отсюда жила. Вышла, значит, за дровами на двор, а когда сразу не вернулась, дети решили, что она завернула к кому из соседей. Так что обнаружили ее только через пару часов.
– И правда, странно, – заметил Алан.
– Так я ж чего и говорю. Вряд ли пара смертей показалась бы странной человеку городскому, вроде вас, да еще газетчику, но у нас тут это прямо большое событие. Народ в деревне боится – за жизнь свою боится, особенно когда после темноты куда выйти надо.
– Вот даже так?
Уэббер кивнул.
– Ни криков не было, ни вообще какого шума.
Он наклонился вперед, почти всунувшись головой в машину.
– Но ее прямо как поломали всю, и лежала она такая обмякшая поперек собственных ступенек на заднем дворе! Не хотят наши больше в темноте из дома выходить, особенно с тех пор, как этот проклятый туман повадился наплывать в Брамвелл кажную ночь – ежели могут, то и не выходят совсем.
– И их можно понять. Но вы сказали, ее вроде как… поломали?
– Ну да, сэр, поломали. И старика Мосса Кента тоже. Это все, что я знаю, а те, кто знает больше, не особо жаждут о том распространяться.
Новость и впрямь была поразительная. Интересно, не связаны ли странные происшествия в деревне с той жутью, что творится на Мглистом озере, невольно задумался Алан. Выехав с парковки, он повел машину прочь по стремительно темнеющей улице. В одинокой кучке домов уже зажглись первые окна. Возле универмага на перекрестке он свернул на пыльную гравийную дорогу, которая должна была вести на озеро, и увеличил скорость. А ведь флегматичного Уэббера эти необъяснимые происшествия чуть до ручки не довели, размышлял он. Угрюмые поля расстилались кругом; урожай давно убрали, и дорогу где-то на милю окаймляла понурая молодая поросль. Впрочем, Алановы мысли были еще безотрадней пейзажа, осенявшего их вкрадчивой, вероломной тенью уныния. Дикая теория Флетчера, что какое-то неведомое зло рыщет по округе, нашла внезапное подтверждение в показаниях Хэла Уэббера, пусть и чрезмерно эмоциональных. Рой новых вероятностей так и кружил в голове, хотя раньше он ни о чем подобном даже не думал. Сперва Алан опасался, что письма могли оказаться фальшивкой, что их написал вовсе не Байярд Флетчер… ну или Флетчер, но каким-то образом успевший утратить рассудок. Теперь же его все больше занимала идея, что безымянное и неузнанное зло – совсем не плод чьего-то воображения, а, напротив, дело совершенно реальное. Не то, что нафантазировал себе мискатонский профессор, конечно, но все равно нечто вполне реальное, пагубное и смертоносное. Вдруг его подозрения не такие уж неоправданные? И что тогда ждет впереди?
Он ехал вдоль луга, когда в поле зрения вдруг мелькнуло нечто настолько странное, что он даже притормозил, чтобы как следует все разглядеть. К ограде неподвижно прислонилась корова, стоймя, но очевидным образом мертвая. Выглядела она будто тряпичная кукла, выброшенная соскучившимся ребенком – только с пропорциями тела было что-то капитально не так. Корову словно сдули, как баскетбольный мяч, из которого вышел почти весь воздух – она была тоньше и площе, чем коровам вообще-то полагается быть.
Алан покачал головой, рассеянно отметив, что подальше в поле виднеется еще одна неподвижная масса, похожая на сваленные в кучу тряпки, и поехал дальше. Вскоре показался описанный Флетчером узкий извилистый проселок, убегавший влево от основной дороги. Маневрировать по неглубоким, усыпанным палой листвой колеям пришлось осторожно; голые ветви мели и царапали крышу машины. Пока она виляла сквозь чащу вниз, по узкой грунтовке к озерному берегу и дальше, вдоль кромки воды, Алан обшаривал взглядом неотвратимо сгущавшиеся сумерки. Время от времени по дороге попадались коттеджи, темные и с виду необитаемые. Длинное узкое озеро, то и дело проглядывавшее между деревьями, выглядело хмурым, холодным и неподвижным. По ту сторону мрачного зеркала вставала серая гряда одетых лесом холмов. Сейчас, осенью, когда все коттеджи позакрывались, а летние гости разъехались, озеро казалось покинутым и одиноким. Впрочем, сама эта заброшенность наверняка была мила сердцу Флетчера, особенно по контрасту с неприятностями жизни в большом городе: теперь озеро до самого следующего лета принадлежало ему одному.
Коттедж на холме, вид на который открылся Алану за поворотом, оказался низким и длинным. Наверняка поздневикторианской постройки, просторный и в достаточно хорошем состоянии, но глядевший неприветливо и заброшенно из-за спутанной чащи кустов и некошеных трав.
Алан свернул на полянку, окаймленную нестриженым кустарником и мелкими деревьями, припарковался и пошел к коттеджу.
Сумерки спускались на тихую землю. Заросший соснами овраг слева уже размылся и утонул в тени, как и узкая, теснимая деревьями тропинка. Алан пошел быстрее, мрачно хрустя мертвой листвой, сметенной в кучи осенними ветрами и не тронутой ногой человека.
Флетчер открыл дверь на стук. При виде гостя его охватила лихорадочная радость; он тут же провел Алана в простой кабинет – длинную, сплошь заставленную книгами комнату, элегантно оформленную панелями из темного дуба. Там они уселись перед небольшим огоньком, уже весело плясавшим в громадном камине, и принялись говорить. Флетчер оказался человеком высоким, худым и слегка сутулым, но все еще пригожим собой и благородным в манерах, со снежной шевелюрой и в очках. Голос его, сердечный и сдержанный, все же чуть-чуть выдавал, в каком колоссальном напряжении профессор жил все последнее время.
– Душевно рад, что вы смогли приехать, мистер Хасрад, – заверил он гостя, смешав напитки и усадив его поудобней. – То, о чем я вам писал, настолько не вписывается ни в какие нормальные и понятные рамки, что я, пожалуй, с большей охотой съеду из дома, чем останусь тут один еще надолго.
Голос его на мгновение дрогнул, и Алан понял, какой железной выдержки и решимости ему стоило не бежать отсюда сломя голову – что, безусловно, сразу же решило бы все проблемы.
– В Брамвелле говорят, что в этих местах стало опасно для жизни, – осторожно заметил Алан.
Флетчер кивнул в знак согласия и длинными, изящными пальцами принялся набивать почерневшую трубку из верескового корня.
– Сегодня утром я обнаружил у себя на парадном крыльце кошку одного из соседей. Ее раздавили в бесформенную, мохнатую кучу, совсем как козу, которую я давеча видел на дороге, и подбросили сюда. Ужас охватил этот край, мистер Хасрад, ужас, который большинство народу даже отдаленно не в силах понять. За прошедшие две недели было убито двое человек.
– Да, я слышал об этих смертях, – сказал Алан. – Хотя сведения, прямо скажем, были обрывочные и неполные.
Флетчер, откинувшись в мягком кресле, задумчиво затянулся трубкой.
– Вероятно, я сумею прояснить для вас некоторые детали – я даже должен, чтобы убедить вас в том, что опасность совершенно реальна. Дела обстоят совсем скверно и ухудшаются день ото дня. Власти дозируют новости очень осторожно, в час по чайной ложке. Полагаю, они боятся, будто люди подумают, что их тут кто-то бессовестно разыгрывает. Но некоторые факты я вам в состоянии сообщить, так как присутствовал на вскрытиях (медицинский эксперт округа приходится мне кузеном), и то, что я намерен вам рассказать, возможно, покажется самым странным, что вы в жизни слышали.
Флетчер подался вперед и уставился на него сквозь очки с выражением самой суровой серьезности на лице.
– Итак, вот что во всем этом деле особенно странно. Я сам видел тела: на поверхности нет ни царапины – ни на одном. Но все они были мягкие, как тряпки: все кости внутри оказались раздавлены, расщеплены, разломаны на кусочки, будто от какого-то колоссального внешнего давления. Еще до того, как кузен начал резать, как минимум, в дюжине мест было слышно крепитацию.
В принципе, такому состоянию можно подыскать объяснения – конечно, косвенные и притянутые за уши, но все-таки… однако, мы нашли еще кое-что, от чего дело стало еще более неправдоподобным, если такое вообще возможно… Судя по всему, в обоих случаях клетки большинства внутренних органов оказались практически полностью лишены энзимов, гормонов и антител; иными словами, исчезли почти все аминокислоты, из которых состоят эти сложные органические вещества! Если излагать понятным для человека несведущего языком, то из всех внутренних тканей пропала большая часть белка! Из белка, как вам наверняка известно, в значительной мере состоит любая клетка нашего организма, так что можете себе представить, какая фантастическая картина открылась нам после первых же простых разрезов!
Алан оторопело глядел на профессора и только время от времени прикладывался к стакану.
– Да, – кивнул Флетчер. – Невероятно, но факт. За исключением некоторых отдельных органов и кожи, оставшихся в обоих случаях нетронутыми, все выглядит так, будто жертв каким-то необъяснимым образом ограбили, лишив почти что каждой имевшейся в их телах молекулы белка! Как вы легко можете себе представить, обследовать было особо нечего – от погибших остались только сухие, хрупкие оболочки.
Алан некоторое время молчал, вспоминая виденную в поле корову.
– А что думает по этому поводу ваш кузен, который медицинский эксперт округа? – молвил он наконец.
– А что он может думать? – слабо улыбнулся профессор. – Единственное объяснение, которое они с коллегами в состоянии предложить, – это что округу терроризирует некое неизвестное животное. Глотает свою добычу, переваривает телесные ткани, которых требует его естественный рацион, а затем отрыгивает или иным образом избавляется от остова!
Алан поджал губы, но комментировать не стал.
– Это, разумеется, самый абсурдный бред, какой только можно изобрести в качестве гипотезы. И все же… У меня самого нет взамен никакой теории получше. Невероятности происшествию добавляет эта чертова целая, неповрежденная кожа.
Мысли Алана понеслись вскачь.
– Но, доктор Флетчер, у всего этого точно должно быть какое-то разумное объяснение. Тела мог так переломать какой-нибудь удав… – несмело предложил он, живо представляя себе, еще даже не окончив фразы, какова вероятность встретить такую рептилию в окрестностях Брамвелла.
– Ну конечно, – отозвался Флетчер, пренебрежительно махнув рукой. – А еще какой-нибудь паровой каток. Проблема, видите ли, в том, что удавы свою добычу глотают. И потом, объяснить, как хитрой змее удалось высосать из тел весь белок…
– Нет, – он покачал головой с совершеннейшей убежденностью, – змей нам придется исключить: они так не питаются.
Воцарилось напряженное молчание, пока профессор подыскивал следующие слова.
– Но это было лишь продолжение, – сказал он, наконец, снова разжигая трубку. – Началось все еще месяц назад, с того, что во всей округе куда-то пропали насекомые: прошло дня четыре, и не осталось ни бабочки, ни даже паука хоть какого-то вида. Их уничтожили точно таким же образом – смятые, сухие тельца так и валялись повсюду. А за следующую неделю все мелкие грызуны оказались на грани исчезновения – и это еще до того, как собак, кошек и прочих небольших млекопитающих, остающихся по ночам на улице, постигла та же судьба. Потом фермеры начали находить скотину в полях убитой – картина была точно та же, и потери до сих пор растут. Сомнений быть не может, мистер Хасрад: что бы это ни было, а тварь уже достаточно сильна, чтобы нападать на людей и даже на более крупных животных – словом, на все, чему не повезло оказаться с наступлением ночи вне дома. На данный момент нашли дюжину взрослых коров и четырех или пятерых овец – а ненайденных, возможно, еще гораздо больше – и все раздавленные и высосанные досуха этой… голодной дрянью, чем бы она ни была!
– И, да, – заключил он, – нам, вполне вероятно, придется столкнуться с тем фактом, что это явление не носит естественный характер и нормального объяснения не имеет.
Он встал и подошел к эркерному окну.
– И совсем скоро, – добавил он зловеще, – вы все увидите сами.
После краткого ужина, приготовленного на газовой конфорке, они перешли в гостиную. Флетчер принялся подкармливать маленький огонек в камине кусочками сухого плавника; отблески плясали и дергались по деревянным панелям, то и дело выхватывая из сумрака развешанные повсюду пасторальные акварели, а затем снова пряча их в тень, делавшую комнату размытой и незнакомой.
Снаружи доносился посвист ветра, стремительно нараставший по мере того, как осенняя ночь вступала в свои права. Через все небо неслись, гонимые его сердитым дыханием, серые грозовые тучи. Алан смотрел, как Флетчер сидит в кресле под торшером; в какой-то момент он встал, подошел к выходящему на болота окну – и лицо его озарилось смесью ужаса и облегчения. Алан сдержанно улыбнулся. При таком ветре от тумана, реши он вдруг выползти познакомиться, не останется ни единого шанса.
Увы, он ошибся.
Ночь выдалась темная и ясная. Ветер дул с каждым мигом сильнее, воя и причитая во мраке, хлеща кусты и пригибая длинную траву. Алан пододвинул кресло и сел поближе к окну, глядя туда, откуда, по словам Флетчера, появлялись первые порядки наступающего тумана. И вот под считанными бледными звездами, едва различимыми на ночном небе, из-за бровки холма, возвышавшегося над топью, появились первые извивающиеся струи. Размытые, белые и совершенно отвратительные в своем ничем не объяснимом попрании всех законов природы, они текли к дому, против всякого ветра! Густая трава гнулась почти до земли под порывами бури, которые в мгновение ока разнесли бы в клочья любой нормальный туман – Алан понимал, что и вправду оказался свидетелем явления, противного законам физики. Вскоре воцарилась полная тьма – абсолютная, черная деревенская ночь, не нарушаемая никакими уличными фонарями или уютным сиянием окон. Впрочем, света хватало, чтобы смутно различить колеблющиеся волны тумана, медленно приближающиеся к дому и уже вытягивающие холодные, влажные руки, чтобы заключить эркер в свои жуткие объятия – беспредельная, расплывчатая серость с живыми, подвижными щупальцами, которые с любопытством тыкались во все углы и ниши дома, хотя основная масса казалась при этом недвижимой. В голове у Алана молнией сверкнула мысль, что метафора Флетчера, пожалуй что, неверна: никакая это не армия с разведчиками, а огромный, дымный спрут, расползшийся по низине и взмахивающий мерзкими щупальцами, будто грозя ими людям.
– Видите, мистер Хасрад? – сказал, наконец, Флетчер, разбивая чары безмолвия, сковавшего, казалось, весь дом. – И что вы об этом думаете?
Алан с трудом отвел взгляд от окна. Все его тело напряглось, лицо за эти несколько секунд избороздили морщины тревоги и сомнений, столь чуждых его энергичной, восторженной натуре.
– Я не знаю, что об этом думать, – признался он. – Пока не знаю. Ввиду очевидной силы ветра, это, пожалуй, самое поразительное явление, которое я видел на своем веку. А что будет, если я выйду наружу?
Бледное, исхудалое лицо Флетчера вмиг стало еще бледнее. Он нервно пригладил седые волосы, а тонкие губы скривились в мрачную улыбку.
– Даже не пытайтесь. Вспомните старика Кейна, вдову и скотину в полях. С человеком у этой штуки разговор короткий. Если прошлый опыт меня не обманывает, мы с вами в полной безопасности за этими стенами.
Он подошел к окну и опустил шторы, тут же скрывшие с глаз слепо вьющиеся щупальца.
– Когда это все началось? – спросил Алан, возвращаясь в кресло.
– Насколько я помню, недель пять тому назад, – ответствовал профессор.
Лицо его в резком электрическом свете выглядело напряженным и усталым. Алан погрузился в тревожное молчание.
– Я вряд ли знаю, что вам сказать, доктор Флетчер, – наконец изрек он. – Хотя первым моим побуждением, сразу после того, как я увидал этот гибельный туман во всей красе, было заставить вас уехать отсюда подальше, пока проблема каким-то образом не будет решена.
– У меня и самого точно такое же ощущение. Я бы еще пару недель назад уехал… – Тут у Флетчера в голосе проглянула горячность, необычная для его обычно спокойной манеры выражаться. – Но дело в том… видите ли, у меня есть самые серьезные основания полагать, что за происходящее в некотором роде несу ответственность лично я. Подозреваю, что это мое проклятое неуемное любопытство спустило с цепи наш кошмар – ужас, об истинной природе которого никто до сих пор не имеет ни малейшего понятия. Вот почему я не решаюсь просто взять и уехать. И по этой же причине я не тороплюсь доверяться властям – даже если в итоге это и принесло бы больше пользы, чем вреда. Расскажи я им правду – даже ту скудную, что мне на самом деле известна – об ужасной погибели, что рыщет в ночи по округе, и они тут же запрячут меня в соответствующее учреждение. То, что здесь происходит, слишком неправдоподобно, слишком невероятно, чтобы любой нормальный человек мог принять это как факт.
Но вам я расскажу все. Я читал о ваших встречах с адскими сущностями – вы один из крайне малочисленной когорты специалистов, способных подать мне авторитетный совет по поводу наших местных проблем. Они варятся у меня в голове уже целых пять недель, и мне определенно пойдет на пользу рассказать о них человеку, которому я могу доверять. Понимаете, я уже попробовал намекнуть тому самому моему кузену, медицинскому эксперту… – он так на меня посмотрел, что я тут же оставил эту затею и постарался свести все к шутке! И все равно он сказал, чтобы я попроще относился к жизни и не давал воображению совсем уж распоясаться.
Некоторое время Флетчер молча глядел в огонь и лишь затем продолжил.
– Мистер Хасрад, с душевным трепетом я жажду услышать ваше мнение. Дело в том, что я убежден: мы имеем дело с живым ужасом, спавшим и скрывавшимся от людей на всем протяжении письменной истории, который ныне пробудился и объявил войну всему человеческому роду, – с тварью ужасной и мерзостной, проведшей в состоянии полужизни бессчетные эоны, и пробужденной назойливым любопытством беспечного дурака – вашего покорного слуги. Вы, должно быть, думаете, что я совсем ку-ку, не так ли?
Алан слабо улыбнулся внезапному сленгу в устах университетского профессора.
– Но, поверьте, это единственный возможный ответ. Частично дедукция, конечно – я на самом деле ничего не знаю о его прошлом наверняка – но я вам сейчас расскажу о том, при каких обстоятельствах нашел его и, к величайшему моему прискорбию, выпустил на свободу.
Он вперил взор в мерцающие угли – все, что осталось от почти прогоревших дров, – и подбросил в слабеющий очаг еще одно небольшое полешко. Трубка у него в руке уже была мертва. По гостиной расползался неуютный холодок.
– Вы спрашиваете, что я обо всем этом думаю, – промолвил внезапно Алан, переводя взгляд с гипнотически вздыхающих углей на изможденное лицо профессора. – Должен признать, что ваши умозаключения, по всей вероятности, верны.
В конце концов, фантастическая идея, пришедшая ему в голову ранее, могла оказаться совсем не такой невозможной, как сперва показалось. Теперь она разворачивалась в весьма реальную и весьма гибельную вероятность.
– Я увидел достаточно, чтобы прийти к выводу: на свободу определенно вырвалось нечто, находящееся за пределами всех человеческих познаний. Но… расскажите мне остальное. Что, по-вашему, такое этот туман и как так вышло, что вы несете ответственность за его присутствие здесь?
Флетчер задумчиво натолкал табаку в крошечное отверстие, еще оставленное в трубке нагаром, и принялся мерить шагами вытертый ковер.
– Что он такое, мне неизвестно, но я уверен: перед нами явление совершенно неестественной природы – возможно, форма жизни, сотворенная в эпоху детства Земли, которая должна была благополучно сгинуть задолго до наступления каменного века. Ни археология, ни палеонтология тут не компетентны, от них помощи ждать нечего.
– Возможно, – вставил Алан, – она даже не земного происхождения. Скорее всего, это какое-то невыразимое космическое зло из иной, неизвестной нам части вселенной.
Доктор Флетчер остановил свой беспокойный бег и медленно кивнул.
– Может, и так. После увиденного я готов поверить во что угодно. Я просто не знаю. Но как я нашел его, я рассказать могу. Обстоятельства позволяют предположить, что оно было заперто в своей каменной тюрьме очень-очень давно и находилось там до тех самых пор, пока я непреднамеренно не взломал запоры и не дал ему ускользнуть.
Это случилось немногим больше месяца назад, во второй половине дня – прелестного, дремотного дня бабьего лета. Я всегда интересовался геологией – сделал ее чем-то вроде хобби, для времени, свободного от чисто палеонтологической работы. Так вот, в тот день я забросил свою текущую книгу – погода стояла такая чудная, что было просто грешно сидеть взаперти – и отправился побродить по округе с геологическим молоточком.
Я уже обошел половину болота, что раскинулось тут, за домом, и как раз взбирался на заросший кустарником утес, откуда открывается вид на Мискатонскую реку по другую его сторону, когда зацепился ногой за какой-то корень и скатился по склону до половины вниз. С этого-то все и началось. Я проломился сквозь густые кусты в скрывавшееся за ними устье пещеры. Совершенно типичная для этих мест формация – такие встречаются здесь сплошь и рядом, но эта так заросла снаружи, что я и не подозревал о ее существовании.
Если бы только судьба схватила меня за ноги и не дала войти внутрь! Но ничего подобного не случилось, и я проник сквозь дыру в скале в грот, куда нога человека наверняка не ступала уже многие тысячи лет – если ступала вообще! У меня с собой в рюкзаке был большой фонарь: я достал его, осмотрел потолок и пол и стал продвигаться постепенно к задней стене, выстукивая там и сям выходы породы по стенам. Это была самая обычная разновидность гранита, но очень старая – камень, можно сказать, незапамятной древности.
Откуда-то сверху сочилась вода, стекала по пустой стене и падала на пол пещеры с нескончаемым кап-кап-кап. Я специально упоминаю этот факт, чтобы объяснить произошедшее дальше. Я сделал еще один шаг к стене, неудачно поставил ногу на скользкий, усыпанный мелким щебнем пол, и поскользнулся. Лодыжка у меня подвернулась, я отчаянно замахал руками в попытке удержать равновесие, исполнил полупируэт и рухнул всем своим весом об заднюю стену. Локоть мой прошел через нее, словно через оконное стекло! Вероятно, вода, струившаяся сюда долгие эоны, истончила стену до толщины бумаги. Фонарик, к счастью, уцелел. Я кое-как встал, стараясь не обращать внимания на пострадавшую лодыжку и локоть, и посветил в образовавшуюся в стене дыру – размером она была где-то с мою голову. Просунув туда руку с фонарем, я увидал похожую на келью комнату, всего в десять квадратных футов; оттуда в главную пещеру вытекал затхлый, мертвый воздух.
На пару минут я отступил подальше, ожидая, пока атмосфера там не станет пригодной для дыхания, потом снова сунул внутрь мой светоч и поводил лучом по сторонам, разглядывая неровные стены и покрытый всяким каменным мусором пол. Я созерцал место, закрытое наглухо в течение многих тысяч лет – теперь я в этом совершенно уверен.
А затем я почти тотчас увидел огромный плоский камень в форме – если вы, конечно, сможете мне поверить – идеальной пятиконечной звезды! С центральной круглой частью примерно трех футов в диаметре, он лежал на полу в центре этой внутренней камеры. Вы легко можете представить себе мое изумление и любопытство, мистер Хасрад, а также решимость проникнуть внутрь и изучить находку поближе.
Я вышел из пещеры и вскоре вернулся с толстой веткой, из которой получился вполне эффективный лом. Пользуясь ею на манер рычага, я разломал уже и так почти руинизированную стену до такой степени, чтобы суметь протиснуться внутрь. Я очутился в естественной сводчатой каверне всего в нескольких футах от этого загадочного звездообразного камня. Господи, ну почему я не оставил его в покое! Даже сейчас я не в силах понять, что заставило меня сдвинуть его – некое внезапное вдохновение, не иначе. Я как раз рассматривал выгравированные на его поверхности любопытные символы, подозревая в них некую неизвестную науке письменность невероятной древности, когда мне пришла в голову блестящая мысль перевернуть его и поглядеть, что там, на другой стороне. И, будучи, как я вам уже говорил, форменным идиотом, я немедленно приступил к действиям. Глыба, конечно, оказалась для меня слишком тяжелой, но, воюя с ней, я умудрился чуть-чуть ее сдвинуть. Мистер Хасрад, этот камень в форме звезды прикрывал собой яму!
Я ворочал его и толкал, пока мне не удалось на целую половину освободить вход в эту дьявольскую шахту! Встав на колени у устья, я вперил взор в глубину колодца, созерцая гладкие стены, уходящие вниз, докуда хватало света. В диаметре он насчитывал все те же три фута; с моей точки обзора открывалась только ровная труба стен, похожая на внутренность телескопа, терявшаяся во тьме внизу и ничем не выдававшая свою истинную глубину. Лежа на полу и глазея в этот лаз, я подумал, что его гладкие, идеально закругленные стены до невозможности контрастируют с грубо высеченной верхней камерой. Следующим наблюдением стало то, что колодец вообще сделан не из камня, а, кажется, из какого-то металла, идентифицировать который мне не удалось.
Впрочем, все спекуляции на этот счет были совершенно бесполезны. Я выбрал приличного размера булыжник, кинул его в дыру и стал ждать – и ждать, и ждать, пока до меня не донесся едва слышный далекий стук. Судя по времени между ним и броском, дыра была невероятно глубокой! Не думаю, что вообще сумел бы различить этот звук, если бы неестественно гладкие стены не усилили его и не донесли услужливо мне на поверхность. Я испугался глубины и отполз скорее от края.
Дальше я, так и не удовлетворив до сих пор свое любопытство, вернулся к изучению странных знаков на камне, даже не подозревая, что мой проклятый камень побеспокоил нечто, обитавшее там, внизу. Прошло несколько минут, прежде чем мне снова захотелось поглядеть в шахту, и тут моим глазам предстало еще более поразительное зрелище.
Алан беспокойно пошевелился в своем кресле.
– И что же вы увидели, доктор Флетчер? – осторожно спросил он.
– А увидел я некое движение далеко-далеко внизу, в самой глубине колодца – там, где ничему вообще быть не полагалось. К свету фонаря поднималась какая-то клубящаяся беловатая масса, заполнявшая собою ствол от края до края. Некие аморфные, подобные псевдоподиям, волокна, казалось, осторожно тянулись из нее вверх, подергиваясь и извиваясь – невероятные щупальца, сжимавшиеся и вытягивавшиеся в странно непристойной манере, они ползли все выше и выше. Они, конечно, все еще были далеко внизу, и мне вполне хватало времени вернуть на место каменную крышку – приди мне в голову такая спасительная мысль. Однако вместо этого я стоял у отверстия на коленях, наблюдая их стремительное восхождение со смесью благоговейного ужаса и любопытства, совершенно лишившей меня способности двигаться.
Представляете себе, мистер Хасрад, какому невероятному, фантастическому явлению я стал свидетелем – и в самом неожиданном месте! В представшем мне зрелище было нечто необъяснимое и совершенно, категорически иноприродное – вид этот леденил кровь. До сих пор мною двигало радостное любопытство первооткрывателя – теперь же начал охватывать страх; я буквально задрожал, глядя, как этот туман или дым ползет по трубе вверх. Но я все равно продолжал ждать, скорчившись на краю бездны и глядя в глубину, туда, где вздымающийся ужас нежно заглатывал луч фонаря.
Он полз выше и выше, то и дело замирая на несколько мгновений, и на обычный летящий вверх дым был совсем не похож. Не знаю, откуда во мне взялась эта безмозглая нерассуждающая отвага – торчать там и глядеть, как эта… штука дюйм за дюймом нащупывает дорогу вверх. В какой-то момент я обнаружил, что меня всего колотит крупной дрожью, сердце частит так, словно пытается вырваться из грудной клетки наружу, а во рту сухо. Так организм бессознательно отреагировал на приближение этого зла.
Потом в голове у меня что-то щелкнуло, и я понял, что должен как-то остановить его вознесение. Свободной рукой я сгреб разнообразный каменный мусор, в изобилии усеивавший пол, и сбросил его на эту пульсирующую массу. Никакого эффекта моя диверсия не возымела: камни просто провалились насквозь и усвистели дальше вниз по бесконечной шахте. Ужас продолжал течь вверх, а я, чокнутый старый дурак, ждал, склоняясь над ямой и светя фонариком вниз, пока это неведомое чудище приближалось и приближалось.
Алан сидел, не шелохнувшись; все его внимание было приковано к профессору, голос которого грозил вот-вот сорваться от расстройства и тревоги.
– А потом оно добралось до края колодца. Ошеломленный, я так и остался сидеть, как примерзши к месту, и глядел, как маленькие тентаклики неуверенно вытекают в пещеру и принимаются ощупывать стены и пол. Вместе с ними на поверхность поднялся непередаваемый затхлый, плесневелый запах, который в этом тесном пространстве вскоре сделался невыносимым. Моя рука оказалась в каких-то дюймах от одного из этих ищущих щупалец, и когда оно, наконец, коснулось меня, я снова обрел способность двигаться. Державший меня мертвой хваткой парализующий ужас испарился. Помню, что я кричал; помню, как протискивался через мною же проделанную дыру во внешнюю пещеру и дальше, прочь, на солнечный свет. Я кое-как вскарабкался на холм и мчался, пока не выбился из сил и не упал наземь, хрипя и хватая ртом воздух, будто только что пробежал марафон. Только через несколько минут я понял, что непосредственная опасность миновала.
Флетчер резко умолк и бросил взгляд на гостя. На скулах у него острыми углами выделялись желваки, все лицо напряглось от воспоминания о пережитом ужасе.
– И это, конечно, была не последняя ваша встреча? – подсказал Алан.
Флетчер снова набивал трубку, неотрывно глядя в огонь. Мысли его, казалось, унеслись куда-то далеко.
– А? О да. Я узнал о таинственных убийствах в округе и… с ужасающей уверенностью понял, что за ними стоит.
Алан глядел на угловатое, изможденное лицо своего нового знакомца и раздумывал, насколько с ним имеет смысл поделиться кошмарными подозрениями, теснящимися в его собственной голове. Действительно ли Флетчер балансирует на грани умопомешательства и нервного срыва, как ему сначала показалось, или в нем достаточно скрытой силы, чтобы выстоять перед лицом жуткой правды? В конце концов, интуиция взяла верх: да, этот человек, скорее всего, выдержит напор эзотерического знания, готовый обрушиться на него.
– Доктор Флетчер, вы были совершенно правы, пригласив меня сюда, и я полагаю, что смогу оказаться полезен. Если я не ошибаюсь, мы с вами имеем дело с разумом куда старше человеческого – старше даже самой планеты Земля. Хотя на всем протяжении нашей истории он никогда не играл в ней активной роли, само его существование неоднократно упоминается в различных древних источниках, наиболее видное место среди которых занимают «Пнакотическая рукопись», происходящая от одного тайного культа древней Гипербореи, а также «Некрономикон» одного безумного араба, по имени Абдул Альхазред (впрочем, там ему посвящены только несколько кратких абзацев). По случаю, я являюсь далеким потомком этого сына пустыни. Также мне случалось читать об этой сущности в различных переводах (которые сами по себе могут оказаться неточны) «Элтдаунских осколков»; Людвиг Принн упоминает о нем в «De Vermis Mysteriis», а Роберт У. Чемберс – там, где цитирует «Зигзандские рукописи»; плюс он бегло фигурирует в «Cultes des Goules» графа д’Эрлетта и в «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта. Эта адская сущность происходит из неизвестной и отдаленной части вселенной; некоторое время она странствовала от галактики к галактике, пока, наконец, не достигла нашей Земли, когда та была еще кипящей, пузырящейся, медленно остывающей массой жидкого камня.
В древних источниках повествуется, как сущность, враждебная всему человеческому, была поймана и заключена глубоко в недрах земли – это сделали Старшие Боги. Судя по всему, замки на ее узилище оказались сняты, и этот ужас ныне на свободе и волен терроризировать живущих.
– Но какова его цель, мистер Хасрад? – нетерпеливо вмешался Флетчер. – Если, как мы оба с вами полагаем, оно действительно разумно, у его ночных вылазок должна быть своя причина.
– Разумеется, причина у них есть, – Алан твердо улыбнулся профессору. – Оно питается.
– Питается?
– Конечно. Я так понимаю, это существо до сих пор очень слабое, так как провело в полусне многие миллионы лет, и теперь нуждается в пище – вообще-то это естественное поведение любых форм жизни. С тех пор, как оно получило свободу – по вашей, к несчастью, милости – оно постепенно восстанавливает свою массу и силу регулярными трапезами, начав с самых мелких существ и каждую ночь переходя к более крупным. Каким-то непостижимым для нас образом оно живет на белках, которые извлекает из тел жертв во время каждой новой охоты. Его цель – расти, распространяться… вернуть себе, наконец, ту грозную мощь почти галактических масштабов, которой оно некогда обладало. И когда оно ее вернет…
– Что тогда?
– Тогда – для человеческого рода, во всяком случае – будет уже слишком поздно. Земля останется полностью опустошенной, лишенной всякой жизни, а оно двинется дальше, к новым планетам и новым галактикам.
По физиономии Флетчера можно было наглядно изучать стадии нервного потрясения – так выразительно оно менялось, пока новая информация прокладывала себе дорогу в сознание ученого.
– И что же, ничего нельзя сделать?
Алан задумался. Если начать действовать прямо сейчас, пока эта тварь гораздо слабее, чем привыкла быть, возможно, ее еще удастся остановить… Хотя точно так же возможно, что это уже не под силу сделать никому из людей. Если только…
– Мы можем попытаться, – сказал он. – Мы должны попытаться, а пока – выбросить из головы все последствия, ожидающие нас, если попытку ждет неудача. К утру, надеюсь, тварь вернется к себе в логово. Она все еще считает себя слабой и днем, скорее всего, будет искать убежища, пока не окрепнет достаточно, чтобы охотиться в открытую. Значит, именно туда, в убежище, мы с вами и отправимся, и постараемся как-то ее обезвредить.
Черты доктора Флетчера озарились неожиданно веселой улыбкой.
– Примерно как уничтожить вампира, а, мистер Хасрад? Напасть, пока чудовище спит?
– Именно так. Но только это не вампир, профессор, и нам понадобятся инструменты и орудия подревнее, чем молоток и осиновый кол.
– Значит, завтра! – воскликнул Флетчер, подымаясь на ноги. – Давайте же отдохнем, остаток ночи все еще в нашем распоряжении. Будемте молиться Богу, или кто там приглядывает за судьбами человечества, чтобы день завтрашний принес нам победу над этой бедой.
– Аминь, – заключил Алан, тоже вставая и следуя за хозяином в гостевую спальню, уже приготовленную для него.
Снаружи было все еще темно, а восток только намекал на возможность зари, когда Алан пробудился от беспокойного сна и разбудил хозяина дома. Вместе они выглянули из окна: смертельный туман уже начал отступать перед пришествием света. Дом освободился от призрачного савана; округа была еще окутана дымкой, но недостаточно густой, чтобы представлять угрозу, как всего несколько часов назад.
Алан и Флетчер вышли на деревянное крыльцо и теперь глубоко вдыхали только что не хрустящий от утреннего холода воздух, любуясь Мглистым озером, видневшимся сквозь шеренги подступавших к самой воде деревьев. Вокруг дома еще вились отдельные пряди тумана, но и они медленно отступали к раскинувшемуся за ним болоту.
– Как я и думал, – заметил Алан, – наш туман не растворяется в воздухе, как следовало бы ожидать от нормального атмосферного явления, а возвращается в нору, сохраняя зримую форму.
– Вы совершенно правы, – отозвался Флетчер, – я с самого начала обратил внимание, что это не обычный материальный туман, который имеет обыкновение таять в воздухе незримой дымкой.
– Итак, если мы хотим узнать больше, нам волей-неволей придется последовать за ним – хотя лично я (да и вы, судя по всему, тоже) не питаю ни малейших сомнений относительно того, откуда он берется.
Сойдя с крыльца, оба джентльмена двинулись за дымными щупальцами в обход дома, прочь от озера, под уклон, сбегавший постепенно в заболоченную низину. Длинные белесые пряди привели их в лиственную рощицу, венчавшую гряду холмов, что смотрела в угрюмую чашу болота. Воздух был свеж и чист, и бледные, вьющиеся полосы тумана четко выделялись в нем.
Вскоре они уже стояли над самым болотом – словно на граю гигантской супницы. Туман внизу был гораздо гуще и походил на мягкий серый ковер, который кто-то на глазах утягивал прочь. Его непроницаемые покровы целенаправленно скользили прочь, собираясь в какую-то расположенную вдали точку.
– Выглядит, как будто кто-то вытащил пробку из огромной круглой раковины, – поделился Флетчер, – и все быстро утекает в сток.
– Весьма уместное сравнение, – согласился Алан.
Туманные псевдоподии безвредно хватали их за щиколотки, пока они шли по краю болота, протаптывая новую тропинку во взмокшей от росы траве, что покрывала бок холма.
– Думаю, я заметил кое-то новое, мистер Хасрад. Сдается мне, туман стал гуще… плотнее, возможно… глядите, это больше не та шелковистая дымка, за которой мы шли. Теперь сквозь него даже земли не видно.
– Вы абсолютно правы, – сказал Алан. – И, полагаю, у меня есть этому объяснение. Когда-то эта сущность, по всей вероятности, имела плотное тело – возможно, многих миль в длину, в ширину и в высоту – но она очень долго не питалась, то есть в буквальном смысле голодала много-много миллионов лет, и в итоге потеряла почти всю свою массу. Вместо того, чтобы уменьшиться в размере, она сохранила, так сказать, протяженность в пространстве, но атомы ее тела удалились друг от друга на такие расстояния, что в итоге она обрела вот такой туманный, несубстанциональный, разреженный облик.
– Вы хотите сказать, она ест… и толстеет?
– Именно. И, более того, если мы ничего не сделаем, чтобы ее остановить, если оставим ее беспрепятственно кормиться, в один прекрасный день она станет материальным телом, достаточно большим, чтобы покрыть собой всю округу, на многие мили во все стороны.
С каждым шагом они оказывались все дальше от дома и ближе к противоположной стороне болота. В саму трясину они не полезли – в этом не было никакой нужды, а шли по берегу, четко различимому в утреннем свете, над бочагами стоячей воды и лениво раскинувшимися топями.
– Оно действительно возвращается в пещеру, – прокомментировал Флетчер, тяжело дыша (они с Аланом как раз обходили поваленный древесный ствол). – Теперь уже недалеко осталось.
Еще через сотню футов справа по курсу открылась пещера; слева солнце подымалось из-за горизонта, деликатно касаясь свинцового зеркала Мискатонской реки, безмятежно змеившейся вдали. Снова взглянув направо, они увидали, как серый туман на глазах стягивается отовсюду в одну-единственную точку на склоне холма. Зрелище их не удивило, но признаться, ввергло в некоторый шок – выходит, они таки не ошиблись в своих догадках.
– Мы были правы, Алан… мистер Хасрад, – тихо проговорил доктор Флетчер. – Оно и правда все утекает в пещеру.
– И мы, кажется, как раз вовремя, – подхватил тот. – Через пару минут оно все окажется внутри – уйдет в эту вашу ужасную пещеру и дальше, по шахте, которую вы так неосторожно открыли, в свою подземную темницу, сотворенную много эонов назад Старшими Богами – если, конечно, древние источники не ошибаются. Сознаете ли вы, профессор, что где-то невероятно далеко под нами существует полая камера, простирающаяся на многие мили во все стороны, достаточно большая, чтобы вместить весь туман, который растекается по окрестностям?
– Видимо, да, – кивнул Флетчер – но идемте скорее… пока у нас еще есть время.
Большая часть тумана уже исчезла в холме, и только отдельные клочковатые последыши запоздало спешили домой. Двое мужчин принялись, оступаясь и поскальзываясь, карабкаться вверх по склону. Флетчеру не пришлось показывать, где находится пещера – туман сам отлично справился с ролью проводника. Как вода в ванне сливается в сток, так и туман на глазах вкручивался в некое пока скрытое от глаз отверстие в земле. Отодвинув заслонявшие вход ветви – некоторые уже были сломаны в прошлый визит профессора – преследователи уставились в вековечную тьму и затем по очереди продрались через кустарник и вступили в холодный, сырой сумрак грота. Внутри они зажгли специально захваченные из дома большие фонари. Пещера углублялась в холм футов на тридцать и заканчивалась пустой стеной, в которой зияло отверстие. По полу прямо к этой дыре стремительно утекали последние завитки совсем побледневшего тумана. Алан обшарил лучом низкий сводчатый потолок, неровные стены и засыпанный обломками пол.
Сообщники медленно двинулись к задней стене, где виднелся устроенный Флетчером больше месяца назад пролом. Алан первым протиснулся в маленькую камеру, Флетчер следовал за ним по пятам. Фонари выхватили из мрака яму, наполовину закрытую огромным, плоским звездообразным камнем. Над ним потолок образовывал низкий купол, едва позволявший выпрямиться во весь рост. Остатки тумана еще клубились на полу, но и те быстро убегали в дыру.
– Итак, доктор Флетчер, сомнений нет: вот куда оно удаляется в светлое время суток, закончив свои ночные пиршества.
Тот медленно кивнул.
– Воистину так. Вопрос только в том, как удержать его там… навсегда!
– По всей вероятности, это будет не так трудно, как вы опасаетесь, – отозвался Алан, преклоняя колени на краю шахты.
Он поднял фонарь над устьем гладкой трубы, уходящей в землю, и стал наблюдать, как тонкая, разреженная дымка спешит перевалить через край и стремительно уходит вниз. Судя по всему, ему пришла в голову внезапная мысль, так как он вытащил из кармана маленький почти пустой флакон для лекарств. Вытряхнув оттуда несколько таблеток, он сунул их обратно, в карман, а бутылочку поднес поближе к зиявшему устью.
– Что вы собираетесь делать? – удивленно поинтересовался Флетчер.
Алан поглядел на него с натянутой улыбкой.
– Ах, не обращайте внимания – так, просто праздная фантазия. Глупо, да?
– И что вы имели в виду, говоря, что нам не составит проблемы снова запереть этот ужас в тюрьму?
– Только то, что нам ничего не мешает вернуть все в тот вид, в каком оно было до вашего вторжения.
Сказав так, Алан внимательно осмотрел каменную крышку, некогда запечатывавшую вход в тоннель. Это, со всей очевидностью, было не природное образование – но и, с той же уверенностью, не дело рук человеческих. Исходящие из центра лучи придавали ей безошибочную форму звезды. В толщину она насчитывала всего дюйма четыре, что само по себе снимало проблему непосильного для человека веса, а трех футов диаметра центральной части вполне хватало, чтобы полностью закрыть дыру в полу.
Алан смел пыль с камня и посветил на него фонарем, являя высеченные на поверхности странные линии и знаки.
– Вот это, – молвил он, показывая на причудливые завитушки, – определенно представляет собой некую письменность и, могу вас заверить, дочеловеческого происхождения. Знаки эти точно высекал ни один из нашего племени.
– После всего, чего я насмотрелся за последний месяц, кивнул Флетчер, – у меня нет ни малейшего намерения подвергать вашу оценку сомнению.
Тем временем последнее щупальце тумана утекло в шахту.
– В «Некрономиконе» говорится о загадочных знаках вроде этих. Миллионы лет назад Старшие Боги пользовались ими, чтобы сковать невероятные силы Древних, близким родичем которых, надо понимать, является наш туман.
– Но не думаете же вы, что этот камешек в силах удержать этот ужас там, внизу? То, что достаточно сильно, чтобы смять корову в лепешку, справится с такой преградой в мгновении ока. Даже я смог сдвинуть его с места!
– Рискну предположить, что камешек вполне в силах. Не сам камень, разумеется, но то, что на нем начертано. Надпись запечатывает необъяснимые космические чары, невероятно могущественные и способные удерживать туман под замком многие миллионы лет. Вы должны понимать, доктор Флетчер, что это не просто глыба, кем-то вырезанная для забавы в форме звезды и украшенная никому не понятными символами. Это нечто гораздо большее! Мистические заклинания поистине мировых масштабов сопровождали нанесение рунескриптов, которые вы видите. Мне уже доводилось видеть такие звездные камни – большинство из них были достаточно малы, чтобы поместиться в руке. Этот – самый крупный на моей памяти, и размер как раз очень хорош, чтобы удержать взаперти разреженное до состояния тумана тело одного из Древних. Нет, дорогой мой доктор, уверяю вас, ночные пиршества этого кошмара подошли к концу.
Эта речь отнюдь не развеяла сомнений Флетчера, но за недолгое время знакомства с журналистом его проницательность и уверенность в собственной компетентности произвели на немолодого ученого такое впечатление, что он с готовностью передал инициативу целиком и полностью Алану в руки.
– Что ж, преклоняюсь перед вашей осведомленностью в мистических вопросах, мистер Хасрад… но я, признаться, чувствовал бы себя куда лучше, если бы мы могли принять какие-то дополнительные меры.
– Это какие же?
– Вот уж не знаю… и поэтому удовлетворюсь вашим планом действий. Давайте же скорее закроем шахту, пока оно не решило снова из нее вылезти.
– Еще одно мгновение, профессор, – сказал Алан, продолжая изучать древние знаки на крышке. – Кажется, туман уже весь внутри, но я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы согласились проверить внешнюю камеру и склон снаружи – просто для верности. Я на всякий случай останусь здесь и закрою отверстие, если тварь вдруг решит полезть наружу.
Флетчер вернулся очень быстро и заверил Алана, что туман и вправду уже весь ушел под землю, так как никаких его следов ни в меньшей, ни в большей камере, ни тем более на улице больше не наблюдается. Всего несколько мгновений ушло на то, чтобы объединенными усилиями вдвинуть каменную глыбу на место. Они постояли немного над надежно запечатанным колодцем, кивнули друг другу и обменялись молчаливым рукопожатием в знак уважения к новой дружбе, только что избавившей мир от смертельной опасности.
Выйдя на свет, они завалили вход в пещеру булыжниками покрупнее, в изобилии валявшимися вокруг, чтобы никто ее больше никогда не нашел. Было почти одиннадцать, когда они закончили работу и двинулись обратно, в коттедж.
Алан остался в гостях до конца дня и всю ночь, наслаждаясь обществом ученого друга и тишиной природы. Мглистое озеро почивало спокойно; никакой ужас больше не тревожил его сон, и Алан уехал на следующее утро, совершенно довольный тем, что человечеству больше ничто не угрожает.
Две недели спустя Алан Хасрад сидел у себя в библиотеке за вечерней почтой. В глаза ему бросился конверт, на котором значился обратный адрес доктора Байярда Флетчера. Журналист проворно вскрыл его, и в руки ему выпал единственный листок бумаги. Профессор счастливо сообщал, что на Мглистом озере и во всей округе воцарились мир и благолепие. Туман, заключал ученый, надежно упокоился в своем логове, и этот славный край вернулся к своей обычной безмятежности.
Алан ласково улыбнулся и бросил взгляд на крошечную бутылочку, украшавшую его рабочий стол. Серая облачная субстанция извивалась внутри, тщась освободиться из стеклянной темницы. Непрестанно движущаяся, неопределенная, постоянно меняющая форму, она наступала и отступала, металась вверх и вниз, в одну сторону и в другую, постоянно ощупывая пределы прозрачного застенка.
Улыбка продолжала блуждать по губам Алана, пока он зачарованно созерцал этот ничтожный кусочек колоссального, доисторического беззаконного целого, уловленный им в пещере и не успевший ускользнуть вслед за основной массой вниз, в глубины земли. Интересно, этот отдельный фрагмент – он разумный, как и родительское тело, или все-таки нет?
Алан не был уверен, но подозревал, что это малюсенькая частица неизмеримо большего разума заставляла прядку тумана столь неутомимо искать выхода. Мысль о том, что сувенир представляет собою частицу – пусть даже совсем крохотную – древнего квазибожества, доставляла ему неописуемое удовольствие.
Пнеф-Тааль ждал.
Терпеливо.
Он как раз размышлял над иррациональной стратегией добровольно возвращаться в свою тюрьму, пока не наберет достаточно массы и силы… когда внезапно обнаружил, что его снова заперли. Ничего, в один прекрасный день – возможно, годы, века или тысячелетия спустя, в далеком будущем, оковы снова падут, и он сможет утолить свой всепоглощающий, неиссякаемый голод. О, такой день точно настанет, Пнеф-Тааль знал это. И той же ошибки он больше не повторит.
Нил Гейман. Шогготское особое, выдержанное
Бенджамин Ласситер неотвратимо приближался к выводу, что женщина, написавшая «Пешком вдоль Британского побережья» (книгу, обитавшую ныне у него в рюкзаке), в жизни не была ни на одной пешей экскурсии, а Британское побережье не узнала бы в упор, даже если бы оно протанцевало через ее спальню во главе духового оркестра, во все горло распевая: «Эге-гей, я – Британское побережье!», – и аккомпанируя себе на детской дуделке.
Он уже пять дней пытался следовать ее советам, но вместо потрясающих впечатлений заработал только сбитые в пузыри ноги и больную спину.
В любом приморском курортном городке Британии найдется немало частных отельчиков системы «ночлег-и-завтрак», хозяева которых будут вне себя от счастья приютить вас «не в сезон», – гласил один из ее перлов. Бен жирно перечеркнул этот абзац и написал рядом на полях: В любом приморском курортном городке Британии найдется немало частных отельчиков системы «ночлег-и-завтрак», хозяева которых в последний день сентября отваливают в Испанию, Прованс или еще куда-нибудь – и запирают заведения на замок!
Это была не единственная пометка на полях. Другие гласили:
Не надо упорно заказывать яичницу в каждой придорожной забегаловке – ни при каких обстоятельствах; и
Да что у них с этими фиш-энд-чипсами?[61] и
Нет, ничего подобного.
Эта последняя ремарка относилась к абзацу, где утверждалось, что если и есть на свете зрелище, которому жители живописных приморских деревень будут рады всегда, так это молодой американский турист, путешествующий пешком. Пять – пять! – адских дней Бен брел от деревни к деревне, хлебал сладкий чай и растворимый кофе в забегаловках и кафе, уныло пялился на серые скалы и шиферного оттенка море, дрожал в своих двух свитерах один на другой, мокнул, зябнул и почему-то не встречал ни одного из обещанных бесподобных видов.
Сидя на автобусной остановке, чьим гостеприимством им со спальником пришлось воспользоваться в эту ночь, он затеял переводить ключевые слова в проклятом путеводителе: «пленительный», решил он, на самом деле означает «ничем не примечательный»; «живописный» – «отвратительный, но вид ничего, если, конечно, дождь хоть на минуту перестанет»; а «восхитительный» – «мы никогда там не были и не знаем никого, кто был». Кроме того, Бен пришел к выводу, что чем экзотичнее деревня называется, тем она однозначно тупее.
Вот так и вышло, что на пятый день своих странствий Бен Ласситер забрел куда-то к северу от Бутла, в деревеньку Иннсмут, которая не значилась в путеводителе ни пленительной, ни живописной, ни, к счастью, даже восхитительной. Ни ржавеющий пирс, ни горы гниющих омаровых вершей на галечном пляже тоже не нашли в нем отражения.
На набережной обнаружились сразу три мини-отельчика, бок о бок друг с другом: «Вид на море», «Mon Repose»[62] и «Шуб Ниггурат». У каждого в окне первого этажа красовалась неоновая вывеска «Есть места» – как и следовало ожидать, выключенная, а к двери было прикноплено объявление «Закрыто до начала сезона».
Работающие кафе на набережной отсутствовали подчистую. На одиноком заведении с фиш-энд-чипсами висела немудрящая табличка «Закрыто». Бен честно подождал, пока они откроются. Серый день постепенно утонул в сумерках. Наконец маленькая, слегка лягушкоротая леди пришла по дороге и отперла дверь закусочной. Бен спросил, когда у них рабочие часы. Она поглядела на него озадаченно.
– Сегодня понедельник, милый. По понедельникам мы никогда не работаем, – сказала она, вошла внутрь и захлопнула за собою дверь, оставив Бена, голодного и холодного, на крыльце.
Он вырос в засушливом городке в северном Техасе. Единственная вода там встречалась в бассейнах на задних дворах, а единственный способ путешествовать был на грузовике с кондиционером. Неудивительно, что идея пешего тура вдоль моря, в стране, где вроде бы тоже говорят на английском, правда каком-то странном, так ему приглянулась. Бенов родной городишко был на самом деле дважды сухой: он страшно гордился тем, что ввел запрет на алкоголь еще за долгие годы до того, как остальная Америка добровольно запрыгнула на эти галеры, – да так его и не снял. Про пабы Бен в итоге знал только то, что это рассадники греха – навроде баров, только зовутся поуютнее. Авторша «Пешком вдоль побережья», однако, утверждала, что ничего не сравнится с пабом по части местного колорита и актуальной информации, что там надо непременно по очереди платить за выпивку для всей компании и что в некоторых даже кормят.
Иннсмутский паб назывался «Книга мертвых имен»; вывеска над входом сообщила Бену, что владел им некий А. Аль-Хазред, обладавший лицензией на торговлю винами и крепкими спиртными напитками. Бен задумался, значит ли это, что тут подают блюда индийской кухни? Он пробовал такие в Бутле, и ему понравилось. Потом он ненадолго завис перед табличками, предлагавшими отправить гостя на выбор в «Публичный бар» или в «Бар-Салон». Интересно, британские «публичные бары» – они, наверное, частные, как «публичные школы»…[63] В итоге он повернул в бар-салон: все-таки салун – это что-то родное, из вестернов. Там оказалось почти пусто. Пахло прошлонедельным пивом, разлитым да так и не вытертым, и позавчерашним сигаретным дымом. За стойкой виднелась пухлая крашеная блондинка. В углу восседала парочка джентльменов в длинных серых дождевиках и шарфах. Они играли в домино и потягивали из рифленых стеклянных кружек нечто темно-коричневое, пивообразное, увенчанное плотной пенной шапкой.
Бен направился прямиком к стойке.
– Вы тут еду подаете? – осведомился он.
Барная дева почесала нос и неохотно признала, что да, возможно, могла бы сделать ему крестьянский. Бен по правде понятия не имел, что бы это могло быть, и в сотый раз проклял «Пешком вдоль побережья» за то, что туда не включили англо-американский разговорник.
– Это еда? – на всякий случай спросил он.
Она кивнула.
– О’кей, давайте один.
– Пить что будете?
– Кока-колу, пожалуйста.
– Нет у нас никакой кока-колы.
– Тогда пепси.
– И пепси нету.
– А чего есть-то? Спрайт? Севен-ап? Гейторейд?
Она поглядела на него тупее прежнего. Потом сказала:
– Наверное, на складе есть бутылка-другая вишневой шипучки.
– Это было бы отлично.
– Пять фунтов двадцать пенсов. Я принесу вам крестьянского, как только будет готов.
Усевшись за маленький и слегка липкий деревянный стол и откупорив нечто шипучее и химически-красное (и на цвет, и, как оказалось, на вкус), Бен подумал, что «крестьянский» – это наверняка какой-нибудь стейк. К такому выводу (окрашенному, он и сам это знал, скорее мечтами, чем знанием реалий) его подвела услужливо возникшая перед внутренним взором картина рустикального, прямо-таки буколического пахаря, погоняющего упитанных волов через свежевспаханные поля на закате… а также мысль о том, что сейчас он (со всей ответственностью и разве что совсем небольшой помощью доброжелателей) вполне мог бы самолично уговорить целого вола.
– Вот, держите ваш крестьянский, – сообщила буфетчица, ставя перед ним тарелку.
Крестьянский, оказавшийся на поверку квадратным ломтем едкого на вкус сыра вкупе с листком салата, помидором-недорослем с отчетливым отпечатком большого пальца, горкой чего-то сырого, коричневого и напоминавшего вкусом подкисший джем, и небольшой черствой, чтобы не сказать, каменно-твердой булочкой, стал для Бена, и без того уже решившего, что в Британии еда считается своего рода карой, печальным разочарованием. Он кое-как сжевал сыр и салат и от души проклял каждого крестьянина в этой стране, добровольно питающегося такими помоями.
Между тем джентльмены в углу прикончили свое домино, встали и, подойдя к Бенову столику, решительно уселись рядом.
– Вы чего такое пьете? – спросил один, с любопытством разглядывая красную жидкость в стакане.
– Вишневую шипучку, – отозвался Бен. – Это что-то явно с химической фабрики.
– Забавно, что вы такое говорите, – заметил тот из двух, что покороче. – Потому что у меня был друг на химической фабрике, так он, представьте, никогда вишневую шипучку не пил.
Он сделал драматическую паузу и отхлебнул своего бурого напитка. Бен подождал, не скажет ли он еще чего-нибудь, но тема, судя по всему, на этом оказалась исчерпана. Беседа встала.
– А вы, ребята, чего пьете? – спросил в свою очередь Бен, в основном из вежливости.
Тот, что повыше, весьма мрачного вида, прямо-таки просиял.
– Чрезвычайно любезно с вашей стороны. Мне, пожалуйста, пинту шогготского особого, выдержанного.
– И мне тоже, – встрял его друг. – Я вполне себе готов уговорить пинту шогготского. А что, отличный рекламный слоган вышел бы: «Уговорю шоггота!» Надо будет им написать и предложить. Уверен, они дико обрадуются.
Бен двинулся к стойке, намереваясь спросить две пинты шогготского особого, выдержанного и стакан воды себе, – и обнаружил, что буфетчица уже услужливо нацедила три пинтовых кружки темного пива. Ну что ж, подумал он, что в лоб, что по лбу – один черт, к тому же ничего хуже вишневой шипучки природа еще не придумала. Он попробовал: пиво обладало вкусом, который рекламщики, видимо, описали бы как «насыщенный», чтобы не сказать «полнотелый». Правда, если на них как следует нажать, парни наверняка бы признались, что искомое тело принадлежало, скорее всего, козлу.
Он заплатил за напитки и проманеврировал обратно к своим новым друзьям.
– Итак, что же вы делаете в Иннсмуте? – поинтересовался высокий. – Полагаю, вы – один из наших американских кузенов и приехали поглядеть на знаменитые английские деревеньки.
– Они там, в Америке, даже одну назвали в честь нашей, – заметил коротенький.
– А что, в Штатах тоже есть Иннсмут? – удивился Бен.
– Выходит, что да. Он о нем все время писал – тот, чье имя мы не называем.
– Простите? – не понял Бен.
Маленький оглянулся через плечо и очень громко прошипел:
– Г. Ф. Лавкрафт!
– Я тебе уже говорил не произносить это имя, – отрезал его друг и глотнул темного бурого пива. – Ага, Г. Ф. Лавкрафт. Чертов Г. Ф. Лавкрафт. Чертов Г. Чертов Ф. чертов Лав и чертов Крафт.
Ему даже умолкнуть пришлось, чтобы перевести дыхание.
– Да что он знал о нас? Ась? Я хочу сказать, что он, к чертовой матери, вообще знал?
Бен тоже хлебнул пива. Имя звучало как-то смутно знакомо; вроде бы он встречал его, когда рылся в куче старого винила у папаши в гараже.
– А это разве не рок-группа?
– Скажете тоже, рок-группа. Писатель это был.
Бен пожал плечами.
– Никогда про такого не слышал. Я на самом деле в основном вестерны читаю. И технические руководства.
Маленький пихнул локтем в бок длинного.
– Видал, Уилф? Он о нем никогда не слышал.
– Ничего плохого в этом нет, – возразил тот. – Я, может, тоже Зейна Грея[64] раньше читал.
– Ну и нечем тут гордиться. Этот парень… как, ты говоришь, тебя звать?
– Бен. Бен Ласситер. А вы…
Маленький улыбнулся. Что-то он совсем на лягушку похож, подумал про себя Бен.
– Я Сет. А вот этот мой друг прозывается Уилфом.
– Рад, – брякнул Уилф.
– Привет! – сказал Бен.
– Честно говоря, – продолжал малыш, – я с вами согласен.
– Согласны? – Бен ошарашенно уставился на него.
Тот кивнул.
– Ну да. Г. Ф. Лавкрафт. Понятия не имею, из-за чего весь шум. Да он, на фиг, писать не умел!
Он шумно прихлебнул стаута[65] и слизал пену с губ на диво длинным и гибким языком.
– Да вы для начала хоть поглядите, какие он слова выбирает. Вот, скажем, «энигматический». Вы вообще знаете, что это такое?
Бен только головой покачал. Кажется, он тут обсуждает литературу с двумя совершенно незнакомыми дядьками в английском пабе – и пьет при этом, прошу заметить, пиво… Бен на всякий случай проверил, не превратился ли он вдруг по недосмотру в кого-то еще, совсем другого. Однако, чем глубже в стакан, тем менее гадким становилось пиво – более того, оно уже почти стерло вездесущее послевкусие вишневой шипучки.
– Энигматический. Дикий это значит. Странный, особенный, на фиг чокнутый – вот что это такое. Я сам в словаре смотрел. А «выгибистый» про луну – это вот как?
Бен снова покачал головой.
– Это если луна уже почти полная, но не совсем. А что насчет этих, как он там нас всегда звал, а? Нет, не твари. Да как же его… На «б» начинается. Так и вертится на языке.
– Байстрюки? – предложил Уилф.
– Да какие там… Ну, ты знаешь. А! Во – батрахиане[66]. Имеется в виду, на лягушек похожие.
– Да погоди, – осадил его Уилф. – Я думал, это типа как верблюды[67].
Сет яростно затряс головой.
– Нет, точно лягушки. Не верблюды – лягушки!
Уилф от души приложился к шогготскому. Бен осторожно отхлебнул своего, безо всякого удовольствия.
– И чего? – спросил он.
– У них два горба, – сообщил Уилф, это который повыше.
– У лягушек? – уточнил Бен.
– Не. У батрахианов. А между тем у нормального верблюда-дромадера – у него один… Это для длинного путешествия через пустыню. Вот чего они едят!
– Лягушек? – уточнил Бен.
– Верблюжачьи горбы! – Уилф выкатил на Бена желтый глаз. – Ты меня слушай, парнишка-плутишка. Потаскаешься недельки три-четыре по бесследной пустыне, тарелка жареных верблюжачьих горбов покажется тебе ой какой лакомой.
– Да ты в жизни верблюжьего горба не едал! – оскорбительно вставил Сет.
– Но мог бы, – скромно заметил Уилф.
– Мог бы, а не едал. Ты даже в пустыне-то никогда не был.
– Ну, если поднапрячь воображение и представить, что я ходил в паломничество к гробнице Ньярлахотепа…
– Это черного владыки древних, что грядет в нощи с востока, и всякий увидевший его не узнает?
– Естественно!
– Это я так, проверял.
– Глупый вопрос, если кому интересное мое мнение.
– А вдруг ты про кого еще говоришь, с тем же именем?
– Ну, имечко-то не то чтобы сильно распространенное, а? Ньярлахотеп. Второго такого нечасто увидишь. «Здорово, меня кличут Ньярлахотепом, какое совпадение вас тут встретить, прикольно, что нас таких двое»? Вот уж не думаю. Короче, блуждаешь ты эдак по своим бесследным пустыням, думаешь себе, вот, мол, навернуть бы сейчас верблюжачьего горба…
– Но ты же не блуждал, так? Ты даже из иннсмутской гавани ни разу не выходил.
– Ну… нет.
– Вот! – Сет победоносно воззрился на Бена, потом наклонился и зашептал ему в самое ухо:
– Боюсь, он когда пропустит пару кружечек, всегда такой делается.
– Я, между прочим, все слышу, – вставил Уилф.
– Отлично, – сказал Сет. – Так о чем это мы? Ага, Г. Ф. Лавкрафт. От него ведь чего жди… Гм. Ну, скажем, вот: «Выгибистая луна висела низко над энигматическими батрахианами, населявшими сквамозный Далвич». Вот что это такое? Я вас спрашиваю, что это такое? А я вам скажу, что этот гад имел в виду! А имел он в виду, что чертова луна была почти полная, а в Далвиче обитали одни только растреклятые лягушки. Вот и все, делов-то!
– А что там с этой другой штукой, про которую ты сказал? – вопросил Уилф.
– Это про какую?
– Сквамозную. Енто вообще что?
– Понятия не имею. – Сет пожал плечами. – Но у него такого добра навалом.
Воцарилась долгая пауза.
– Я вообще-то студент, – разродился внезапно Бен. – Буду металлургией заниматься.
Каким-то образом он успел прикончить всю пинту шогготского особого, выдержанного – свой первый в жизни алкоголь, осознал он со смесью ужаса и восхищения.
– А вы, парни, чем занимаетесь?
– Мы – аколиты, – сказал Уилф.
– Великого Ктулху, – с гордостью добавил Сет.
– Да ну? – поразился Бен. – И что же это значит?
– Погодите-ка, – заявил длинный. – Мой раунд.
Он нанес визит барменше и возвратился еще с тремя пинтами.
– Ну, – пояснил он, – сейчас это не то чтобы сильно много значит. Аколитство – это вам не какая-нибудь полная занятость в разгаре сезона. Все, конечно, потому что он спит. Ох, ну не прямо спит. Если уж называть вещи своими именами, больше похоже на умер.
– У себя в чертоге, в погрузившемся в бездны Р’льехе, мертвый Ктулху почивает и видит сны, – вмешался Сет. – Или, как сказал поэт, то не мертво, что вечность охраняет…
– Смерть вместе с вечностью… – продекламировал Уилф. – А под вечностью он, надо понимать, подразумевал чертову прорву времени…
– Да! Мы тут не про какое-нибудь ваше нормальное время талдычим… Так вот, Смерть вместе с вечностью порою умирает!
Бен с легким изумлением обнаружил, что уговаривает уже вторую полнотелую пинту шогготского особого, выдержанного. Характерный козлиный привкус уже не казался ему таким уж отвратным. Он даже с удовольствием отметил, что больше не голоден и что натертая до пузырей нога уже не саднит – да и собутыльники, чьи имена у него правда слепились в одно, оказались просто чудесными парнями, очень умными, обаятельными. А опыта возлияний у мальчика было, прямо скажем, недостаточно, чтобы признать во всем происходящем типичные симптомы второй пинты шогготского особого, выдержанного.
– Так что вот прямо сейчас, – сказал Сет… а, может быть, Уилф, – обязанностей у нас совсем немного. По большей части мы ждем.
– И молимся, – вставил Уилф… если он, конечно, не был Сетом.
– И молимся. Но уже очень скоро все изменится.
– Да? – обрадовался Бен. – А почему?
– Ну, – заговорщически сознался тот, что повыше, – в любой момент Великий Ктулху (ныне считающийся временно почившим) – это который наш босс! – может пробудиться в своей подводной типа-как-штаб-квартире.
– И тогда, – подхватил коротенький, – он потянется и зевнет, и станет одеваться…
– Может, в туалет пойдет – лично меня бы это совсем не удивило…
– Газетку наверняка почитает…
– И вот, совершив все это, восстанет он из пучины морской и пожрет весь мир без остатка…
Эту перспективу Бен счел невыразимо забавной.
– Прямо как я – этот крестьянский! – воскликнул он.
– Именно! Именно! Превосходно сказано, мой юный американский джентльмен! Великий Ктулху проглотит мир одним махом, как этот крестьянский сэндвич, оставив только лужицу Брэнстоновского чатни на краю тарелки.
– Это вот та бурая штука? – заинтересовался Бен.
Друзья заверили его, что это она и есть, и он радостно поскакал в бар и поставил всей компании еще по пинте шогготского особого, выдержанного.
Какой поворот беседа приняла дальше, он не запомнил. Вроде бы он разделался со своей пинтой, и новые приятели пригласили его совершить пешую экскурсию по деревне, любезно знакомя по пути со всякими достопримечательностями.
– Вот тут мы видео напрокат берем, а вон то громадное здание по соседству – это Безымянный Храм Невыразимых Божеств. По субботам у нас в крипте благотворительные базары…
Бен в ответ поделился тем, что думает о путеводителях, и заверил (очень эмоционально) что Иннсмут – место одновременно живописное и пленительное, такое нечасто встретишь. Еще он сообщил им, что они – самые лучшие друзья на свете, а эта их деревня – так и вообще восхитительная!
Луна стояла почти полная, и в бледном ее сиянии оба его новых товарища примечательно смахивали на лягушек. Или, возможно, на верблюдов. Они втроем дошли до конца проржавевшего пирса, и Сет – а, возможно, и Уилф – показал Бену развалины затонувшего Р’льеха в заливе – четко различимые в потоке лунного света под зеркалом моря, а Бена внезапно скрутил, как он упорно потом утверждал, внезапный и непредвиденный приступ морской болезни, и его долго и жестоко тошнило через железные поручни прямо в черное ночное море…
Дальше все обернулось как-то совсем странно.
Бен Ласситер проснулся на холодной земле, на склоне холма. Голова у него раскалывалась, во рту было погано; под затылком обнаружился рюкзак. Кругом во все стороны расстилалась скалистая пустошь безо всяких признаков деревень – будь они живописные, пленительные, восхитительные или даже колоритные. До ближайшей дороги ему пришлось прохромать почти милю, а дальше – по ней, до бензоколонки.
Там ему сказали, что нигде поблизости отродясь не было селения под названием Иннсмут, да еще с пабом «Книга Мертвых Имен». Он попробовал рассказать им о своих друзьях, Сете и Уилфе, и еще об одном их друге, по имени Странный Иэн, который вроде бы где-то спит и, кажется, в море… если, конечно, не умер. Ему в ответ сказали, что тут не очень-то уважают американских хиппи, которые шляются по округе да жрут наркотики, и что ему наверняка станет лучше после доброй чашки чаю и сэндвича с тунцом и огурцом, но если он твердо намерен продолжать шляться по округе и жрать наркотики, так молодой Эрни, который работает во вторую смену, с радостью снабдит его славненьким пакетиком дури с домашнего огорода, так что заходите после обеда.
Бен вытащил «Пешком вдоль Британского побережья» и попробовал найти в нем Иннсмут, чтобы доказать всем и каждому, что он его точно не выдумал, – но не смог отыскать страницу, на которой тот был… если она вообще когда-то существовала. Зато он обнаружил страницу, большую часть которой кто-то неаккуратно оторвал – где-то в середине книги.
После этого Бен позвонил в такси, и его отвезли в Бутл, на станцию, где он сел на поезд, доехал на нем до Манчестера, там пересел на самолет, который доставил его в Чикаго, где он сел на другой самолет и долетел до Далласа, а там еще на другой, направлявшийся на север, потом взял в прокате машину и, наконец, добрался до дома.
Уверенность в том, что между океаном и тобой – по меньшей мере шестьсот миль, почему-то очень утешала его всю оставшуюся жизнь. Став постарше, он даже перебрался в Небраску, еще дальше от моря… но той ночью, под старым пирсом, Бенджамин Ласситер увидел – или думал, что увидел, – нечто такое, что ему уже никогда не удастся забыть. Бывает, что под серыми дождевиками скрывается то, чего человеку знать не положено. Не нужно ему этого знать. Всякие сквамозные вещи. И нет нужды искать в словаре это мудреное слово – с ними и так все ясно. Именно что сквамозные.
Через пару недель по возвращении домой, Бен отправил свой аннотированный экземпляр «Пешком вдоль Британского побережья» по почте автору – через издательство, они такое делают, – присовокупив к нему письмо с рядом рекомендаций для дальнейших переизданий. Еще в нем он спрашивал писательницу, не согласится ли она прислать копию страницы, которую вырвали из его книги, чтобы успокоить, наконец, его сомнения, – и испытал тайное облегчение, когда дни стали превращаться в месяцы, месяцы – в годы, а те – в десятилетия, а она ему так и не ответила.
О составителе
Роберт М. Прайс – редактор журнала «Крипта Ктулху» и один из самых известных специалистов и издателей Лавкрафта в мире. Будучи видным американским теологом, он придерживается особого взгляда на произведения Г. Ф. Лавкрафта и сотрудничает с писателями самых разных стилей и направлений.
Примечания
1
Дебби Харри (р. 1945) – солистка американской рок-группы «Блонди», основанной в 1974 г. – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
REM (Rapid Eyes Movement) – американская рок-группа, основанная в 1980 г. и распавшаяся в 2011-м.
(обратно)3
Матф. 18:3 («…и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»).
(обратно)4
«Давайте договоримся» – американское игровое шоу, впервые вышедшее на экран в 1960-х гг. Гик – сленговый термин, изначально обозначавший эксцентричного, не затронутого культурой мейнстрима человека. Со временем значение сместилось в сторону интеллектуала не от мира сего.
(обратно)5
НекрономиКон Провиденс – международная конвенция и фестиваль странной литературы и искусства, проводимые в г. Провиденс (штат Род-Айленд).
(обратно)6
Люси и Шредер – персонажи комикса «Арахис», основанного Чарльзом Шульцем в 1951 г.
(обратно)7
Джерри Льюис (р. 1926) – американский актер, певец, сценарист и режиссер.
(обратно)8
Пастиш – вторичное литературное произведение, повторяющее и развивающее сюжетную линию, контекст и персонажей первичного, авторского.
(обратно)9
«Мистерии Червя» – вымышленный гримуар, созданный Робертом Блохом и включенный Лавкрафтом в мифологию Ктулху.
(обратно)10
Мискатон – вымышленный университет, расположенный в вымышленном городе Архам (округ Эссекс, штат Массачусетс). Впервые фигурировал в произведениях Лавкрафта в 1922 г.
(обратно)11
Пожиратели младенцев (греч. – лат.).
(обратно)12
Людвиг Принн – вымышленный автор гримуара «Мистерии Червя», впервые упомянутого в рассказе Роберта Блоха «Звездный бродяга» (1935). Алхимик, некромант и маг, изучавший тайные искусства в Египте и Сирии в XIII веке, он достиг невероятного для человека возраста, а затем был сожжен на костре в Брюсселе на пике преследований ведьм (в конце XV – начале XVI вв).
(обратно)13
Епископы (лат.).
(обратно)14
Иоганн Нидер (ок. 1380–1438) – немецкий теолог. Пятый том его фундаментального трактата «Формикарий» («Муравейник») посвящен колдовству и дьявольщине. В нем рассказывается о буднях бернского инквизитора конца XIV века, среди прочих своих подвигов поймавшего колдуна-детоубийцу.
(обратно)15
Водун (вуду и др.) – изначально традиционная западноафриканская религия, распространенная на территории Бенина, Ганы и Того, положившая начало религиям афро-карибского круга в США, Центральной и Южной Америке. Основана на поклонении и живом общении верующих с духами-лоа при помощи магии и одержимости.
(обратно)16
Раста (растафарианское движение) – религия авраамического типа, развившаяся на Ямайке в 30-х гг. XX века, основана на поклонении императору Хайле Селассие I (правил с 1930 по 1974 г.).
(обратно)17
Друг мой (фр.).
(обратно)18
Марди-Гра (Жирный Вторник) – праздник и карнавал в последний день перед Пепельной Средой и началом Великого поста.
(обратно)19
Цитата из «Затаившегося у порога» – повести Августа Дерлета и Говарда Филлипса Лавкрафта, опубликованной в 1945 г.
(обратно)20
Обеа – еще одна из религий афро-американского круга.
(обратно)21
«Добрый день» (фр.).
(обратно)22
Веве – в вуду графический религиозный знак, служащий символом лоа во время религиозной церемонии и, подобно маяку, призывающий его к месту действия.
(обратно)23
Папа Легба – великий лоа-посредник между миром духов и миром людей; дух общения, речи и понимания. Огун – лоа-воин и кузнец. Эрзули – лоа женского пола, покровительница любви, красоты, роскоши; супруга Огуна и Дамбаллы. Дамбалла – Небесный Отец и творец всей жизни, изображается часто в виде змея.
(обратно)24
Глоссолалия – «говорение на языках»; речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, но, тем не менее, имеющая некоторые признаки осмысленного нарратива (темп, ритм, структура слога и т. д.). Наблюдается у людей в состоянии сна, транса и при некоторых психических заболеваниях.
(обратно)25
Барон Самди (Барон Суббота) – лоа мертвых. Изображается обычно в черном фраке, цилиндре и солнечных очках; нередко как скелет.
(обратно)26
Баал – собирательное «бог, господь» в западно-семитских религиозных традициях. Позднее – бог солнечного света, бог-творец и др. в Угарите, Финикии, Израильском царстве и Иудее. Еще позднее – один из гоэтических демонов. Ашера – богиня-мать в семитской мифологии.
(обратно)27
Клод Леви-Стросс (1908–2009) – французский этнолог, социолог и культуролог.
(обратно)28
Виктор Тернер (1920–1983) – английский и американский антрополог.
(обратно)29
Ндембу – ариканское племя, проживающее на территории современной Замбии.
(обратно)30
«Эль» (от «elevated railroad») – надземная железная дорога.
(обратно)31
Противопризывные бунты – массовые народные волнения в Нью-Йорке, длившиеся несколько дней (с 13 по 16 июля 1863 года) и связанные с принятым Конгрессом законом о призыве мужчин на Гражданскую войну между Северными и Южными штатами. Фактически превратились в межрасовое столкновение и избиение чернокожих.
(обратно)32
Имеется в виду бунт, случившийся 10 мая 1849 года. Начало ему положил спор между американским актером Эдвином Форрестом и английским актером Уильямом Чарльзом Макриди о том, кто из них лучше играет шекспировские роли.
(обратно)33
Уильям Сибрук (1884–1945) – американский оккультист, путешественник, исследователь и журналист.
(обратно)34
Доггерель – изначально форма неравносложного, «вольного» стиха в старой английской поэзии; также любые скверные, нескладные стишки.
(обратно)35
Джозеф Бэнкс Рейн (1895–1980) – американский ботаник и парапсихолог, основатель парапсихологической лаборатории в Дьюкском университете и ряда других организаций, автор книг «Экстрасенсорное восприятие» и «Парапсихология: пограничная наука о разуме».
(обратно)36
«Вампирские культы» (фр.).
(обратно)37
«Великая черная книга» (гэльск.).
(обратно)38
На месте преступления (лат.).
(обратно)39
Битва в лесу Белло (1918) – первое крупное германо-американское сражение Первой мировой войны.
(обратно)40
Сардоническая улыбка (лат.).
(обратно)41
Господин доктор (фр.).
(обратно)42
Джордж Беркли (1685–1753) – английский философ, основоположник субъективного идеализма в противоположность сенсуализму Джона Локка. Также епископ Клойнский.
(обратно)43
Элеаты – древнегреческая философская школа VI–V вв. до н. э., разрабатывавшая теоретическое учение о бытии и заложившая основы классической греческой онтологии.
(обратно)44
Чарльз Говард Хинтон (1853–1907) – британский математик и автор научно-фантастических книг.
(обратно)45
Джон Нокс (ок. 1510–1572) – радикальный шотландский религиозный реформатор, заложивший основы пресвитерианской церкви.
(обратно)46
Сэмюэль Джонсон (1709–1784) – английский поэт, эссеист, моралист, литературный критик, лексикограф и т. д. Родился в Личфилде.
(обратно)47
Уильям Моррис (1834–1896) – британский промышленный дизайнер, поэт, писатель, переводчик и общественный деятель, сделавший большой вклад в движение Искусств-и-Ремесел.
(обратно)48
Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) – итальянский археолог, архитектор и график, мастер архитектурных пейзажей.
(обратно)49
Артур Шопенгауэр (1788–1860) – немецкий философ-метафизик и иррационалист.
(обратно)50
По всей видимости, имеется в виду Джозайя Ройс (1855–1916) – американский философ, приверженец объективного идеализма.
(обратно)51
Марк Анней Лукан (39–65) – римский поэт. Амфисбена упоминается в единственной дошедшей до наших дней его поэме, «Фарсалия, или О гражданской войне». Амфисбена – чудовищная змея с головами по обоим концам тела, родившаяся из крови убитой Персеем Горгоны. О ней писали также Плиний, Аполлодор и Эсхил.
(обратно)52
«Фантастические древние народы» (лат.).
(обратно)53
Маневры (фр.).
(обратно)54
Утрированное (фр.).
(обратно)55
Николя Эдм Ретиф де ла Бретон (1734–1806) – плодовитый французский писатель, автор, в частности, эротического романа «Анти-Жюстина».
(обратно)56
Вор (фр.).
(обратно)57
Хозяин, господин (ит.).
(обратно)58
Дорогой друг (ит.).
(обратно)59
Эту вещь (ит.).
(обратно)60
Пока, дружище! (ит.)
(обратно)61
Рыба-с-картошкой – традиционный британский фаст-фуд, обычно представляющий собой филе трески в пивном кляре с жареной картошкой, соусом тартар и гороховым пюре. Встречается от ресторанов средней руки до дешевых забегаловок и бывает разной степени съедобности.
(обратно)62
«Мое отдохновение» (фр.). Или, возможно, «Мое упокоение».
(обратно)63
Публичный бар в пабе – общий бар с обслуживанием у стойки. Публичная школа – частная закрытая средняя школа.
(обратно)64
Зейн Грей (1872–1939) – американский писатель, автор приключенческих романов, заложивших основы жанра «вестерн».
(обратно)65
Пиво в целом делится на следующие четыре основные категории: лагер, эль, портер и стаут, отличающиеся друг от друга технологией производства, цветом, вкусом и крепостью. Стаут – темное, довольно крепкое пиво с богатым букетом.
(обратно)66
Земноводные, бесхвостые амфибии (др. – греч.).
(обратно)67
Уилф спутал батрахиан с бактрианами – двугорбыми верблюдами.
(обратно)


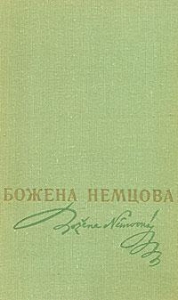

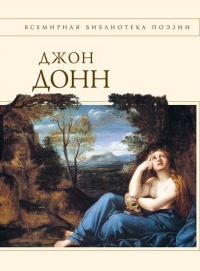

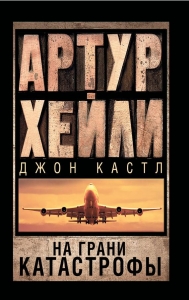
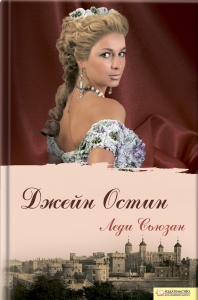
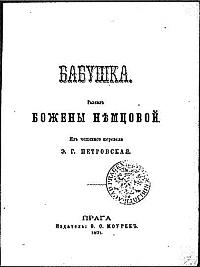


Комментарии к книге «Культ Ктулху», Джозеф Пейн Бреннан
Всего 0 комментариев