Стефан Цвейг Мария Антуанетта
© Л. Миримов (наследник), перевод, хронологическая таблица, заметка «От переводчика», примечания, именной указатель, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
* * *
Вступление
Писать историю королевы Марии Антуанетты – значит поднять материалы событий более чем столетней давности, событий, в которых диалог обвинения и защиты горяч и ожесточен. В страстном тоне дискуссии повинно обвинение. Чтобы поразить королевскую власть, Революция задела королеву, а в королеве – женщину. Правдивость и политика редко уживаются под одной крышей, и там, где для демагогических целей надо создать некий образ, от услужливых приспешников общественного мнения справедливости ожидать не приходится. Никакими средствами, никакой клеветой не гнушаются враги Марии Антуанетты, чтобы бросить ее под нож гильотины, любой порок, любые отклонения от моральных норм, любого вида половые извращения беззастенчиво приписываются этой louve autrichienne[1], они смакуются в газетах, брошюрах, книгах. Даже в Доме правосудия[2], в зале суда, прокурор патетически сравнивает «вдову Капет»[3] с самыми развратными женщинами мировой истории: с Мессалиной, Агриппиной и Фредегондой. Когда же в 1815 году один из Бурбонов вновь занимает французский престол[4], происходит резкий перелом. Чтобы польстить династии, демонизированный образ подмалевывается красками на елее, нимб святости, облака фимиама становятся обязательными элементами всех портретов, всех характеристик королевы. Хвалебный гимн следует за хвалебным гимном, добродетель Марии Антуанетты берется под яростную защиту, ее дух самопожертвования, ее доброта, ее безупречный героизм воспеваются в стихах и прозе. И щедро увлажненная слезами умиления, сотканная руками аристократов вуаль вымыслов окутывает блаженный лик reine martyre – королевы-мученицы.
Психологическая правда, как всегда, находится где-то посередине. Мария Антуанетта не была ни великой святой, ни распутной девкой, grue. Эти образы выдуманы роялизмом и Революцией. Она была ординарным характером, по существу обычной женщиной, ни очень умной, ни очень глупой, ни пламенем, ни льдом, не тянулась к добру, не стремилась к злу, заурядная женщина прошлого, настоящего и будущего, без склонности к демонизму, без влечения к героическому и потому, казалось бы, не героиня трагедии. Однако История, этот великий демиург, вовсе не нуждается в героическом характере главного действующего лица разворачиваемой ею потрясающей драмы. Чтобы возникла трагическая напряженность, мало только одной исключительной личности, должно быть еще несоответствие человека своей судьбе. Ситуация может стать драматической, когда выдающийся человек, герой, гений вступает в конфликт с окружающим миром, оказавшимся слишком узким, слишком враждебным тем задачам, которые этот человек в состоянии решать. Вот примеры тому: Наполеон, задыхающийся на клочке земли Святой Елены, Бетховен, замурованный в своей глухоте. Подобное происходит всегда и всюду, когда любая великая личность не в состоянии полностью проявить себя. Но трагическая ситуация возникает и в тех случаях, когда ничем не примечательный или даже слабый характер оказывается в чрезвычайных условиях, когда личная ответственность подавляет, уничтожает его, и, пожалуй, по-человечески эта форма трагического представляется мне наиболее волнующей. Ибо исключительный человек инстинктивно ищет исключительной судьбы. В природе его необычайного характера – потребность жить героически, или, как говорил Ницше, «опасно»; такой человек в силу присущих ему огромных притязаний насильственно вызывает мир на их удовлетворение. Таков гениальный характер, в конечном счете не виновный в своих страданиях, ибо ниспослание ему этих испытаний огнем мистически требует полной отдачи всех внутренних сил: словно буря – чайку, могучая судьба поднимает его все выше и выше. Средний же характер, напротив, по природе своей предназначен к мирному укладу жизни, он не хочет, он совсем не нуждается в большой напряженности, он предпочел бы мирно жить в тени, в безветрии, при самом умеренном накале судьбы. Поэтому он защищается, поэтому он страшится, поэтому обращается в бегство, когда невидимая рука толкает его в пучину. Он не стремится к исторической ответственности, напротив, бежит ее, он не ищет страданий, они сами находят его; не внутренние, а внешние силы побуждают его быть более значимым, чем это присуще ему. Эти страдания негероя, среднего человека из-за того, что он не может выразить своих чувств, представляются мне не менее глубокими, чем патетические страдания истинного героя, они, пожалуй, даже более сильны, более потрясающи, ибо обыкновенный человек все это должен пережить в себе, он не обладает, подобно художнику, спасительным даром претворять свои муки в произведение искусства.
Жизнь Марии Антуанетты является, таким образом, особенно убедительным примером того, как жестоко может судьба взять в оборот такого среднего человека, как может она грубой силой заставить его оказаться выше своей посредственности. Первые тридцать лет своей тридцативосьмилетней жизни эта женщина идет заурядным путем, находясь, правда, на виду у всех; ни разу не преступает она средних норм ни в хорошем, ни в дурном: индифферентная душа, ординарный характер и в историческом аспекте сначала лишь статист. Не ворвись Революция в ее безоблачно непринужденный мир-спектакль, эта женщина, незначительная сама по себе, жила бы спокойно и дальше, как сотни миллионов женщин всех времен: танцевала бы, болтала о пустяках, любила, смеялась, наряжалась, делала визиты, подавала милостыню, рожала детей и наконец тихо легла бы в постель, чтобы умереть, так и не поняв по-настоящему, для чего она жила. Подданные торжественно попрощались бы с останками королевы, был бы объявлен придворный траур, но затем королева исчезла бы из памяти людей, как и другие бесчисленные принцессы – Марии Аделаиды, Аделаиды Марии, Анны Катарины и Катарины Анны, чьи надгробия с холодными, равнодушными, никем не читаемыми надписями стоят в Готе[5]. Никогда ни одна живая душа не испытала бы потребности заинтересоваться ее личностью, ее угасшей душой, никто так и не узнал бы, кем же она в действительности была, и – это самое важное – сама Мария Антуанетта, королева Франции, не переживи она тех страданий, которые выпали на ее долю, никогда бы не поняла, кем она, собственно, являлась. Ибо счастье или несчастье ординарного человека в том, что сам он не испытывает необходимости самовыражения, не проявляет любопытства, чтобы спросить себя об этом прежде, чем судьба спросит его. Спокойно дает он дремать своим возможностям, хиреть своим дарованиям. Силы его, подобно никогда не тренированным мускулам, находятся в бездействии, пока в них нет нужды для отражения направленного на него удара. Ординарный характер нужно вывести из состояния безразличия, чтобы он стал тем, чем может стать, чтобы вскрылись те его возможности, о существовании которых он, вероятно, ранее и не подозревал; у судьбы нет для этого иного хлыста, чем несчастье. И подобно тому как художник, иногда намеренно, ищет внешне простенькую тему вместо патетически значительной, охватывающей весь мир, чтобы доказать свои творческие силы, так и судьба время от времени выбирает незначительных людей на роли героев, показывая этим, что и хрупкий материал в ее руках способен выдержать огромные напряжения, что на основе слабых и безвольных душ она в состоянии развернуть настоящую трагедию. Такой трагедией, одной из самых прекрасных среди трагедий о героях, поневоле является та, имя которой – Мария Антуанетта.
Ибо с каким искусством, с какой изобретательностью История вводит этого среднего человека в свою драму, в какие поразительные ситуации она его ставит, с каким знанием контрапунктирует контрасты вокруг этой первоначально маловыигрышной роли главного действующего лица! Сначала с дьявольским коварством она балует эту женщину. Ребенку дарит отчий дом – императорский дворец, подростку – корону, молодую женщину расточительно наделяет привлекательностью, осыпает всеми мыслимыми благами, дает ей помимо всего легкий характер и сердце, не спрашивающее о цене и значимости этих даров. На протяжении ряда лет История балует, нежит это ветреное сердце, делая его все более и более беспечным. Быстро, словно играя, судьба возносит эту женщину на головокружительную высоту счастья, и тем ужаснее, тем трагичнее будет медленное ее падение. С мелодраматической внезапностью История сталкивает лбами самые далекие крайности: из пышного, великолепного королевского дворца – в жалкую, убогую тюремную камеру, с престола – на эшафот, из золоченой кареты – в телегу палача, из роскоши – в нищету. Восторженную любовь подданных подменяет она смертельной ненавистью, непрерывный триумф – потоками клеветы. Все глубже и глубже падение, все безжалостней развязка. И, находясь в расцвете своей такой счастливой жизни, этот маленький, этот ординарный человек, это неразумное сердце под ударами рока не понимает, каковы же намерения неизвестной ему силы, а тяжелая рука мнет свою жертву, стальные когти рвут ее, этот ничего не подозревающий человек раздражается – он не привык к каким бы то ни было страданиям. Он защищается, сопротивляется, кричит в ужасе, пытается спастись бегством. Но с безжалостностью художника, который не успокоится, не доведя свой материал до максимального выражения, не лишив его малейшей возможности уйти от своей участи, мудрая рука Несчастья не отступит от Марии Антуанетты, пока не придаст этой мягкой и безвольной натуре твердость и самообладание, пока силой не извлечет все значительное, все величественное, унаследованное ею от родителей, дедов и прадедов, захороненное в тайниках ее души. Испуганная, истерзанная муками, никогда раньше не находившая времени, чтобы призадуматься над собой, эта много пережившая женщина внезапно прозревает, понимая, что с ней произошла метаморфоза; потеряв свою внешнюю власть, она чувствует, что в ней возникло нечто новое и великое, то, что не могло бы появиться без пережитого ею. «Лишь в несчастье действительно узнаешь людей» – эти гордые, эти поразительные слова неожиданно срываются с ее изумленных уст. Предчувствие нисходит на нее: именно из-за этих страданий ее маленькая, заурядная жизнь будет долго жить после нее, являя собой пример для будущих поколений. И в этом осознании высшего долга ее характер перерастает сам себя. Незадолго до того, как разобьется бренная оболочка, настоящее произведение искусства, то, которому суждено жить и жить, завершено, ибо в последние, в самые последние часы жизни Мария Антуанетта, средний человек, достигает наконец трагического масштаба и становится достойной своей великой судьбы.
Девочку выдают замуж
Многие столетия Габсбурги и Бурбоны на бесчисленных полях сражений – в Германии, в Италии, во Фландрии – дрались за господство в Европе. Наконец старые соперники устали и начали осознавать, что их ненасытное честолюбие расчищает дорогу другим династиям. Уже государство еретиков[6] с Британских островов стремится стать мировой империей, уже превращается в могучее королевство протестантское княжество Бранденбург[7], уже готовится безмерно расширить свои владения полуязыческая Россия. И вот государи-противники со своими дипломатами приходят к мысли, как всегда весьма запоздалой: а не лучше ли поддерживать друг с другом мир, вместо того чтобы снова и снова, в конечном счете ради выгод инаковерующих выскочек, развязывать роковые войны? Шуазель, министр Людовика XV, и Кауниц, канцлер Марии Терезии, разрабатывают план союза двух великих держав; для того же, чтобы этот союз стал длительным, а не дал бы простую передышку между двумя войнами, решают они, обеим династиям, Габсбургам и Бурбонам, следует породниться. В невестах у Габсбургов никогда недостатка не было. И на этот раз имеется богатый выбор невест самых разных возрастов. Сначала министры подумывают над тем, чтобы женить на габсбургской принцессе Людовика XV, не смущаясь тем, что он уже дед, да и поведения более чем сомнительного, но христианнейший король спасается бегством, юркнув из алькова мадам Помпадур в альков другой фаворитки – Дюбарри. Император Иосиф, вторично овдовев, также не обнаруживает никакого желания сватать себе какую-нибудь из трех перезрелых дочек Людовика XV. Таким образом, как наиболее естественный остается третий вариант: бракосочетание подрастающего дофина, внука Людовика XV и будущего короля Франции, с одной из дочерей Марии Терезии. В 1766 году брак дофина с одиннадцатилетней Марией Антуанеттой рассматривается уже всерьез: 24 мая австрийский посланник пишет ясно и недвусмысленно: «Король совершенно определенно высказался в том смысле, что Вы, Ваше величество, можете рассматривать проект как окончательно принятый». Но дипломаты не были бы дипломатами, если бы не считали долгом своей чести усложнять простые вещи, делать из мухи слона и затягивать решение любого важного вопроса всяческими искусными способами. При австрийском и французском дворах начинаются интриги. Проходит год, другой, третий, и у Марии Терезии не без основания появляются опасения: уж не собирается ли ее несносный сосед, Фридрих Прусский, le monstre[8], как она его в сильном ожесточении называет, расстроить своими коварными макиавеллиевскими приемами и этот план, имеющий для сохранения ведущего положения Австрии в Европе столь решающее значение. Используя все средства, силу убеждения, заискивания, лесть, она стремится заставить французский двор повторить данное им полуобещание. С неутомимостью профессиональной свахи, с упорным и настойчивым терпением дипломата приказывает она вновь и вновь превозносить в Париже достоинства принцессы; она осыпает посланников комплиментами и подарками, она ждет от них, чтобы те привезли наконец из Версаля[9] брачное предложение. Марию Терезию не останавливают предостерегающие сообщения ее посланника: природа обделила дофина многими достоинствами – он недалек, неотесан, вял. Здесь она – императрица, думающая об усилении династии, а не мать, которую заботит счастье ее ребенка. К чему эрцгерцогине счастье, если она станет королевой? Чем сильнее настаивает Мария Терезия на оформлении брачного договора, тем сдержаннее ведет себя умудренный житейским опытом Людовик XV. Три года получает он портреты маленькой эрцгерцогини и подробнейшие сообщения о ней, три года заявляет, что принципиально склоняется к положительному решению. Но предложения не делает, не связывает себя.
Между тем главный персонаж этого важнейшего государственного акта, ничего не подозревающая одиннадцати-двенадцати-тринадцатилетняя Туанетта, вытянувшаяся девочка, грациозная, стройная и, без сомнения, очень привлекательная, весело и шумно играет со своими братьями, сестрами и подругами в покоях Шёнбрунна[10] и в его садах. Занятия, книги мало интересуют ее. Своих воспитателей – гувернанток и аббата – она, подвижная как ртуть, так ловко обводит вокруг пальца комплиментами и лестью, что почти всегда избегает уроков.
Однажды Мария Терезия вдруг со страхом обнаруживает, что, обремененная государственными делами, она упустила очень важное, не уделила серьезного внимания своему выводку, своим детям, что будущая королева Франции в тринадцать лет пишет с вопиющими ошибками и по-немецки, и по-французски, не обладает даже поверхностными знаниями по истории, по географии. С музыкальным образованием дела обстоят не лучше, несмотря на то что занимается с нею не кто иной, как сам Глюк. В последнюю минуту надо наверстать упущенное: заигравшуюся, ленивую Туанетту следует превратить в образованную особу. Прежде всего очень важно, чтобы будущая королева Франции сносно танцевала и хорошо говорила по-французски. Для этой цели Мария Терезия самым спешным образом приглашает знаменитого танцмейстера Новера и двух актеров из французской труппы, гастролировавшей в Вене: одного – для занятий произношением, другого – пением. Однако, как только французский посланник сообщает об этом в Париж, из Версаля тотчас же негодующе дают понять, что будущей королеве Франции не пристало учиться чему бы то ни было у всякого сброда, у комедиантов. Срочно завязываются новые дипломатические переговоры, ибо Версаль считает воспитание предполагаемой невесты дофина уже своим делом, и после длительных обсуждений и споров по рекомендации епископа Орлеанского в Вену в качестве воспитателя посылается аббат Вермон. От него первого до нас дошли достоверные сообщения о тринадцатилетней эрцгерцогине. Он находит ее милой и симпатичной: «Имея очаровательную внешность, она сочетает в себе обаяние, грацию, умение держать себя, и когда она, как можно надеяться, физически несколько разовьется, то будет обладать всеми внешними данными, которые только можно пожелать принцессе. Ее характер и нрав – превосходны». Однако относительно фактических познаний своей воспитанницы и ее желания учиться славный аббат высказывается осторожнее. Рассеянная, несобранная, невнимательная, живая как ртуть, маленькая Мария Антуанетта, несмотря на свою сообразительность, не проявляет ни малейшей склонности заняться каким-либо серьезным предметом. «У нее больше интеллекта, чем можно было бы предполагать, но, к сожалению, из-за разбросанности в свои двенадцать лет она не привыкла его концентрировать. Немножко лени и много легкомыслия затрудняют занятия с нею. Шесть недель я преподавал ей основы изящной словесности, она хорошо воспринимает предмет, но мне пока не удалось заставить ее глубже заинтересоваться преподанным материалом, хотя я и чувствую, что способности к этому у нее имеются. Я понял наконец, что хорошо усваивает она лишь то, что одновременно и развлекает ее».
Едва ли не дословно через десять, через двадцать лет будут говорить о ней подобное все политические деятели, которым придется встречаться с нею. Они станут жаловаться на это нежелание думать при бесспорном природном уме, на это стремление уйти от серьезного разговора лишь потому, что он скучен; уже у тринадцатилетней у нее отчетливо проявляется эта опасная черта характера – всё мочь и ничего по-настоящему не желать. Но при французском дворе, с тех пор как здесь стали хозяйничать метрессы, внешние данные женщины ценятся неизмеримо выше, нежели ее интеллект, ее внутреннее содержание. Мария Антуанетта миловидна, обладает прекрасными манерами, у нее неплохой характер. Этого совершенно достаточно, и вот наконец в 1769 году Людовик XV направляет Марии Терезии столь долгожданное для нее послание – послание, в котором король торжественно просит руки юной принцессы для своего внука, будущего Людовика XVI, и предлагает дату свадьбы – Пасхальную неделю следующего года. Мария Терезия, чрезвычайно довольная, дает свое согласие; после многих полных забот лет трагически разочарованная в жизни женщина вновь переживает светлые часы. Ей уже видится умиротворение в ее империи и тем самым в Европе. Эстафеты и курьеры тотчас же торжественно оповещают все дворы, что Габсбурги и Бурбоны более уже не враги, отныне на вечные времена их будут связывать узы кровного родства. «Bella gerant alii, tu felix Austria, nube»[11] – еще раз подтверждается старая сентенция дома Габсбургов.
* * *
Таким образом, задача дипломатов, казалось бы, благополучно разрешена. Но тут только и выясняется, что сделана лишь самая легкая часть работы. Привести Габсбургов и Бурбонов к соглашению, помирить Людовика XV с Марией Терезией – это сущий пустяк по сравнению с непредвиденными трудностями, возникающими при попытках согласовать друг с другом французский и австрийский церемониалы (придворные и династические), предписанные для такого торжества. Правда, у обер-гофмейстеров и прочих фанатиков этикета обоих дворов еще целый год впереди для разработки всех параграфов чрезвычайно важного протокола, определяющего содержание и последовательность свадебных торжеств, но что значит этот короткий, всего лишь двенадцатимесячный, год для всех этих ревнителей китайских церемоний? Престолонаследник Франции женится на австрийской эрцгерцогине – какой повод для постановки и решения вопросов этикета, имеющих, конечно, мировое значение, с какой ответственностью, с какой тщательностью должна быть продумана каждая мелочь, сколько непоправимых бестактностей следует избежать, изучая для этого документы многовековой давности! Дни и ночи напролет, до головной боли размышляют в Версале и Шёнбрунне мудрые стражи обычаев и обрядов; дни и ночи посланники спорят о каждой приглашаемой на торжества персоне, курьеры высокого ранга мчатся с предложениями и контрпредложениями из Парижа в Вену, из Вены в Париж. Подумать только, какая ужасная катастрофа может произойти (что в сравнении с нею война или землетрясение!), если при свадебных торжествах окажутся задетыми или, боже упаси, оскорбленными достоинство, честь Бурбонов или Габсбургов! В бесчисленных докторских диссертациях по обе стороны Рейна обдумываются и обсуждаются такие, например, деликатные вопросы: чье имя в брачном контракте должно быть упомянуто первым – имя императрицы Австрии или короля Франции, кому первому ставить свою подпись под контрактом, какие подарки преподносить, какое приданое определять, кому сопровождать невесту, кому встречать ее, скольким кавалерам, статс-дамам, камеристкам (и какого ранга), парикмахерам, духовникам, врачам, секретарям, прачкам и какому военному эскорту следует быть в свадебной процессии эрцгерцогини на территории Австрии и кому из них – на территории Франции в процессии французской престолонаследницы? В то время как пудреные парики с обеих сторон никак не могут договориться относительно путей решения основных проблем, в Версале и Шёнбрунне, в свою очередь, словно дело идет о ключах от рая, кавалеры и дамы, защищая свои притязания древними пергаментными рукописями, уже начинают спорить друг с другом, интриговать друг против друга, наговаривать друг на друга, и все только ради чести сопровождать или встречать свадебный поезд. И хотя церемониймейстеры трудятся словно каторжные, им все же не хватает времени (разве год – это срок?), чтобы до конца решить некоторые вопросы мирового значения, а именно: о преимущественных правах при дворе и о порядке представления ко двору. Так, в последний момент из программы вычеркивается представление Марии Антуанетте эльзасской знати, дабы «исключить утомительное обсуждение некоторых вопросов этикета, на урегулирование которых нет уже времени». И не установи ранее Людовик XV совершенно определенную дату, австрийские и французские блюстители церемоний и поныне не пришли бы к соглашению относительно «правильной» формы свадебных торжеств, не было бы королевы Марии Антуанетты и не было бы, вероятно, и французской революции.
Хотя и Франции, и Австрии следовало бы быть очень и очень бережливыми, обе стороны расходов на свадьбу не жалеют. Она должна быть пышной и богатой. Габсбурги не хотят отставать от Бурбонов, Бурбоны – от Габсбургов. Обнаруживается, что дворец французского посольства в Вене слишком тесен для полутора тысяч гостей; сотни рабочих в большой спешке начинают возводить пристройки. Одновременно в Версале для свадебных празднеств строится оперный зал. Для поставщиков двора, для придворных портных, ювелиров, каретников по обе стороны границы наступают благословенные времена. Для свадебного поезда принцессы Людовик XV заказывает у парижского придворного каретных дел мастера Франсьена две дорожные кареты невиданной до сих пор роскоши: из ценных пород дерева, из сверкающего стекла, обитые изнутри бархатом, расписанные снаружи маслом, украшенные коронами, с необычайно легким ходом, на прекрасных рессорах. Для дофина и королевского двора приобретены новые парадные мундиры, украшенные драгоценностями. «Большой Питт»[12] – прекраснейший среди бриллиантов того времени – сверкает на шляпе Людовика XV, предназначенной для свадебных церемоний. С неменьшей роскошью готовит приданое своей дочери Мария Терезия: кружева, специально сплетенные в Мехельне[13], тончайшее белье, шелка, драгоценности. Наконец в Вену въезжает посланник Дюрфор – сват дофина. Какое замечательное представление для венцев, падких до подобных зрелищ: сорок восемь карет шестерней, среди них два чуда каретных дел мастера Франсьена, медленно и торжественно катят в направлении к Хофбургу[14] по украшенным гирляндами из цветов и веток улицам. Сто семь тысяч дукатов стоят одни лишь новые мундиры и ливреи ста семнадцати лейб-гвардейцев и лакеев, сопровождающих кортеж свата. Сам въезд обошелся не менее чем в триста пятьдесят тысяч. С этого момента одно празднество следует за другим: официальное сватовство, торжественное отречение Марии Антуанетты от австрийских прав перед Евангелием, распятием и горящими свечами, поздравления двора, университета, парад армии, théâtre paré[15], прием и бал в Бельведере[16] на три тысячи персон, ответный прием и званый ужин на полторы тысячи гостей во дворце Лихтенштейна и, наконец, 19 апреля бракосочетание per procurationem[17] в церкви августинцев, на котором дофина замещает эрцгерцог Фердинанд. Затем интимный семейный ужин и 21-го – торжественное прощание, последние объятия. И вот вдоль шеренг, благоговейно провожающих карету французского короля, бывшая австрийская эрцгерцогиня едет навстречу своей судьбе.
* * *
Прощание с дочерью было трудным для Марии Терезии. Стареющая, усталая женщина, годы и годы, как о высшем счастье, мечтавшая об этом браке, задуманном ради усиления могущества дома Габсбургов, вдруг в последний час осознает, что ее глубоко беспокоит судьба, которую она сама предуготовила своему ребенку. Стоит лишь внимательнее вчитаться в ее письма, серьезнее перебрать основные вехи ее жизни, как становится ясно: эта трагическая государыня, единственный великий монарх австрийского дома, уже давно несет корону как тяжкое бремя. С неимоверным трудом, в непрерывных войнах утвердила она это в известной степени искусственное государство, базирующееся на завоеваниях и брачных договорах, противопоставила его Пруссии и Оттоманской империи, Востоку и Западу. И вот сейчас, когда, по крайней мере внешне, создается представление, что созданной ею империи обеспечена безопасность, силы оставляют Марию Терезию. Странные предчувствия угнетают мудрую женщину: империя, которой она отдала все свои силы, всю страсть, придет в упадок, погибнет при ее наследниках. Дальновидный политик, пожалуй даже ясновидица, она знает, как непрочен этот случайный союз многих национальностей, какую осторожность, сколько сдержанности, сколько умной пассивности следует проявить, чтобы продлить его существование. Кто же продолжит то, что она с таким тщанием начала? Глубокое разочарование в своих детях пробудило в ней дух Кассандры[18], ни в одном из них не находит она черт, столь глубоко присущих ей: огромного терпения, неспешного, тщательного обдумывания замыслов и упорства, способности отказаться, когда это нужно, от страстно желаемого, мудрого самоограничения. Но в жилах детей пульсирует беспокойная лотарингская кровь ее мужа; ради мимолетного удовольствия они готовы пожертвовать беспредельными возможностями – мелкотравчатое поколение, неосновательное, неверующее, заботящееся лишь о преходящем успехе. Ее сын и соправитель Иосиф II боготворит Фридриха Великого, всю жизнь преследующего его насмешками, заигрывает с Вольтером, которого она, набожная католичка, ненавидит, считает антихристом. Старшая ее дочь, тоже предназначенная для трона, эрцгерцогиня Мария Амалия, едва выйдя замуж и став герцогиней Пармской, своей ветреностью потрясает всю Европу, ведет предосудительный образ жизни, развлекается с любовниками, за два месяца полностью истощила финансы, расстроила хозяйственную жизнь страны. И другая дочь, та, что в Неаполе[19], не делает ей чести. Ни одна из этих дочерей не обладает ни серьезностью, ни нравственной чистотой, и чудовищный труд, плод самопожертвования и чувства долга, труд, которому великая императрица посвятила всю свою жизнь без остатка, безжалостно отказывая себе в любой радости, в любви, в наслаждении, каким бы незначительным оно ни было, этот труд, оказывается, лишен всякого смысла. Она ушла бы в монастырь, и только страх, что поспешный в решениях сын опрометчивыми экспериментами тотчас же разрушит все построенное ею, заставляет старую воительницу держать скипетр, давно уже непосильный для ее усталой руки.
И относительно своей любимицы, своего последнего ребенка, Марии Антуанетты, эта женщина, проницательная и умная, конечно же, не заблуждается. Ей известны положительные черты младшей дочки – добродушие и сердечность, свежий, живой ум, искренний, человечный нрав. Но она знает и слабые стороны девочки – ее незрелость, легкомыслие, порывистость, рассеянность. Она стремится сблизиться с дочерью, желает использовать последние часы для формирования будущей королевы из этого темпераментного сорванца; два последних перед отъездом месяца Мария Антуанетта спит в покоях императрицы: продолжительными беседами мать пытается подготовить принцессу к тому высокому положению, которое ей предстоит занять. Чтобы снискать расположение Бога, она берет девочку с собой на богомолье в Мариацелл. И все же с приближением часа расставания императрица все более и более теряет покой. Какое-то мрачное предчувствие гложет ее сердце, предчувствие грядущего несчастья, и она напрягает все свои силы, чтобы устоять, не поддаться его тягостному влиянию. Перед отъездом Марии Антуанетты она дает дочери с собой подробно составленные правила поведения и берет с беспечного ребенка клятву каждый месяц тщательно их перечитывать. Кроме официального письма, она пишет Людовику XV личное – пожилая женщина заклинает старика проявлять снисходительность к детской несерьезности четырнадцатилетней девочки. И все же ее внутренняя тревога не утихает. Мария Антуанетта еще не успела доехать до Версаля, а мать уже пишет ей, чтобы та чаще пользовалась данной ей памяткой о правилах поведения. «Напоминаю тебе, любимая дочь, о том, чтобы ты раз в месяц каждое двадцать первое число перечитывала эту записку. Аккуратно исполняй это мое желание, очень прошу тебя. Меня ничто в тебе не пугает, кроме твоей нерадивости в молитвах и занятиях и вытекающих из этого невнимательности и лености. Борись против них и не забывай свою мать, которая, как бы далеко от тебя ни находилась, до последнего своего вздоха беспокоится о тебе». И тогда, когда весь мир ликует, празднуя триумф ее дочери, старая женщина идет в церковь и молит Бога отвратить от ее ребенка несчастье, которое лишь она одна, мать, предчувствует.
* * *
Огромная кавалькада – триста сорок лошадей, которых на каждой почтовой станции надо менять, – медленно движется через Верхнюю Австрию и Баварию. Долгий путь к границе разнообразится бесчисленными празднествами и торжественными приемами. А между тем на рейнском островке между Кёлем и Страсбургом плотники и обойщики трудятся над удивительным строением. Это воплощение основной идеи церемониймейстеров Шёнбрунна и приверженцев строгого этикета Версаля, их великий триумф; после бесконечных обсуждений, где следует осуществить торжественную передачу невесты – еще на государственной территории Австрии или уже на французской земле, один хитрец предложил соломоново решение: построить для этой цели на одном из маленьких необитаемых песчаных островков Рейна, между Францией и Германией, на ничейной земле, специальный деревянный павильон, чудо нейтралитета. В нем две комнаты на правобережной стороне, в которые Мария Антуанетта ступит еще эрцгерцогиней, и две комнаты на левобережной стороне, которые она покинет после церемонии как дофина Франции. В середине же павильона – большой зал для торжественной передачи, здесь эрцгерцогиня окончательно превратится в престолонаследницу Франции. Ценнейшие гобелены архиепископского дворца скрывают наскоро возведенные деревянные стены, университет Страсбурга дал балдахин, богатые страсбургские горожане прекрасно обставили павильон. Само собой разумеется, простому смертному не попасть в эту святая святых, не полюбоваться роскошью убранства. Однако, как и всюду, пара золотых делает стражу снисходительной, и вот за несколько дней до прибытия Марии Антуанетты в еще не полностью подготовленные помещения павильона проникает несколько любопытных юношей, немецких студентов. Один из них, высокий, с открытым, пылким взором, с сиянием гения над крутым мужественным лбом, не может глаз оторвать от чудесных гобеленов, выполненных по картинам Рафаэля; в юноше, только что открывшем для себя в Страсбургском кафедральном соборе сущность, дух готики, они возбуждают бурное желание с такой же любовью постигнуть и классическое искусство. С воодушевлением объясняет он своим товарищам этот внезапно открывшийся ему мир красоты итальянского мастера, но вдруг замолкает, чем-то недовольный, темные густые брови гневно хмурятся над только что ясными, вдохновенными глазами. Лишь сейчас понял он содержание картин на гобеленах. Действительно, тема не очень-то подходящая для свадебных празднеств – легенда о Ясоне, Медее и Креусе[20], классический пример рокового бракосочетания.
«Как, – громко восклицает гениальный юноша, не обращая внимания на изумление окружающих, – ужели допустимо столь неосмотрительно являть взору юной королевы именно перед замужеством изображение едва ли не самой омерзительной свадьбы из всех, о которых поведала нам история! Ужели среди французских архитекторов, декораторов, обойщиков нет ни одного, кто понимал бы, что картины что-то изображают, что картины воздействуют на разум и чувства, что они оставляют впечатление, что они рождают представления? Ведь поступить так равносильно тому, чтобы выслать гнуснейшие привидения навстречу этой красивой и, как говорят, жизнерадостной особе». С трудом успокаивают друзья пылкого юношу. Едва ли не силой уводят они из деревянного домика молодого Гёте, ибо это был он. Вот-вот приблизится «могучий поток придворных», роскошный свадебный поезд заполнит шумом, сутолокой, светской болтовней, веселым настроением разукрашенный павильон, и никто не заподозрит, что совсем недавно пророческий глаз поэта в этой пестрой, яркой ткани уже узрел черную нить рока.
* * *
Церемония передачи Марии Антуанетты Версалю должна означать для нее прощание со всем материальным, связывающим ее с домом Габсбургов; и для этого церемониймейстеры придумали особое символическое действо: мало того что никто из свиты эрцгерцогини, приданной ей матерью, не должен пересечь невидимую границу, этикетом предписывается также, чтобы на Туанетте, переходящей эту символическую линию, не было ничего связанного с Австрией, абсолютно ничего – ни чулок, ни рубашки, ни ботинок, ни подвязок, ни одной нитки. С того момента, как Мария Антуанетта становится дофиной Франции, только ткани французского производства могут облекать ее тело. И вот в присутствии всей австрийской свиты четырнадцатилетняя девочка должна раздеться донага, нежное, еще не расцветшее ее тело несколько мгновений мерцает в полутемном помещении; затем ей передают рубашку из французского шелка, нижнюю юбку из Парижа, чулки из Лиона, ботинки из Офкордонье, кружева, банты; ничего из снятых вещей не может она сохранить на память – ни колечка, ни даже крестика. Разве не развалится, не рассыплется все громоздкое здание этикета, оставь она себе какую-нибудь мелочь, пряжку или бантик? Отныне она не должна видеть возле себя ни одного знакомого ей с детства лица. И чему же тут удивляться, если так стремительно брошенная на чужбину маленькая девочка, испуганная всей этой помпезностью и суетой вокруг нее, совсем как ребенок разражается слезами? Но ей тотчас же следует взять себя в руки: на свадьбе с политической подоплекой порывы чувств недопустимы; в комнате «по ту сторону границы» ждет французская свита, и стыдно было бы невесте предстать перед ней испуганной, с покрасневшими от слез глазами. Шафер невесты, граф Штаремберг, предлагает ей руку для решающего шествия, и, одетая во все французское, в последний раз сопровождаемая австрийской свитой, последние две минуты еще австрийка, вступает она в зал, где должна свершиться ее передача свите дома Бурбонов, ожидающей ее в роскошнейших туалетах, в парадных мундирах. Сват Людовика XV обращается к ней с торжественной речью, зачитывается протокол, а затем все присутствующие замирают, затаив дыхание, – начинается великая церемония. Словно в менуэте, каждый шаг рассчитан, заранее отрепетирован и заучен. Стол посреди помещения символически представляет собой границу. Перед ним стоят австрийцы, за ним – французы. Сначала австрийский шафер, граф Штаремберг, отпускает руку Марии Антуанетты; дрожащая девочка принимает руку французского шафера и, сопровождаемая им, медленно, торжественными шагами обходит стол. В течение этих точно рассчитанных минут австрийская свита постепенно отходит назад, ко входной двери, а французская – одновременно в том же темпе приближается к будущей королеве Франции, так что в то мгновение, когда Мария Антуанетта оказывается в окружении нового для нее французского двора, австрийской свиты уже нет в зале. Беззвучно, с тщательной отработкой всех мельчайших деталей, церемонно, с налетом таинственности свершается эта оргия этикета. Лишь в последний момент маленькая оробевшая девочка не выдерживает леденящей торжественности, и, вместо того чтобы сдержанно, спокойно принять верноподданнический реверанс своей новой фрейлины, графини де Ноай, рыдающая дофина бросается ей в объятия, как бы ища у нее защиты, – прекрасный и трогательный жест одиночества, который забыли внести в свою программу верховные жрецы протокола обоих государств. Однако чувства не укладываются в рамки придворных правил; снаружи уже ждет застекленная карета, уже гудят колокола Страсбургского кафедрального собора, уже гремит артиллерийский салют, и при кликах ликования Мария Антуанетта навсегда покидает берег беззаботного детства – начинается судьба женщины.
* * *
Въезд Марии Антуанетты – незабываемые праздничные часы для французского народа, не избалованного подобными зрелищами. Десятилетия Страсбург не видел престолонаследницы и, вероятно, никогда больше не увидит такую очаровательную дофину, как этот ребенок. Стройная девочка с пепельными волосами и голубыми задорными глазами смеется, улыбается из застекленной кареты громадным толпам, людям в нарядных национальных костюмах, собравшимся из всех сел и городов Эльзаса, чтобы приветствовать пышный поезд. Сотни одетых в белое детей шествуют перед каретой, усыпая ее путь цветами; воздвигнута триумфальная арка, ворота украшены венками, на городской площади из фонтана бьет вино, целые туши быков жарятся на гигантских вертелах, бедных оделяют хлебом из огромных корзин. Вечером все дома города иллюминированы, огненные языки огромных факелов извиваются вокруг башни кафедрального собора, делая сказочно легкими, как бы прозрачными стрельчатые контуры Божьего храма. По Рейну скользят бесчисленные барки и лодки с лампионами, подобными пылающим апельсинам, с цветными факелами; пестрые стеклянные шары, подсвечиваемые с барж, мерцают в листве деревьев, а над островком, видная всем собравшимся на празднество, апофеозом фейерверка, среди мифологических фигур пылает переплетающаяся монограмма дофина и дофины. До глубокой ночи по улицам, по берегу реки бродят толпы любопытных, тут и там в сотнях мест играют на волынке, на скрипке, на других музыкальных инструментах, пускаются в пляс. Кажется, что эта белокурая австрийская принцесса – вестница золотого века счастья, и ожесточившийся, озлобленный народ Франции вновь раскрывает свое сердце радостной надежде.
Но и здесь, в этой великолепной картине празднеств, есть маленькая скрытая трещинка, и здесь, подобно тому как на гобеленах в зале павильона, судьба оставила знак грядущей беды. Когда на следующий день, перед отъездом, Мария Антуанетта желает прослушать мессу, у портала кафедрального собора вместо почтенного епископа во главе духовенства дофину приветствует его племянник и коадъютор[21]. Несколько женственный, в свободно ниспадающем фиолетовом одеянии, светский священник обращается к Марии Антуанетте с галантно-патетической речью (не напрасно академия приняла его в свои ряды), завершающейся изысканно-льстивыми фразами: «Вы для нас – живой образ глубокочтимой императрицы; Европа давно восхищается ею, потомки будут преклоняться перед ней. Этим браком дух Марии Терезии соединяется с духом Бурбонов». После приветственного слова шествие благоговейно направляется в мерцающий голубым светом собор, молодой священник сопровождает юную принцессу к алтарю и поднимает дароносицу холеной, унизанной кольцами рукой светского льва. Принц Луи Роган первый приветствует ее въезд во Францию. Потом он станет трагикомическим героем аферы с колье, опаснейшим противником королевы, ее роковым врагом. И рука, которая сейчас благословляюще парит над ее головой, позже кинет в грязь ее корону и честь.
* * *
Но Мария Антуанетта не может задерживаться в Страсбурге, в Эльзасе, в котором так много общего с ее родиной: когда король Франции ждет, всякая задержка – проступок. Проезжая через множество триумфальных арок и украшенных венками ворот, всюду встречаемый бурными приветствиями, поезд невесты достигает наконец своей первой цели – Компьенского леса, где королевская семья в гигантском лагере карет ожидает своего нового члена. Придворные дамы и кавалеры, офицеры и лейб-гвардейцы, барабанщики, трубачи и горнисты, все в новых, расшитых золотом и серебром туалетах, мундирах, стоят, расположившись в строгом соответствии с табелью о рангах. В этот ясный майский день лес светится от сверкающей игры красок. Едва фанфары обеих свит извещают о приближении свадебного поезда, Людовик XV оставляет карету, чтобы встретить супругу своего внука. Но навстречу ему удивительно легкими шагами уже спешит Мария Антуанетта и в грациозном реверансе (не напрасно же учил ее великий балетмейстер Новер) низко склоняется перед дедом дофина. Король, тонкий знаток свежей девичьей плоти и в высшей степени восприимчивый к грациозной привлекательности, очень довольный, наклоняется к юному белокурому, аппетитному существу, поднимает невесту внука, целует ее в обе щеки и лишь затем представляет ей будущего супруга. Юноша пяти футов и десяти дюймов ростом, скованный в движениях, неуклюжий, стеснительный, стоит в сторонке; он поднимает сонные, близорукие глаза и без особого воодушевления целует невесту в щеку в соответствии с этикетом. В карете Мария Антуанетта сидит между дедом и внуком, между Людовиком XV и будущим Людовиком XVI. Роль жениха, пожалуй, более подходит старику: он оживленно болтает с соседкой и даже слегка флиртует с ней, в то время как будущий супруг скучающе молчит, забившись в угол кареты. К вечеру, когда обрученные и per procurationem уже новобрачные направляются в свои покои, печальный «любовник» не находит повода сказать этой восхитительной девочке хотя бы одно нежное словечко; в своем дневнике о событиях знаменательнейшего для него дня он сухо отмечает: «Entrevue avec Madame la Dauphine»[22].
Тридцать шесть лет спустя в том же Компьенском лесу другой властелин Франции, Наполеон, будет ожидать как супруг другую австрийскую эрцгерцогиню, Марию Луизу. Склонная к полноте, медлительная, кроткая Мария Луиза не так хороша, не так аппетитна, как Мария Антуанетта, однако энергичный человек, настойчивый жених без промедления, нежно и властно вступит в свои права. В тот же вечер он спросит у епископа, дает ли ему бракосочетание по доверенности в Вене права супруга, и, не дождавшись ответа, сделает желательные для себя выводы: утром молодые будут завтракать вдвоем в постели. Мария Антуанетта же в Компьенском лесу встретила не любовника, не мужа, а человека, который женится на ней из политических, из государственных соображений.
* * *
Вторая, теперь уже настоящая, свадьба состоится 16 мая в Версале, в капелле Людовика XIV. Такой государственный и династический акт христианнейшего царствующего дома является чрезвычайно интимным и семейным, но в то же время и слишком значительным и благородным событием, чтобы допустить народ в свидетели или хотя бы позволить ему встать в ряды у входа в капеллу. Лишь аристократы голубой крови – генеалогия, насчитывающая десятки поколений, – имеют право присутствовать при церемонии бракосочетания в капелле, и яркое солнце за разноцветными стеклами витражей еще раз – не в последний ли? – освещает вышитую парчу, беспредельную роскошь избранной знати старого мира. Ритуал бракосочетания совершает архиепископ Реймсский. Он освящает тринадцать золотых монет и обручальное кольцо; дофин надевает его Марии Антуанетте на безымянный палец, передает ей монеты, затем оба преклоняют колена, чтобы получить благословение. Под звуки органа начинается месса, при молитве «Отче наш…» над юной парой держат серебряный балдахин, и лишь затем король, а за ним и остальные члены королевского дома в последовательности, строжайшим образом определенной табелью о рангах, подписывают брачный договор. Это чудовищно длинный, с огромным количеством разделов и параграфов документ. Еще сегодня на выцветшем пергаменте можно увидеть четыре слова: «Мария Антуанетта Иозефа Анна», коряво выведенные неловкой рукой четырнадцатилетней девочки, с трудом нацарапанные слова, а рядом (конечно же, по этому поводу сразу возникает шушуканье) – дурное предзнаменование – огромная клякса, единственная на документе, поставленная именно ею.
Теперь, после окончания церемонии, можно милостиво разрешить и народу порадоваться высокоторжественному дню монарха. Неисчислимые толпы людей – Париж наполовину опустел – хлынули в сады Версаля, которые еще и нынче показывают profanum vulgus[23] свои фонтаны и каскады, свои тенистые аллеи и лужайки. Гвоздем программы празднества должен стать вечерний фейерверк, грандиознейший из тех, которые когда-либо устраивали при королевском дворе. Но распорядители праздника не согласовали этот номер с небесной канцелярией. После обеда начинают скапливаться тучи, они громоздятся друг на друга, предвещая беду. Разражается гроза, на землю обрушивается чудовищный ливень; возбужденный, обманутый в ожидании замечательных зрелищ народ устремляется назад, в Париж. В то время как насквозь промокшие, дрожащие от холодного проливного дождя десятки тысяч людей в беспорядке бегут по парку, а деревья, сотрясаемые мощными порывами ветра, заливают их влагой, что задержалась в листве, за освещенными тысячами свечей окнами только что построенного salle de spectacle[24] в строгом соответствии с церемониалом, не подвластным никаким ураганам, никаким землетрясениям, начинается свадебный ужин – в первый и последний раз Людовик XV пытается затмить роскошью своего великого предшественника, Людовика XIV. Шесть тысяч счастливцев, цвет высшей аристократии, получили гостевые билеты. Правда, это приглашение не к столу, а на галереи, чтобы оттуда благоговейно наблюдать за тем, как двадцать два члена королевского дома будут подносить ко рту вилку или ложку. Все эти шесть тысяч, затаив дыхание, наблюдают все величие развернувшегося перед их глазами грандиозного действа, боясь потревожить его исполнителей. Нежно и приглушенно сопровождает ужин властелинов музыка оркестра из восьмидесяти музыкантов, расположившихся в мраморной аркаде. Затем под салют французской гвардии вся королевская семья шествует вдоль шеренг раболепно склонившихся гостей. Официальная часть празднества окончена, и престолонаследнику, как и любому другому новобрачному, следует выполнить единственный свой долг. И король ведет в покои супругов-детей (им обоим вместе едва тридцать лет), дофину – с правой стороны, дофина – с левой. Этикет врывается даже в комнату новобрачных! Кто же иной, как не король Франции, лично может передать престолонаследнику ночную рубашку, кто же иной может передать дофине ее рубашку, как не дама высшего ранга, со дня бракосочетания которой прошло меньше всего времени, в данном случае – герцогиня де Шартрёз! К ложу, кроме супругов, может приблизиться лишь один человек – архиепископ Реймсский. Он его освящает и окропляет святой водой.
Наконец двор покидает интимные покои; впервые юные супруги, Людовик и Мария Антуанетта, остаются одни, и с легким шелестом опускается за ними полог алькова, парчовый занавес невидимой трагедии.
Тайна алькова
В алькове в ту ночь ничего не происходит. И запись: «Rien»[25], сделанная на следующее утро юным супругом в дневнике, роковым образом крайне двусмысленна. Ни придворные церемонии, ни епископское благословение супружеского ложа не в силах преодолеть мучительное сопротивление естества дофина; matrimonium non consummatum est[26], бракосочетание в собственном смысле этого слова не осуществляется ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие годы. Мария Антуанетта обрела nonchalant mari – нерадивого супруга. Сначала думают, что робость, неопытность или nature tardive[27] (инфантильное отставание в развитии, как сказали бы мы сейчас) являются причиной неспособности шестнадцатилетнего юноши поддаться чарам этой милой девочки. Не следует торопить, надо дать успокоиться духовно заторможенному дофину, думает опытная мать и увещевает Марию Антуанетту не принимать близко к сердцу разочарование в супружеской жизни. «Point d’humeur là-dessus»[28], – пишет она в мае 1771 года и советует дочери «caresses, cajolis» – проявлять побольше нежности, ласковости, но это не помогает: «Trop d’empressement gâterait le tout»[29]. Но поскольку такое состояние затягивается – длится и год, и два, императрица начинает проявлять беспокойство по поводу этого «conduite si étrange»[30] юного супруга. Он постоянно повторяет свои ночные посещения, свои безуспешные попытки, однако в последнем, решительном проявлении нежности препятствуют ему какие-то maudit charme[31], какая-то таинственная, фатальная помеха. Неопытная Мария Антуанетта полагает виной этого только maladresse et jeunesse – неопытность и молодость. В своей неосведомленности она, бедняжка, даже решительно оспаривает «дурные слухи, которые здесь у нас ходят относительно его неспособности». Но тут вмешивается мать. Она вызывает своего лейб-медика ван Швейтена и советуется с ним относительно «froideur extraordinaire du Dauphin»[32]. Тот пожимает плечами. Медицина бессильна, если юной девушке, полной такого очарования, не удается внушить дофину страсть к себе. Мария Терезия шлет в Париж письмо за письмом. Наконец король Людовик XV, имеющий богатый опыт и большую практику в этой области, берет своего внука в оборот. Лейб-медик короля Лассон посвящается в тайну; злосчастного любовника обследуют, и тут выясняется, что причина импотенции дофина отнюдь не духовная, она обусловлена незначительным органическим дефектом (Phimosis[33]).
«Quien dice que el frenillo sujeta tanto et prepucio que no cede a la introduccion у causa un dolor vivo en el, por el qual se retrahe S. M. del impulso que conviniera. Quien supone que el dicho prepucio esta tan cerrado que no puede explayarse para la dilatacion de la punta о cabeza de la parte, en virtud de lo que no llegua la ereccion al punto de elasticidad necessaria»[34] (извлечение из секретного донесения испанского посланника). Теперь консилиум следует за консилиумом, обсуждается вопрос, можно ли применить хирургическое вмешательство, «pour lui rendre la voix»[35], как цинично перешептываются в передних. И Мария Антуанетта, просвещенная своими опытными подругами, делает все от нее зависящее, чтобы побудить супруга к хирургической операции («Je travaille à le déterminer à la petite opération, dont on a déjà parlé et que je crois nécessaire»[36] – 1775 год, письмо к матери). Однако Людовик XVI пять лет уже король, но все еще не супруг. Из-за своего нерешительного характера он никак не может склониться к энергичным действиям, колеблется и медлит, не следует советам врача, вновь и вновь пытается стать супругом, и эта отвратительная, противная, омерзительная ситуация вечных попыток и вечных неудач, к стыду Марии Антуанетты, на забаву всему двору, к бешенству Марии Терезии, к унижению Людовика XVI, длится еще полных два года, в общем семь ужасных лет, пока наконец император Иосиф не прибывает в Париж специально затем, чтобы склонить к операции своего не слишком мужественного зятя. И лишь после нее этому печальному цезарю любви счастливо удается перейти Рубикон. Но духовное государство, наконец завоеванное им, уже опустошено за семь лет трагикомической битвы, за две тысячи ночей, на протяжении которых Мария Антуанетта как женщина и супруга испытывала страшные унижения.
* * *
Не лучше ли было бы, спросит, пожалуй, иная сентиментальная душа, уклониться от рассмотрения этой деликатной, священной тайны, тайны алькова, не лучше ли было бы вообще не касаться ее? Может быть, следовало замолчать факт несостоятельности короля, робко прокрасться мимо супружеского ложа, на худой конец лишь намекнуть на «отсутствие счастья материнства»? Действительно, так ли уж нужно для биографического повествования подчеркивать столь интимнейшие подробности? Да, необходимо, ибо напряженные, недоброжелательные, враждебные взаимоотношения, постепенно сложившиеся между королем и королевой, претендентами на престол и двором, существенно повлиявшие на события мировой истории, останутся непонятными и необъяснимыми, если не учитывать первопричин этих взаимоотношений. Следствий, получивших свое начало в альковах и за пологами королевских постелей и наложивших отпечаток на события мировой истории, существенно больше, чем обычно считают. Но едва ли в каком-либо другом случае логическая цепочка между глубоко личной причиной и всемирно-историческим следствием столь однозначна и очевидна, как в этой интимной трагикомедии, и любая характерологическая повесть о Марии Антуанетте станет лживой, если замолчать событие, которое сама королева назвала «article essentiel» – основным пунктом своих тревог и надежд.
И еще: действительно ли нарушается тайна, если свободно и честно говорят о долголетней супружеской несостоятельности Людовика XVI? Конечно же нет. Только общество XIX столетия со своей болезненной чопорностью в отношении морально-сексуальных тем превращается в стыдливую мимозу при всякой попытке открытого обсуждения физиологических проблем. В XVIII же веке и ранее подобные вопросы – состоятельность короля как супруга, способность королевы родить ребенка или ее бесплодие – имели не частный, а важный политический, государственный характер, поскольку касались наследования, а тем самым судьбы страны; постель столь же явно была связана с бытием человека, как и купель или гроб. В письмах Марии Терезии и Марии Антуанетты, проходящих через руки архивариусов и копиистов, императрица Австрии и королева Франции совершенно свободно обсуждают во всех подробностях это странное супружество. Красноречиво описывает Мария Терезия дочери преимущества брачного ложа, намекает, как следует умело использовать любую возможность для интимного единения; дочь в свою очередь сообщает о появлении или задержке месячных недомоганий, о несостоятельности супруга, о каждом «un petit mieux»[37] и, наконец, с триумфом о беременности. Однажды даже автору «Ифигении», самому Глюку, доверяется передать интимные новости, поскольку он покидает Париж раньше курьера: в XVIII веке естественные вещи воспринимались совершенно естественно.
Если бы обо всех этих бесплодных попытках знала одна лишь мать! Нет, об этом судачат все камеристки, все придворные дамы, все кавалеры и офицеры, знают об этом слуги и прачки Версаля, даже за своим столом королю приходится терпеть порой грубые шутки. Кроме того, поскольку способность Бурбона зачать наследника представляет собой факт высокой политической важности, все иностранные дворы проявляют к этому вопросу особый интерес. В донесениях прусского, саксонского, сардинского посланников излагаются подробности деликатного дела: самый ревностный среди них, граф Аранда, испанский посланник, подкупает прислугу, с тем чтобы она осматривала даже белье королевского ложа, дабы с максимальной достоверностью установить свершение некоего события физиологического свойства. Короли и князья Европы на раутах, за карточным столом, в письмах смеются над своим незадачливым собратом; не только в Версале – во всем Париже супружеская несостоятельность короля является секретом Полишинеля. Секрет этот обсуждается на улицах, памфлеты на эту тему передаются из рук в руки, а с назначением Морепа первым министром, ко всеобщему развлечению, распространяется бойкий куплет:
Был Морепа – сморчок, был старикашка хил. Король сказал словцо, и вот он – полон сил. Как песенки припев, долдонит старикан: «Таких же перемен желаю, сир, и вам!»Но то, что звучит забавно, в действительности имеет роковой и опасный смысл. Ибо эти семь лет несостоятельности формируют в духовном плане характеры короля и королевы и ведут к политическим следствиям, которых не понять без учета этого факта. Судьба брака перерастает в судьбу мира.
* * *
Не знай мы этих интимных недостатков, нам прежде всего был бы непонятен духовный настрой Людовика XVI. Ибо его манера держать себя прямо-таки с клинической однозначностью полностью соответствует всем типическим признакам комплекса неполноценности, обусловленного половой слабостью. Как в глубоко личной жизни, так и в жизни государственного деятеля этому человеку с заторможенными реакциями недостает сил для творческих действий. Он не умеет показать себя с выгодной стороны, не может проявить свою волю, настоять на своем. Неуклюже и робко, как бы тайно сконфуженный, он избегает всякого общества, в особенности общения с женщинами, ибо этот по существу порядочный, прямой человек знает, что его несчастье известно каждому в Версале, и потому ироническая усмешка посвященного пугает его до полусмерти. Иногда, собрав все свои силы, он пытается показать свою значительность, создать иллюзию мужественности. Но при этом всегда немножко пересаливает, становится грубым, резким, даже жестоким (характерная попытка спрятать свою сущность за хвастливым выпячиванием физической силы). Но все это так топорно, так примитивно, что никто не верит ему. И никогда не удается ему свободное, естественное поведение человека, обладающего чувством собственного достоинства, поведение, полное величия. И вызвано это тем, что в спальне он не мужчина, поэтому-то перед другими ему не удается показать себя королем.
То обстоятельство, что при всем этом его личные склонности являются склонностями настоящего мужчины (охота, тяжелый физический труд – во внутренних покоях дворца у него хорошо оборудованная кузница, токарный станок короля можно увидеть и нынче), ни в коей мере не противоречит клинической картине, напротив, подтверждает ее. Ибо как раз тот, кто не является мужчиной, непроизвольно любит представляться мужественным, тот, кто вынужден скрывать свою слабость, охотно козыряет перед людьми видимостью силы. Когда он на взмыленном коне часами преследует в лесной чащобе кабана, когда он у наковальни до полного изнеможения напрягает свои мускулы, сознание физической силы с глубоким удовлетворением компенсирует тайную слабость: словно Гефест после неудач у Венеры, находит он радости в самозабвенном физическом труде. Но стоит Людовику XVI надеть парадный мундир, стоит ему появиться среди придворных, он чувствует, что эта его сила всего лишь сила мускулов, а не сила сердца, и он тотчас же теряется. Придворные редко видят его смеющимся, редко видят его действительно счастливым и довольным.
Однако это тайное чувство неполноценности самым опасным образом сказывается на его отношении к жене. Многое в ее поведении не соответствует его личным вкусам. Ему не нравится ее окружение, его раздражает постоянно и повсюду сопровождающая ее суматоха развлечений, ее мотовство, совсем не королевское легкомыслие. Настоящий мужчина быстро навел бы тут порядок. Но как может человек разыгрывать перед женщиной роль господина днем, если еженощно он оказывается посрамлен ею, беспомощный, несостоятельный супруг? Бессильный как мужчина, Людовик XVI становится совершенно беззащитным перед своей женой; более того, чем дольше он остается в своем постыдном состоянии, тем более жалким образом попадает он в полную зависимость, даже в рабство. Она может требовать от него все, чего пожелает: вновь и вновь безграничной уступчивостью выкупает он себя из плена тайного чувства вины. Властно вторгаться в ее жизнь, препятствовать ее очевидным безрассудствам – на это ему недостает силы воли, в конечном счете являющейся не чем иным, как духовным проявлением физической силы. С отчаянием смотрят министры, смотрит императрица-мать, смотрит весь двор, как из-за трагического бессилия мужа вся власть оказывается в руках взбалмошной женщины, легкомысленно разбазаривающей ее. Но опыт подтверждает: параллелограмм сил, однажды сложившийся в супружестве как духовная система, не меняется. Через несколько лет Людовик XVI станет настоящим супругом и отцом, и все же он, которому следовало бы быть господином Франции, так и останется безвольным рабом Марии Антуанетты – единственно лишь потому, что сразу не смог стать ее мужем.
* * *
Не менее роковым образом сказывается половая несостоятельность Людовика XVI и на духовном развитии Марии Антуанетты. Именно вследствие антагонизма полов одни и те же отклонения от нормы вызывают в мужском и женском характерах совершенно противоположные реакции. У мужчины половая слабость ведет к скованности и неуверенности, у женщины, если пассивная готовность к полной самоотдаче не встречает достойного партнера, обязательно должна обнаружиться крайняя раздражительность и повышенная активность. По существу своему Мария Антуанетта совершенно нормальный человек, женственная нежная натура, предназначенная для многократного материнства, возможно только и ждущая того, чтобы полностью отдать себя настоящему мужу. Но судьбе было угодно, чтобы именно она, способная глубоко чувствовать, оказалась в ненормальном браке, встретила неполноценного мужа. Правда, замуж ее выдают пятнадцатилетней; сама по себе досадная неполноценность ее мужа еще не должна была бы сказаться на ней как духовное бремя, ибо кто, собственно, будет считать физиологически неестественным тот факт, что девушка в двадцать два года еще девственница? Однако в этом особом случае, предопределяющем потрясение и опасное перенапряжение ее нервной системы, является то, что супруг, выбранный ей государством, на протяжении этих семи псевдосупружеских лет не оставляет ее в состоянии естественного, нетронутого целомудрия. Каждую из этих двух тысяч ночей неловкий и скованный человек мучается возле ее юного тела. Годы и годы бесплодно возбуждается она таким вот образом, не очищающим, не освобождающим, а вызывающим лишь чувство стыда и унижения. Тут не требуется врач-невропатолог, чтобы констатировать, что ее столь роковая повышенная активность – эти вечные метания из стороны в сторону, постоянная неудовлетворенность, эта нервная погоня за удовольствиями – является клинически типичным следствием постоянного сексуального возбуждения и сексуальной неудовлетворенности, причина всего этого – ее супруг. Ибо, не покоренная в течение семи лет супружества, не потрясенная до глубины души, не успокоенная, она должна непрерывно находиться в состоянии возбуждения и тревоги. Так постепенно простая детская увлеченность, склонность к развлечениям превращается в конвульсивную, болезненную страсть к удовольствиям, страсть, воспринимаемую всем двором как страсть скандальную, против власти которой и Мария Терезия, и все истинные друзья королевы безуспешно пытаются бороться. Подобно тому как неудовлетворенное мужское желание короля трансформируется в тяжелую работу кузнеца, в физически утомляющую страсть охотника, в напряжение мускулов, притупляющее и истощающее человека, так и ее искусственно возбужденная и нереализованная чувственность стремится к нежной дружбе с женщинами, к кокетничанью с юными кавалерами, к страсти наряжаться, к другим суррогатам, успокаивающим темперамент. Она бежит от супружеского ложа, печального места унижения ее женского достоинства, и в часы, когда ее супруг и несупруг отсыпается после долгой и изнурительной травли зверя, она прожигает ночи – до четырех, до пяти утра – на балах, в Опере, на ужинах, за карточным столом, в сомнительном обществе, греясь у чужого огня, недостойная королева, доставшаяся неполноценному супругу. Однако то, что это легкомыслие по существу своему безрадостно, что оно является попыткой за внешними проявлениями полнейшего удовлетворения своей жизнью скрыть внутреннюю разочарованность, время от времени выдает ее гневная меланхолия, а однажды – особенно ясно – ее вопль, когда она узнает, что ее родственница, герцогиня де Шартрёз, родила мертвого ребенка. Мария Антуанетта пишет матери: «Как это ни ужасно, я согласилась бы на это, я выдержала бы это». Пусть мертвый ребенок, но все же ребенок! Лишь бы вырваться наконец из этого опустошающего, из этого недостойного состояния, стать настоящей, нормальной женой своего мужа, покончить с этим невыносимым положением девственницы, длящимся семь лет замужества. Кто не видит отчаяния женщины в этой ненасытной жажде развлечений, тот не в силах ни понять, ни объяснить удивительных перемен, происшедших в Марии Антуанетте, когда она наконец становится супругой и матерью. Тотчас же нервы успокаиваются, возникает другая Мария Антуанетта, сдержанная, волевая, смелая. Такой она будет во вторую половину своей жизни. Однако эти перемены придут слишком поздно. Как в каждом детстве, в каждом супружестве первые переживания – решающие. И десятилетиям не восстановить того, что было нарушено в тончайшей и сверхчувствительной субстанции души, как бы незначительны ни были эти нарушения. Именно их, самые глубокие, невидимые ранения чувств, никогда не излечить полностью.
* * *
Все это оставалось бы личным несчастьем, трагедией, подобной тем, которые и ныне изо дня в день разыгрываются за закрытыми дверями. Однако в данном случае роковые следствия подобных супружеских мук выходят далеко за границы личной жизни. Ибо здесь муж и жена – король и королева, они неизбежно находятся в искажающем фокусе всеобщего внимания. То, что другим удается скрыть, здесь вызывает пересуды и сплетни. Насмешливый, язвительный французский двор, естественно, не довольствуется соболезнующей констатацией несчастья, он непрерывно вынюхивает все подробности, он должен знать, как вознаграждает себя Мария Антуанетта за несостоятельность супруга. Придворные видят очаровательную юную женщину, самоуверенную кокетку, темпераментное существо, в котором играет молодая кровь, и знают, какому жалкому колпаку досталась эта восхитительная возлюбленная; всю праздную придворную сволочь отныне интересует один лишь вопрос – с кем она обманывает супруга? Именно потому, что по существу-то и говорить не о чем, честь королевы оказывается предметом фривольных сплетен. Стоит ей выехать с каким-нибудь кавалером, с Лозеном, например, или с Койиньи, а уж досужие болтуны именуют его ее возлюбленным; утренняя прогулка в парке с придворными дамами и кавалерами – и тотчас же всюду шушукаются о невероятных оргиях. Беспрестанно мысль всего двора занята любовной жизнью разочарованной королевы. Пересуды трансформируются в песенки, пасквили, памфлеты, порнографические стихи. Сначала придворные дамы прячут в веерах скабрезные эти стишки, затем они дерзко вылетают из дворца, их печатают, распространяют в народе. А когда начинается революционная пропаганда, якобинцам-журналистам не долго приходится искать аргументы, чтобы представить Марию Антуанетту как воплощение разврата, чтобы показать ее бесстыдной преступницей. Прокурору же достаточно опустить руку в этот ящик Пандоры, до краев наполненный галантной клеветой, – и вот они, эти основания, необходимые для того, чтобы сунуть голову королевы под нож гильотины.
* * *
Следствия неудач интимной жизни королевской четы влияют на ход всемирной истории. Действительно, разрушение королевского авторитета началось не с падения Бастилии, оно началось еще в Версале. Не случайно же эти сообщения о половой несостоятельности короля, эта злобная ложь о сексуальной ненасытности королевы так быстро распространяются из дворца по всей стране, становятся известными всей нации. Это имеет свою скрытую политико-династическую подоплеку. Ведь во дворце живет несколько особ, ближайших родственников короля, для каждого из которых супружеские разочарования Марии Антуанетты представляют глубоко личный интерес. Прежде всего, это оба брата короля; им крайне на руку то, что столь смехотворный физиологический недостаток Людовика XVI и его боязнь хирургического вмешательства не только разрушают нормальную супружескую жизнь, но и ломают установленный порядок наследования, ибо сами они при этом получают неожиданный шанс достичь престола. Следующий за Людовиком XVI брат, граф Прованский, действительно ставший впоследствии Людовиком XVIII (он достиг своей цели, и одному Богу известно, какими окольными путями), никогда бы не согласился всю свою жизнь простоять позади трона вторым. Он сам хотел держать скипетр в руке; отсутствие наследника сделало бы его на худой конец если не королем, то регентом, и нетерпение свое он сдерживает с трудом. Однако поскольку он тоже сомнительный супруг и бездетен, то и второй, младший брат короля, граф д’Артуа, может оказаться в выигрыше, ведь половая несостоятельность старших братьев дает право его сыновьям считаться законными престолонаследниками. Так для этих двух братьев короля счастливым случаем оборачивается то, что является несчастьем Марии Антуанетты, и чем дольше длится ужасное состояние, тем увереннее чувствуют себя эти претенденты на престол. Вот причина той безграничной, той безудержной ненависти, когда на седьмом году муж Марии Антуанетты наконец-то чудесным образом превращается в мужчину и супружеские отношения между королем и королевой становятся совершенно естественными. Граф Прованский никогда не простит Марии Антуанетте этот жестокий удар, разрушивший все его надежды; и то, чего ему не удалось добиться прямыми путями, он будет пытаться осуществить окольными: как только Людовик XVI становится отцом, его братья и другие родственники превращаются в его опаснейших противников. Революция имела хороших пособников при дворе, принцы крови и князья открыли ей двери и дали ей в руки отличное оружие; этот период альковной трагикомедии сильнее, чем все внешние обстоятельства, изнутри подорвал королевский авторитет, приведя его к полному уничтожению. Почти всегда причиной очевидного является таинственный рок, почти любое событие всемирного значения есть отражение внутреннего, личного конфликта. Великой тайной истории всегда было поразительное искусство из ничтожного повода развивать следствия необычайно серьезного значения, и не впервые происходит такое, когда временная сексуальная неполноценность какой-то личности оказывается причиной взрыва в мировой истории: импотенция Александра Сербского, эротическая зависимость от Драги Машин, освободившей его от плена неполноценности, убийство обоих, восшествие на престол Карагеоргиевича, вражда с Австрией и мировая война – все эти события являются такими же неуловимо логическими элементами лавины следствий. Ибо История плетет неизбежную сеть судьбы, в ее удивительном передаточном механизме самое маленькое ведущее колесико вызывает к действию невероятные силы. Так и в жизни Марии Антуанетты ничтожное, казалось бы смехотворное, событие первых ночей, первых лет супружества не только формирует ее характер, но и сказывается на облике мира.
* * *
Но как далеки еще эти тучи, таящие в себе грозу! Как далеки еще все эти следствия и стечения обстоятельств от детского сознания пятнадцатилетней девочки, простодушно смеющейся с неловкими товарищами своих игр, девочки с маленьким, жизнерадостно бьющимся сердцем и ясными, любопытными, широко открытыми глазами, считающей, что ступеньки, по которым она идет, ведут к трону, тогда как на самом деле это ступеньки эшафота. Но с самого начала ей определен черный жребий, боги бессильны. Ничего не подозревая, спокойно дают они ей идти своим путем, и навстречу ей встает судьба.
Дебют в Версале
Еще и теперь Версаль являет собой грандиозный, величественный символ автократии. В стороне от столицы, на искусственном холме, вне всякой связи с окружающей природой, господствуя над равниной, возвышается огромный замок. Сотнями окон смотрит он в пустоту поверх искусственно проложенных каналов, искусственно разбитых садов. Ни речки поблизости, вдоль которой могли бы раскинуться деревни, ни разветвленных дорог; нечаянная причуда властелина, овеществленная в камне, – вот чем представляется удивленному взору этот дворец со всей его безрассудной пышностью.
Этого как раз и желала цезаристская воля Людовика XIV – воздвигнуть сверкающий алтарь своему честолюбию, своему стремлению к самообожествлению. Убежденный автократ, властный человек, он подчинил своей державной воле раздробленную страну, предписал государству устройство, обществу – обычаи, двору – этикет, вере – единство, языку – чистоту. Его особа излучала эту волю к единообразию, его особе и надлежало поэтому купаться в лучах славы. «Государство – это я»; место, где я живу, – центр Франции, пуп земли. Воплощая эту идею совершенной исключительности своего положения, Roi-Soleil[38] закладывает свой дворец умышленно в стороне от Парижа. Именно тем, что он выбирает свою резиденцию вдали от всяких поселений, он подчеркивает – король Франции не нуждается ни в городах, ни в горожанах, не нужен ему и народ как опора или как фон власти. Достаточно ему только руку протянуть, приказать, и вот уже на болоте, на песках возникают сады и леса, каскады и гроты, чудесный, огромный дворец. Отныне из этой астрономической точки, выбранной силой его произвола, восходит солнце его королевства и в этой точке заходит. Версаль построен для того, чтобы со всей очевидностью доказать Франции: народ – ничто, король – всё.
Однако силы созидания всегда неразрывно связаны лишь с человеком, их носителем; наследуется лишь корона, но не мощь и величие, венчаемые ею. Не творческие, а мелкие, бесчувственные, жадные до наслаждений души наследуют с Людовиком XV и Людовиком XVI обширный дворец, широко задуманное государство. На первый взгляд, казалось бы, при этих государях все остается без перемен: границы, язык, обычаи, религия, армия. Уж очень сильна была властная, решительная рука, лепившая эти формы, чтобы через сто лет они потеряли свой прежний вид. Но вот наступает время, и они утрачивают свое содержание, нет в них более пламенной субстанции, творческого порыва. Внешне при Людовике XV Версаль не меняется, меняется его смысл, его значение. По-прежнему в коридорах, во дворах толкутся три-четыре тысячи слуг, разодетых в великолепные ливреи, по-прежнему стоят в конюшнях две тысячи лошадей, по-прежнему на балах, приемах, маскарадах функционирует на хорошо смазанных шарнирах надуманный механизм этикета, по-прежнему церемонно шествуют по зеркальным залам и сверкающим золотом покоям кавалеры и дамы в роскошных парчовых, шелковых, отделанных драгоценными камнями нарядах, по-прежнему этот двор самый прославленный, самый изысканный, самый утонченный в Европе. Но то, что раньше было выражением бьющей через край полноты власти, давно уже стало холостым ходом, бездушным, бессмысленным движением. Другой Людовик становится королем, но этот король не властелин, а раб женщин; и он тоже собирает при дворе архиепископов, министров, военачальников, архитекторов, писателей, музыкантов. Но подобно тому, как он не Людовик XIV, так и в этом его окружении нет Боссюэ, Тюренна, Ришелье, нет Мансара, Кольбера, Расина, Корнеля, вокруг него поколение искателей мест, льстецов, интриганов, желающих лишь пользоваться благами жизни, а не созидать; паразитировать, а не отдавать все силы своей души творчеству. В этой мраморной теплице не выращиваются больше ни смелые планы, ни задуманные с размахом нововведения, ни поэтические произведения. Одни лишь болотные растения интриги и искательства расцветают пышным цветом. Не труды на пользу государству определяют место при дворе, а козни и происки; не заслуги, а протекции: кто ниже согнет спину на левэ[39] перед Помпадур или Дюбарри, тот получит более выгодный пост. Слово ценится выше, чем дело, видимость – выше, чем сущность. Лишь друг перед другом, в бесконечной суетности, изящно и совершенно бесцельно играют эти люди свои роли – короля, государственного деятеля, священника, полководца. Все они забыли Францию, действительность, думают лишь о себе, о своей карьере, о своих удовольствиях. Версаль, задуманный Людовиком XIV как форум великой Европы, при Людовике XV опускается до уровня светского театра аристократов-дилетантов, впрочем самого искусного, самого разорительного из когда-либо существовавших на земле.
* * *
И вот на эту грандиозную сцену с нерешительностью дебютантки впервые выходит пятнадцатилетняя девочка. Поначалу она играет лишь маленькую пробную роль – роль дофины, престолонаследницы. Но высокоаристократическая публика знает: этой маленькой белокурой эрцгерцогине из Австрии предназначена основная роль в Версале – роль королевы. Вот почему с ее появлением все взоры с любопытством обращаются к ней. Первое впечатление – отличное. Давно уже здесь никто не видел такой привлекательной девочки с обворожительно стройной, словно из севрского фарфора, фигуркой, с чудесным цветом лица, с живыми голубыми глазами, задорными губками, умеющими и по-детски смеяться, и прелестно дуться. Манеры – безупречны: легкая, грациозная походка, восхитительная в танце, и в то же время – ведь она дочь императрицы – царственная осанка, удивительная способность непринужденно и величественно прошествовать по Зеркальной галерее, приветствуя свободно, без стеснения стоящих шпалерами справа и слева. С плохо скрываемой досадой дамы, которые в отсутствие примадонны еще брались играть первые роли, признают в этой узкоплечей, пока не развившейся девочке победоносную соперницу. Впрочем, один изъян в ее манерах должно отметить придирчивое общество двора: у пятнадцатилетнего подростка удивительное желание вести себя в этих священных залах не чопорно, а детски непринужденно, естественно, просто. Сорванец от природы, маленькая Мария Антуанетта в развевающейся юбчонке носится по саду с младшими братьями своего супруга. Никак не привыкнуть ей к скупой размеренности, к холодной скрытности, к молчаливости, которые неукоснительно требуются здесь от супруги наследного принца. При известных обстоятельствах она может вести себя безупречно, ведь и сама она выросла в рамках столь же помпезного испанско-габсбургского этикета. Но в Хофбурге и Шёнбрунне вели себя торжественно лишь в особых случаях, церемониал, словно парадную одежду, использовали только на приемах, чтобы затем со вздохом облегчения отложить в сторону тотчас же, как только гайдуки[40] закроют за гостями двери. Сразу же снималась напряженность, все становились приветливыми, близкими друг другу, дети могли резвиться, шуметь, веселиться вовсю. Этикет соблюдался в Шёнбрунне, но его не обожествляли, не становились его рабами. Здесь же, при этом напыщенном, одряхлевшем дворе, живут не затем, чтобы жить, а единственно для того, чтобы представительствовать. И чем выше ранг, тем больше предписаний и ограничений. Следовательно, бога ради, ни единого непродуманного жеста, ни в коем случае не держаться естественно – это было бы непоправимым проступком против обычаев. С утра до ночи, с ночи до утра – осанка, осанка, осанка, иначе станет роптать безжалостная толпа льстецов, цель жизни которых лишь в том, чтобы жить в этом театре, жить этим театром.
Эту отвратительную торжественную серьезность, это обожествление церемониала в Версале Мария Антуанетта никогда не понимала ни ребенком, ни королевой. Она не в состоянии постичь ужасающую важность, приписываемую здесь любым царедворцем кивку головы или движению руки, и никогда не постигнет этого. По природе своевольная, упрямая и прежде всего неискоренимо прямодушная, она ненавидит всякого рода ограничения; как истинная австрийка, она желает двигаться и жить без постоянной оглядки, не хочет испытывать на себе невыносимый гнет тщеславия и чванства. Как дома она увиливала от школьных занятий, так и здесь она ищет любой повод, чтобы улизнуть от своей строгой фрейлины мадам[41] де Ноай, которую насмешливо называет мадам Этикет. Так рано отданный в жертву политике, этот ребенок инстинктивно стремится получить то, чем его обделили, окружив довольством и роскошью, – получить несколько лет настоящего детства.
* * *
Однако наследная принцесса не может, не смеет более быть ребенком; все и вся объединяются, чтобы непрерывно напоминать ей об обязанности твердо, неукоснительно соблюдать достоинство, соответствующее ее положению. В основном ее воспитанием, кроме святоши-фрейлины, занимаются три дочери Людовика XV, три старые девы, ханжи и интриганки, добродетель которых не осмелится поставить под сомнение даже самый злобный клеветник. Мадам Аделаида, Мадам Виктория, Мадам Софи – эти три парки[42] принимают внешне очень теплое участие в Марии Антуанетте, супруг которой не очень-то ею интересуется. В своих покоях они посвящают ее во все секреты стратегии малых дворцовых войн, пытаются обучить ее искусству клеветы, вероломства, тайной интриги, технике булавочных уколов. Сначала эти уроки представляются маленькой неопытной Марии Антуанетте развлечением; доверчиво, не понимая смысла, повторяет она соленые bonmots[43], однако прирожденное прямодушие внутренне противится этой непорядочности. К досаде новых воспитателей, Мария Антуанетта так и не научилась притворяться, прятать свои истинные чувства – безразлично, ненависть ли это или любовь, – и очень скоро, подчиняясь здоровому инстинкту, она освобождается от опеки тетушек: все нечистое противно ее открытой и неуемной натуре. И графине де Ноай не везет с ее ученицей; постоянно бунтует неукротимый темперамент пятнадцатилетней, шестнадцатилетней девочки против mesure[44], против точной размеренности придворного быта, против привязки каждого часа жизни к определенному, раз и навсегда установленному параграфу распорядка. Но тут дофина ничего не может поделать. Вот как описывает она свой день: «Я встаю в половине десятого или в десять, одеваюсь и творю утреннюю молитву. Затем завтракаю и иду к тетушкам, где обычно встречаю короля. Это происходит до половины одиннадцатого. После этого, в одиннадцать, я отправляюсь причесываться. К полудню собирается мой штат придворных, здесь дано право явиться ко двору всякому, за исключением лиц без имени и звания. Я румянюсь и мою перед собравшимися руки, затем мужчины удаляются, дамы же остаются, и я при них одеваюсь. В двенадцать мы отправляемся в церковь. Если король в Версале, то к мессе я иду с ним, моим супругом и тетушками. Если его нет, я иду одна с дофином, но всегда в одно и то же время. После мессы мы обедаем в присутствии посторонних. Обычно обед кончается в половине второго, ведь мы оба едим очень быстро. Затем я иду к дофину, а если он занят, то после обеда возвращаюсь в свою комнату, читаю, пишу или шью. Я шью для короля мундир, работа продвигается у меня очень медленно, но я надеюсь, что с Божьей помощью через несколько лет он все-таки будет у меня готов. В три часа я вновь отправляюсь к тетушкам, у которых в это время находится король, в четыре ко мне приходит аббат, с пяти до шести у меня учитель музыки или пения. В половине седьмого я почти всегда бываю у тетушек, если не иду гулять. Ты должна знать, что мой супруг почти всегда бывает со мной у тетушек. С семи до девяти играют, но, если погода хорошая, я гуляю, и тогда играют не у меня, а у тетушек. В девять мы ужинаем, и, если короля нет в Версале, тетушки ужинают с нами. А если король здесь, то после ужина мы идем к ним. Мы ждем короля, который обычно приходит без пятнадцати одиннадцать. Пока короля нет, я ложусь на большое канапе и дремлю до его прихода; если же его нет в Версале, мы в одиннадцать отправляемся спать. Вот как у меня проходит день».
В этом расписанном по часам дне не много времени остается для развлечений, вот почему ее нетерпеливое сердце так жаждет их. Молодая кровь, бурлящая в ней, еще не успокоилась, подростку хочется играть, смеяться, озорничать, но мадам Этикет немедленно поднимет сурово палец и напомнит, что и то и другое – собственно, все, чего хотелось бы сделать Марии Антуанетте, – несовместимо с положением дофины. Еще труднее приходится с ней аббату Вермону, бывшему ее учителю, а теперь духовнику и чтецу. В сущности, Марии Антуанетте следовало бы еще учиться и учиться, так как ее образование много ниже среднего уровня: в пятнадцать лет она уже изрядно забыла свой немецкий, французский же еще не изучила достаточно хорошо. Почерк ее плачевно неуклюж, изложение изобилует несообразностями и орфографическими ошибками, письма без помощи сострадательного аббата ей не написать. Кроме того, он должен ежедневно по часу читать ей вслух и принуждать ее самое к чтению, ведь Мария Терезия чуть ли не в каждом письме спрашивает о чтении. Императрица не очень-то верит сообщениям, в которых говорится, что ее дочь Туанетта действительно каждый день читает или пишет. «Старайся как можно больше читать хорошие книги, – увещевает она, – это очень важно для тебя. Вот уже два месяца, как я жду от аббата списка книг, и боюсь, что ты не занимаешься чтением и что время, предназначенное для книг, ты растратила на всякую безделицу. Не забрасывай сейчас, зимой, это занятие, поскольку ничем другим стоящим ты также не интересуешься, ни музыкой, ни рисованием, ни танцами, ни живописью, никакими иными изящными искусствами». К сожалению, в своем недоверии Мария Терезия права. Каким-то удивительным образом, наивным и мудрым одновременно, маленькой Туанетте каждый раз так удается обвести вокруг пальца своего наставника аббата Вермона – дофину не принудишь, не накажешь, – что вместо чтения они болтают о том о сем. Она учится мало или не учится вовсе, никакие просьбы и увещевания матери не могут понудить ее к серьезным занятиям. Нормальное, естественное развитие нарушено слишком ранним браком по принуждению. Формально – женщина, фактически же еще ребенок, Мария Антуанетта должна величественно нести высокое звание первой дамы королевства и в то же время на школьной скамье приобретать самые элементарные познания из программы начальной народной школы. То с ней обращаются как с важной особой, то задают головомойку, словно малому неразумному ребенку. Мадам де Ноай требует от нее представительности, тетушки – участия в интригах, мать – образованности, юное же ее сердце ничего не хочет, только жить и чувствовать себя молодым. И при таких противоречиях возраста и положения, своей воли и воли других, в этом, в общем-то, прямодушном характере возникает некое необузданное беспокойство, стремление к свободе, которое позже столь роковым образом определит судьбу Марии Антуанетты.
* * *
Мария Терезия знает об опасном и рискованном положении своей дочери при чужом дворе, она знает и о том, что этому очень юному, легкомысленному и ветреному существу с помощью одного лишь инстинкта не избежать всех капканов интриг, всех силков дворцовой политики. Вот поэтому-то она и направляет послом в Париж лучшего из своих дипломатов, преданного друга, графа Мерси. «Я боюсь чрезмерной ребячливости в моей дочери, – пишет она ему с поразительной откровенностью, – боюсь влияния на нее лести окружающих, ее лености и нерасположенности к серьезной деятельности и поручаю Вам, поскольку полностью Вам доверяю, следить за тем, чтобы она не попала в дурные руки». Более удачного выбора императрица не могла бы сделать. Бельгиец по происхождению, но беззаветно преданный монархине, человек двора, но не придворный, способный трезво мыслить, но при этом отнюдь не сухарь, умный, хотя и не гениальный, этот богатый, нечестолюбивый холостяк, единственная цель жизни которого – безупречная служба своей монархине, принимает предлагаемый ему сторожевой пост со всем присущим ему тактом и с трогательной верностью. Формально он посланник императрицы при французском дворе, в действительности же – око, недремлющее око, спасительная рука матери. Благодаря его точным и подробным сообщениям Мария Терезия может наблюдать за своей дочерью из Шёнбрунна, словно в подзорную трубу. Она знает о любом платье, надеваемом дочерью, о том, что та делает каждый день, как попусту тратит время, с кем разговаривает, какие ошибки совершает, ибо Мерси с большим искусством стянул сети вокруг опекаемой им Марии Антуанетты. «Я получаю подробнейшие сведения от трех лиц из прислуги эрцгерцогини, Вермон каждый день сообщает мне все о ней, от маркизы Дюрфор мне известны до последнего слова все ее разговоры с тетушками. У меня много возможностей и путей, чтобы быть полностью информированным о том, что происходит, когда дофина находится у короля. И если ко всему этому добавить мои собственные наблюдения, то окажется, что я знаю все, что она делает, говорит или слышит в течение дня – час за часом. И я непрерывно расширяю свои наблюдения так, чтобы Вы, Ваше Величество, чувствовали себя спокойной». Все, о чем он слышит, все, что выслеживает, – все это верный и честный слуга с беспощадным прямодушием передает императрице. Специальные курьеры – ибо в те времена похищение дипломатической почты было одним из основных приемов дипломатии – перевозят эти интимные донесения, предназначенные исключительно Марии Терезии; и вследствие того, что на конвертах стоит надпись: «Tibi soli»[45], ни канцлер, ни император Иосиф не имеют доступа к этим донесениям. Иногда, правда, простодушная Мария Антуанетта удивляется тому, как быстро и точно Шёнбрунн узнает о каждой мельчайшей подробности ее жизни, но никогда ей в голову не приходит мысль, что этот седовласый, отечески доброжелательный господин является тайным соглядатаем ее матери и что предупреждающие, удивительным образом столь осведомленные письма Марии Терезии внушены и инспирированы ей именно Мерси, ибо у него нет иных средств влиять на своевольную девушку, кроме как используя материнский авторитет. Посланник чужого, хотя и дружественного, двора, он, естественно, не имеет права обучать наследницу престола морально-этическим правилам поведения, не может позволить себе воспитывать будущую королеву Франции, как-то влиять на нее. Вот потому-то, когда он хочет чего-либо добиться от нее, он доставляет Марии Антуанетте письмо взыскательной и любвеобильной матери, которое дофина берет и вскрывает с сильно бьющимся сердцем. Не подчиняющаяся никому на свете, эта легкомысленная девочка испытывает прямо-таки священную робость, стоит ей услышать голос своей матери, даже если он звучит с листков письма. Благоговейно склоняет она голову даже при самых суровых укорах.
Именно вследствие такого неусыпного надзора удается Марии Антуанетте в эти первые годы жизни в Версале избежать чрезвычайной опасности – стать жертвой собственной, ни в чем не знающей меры натуры. Другой, более сильный характер руководит ею – большой и дальновидный ум матери думает за нее, решительная серьезность охраняет ее легкомыслие. И чувство вины, которое императрица испытывает перед Марией Антуанеттой, – вины в том, что из государственных интересов она пожертвовала счастьем юного существа, – мать пытается искупить бесконечной заботливостью.
* * *
Добродушная, сердечная и легкомысленная Мария Антуанетта совсем еще ребенок, она, в сущности, не испытывает по отношению ко всем этим окружающим ее людям никакой антипатии. Ей нравится ее новый дедушка, Людовик XV, который ласков и доброжелателен к ней, она терпеливо сносит старых дев и мадам Этикет, питает доверие к славному духовнику Вермону и чувствует детски почтительное расположение к тихому, приветливому другу ее матери, посланнику Мерси. Но ведь все они – люди пожилые, все они серьезны, сдержанны, торжественны, а ей, пятнадцатилетней, хотелось бы общаться с кем-нибудь непринужденно, дружить попросту, довериться искренне. Ей хотелось бы иметь возле себя товарищей, подруг по играм, а не одних лишь воспитателей, наставников, соглядатаев. Ее юность жаждет юности. Но с кем здесь веселиться, в этом невыносимо чопорном доме из холодного мрамора, с кем играть здесь? Казалось бы, отличным товарищем ее игр мог стать ее собственный супруг, ведь он лишь на год старше ее. Однако, брюзгливый, застенчивый и от застенчивости частенько грубоватый, этот неловкий малый уклоняется от всякого общения со своей юной женой. Он тоже не проявлял ни малейшего желания так рано жениться, и потребуется еще много времени, прежде чем он решит хотя бы просто вежливо обращаться с этой чужой ему девочкой. Остаются лишь младшие братья супруга, граф Прованский и граф д’Артуа. С этими тринадцатилетним и четырнадцатилетним мальчиками Мария Антуанетта иногда проводит досуг, они раздобывают костюмы, играют тайком от взрослых в театр; приближение мадам Этикет заставляет всю «труппу» разбегаться: дофине не пристало быть комедианткой! Но все же этому ребенку-сорванцу нужно к кому-то приласкаться, с кем-то понежничать. Однажды она обращается к посланнику с просьбой – не пришлют ли ей из Вены собаку – «un chien mops»[46]. В другой раз строгая гувернантка с ужасом обнаруживает, что наследница французского престола привела в свои покои двух детишек служанки и в своем нарядном платье ползает и возится с ними по полу. Непрерывно, с первого до последнего часа, свободный, живой человек в Марии Антуанетте борется против искусственности этого окружающего ее после замужества мира, против жеманной патетичности фижм и корсетов. Эта веселая и легкомысленная венка всегда чувствует себя чужой в тысячеоконном чопорном дворце Версаля.
Возня вокруг одного слова
«Не вмешивайся в политику, не интересуйся чужими делами», – все время повторяет Мария Терезия своей дочери. В сущности, это ненужное предостережение, ведь для юной Марии Антуанетты нет на свете ничего дороже, чем собственные развлечения. Любое дело, требующее глубокого размышления или систематического обдумывания, невыразимо скучно этой молодой самовлюбленной женщине, и то, что в первые же годы своей жизни в Версале она все-таки оказывается вовлеченной в жалкую дворцовую интригу, одну из многих, заменивших при дворе Людовика XV высокую государственную политику его предшественника, действительно происходит помимо ее воли. К моменту ее появления в Версале уже существуют две партии. Королева давно умерла, и первыми дамами Франции следовало бы, естественно, считать трех дочерей короля, они должны быть – по женской линии – самыми влиятельными особами королевства. Однако лишенные кругозора, ограниченные и мелочные, эти ханжи и интриганки не в состоянии занять подобающее им место, их хватает лишь на то, чтобы сидеть во время мессы в первом ряду и на приемах находиться возле короля. Нудные, вечно всем недовольные старые девы, они не имеют никакого влияния на короля-отца, у которого на уме одни плотские удовольствия. Поскольку эти дамы не обладают властью, не имеют влияния, не могут раздавать ни постов, ни должностей, ни один из придворных не домогается их благосклонности, и все сияние славы, вся честь достается той, которая, собственно, никакого отношения к династии не имеет, – последней метрессе короля, мадам Дюбарри. Вышедшая из самых низов, женщина с темным прошлым и, если верить слухам, каким-то образом попавшая в опочивальню короля из публичного дома, она, чтобы проникнуть в высшее общество, заставляет своего слабовольного любовника купить ей аристократического супруга, графа Дюбарри, чрезвычайно покладистого мужа, навсегда исчезнувшего тотчас же после оформления брачного контракта. Но дело сделано, его имя дает бывшей уличной девке доступ в Версаль. Вторично на глазах всей Европы разыгрывается потешный и унизительный фарс: христианнейшему королю представляют при дворе его любовницу как даму дворянского рода, а он делает вид, что никогда раньше с нею не встречался. Введенная таким образом в общество, мадам Дюбарри перебирается в Версаль и живет во дворце рядом со скандализированными дочерьми короля-любовника, всего в трех комнатах от них. Покои ее соединяются с покоями короля специально построенной лестницей. Своими прелестями, действие которых хорошо проверено, а также с помощью еще не прошедших проверки, услужливых, смазливых девушек, которых она время от времени подсовывает сладострастному старику для придания ему бодрости, держит она его в своих руках. К благосклонности короля, к его расположению существует лишь один путь – через салон мадам Дюбарри. И естественно, поскольку она обладает правом одаривать, придворные теснятся в нем, посланники всех властителей почтительно ожидают в ее приемной, короли, князья шлют ей презенты. Она может вынудить министра уйти в отставку, дать доходную должность, приказать строить себе замки за счет королевской казны; тяжелые бриллиантовые подвески сверкают у ее полной шеи, массивные кольца искрятся, блестят на руках, которые почтительно целуют высокопреосвященства, князья, честолюбцы. Корона невидимо светится в ее пышных каштановых волосах.
Все королевские милости щедро изливаются на эту некоронованную властительницу алькова, лесть и благоговение окружают эту дерзкую развратницу, нагло узурпировавшую власть первой дамы Франции. А в дальних комнатах дворца раздосадованные дочери монарха брюзжат и жалуются на наглую, продажную тварь, навлекшую позор на весь двор, сделавшую их отца посмешищем, правительство – бессильным, семейную жизнь по христианским законам – невозможной. Со всей ненавистью, на которую только способна невольная добродетель (их единственное достояние, ибо они не обладают ни привлекательностью, ни умом, ни достоинством), ненавидят эти три дамы вавилонскую блудницу, захватившую все права их матери-королевы, и целыми днями с утра до вечера только тем и заняты, что высмеивают ее, строят против нее козни.
Но вот какой благоприятный, какой счастливый случай: при дворе появляется новое лицо, пятнадцатилетняя эрцгерцогиня Мария Антуанетта, в силу своего положения – положения будущей королевы – по праву первая дама двора. Ее нужно использовать в борьбе против Дюбарри, и три старые девы сразу же принимаются за работу, делая все, чтобы привлечь на свою сторону эту ничего не подозревающую, опрометчивую девочку. Оставаясь на виду, она должна помочь им, находящимся в тени, загнать и затравить нечистое животное. С кажущейся сердечностью они приближают к себе маленькую принцессу. И уже через несколько недель неожиданно для себя Мария Антуанетта оказывается втянутой в ожесточенную борьбу.
* * *
До своего приезда в Версаль Мария Антуанетта ничего не знала ни о существовании, ни о своеобразном положении мадам Дюбарри: при дворе Марии Терезии, где соблюдались строгие правила нравственности, само понятие «метресса» было неизвестно. На первом званом ужине среди других придворных дам дофина видит разряженную, увешанную драгоценностями особу с пышным бюстом, рассматривающую ее с любопытством, и слышит, как эту особу величают графиней, графиней Дюбарри. Однако преисполненные любви тетушки, опекая неопытную дофину, обстоятельно разъясняют ей все касающееся этой дамы, и уже несколько недель спустя Мария Антуанетта пишет своей матери о «sotte et impertinente créature»[47]. Громко и необдуманно повторяет она все злобные и язвительные замечания, нашептываемые ей любезными тетушками, и скучающий, всегда жадный до подобного рода сенсаций двор получает возможность насладиться замечательным развлечением: Мария Антуанетта вбила себе в голову – или, вернее, тетушки внушили ей – игнорировать эту наглую проныру, которая ходит по версальскому дворцу, пыжась, словно важная птица. В соответствии с железным законом этикета при королевском дворе заговорить с другим может лишь тот, кто стоит на более высокой ступеньке иерархической лестницы. Никогда к высокопоставленной даме дама более низкого звания не обратится первой, она должна почтительнейше ждать, пока заговорят с нею. Естественно, поскольку нет королевы, дофина является дамой самого высокого звания, и она неукоснительно пользуется этим правом. Хладнокровно, издевательски, вызывающе заставляет она эту графиню Дюбарри ждать и ждать обращения к себе. Неделями и месяцами принуждает она эту особу испытывать муки нетерпения, жаждать одного-единственного слова. Конечно, сплетники и подхалимы тотчас же замечают немой поединок и получают от него дьявольское удовольствие. Весь двор, чрезвычайно довольный, греется у огня, искусно раздуваемого тетушками. С напряженным вниманием все следят за Дюбарри, которая, сидя среди других придворных дам, с плохо скрываемым бешенством видит, как эта маленькая дерзкая блондинка оживленно, возможно даже нарочито оживленно, беседует с другими, но стоит лишь ей, графине Дюбарри, попасть в поле зрения Марии Антуанетты, как та сразу же поджимает свои несколько выпяченные габсбургские губки и смотрит на сверкающую бриллиантами графиню как на пустое место, смотрит словно сквозь стекло.
В сущности, Дюбарри не злой человек. Как настоящая женщина из народа, она обладает всеми чертами, присущими людям ее сословия: известным добродушием выскочки, дружеской приветливостью со всеми, кто к ней доброжелателен. Из тщеславия она окажет услугу любому, кто ей польстит, небрежно и щедро одарит всякого, кто ее об этом попросит; ее не назовешь завистливой или недоброй. Но именно потому, что Дюбарри так быстро, сложными путями выбралась из самых низов наверх, ей мало обладать властью – она должна ею чувственно, осязаемо наслаждаться, она хочет греться в лучах непристойного сияния, и, самое главное, она желает, чтобы это сияние считалось пристойным. Сидеть в первом ряду среди придворных дам, носить роскошнейшие платья, владеть лучшими бриллиантами, лучшей каретой, самыми быстрыми рысаками – все это она без труда получает от безвольного, во всем ей послушного любовника, ей ни в чем нет отказа. Но трагикомедия любой незаконной власти (даже Наполеон не избегнет этого!) заключается в том, чтобы добиться признания законной властью. Вот то, к чему так неотступно стремится ее тщеславие. И несмотря на то что графиня Дюбарри окружена сильными мира сего, избалована придворными, помимо всех уже исполненных желаний, она страстно хочет исполнения еще одного – чтобы дофина, первая дама двора, признала ее, чтобы эрцгерцогиня из дома Габсбургов сердечно и приветливо приняла ее. Но мало того что эта petite rousse[48] (так в своей бессильной ярости зовет она Марию Антуанетту), эта маленькая, шестнадцатилетняя дурочка, которая еще и говорить-то прилично по-французски не умеет, которая до сих пор не в состоянии справиться со смехотворной малостью, не может заставить собственного мужа исполнять свои супружеские обязанности, мало того что эта невольная девственница все время поджимает губы и игнорирует ее, мадам Дюбарри, на глазах всего двора – она осмеливается еще совершенно открыто, бесстыдно насмехаться над нею, – над нею, самой могущественной женщиной двора. И вот этого-то Дюбарри терпеть не желает!
* * *
Право в этом принявшем гомерические формы споре о чине, о положении при дворе, несомненно, на стороне Марии Антуанетты. Она более высокого звания, ей незачем говорить с такой особой, как графиня, которая по положению много ниже наследницы престола, даже если на груди этой особы сверкают бриллианты стоимостью в семь миллионов. Однако за спиной Дюбарри стоит настоящая власть: король полностью в ее руках. Нравственно совершенно опустившийся, абсолютно безразличный к интересам государства, своей семьи, подданных, всего света, высокомерный циник – après moi le déluge[49], Людовик XV ищет для себя лишь покоя и удовольствий. Пусть жизнь идет по заведенному порядку, его не заботят нравы и обычаи двора. Король прекрасно понимает, что, займись он ими, пришлось бы начинать с себя. Он достаточно долго правил, а эти оставшиеся несколько лет хочется пожить, пожить для себя, пусть даже все кругом рушится. Какая досада, что внезапно разыгравшаяся дамская война нарушает его покой! В соответствии со своими эпикурейскими принципами он предпочел бы не вмешиваться. Однако Дюбарри прожужжала ему уши, каждодневно повторяя одно и то же: она не позволит девчонке унижать себя, она не хочет быть посмешищем всего двора, он должен ее защитить, сберечь ее честь и тем самым свою собственную. Наконец королю надоедают эти сцены и слезы; он приглашает к себе фрейлину Марии Антуанетты мадам де Ноай, чтобы разъяснить, кто здесь хозяин. Сначала он говорит лишь любезности в адрес супруги своего внука, затем делает несколько замечаний: ему кажется, что дофина позволяет себе высказываться несколько свободнее, чем следует, о том, что видит, и было бы хорошо обратить ее внимание на то, что подобное поведение может оставить весьма неприятное впечатление в интимном кругу семьи. Фрейлина тотчас же (как и ожидал король) передает предупреждение Марии Антуанетте, та рассказывает об этом тетушкам и Вермону, последний – австрийскому посланнику Мерси, который, естественно, страшно взволнован таким сообщением – альянс, альянс! – и специальным курьером отправляет в Вену подробное изложение столь щекотливого дела. Очень неловкая ситуация для набожной, богомольной Марии Терезии! Должна ли она, безжалостно подвергающая порке плетьми дам подобного сорта в своей знаменитой венской комиссии нравов и отправляющая их в исправительный дом, должна ли она предписывать своей дочери учтивое и вежливое отношение к такой твари? Но, с другой стороны, может ли она принять сторону противников короля? Мать, суровая католичка и вместе с тем трезвый политик, оказывается в глубоком конфликте с самой собой. Наконец старой лисе, опытному дипломату, удается найти выход из трудного положения – она поручает все это дело государственному канцлеру. Не сама она пишет дочери, а предлагает канцлеру Кауницу подготовить для Мерси рескрипт: тот должен дать Марии Антуанетте соответствующие рекомендации. Таким образом и нравственные устои сохраняются, и девочке даются советы, как должно ей себя вести. И Кауниц разъясняет: «Отказ в учтивости лицам, принимаемым королем при дворе, оскорбляет весь двор. В равной мере это относится также и к особам, которых сам государь приблизил к себе, и никому не дано права ставить под сомнение обоснованность этого приближения. Выбор государя, монарха должен почитаться беспрекословно».
Сказано ясно, предельно ясно. Но тетушки подзуживают Марию Антуанетту. Прочитав письмо, она небрежно, в своей обычной манере, говорит Мерси: «Да, да» и «Хорошо», но про себя думает, что этот старый парик Кауниц может болтать, сколько ему угодно, но никаким канцлерам она не позволит соваться в ее личные дела. Едва поняв, как ужасно злится глупая особа – «sotte créature», высокомерная девочка получает двойное удовольствие от всего этого дела; как ни в чем не бывало она продолжает свою недобрую игру в молчанку. Каждый день встречаясь с фавориткой на балах, на празднествах, за карточным и даже за обеденным столом короля, она наблюдает, как та ждет, смотрит искоса и дрожит от возбуждения, когда дофина проходит вблизи нее. «Жди, голубушка, жди хоть до второго пришествия». И каждый раз дофина презрительно поджимает губы, едва только ее взгляд случайно падает на эту особу, – с ледяным безразличием проходит она мимо. Слово, так страстно ожидаемое Дюбарри, королем, Кауницем, Мерси и даже втайне Марией Терезией, остается несказанным.
Итак, война объявлена открыто. Словно перед петушиным боем, придворные толпятся вокруг обеих женщин, полных решимости молчать: одна – со слезами бессильной ярости, другая – с презрительной усмешкой превосходства. Кто настоит на своем: законная властительница Франции или незаконная? Каждый хочет видеть исход боя, каждый готов держать пари с другими. Годы и годы Версаль не был свидетелем такого занимательного спектакля.
* * *
Но теперь уже рассержен король. Привыкший к тому, что стоит лишь моргнуть глазом, как в этом дворце все раболепно ему повинуются, что каждый лакейски спешит исполнить его приказание прежде, чем он отчетливо произнесет таковое, он, христианнейший владыка Франции, впервые чувствует сопротивление. Девочка-подросток осмеливается открыто ослушаться его приказа. Проще всего было бы, конечно, призвать к себе эту дерзкую упрямицу и дать ей нагоняй. Но в душе этого безнравственного и крайне циничного человека еще шевелится какая-то робость: королю все же неприятно приказать взрослой жене своего внука, чтобы она общалась с его, короля, метрессой. И в этом затруднительном положении Людовик XV поступает точно так же, как поступила Мария Терезия в аналогичной ситуации: частное, семейное дело он превращает в государственный акт. К своему удивлению, австрийский посланник Мерси получает от французского министерства иностранных дел приглашение для переговоров не в аудиенц-зале, а в покоях графини Дюбарри. Строя всевозможные предположения относительно странного выбора места аудиенции, Мерси начинает догадываться, чем этот выбор продиктован, и оказывается прав: едва он обменивается с министром несколькими словами, как в комнату входит графиня Дюбарри и, сердечно приветствуя его, начинает подробно рассказывать, как несправедливо поступают, приписывая ей недоброжелательные мысли в отношении дофины; она, графиня, оклеветана, подло оклеветана. Доброжелательному Мерси крайне неловко так неожиданно превратиться из представителя императрицы в доверенное лицо Дюбарри, он пытается дипломатично уклониться от прямого ответа. Но тут бесшумно открывается потайная дверь, и вошедший король вмешивается в деликатный разговор. «До сих пор, – говорит он Мерси, – вы были посланником императрицы, прошу вас некоторое время быть моим посланником». Затем он очень откровенно высказывает свое мнение о Марии Антуанетте. Он находит ее очаровательной; но, молодая и очень живая, к тому же замужем за человеком, который не знает, как ее сдерживать, она подпадает под влияние некоторых особ (имеются в виду тетушки, его собственные дочери), дающих подчас плохие советы. Поэтому он просит Мерси использовать все свое влияние, с тем чтобы дофина изменила свое поведение. Мерси сразу понимает – инцидент становится политикой, ему дано прямое и ясное поручение, которое должно быть выполнено: король требует полной капитуляции. Само собой разумеется, Мерси срочно сообщает о положении дел в Вену и, для того чтобы несколько сгладить неловкость своей миссии, накладывает немного косметики на портрет Дюбарри. Она, дескать, не так уж и плоха, да и все ее желание сводится к самой малости – чтобы дофина публично лишь однажды обратилась к ней. Одновременно он посещает Марию Антуанетту, настаивает, не скупится на крайние средства. Он запугивает ее, шепчет ей о яде, с помощью которого при французском дворе не раз устраняли высокопоставленных лиц, и особо красноречиво живописует все следствия ссоры, которая может возникнуть между Габсбургами и Бурбонами. Это – его козыри: он возлагает на Марию Антуанетту всю вину в случае, если из-за ее поведения развалится альянс, дело всей жизни ее матери.
И действительно, обстрел из тяжелых орудий оказывается эффективным: Мария Антуанетта дает себя запугать. Со слезами гнева на глазах она обещает посланнику в определенный день во время партии в карты обратиться к Дюбарри со словом приветствия. Мерси вздыхает с облегчением. Слава богу! Альянс спасен.
* * *
В интимном кругу двора ожидают необычного гала-представления. Секретно, из уст в уста передается оповещение о спектакле: наконец-то нынче вечером дофина впервые обратится к Дюбарри. Добросовестно устанавливаются декорации, заранее уславливаются о необходимых репликах. Вечером, во время приема – так договорились посланник и Мария Антуанетта, – к концу партии в карты, Мерси должен подойти к графине Дюбарри и заговорить с нею. Затем, как бы случайно, проходящая мимо дофина приблизится к посланнику, раскланяется с ним и при этом скажет несколько слов фаворитке. Все отлично спланировано. Но, к сожалению, вечернее представление срывается, тетушки не могут примириться с публичной победой ненавидимой ими соперницы: они сговариваются, чтобы прервать представление прежде, чем настанет черед сцене примирения. Мария Антуанетта является с благими намерениями, спектакль должен состояться. Мерси в соответствии с разработанным сценарием как бы случайно приближается к мадам Дюбарри и завязывает с ней разговор. И Мария Антуанетта начинает предусмотренный планом постановки обход присутствующих. Она беседует с одной дамой, с другой, затем со следующей, несколько затягивает этот разговор, может быть из трусости, досады или из-за некоторого возбуждения. Теперь между нею и Дюбарри только одна дама, последняя; еще пара минут – и она подойдет к Мерси и фаворитке. В этот решающий момент мадам Аделаида, основная подстрекательница среди тетушек, совершает смелый поступок. Она быстро подходит к Марии Антуанетте и говорит повелительно: «Уже пора, пойдем! Мы должны ждать короля у мадам Виктории». Застигнутая врасплох, Мария Антуанетта пугается, лишаясь мужества; растерявшись, она не решается отказать тетушке, и в то же время ей не хватает находчивости быстро сказать несколько ничего не значащих слов ожидающей Дюбарри. Она краснеет и в замешательстве уходит, скорее даже бежит, а слово, страстно ожидаемое, обещанное, завоеванное дипломатическими ухищрениями, согласованное четырьмя действующими лицами, – слово это остается непроизнесенным. Окружающие ошеломлены. Пьеса сорвана; не примирение принесла она, а новое оскорбление. Злопыхатели потирают руки, всюду, от парадных покоев до лакейских, говорят, посмеиваясь, о том, что Дюбарри тщетно ждала милости дофины. Но Дюбарри кипит от гнева, и, что еще опаснее, Людовик XV приходит в ярость. «Я вижу, господин Мерси, – говорит он, разозленный, посланнику, – к вашим советам, к сожалению, не прислушиваются. Придется вмешаться мне самому».
* * *
Король Франции гневается и угрожает, мадам Дюбарри неистовствует в своих покоях, австро-французский альянс может развалиться, мир в Европе – под ударом. Немедленно посланник сообщает в Вену о неприятном обороте дел. Требуется участие императрицы, требуется ее выдающийся ум. Должна вмешаться сама Мария Терезия, лишь она, единственная во всем свете, может справиться с этим упрямым, неразумным ребенком. Марию Терезию очень пугают эти события. Отпуская свою дочь во Францию, она действительно предполагала, что ее девочку удастся уберечь от неблаговидного занятия – политики, и еще тогда писала своему посланнику: «Я открыто признаюсь, что не хочу, чтобы моя дочь оказывала какое бы то ни было решающее влияние на государственные дела. Я на себе испытала всю тяжесть этого бремени – управления большой империей, а кроме того, я знаю молодость и легкомыслие моей дочери, а также то, что у нее нет никаких наклонностей к любым серьезным занятиям (к тому же никакими основательными знаниями она не обладает); ничего хорошего ожидать от такой приходящей в упадок монархии, как французская, не приходится. Моей дочери не улучшить положения в стране; скорее всего, оно будет непрерывно ухудшаться; я предпочитаю, чтобы в этом повинен был какой-нибудь министр, а не мой ребенок. Поэтому я не хочу говорить с нею о политике и государственных делах».
Однако на этот раз – таков рок! – старая женщина с трагической судьбой должна изменить сама себе; с некоторых пор у Марии Терезии появились серьезные политические заботы. Сомнительное, не очень-то чистое дельце обделывают в Вене. Вот уж несколько месяцев, как от ненавидимого ею Фридриха Великого, которого она считает посланцем Люцифера на земле, и от Екатерины Российской, которой она тоже нисколько не доверяет, исходит весьма рискованное предложение о разделе Польши, и восторженный прием, который нашла эта идея у Кауница и ее соправителя Иосифа II, смущает ее совесть. «Любые разделы по своей сущности несправедливы и вредны для нас. Я не могу не сожалеть об этом предложении и должна признать, что стыжусь его». Она тотчас же поняла всю неприглядность этой политической идеи, поняла, что это нравственное преступление, разбойничий набег на беззащитную и безвинную страну. «Какое право имеем мы грабить невинных, если всегда считали себя их защитниками?» С искренним негодованием отклоняет она предложение, равнодушная к тому, что ее нравственные соображения могут быть объяснены слабостью. «Я предпочитаю, чтобы нас считали слабыми, нежели бесчестными», – мудро и благородно заявляет она. Но Мария Терезия давно уже не самодержавный властелин. Иосиф II, ее сын и соправитель, грезит о войне, о расширении государства, о реформах, тогда как она, прекрасно понимая искусственность и неустойчивость Австрийской империи, думает лишь о том, чтобы сберечь, сохранить ее в существующих границах. Чтобы противодействовать влиянию матери-императрицы, он робко пытается следовать во всем ее злейшему врагу, солдату до мозга костей, Фридриху Великому, и, к своему глубочайшему огорчению, стареющая женщина видит, что преданнейший ее слуга, человек, так высоко вознесенный ею, Кауниц склоняется перед восходящей звездой ее сына. Измученная, усталая, разочарованная в своих надеждах мать и императрица охотно сложила бы с себя государственную власть. Но чувство ответственности удерживает ее от этого шага. С пророческим прозрением предугадывает она – удивительным образом эта ситуация напоминает ту, в которой оказался Франц Иосиф, старый, усталый человек, до конца дней также не выпустивший власть из своих рук, – что нервозная, беспокойная сущность этих поспешно задуманных сыном реформ может повести к распространению волнений в государстве, сохранить порядок в котором становится все труднее и труднее. Так и борется до последнего часа эта набожная и глубоко порядочная женщина за то, что она ценит превыше всего, – за честь. «Когда все мои земли были определены, я уповала на свои права и на Божью помощь. Однако же в настоящем случае, когда не право на моей стороне, а обязательства, право и справедливость обернулись против меня, я теряю покой, более того, меня гложет беспокойство, мучают укоры сердца, потому что я никогда не обманывала так кого бы то ни было или себя самое, не привыкла выдавать лицемерие за искренность. Честь и вера навсегда утрачены, потеряно именно то, что составляет величайшую ценность и истинную силу настоящей монархии».
Но Фридриха Великого совестливым не назовешь, и он только насмехается у себя в Берлине: «Императрица Екатерина и я, мы два старых разбойника, а вот как будет эта старая ханжа отчитываться перед своим духовником?» Он торопит, Иосиф II запугивает, предсказывая неминуемую войну, если Австрия не присоединится к Пруссии и России. Наконец, вся в слезах, с разбитым сердцем и раненой совестью, императрица Мария Терезия сдается: «Я недостаточно сильна, чтобы самой вести affaires[50], и поэтому, не без великой скорби, даю им идти своей дорогой», – и подписывает соглашение[51] с замечанием, играющим роль тылового прикрытия: «Поскольку советуют мудрые и опытные люди». Но в глубине души она чувствует себя соучастницей преступления и дрожит в ожидании того дня, когда секретный трактат и его следствия станут известны миру. Что скажет Франция? Равнодушно ли стерпит это разбойничье нападение на Польшу, принимая во внимание альянс, или предъявит притязания на свою долю, хотя сама императрица и не считает раздел Польши законным (ведь вычеркивает же Мария Терезия собственноручно из оккупационного декрета слово «законно»). Все зависит лишь от настроения Людовика XV.
Разве мало этих беспокойств, волнений, жгучего конфликта с совестью, так нет, как снег на голову сваливается еще и тревожное письмо Мерси: король рассержен на Марию Антуанетту, он ясно высказал посланнику свое недовольство, и происходит это именно тогда, когда в Вене так искусно водят за нос глуповатого посланника Версаля принца Рогана. За непрерывной чередой празднеств, увеселительных поездок, охот он не замечает возни вокруг Польши. Теперь же из-за того, что Мария Антуанетта не желает говорить с Дюбарри, раздел Польши может повести к серьезным последствиям, возможно даже к войне. Мария Терезия ужасается. Нет, если уж она, пятидесятишестилетняя женщина, должна была принести государственным интересам столь болезненную жертву – совесть, то ее собственному ребенку, шестнадцатилетней девочке, не следует быть бо́льшим католиком, чем сам папа, быть более нравственной, нежели ее мать. Итак, пишется письмо более энергичное, чем прежние, чтобы раз и навсегда сломить упрямство девочки. Конечно, ни слова о Польше, ничего о государственных интересах, все дело (это, должно быть, недешево далось старой императрице) умышленно умаляется: «Боже мой, чего робеть, чего бояться, отчего бы не обратиться к королю, к человеку, который заменяет тебе отца! Или к тем его близким, с которыми тебе советуют обменяться парой слов! Что тут страшного – поздороваться с кем-то! Стоит ли так гримасничать из-за одного слова о нарядах, о каком-нибудь пустяке? Ты дала себя закабалить настолько, что, по-видимому, ни разум, ни чувство долга даже не в состоянии тебя переубедить. Я не могу более молчать. После беседы с Мерси и его сообщения о том, чего требует твой долг и чего желает король, ты осмелилась ослушаться! Какие разумные мотивы ты можешь назвать мне? Никаких. Ты не должна относиться к Дюбарри иначе, чем к другим женщинам, принимаемым при дворе. Как первая подданная короля, ты обязана показать всему двору, что желание твоего повелителя неукоснительно выполняется тобой. Естественно, если бы от тебя потребовали какую-нибудь низость или домогались интимностей, то ни я и никто другой не посоветовал бы тебе быть послушной, но ведь сейчас разговор идет о каком-то ничего не значащем слове, о слове, которое следует произнести не ради дамы, а ради дела, ради твоего повелителя и благодетеля!»
Эта канонада (не совсем честных аргументов) преодолевает противодействие Марии Антуанетты; необузданная, своевольная, упрямая, она никогда не решилась бы сопротивляться авторитету матери. Габсбургская дисциплинированность, безоговорочное подчинение главе семьи восторжествовали, как всегда, и на этот раз. Еще немножко, формы ради, Мария Антуанетта упирается: «Я не говорю „нет“ и не говорю, что вообще никогда с ней не заговорю. Но не могу же я себя заставить заговорить с ней в определенный час определенного дня, с тем чтобы она о нем заранее всех оповестила и могла торжествовать победу». Но в действительности сопротивление дофины уже сломлено, и эти слова всего лишь последний арьергардный бой. Капитуляция предрешена.
* * *
В новогодний день 1772 года кончается наконец эта героико-комическая дамская война, этот день приносит триумф мадам Дюбарри и поражение Марии Антуанетте. Вновь сцена подготавливается к спектаклю, вновь весь двор приглашается свидетелем и зрителем. Начинается большой новогодний прием. Одна за другой, в строгой последовательности, определяемой званием и положением, шествуют мимо дофины придворные дамы, и среди них герцогиня Эгийон, супруга министра, с мадам Дюбарри. Дофина обращается с несколькими словами к герцогине Эгийон, затем поворачивает голову приблизительно в сторону мадам Дюбарри и говорит не прямо ей, но так, что при известном желании можно предположить, что именно ей, – все присутствующие затаили дыхание, боясь пропустить хотя бы единый слог, – говорит так страстно ожидаемые, с такими ожесточенными боями добытые, поразительные, фатальные слова. «Сегодня в Версале на приеме много людей», – произносит она. Семь слов, семь точно отсчитанных слов заставила себя сказать Мария Антуанетта, но какое чрезвычайное событие, более важное, нежели завоевание провинции, более волнующее, нежели столь необходимые реформы, – наконец-то, наконец-то дофина заговорила с фавориткой. Мария Антуанетта капитулировала, мадам Дюбарри победила. В Версале опять все прекрасно. Версаль наверху блаженства. Король принимает дофину с распростертыми объятиями, нежно обнимает ее, словно вновь обретенного ребенка. Глубоко тронутый Мерси благодарит ее; распираемая от счастья, по залам дворца шествует Дюбарри; разозленные тетушки неистовствуют. Весь двор, сверху донизу, от парадных покоев до подвальных служб, возбужден, жужжит, обменивается новостью, обсуждает ее со всех сторон – Мария Антуанетта сказала графине Дюбарри: «Сегодня в Версале на приеме много людей».
Однако эти семь банальных слов таят в себе глубокий смысл. Этими словами узаконивается большое политическое преступление, этими словами куплено молчаливое согласие Франции на раздел Польши. Не только Дюбарри, но и Фридрих Великий и Екатерина этими словами настояли на своем. Унижена не только Мария Антуанетта, но и целая страна.
* * *
Мария Антуанетта побеждена, она знает это, ее юная, еще детская, необузданная гордость получила жестокий удар. Впервые она склонила голову, вторично она не склонит ее до гильотины. Инцидент неожиданно показал, что это мягкосердечное и легкомысленное создание, эта «bonne et tendre Antoinette»[52], как только дело идет о ее чести, обладает духом гордым и непоколебимым. С ожесточением говорит она Мерси: «Один раз я обратилась к ней, но решила этим и ограничиться. Эта женщина меня больше не услышит». И своей матери она дает ясно понять, что после единственной уступки дальнейших жертв не будет: «Вы должны верить мне, я всегда буду отказываться от своих предубеждений, но лишь до тех пор, пока от меня не потребуют чего-либо оскорбительного для меня или затрагивающего мою честь». Не имеет значения, что мать, возмущенная этим первым самостоятельным порывом своей малышки, энергически отчитывает ее: «Ты смешишь меня, думая, что я или мой посланник можем когда-либо дать тебе совет, который вел бы к оскорблению твоей чести или какому бы то ни было покушению на твою добропорядочность. Мне становится страшно за тебя, когда я вижу такое волнение из-за нескольких слов. И когда ты говоришь, что больше не хочешь делать подобное, я дрожу за тебя». Не имеет значения, что Мария Терезия вновь и вновь пишет ей: «Ты обязана обращаться с нею как с любой другой придворной дамой. Ты обязана вести себя так ради меня и короля». Напрасно Мерси и другие беспрестанно настойчиво уговаривают ее, что к Дюбарри следует относиться дружески и тем самым снискать благосклонность короля, все разбивается о пробудившееся чувство собственного достоинства. Губы Марии Антуанетты после того единственного случая, когда она с отвращением произнесла против своей воли ожидаемые слова, теперь упорно сжаты, никакие угрозы, никакие соблазны не заставят их вновь сказать что-либо этой особе. Семь слов сказала она Дюбарри, и никогда ненавистная женщина не услышит от нее восьмого.
* * *
Лишь однажды, 1 января 1772 года, мадам Дюбарри одержала победу над австрийской эрцгерцогиней, над дофиной Франции, и, по всей вероятности, имея таких могущественных союзников, как король Людовик XV и императрица Мария Терезия, придворная кокотка могла бы и далее вести войну против будущей королевы. Однако бывают битвы, после которых победитель, почувствовав силу своего противника, ужасается победе над ним и приходит к мысли: а не лучше ли, не умнее ли убраться с поля боя и заключить мир? Триумф мадам Дюбарри не доставил ей большой радости. Внутренне она, это добродушное, незначительное существо, и с самого начала не испытывала абсолютно никаких враждебных чувств к Марии Антуанетте. Опасно уязвленная в своей гордости, она ничего иного и не желала, как этого маленького удовлетворения. И вот она удовлетворена, более того, сконфужена своей публичной победой, испугана ею. Ибо она достаточно умна, чтобы понимать, что вся ее власть, все могущество держится на нетвердых опорах – на подагрических ногах быстро дряхлеющего человека. Случись апоплексия шестидесятидвухлетнего старика, и уже завтра эта petite rousse может стать королевой Франции. Летр де каше[53] – роковое сопроводительное письмо в Бастилию – подписывается очень быстро. Поэтому, едва победив Марию Антуанетту, мадам Дюбарри тотчас же предпринимает добросовестные и откровенные попытки примириться с нею. Она смягчает свое ожесточение, она смиряет свою гордость; она появляется на всех вечерах дофины и, хотя не удостаивается более ни одним словом, не показывает ни в коей мере своей досады, а, наоборот, непрерывно дает понять дофине через посредство своих доброжелателей и случайных вестников, насколько сердечно она к ней расположена. Сотней способов стремится она оказывать своей единственной противнице непрошеную протекцию у венценосного любовника; наконец, прибегает даже к дерзкому средству: так как Марию Антуанетту не привлечь любезностями, она пытается купить ее благосклонность. При дворе знают – и знают, к сожалению, хорошо, как это покажет пресловутая афера с колье, – что Мария Антуанетта безумно любит драгоценности. И Дюбарри решает – замечательно, что десять лет спустя кардинал Роган последует точно такому же ходу мыслей, – попробовать приручить дофину подарками. Известный ювелир, тот самый Бомер, замешанный впоследствии в афере с колье, обладает бриллиантовыми подвесками, которые оценены в семьсот тысяч ливров. Возможно, Мария Антуанетта тайно или открыто уже восхищалась этими украшениями, может быть, даже высказала желание иметь их, и Дюбарри об этом узнала. И вот однажды по ее поручению одна из придворных дам шепчет дофине, что если та действительно хочет иметь бриллиантовые подвески, то мадам Дюбарри будет счастлива оказать ей услугу, уговорить короля подарить их ей. Но Мария Антуанетта ни единым словом не отвечает на такое наглое предложение, презрительно отворачивается и холодно смотрит мимо своей противницы; нет, даже за все драгоценности мира эта мадам Дюбарри, однажды унизившая ее, не услышит из ее уст восьмого слова. Новая гордость, новая уверенность в себе появилась у этой семнадцатилетней женщины: ей не нужны более драгоценности чьей-то милостью, ибо на своей голове она уже чувствует корону.
Завоевание Парижа
Темными вечерами с холмов, окружающих Версаль, хорошо видно сияние, излучаемое Парижем, – так близко лежит город от дворца. Кабриолет на пружинных рессорах покрывает это расстояние за два часа, пешеход – менее чем за шесть часов. Казалось бы естественным, что новая престолонаследница на второй, на третий или четвертый день после бракосочетания посетит столицу своего будущего королевства. Однако подлинный смысл или, вернее, бессмыслица церемониала как раз в том и заключается, чтобы подавлять или искажать естественное во всех его проявлениях. Между Версалем и Парижем для Марии Антуанетты воздвигнута невидимая преграда – этикет. Впервые посетить столицу наследник престола со своей супругой может лишь особенно торжественно, по специальному извещению, заранее испросив разрешение короля. Но как раз этот торжественный въезд – joyeuse entrée[54] – Марии Антуанетты милые родственники и пытаются как можно больше оттянуть. И хотя все они смертельно ненавидят друг друга: старые тетки-ханжи, Дюбарри и пара честолюбивых братцев, граф Прованский и граф д’Артуа, – в этом они едины. Все они сообща ревностно пытаются закрыть дорогу Марии Антуанетте в Париж; они завидуют тому триумфу, который, очевидно, ожидает ее там как будущую королеву Франции. Каждую неделю, каждый месяц камарилья выискивает и находит новую помеху, новый предлог; проходит шесть, двенадцать, двадцать четыре, тридцать шесть месяцев, год, два, три, а Мария Антуанетта все еще остается за золотой решеткой Версаля. Наконец, в мае 1773 года, Мария Антуанетта теряет терпение и переходит в открытое наступление. Поскольку церемониймейстеры, выслушав ее желание, по-прежнему озабоченно покачивают пудреными париками, она обращается прямо к королю. Он не находит в ее просьбе ничего странного и, питая слабость ко всем красивым женщинам, тотчас же, к досаде придворной клики, дает свое полное согласие прелестной супруге внука. Более того, он предоставляет ей самой определить дату своего торжественного въезда в Париж.
Мария Антуанетта выбирает 8 июня. Но поскольку король дал ей безусловное разрешение, ветренице доставляет удовольствие подшутить над дворцовым регламентом за то, что три года ее не пускали в Париж. И, подобно иным обрученным, которые втайне от своих родных до благословения перед алтарем спешат насладиться прельстительным запретным плодом, Мария Антуанетта уговаривает супруга с деверем перед торжественным въездом в Париж тайно посетить его. За несколько дней до joyeuse entrée они приказывают заложить кареты и в масках, переодевшись, едут на бал в Оперу, в Париж-Мекку, в город, находящийся под запретом. Но так как на следующий день утром все они появляются в Версале к ранней мессе, никто об этом недозволенном приключении не узнает. Обходится без неприятностей, и дофина счастлива. Наконец-то она впервые отомстила ненавистному этикету.
И после того, как запретный плод, Париж, отведан тайком, официальный торжественный въезд оказывается особенно эффектным.
Вслед за королем Франции и Царь Небесный дает на него свое торжественное согласие: 8 июня – безоблачный, сияющий день, зрелище привлекает необозримые толпы зевак. Вся дорога от Версаля до Парижа превращается в единый поток людей, волнующийся, разукрашенный флажками, знаменами, цветами. У городских ворот процессию ожидает маршал Бриссак, губернатор города, в парадной карете, чтобы торжественно вручить мирным завоевателям городские ключи на серебряном подносе. Затем появляются празднично разодетые рыночные торговки и, сдабривая свои поздравления сочными прибаутками, преподносят высоким гостям первые плоды урожая, цветы, фрукты (через полтора десятка лет совсем-совсем по-другому будут они приветствовать Марию Антуанетту!). Гремят пушки Дома инвалидов, Ратуши и Бастилии. Медленно катит королевская карета вдоль дороги, по набережной Тюильри к собору Парижской Богоматери; всюду – в кафедральном соборе, в монастырях, в университете – встречают гостей речами, они проезжают под специально возведенными триумфальными арками, мимо леса флагов и флажков. Однако самым впечатляющим является выражение чувств народа к дофину и его супруге. Со всех улиц гигантского города люди стекаются десятками, сотнями тысяч, чтобы полюбоваться юной парой, и вид этой неожиданно столь восхитительной и восхищенной молодой женщины возбуждает в толпе сильное воодушевление. Люди, ликуя, аплодируют, размахивают шляпами, платками; дети, женщины протискиваются вперед, и, когда Мария Антуанетта с балкона Тюильри видит вокруг себя необозримую толпу воодушевленных людей, она почти пугается: «Мой бог, как много народу!» Но маршал Бриссак склоняет перед ней голову и с истинно французской галантностью отвечает: «Мадам, возможно, его высочеству дофину это не понравится, но вы видите перед собой двести тысяч влюбленных в вас».
Эта первая встреча с народом производит на Марию Антуанетту неизгладимое впечатление. Не склонная по своей природе к глубоким обобщениям, однако одаренная способностью быстро схватывать, она всегда все события вокруг себя воспринимает лишь на основе непосредственных личных впечатлений, на основе чувств и образных представлений. И вот сейчас, когда ее окружает огромная толпа, когда вокруг нее вздымается необозримый лес флагов, воздух сотрясается от многоголосого крика приветствий, безымянная живая масса теплой волной пенится у ее ног, лишь сейчас впервые начинает она догадываться о блеске и величии положения, уготованного ей судьбой. До сих пор в Версале ее именовали Madame la Dauphine[55], но это был всего лишь титул среди тысячи других титулов и званий, некая высокая ступень бесконечной иерархической лестницы дворянских рангов, пустое слово, холодное понятие. И только теперь впервые Мария Антуанетта чувствами постигает пламенный смысл и гордые обязательства, заключенные в словах «престолонаследница Франции». Потрясенная, пишет она своей матери: «Последний вторник был для меня праздником, который я никогда не забуду: наш въезд в Париж. Нам оказали самые высокие почести, но не это тронуло меня глубже всего, а нежность и волнение бедного люда, который, несмотря на то что он обременен налогами, был счастлив видеть нас. В саду Тюильри собралась такая густая толпа, что три четверти часа мы не могли двинуться ни вперед, ни назад и нам пришлось потом еще целых полчаса задержаться на открытой террасе. Я не в состоянии описать Вам, дорогая мама, те знаки любви и радости, которые нам при этом выказывались. И прежде чем отправиться в обратный путь, мы приветствовали народ, помахав ему на прощание рукой, что доставило ему большую радость. Как счастливо сложилось, что в нашем положении так легко завоевать дружбу! И все же нет ничего дороже ее, я очень хорошо почувствовала это и никогда не забуду».
Это едва ли не самые первые глубоко личные слова, которые мы читаем в письмах Марии Антуанетты к своей матери. Сильные впечатления оставляют в ее восприимчивой душе заметный след и радостное нравственное потрясение, вызванное ничем не заслуженной и столь бурно выраженной любовью народа, возбуждают в ней чувство благодарности, чувство великодушия. Но, быстро загорающаяся, Мария Антуанетта столь же забывчива. После нескольких подобных встреч она уже принимает ликование как должное, почести, оказываемые ей, – как безусловно полагающиеся. Радуясь им как ребенок, она принимает их не задумываясь, как и остальные дары жизни. Ей доставляет огромное удовольствие восторженный прием этой толпы, ей очень приятно позволить этому незнакомому, чужому народу любить ее; отныне она наслаждается этой любовью двадцати миллионов как своим законным правом, не подозревая, что право обязывает и что даже самая чистая любовь в конце концов устает, если не чувствует себя вознагражденной.
* * *
Уже первым своим посещением Парижа Мария Антуанетта завоевывает его. Но и Париж тоже сразу же завоевывает Марию Антуанетту. С этого дня она принадлежит Парижу. Часто, а вскоре и слишком часто, начинает она наезжать в этот город соблазнов, город неисчерпаемых удовольствий. Иной раз днем – с соблюдением правил этикета, в сопровождении всех своих придворных дам, порою ночью – с небольшой свитой особо приближенных лиц, чтобы посетить театр, бал и приватно поразвлечься – невинно, а то и несколько рискованно. Лишь теперь, освободившись от однообразного распорядка придворного календаря, этот полуребенок, эта девочка-дикарка обнаруживает, как скучен, как нестерпимо скучен этот стооконный мраморный ящик Версаля со своими придворными реверансами и интригами, со своими чопорными празднествами, как надуты эти язвительные и брюзгливые тетушки, с которыми она по утрам должна слушать мессу, а по вечерам томиться за вязанием чулок. Призрачной, мумиеподобной, надуманной, искусственной по сравнению с непринужденной, волнующей жизнерадостностью Парижа представляется ей вся куртуазность, без внутреннего удовлетворения, без свободы, с напыщенными манерами держать себя, этот вечный менуэт с вечно повторяющимися фигурами, с одними и теми же раз и навсегда установленными движениями и всегда с одним и тем же страхом допустить малейшую оплошность, ничтожнейшую ошибку. Поездка в Париж для Марии Антуанетты – бегство из теплицы, из оранжереи на вольный воздух. Здесь, в сумятице гигантского города, можно исчезнуть, скрыться, ускользнуть от жесткого распорядка дня, определяемого неумолимой стрелкой часов, отдаться игре случая. Здесь можно наслаждаться жизнью, жить только для себя, тогда как там, в Версале, живут лишь для зеркал. И карета с нарядными дамами регулярно – дважды, а то и трижды в неделю – катит в Париж, чтобы вернуться только с рассветом.
Что же видит Мария Антуанетта в Париже? В первые дни из любопытства она осматривает всевозможные достопримечательности, музеи, большие магазины, посещает народные гулянья, а однажды даже выставку картин. Но этим на последующие двадцать лет ее потребность в образовании в пределах Парижа полностью исчерпана. Теперь она отдается исключительно посещению увеселительных заведений, регулярно бывает в Опере, смотрит спектакли в «Комеди Франсез»[56], в Театре итальянской комедии, посещает балы, маскарады, игорные дома, Paris at night, Paris – city of pleasure[57] нынешних богатых американцев. Более всего привлекают ее костюмированные вечера. Свобода маскарада – единственная из свобод, разрешенная ей, пленнице своего положения. Женщина в полумаске может позволить себе шутку, совершенно недопустимую для Madame la Dauphine. Можно с незнакомым кавалером – скучный, неспособный супруг спит дома – провести несколько минут в живой, непринужденной, несколько рискованной беседе, можно свободно говорить с восхитительным молодым шведским графом Акселем Ферзеном, можно, укрывшись под маской, болтать с ним о всякой всячине до тех пор, пока придворные дамы не уведут тебя обратно в ложу, можно танцевать до полного расслабления от усталости горячего гибкого тела. Здесь она имеет право беззаботно смеяться, ах, как великолепно можно провести время в Париже! Но ни разу за все эти годы не переступает она порога дома парижского горожанина, ни разу не присутствует на заседании парламента или академии, не посещает госпиталь или рынок, ни разу не пытается узнать что-либо о повседневной жизни своего народа. В этих увеселительных парижских поездках Мария Антуанетта все время остается в узком кругу светских удовольствий, думая, что уже достаточно сделала для bon peuple – для своего славного, доброго народа, если усталой улыбкой ответила на его восторженные приветствия: ведь восхищенная толпа стоит шпалерами, и, ликуя, приветствуют ее аристократы и богатые горожане, когда она вечером появляется в театре. Всегда и всюду молодая женщина чувствует одобрение своей праздности, своим шумным развлечениям – вечером, когда она едет в город, а усталый люд возвращается с работы домой, и ранним утром, в шесть часов, когда народ идет на работу. Что дурного в этих шалостях, в этой легкомысленной жизни только для себя? В своей порывистой, безрассудной юности Мария Антуанетта считает весь мир счастливым и беззаботным, так как сама она счастлива и беззаботна. И, в душевной простоте полагая, что, отказываясь от удовольствий двора ради театров, балов, маскарадов Парижа, она приближается к народу, на самом-то деле она двадцать лет в своей дребезжащей стеклами роскошной карете на пружинных рессорах проезжает мимо настоящего народа, мимо настоящего Парижа.
* * *
Глубокие впечатления от торжественной встречи, устроенной ей Парижем, как-то меняют Марию Антуанетту. Восхищение посторонних всегда усиливает чувство собственного достоинства: молодая женщина, которую тысячи людей признают красавицей, благодаря этому признанию ее красоты становится еще красивее; нечто подобное происходит и с этой оробевшей девочкой, до сих пор чувствовавшей себя в Версале чужой и ненужной. Новое, молодое чувство – неожиданная для нее самой гордость возникает в ней и полностью уничтожает неуверенность и робость. Исчезает пятнадцатилетняя девочка, опекаемая посланником и духовником, тетушками и другими родственниками, боязливо крадущаяся по комнатам дворца, приседающая в реверансе перед каждой придворной дамой. Внезапно Мария Антуанетта приобретает величественную осанку, которую от нее так долго и безуспешно требовали. Подтянутая, стройная, она, как бы паря, грациозно шествует мимо придворных дам – своих подданных. Все изменяется в ней. Разом проявляется женщина, индивидуальность, даже почерк становится другим: до сих пор неуклюжий, с огромными детскими буквами, он уплотняется в изящных записочках, становится женственно нервным. Правда, нетерпение, беспокойство, отсутствие строгой логической последовательности, опрометчивость – все эти черты ее характера всегда будут обнаруживаться в ее почерке, однако сейчас в нем уже появляется известная независимость. Теперь этой пылкой, созревшей девушке, упоенной полнокровным чувством юности, жить бы личной жизнью, любить бы кого-нибудь. Но политика приковала ее к этому увальню-супругу, до сих пор еще не ставшему мужчиной, и, так как Мария Антуанетта пока не разгадала своего сердца, не знает, кого ей любить, она, восемнадцатилетняя, влюбляется в себя. Сладкий яд лести будоражит ей кровь. Чем больше ею восторгаются, тем больше ей хочется этого, и, прежде чем стать повелительницей по закону, она желает как женщина – своим обаянием, своей привлекательностью – подчинить себе двор, столицу, государство. Почувствовав силу, она хочет проверить себя.
Для первой пробы сил молодой женщины, для проверки того, может ли она диктовать свою волю другим, двору, столице, к счастью, неожиданно появляется отличный повод. Маэстро Глюк закончил свою «Ифигению» и хотел бы, чтобы ее исполнили в Париже. Для очень музыкального венского двора его успех является чем-то вроде дела чести, и Мария Терезия, Иосиф II, Кауниц ожидают от дофины, что она проложит композитору путь к успеху. Выдающимися способностями в распознавании подлинной ценности произведения искусства, безразлично, будь то музыка, живопись или литература, Мария Антуанетта не обладает. У нее есть известный природный вкус, но отнюдь не самостоятельно оценивающий, а пассивно любопытствующий, следующий моде, принимающий с быстро остывающим пылом все признаваемое обществом. На более глубокое понимание у Марии Антуанетты не хватает непременных черт истинно критически мыслящего характера: серьезности, привычки к постоянному труду, рассудительности, чувства уважения к людям. Ведь она ни одной книги не прочла до конца, всегда уклонялась от сколь-нибудь серьезных бесед. Искусство для нее лишь украшение жизни, забава среди других забав; эстетическое наслаждение никогда не вызывает в ней сильных движений души, следовательно, не является подлинным. Музыкой, как, впрочем, и всем другим, она занималась спустя рукава, уроки игры на фортепиано у маэстро Глюка в Вене не многому ее научили. На клавесине она играет по-дилетантски, так же как выступает на сцене любительского театра, как поет в интимном кругу. Предугадать, понять новое и грандиозное в «Ифигении» она, даже не заметившая в Париже своего соотечественника Моцарта, само собой разумеется, не в состоянии. Но Мария Терезия настойчиво рекомендует ей Глюка, и она действительно доброжелательно принимает его, испытывает расположение к этому внешне свирепому, жизнерадостному, веселому человеку. И так как в Париже французская и итальянская оперы плетут коварные интриги, противясь распространению музыки «варваров», Мария Антуанетта желает воспользоваться этим поводом, чтобы показать свою силу. Она настаивает на том, чтобы оперу Глюка, которую господа придворные музыканты признали «неисполнимой», приняли к постановке и немедленно приступили к ее репетиции. Впрочем, протежировать несговорчивому человеку с холерическим темпераментом, одержимому фанатическим упрямством великого художника, не так-то легко. На репетициях, разгневанный, он задает такие головомойки избалованным певицам, что те в слезах бегут жаловаться своим сановным любовникам. Беспощадно терзает он музыкантов, не привыкших к такой тщательности исполнения, распоряжается в театре, словно тиран; сквозь закрытые двери слышны могучие раскаты его голоса, десятки раз грозится он все бросить, вернуться в Вену, и лишь страх перед дофиной, его высокой покровительницей, предотвращает скандал. Наконец, 13 апреля 1774 года, назначается премьера, двор уже заказывает билеты, выездные кареты. Но внезапно заболевает один из певцов. Ему быстро находят замену. Нет, распоряжается Глюк, премьера будет перенесена. В ужасе заклинают его отменить свое решение, ведь двор извещен о премьере. Композитору, к тому же из мещан, да в придачу еще иностранцу, из-за певца, который исполняет свою партию несколько хуже, чем хотелось бы, не следует отменять высокое предписание двора, аннулировать указания всепресветлейших владык. А ему все эти предписания безразличны, кричит твердолобый упрямец, он скорее бросит всю партитуру в огонь, нежели допустит к представлению недостаточно подготовленную оперу. Взбешенный, бросается он к своей покровительнице – Марии Антуанетте. Ее забавляет этот экспансивный человек, она тотчас же становится на сторону bon Gluck[58]. К досаде принцев, выезд отменяется, премьера переносится на 19 апреля. Кроме того, Мария Антуанетта дает указания принять меры к тому, чтобы высокие господа не выражали свистом своего недовольства строптивому музыканту: энергичнейшими способами она открыто подчеркивает, что успех ее земляка – это ее успех.
И действительно, премьера «Ифигении» оказывается триумфом, но скорее это триумф Марии Антуанетты, нежели Глюка. Газеты и публика настроены холодно; они находят, что «опера имеет несколько удачных мест наряду с весьма посредственными», – как всегда, в искусстве грандиозная смелость редко понимается заурядной аудиторией с первого раза. Но Мария Антуанетта вытащила на премьеру весь двор; даже ее супруг, который не пожертвовал бы своей охотой и ради музыки сфер[59], для которого один убитый олень значит куда больше, чем все девять муз, вместе взятые, на этот раз должен быть возле нее. Поскольку нужное настроение устанавливается не сразу, Мария Антуанетта в своей ложе после каждой арии демонстративно аплодирует; из вежливости девери, золовки и весь двор вынуждены прилежно вторить ей, и таким образом вопреки всем интригам этот вечер становится событием в истории музыки. Глюк завоевал Париж, Мария Антуанетта впервые открыто навязала свою волю столице и двору. Это первая победа ее индивидуальности, первая демонстрация силы молодой женщины перед Францией. Еще несколько недель, и титул королевы упрочит власть, которую она уже захватила.
Le roi est mort, vive le roi!
[60]
27 апреля 1774 года на охоте Людовик XV внезапно почувствовал усталость. С сильной головной болью возвращается он в свой любимый дворец Трианон. К ночи врачи констатируют лихорадку и вызывают к больному мадам Дюбарри. На следующее утро они, уже обеспокоенные, дают распоряжение перевезти его в Версаль. Даже безжалостная смерть должна подчиниться еще более безжалостным законам этикета: скончаться или хотя бы сколь-нибудь серьезно болеть французскому монарху дозволено лишь на его парадном ложе: «C’est à Versailles, sire, qu’il faut être malade»[61]. Там одр больного тотчас же обступают три аптекаря и одиннадцать врачей, в том числе пять хирургов, всего четырнадцать персон, каждый из которых шесть раз в час щупает пульс государя. И тем не менее лишь случай помогает установить диагноз: когда вечером камердинер высоко поднимает свечу, один из находящихся возле постели обнаруживает на лице его величества подозрительные красные пятна, и мгновенно всему двору, всем во дворце – от подвалов до чердаков – становится ясно: оспа! Ужас охватывает огромное здание, страх заразиться – и в самом деле вскоре заболевает несколько человек – и, вероятно, еще больший страх царедворцев потерять со смертью короля теплое местечко. Дочери проявляют мужество истинно святых, все дни находятся они возле короля, по ночам мадам Дюбарри самоотверженно остается у его ложа. Престолонаследникам же, дофину и дофине, по династическим законам во избежание возможного заражения запрещено переступать порог королевских покоев; вот уже три дня, как их жизнь приобрела для государства особую ценность. Могучим ударом двор расколот надвое: у постели больного короля дежурят и дрожат люди старого поколения, сила и власть вчерашнего дня, тетушки и Дюбарри. Они прекрасно понимают, что с последним вздохом этих горячечных губ кончится все их величие, все их значение. В других покоях дворца собрались люди нового, грядущего поколения: будущий король Людовик XVI, будущая королева Мария Антуанетта и граф Прованский, который тоже чувствует себя претендентом на престол, поскольку его брату Людовику никак не решиться произвести на свет сына. Между этими двумя группами стоит судьба. Никто не смеет войти ни в покои больного, ни в покои, где восходит солнце новой власти. А между этими покоями, в Ой-де-Бёф[62], в большом вестибюле, ждет трусливая, колеблющаяся масса царедворцев, не знающая, на какую карту поставить, на кого рассчитывать – на умирающего короля или на будущего, что предпочесть – заход солнца или его восход.
* * *
Между тем недуг неумолимо разрушает обессиленный, истощенный, изношенный организм короля. Страшно опухшее, покрытое гнойными язвами живое тело разлагается, а умирающий ни на мгновение не теряет сознания. Дочери и мадам Дюбарри должны обладать большим мужеством, чтобы выдержать тошнотворный смрад, заполняющий королевские покои, несмотря на открытые окна. Вскоре медицина отступает, сражение за тело проиграно, начинается другая битва – битва за грешную душу. Но – какой ужас! – священники отказываются подойти к больному, не хотят причастить, исповедать его. Пусть сначала король, так долго живший в безбожье, только лишь ради своих страстей, пусть он сначала действием выкажет свое раскаяние. Прежде всего должен быть устранен камень преткновения, удалена эта блудница; в безутешном отчаянии дежурит она у ложа, которое без благословения Святой Церкви так долго делила с умирающим. С тяжелым сердцем решается король сейчас, в эти последние, ужасные часы своего одиночества, прогнать от себя единственного человека, к которому внутренне так привязан. Но все яростнее душит его ужас перед муками ада. Глухим от сдерживаемых рыданий голосом прощается он с мадам Дюбарри, и тотчас же ее незаметно переправляют в Рюэй[63], маленький замок под Версалем; там ей надлежит ждать: если король поправится, она вернется к нему.
Лишь теперь, после столь очевидного проявления раскаяния, можно допустить короля к исповеди и покаянию. Лишь теперь переступает порог королевской спальни духовник его величества, самый праздный человек в Версале: за последние тридцать восемь лет он ни разу не исповедовал короля. За священником затворяются двери, и толпящиеся в передней и сгорающие от любопытства придворные, к великому своему огорчению, лишаются возможности подслушать (а это было бы так интересно!) перечень грехов короля Оленьего парка[64]. Однако охотники до скандальных анекдотов с часами в руках добросовестно подсчитывают минуты беседы короля со священником, желая определить, сколько времени потребуется Людовику XV на то, чтобы раскаяться в распутстве и прочих грехах. Наконец, точно через шестнадцать минут, вновь распахиваются двери, духовник выходит из спальни. Но по некоторым признакам видно, что полного отпущения грехов Людовик XV еще не получил: от монарха, который на глазах своих детей на протяжении тридцати восьми лет, в стыде и сраме предаваясь плотскому вожделению, ни разу не облегчал исповедью своего сердца, от такого грешника церковь потребует знаков более глубокого смирения, нежели это тайное покаяние. Именно потому, что, находясь на вершине власти, он мнил себя в греховной беспечности неподсудным законам церкви, церковь требует от него предельной покорности перед Всевышним. Публично перед всеми и для всех грешный король должен выказать раскаяние в своем недостойном поведении. Лишь тогда ему будет позволено принять причастие.
Великолепное представление состоится на следующее утро: могущественный самодержец христианского мира должен принести христианское покаяние перед толпой своих подданных. Вдоль всей лестницы дворца стоят гвардейцы под ружьем, швейцарцы образуют шеренги от капеллы до покоев умирающего, барабаны глухо выбивают дробь все то время, пока высшее духовенство с дарохранительницей торжественно шествует под балдахином. У каждого – горящая свеча в руке, за архиепископом и его свитой дофин с обоими братьями, принцы и принцессы сопровождают святыню до самых дверей опочивальни. У порога они останавливаются и преклоняют колена. Лишь дочери короля и принцы, не имеющие права наследования, входят вместе с духовными лицами в покои умирающего.
В глубокой тишине слышно, как кардинал вполголоса обращается к умирающему, в открытые двери видно, как дает он умирающему причаститься. Затем мгновение, полное трепета и благоговения, – кардинал подходит к порогу спальни и, возвысив голос, говорит собравшемуся двору: «Господа, король поручил мне сказать вам, что он молит у Бога прощения за нанесенные им обиды и за тот дурной пример, который он, король, явил своему народу. Если Бог вновь дарует ему здоровье, он обещает искупить свои грехи, быть поддержкой вере и облегчать судьбу своего народа». С постели слышен легкий стон. Лишь стоящие вблизи с трудом могут понять умирающего. «Если бы у меня были силы, я хотел бы сказать это сам».
* * *
Смерть короля ужасна. Не человек умирает, а разлагается распухшая, почерневшая плоть. Но организм Людовика XV отчаянно борется, как если бы силы всех Бурбонов, силы всех его предков объединились в попытке противостоять неудержному распаду. Эти дни непереносимы для окружающих. Прислуга падает в обморок от омерзительного запаха, дочери безумно устали, врачи, потеряв всякую надежду, давно отступились, все нетерпеливее ждет двор окончания страшной трагедии. Внизу стоят сутками нераспрягаемые лошади, молодой Людовик со своей свитой должен во избежание заражения с последним вздохом короля немедленно переехать в Шуази[65]. Уже всадники оседлали коней, уже упакованы кофры, часами сидят в ожидании слуги и кучера. Все взоры прикованы к маленькой зажженной свече, стоящей у окна в комнате умирающего, в соответствующий момент – так условлено – она будет погашена. Но могучее тело старого Бурбона сопротивляется еще день. Наконец в понедельник, 10 мая, в половине четвертого пополудни, свеча гаснет. И тотчас же тихий шепот начинает перерастать в шум. Из комнаты в комнату стремительной волной несется известие, клич, нарастающий, как ветер: «Король умер, да здравствует король!»[66]
Мария Антуанетта и ее супруг ждут в маленькой комнате. Вдруг они слышат какой-то таинственный шум. Все громче, ближе, ближе, из комнаты в комнату катит вал неразборчивых слов. И вот, как порывом ветра, распахиваются двери, вбегает мадам де Ноай, становится на колени и первая приветствует королеву. За ней толпятся другие, их все больше и больше, весь двор, ибо каждый хочет как можно раньше выразить свои верноподданнические чувства, каждый желает обратить на себя внимание, показать, что он был в числе первых поздравителей. Барабаны выбивают дробь, офицеры взмахивают саблями, с сотен уст срывается: «Король умер, да здравствует король!»
Королевой Франции выходит Мария Антуанетта из комнаты, в которую вошла дофиной. И, пока в покинутом дворце со вздохом облегчения укладывают в давно приготовленный гроб лилово-черный труп неузнаваемо изменившегося Людовика XV, чтобы втихомолку его похоронить, карета с новым королем и новой королевой выезжает через золоченые ворота версальского парка. А на улицах их приветствует ликующий народ, как будто со старым королем ушли старые беды и с новыми владыками начинается новая жизнь.
* * *
В своих то слащавых, то слезливых мемуарах старая болтунья мадам Кампан рассказывает, что, как только Людовику XVI и Марии Антуанетте принесли весть о смерти Людовика XV, оба они упали на колени и, всхлипывая, воскликнули: «Боже милосердный, защити нас, храни нас, мы молоды, мы слишком молоды, чтобы править». Это весьма трогательный анекдот, но, Бог тому свидетель, годится он разве что для букваря. Жаль только, что, подобно большинству анекдотов о Марии Антуанетте, ему присущ один маленький недостаток – очень уж он неловко сочинен и лишен психологической правды. Ханжеская растроганность совершенно чужда лишенному темперамента Людовику XVI, известие о кончине деда никак не могло потрясти его своей неожиданностью. Весь двор вот уже восемь дней с минуты на минуту ждал этой смерти с часами в руках. Еще менее можно было ожидать такой реакции от Марии Антуанетты, которая и этот дар судьбы приняла совершенно беззаботно, как нечто само собой разумеющееся. И не потому, что она властолюбива или ей не терпится взять бразды правления в свои руки. Никогда Мария Антуанетта не мечтала уподобиться Елизавете, Екатерине, Марии Терезии: для этого ей не хватает душевных сил, слишком узок ее кругозор, слишком вяла ее натура. Ее желания, как у всякого человека с ординарным характером, не выходят за пределы своего «я». Эта молодая женщина не имеет никаких политических идей, которые ей хотелось бы навязать, у нее нет ни малейшего желания кого-либо поработить или унизить; с самых молодых лет в ней развит инстинкт независимости, сильный, упрямый, подчас детский, она не желает властвовать, но не желает и находиться под чьим-либо влиянием, не желает, чтобы кто-нибудь властвовал над нею. Быть повелительницей – значит для нее только быть свободной самой. Лишь теперь, после пребывания трех с лишним лет под опекой, под неусыпным надзором, она впервые чувствует себя свободной, поскольку возле нее нет никого, кто смог бы ее в чем-либо ограничить (ведь суровая мать живет в тысяче лье от нее, а робкие протесты покорного супруга она пренебрежительно высмеивает). Поднявшись на эту решающую ступень, превратившись из престолонаследницы в королеву, она становится наконец выше всех, подвластная лишь собственному капризу, лишь собственному настроению. Отныне покончено с брюзжанием тетушек, покончено с просьбами к королю о разрешении посетить маскарад, покончено с наглыми выходками ненавистной ей противницы, мадам Дюбарри: завтра же эта creature[67] будет навсегда отправлена в ссылку. Никогда больше не сверкать ей бриллиантами на званых ужинах, никогда не толпиться в ее будуаре королям и князьям для целования руки. Гордо и не стыдясь своей гордости берет Мария Антуанетта уготованную ей корону. «Хотя по воле Бога я уже родилась в том звании, в каком нахожусь сейчас, – пишет она матери, – я все же не могу надивиться милости Провидения, которое выбрало меня для самого могущественного королевства Европы, именно меня, Вашего младшего ребенка». Кто не слышит в этой фразе интонаций радости, тот попросту не желает их слышать. И, чувствуя лишь величие своего положения, а не ответственность его, Мария Антуанетта беззаботно и беспечно всходит на трон.
И, едва вступив на престол, она тотчас же оказывается во власти охватившего ее ликования. Ничего еще они не свершили, эти юные властелины, ничего не обещали, ничего не исполнили, а весь народ уже с восторгом приветствует их. Вот-вот наступит золотой век, грезит всегда верящий в чудо народ, ведь сослана же в изгнание ненавистная метресса, ведь предан земле старый сластолюбец, равнодушный к нуждам народа король, ведь правят отныне Францией молодой, скромный, бережливый, рассудительный, набожный король и восхитительная, ласковая, юная, доброжелательная королева. Во всех витринах красуются портреты новых монархов, любовь к которым еще не испытана временем. Любой их поступок вызывает воодушевление, и даже двор, застывший было в страхе, тоже успокаивается, охваченный общим воодушевлением. Начинается пора балов, парадов и веселья, жизнерадостная пора юности и свободы. Вздохом облегчения встречают смерть старого короля, и погребальный звон со всех колоколен Франции звучит чисто и радостно, как если бы он возвещал праздник.
* * *
По-настоящему глубоко задевает и пугает смерть Людовика XV лишь одного человека в Европе – императрицу Марию Терезию. Ее мучают мрачные предчувствия. Вот уже тридцать изнурительных лет эта монархиня знает, сколь тяжела корона, а как мать она видит слабости и недостатки своего ребенка. Ей искренне хотелось бы отсрочить восшествие дочери на престол на время, пока это легкомысленное и необузданное существо немного созреет, станет более стойким к искушениям расточительства. Тяжело на сердце у старой женщины, смутное ожидание чего-то страшного гнетет ее. «Я очень всем этим взволнована, – пишет она верному посланнику, получив известие, – и еще более озабочена судьбой моей дочери. Судьба ее будет либо блистательной, либо глубоко несчастной. Король, министры находятся в крайне трудном положении, дела государства запутаны и расстроены, а она так молода! У нее никогда не было и, пожалуй, никогда не будет серьезных стремлений». И на горделивое сообщение дочери она отвечает меланхолически: «Я не поздравляю тебя с новым саном, который дорого стоит и обойдется еще дороже, если ты не решишься вести ту же спокойную и непредосудительную жизнь, которую благодаря сердечности и снисходительности этого доброго отца ты вела три года и которая вам обоим, тебе и твоему супругу, снискала расположение и любовь вашей страны. Это расположение народа чрезвычайно важно для вашего теперешнего положения; но в то же время оно обязывает вас и далее прилагать все усилия на благо государству. Вы оба еще так юны, бремя же власти велико. Это меня заботит, поистине очень заботит… Единственное, что я могу вам сейчас посоветовать, – это ничего не решать в спешке. Смотрите на все своими собственными глазами, но ничего не меняйте, пусть все развивается само по себе, иначе возникнет беспорядок, завяжутся бесконечные интриги и вы, мои дорогие дети, попадете в такой хаос, выбраться из которого вам едва ли удастся». Издали, с вершины десятилетиями накопленного опыта, мудрая правительница своим взором Кассандры видит неблагополучие Франции куда отчетливее, чем те, кто находится в самой стране. Настойчиво заклинает она молодых супругов прежде всего поддерживать дружбу с Австрией и тем самым сохранить мир на всей земле. «Нашим обеим монархиям нужен лишь мир, чтобы привести в порядок свои дела. Если мы и дальше будем сотрудничать в тесном согласии, никто не решится помешать нам, и в Европе воцарится счастье и спокойствие. Не только наши народы будут счастливы, но и все другие тоже». Но особенно предостерегает она своего ребенка от опасностей, которые таятся в легкомыслии и жажде удовольствий. «Я боюсь в тебе этого больше всего. Вообще, тебе очень нужно заняться серьезными делами. Не поддавайся соблазнам делать неумеренные траты. Очень важно, чтобы это счастливое начало, которое превзошло все наши ожидания, получило бы достойное продолжение, дало бы вам обоим счастье, чтобы вы сделали счастливым свой народ».
Тронутая озабоченностью матери, Мария Антуанетта обещает и обещает. Она признает свои слабости, клянется исправиться. Но старая женщина, пророчески предчувствуя неблагополучие, не может успокоиться. Она не верит ни счастью этой короны, ни заверениям дочери. И в то время как весь мир восхищается Марией Антуанеттой и завидует ей, императрица пишет своему посланнику, своему поверенному, пишет с тяжким вздохом матери: «Я думаю, ее лучшие годы уже позади».
Семейный портрет королевской четы
В первые недели после восшествия на престол Людовика XVI у художников, скульпторов, граверов по меди и медальеров всей Европы хлопот по горло. И во Франции с большой поспешностью убираются портреты с некоторых, совсем недавних пор уже более не «Возлюбленного»[68] короля Людовика XV и заменяются портретами здравствующих венценосных супругов, портретами, разукрашенными венками и лентами: «Le roi est mort, vive le roi!»
Знающему свое ремесло медальеру приходится не очень-то кривить душой, чтобы польстить королю, чтобы придать нечто цезаристское лицу простоватого, добродушного Людовика XVI. Действительно, если не обращать внимания на короткую, крепкую шею, голову короля никак не назовешь неблагородной: правильный покатый лоб, сильный, пожалуй даже смелый, рисунок носа, полные чувственные губы, мясистый, но пропорциональной формы подбородок образуют внушительный, весьма приятный профиль. Во вмешательстве ретушера, вероятно, более всего нуждаются глаза: очень близорукий, король без лорнета и в трех шагах не узнает человека. Штихель гравера должен хорошенько поработать, чтобы придать некоторую значительность этим выпуклым водянистым глазам с тяжелыми веками. Не лучше обстоят дела у Людовика Неуклюжего и с осанкой. Трудно приходится придворным художникам, пытающимся изобразить короля в торжественном облачении стройным и представительным. Преждевременно ожиревший, малоподвижный и вследствие своей близорукости до смешного неловкий, Людовик XVI, несмотря на высокий рост – почти шесть футов, всегда на всех официальных приемах имеет несчастный вид (la plus mauvaise tournure qu’on pût voir[69]). По блестящему паркету Версаля он идет тяжело, раскачиваясь из стороны в сторону, «словно крестьянин за плугом». Он не умеет ни танцевать, ни играть в мяч, а когда спешит, спотыкается о свою шпагу. Бедняга, он понимает свою физическую неполноценность, и это делает его застенчивым; застенчивость же еще более увеличивает его неуклюжесть. И каждому впервые увидевшему короля Франции кажется, что перед ним жалкий увалень, а не могучий властелин.
Но Людовик XVI отнюдь не глупый и не ограниченный человек; подобно тому как близорукость делает его поведение неуверенным, так и робость, застенчивость, в конечном счете определяемые, вероятно, половой неполноценностью, сковывают его духовно. Поддерживать с кем-нибудь разговор этому болезненно робкому государю стоит каждый раз огромного душевного напряжения. Осознавая этот свой недостаток, зная, как медленно, как тяжело он думает, Людовик XVI испытывает невыразимый страх перед остроумными, развязными людьми, которые за словом в карман не лезут. Но стоит лишь дать ему время, чтобы упорядочить свои мысли, стоит лишь не настаивать на быстрых ответах, на скором решении, и он удивит даже самого скептического собеседника, такого, например, как Иосиф II или Петион, своим, правда не сверкающим, не блестящим, но основательным и прямолинейным здравым смыслом. Как только ему удается счастливо преодолеть свою нервную робость, он ведет себя совершенно нормально. Вообще, чтение и письмо он предпочитает разговору, ведь книги не торопят, не настаивают на быстрых решениях; Людовик XVI, этому трудно поверить, читает много и охотно, у него хорошие познания в истории и географии, он непрерывно совершенствует свой английский, свою латынь, здесь ему помогает блестящая память. В документах и расходных книгах Людовика XVI образцовый порядок; каждый вечер своим четким, круглым, почти каллиграфическим почерком записывает он в дневник скудное содержание своей жизни («застрелено шесть оленей», «принял слабительное»). И несмотря на то что по наивной недальновидности автора в дневнике нет ни слова о событиях всемирно-исторического значения, этот документ производит потрясающее впечатление: так полно он характеризует посредственный, не умеющий самостоятельно мыслить интеллект, который мог бы принадлежать, например, ординарному таможенному ревизору или канцелярскому чиновнику, интеллект, способный лишь к чисто механической, подчиненной деятельности в тени эпохальных событий, к чему угодно, но только не к деятельности государя.
Что-то роковое в натуре Людовика XVI все же есть: кажется, будто не горячая кровь течет в его жилах, а тяжелый свинец медленно движется в них, с трудом превозмогая упрямое противодействие природы. Этот человек, искренне старающийся быть во всем добросовестным, вечно должен преодолевать в себе сопротивление материи, какую-то сонливость, чтобы сделать что-либо, подумать о чем-нибудь, хотя бы только почувствовать что-то. Его нервы, словно старые резиновые тесемки, не могут ни натягиваться, ни вибрировать, они не реагируют на электрические импульсы чувств. Эта прирожденная пониженная нервная чувствительность Людовика XVI является причиной его эмоциональной невозбудимости. Любовь (как в духовном, так и в физическом смысле), радость, удовольствия, страх, боль, тоска – ни одно из этих чувств не может проникать сквозь слоновью кожу его хладнокровия, даже непосредственная угроза жизни не в силах вывести его из летаргии. Его пульс не убыстряется при штурме Тюильри, накануне казни он с аппетитом поест и будет хорошо спать: сон и аппетит – две опоры, на которых покоится его прекрасное самочувствие. Никогда этот человек не побледнеет, даже под пистолетом, наведенным на него, никогда равнодушные глаза его не сверкнут в гневе, ничто не испугает его, но ничто и не вдохновит. Лишь самая грубая физическая нагрузка, слесарные работы, охота способны заинтересовать его, привести в движение. Напротив, все нежное, чувствительное, грациозное – искусство, музыка, танцы – просто не входит в мир его ощущений; ни одна муза, никакие божества, даже Эрос, не могут расшевелить его вялые чувства. В двадцать лет Людовик XVI не вожделел ни к одной женщине, кроме той, которая была определена ему в жены дедом; он счастлив, он доволен ею, как доволен всем в своей прямо-таки вызывающей невзыскательности. И действительно, есть какой-то сатанинский умысел судьбы в том, чтобы от такой тупой, закостенелой натуры потребовать решения, имеющего определяющий смысл для всего столетия, чтобы человека, склонного к созерцательной жизни, поставить перед лицом ужасной мировой катастрофы. Ибо как раз тогда, когда начинается действие, когда мускулы воли должны напрячься для нападения или защиты, этот физически здоровый человек самым жалким образом оказывается слабым: решиться на что-нибудь Людовику XVI каждый раз невыразимо трудно. Он может только уступать, только исполнять желания других, ибо сам ничего иного не желает, кроме покоя, одного лишь покоя. Застигнутый врасплох, он пообещает настойчивому просителю любую должность, а затем ее же с такой же готовностью – другому. Его подчиняет себе любой, едва приблизившийся к нему. Из-за этого поразительного слабоволия Людовик XVI постоянно вновь и вновь оказывается без вины виноватым и при самых честных намерениях бесчестным, игрушкой в руках своей жены, своих министров, бобовым королем[70], безрадостным, без царственной осанки, по-настоящему счастливым, лишь когда его оставляют в покое, и отчаянно теряющимся в часы, когда действительно необходимо приказывать. Революция положила голову этого беззлобного, туповатого человека под нож гильотины. Но если бы она дала ему где-нибудь небольшой крестьянский домик с садиком и какую-нибудь незначительную должность, то осчастливила бы его куда больше, чем в свое время архиепископ Реймсский[71], увенчавший его короной – короной, которую на протяжении двадцати лет он равнодушно нес – без гордости, без радости, без достоинства.
* * *
Ни один из самых льстивых придворных бардов никогда и не отважился бы превозносить как великого властелина этого доброжелательного немужественного человека. И напротив, в своем стремлении восславить, запечатлеть образ королевы любыми средствами художественного воспроизведения – в мраморе, терракоте, фарфоре, пастелью, бесчисленными миниатюрами из слоновой кости, грациозными стихотворениями, – в этом стремлении соревновались самые различные скульпторы, художники, поэты, ибо образ ее, ее манеры полностью соответствовали идеалу ее времени. Нежная, стройная, изящная, пленительная, игривая и кокетливая, с первого часа восшествия на престол девятнадцатилетняя королева становится богиней рококо, совершенным образцом моды и господствующего вкуса. Если женщина желает, чтобы ее считали красивой и привлекательной, она стремится быть похожей на Марию Антуанетту. И при всем этом лицо Марии Антуанетты не так уж выразительно, не так впечатляюще: ровный, тонко очерченный овал с небольшими пикантными неправильностями – с габсбургской, несколько выпяченной губой, с плосковатым лбом; лицо, не одухотворенное ни следами таланта, ни какими-то индивидуальными чертами. Чем-то холодным, какой-то пустотой, словно от портрета на эмали, веет от этого еще не сформировавшегося лица, лица девушки, пока еще интересующейся только собой. Лишь последующие годы – годы зрелости – придадут этому лицу величественную полноту и решительность. Только кроткие глаза, быстро меняющиеся с настроением, способные легко наполниться слезами и тотчас же игриво засверкать, свидетельствуют о живости чувств, а близорукость придает их не очень глубокой, поверхностной голубизне зыбкость и трогательность; но никаких волевых черт, никаких линий, указывающих на сильный характер, нет в этом бледном лице; чувствуется лишь мягкая, податливая натура, подвластная настроению и совсем по-женски всегда следующая только глубинным течениям своих ощущений. Эта нежная грациозность и восхищала всех в Марии Антуанетте. Действительно, в этой женщине по-настоящему существенно женственными являются лишь ее роскошные пепельные, отливающие рыжинкой волосы, фарфоровая белизна и гладкость кожи лица, прелестная округлость форм, совершенные линии плеч, словно выточенных из слоновой кости, холеная красота рук – все цветение и благоухание полураспустившегося девичества, правда слишком мимолетное и утонченное очарование, чтобы его можно было описать.
Ибо даже те немногие художественные портреты, которые наиболее верно передают ее образ, все же утаивают от нас самое существенное в ее облике – невыразимое обаяние ее личности. Портреты, как правило, в состоянии зафиксировать лишь застывшую позу человека, подлинная же притягательная сила Марии Антуанетты – с этим согласны все – в неподражаемом очаровании ее движений. Именно в манере держаться одухотворенно раскрывает Мария Антуанетта прирожденную музыкальность своего тела; когда она, высокая и стройная, проходит вдоль рядов придворных, выстроившихся в Зеркальном зале, когда она беседует, откинувшись в креслах, кокетливая и доброжелательная, когда она, словно окрыленная, стремительно несется по лестнице, перескакивая через ступеньки, когда она естественным, грациозным жестом подает для поцелуя ослепительно-белую руку или нежно обнимает свою подругу за талию, – всегда ее манера держаться без какого-либо напряжения определяется одной лишь женской интуицией. Обычно очень сдержанный, англичанин Гораций Уолпол пишет в совершенном упоении: «С гордо поднятой головой она являет собой олицетворение красоты, в движении же это воплощенная грация». И действительно, подобно амазонке, она прекрасно играет в мяч, в совершенстве владеет искусством верховой езды; где бы ни появилась стройная, гибкая Мария Антуанетта, красивейшие женщины двора пасуют перед ней, они не в состоянии соревноваться с королевой не только в прирожденном изяществе движений и поведения, но и в чувственной привлекательности. Восхищенный Уолпол энергически отклоняет упреки в ее адрес относительно того, что она будто бы в танце не всегда следует ритму. «Это музыка фальшивит», – остроумно возражает он. Именно поэтому – ведь каждая женщина отлично знает секрет своего обаяния – Мария Антуанетта бессознательно любит движение. Беспокойство – присущий ей элемент, и, напротив, быть статичной, сидеть без дела, слушать, читать, размышлять и, в известном смысле, даже спать – все это невыносимое испытание для ее терпения. Постоянно двигаться, что-то начинать, всегда новое, и не доводить до конца, всегда быть занятой и при этом не утомлять себя серьезно, но постоянно чувствовать, что время не стоит на месте, что нужно спешить за ним вслед, обогнать его, опередить! Не сидеть долго за едой, лишь на скорую руку полакомиться кусочком торта или печеньем, не спать долго, не раздумывать. Быстрее, быстрее в переменчивую праздность! И вот все эти двадцать лет со дня восшествия на престол становятся для нее бесконечным кружением вокруг самой себя, кружением, не имеющим ни внутренней, ни внешней цели, пустой тратой времени – по существу, холостым ходом с политической и человеческой точек зрения.
Именно эта неосновательность, эта неспособность дисциплинировать, сдержать самое себя, непрерывное расточительство своих духовных сил, значительных, но неверно используемых, – именно это так глубоко огорчает в Марии Антуанетте ее мать. Глубокий психолог, императрица прекрасно понимает, что одаренная природой, одухотворенная девушка способна на большее, на неизмеримо большее. Следует лишь Марии Антуанетте захотеть стать той, кем она в сущности является, и она будет обладать королевской властью; но таков рок – по инертности, по лености натуры, из стремления к комфорту она постоянно выбирает себе уровень жизни ниже своих собственных возможностей. Как истинная австрийка, она, несомненно, обладает многими талантами, но, к сожалению, у нее нет ни малейшей воли, чтобы серьезно использовать эти свои дарования или хотя бы развить их. Легкомысленно относится она к ним, легкомысленно разбрасывается. «Первое ее побуждение, – говорит о ней Иосиф II, – всегда правильно; прояви она при этом немного настойчивости, задумайся немного глубже, и все было бы прекрасно». Но как раз именно эта необходимость чуть-чуть подумать обременительна при ее переменчивом темпераменте. Ей в тягость думать хоть сколько-нибудь больше, чем это необходимо для внезапного решения, а ее своенравная, свободная натура ненавидит духовную нагрузку любого рода. Лишь развлечений хочет она, лишь легкости во всем, никаких усилий, никакой настоящей работы. При разговорах только язык Марии Антуанетты занят, ум ее бездействует. Когда к ней обращаются, она слушает рассеянно; подкупая чарующей любезностью и блистательной легкостью в беседе, она тотчас же дает мысли угаснуть, едва та возникнет. Мария Антуанетта ни о чем не думает, ничего не прочитывает до конца, ничего не удерживает в памяти, чтобы извлечь какую-то пользу из накапливаемого опыта. Поэтому она не любит книг, не желает иметь дела с документами, избегает всего сколько-нибудь серьезного, требующего настойчивости, упорства, внимания; с большим нежеланием, нетерпеливым, неразборчивым почерком разделывается она с теми письмами, отложить ответ на которые уж более невозможно; даже в письмах к матери часто отчетливо прослеживается это желание иметь все готовым. Только не осложнять себе жизнь, подальше гнать от себя все, что навевает меланхолию, делает голову тяжелой и тупой! Того, кто лучше других приспосабливается к этой лености ее ума, она считает умным человеком, того же, кто требует от нее напряжения ума, – докучливым педантом. Как от огня бежит она от всех советчиков с житейским опытом в свой кружок кавалеров и дам, близких ей по образу мыслей. Только наслаждаться, не дать утомить себя размышлениями, расчетами, мелочными вычислениями – так думает она, так думают все из ее окружения. Жить лишь чувствами и ни о чем не раздумывать – мораль целого поколения, мораль всего Dix-huitième – восемнадцатого века, которому судьба символически определила ее королевой, чтобы она жила с ним и с ним умерла.
* * *
Трудно представить себе двух других молодых людей, которые по характеру так сильно отличались бы друг от друга, как эти двое. Нервами, пульсом крови, малейшими проявлениями темперамента, всеми своими свойствами, всеми особенностями Мария Антуанетта и Людовик XVI представляют собой хрестоматийный образец антитезы. Он тяжел – она легка, он неуклюж – она подвижна и гибка, он неразговорчив – она общительна, он флегматичен – она нервозна. И далее в духовном плане: он нерешителен – она слишком скора на решение, он долго размышляет – она быстра и категорична в суждениях, он ортодоксально верующий – она радостно жизнелюбива, он скромен и смирен – она кокетлива и самоуверенна, он педантичен – она несобранна, он бережлив – она мотовка, он сверхсерьезен – она безмерно легкомысленна, он тяжелый поток с медленным течением – она пена и пляска волн. Он лучше всего чувствует себя наедине с самим собой, она – в шумном обществе; он с тупым чувственным удовольствием любит хорошо, не торопясь поесть и выпить крепкого вина – она никогда не пьет вина, ест мало, между делом. Его стихия – сон, ее – танец; его мир – день, ее – ночь; и стрелки часов их жизни постоянно следуют друг за другом с большим сдвигом, словно солнце и луна на небосводе. В одиннадцать ночи, когда Людовик ложится спать, Мария Антуанетта только начинает по-настоящему жить, нынче – за ломберным столом, завтра – на балу, каждый раз в новом месте; он давным-давно верхом гоняется по охотничьим угодьям, она лишь встает с постели. Ни в чем, ни в одной точке не соприкасаются их привычки, влечения, их времяпрепровождение. Собственно, Мария Антуанетта и Людовик XVI бо́льшую часть своей жизни проводят vie à part[72], и (к большому огорчению Марии Терезии) почти всегда у них – lit à part[73].
Итак, следовательно, неудачный брак, брак, приведший к непрерывным ссорам, брак не переносящих друг друга людей, наводящих друг на друга тоску своим присутствием? Отнюдь нет! Наоборот, вполне удачный брак, а если бы не первоначальная временная мужская несостоятельность супруга, приведшая к известным болезненным результатам, даже совершенно счастливый брак. Ибо для того, чтобы во взаимоотношениях возникла напряженность, с обеих сторон необходимы определенные усилия, нужно волю противопоставить воле, нужна твердость против твердости. Эти же двое, и Мария Антуанетта, и Людовик XVI, уклоняются от любых трений, уходят от любой напряженности в отношениях, он – из-за физической вялости, она – из-за духовной. «Мои вкусы отличны от вкусов короля, – легкомысленно проговаривается Мария Антуанетта в одном письме, – его ничего не интересует, кроме охоты и слесарных работ… Согласитесь, что в кузнице я выглядела бы не очень грациозно, на Вулкана я не похожа, а возьми я на себя роль Венеры, то моему супругу, вероятно, это понравилось бы еще меньше, чем иные мои наклонности». Людовику XVI совсем не по вкусу порывистый, шумный характер ее удовольствий и развлечений, однако этот апатичный человек не имеет ни воли, ни сил энергично вмешиваться. Добродушно усмехается он по поводу ее необузданности и по существу горд тем, что имеет такую удивительную, такую обаятельную жену. В той степени, в какой его вялые чувства вообще способны проявить какие-то движения, этот славный малый неуклюже и основательно, в полном соответствии со своим характером, предан прелестной своей жене, превосходящей его по живости ума. Чувствуя свою неполноценность, он старается стушеваться, не затенять ее. Она, напротив, посмеивается над своим супругом-увальнем, но беззлобно, снисходительно, ибо и она по-своему расположена к нему, как, например, к большому лохматому сенбернару, которого можно почесывать, щекотать и гладить, потому что он никогда не огрызнется, не укусит, останется ласковым и послушным малейшему знаку хозяйки. Подолгу сердиться на своего толстокожего супруга она не может, хотя бы из одного чувства благодарности. Ведь он позволяет ей вести себя, как ей вздумается, следовать своим капризам, тактично отходит на задний план, когда чувствует себя лишним, никогда без приглашения не переступает порога ее комнаты – идеальный супруг, который, несмотря на свою бережливость, всегда оплачивает ее долги и разрешает ей все, а в последние годы их супружеской жизни – даже иметь любовника. Чем дольше Мария Антуанетта живет с Людовиком XVI, тем больше она проникается уважением к этому характеру – в высшей степени достойному, несмотря на отдельные слабости. Из брака, построенного на политических расчетах, на дипломатических соображениях, постепенно возникают настоящие добросердечные отношения, во всяком случае более близкие и душевные, чем в большинстве браков царствующих особ того времени.
Лишь великое и святое слово «любовь» лучше здесь не произносить. Для настоящей любви этому немужественному Людовику недостает энергии сердца; с другой стороны, в симпатии Марии Антуанетты к нему слишком много жалости, слишком много снисходительности, слишком много уступок, чтобы эту индифферентную смесь можно было назвать любовью. Тонко чувствующая и нежная натура ради долга и из соображений государственной необходимости могла и должна была физически отдаться своему супругу. Но было бы просто-напросто нелепицей предположить, что медлительный, вялый, инертный человек, этот Фальстаф[74], может вызвать в такой живой женщине прилив эротической напряженности или удовлетворить эту напряженность. «Любви у нее к нему нет абсолютно», – сообщает в Вену из Парижа Иосиф II коротко и ясно, в своей спокойной и деловитой манере, а когда Мария Антуанетта пишет своей матери о том, что из всех трех братьев ей больше всех, «однако же», нравится тот, который определен ей Богом в мужья, то это «однако же», это предательски прошмыгнувшее в письмо «однако же» говорит больше, чем хотела бы сказать королева, а именно: поскольку я не могла получить лучшего мужа, этот славный, порядочный супруг, «однако же, является приемлемым заменителем. В этом слове – вся прохладность отношений царственных супругов. Мария Терезия в конце концов могла бы удовлетвориться столь эластичным представлением о браке – из Пармы о другой своей дочери она слышит несравненно более неприятные вещи, – если бы Мария Антуанетта могла искусно притворяться и проявлять несколько больше душевного такта в своем поведении, если бы она могла хоть лучше скрывать от других, что ее царственный супруг как мужчина представляет собой нуль, quantité négligeable[75]. Но Мария Антуанетта – и этого Мария Терезия ей простить не может, – бросая подчас неосторожные слова, наносит ущерб чести своего супруга. Одно из таких легкомысленных слов мать, к счастью, вовремя перехватывает первая. Граф Розенберг, друг и советник императрицы, является с визитом в Версаль. Мария Антуанетта проникается симпатией и таким доверием к пожилому галантному господину, что посылает ему в Вену веселое и легкомысленное письмо, в котором рассказывает, как одурачила своего мужа, когда герцог Шуазель просил у нее аудиенции: «Вы, конечно, поверите мне, что я не встретилась с ним, не уведомив предварительно об этом короля. Но Вы представить себе не можете, какую мне пришлось проявить изобретательность, чтобы не создалось впечатления, будто я испрашиваю у короля разрешения на эту аудиенцию. Я сказала ему, что охотно бы приняла господина Шуазеля, но еще не определилась в выборе дня, и сделала это так хорошо, что бедняга (le pauvre homme) сам назвал мне наиболее подходящее время для этой встречи. По-моему, на этот раз я лишь использовала права жены». Легкомысленно пишет она слова «pauvre homme», беспечно запечатывает письмо, полагая, что рассказала лишь веселый анекдот. На языке ее сердца «pauvre homme» звучит совершенно безобидно: «славный, добрый малый». Но в Вене эти слова, выражающие сложные чувства симпатии, жалости и презрения, читают совсем по-другому. Марии Терезии предельно ясно, какая опасная бестактность таится в том, что королева Франции в частном письме именует самого могущественного государя христианского мира, короля Франции, «pauvre homme», в том, что она не почитает своего супруга как монарха. Можно представить себе, в каком тоне иронизирует над повелителем Франции эта ветреница на гуляньях в парках Версаля, на балах-маскарадах со своими подругами Ламбаль и Полиньяк, со своими юными кавалерами! Все это тотчас же самым тщательным образом обсуждается в Вене, а затем Марии Антуанетте отправляется столь энергичное письмо, что Императорский архив многие десятилетия не разрешает его публикацию.
«Я не могу скрыть того, – задает старая императрица нахлобучку дочери, забывшей свой долг, – что меня крайне озадачило твое письмо графу Розенбергу. Что за выражения, что за легкомыслие! Где оно, такое кроткое, такое преданное сердце эрцгерцогини Марии Антуанетты? Я вижу одни лишь интриги, мелочную злобность, издевательства и язвительность; интриговать могла бы какая-нибудь Помпадур, какая-нибудь Дюбарри, но не принцесса, преисполненная доброты, и также не престолонаследница из дома Габсбургов Лотарингских. Твой быстрый успех, льстецы, окружающие тебя с этой зимы, когда ты кинулась в водоворот развлечений, пленилась нелепыми нарядами и модами, – все это пугает меня, приводит в ужас. Эта бешеная гонка от развлечений к развлечениям, хотя ты знаешь, что королю это неприятно, что он сопровождает тебя или терпит все это исключительно из-за своей мягкости, все это заставляло меня высказывать свое беспокойство в моих прежних письмах. Этим письмом я подтверждаю свои опасения. Что за язык! „Le pauvre homme!“ Где уважение, где благодарность за всю его предупредительность? Я оставляю эту тему, хотя много можно было бы сказать тебе еще. Подумай, поразмысли сама надо всем этим… Но если я опять услышу о подобных неприличных выходках, я не смогу промолчать, потому что очень люблю тебя и многое, к сожалению, больше других предвижу, потому что знаю, как ты легкомысленна, как горяча, как необдуманны твои поступки. Твое счастье может очень скоро кончиться, и ты по своей же собственной вине окажешься ввергнутой в величайшее несчастье, и все это – вследствие ужасной жажды наслаждений, которая не дает тебе возможности заняться каким-либо серьезным делом. Какие книги ты читаешь? И ты еще осмеливаешься вмешиваться в важнейшие государственные дела, влияешь на выбор министров? Мне кажется, аббат и Мерси стали неприятны тебе, ведь они не подражают этим низким льстецам и хотят сделать тебя счастливой, а не просто веселиться и извлекать выгоды, пользуясь твоими слабостями. Однажды ты поймешь все это, но будет слишком поздно. Я надеюсь, что не доживу до этого дня, и молю Бога, чтобы он как можно быстрее призвал меня к себе, ибо я уже не могу быть полезной тебе и мне не перенести ни потери моего ребенка, которого буду любить нежно до последнего вздоха, ни его несчастья».
* * *
Не преувеличивает ли она, не слишком ли рано рисует всякие ужасы по поводу этих в общем-то озорства ради написанных слов «pauvre homme»? Но для Марии Терезии сейчас это не случайные слова, а симптом. Внезапно, словно при вспышке молнии, они показывают ей, как мало чтит Людовика XVI его жена, как мало чтут его при дворе. На душе у императрицы неспокойно. Если в государстве пренебрежение к монарху подтачивает едва ли не самую прочную опору – его собственную семью, выдержат ли бурю другие столбы, другие колонны? Устоит ли монархия без монарха, если над ней нависнет угроза, устоит ли трон, находящийся во власти заурядных статистов, у которых ни в крови, ни в сердце нет ничего королевского? Рохля и дама света, он тяжелодум, она слишком опрометчива, – как этим двоим, не умеющим мыслить по-государственному, утвердить свою династию в такое беспокойное время? Нет, она совсем не разгневана на свою дочь – старая императрица лишь очень озабочена судьбой Марии Антуанетты.
И действительно, как сердиться на этих двоих, как осуждать их? Даже Конвенту[76], их обвинителю, очень трудно будет объявить этого «беднягу» тираном и злодеем; ни грана коварства нет ни в одном из них, и, что обычно для большинства заурядных характеров, нет никакой черствости, никакой жестокости, нет ни честолюбия, ни грубого тщеславия. Но, к несчастью, их достоинства не выходят за пределы мещанских ординарных мерок: честное добросердечие, легкомысленная снисходительность, умеренная доброжелательность. Живи они в столь же заурядные, как они сами, времена, они были бы окружены почетом и пользовались бы всеобщим уважением. Но ни Мария Антуанетта, ни Людовик не смогли внутренне измениться, не смогли трагически возвышенной эпохе противопоставить такую же возвышенность сердец; они, пожалуй, знали, как следует с достоинством умереть, но жить ярко и героически они не смогли. Каждого в конце концов настигает его судьба, хозяином которой ему не дано быть. В любом поражении есть и смысл, и вина. Гёте мудро определил их в отношении Марии Антуанетты и Людовика XVI:
В грязи валяется корона. Метла повымела весь дом. Король бы не лишился трона, Будь он и вправду королем[77].Королева рококо
Фридрих Великий, смертельный враг Австрии, теряет покой, как только Мария Антуанетта, дочь его давнишней противницы Марии Терезии, вступает на французский престол. Письмо за письмом шлет он прусскому посланнику в Вену, требуя, чтобы тот как можно точнее выведал политические планы императрицы. Действительно, опасность для него велика. Стоит Марии Антуанетте только захотеть, стоит ей лишь приложить ничтожные усилия, и все нити французской дипломатии окажутся в ее руках. Европой станут управлять три женщины – Мария Терезия, Мария Антуанетта и Екатерина Российская. Но, к счастью Пруссии и себе на погибель, Мария Антуанетта ни в малейшей степени не испытывает влечения к решению грандиозных, всемирно-исторических задач, ей и в голову не приходит как-то понять свое время. Единственное, что ее заботит, – это как бы его, это время, провести; небрежно, словно игрушку, берет она корону. Вместо того чтобы обратить себе на пользу доставшуюся ей власть, она желает лишь наслаждаться ею.
В этом первая роковая ошибка Марии Антуанетты: она желает успехов как женщина, а не как королева, маленькие женские триумфы ценятся ею неизмеримо больше, нежели крупные победы, определяющие ход мировой истории. И поскольку ее сердце, увлеченное совсем другими, несравненно менее значительными интересами, не в состоянии дать никакого высокого содержания идее королевской власти, ничего, кроме совокупности ограниченных форм, великая задача забывается ею в преходящих развлечениях, высокие обязанности постепенно становятся актерской игрой. Быть королевой для Марии Антуанетты на протяжении пятнадцати легкомысленных лет означает лишь быть самой изысканной, самой кокетливой, самой элегантной, самой очаровательной и прежде всего самой приятной женщиной двора, перед которой все преклоняются, быть арбитром elegantiarum[78], светской дамой, задающей тон тому высокоаристократическому пресыщенному обществу, которое само считает себя средоточием вселенной. В течение двадцати лет на приватной сцене Версаля, которую можно уподобить японской цветочной клумбе, разбитой над пропастью, она самовлюбленно, с грацией и размахом играет роль примадонны, роль королевы рококо. Но как нищ репертуар этой светской комедии: пара легких коротких сценок для кокетки, несколько пустых интрижек, очень мало души, очень много танцев. В этих играх и забавах нет рядом с ней настоящего короля, нет истинного героя-партнера. Все время одни и те же скучающие зрители-снобы, тогда как по ту сторону позолоченных решетчатых ворот упорно, с нетерпением ожидает свою повелительницу многомиллионный народ. Но она, в ослеплении, не отказывается от роли, без устали пьянит свое безрассудное сердце все новыми и новыми пустяками; гром из Парижа угрожающе докатывается до парков Версаля, а она не отступает от своего. И только когда революция насильно вырвет ее из этого жалкого театра рококо и бросит на огромные трагические подмостки театра мировой истории, ей станет ясно, какую ужасную ошибку она совершила, играя на протяжении двух десятков лет ничтожную роль субретки, дамы салона, тогда как судьба уготовила ей – по ее душевным силам, по ее внутренней энергии – роль героини. Поздно поймет она эту ошибку, но все же не слишком поздно. Когда наступит момент и в трагическом эпилоге пасторали ей придется играть королеву перед лицом смерти, она сыграет в полную силу. Лишь когда легкая игра обернется делом жизни или смерти, когда Марию Антуанетту лишат короны, она станет истинной королевой.
* * *
Вина Марии Антуанетты – в неправильном понимании, вернее, в полном непонимании своего назначения. Вследствие этого королева на протяжении почти двадцати лет жертвует самым существенным ради ничтожных пустяков: долгом – ради наслаждений, трудным – ради легкого, Францией – ради маленького Версаля, действительным миром – ради придуманного ею мира театрального. Эту историческую вину невозможно переоценить – последствия ее огромны. Чтобы прочувствовать всю безрассудность поведения королевы, достаточно взять карту Франции и очертить то крошечное жизненное пространство, в пределах которого Мария Антуанетта провела двадцать лет своего правления. Результат – ошеломляющий. Этот кружок настолько мал, что на обычной карте представляет собой едва ли не точку. Между Версалем, Трианоном, Фонтенбло, Марли, Сен-Клу, Рамбуйе[79] – шестью замками, расположенными друг от друга на близком до смешного расстоянии всего немногих часов езды, – непрерывно и деятельно кружит золотой волчок ее скуки. Ни разу у Марии Антуанетты не возникает потребность ни пространственно, ни духовно переступить пентаграмму, в которую ее заключил глупейший из бесов – бес развлечений. Ни единого раза чуть ли не за два десятилетия королева Франции не пожелала познакомиться со своим государством, посмотреть провинции, повелительницей которых является, моря, омывающие берега страны, горы, крепости, города, кафедральные соборы, обширную, богатую контрастами страну. Ни разу не жертвует она ни одним часом своего праздного времени ради того, чтобы посетить своих подданных или хотя бы подумать о них, ни единого раза не переступает порога дома горожанина; весь этот реальный мир, находящийся вне ее аристократического кружка, для нее просто не существует. Мария Антуанетта даже не подозревает о том, что вокруг Парижского оперного театра простирается гигантский город, погрязший в нищете и пораженный недовольством, о том, что за прудами Трианона с китайскими утками, с прекрасно откормленными лебедями и павлинами, за чистотой и нарядностью построенной по эскизам придворных архитекторов парадной деревни, hameau[80], стоят настоящие крестьянские домики, заваливающиеся от ветхости, с пустыми амбарами и хлевами, о том, что за золоченой оградой королевского парка многомиллионный народ трудится, голодает и надеется. Вероятно, именно это незнание и нежелание знать о всей трагичности и безотрадности мира могло придать рококо характерную для него чарующую грациозность, легкую, безмятежную прелесть. Только тот, кто не подозревает о суровости реального мира, может быть таким беззаботным. Но королева, забывшая свой народ, отваживается на большой риск в игре. Один лишь вопрос следовало бы задать Марии Антуанетте миру, но она не желает спрашивать. Один лишь взгляд нужно было бы бросить в будущее, и она очень многое поняла бы, но она не желает понимать. Она желает оставаться в своем «я» – веселой, юной, спокойной. Ведомая неким обманчивым светом, она непрерывно движется по кругу и в искусственной среде вместе со своими придворными-марионетками впустую растрачивает решающие, невозвратимые годы своей жизни.
В этом ее вина, ее бесспорная вина: оказаться беспримерно легкомысленной перед грандиозной задачей Истории, мягкосердечной – в жесточайшей схватке столетия. Вина бесспорна, и все же Мария Антуанетта заслуживает снисхождения, ибо следует учесть ту меру искушений, которой едва ли смог бы противостоять и более сильный характер. Попав из детской на брачное ложе, в одни сутки, как если бы ей это приснилось, призванная к высокой власти из задних комнат дворца, еще не подготовленная принять ее, духовно еще не пробудившаяся, доверчивая, не очень сильная, не очень деятельная душа вдруг оказывается, словно солнце, центром хоровода восхищенных планет. И каким богатым опытом обладает это поколение Dix-huitième в подлом деле совращения молодой женщины! Как хитро оно обучено интригам и тонкой угодливости, как находчиво в готовности восторгаться любой мелочью, любым пустяком, как искусно в высшей школе галантности и сибаритства, в способности легко принимать жизнь! Искушенные, трижды искушенные во всех соблазнах и слабостях души, царедворцы тотчас же втягивают это неопытное, это совсем еще не знающее себя девичье сердце в свой магический круг. С первого же дня восшествия на престол Мария Антуанетта витает в облаках фимиама безмерного обожания. Что бы она ни сказала – умно, что бы ни сделала – закон, что бы ни пожелала – немедленно исполняется. Ее каприз завтра же становится модой, она совершит глупость – и весь двор с воодушевлением подражает ей. Ее близость – солнце для этой тщеславной, честолюбивой толпы царедворцев; ее взгляд – подарок, улыбка – благодеяние, ее появление – праздник. На ее приемах все дамы, самые пожилые и самые юные, знатнейшие и только что представленные ко двору, стараются изо всех сил – судорожным, смехотворным, бестолковым образом, – только бы, бога ради, хоть на секунду обратить на себя ее внимание, поймать комплимент, одно слово, быть замеченной. На улицах народ, собираясь толпами, вновь доверчиво приветствует ее, в театре при ее появлении все зрители, до единого, вскакивают с мест, а когда она во дворце шествует мимо зеркал, то видит в них великолепно одетую, молодую, прелестную женщину, воодушевленную своим триумфом, беззаботную и счастливую, самую красивую среди тех, кто окружает ее, и, следовательно (ведь она отождествляет свой двор с миром), самую красивую на свете. Как с сердцем ребенка, как с ординарными силами души защищаться от подобного дурманящего, опьяняющего напитка счастья, составленного из всех пряных и сладких эссенций чувств, из взглядов восхищенных мужчин, из восторженной зависти женщин, из преданности народа, из собственной гордости? Как не быть легкомысленной, если все так легко? Если деньги сами плывут в руки, стоит лишь на листке бумаги бегло написать одно слово, единственное слово: «payez»[81], и волшебным образом тысячами катятся дукаты, появляются драгоценные камни, разбиваются сады и парки, воздвигаются дворцы? Если нежный ветерок счастья так мягко и приятно успокаивает нервы? Как не быть безмятежной и беспечной, если самим Небом дарованы крылья, дающие тебе легкость и свободу? Как не потерять почву под ногами, если кругом столько соблазнов?
Эта легкомысленность в восприятии жизни, если рассматривать ее в историческом аспекте, безусловно, является виной Марии Антуанетты, но это также и вина всего ее поколения. И именно из-за полного соответствия духу своего времени Мария Антуанетта стала типичной представительницей Dix-huitième. Рококо, этот изнеженный и хрупкий цветок старой культуры, этот век изящных и праздных рук, век увлеченного игрой, рассеянного, утонченного духа, прежде чем уйти в небытие, пожелал принять телесный образ. В иллюстрированной книге истории век этот невозможно представить ни одним королем, ни одним мужчиной. Изобразить его можно лишь в образе женщины, королевы, и вот этому-то собирательному образу королевы рококо полностью соответствует Мария Антуанетта. Из беспечных – самая беспечная, среди расточительных – самая расточительная, между галантными и кокетливыми женщинами – изысканнейше галантная и осознанно кокетливая, своей личностью она незабываемо отчетливо и предельно точно выразила обычаи, манеры, нормы поведения, искусственный уклад жизни Dix-huitième. «Больше грации и достоинства вложить в поведение невозможно, – говорит о ней мадам де Сталь. – Она обладает удивительной манерой обращения с окружающими, чувствуешь: она знает, что никогда не должна забывать о своем королевском достоинстве, а ведет себя так, как если бы забыла об этом». Мария Антуанетта играет своей жизнью, словно очень тонкой и хрупкой игрушкой. Вместо того чтобы стать великой для всех времен, она стала олицетворением своего времени, и, безрассудно тратя свои внутренние силы, она все же выполнила одну задачу: с нею Dix-huitième достигает совершенства, с нею он приходит к концу.
* * *
Что является первой заботой королевы рококо, когда она просыпается утром в своем замке в Версале? Сообщения из столицы, из страны? Письма посланников о победах армии, об объявлении войны Англии? Конечно же нет. Как обычно, Мария Антуанетта вернулась во дворец лишь в четыре или пять утра; она спит всего несколько часов – ее беспокойная натура не нуждается в длительном покое. День начинается с важной церемонии. Старшая камеристка, ведающая гардеробом, с несколькими рубашками, полотенцами, носовыми платками, и первая камеристка приступают к утреннему туалету королевы. Камеристка с поклоном предлагает для просмотра один из фолиантов, в котором собраны приколотые булавками маленькие образчики материалов всех имеющихся в гардеробе одежд. Марии Антуанетте надлежит решить, какие платья она желает сегодня надеть. Очень трудный, ответственный выбор: ведь для каждого сезона предписывается двенадцать новых нарядных платьев, двенадцать платьев для малых приемов, двенадцать платьев для торжественных церемоний, не считая сотни других, ежегодно обновляемых (подумать только, какой позор, если на королеве мод увидят несколько раз одно и то же платье!). А пеньюары, корсажи, кружевные платочки, косынки, чепчики, плащи, пояски, перчатки, чулки и нижнее белье из невидимого арсенала, который обслуживает армия портных, белошвеек, гардеробщиц! Обычно выбор продолжается довольно долго; наконец с помощью булавок обозначаются образцы туалета, отобранные королевой, платье для приемов, дезабилье для второй половины дня, вечернее парадное платье. С первой заботой покончено. Альбом с образцами материй уносится, выбранная одежда вносится. Неудивительно, что при таком значении, придаваемом туалетам, старшая модистка, божественная мадемуазель Бэртэн, имеет над Марией Антуанеттой власть куда большую, нежели все государственные министры. Этих – дюжины, они легко заменяются, а она – единственная и несравненная. Обычная портниха, вышедшая из самых низов народа, эта дюжая, самоуверенная, бесцеремонная, с вульгарными манерами, законодательница мод крепко держит королеву в своих руках. Из-за нее, за восемнадцать лет до настоящей революции, в Версале свершается революция дворцовая: мадемуазель Бэртэн перечеркивает предписания этикета, запрещающие кому бы то ни было из третьего сословия вход в petits cabinets[82]. Этой артистке своего дела удается то, что не удалось ни одному писателю, ни одному художнику, ни даже Вольтеру, – ее принимает королева. Когда мадемуазель Бэртэн дважды в неделю появляется в Версале со своими новыми образцами фасонов, Мария Антуанетта покидает придворных дам для секретных совещаний с прославленной модисткой в личных покоях, чтобы там при закрытых дверях обсудить с ней и выпустить в свет новую модель – еще более сумасбродную, чем вчерашняя. Само собой разумеется, деловая особа извлекает для себя немалую выгоду из той славы, которая ее окружает. Склонив Марию Антуанетту к разорительным расходам, она налагает жестокую контрибуцию на весь двор, на всю аристократию. Гигантские буквы вывески над ее мастерской на улице Сент-Оноре разъясняют, что она является поставщицей двора ее величества королевы. Заказчикам, которым приходится подолгу ждать, она надменно и небрежно заявляет: «Я занималась с ее величеством». Вскоре на нее начинает работать целый полк портних и вышивальщиц: ведь чем элегантнее одевается королева, тем более неистовствуют другие дамы в стремлении заполучить мадемуазель Бэртэн. Иные из них полновесными золотыми склоняют неверную чародейку к тому, чтобы она сшила им платье по модели, еще не использованной для королевы: роскошь в туалетах так заразительна! Беспокойство в стране, серьезные споры в парламенте, война с Англией – все это далеко не так волнует тщеславное придворное общество, как новый цвет, цвет блохи, введенный мадемуазель Бэртэн в моду, или особенно смело изогнутый турнюр кринолина, или же впервые созданный мануфактурой Лиона шелк особого оттенка. Каждая дама, которая следит за собой, чувствует себя обязанной повторить за другими все фигуры обезьяньего танца, и, вздыхая, иной супруг сетует: «Никогда женщины Франции не тратили такую уйму денег на то, чтобы выглядеть посмешищем».
Но быть в этой сфере королевой Мария Антуанетта считает своим первейшим долгом. Трех месяцев правления ей достаточно, чтобы стать образцом для всего элегантного мира, законодательницей костюмов и причесок; во всех салонах, при всех дворах одерживает она блестящие победы. Конечно, до Вены докатывается волна ее славы, но оттуда приходит безрадостное эхо. Мария Терезия, мечтавшая, чтобы ее ребенок стремился к более достойным целям, с раздражением возвращает посланнику портрет, на котором ее дочь изображена разряженной сверх меры, увешанной драгоценностями, – это портрет актрисы, а не королевы Франции. С досадой предостерегает она дочь, правда, как всегда, напрасно: «Ты знаешь, я постоянно была того мнения, что модам нужно следовать, но не до безрассудства. Красивая молодая женщина, полная очарования королева не нуждается во всей этой чепухе, напротив, простота одежды ей более к лицу, более достойна высокого звания. Ведь королева задает тон, следовательно, весь свет будет стараться повторять ее ложные шаги. Но я люблю мою маленькую королеву и пристально наблюдаю за нею, я, не колеблясь, буду обращать ее внимание на все ее маленькие опрометчивые поступки».
* * *
Вторая забота каждого утра – прическа. К счастью, и здесь творит великий художник господин Леонар, неистощимый и непревзойденный Фигаро[83] рококо. Словно знатная особа, он ежедневно утром приезжает в карете, запряженной шестеркой, из Парижа в Версаль, чтобы с помощью гребня, туалетной воды для волос и всевозможных мазей испытать на королеве свое благородное, неистощимое на выдумки мастерство. Подобно Мансару, великому архитектору, который с большим искусством сооружал на домах названные его именем крыши, господин Леонар возводит на голове каждой прибегающей к его услугам знатной дамы целые башни из волос, формирует сложнейшие пейзажи, жанровые сценки, символические орнаменты. Прежде всего огромными шпильками и с помощью фиксирующих помад волосы поднимаются свечкой вверх, примерно раза в два выше, чем медвежья шапка прусского гренадера, и лишь в воздушном пространстве, в полуметре над уровнем глаз, начинается собственно область творчества художника. На головках дам гребенкой моделируется красочный сложный мир: целые ландшафты и панорамы с плодовыми садами, домами, с волнующимся морем и кораблями на нем; сюжет в этих произведениях искусства, чтобы разнообразить моду, непрерывно следует злобе дня. Все, что занимает умы этих колибри, что заполняет эти в большинстве своем пустые женские головки, должно быть воспроизведено на них. Вызывает опера Глюка сенсацию – тотчас же Леонар изображает прическу à la Iphigénie[84] – с черными траурными лентами и полумесяцем Дианы. Делают королю прививку против оспы[85] – это волнующее событие отображается в «Pouf de I’inoculation»[86]. Входят в моду разговоры о восстании в Америке[87] – сразу же победительницей дня оказывается куафюра «Свобода». Да что там говорить! Еще глупее, еще более мерзко выглядит это бездумное общество придворных, когда в ответ на голодные волнения парижского люда, громившего булочные, не находит ничего разумнее, как выставить на обозрение прическу «Bonnet de la révolte»[88]. Искусственные сооружения на ветреных головках становятся все более и более дикими. Постепенно волосяные башни из-за массивных подкладок и накладных волос оказываются столь высокими, что дамам уже не сесть в карете. Они вынуждены, приподняв юбки, стоять на коленях, чтобы не повредить драгоценное сооружение. Дверные проемы во дворце делают выше, чтобы дамам в парадных туалетах не приходилось часто нагибаться, потолки театральных лож приподнимают. Что же касается особых неудобств, причиняемых этими неземными существами своим возлюбленным, то в современной сатирической литературе об этом можно найти много потешного. Однако, если мода требует, женщины, как известно, готовы на любые жертвы. Королева же, со своей стороны, очевидно, не сможет считать себя настоящей королевой, если не окажется впереди всех в битве за самую элегантную, самую экстравагантную, самую дорогую прическу.
И вновь гремит эхо из Вены: «Я не могу не затронуть тему, к которой так часто возвращаются в газетах, а именно твои прически! Говорят, они располагаются на высоте тридцати шести дюймов от основания волос, а наверху еще перья и ленты!» Но, увиливая от прямого ответа, дочь сообщает chère maman[89], что здесь, в Версале, глаза уже привыкли к такому и весь свет (а весь свет для королевы – это сотня аристократов двора) не находит в этом ничего вызывающего. А мэтр Леонар продолжает строить и строить, пока всемогущему Богу не угодно будет положить конец моде на такие прически. В следующем году с башнями будет покончено, они уступят место еще более разорительной моде – моде на страусовые перья.
* * *
Третья забота: можно ли каждый раз быть одетой по-другому без соответствующих украшений? Нет, королеве требуются более крупные бриллианты, жемчуга больших размеров, чем у прочих. Ей нужно больше колец и перстней, браслетов и диадем, фероньерок[90] и драгоценных камней, больше пряжек, застежек, усыпанных бриллиантами обрамлений для вееров, расписанных Фрагонаром, чем у жен младших братьев короля, чем у других дам двора. Правда, еще из Вены она привезла с собой много бриллиантов, а от Людовика XV получила свадебный подарок – целую шкатулку с фамильными драгоценностями. Но стоит ли быть королевой, если нельзя все время покупать новые, более прекрасные, более дорогие камни? Мария Антуанетта – в Версале это знает каждый, и скоро станет очевидным, что ничего хорошего в этом нет, раз об этом все говорят и перешептываются, – до безумия любит украшения. Нет, не устоять ей перед соблазном приобрести драгоценности, когда эти ловкие и изворотливые ювелиры, переселившиеся из Германии евреи Бомер и Бассанж, показывают ей на обтянутых бархатом пластинах свои последние приобретения, новейшие произведения искусства – очаровательные серьги, перстни, фермуары. И условия, на которых драгоценности предлагаются этими славными людьми, никогда не бывают тяжелыми. Они знают, как проявить свое уважение к королеве Франции, и хотя уступают товар едва ли не за двойную его стоимость, но предоставляют кредит и к тому же при расчетах принимают ее старые бриллианты за полцены. Не замечая унизительности подобных ростовщических сделок, Мария Антуанетта делает долги направо и налево, она уверена, что в крайнем случае ее выручит бережливый супруг.
Но на этот раз из Вены приходит еще более грозное предостережение. «Все вести из Парижа говорят об одном и том же: ты опять купила себе браслет за двести пятьдесят тысяч ливров, тем самым расстроила свои доходы и наделала долгов, и вот, ради поправки дел, ты продаешь за бесценок свои бриллианты… Такие сообщения разрывают мое сердце, в особенности когда я думаю о твоем будущем. Когда же ты образумишься? – с отчаянием взывает мать. – Повелительница унижает себя, столь расточительно наряжаясь, и еще более унижает себя, доводя свои траты в такое время до огромных сумм. Я слишком хорошо знаю этот дух расточительства и не могу об этом молчать, так как люблю тебя ради тебя самой и не собираюсь льстить тебе. Остерегайся! Подобным легкомыслием ты можешь потерять уважение, приобретенное в начале правления. Всем известно, что король очень рассудителен, следовательно, все вины будут на тебе. Молю Бога, чтобы не дал он мне дожить до ужасной катастрофы».
* * *
Бриллианты стоят денег, туалеты стоят денег, и, хотя тотчас же после вступления на престол добродушный супруг удвоил Марии Антуанетте содержание, вероятно, эта щедро наполняемая шкатулка бездонна, ибо в ней всегда ужасающая пустота.
Как же раздобыть деньги? К счастью, черт нашел лазейку для легкомысленных – азартные игры. До Марии Антуанетты игры при дворе короля были невинным вечерним развлечением, как бильярд, например, или танцы: играли в безопасный ландскнехт с маленькими ставками. Мария Антуанетта открыла для себя и других пресловутый фараон, о котором мы от Казановы знаем, что это излюбленная игра всех мошенников и аферистов. Категорический приказ короля, подтверждающий старые распоряжения наказывать штрафом всех застигнутых за любой карточной игрой, Марии Антуанетты и ее окружения не касается: полиция не имеет доступа в салон королевы. А то, что сам король не желает терпеть эти усыпанные золотыми монетами игорные столы, нисколько не беспокоит легкомысленную клику. Игра продолжается и за его спиной, лакеям дано указание при появлении короля немедленно давать предупреждающий знак. И, словно заколдованные, тотчас же исчезают под столом карты, общество как ни в чем не бывало болтает, смеется над славным простаком, а затем партия продолжается. Для оживления игры и увеличения ставок королева допускает к своему столу под зеленым сукном любого, у кого тугая мошна, – у игорного стола оказываются шулера и спекулянты. Проходит немного времени, и по городу ползут слухи, что в салоне королевы идет нечистая игра. Лишь одна Мария Антуанетта ничего не знает об этом. Ослепленная жаждой наслаждений, она не желает ничего знать. Когда она увлечена, ее ничто не удержит. День за днем играет она до трех, до четырех, до пяти часов утра, а однажды – весь двор скандализован – даже всю ночь напролет, перед праздником Всех Святых.
И вновь эхо из Вены: «Азартная игра, несомненно, одно из самых опасных развлечений, ибо привлекает дурное общество и вызывает кривотолки… Становишься рабом одной-единственной мысли: только бы выиграть – и, когда делаешь правильные расчеты, всегда оказываешься в дураках, ведь если играть честно, то выиграть невозможно. Поэтому прошу тебя, любимая дочь: никакой уступчивости, никакой нерешительности. С этой страстью надо порвать сразу же, единым ударом».
* * *
Но платья, украшения, игры – все это занимает лишь полдня, только полночи. Еще одна забота – как провести вторую половину суток, чем занять себя? Прогулки верхом, охота – королевская забава; конечно, королеву всегда сопровождают, изредка супруг, впрочем, он смертельно скучен, чаще же она выбирает живого, подвижного деверя – д’Артуа – или других кавалеров. Иногда, развлечения ради, выезжают на ослах. Правда, это выглядит не так изысканно, но зато, если серый заупрямится, можно очаровательнейшим образом свалиться с него и показать двору кружевное белье и стройные ножки. Зимой, тепло одетые, катаются на санках, летом забавляются по вечерам фейерверками и сельскими балами, маленькими ночными концертами в парке. Несколько шагов с террасы вниз – и она в своем избранном обществе, надежно защищена темнотой, может весело, непринужденно болтать, с полным соблюдением приличий разумеется, но все же играть с огнем, ведь и вся жизнь для нее игра. Пусть некий ехидный придворный пишет брошюру в стихах о ночных похождениях королевы «Le lever de l’aurore»[91] – что из того? Король – снисходительный супруг, на подобные булавочные уколы не реагирует, а она – она прекрасно развлекается. Лишь бы не быть в одиночестве, лишь бы не оставаться по вечерам дома с книгой, с мужем, лишь бы всегда находиться в движении, побуждать к движению окружающих. Стоит появиться новой моде – Мария Антуанетта первая приветствует ее; едва граф д’Артуа (его единственный вклад в культуру Франции) перенимает у Англии бега, уже все видят на трибуне в окружении десятков юных щеголей-англоманов королеву, заключающую пари, страстно возбужденную этим новым видом нервного напряжения. Правда, обычно подобные вспышки ее воодушевления мимолетны. Чаще всего ей уже назавтра скучно то, что вчера восхищало; лишь постоянная, непрерывная смена развлечений в состоянии одержать верх над ее нервозной неугомонностью, вызванной, без сомнения, той альковной тайной. Самым любимым из сотни сменяющих друг друга развлечений, единственным, которым она длительное время увлекается, и правда самым опасным в ее положении является маскарад. Маскарад – это страсть Марии Антуанетты, страсть надолго. Здесь она получает двойное наслаждение: удовольствие быть королевой и – благодаря темной бархатной маске – не быть ею для окружающих, отваживаясь доходить до предельной черты сердечного азарта. Причем ставка в этой игре не деньги, как за карточным столом, а она сама, женщина. В костюме Артемиды или в кокетливом домино можно спуститься с леденящих душу вершин этикета в незнакомую теплую людскую сутолоку, с содроганием ощущать дыхание нежности, близость соблазна, почти соскользнуть в опасную пропасть. Под защитой маски можно позволить себе взять на полчаса под руку элегантного юного английского джентльмена или парой смелых слов дать понять обворожительному шведскому кавалеру Гансу Акселю Ферзену, как нравится он женщине, которая, к сожалению – увы, к сожалению, – будучи королевой, вынуждена сохранять добродетель. То, что эти маленькие проказы после пересудов в Версале тотчас же грубо эротизируются и обсуждаются во всех салонах, то, что такие, например, пустяки, как случай, когда ось придворной кареты ломается в пути и Мария Антуанетта для двух десятков шагов берет наемную карету, чтобы добраться до Оперы, такие пустяки обыгрываются досужими болтунами в нелегальных журналах как фривольные похождения королевы, – об этом Мария Антуанетта либо ничего не знает, либо ничего не хочет знать. Напрасно предупреждает мать: «Я молчала бы, случись это в присутствии короля, но почему-то подобное всегда происходит без него и всегда в обществе самой испорченной молодежи Парижа, причем очаровательная королева самая старшая в этой клике. Газеты, листки, которые раньше доставляли мне радость тем, что славили великодушие и сердечность моей дочери, вдруг внезапно переменились. Ни о чем другом не пишут, кроме как о бегах, азартных играх, бессонных ночах, так что и смотреть на газеты больше не хочется. Но я ничем не в состоянии помочь, ничего не могу изменить, и весь мир, который знает о моей любви и нежности к моим детям, говорит о твоем поведении, обсуждает его. Часто я даже избегаю общества, только бы ничего не слышать об этом».
Однако выговоры не имеют никакой силы над неразумной: слишком далеко зашла она, очень уж глубоко заблуждается и не понимает этого. Почему не наслаждаться жизнью, для чего же она, эта жизнь, если не для наслаждения? И с потрясающей откровенностью отвечает Мария Антуанетта посланнику Мерси на материнские предостережения: «Чего же она хочет? Я страшусь скуки».
* * *
«Я страшусь скуки». Этими словами Мария Антуанетта выразила сущность своего времени, сущность всего своего окружения. Восемнадцатое столетие на исходе, оно выполнило свою миссию. Государство создано, Версаль построен, сложная система этикета завершена, двору, собственно, нечего больше делать. Маршалы, поскольку нет войн, превратились в вешалки для мундиров; епископы, поскольку это поколение не верит более в Бога, стали галантными кавалерами в фиолетовых сутанах; королева, которая не имеет рядом с собой истинного короля и не может вскормить престолонаследника, становится легкомысленной светской дамой. Испытывая скуку, не понимая, что происходит, стоят все они перед мощным потоком времени, любопытствующими руками иной раз погружаются в этот поток, чтобы достать со дна пару блестящих камешков. Смеясь, словно дети, играют со страшной стихией, ведь до поры она так легко и ласково обтекает их пальцы. Но никто из них не чувствует, как течение потока все убыстряется и убыстряется. И когда наконец они поймут, какая опасность грозит им, бегство будет бесполезным, игра окажется проигранной, жизнь – растраченной попусту.
Трианон
Легкой своей рукой, как бы шутя, словно неожиданный подарок, берет Мария Антуанетта корону; слишком молода она, чтобы знать, что жизнь ничего не дает бесплатно и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена. Мария Антуанетта и не думает оплачивать дары судьбы. Она принимает права королевы; что же касается обязанностей, здесь она остается в долгу. Ей хотелось бы обладать властью и получать от нее наслаждение, но одно с другим несовместимо. Ей хотелось бы, чтобы все исполняли ее желания, желания королевы, и чтобы она сама спокойно уступала любому своему капризу; она желает обладать полнотой власти государыни и свободой женщины, то есть вдвойне наслаждаться своей юной, исполненной тревог жизнью.
Но в Версале свобода немыслима. В этих ярко освещенных зеркальных галереях ни один шаг не остается незамеченным. Каждое движение регламентировано, каждое слово предательским дуновением ветра передается другим. Здесь и речи не может быть о том, чтобы уединиться или провести несколько минут с кем-нибудь наедине, нет возможности отдохнуть. Король – это центр гигантского часового механизма, ход которого ненарушаем и точен. Любое проявление жизни – от рождения до смерти, от утреннего туалета до отхода ко сну, даже собственно час любви – этот механизм превращает в государственный акт. И повелитель, которому принадлежит все, сам себе не принадлежит. Но Мария Антуанетта ненавидит любой контроль и, едва став королевой, требует от своего уступчивого супруга какого-нибудь убежища, где можно было бы не быть королевой. И Людовик XVI, отчасти по слабости характера, отчасти из галантности, преподносит ей как «утренний дар»[92] маленький летний дворец Трианон – крошечную страну, суверенное государство в громадном Французском королевстве.
* * *
Сам по себе этот подарок не так-то уж и значителен: король дарит Марии Антуанетте Трианон всего лишь как игрушку, которая займет ее праздность и будет приводить ее в восхищение более десяти лет. Этот маленький замок никогда не был рассчитан на постоянное пребывание в нем королевской семьи, он был задуман как de plaisir[93], как buen retiro[94], как временная резиденция. Людовик XV, желая уединиться со своей Дюбарри или другой случайной дамой, весьма часто пользовался этим любовным гнездышком, защищенным от соглядатаев. Искусный механик изобрел хитроумное устройство, с помощью которого стол, накрываемый в кухонном подвальном помещении, поднимался в королевские покои так, что ни один слуга не присутствовал на интимном ужине. За то, что находчивый Лепорелло[95] усилил приятность эротических вечеров, он получил особое вознаграждение – двенадцать тысяч ливров, что, собственно, не очень увеличило расходы на Трианон, который и без этих денег обошелся государственной казне в семьсот тридцать шесть тысяч.
Мария Антуанетта принимает этот расположенный в отдаленной части версальского парка замок, а зеркала его еще хранят отражения фривольных сценок, разыгрывавшихся в его комнатах. Вот она, ее безделушка, едва ли не самая очаровательная из тех, что были созданы французским вкусом, – нежные линии, совершенные формы, настоящая шкатулка для драгоценностей, оправа, достойная юной и изящной королевы. Построенный в простой, слегка стилизованной под античность манере, светящийся белизной в густой зелени садов, в стороне от Версаля и в то же время возле него, он очень миниатюрен, этот дворец фаворитки, принадлежащий ныне королеве. Скромно отделан, не очень-то удобен для жилья, в наше время он был бы домом для одной семьи. Всего семь или восемь комнат: прихожая, столовая, малый и большой салоны, спальня, ванная, небольшая библиотека (lucus a non lucendo[96], ибо, по свидетельству всех, кто с ней общался, Мария Антуанетта за всю жизнь не прочла ни одной книги, разве что бегло перелистала пару романов). В последующие годы королева совсем немногое меняет в убранстве маленького замка. Обнаруживая истинный вкус, она не портит эти помещения, рассчитанные на интимное настроение, ничем роскошным, помпезным, нарочито дорогостоящим. Напротив, она предпочитает новый стиль, который получил имя Louis Seize[97] так же несправедливо, как Америка – имя Америго Веспуччи, – стиль, в котором господствует светлое, нежное, сдержанное. Ее именем, именем этой хрупкой, живой, изящной женщины, следовало бы назвать его, стилем Марии Антуанетты, ибо прелестные, грациозные формы напоминают не тучного, массивного Людовика XVI с его грубыми вкусами, а легкую, очаровательную женщину, изображения которой до сих пор украшают эти покои. Единство стиля во всем: кровать и пудреница, клавесин и веер из слоновой кости, кушетка и миниатюры – все из самого лучшего материала, все самой неброской формы. Казалось бы, хрупкие вещи – на самом же деле долговечные – они соединяют в себе античные линии и французскую грацию. Стиль этот, который и сегодня убедительнее, чем любой другой, заявляет о победоносной власти дамы, о власти женщины с изысканным вкусом, приходит со своей интимностью и музыкальностью на смену драматически помпезным стилям Louis Quinze et Louis Quatorze[98].
Вместо высокомерных, чопорных покоев для торжественных приемов центром двора становится салон, в котором ведут легкую, непринужденную беседу, флиртуют, кокетничают. Резное золоченое дерево заменяет собой холодный мрамор, мягко сверкающий шелк – негнущуюся парчу и тяжелый бархат. Блеклые и нежные краски – матовый, кремовый, цвет персика, весенняя голубизна – заявляют о своем кротком господстве. Это искусство рассчитано на женщин, на весну, на Fêtes galantes[99] и на беззаботное совместное времяпрепровождение. Не к вызывающему великолепию стремятся здесь, не к театральной импозантности, а к неназойливости, приглушенности. Не власть королевы должна подчеркиваться здесь, а прелесть молодой женщины, образ которой тонко воспроизводится всеми окружающими ее предметами. Лишь в этом драгоценном и кокетливом обрамлении изящные статуэтки Клодиона, картины Ватто и Патера, серебряная музыка Боккерини и прочие изысканные творения Dix-huitième приобретают свою истинную ценность. Это несравненное искусство игры блаженной беззаботности непосредственно перед великими потрясениями нигде не действует так оправданно, так убедительно. Навсегда Трианон останется тончайшей, нежнейшей и в то же время небьющейся вазой для этого изысканнейшего цветка: культура рафинированного наслаждения сформировалась здесь как совершенное искусство в осязаемом образе – в виде здания. И зенит и надир рококо, час расцвета и смертный час одновременно, и ныне еще можно увидеть на циферблате маленьких часов с маятником, стоящих на мраморном камине в покоях Марии Антуанетты.
* * *
Трианон – это миниатюрный придуманный мир; символично, что из его окон не видно ни Версаля, ни Парижа, ни селений. За десяток минут можно обойти дворец, и все же это крошечное пространство для Марии Антуанетты значительно важнее, чем целое королевство с двадцатью миллионами подданных. Ибо здесь она чувствует себя не связанной ни церемониями, ни этикетом, ни, пожалуй, даже обычаями. Чтобы ясно показать всем, что на этом небольшом клочке земли повелевает лишь она, и никто более, к досаде двора, строго следующего салическому закону[100], она отдает здесь все приказы не именем короля, а своим собственным: «De par la reine»[101]. Прислуга носит ливреи не королевских цветов – красно-бело-голубые, а ее – красно-серебряные. Даже ее супруг бывает здесь только как гость – впрочем, весьма покладистый и очень тактичный. Он никогда не появляется без приглашения или в неназначенное время, уважая права хозяйки. Но, скромный человек, является сюда охотно, ему здесь уютнее, чем в большом замке: «par ordre de la reine»[102] была отменена всякая суровость и напыщенность, здесь не держат двора, сидят без шляп, в свободных легких платьях, не обращают внимания на табель о рангах, иногда даже пренебрегают званием, в веселом, непринужденном общении исчезает чопорность. Здесь королева чувствует себя прекрасно и вскоре до того привыкает к такому свободному образу жизни, что по вечерам ей все труднее становится возвращаться в Версаль. После того как она отведала этой сельской свободы, все более чужим становится ей двор, все скучнее – обязанности представительства и, вероятно, супружеские тоже, все чаще в течение дня возвращается она в свою веселую голубятню. Охотнее всего она постоянно жила бы в Трианоне. И так как Мария Антуанетта всегда делает то, чего захочет, она действительно переселяется в летний дворец. В опочивальне устанавливается одна, разумеется односпальная, кровать, в которой дородный король едва ли нашел бы для себя место. Как и все прочее, супружеская близость отныне определяется уже не королем; подобно царице Савской, посещавшей царя Соломона, Мария Антуанетта посещает своего славного супруга лишь тогда, когда она этого пожелает (хотя мать очень горячо возражает против «lit à part»). Здесь, в ее постели, он никогда не бывает гостем, ибо Трианон для Марии Антуанетты – счастливое государство девственницы, посвященное лишь цитерам, лишь развлечениям, а к своим развлечениям она никогда не причисляла обязанности, и менее всего супружеские. Она хочет здесь свободно жить для себя самой, не быть никем, кроме как избалованной, боготворимой, вечно молодой женщиной, которая ради тысячи бесполезных, никому не нужных дел забывает все: королевство, супруга, двор, время и весь мир, а иногда – и это, вероятно, ее счастливейшие минуты – даже самое себя.
* * *
Получив Трианон, эта до сих пор ничем не занятая душа нашла наконец занятие, обрела непрерывно обновляющуюся игрушку. И если раньше она заказывала для себя у модистки платье за платьем, у придворных ювелиров – все новые и новые драгоценности, то теперь к этим заботам прибавилась еще одна – забота об украшении своего суверенного государства. Помимо модистки, помимо ювелира, балетмейстера, учителя музыки, учителя танцев теперь архитектор, садовник, художник, декоратор, все эти министры ее миниатюрного королевства, заполняют ее время, которого у нее так много, ах, ужасно много, и усиленно опустошают казну государства. Основное внимание Мария Антуанетта уделяет своему саду, так как, само собой разумеется, он ничем не должен быть похож на старый парк Версаля, ему следует стать самым современным, самым модным, самым своеобразным, самым кокетливым садом всех времен, настоящим и подлинным садом рококо. И на этот раз, сознательно или невольно, Мария Антуанетта этим своим желанием следует изменившемуся вкусу своего времени. Ведь все устали от газонов, вытянутых, словно по линейке генерального контролера королевских построек Ленотра, от живой изгороди, подрезанной словно бритвой, от рассчитанных за чертежным столом холодных орнаментов, долженствующих хвастливо доказать, что Людовик, «король-солнце», вынудил подчиниться заданным им формам не только государство, аристократию, сословия, нацию, но и божий ландшафт. Уже все досыта насмотрелись на эту зеленую геометрию, утомились от этого насилия над природой; человек вне «общества» – Жан Жак Руссо в «Новой Элоизе» дает очень точное определение антитезе регулярного парка: «парк природы».
Конечно, Мария Антуанетта никогда не читала «Новую Элоизу», в лучшем случае о Руссо она слышала как о композиторе, авторе музыкального фарса «Le devin du village»[103]. Но воззрения Руссо в те времена витают в воздухе. У маркизов и герцогов глаза увлажняются, если при них говорят о благородном заступнике невинности (в личной жизни этот «заступник» – homo perversissimus[104]). Они благодарны ему за то, что ко многим существующим средствам от скуки он счастливым образом добавил новый, последний раздражитель – игру в наивность, маскарадный наряд естественности. Само собой разумеется, и Мария Антуанетта желает теперь иметь невинный ландшафт, «естественный» сад, причем самый наиестественный из всех модных естественных садов. И вот она собирает лучших, наиболее утонченных художников, чтобы они по всем канонам искусства выдумали ей самый что ни на есть естественный сад. Ибо – мода времени! – в этом «англо-китайском» саду хотят представить не просто природу, но всю природу, на пространстве площадью в пару квадратных километров – весь мир в игрушечных масштабах. Все должно быть на этом крохотном клочке земли: французские, индийские, африканские деревья, голландские тюльпаны, южные магнолии, пруд и речка, гора и грот, романтические руины и сельские хижины, греческий храм и восточный ландшафт, голландская ветряная мельница, север и юг, запад и восток, самое естественное и самое странное, все искусственное, но производящее впечатление настоящего. Сначала архитектор предполагает соорудить огнедышащий вулкан и построить китайскую пагоду на этой земле площадью с ладонь; к счастью, предварительная смета на эти работы оказывается неприемлемой.
Подгоняемые нетерпением королевы, сотни рабочих начинают колдовать над осуществлением планов инженеров и художников, создавать в сказочно короткие сроки ландшафты – невероятно художественные, умышленно легкие, имеющие безыскусственный вид. Прежде всего по лугу прокладывается тихий, лирически бормочущий ручеек – неотъемлемая принадлежность любой подлинной пасторали. Правда, воду нужно вести из Марли по трубам длиной две тысячи футов, и по этим трубам одновременно утекают немалые деньги, но извилистое русло ручейка выглядит так приятно и естественно! Тихо журча, ручеек впадает в искусственный пруд с искусственным островком, к островку перекинут прелестный мостик, по пруду грациозно плавают белые лебеди в сверкающем оперении. Словно из анакреонтических стихотворений[105], возникает скала с искусственным мхом, с искусно скрытым гротом любви и романтическим бельведером[106]. Ничто не напоминает о том, что этот трогательно-наивный ландшафт предварительно вычертили и раскрасили на бесчисленных листах бумаги, что сделали два десятка гипсовых моделей, в которых ручеек и пруд воспроизводились кусочками зеркального стекла, а луга и деревья, как в игрушках для детей, – раскрашенным мхом. Но дальше, дальше! Каждый год у королевы появляются новые прихоти, все более изысканные; все более естественные сооружения должны украсить ее королевство, она не желает ждать, пока будут оплачены старые счета; теперь у нее есть игра, и она намерена развлекаться. Как бы рассеянные в беспорядке, на самом же деле размещенные романтическими архитекторами с точным расчетом на определенный эффект, появляются в саду чудесные маленькие шедевры, делая его еще более очаровательным. Святилище, посвященное богу стародавних времен, и недалеко, на холме, возвышается Храм любви, его открытая античная ротонда украшена одной из лучших скульптур Бушардона – амуром, вырезающим из палицы Геркулеса меткоразящие стрелы для своего лука. Грот любви так искусно вырублен в скале, что любезничающая в нем парочка своевременно заметит приближающихся и не окажется застигнутой врасплох. Сквозь лесок бегут пересекающиеся дорожки, ведущие к лугу с диковинными цветами; вон сквозь густую зелень светится маленький музыкальный павильон-восьмигранник, сверкающий белизной, и все это с большим вкусом так дополняет друг друга, что действительно во всей этой прелестной преднамеренности не чувствуется ничего искусственного.
Но мода требует еще большего правдоподобия. Чтобы перещеголять природу в естественности, кулисы самого рафинированного ландшафта необходимо перемалевать так, чтобы они выглядели жизненно правдоподобными, и в эту пастораль, самую разительную из всех, которые знала история, к вящему триумфу фальсификаторов истинного, вводятся действующие лица, статисты – настоящие крестьяне, настоящие крестьянки, настоящие коровницы с настоящими коровами, телятами, свиньями, кроликами и овцами, настоящие косари, жнецы, пастухи, охотники, пахари и сыровары, чтобы они охотились и косили, доили коров и обрабатывали поля, чтобы игра марионеток была непрерывной. Новый, еще больший заем в государственной кассе – и по приказу Марии Антуанетты возле Трианона для заигравшихся великовозрастных детей создается кукольный театр, где действующие лица – живые люди, кукольный театр с всамделишными конюшнями, скирдами, амбарами, с голубятнями и курятниками, знаменитая hameau. Великий архитектор Мик и художник Гюбер Робер рисуют, делают наброски, строят восемь крестьянских усадеб, точно воспроизводящих современные крестьянские постройки, дома с соломенными крышами, птичьим двором и навозными кучами. А чтобы эта новехонькая бутафория, боже упаси, не выглядела неправдоподобной среди обошедшейся в копеечку искусственной природы, имитируется даже нищета и запустение действительно убогих хижин. Молотком образуют в стенах трещины, сбивают куски штукатурки, создавая у дома романтический вид, срывают с крыши несколько дранок; Гюбер Робер вырисовывает искусные узоры на деревянных деталях, чтобы они выглядели гнилыми и ветхими, печные трубы коптят до черноты. Зато внутри некоторые из этих внешне убогих хижин убраны с уютом; в них имеются зеркала и печки, бильярд и удобные кушетки. Ведь, если иной раз скуки ради королева пожелает стать героиней в духе Жана Жака Руссо, решит со своими придворными дамами поиграть в пейзан[107], захочет собственноручно приготовить масло, она ни в коем случае при этом не должна испачкать свои пальчики. Если она вздумает посетить своих коров, Брюнетту и Бланшетту, то, само собой разумеется, накануне невидимая рука начистит пол коровника что твой паркет, коровы – белоснежная и рыжая (цвета красного дерева) – будут тщательно вычищены скребницей и пенящееся молоко подадут не в грубых крестьянских ковшах, а в фарфоровых вазах с монограммой королевы, специально изготовленных на собственной его величества мануфактуре в Севре[108]. Эта hameau, милая и сейчас, совсем разрушенная, для Марии Антуанетты является театром, вошедшим в ее жизнь органически, трогательной comédie champêtre[109], как раз под стать ее легкомыслию. Ибо, в то время как во всей Франции задавленный налогами и поборами сельский люд в безмерном возбуждении наконец-то начинает, бунтуя, требовать улучшения невыносимо тяжелого положения, в этой бьющей на эффект потемкинской деревне господствует нелепое, пошлое и лживое благополучие. К пастбищу ведут овечек на голубых ленточках, королева, защищенная от лучей солнца зонтиком, который держит придворная дама, смотрит, как прачки полощут в журчащем ручейке холсты. Ах, как прекрасна она, эта простота, как моральна, как мила, как чисто все и очаровательно в этом райском мире! И жизнь здесь светла и естественна, как молоко, брызжущее из вымени коровы. Надевают платья из тонкого муслина, по-крестьянски простые (заказывают портреты в этом платье за несколько тысяч ливров), со всем легкомыслием пресыщения предаются невинным забавам, славят goût de la nature[110]. Удят рыбу, собирают цветы, прогуливаются – очень редко в одиночку – по петляющим дорожкам, бегают по лугу, смотрят на статистов, на славных пейзан за работой, играют в мяч, танцуют менуэт и гавот не на паркетном полу, а на цветущем лугу, вешают качели между деревьями, забавляются китайской игрой с кольцом, теряют друг друга, блуждают, встречаются между хижинами и в тенистых аллеях, катаются верхом, подшучивают друг над другом, разыгрывают друг перед другом сценки в этом природном театре и, наконец, играют их перед другими.
Постепенно этот вид развлечения становится королеве все более и более интересным. Сначала, для того чтобы иметь возможность принять у себя итальянских и французских комедиантов, она дает указание построить маленький театр, сохранившийся до наших дней, чрезвычайно изящный в своих пропорциях. Каприз обходится всего лишь в сто сорок одну тысячу ливров, но затем, приняв смелое решение, она сама делает прыжок на подмостки сцены. Веселая, шумная компания, окружающая королеву, также увлекается идеей любительских спектаклей, ее деверь, граф д’Артуа, Полиньяк со своими кавалерами охотно присоединяются. Несколько раз появляется даже король, чтобы отдать дань восхищения своей супруге как актрисе, и таким вот образом веселый карнавал в Трианоне продолжается круглый год.
То празднество дается в честь супруга или брата, то в честь иностранных знатных гостей, которым Мария Антуанетта желает показать свое волшебное царство, когда тысячи маленьких, прикрытых разноцветными стеклянными колпачками источников света сияют в темноте, словно аметисты, топазы, рубины, а потрескивающие огненные снопы фейерверка прорезают небо и музыка, невидимая, но близкая, создает невыразимо приятное впечатление. То банкеты на сотни персон, то ярмарочные балаганы, то танцевальные площадки – невинный ландшафт покорно служит великолепным фоном для роскоши. Нет, «на природе» не скучают. Мария Антуанетта удаляется в Трианон не для того, чтобы стать рассудительнее, а для того, чтобы разнообразнее и свободнее развлекаться.
* * *
Полная стоимость Трианона была определена лишь 31 августа 1791 года, она равнялась 1 649 529 ливрам, а в действительности, если учесть утаенные затраты, превысила два миллиона – сумма, сама по себе являющаяся каплей в бочке Данаид[111] королевской бесхозяйственности, но в то же время огромная, если принять во внимание расстроенные финансы и всеобщую нищету. «Вдова Капет» сама будет вынуждена признать перед Революционным трибуналом[112]: «Возможно, что Малый Трианон стоил колоссальных сумм, и, вероятно, больших, чем я сама желала. Расходы все росли и росли». Но и с политической точки зрения каприз королевы обошелся дорого. Ибо, оставив всю камарилью царедворцев Версаля без дела, она лишила двор смысла его жизни. Дама, которая должна подавать ей перчатки, другая, которая благоговейно пододвигает ей стул, придворные дамы и кавалеры, многие сотни гвардейцев, прислуга, льстецы и подхалимы, что делать им, отрешенным от должностей? Ничем не занятые, сидят они день за днем в Ой-де-Бёф, и, подобно бездействующей машине, которая разъедается ржавчиной, этот равнодушно покинутый двор наливается желчью и ядом. Скоро дело доходит до того, что аристократическое общество, как бы тайно сговорившись, начинает уклоняться от участия в придворных празднествах: пусть надменная «австриячка» сама забавляется в своем «petit Schönbrunn»[113], в своей «petite Vienne»[114]; эта аристократия, столь же древняя, как и аристократия габсбургская, считает, что ей слишком мало одного холодного кивка мимоходом. Все более ясной становится фронда высшей французской знати против королевы с момента, как та покинула Версаль. И герцог Леви очень образно описывает сложившуюся ситуацию: «В годы развлечения и легкомыслия, в упоении высшей властью, королева не любила в чем-либо сдерживать себя. Этикет и церемонии были для нее поводом проявить нетерпение, почувствовать скуку. Она считала, что в такое просвещенное столетие, когда люди освободились от всех предрассудков, властелины тоже должны избавиться от стесняющих их оков, короче говоря, смешно думать, будто степень послушания народа зависит от того, сколько часов королевская чета проведет среди скучных и скучающих придворных… За исключением нескольких фаворитов, обязанных своим положением капризу или интриге, весь свет оказался изолированным от двора. Чин, служебные заслуги, вес в обществе, высокое происхождение не являлись основанием к тому, чтобы быть включенным в интимный кружок королевской семьи. Лишь по воскресеньям лица, представленные ко двору, получали возможность видеть их величества в течение короткого времени. Однако большинство из них потеряли вскоре вкус к этим бесполезным мукам, за которые их никто не благодарил; они поняли, что безрассудно являться издалека, чтобы быть так неприветливо принятыми при дворе, и отказались от дальнейших попыток… Версаль – арена, на которой Людовик XIV являл свое великолепие, куда с радостью съезжались со всех концов Европы, чтобы изучить приемы утонченной галантности, чтобы приобщиться к изысканнейшим формам светской жизни, – оказался нынче всего лишь маленьким провинциальным городком, куда отправляются против своей воли, а покинуть стараются как можно скорее».
И эту опасность Мария Терезия предвидела давно и на расстоянии: «Я тоже чувствую скуку и пустоту представительства, но поверь мне, пренебрежение им может повлечь за собой серьезные неприятности, более существенные, чем эти маленькие неудобства, особенно у вас, у такой темпераментной нации». Но там, где Мария Антуанетта не желает понять, нет никакого смысла апеллировать к ее здравому смыслу. Стоит ли поднимать шум из-за того, что она живет в получасе пути от Версаля! В действительности же эти две или три мили навсегда отдалили ее от двора и от народа. Останься Мария Антуанетта жить в Версале, среди французской аристократии, сохрани она традиционные обычаи, – принцы, князья, армия аристократов в час опасности были бы на ее стороне. Или попытайся она, подобно своему брату Иосифу, демократически приблизиться к народу, сотни тысяч парижан, миллионы французов боготворили бы ее. Но Марии Антуанетте, абсолютной индивидуалистке, безразлично расположение и аристократов, и народа, она думает лишь о себе. Из-за Трианона, этого своего любимого каприза, она теряет популярность у всех трех сословий: слишком долго была она наедине со своим счастьем, поэтому окажется одинокой в несчастье и ребяческую игрушку оплатит короной и головой.
Новое общество
Едва Мария Антуанетта устраивается в своем доме, как новая метла начинает по-новому мести. Прежде всего, прочь старых людей: старые люди скучны и безобразны. Они не могут танцевать, не умеют развлекаться, проповедуют осторожность и осмотрительность. Жизнерадостная, легковозбудимая женщина еще с тех пор, когда была дофиной, по горло сыта этими вечными поучениями и сдержанностью. Итак, подальше чопорную воспитательницу мадам Этикет, графиню де Ноай: королеве не требуется быть воспитанной, она может позволить себе все – все, что пожелает! На должную дистанцию следует отдалить данного ей матерью духовника и советчика аббата Вермона, подальше всех тех, в чьем присутствии чувствуешь духовную стесненность! Приблизить к себе только юность – живое, веселое поколение, которое не упустит возможности повеселиться, развлечься, которое не принимает жизнь всерьез! Принадлежат ли эти товарищи по забавам к первым семействам королевства, являются ли они безупречными, честными людьми, не так-то и существенно, особо умными или образованными им также не обязательно быть – образованные люди педантичны, умные же ехидны; достаточно, если они остроумны, могут рассказывать пикантные анекдоты и на празднествах производят хорошее впечатление.
Развлечения, развлечения, развлечения – первое и единственное требование Марии Антуанетты к узкому кругу своих приближенных. Так возле нее собираются «avec tout ce qui est de plus mauvais à Paris et de plus jeune»[115], как, вздыхая, говорит Мария Терезия, «soi disante société»[116], как раздраженно ворчит брат королевы Иосиф II. Казалось бы, вялая, безразличная ко всему, в действительности же в высшей степени эгоистичная клика, члены которой без стеснения получают за необременительную службу (например, за должность maître de plaisir[117]) весьма увесистые ливры и, развлекаясь, не забывают совать в свои карманы арлекинов солидные пенсионы.
Лишь один скучный господин, время от времени появляясь в этом легкомысленном обществе, вносит дисгармонию. Но, к сожалению, от него невозможно избавиться, ибо – об этом чуть было не забыли – он законный супруг милой хозяйки и, кроме того, повелитель Франции. Влюбленный в свою очаровательную супругу, Людовик Снисходительный, получив предварительно разрешение, иногда является в Трианон, смотрит, как веселятся молодые люди, пытается иной раз застенчиво упрекнуть их, если они очень уж беспечно преступают границы условностей или же когда непомерно растут расходы; но стоит лишь королеве засмеяться – и король тотчас же приходит в отличное расположение духа. Да и веселые сторонние наблюдатели питают своего рода снисходительную симпатию к королю, храбро и послушно ставящему печать с факсимиле «Louis» под декретами, которыми королева предоставляет им высшие должности. Добряк никогда подолгу не мешает им, час или два, затем он возвращается в Версаль к своим книгам или в слесарную мастерскую. Как-то раз он задерживается в Трианоне, и королева, торопясь со своими друзьями в Париж, тайно переводит стрелку часов на час вперед. Не заметив маленького обмана, кроткий как овечка король ложится спать в десять вместо одиннадцати, а вся компания элегантных каналий покатывается за его спиной со смеху.
Возвышению идеи королевской власти такие шутки, конечно, не способствуют. Но что делать в Трианоне с таким неловким, неуклюжим человеком? Он не может рассказать двусмысленного анекдота, не умеет от души посмеяться. Боязливый и робкий, как если бы у него болел живот, сидит он среди веселых, развязных людей и зевает в полусне, тогда как остальные лишь к полуночи начинают чувствовать себя по-настоящему хорошо. Он не посещает маскарадов, не принимает участия в азартных играх, не ухаживает за дамами – нет, он просто никому здесь не нужен, этот славный, скучный малый; в обществе Трианона, в королевстве рококо, в этих идиллических полях беззаботности и шалостей ему нет места.
* * *
Итак, в новое общество король не введен. И брат его, граф Прованский, скрывающий свое честолюбие за личиной кажущегося безразличия, опасаясь уронить свое достоинство, почитает за разумное не общаться с этими молокососами. Но поскольку все же кто-то из членов королевской семьи по мужской линии должен сопровождать королеву в ее погоне за развлечениями, роль ангела-хранителя принимает на себя самый младший брат Людовика XVI – граф д’Артуа. Легкомысленный, фривольный и наглый, ловкий и легко приспосабливающийся, он страдает той же болезнью, что и Мария Антуанетта, – боится скуки, не желает заниматься серьезными делами. Бабник, мастер делать долги, щеголь-насмешник, хвастунишка, скорее дерзкий, нежели храбрый, скорее вспыльчивый, нежели пылкий, предводительствует он веселой кликой, ведет ее туда, где появляется новое развлечение, новая мода, новый вид спорта, и вскоре долгов у него оказывается больше, чем у короля, королевы и всего двора, вместе взятых. Но именно такой, каков он есть, он отлично подходит Марии Антуанетте. Она не больно-то уважает этого ветрогона, еще меньше любит его, как бы злые языки ни утверждали обратное. Но он очень близок ей по духу. Брат и сестра по жажде наслаждений, они образуют вскоре неразлучную пару.
Граф д’Артуа – выборный командир лейб-гвардии, с которой Мария Антуанетта предпринимает свои дневные и ночные набеги на все провинции веселой праздности. Этот отряд, впрочем, невелик и непрерывно меняет своих офицеров. Ибо снисходительная королева многое прощает своим спутникам: долги, надменность, вызывающее и слишком панибратское поведение, любовные связи и скандалы. Но любой из них теряет ее благосклонность, едва она начинает по его вине скучать. Некоторое время первенствует барон Безанваль, пятидесятилетний швейцарский аристократ с шумными, бесцеремонными манерами старого солдата, затем предпочтение отдается герцогу Койиньи, он «un des plus constamment favorisés et le plus consultés»[118].
Этим двоим вместе с честолюбивым герцогом Гином и венгерским графом Эстергази дается удивительное поручение – заботиться о королеве, пока она болеет краснухой, что при дворе дает повод к ехидному вопросу: каких четырех придворных дам выбрал бы король при подобной ситуации? Постоянно сохраняет свое место граф Водрей, возлюбленный фаворитки Марии Антуанетты графини Полиньяк; несколько в тени остается наиболее утонченный среди избранников, окружающих королеву, – принц Линь, единственный, кто из своего положения в Трианоне не извлекает материальных выгод, не стремится выторговать себе прибыльную государственную ренту, единственный также, кто в своих мемуарах, уже старым человеком, с благоговением вспоминает о своей королеве. Непостоянными звездами этого идиллического небосклона являются красавец Диллон и юный пылкий сумасброд герцог Лозен. Общение с ними какое-то время представляет известную угрозу целомудрию девственницы поневоле. Лишь с трудом, благодаря энергичным усилиям, посланнику Мерси удается заставить отступить юного безумца Лозена, прежде чем тот успевает завоевать больше, нежели просто симпатию королевы. Граф Адэмар приятно поет под аккомпанемент арфы и принимает деятельное участие в любительском театре; этого оказывается достаточно, чтобы он получил пост посланника в Брюсселе, а затем в Лондоне. Другие же предпочитают оставаться дома и выуживают себе из искусно взбаламученной воды прибыльные должности при дворе. Никто из этих кавалеров, за исключением принца Линя, не обладает истинными духовными достоинствами, никто из них – честолюбием, которое побудило бы использовать особое положение, занимаемое ими при королеве, для осуществления каких-либо широко задуманных в политическом смысле планов, никто из этих героев маскарадов Трианона не станет истинным героем истории. Ни один из этих щеголей внутренне, по-настоящему не уважает Марию Антуанетту. Иным из них молодая кокетливая женщина позволяет несколько больше интимности в общении, чем это подобает королеве, но ни одному, и это бесспорно, она не жертвует собой полностью – ни духовно, ни как женщина. Тот же, кто должен стать единственным для нее и будет им, тот, кто однажды и навсегда завоюет ее сердце, стоит пока еще в тени. И суматошливое поведение статистов, быть может, и служит лишь затем, чтобы скрыть его близость, его присутствие.
* * *
Однако большую опасность для королевы представляют не эти ненадежные и переменчивые кавалеры, а ее подруги; здесь таинственным образом проявляется сложная игра самых разных чувств. С характеристической точки зрения Мария Антуанетта – совершенно естественная, очень женственная и кроткая натура, испытывающая потребность в самоотречении, потребность в изъявлении таких чувств, которые при вялом, апатичном супруге в эти годы их совместной жизни остаются без взаимности. Общительная по своей природе, она жаждет поделиться с кем-либо своими душевными порывами, и, поскольку в силу сложившихся обычаев таким доверенным, таким близким человеком не может или еще не может быть мужчина, Мария Антуанетта невольно ищет подругу.
То, что дружеские отношения Марии Антуанетты с близкими ей женщинами окрашены нежностью, совершенно естественно.
Шестнадцати-, семнадцати-, восемнадцатилетняя Мария Антуанетта, хотя и замужем или, точнее, как бы замужем, духовно находится в характерном возрасте и в характерном положении воспитанницы пансиона для благородных девиц. Ребенком оторванная от матери, горячо любимой воспитательницы, оказавшись возле неловкого, грубоватого мужа, она не имеет возможности доверчиво открыть кому-либо свою душу – стремление, столь же присущее природе юной девушки, как аромат – цветку. Все эти ребячливые безделицы, прогулки рука об руку, обнимания, хихиканье по углам, бешеная беготня из комнаты в комнату, «обожание» себя самой – все эти симптомы «весеннего пробуждения» еще сохраняет ее детское тело.
В шестнадцать, в восемнадцать, в двадцать лет Мария Антуанетта все еще не может влюбиться по-настоящему, со всей страстью, со всем пылом юной души. И то, что проявляется в таком бурном кипении чувств, отнюдь не сексуальное, а лишь робкое предчувствие его, лишь грезы о нем. Вот почему взаимоотношения Марии Антуанетты с подругами тех лет окрашиваются нежными тонами, и безнравственный двор тотчас же с раздражением ложно истолковывает столь необычное для него поведение королевы. Рафинированный и развращенный, он не может понять естественного, начинаются перешептывания, возникают слухи о сафических наклонностях[119] королевы. «Мне приписывают любовников и особое, подчеркнутое пристрастие к женщинам», – пишет Мария Антуанетта открыто и непринужденно, совершенно уверенная в чистоте своих чувств; ее высокомерная откровенность презирает двор, общественное мнение, свет. Она еще ничего не знает о власти тысячеустой клеветы, безудержно отдается внезапной радости любви и доверия к кому-нибудь, пренебрегает элементарной осмотрительностью, лишь бы показать своим подругам, как самозабвенно она может любить.
* * *
Выбор первой фаворитки, мадам де Ламбаль, был в общем-то удачей королевы. Принадлежащая к одному из знатнейших семейств Франции и поэтому не алчная до денег, не властолюбивая, нежная, сентиментальная натура, не очень умная, а поэтому и не интриганка, не очень значительная, не очень честолюбивая, она с искренним дружелюбием отвечает на внимание королевы.
У нее безупречная репутация, ее влияние распространяется лишь на частную жизнь королевы. Она не вымаливает протекций для своих друзей, для членов своей семьи, не вмешивается в дела государства, в политику. В ее салоне не играют в азартные игры, она не втягивает Марию Антуанетту в водоворот удовольствий, нет, она тихо и незаметно хранит свою верность, и наконец героическая смерть с потрясающей силой подтверждает, что она действительно была настоящим другом королеве.
Но вот однажды вечером ее власть теряет силу так же внезапно, как гаснет свет задутой свечи. В 1775 году на одном из придворных балов королева обращает внимание на незнакомую ей молодую женщину, трогательную своей скромной грацией, ангельским взглядом голубых глаз, девичьей прелестью фигуры. На вопрос королевы ей называют имя – графиня Жюли де Полиньяк. На этот раз все происходит иначе, чем в случае с принцессой Ламбаль, когда зародившаяся симпатия постепенно переросла в дружбу, нет, здесь возникает внезапный страстный интерес, coup de foudre[120], нечто вроде пылкой влюбленности. Мария Антуанетта подходит к незнакомке и спрашивает, почему та столь редко появляется при дворе. Она недостаточно обеспеченна для репрезентации, честно сознается графиня де Полиньяк, и эта откровенность приводит королеву в восторг. Подумать только, какая чистая душа у этой очаровательной особы, если при первом же знакомстве она с такой трогательной непосредственностью сознается в самом большом позоре того времени – в отсутствии денег. Вот она – идеальная, долгожданная подруга! Тотчас же Мария Антуанетта привлекает графиню Полиньяк ко двору, окружает ее бросающимся в глаза вниманием, что вызывает всеобщую зависть; открыто ходит она с графиней рука об руку, оставляет жить в Версале, всюду берет ее с собой, а однажды переводит даже весь свой двор в Марли, чтобы иметь возможность находиться у постели роженицы – обожаемой подруги. За каких-нибудь несколько месяцев обнищавшая аристократка становится повелительницей Марии Антуанетты и всего двора.
К сожалению, однако, этот невинный, нежный ангел отнюдь не небесного происхождения, он из семьи, обремененной огромными долгами, страстно желающей использовать столь неожиданную благосклонность, – очень скоро министр финансов почувствует это. Сначала выплачиваются долги – четыреста тысяч ливров[121], затем дочь получает приданое – восемьсот тысяч. Зятю дается патент капитана, а годом позже еще и поместье с рентой в семьдесят тысяч дукатов[122]. Отцу – пенсион, а услужливому супругу, которого давно уже замещает любовник, титул герцога и одно из доходнейших мест Франции – почта. Золовка, Диана Полиньяк, несмотря на скверную репутацию, становится статс-дамой двора, сама графиня Жюли – гувернанткой королевских детей, ее отец помимо пенсиона получает также пост посланника. Вся семья купается в деньгах и лучах славы и притом сама как из рога изобилия осыпает протекциями и льготами своих друзей. Так этот каприз королевы, эта семья Полиньяк, обходится государству ежегодно в полмиллиона ливров. «Нет тому примера, – ужасаясь, пишет посланник Мерси в Вену, – чтобы одной семье за короткий срок были выданы столь огромные суммы». Даже Ментенон, даже Помпадур стоили государству не больше, чем эта фаворитка с ангельски потупленным взором, чем эта Полиньяк, сама доброта и скромность.
* * *
Те, кто не вовлечен в этот водоворот, поражены. Они не могут постичь причину безграничной податливости, мягкости королевы, позволяющей этой недостойной, ничтожной клике обирал и вымогателей злоупотреблять ее именем, положением, репутацией. Всякому известно, что королева по природному уму, по внутренней силе, по прямоте неизмеримо выше любого из этих никчемных созданий, образующих ее повседневное окружение. Однако в поединке характеров не сила является определяющей, а ловкость, не духовное превосходство, а превосходство воли. Мария Антуанетта инертна – Полиньяк же карьеристка; королева неуравновешенна, переменчива – графиня упорна, настойчива; первая всегда одинока – вторая же прилепилась к бессовестной клике, планомерно изолирующей королеву от остального двора; развлекая свою госпожу, они все сильнее и сильнее привязывают ее к себе. Что пользы в предостережениях старого духовника Вермона своей бывшей ученице: «Вы стали слишком снисходительны к репутации и нравам ваших друзей и подруг»; что проку в его поразительно смелых упреках: «Плохое поведение, дурные нравы, сомнительная или скверная репутация стали как раз теми свойствами, обладатель которых может рассчитывать на успех в окружающем вас обществе»; но чем может помочь слово, если против него услаждающее щебетание, если против него нежничанье и воркование, что может ум, если против него ежедневная, тонко рассчитанная лесть! Полиньяк и ее клика владеют магическим ключом к сердцу Марии Антуанетты; веселя королеву, удовлетворяя ее жажду развлечений, эти холодные, расчетливые люди добиваются того, что спустя несколько лет королева становится их послушным орудием. В салоне Полиньяк каждый из ее клики старается обделать прежде всего свои делишки, добыть себе синекуру и пенсион, делая при этом вид, что заботится о благополучии другого, испрашивая для него выгодный пост, доходную должность. Таким образом именем легкомысленной королевы, мало задумывающейся над следствиями, последние золотоносные родники скудеющих сокровищниц государства поступают в распоряжение немногих. Министры не могут противостоять этому движению. «Faites parler la reine» («Добивайтесь, чтобы королева высказалась в вашу пользу»), – отвечают они, пожимая плечами. Ранг и титул, положение и пенсион всем просителям во Франции дает лишь рука королевы, а этой рукой невидимо управляет женщина с фиалковыми глазами – прекрасная, нежная Полиньяк.
* * *
Непрерывной чередой удовольствий и развлечений кружок Марии Антуанетты воздвигает вокруг нее неприступный барьер, глухую стену. Остальные придворные очень скоро начинают понимать: за этой стеной находится земной рай. Там произрастают должности, там струятся пенсионы, там одной веселой шуткой, одним удачным комплиментом можно удостоиться милости, которой иные домогаются десятилетиями. В том блаженном, обетованном крае вечно господствуют веселье, беззаботность и радость; проникшему на елисейские поля[123] монаршего благоволения уготованы все блага мира. Неудивительно, что все сильнее ожесточаются старые аристократические заслуженные фамилии, изгнанные по сю сторону стены, не допущенные в Трианон вельможи, чьи руки, столь же алчные, как и руки приближенных королевы, не оросил золотой дождь. Значат ли они меньше, чем эти обнищавшие Полиньяки, – ропщут Орлеаны, Роганы, Ноайи, Марсаны. Затем ли появился во Франции молодой король, скромный, порядочный, не безвольная игрушка в руках метресс, чтобы снова, как во времена Помпадур и Дюбарри, вымаливать у фаворитки, у любимицы королевы то, что принадлежит тебе по праву? Да и нужно ли терпеть от австриячки это вечное дерзкое пренебрежение, этот холодный, презрительный взгляд свысока, нужно ли все это терпеть от королевы, окружившей себя не родовой знатью с родословной, насчитывающей сотни лет, а случайными, никому не известными людьми с сомнительной репутацией? Теснее объединяются исключенные из кружка королевы, с каждым днем, с каждым годом их число растет. И вот из опустевших окон Версаля на беззаботный и ничего не подозревающий мир игр и развлечений королевы уже смотрит стоглазая ненависть.
Брат посещает сестру
В 1776 году и в карнавал 1777 года угар развлечений Марии Антуанетты достигает своего апогея. Светская королева бывает на всех бегах, на всех балах, на всех маскарадах, не возвращается домой до предрассветных сумерек, постоянно уклоняется от исполнения супружеских обязанностей. До четырех утра сидит она за карточным столом, ее проигрыши и долги уже вызывают всеобщее раздражение. В отчаянии посланник Мерси шлет императрице донесение за донесением: «Ее королевское величество совершенно забывает свое положение». Дать ей совет чрезвычайно трудно, поскольку «самые разнообразные развлечения следуют одно за другим; чтобы поговорить с нею о серьезных делах, очень сложно улучить буквально мгновение». Давно уж Версаль не выглядел таким покинутым, как в эту зиму. Королева с головой окунулась в водоворот развлечений. Похоже, будто молодая женщина одержима каким-то демоном: никогда ее беспокойство, ее смятение не были безрассуднее, чем в этом году.
Вдобавок ко всему этому впервые появляется новая опасность. В 1777 году Мария Антуанетта уже не пятнадцатилетний наивный ребенок, каким она прибыла во Францию. Ей двадцать два года, это пышно расцветшая красавица, привлекательная и уже увлекающаяся женщина; было бы даже противоестественным, если бы она осталась совершенно равнодушной и холодной в эротической, чрезмерно чувственной атмосфере версальского дворца. Все ее родственники-ровесники, все ее подруги давно уже имеют детей, каждая – настоящего мужа или, по крайней мере, любовника. Лишь она одна из-за несчастного супруга-растяпы является исключением, она, которая красивее других, более страстная и более желанная, чем любая из ее окружения, никому еще не отдала своих чувств. С кем поделиться избытком переполняющей ее нежности? Напрасно ищет она предмет своего обожания среди подруг, внутренняя пустота светской жизни оглушает ее – ничто не помогает, природа исподволь берет свое от каждого человека, а следовательно, должна взять и от этой совершенно нормальной женщины. Все чаще и заметнее в присутствии молодых кавалеров теряет Мария Антуанетта присущую ей беззаботную уверенность. Правда, пока что она еще боится самого опасного. Но продолжает играть с огнем и при этом не может заставить себя оставаться спокойной, волнение крови предает ее; она краснеет, бледнеет, начинает трепетать вблизи неосознанно желанного юноши, она смущается, на глазах появляются слезы, и все же вновь и вновь провоцирует кавалера на галантные комплименты. Описанная в мемуарах Лозена удивительная сцена, в которой все еще гневная, рассерженная королева внезапно порывисто сжимает его в своих объятиях и тотчас же, испуганная этим, пристыженная, спасается бегством, представляется в общем-то правдоподобной, ведь и в донесении шведского посланника об очевидном влечении королевы к молодому графу Ферзену описывается такое же возбужденное состояние Марии Антуанетты. Несомненным является то, что вот-вот наступит предел самообладанию этой двадцатидвухлетней женщины, отданной неуклюжему супругу в жертву, которую тот не принял. И несмотря на то что Мария Антуанетта обороняется, а возможно, именно поэтому, нервы ее более не выдерживают незримой напряженности. Действительно, как бы дополняя клиническую картину, посланник Мерси сообщает императрице о внезапно наступивших affectations nerveuses[124] из-за так называемых vapeurs[125]. Пока еще Марию Антуанетту спасает то, что ее кавалеры нерешительны, они боятся оскорбить супружескую честь короля – оба, Лозен и Ферзен, поспешно покидают двор, едва заметив слишком явный интерес королевы к ним; но, без сомнения, поведи себя в подходящий момент более смело один из ее любимцев, с которыми она кокетливо заигрывает, он легко овладел бы этой добродетелью, внутренне так слабо защищенной. До сих пор, к счастью, Марии Антуанетте удавалось останавливаться у самого края пропасти. Однако со смятением чувств растет и опасность: все ближе, все легкомысленнее кружит мотылек у манящего огня; неловкий взмах крылышек – и ничто не спасет его от разрушительной стихии.
Знает ли страж, приставленный матерью к неразумной молодой женщине, и об этой опасности? По-видимому, знает. Его предостережения относительно Лозена, Диллона, Эстергази позволяют заключить, что в первопричинах напряженного положения старый опытный холостяк разбирается лучше, нежели королева, которая и не подозревает, что бросающаяся в глаза возбудимость, необычайное, неутихающее беспокойство выдают ее. Он прекрасно понимает масштабы катастрофы, которая разразится, если королева Франции, не родив своему супругу законного наследника, падет жертвой какого-нибудь любовника. Этому следует воспрепятствовать любой ценой. В каждом письме, отправляемом в Вену, он пишет, что император Иосиф должен наконец приехать в Версаль, чтобы навести здесь порядок. Мудрый, осторожный наблюдатель знает: пришло самое время королеве защищаться от самой себя.
* * *
Поездка Иосифа II в Париж преследует три цели. Он должен, как мужчина с мужчиной, переговорить с королем, своим зятем, о деликатных обстоятельствах, все еще не позволяющих тому выполнить супружеский долг. Он должен, пользуясь авторитетом старшего брата, задать головомойку своей падкой до развлечений сестре, открыть ей глаза на те политические и чисто человеческие опасности, которыми чревато ее теперешнее поведение. В-третьих, он личным общением должен содействовать укреплению государственного союза французской и австрийской династий.
К этим трем поставленным перед ним матерью-императрицей задачам Иосиф II присоединяет четвертую. Он желает воспользоваться необычным визитом и, сделав его еще более необычным, снискать популярность вне пределов своей империи. Этот, в сущности, честный, неглупый, хотя и не очень одаренный человек необычайно тщеславен. Много лет он болен недугом, свойственным наследным принцам, – его злит, что он, уже взрослый человек, все еще не имеет права на полную и неограниченную власть, должен на политической арене играть вторую роль в тени своей прославленной матери или, как он однажды выразился, «быть пятой спицей в колеснице». И, прекрасно понимая, что и умом, и моральным авторитетом он уступает великой императрице, стоящей у него на пути, он ищет особый, примечательный рисунок для той вспомогательной роли, которую отвела ему судьба. Если Мария Терезия олицетворяет собой для Европы героическое понятие монархии, он желает играть роль народного императора, современного, человеколюбивого, свободного от предрассудков, просвещенного отца страны. Словно крестьянин, идет он за плугом; в скромной одежде горожанина бродит, смешавшись с толпой, по улицам Вены; спит на простой солдатской койке; испытаний ради проводит даже ночь в крепости Шпильберг под замко́м, – но при всем этом, однако, заботится, чтобы весь мир был широко оповещен об этой его демонстративной, вызывающей скромности. До сих пор Иосиф II мог играть эту роль доброжелательного калифа лишь для своих подданных; поездка же в Париж предоставляет ему наконец возможность выступить на великой арене мира. И еще за много недель до отъезда разучивает он, отрабатывает в мельчайших подробностях и репетирует роль самой Невзыскательности.
* * *
Этот замысел императору Иосифу удается выполнить лишь наполовину. Обмануть, ввести в заблуждение историю он не в силах, она заносит в его кондуит ошибку за ошибкой – тут и непродуманные преобразования, и роковая поспешность в проведении реформ. Вероятно, лишь преждевременная смерть императора спасает Австрию от уже тогда угрожавшего ей распада, но легенда более легковерна, нежели история, она завоевана Иосифом. Еще долго по стране будут распевать песню о добром народном императоре, бесчисленные бульварные романы – повествовать о том, как неизвестный в скромной одежде щедрой рукой творит благодеяния и любит девушку из народа; замечательно, что все эти романы кончаются одинаково: неизвестный распахивает пальто, изумленные люди видят великолепный мундир, и благородный человек удаляется с глубокомысленными словами: «Вы никогда не узнаете моего настоящего имени, я император Иосиф».
Глупая шутка? Нет, едва ли не гениальная карикатура на императора Иосифа, любившего разыгрывать из себя скромного человека и делать все, чтобы этой скромностью восхищались. Его поездка в Париж – блестящее подтверждение сказанному. Само собой разумеется, не желая привлекать внимание, император Иосиф II едет в Париж не как император, а как граф Фалькенштейн, причем громадное значение он придает тому, чтобы никто не открыл его инкогнито. В пространных официальных бумагах указывается, что никто, в том числе и король Франции, не должен называть его иначе как monsieur[126], что он не будет жить во дворце или замке и желает пользоваться лишь скромной наемной каретой. Само собой разумеется, все дворы Европы знают день и час его прибытия в Версаль. Уже в Штутгарте герцог Вюртембергский зло подшучивает над ним, приказав снять со всех гостиниц города вывески, и народному императору не остается ничего другого, как отправиться к герцогу во дворец. Однако с педантичным упрямством новый Гарун аль-Рашид до самого конца держится за свое инкогнито, хотя весь мир прекрасно осведомлен о том, кто скрывается за ним. В Париж Иосиф въезжает в простом фиакре и останавливается под именем графа Фалькенштейна в Отеле де Тревиль, нынешнем Отеле Фуайо; снимает в Версале комнату в ничем не примечательном доме, спит там, словно на биваке, на походной кровати, укрывшись плащом. И расчет его правилен. Для парижан, знающих своего короля лишь в роскоши, такой властелин-император, который в госпитале пробует суп для бедных, присутствует на заседаниях академий, на дебатах в парламенте, посещает корабли, купцов, школу для глухонемых, ботанический сад, мыловаренный завод, ремесленников, – сенсация.
Иосиф видит в Париже многое и получает удовольствие от того, что многие видят его; благодаря своей доброжелательности он восхищается всем, и более всего тем, что за эту доброжелательность ему оказывают восторженный прием. Играя двойную роль, находясь между искренностью и фальшью, этот таинственный характер прекрасно понимает свою раздвоенность и перед отъездом из Парижа пишет брату: «Ты стоишь большего, чем я, но я больший шарлатан, чем ты, а в этом мире такое качество очень ценится. Я прост по присущей мне скромности, однако, подчеркивая эту скромность, пересаливаю намеренно. Я вызвал здесь восторг, который становится мне даже неприятным. Я доволен поездкой, но покидаю страну без сожаления, с меня довольно этой роли».
* * *
Помимо своего личного успеха Иосиф достигает и поставленной перед ним политической цели; прежде всего, объяснение с зятем по известному вопросу проходит поразительно легко. Людовик XVI принимает своего шурина приветливо, сердечно и с полным доверием. Правда, Фридрих Великий дает указание своему посланнику барону фон Гольцу распространить по всему Парижу фразу, которую тот услышал однажды от императора Иосифа: «У меня три зятя, и все три – ничтожества. Первый, в Версале, – слабоумный; тот, который в Неаполе, – дурак; третий же, герцог Пармский, – болван».
Но на этот раз «скверный сосед» старается напрасно. Людовик XVI не страдает болезненным самолюбием, подобные булавочные уколы не ранят его, добродушие надежно защищает короля. Зять и шурин говорят друг с другом свободно и откровенно; при более близком знакомстве Людовик XVI вызывает у Иосифа II даже чувство известного человеческого уважения: «Этот человек слабоволен, но глупым его не назовешь. У него есть определенные знания, свои суждения и мнения, но физически и духовно он апатичен. Очень разумно рассуждая, он не имеет, однако, истинного желания углубить свои знания, нет у него настоящей любознательности, нет еще озарения, нет еще fiat lux[127], материя находится пока что в первобытном состоянии». Спустя несколько дней король совершенно покорен Иосифом II; они понимают друг друга во всех политических вопросах, и можно не сомневаться, что императору без труда удается склонить зятя к некоей секретной операции.
Найти общий язык с Марией Антуанеттой Иосифу труднее. Со смешанным чувством молодая женщина ожидает приезда своего брата: она счастлива получить наконец возможность поговорить с кровным, едва ли не самым близким родственником и одновременно боится того резкого, поучительного тона, который император любит принимать по отношению к ней. Совсем недавно он задал ей нагоняй, словно школьнице. «Во что ты вмешиваешься? – писал он ей. – Одного министра ты смещаешь, другого высылаешь в провинцию, создаешь при дворе дорого обходящиеся государству должности! Спрашивала ли ты себя хоть раз, какое у тебя право вмешиваться в дела двора и французской монархии? Какие знания приобрела ты, чтобы решиться вмешиваться в эти дела, чтобы возомнить о себе, будто твое мнение может иметь вообще какое-нибудь значение, и особенно для государства, ведь эта область требует специальных и глубоких знаний? Молодая, легкомысленная особа, ты дни напролет только и думаешь о фривольностях, туалетах и развлечениях, ничего не читаешь и четверти часа в месяц не общаешься с серьезными людьми, не прислушиваешься к их беседам, никогда ничего не обдумываешь до конца и никогда, я убежден в этом, не размышляешь о следствиях того, что говоришь или делаешь…» Молодая изнеженная женщина, избалованная своими придворными в Трианоне, не привыкла к подобному язвительному менторскому тону, и можно понять ее сердцебиение при неожиданном докладе гофмаршала о том, что граф фон Фалькенштейн уже прибыл в Париж и завтра утром явится в Версаль.
Но все обошлось лучше, чем она ожидала. Иосифу II достает такта, чтобы не метать громы и молнии при первой же встрече после долгой разлуки; напротив, он расточает ей комплименты по поводу очаровательного вида, уверяет, что, если б ему пришлось жениться еще раз, он хотел бы, чтобы его жена походила на его сестру, разыгрывает из себя галантного кавалера. Мария Терезия и на этот раз верно предсказала, написав несколько раньше своему посланнику: «Я, собственно, не боюсь, что он станет слишком строгим судьей ее поведения, скорее, я думаю, что красивая и обворожительная королева, обладая прекрасными манерами и искусством вести остроумный разговор, будет иметь у него успех, а это должно ему польстить». И действительно, любезность восхитительно красивой сестры, ее искренняя радость от встречи с ним, внимание, с которым она его слушает, а с другой стороны, добродушие зятя и признание, которого он добился в Париже, играя роль скромного властелина, – все это заставило онеметь неисправимого педанта; не устояв перед полной миской меда, суровый медведь успокоился. Его первое впечатление скорее дружелюбное: «Она любезная и нравственная женщина, ей недостает вдумчивости, но есть моральные устои и положительные душевные качества. К тому же она наделена также настоящим даром восприятия, сила которого меня часто поражает. Первое ее побуждение всегда верно, и, если бы она отдалась ему и немного больше задумывалась, вместо того чтобы во всем уступать легиону шептунов, окружающих ее, она была бы совершенством. В ней сильна страсть к развлечениям, и кто эту слабость знает, старается воспользоваться ею в своих целях, ведь королева постоянно прислушивается к тем, кто знает, как услужить ей».
На празднествах, которые сестра устраивает в честь гостя, удивительно скрытный человек, получая от них удовольствие, но не показывая этого, делает острые и точные наблюдения. Прежде всего он устанавливает, что Мария Антуанетта «нисколько не любит своего супруга», что она относится к нему с пренебрежением, равнодушно и неподобающе свысока. Ему не представляет также большого труда понять всех членов дурного общества «ветрогонов», и в первую очередь Жюли Полиньяк. Лишь в одном отношении, похоже, он успокаивается. Иосиф II вздыхает с явным облегчением (вероятно, он боялся самого худшего): несмотря на кокетничанье с молодыми кавалерами, сестра до сих пор осталась добродетельной. «По крайней мере, до сих пор», – добросовестно добавляет он, а при такой извращенной морали, которой придерживается ее окружение, это показывает, что ее поведение в нравственном отношении лучше, чем ее репутация. Впрочем, он уверен, что о ней болтают пустое и нет оснований к особым опасениям на будущее; но пару серьезных предостережений, представляется ему, ей следовало бы дать. Несколько раз он берет в оборот свою младшую сестру, дело доходит до бурных сцен. Так, однажды он при свидетелях упрекает ее в том, что она «недостаточно хороша для своего мужа», или называет настоящим воровским притоном – «un vrai tripot» – салон с азартными играми ее подруги герцогини Гимэней. Подобные публичные выговоры ожесточают Марию Антуанетту. Иной раз при встрече между братом и сестрой происходит серьезная стычка. Детское упрямство молодой женщины не желает навязываемой опеки и отбивается от нее. Но одновременно внутренне прямая и искренняя Мария Антуанетта чувствует, как прав во всех своих упреках брат, как нужен ей, при ее слабохарактерности, такой страж.
Похоже, что окончательного, решающего разговора у брата с сестрой так и не произошло. Правда, позже, в одном из писем, Иосиф II напоминает Марии Антуанетте о некоем разговоре между ними, разговоре у каменной скамьи, однако самого главного, самого важного он ей все же не сказал. За два месяца Иосиф II увидел всю Францию, он знает об этой стране больше, чем ее собственный король, и об опасностях, окружающих сестру, больше, чем она сама. Но он узнал и то, что любое слово, сказанное этой ветреной особе, улетучивается, что она тотчас же все забывает, и в особенности то, что хочет забыть. Используя свои наблюдения и размышления, Иосиф составляет инструкцию и передает ее сестре намеренно в последний час с просьбой прочесть лишь после его отъезда. Scripta manent[128], письменное предостережение должно в его отсутствие помогать ей.
Из имеющихся в нашем распоряжении документов эта «инструкция» едва ли не самый интересный, самый содержательный для тех, кто хотел бы понять характер Марии Антуанетты, ибо Иосиф II пишет его, полный добрых намерений и без расчетов на личную выгоду. Несколько высокопарный по форме, на наш вкус, слишком патетичный своей дидактичностью, этот документ в то же время показывает, каким искусным дипломатом является его составитель; император Австрии тактичен, никаких правил поведения он не навязывает королеве Франции. Иосиф ставит лишь вопрос за вопросом, дает своего рода катехизис, чтобы подвигнуть эту не желающую думать очаровательную молодую женщину к размышлениям, к самопознанию, пробудить в ней чувство ответственности. Но неожиданно эти вопросы становятся обвинением, их, казалось бы, случайная последовательность – весьма полным перечнем ошибок и промахов Марии Антуанетты. Прежде всего Иосиф II напоминает сестре, сколько времени уже потеряно попусту. «Ты взрослый человек, а не ребенок. И нет у тебя никаких оправданий такому поведению. Чем кончится все это, если ты не возьмешься за ум?» И сам отвечает с устрашающей прозорливостью: «Бедная женщина, несчастная королева». Он задает ей вопрос за вопросом, перечисляя все ошибки в ее поведении; прежде всего острый, холодный луч света падает на ее отношения с королем: «Действительно ли ты ищешь все удобные случаи? Отвечаешь ли ты тем чувствам, которые он проявляет к тебе? Не холодна ли ты, не рассеянна ли, когда он говорит с тобой? Не кажешься ли ты иногда скучной, не отталкиваешь ли его этим? Как можешь ты желать, чтобы при таком отношении к нему этот сухой, холодный по своей природе человек приблизился к тебе, действительно полюбил тебя?» Безжалостно упрекает он ее – опять как бы спрашивая, на самом же деле обвиняя в том, что она, вместо того чтобы подчиниться королю, использует его неловкость и слабость, чтобы все внимание, всю предупредительность общества обратить на себя. «Можешь ли ты стать действительно необходимой ему? – спрашивает он строже. – Убеждаешь ли ты его, что никто не любит его более искренно, чем ты, что никто не принимает ближе, чем ты, к сердцу его славу, его счастье? Подавляешь ли ты желание иной раз блеснуть в ущерб ему? Жертвуешь ли для него чем-нибудь? Молчишь ли о его ошибках и слабостях? Прощаешь ли их ему, заставляешь ли молчать тех, кто решается хотя бы намекнуть на них?»
Страницу за страницей раскрывает перед ней император Иосиф реестр возможных следствий той безумной страсти к развлечениям, которая поразила ее: «Думала ли ты хоть раз, какие скверные действия могут оказать и оказывают на общественное мнение твои связи, твоя дружба с людьми, если они не безупречны во всех отношениях? Ведь тут невольно возникает подозрение, что либо ты одобряешь эти скверные обычаи, либо даже сама причастна к ним. Взвесила ли ты хоть раз все ужасные последствия, к которым может привести азартная игра из-за плохого общества, из-за тона, который задается этим обществом? Вспомни хотя бы о вещах, которые ты могла наблюдать собственными глазами, вспомни, что сам король не играет, и это действует как вызов, когда ты, единственная во всей семье, придерживаешься такого скверного обычая. Подумай также хотя бы немного о всех неприятностях, связанных с маскарадами, со всеми этими дурными похождениями, о которых ты сама рассказывала мне. Я не могу промолчать: из всех развлечений маскарады, безусловно, самое неприличное, и прежде всего из-за того, как ты отправляешься на них. Ведь то, что тебя провожает туда деверь, не меняет положения. Какой смысл казаться там незнакомкой, изображать из себя неизвестно кого? Ужели ты не видишь, не понимаешь, что все узнаю́т тебя, а иные говорят такое, что тебе и слушать-то не подобает, причем делают это преднамеренно, чтобы позабавить тебя, заставить поверить, что сказано это было непредумышленно. Само место, где проводятся эти маскарады, имеет очень дурную репутацию. Чего же ты ищешь там? Маска исключает возможность вести приличный разговор, танцевать там ты тоже не можешь, к чему же тогда эти похождения, это недостойное поведение, зачем тебе быть запанибрата с распущенными малыми и девицами, с этими подонками, слушать двусмысленные речи и, возможно, самой говорить то, чего не следует? Нет, так вести себя не подобает. Признаюсь тебе, это тот пункт, из-за которого все люди, любящие тебя и хорошо о тебе думающие, больше всего возмущаются: король все ночи остается в Версале один, а ты развлекаешься в обществе парижской сволочи!»
Настойчиво повторяет Иосиф старые наставления матери – Марии Антуанетте следует наконец взяться за ум! Пусть начнет заниматься понемногу, хотя бы по два часа в день, не так уж это много, а умнее она станет и рассудительнее на последующие двадцать два года. И вдруг в длинной проповеди – слова ясновидца, читать которые без внутреннего содрогания невозможно. Если она не последует этим советам, пишет Иосиф, то он предвидит тяжелые последствия, и далее в этой «инструкции» записано дословно: «Я трепещу за тебя, ибо продолжаться так далее не может; la révolution sera cruelle, si vous ne la préparez»[129]. «Революция будет жестокой» – зловещие, впервые написанные слова. Они звучат пророчески, но лишь десятилетие спустя Мария Антуанетта поймет их смысл.
Материнство
С исторической точки зрения это посещение императора Иосифа II как будто бы незначительный эпизод в жизни Марии Антуанетты, в действительности же оно определило решающий поворот в судьбе королевы. Уже несколько недель спустя сказываются результаты разговора императора с Людовиком XVI на деликатную альковную тему. После операции король с новым мужеством приступает к исполнению своего супружеского долга. Еще 19 августа 1777 года Мария Антуанетта сообщает лишь о «un petit mieux». Ее (девственное) «положение не изменилось», большой приступ еще не увенчался успехом. «Но меня это не тревожит, – пишет она, – поскольку некоторые улучшения уже наступили, король стал нежнее, чем до сих пор, а для него это много значит». И вот 30 августа наконец, наконец-то победно звучат фанфары: впервые после бесчисленных поражений в течение этой семилетней войны Эроса nonchalant mari[130] берет штурмом совсем незащищенную крепость. «Я счастлива, как никогда не была до сих пор, – спешит сообщить матери Мария Антуанетта. – Вот уже восемь дней, как мой брак стал полноценным; вчера было второе посещение, еще более удачное, чем в первый раз. Сначала я решила тотчас же отправить курьера моей дорогой матушке, но потом испугалась, ведь это может вызвать слишком много болтовни и привлечь ненужное внимание, а мне хотелось бы прежде самой быть полностью уверенной в моем деле. Мне кажется, я еще не беременна, но теперь у меня, по крайней мере, есть надежда забеременеть в любой момент». Впрочем, эта замечательная перемена очень скоро перестанет быть тайной. Наиболее хорошо информированный испанский посланник сообщает своему правительству даже дату этого великого дня (25 августа), присовокупив к своему докладу: «Поскольку это сообщение чрезвычайно интересно и имеет государственное значение, я беседовал по данному поводу порознь с министрами Морепа и Верженом, и каждый подтвердил одни и те же обстоятельства.
Впрочем, точно известно, что король сообщил об этом одной из своих тетушек и с большой откровенностью добавил: «Мне очень нравится этот вид развлечения, и я сожалею, что так долго не знал о нем». Его величество сейчас много жизнерадостнее, чем до сих пор, а у королевы теперь чаще, чем раньше, наблюдаются под глазами темные круги». Но изъявления радости молодой женщины по поводу отменного супруга оказываются преждевременными, ибо «этому виду развлечения» Людовик отдается не так ревностно, как охоте, и уже десять дней спустя Мария Антуанетта снова сетует в письме к матери: «Король не любит спать вдвоем. Я всячески пытаюсь побудить его не отказываться, по крайней мере совсем, от такого общения. Иногда он проводит ночь у меня, и мне кажется, не стоит мучить его, настаивая на более частых посещениях». Мать читает это без большого удовольствия, поскольку рассматривает этот пункт как крайне essentiel[131], однако соглашается с тактичной дочерью: действительно, ей не следует наседать на супруга, но часы сна королевы должны быть теми же, что и у короля.
Так горячо, так страстно ожидаемое в Вене сообщение о наступившей беременности все еще заставляет себя ждать, и лишь в апреле нетерпеливая жена полагает, что наконец-то ее сокровенное желание осуществлено. Уже при первых признаках Мария Антуанетта хочет немедленно отправить своей матери курьера, однако лейб-медик, готовый держать пари на тысячу луидоров, что королева права, все же советует ей пока не делать этого. 5 мая осторожный Мерси сообщает о беременности как о достоверном факте. После того как 31 июля в половине одиннадцатого вечера королева чувствует первые движения ребенка, 4 августа при дворе официально объявляется о беременности… «С тех пор дитя шевелится часто, и мне это доставляет огромную радость», – пишет императрице счастливая дочь. Она все время находится в прекрасном расположении духа, и ей доставляет удовольствие безыскусно подшучивать над своим несколько запоздало выдержавшим испытание супругом. Она подходит к королю, притворяется оскорбленной и говорит ему обиженно: «Сир, я должна пожаловаться на одного вашего подданного. Он оказался столь дерзким, что осмелился толкать меня в живот». Не сразу понимает шутку этот увалень-король, но, поняв, довольный, смеется. Он обнимает жену, гордый и несколько сконфуженный столь убедительным подтверждением поздновато проявившихся в нем мужских достоинств.
Начинаются различные официальные церемонии. В церквах поют «Tedeum»[132], парламент посылает свои поздравления. Архиепископ Парижский дает распоряжение служить молебны о счастливом течении беременности; с чрезвычайной тщательностью подыскивается кормилица для ожидаемого королевского ребенка, к раздаче бедным держат сто тысяч ливров. Все крайне напряжены в ожидании великого события, не только лейб-акушер, для которого эти роды – своеобразная игра «орел – решка», ведь его ждет пенсион в сорок тысяч ливров, если родится престолонаследник, и всего лишь в десять тысяч, если принцесса. Возбужденный до предела двор предвкушает давно обещанное представление: ведь по обычаям, освященным столетиями, роды королевы Франции – не частное, не семейное дело. По древним правилам, они должны протекать в присутствии всех принцев и принцесс, под наблюдением всего двора. Каждый член королевской семьи, многие высшие сановники имеют право при родах присутствовать в комнате роженицы, и никому даже в голову не приходит отказаться от этой варварской привилегии, вредной для здоровья королевы. Из всех провинций страны, из самых отдаленных замков съезжаются любопытные, самые маленькие мансарды в крошечном городке Версале набиты до отказа, огромный наплыв людей втрое увеличивает цены на продовольствие. Но королева заставляет нежеланных гостей подождать. Наконец ночью 18 декабря во дворце звонит колокольчик – роды начались. Первой в комнату роженицы стремительно вбегает мадам де Ламбаль, за ней, в большом возбуждении, все статс-дамы. В три ночи будят короля, принцев и принцесс, пажи и гвардейцы вскакивают на коней и бешено мчатся во весь опор в Париж, в Сен-Клу, чтобы все те, в чьих жилах течет королевская кровь и кто имеет титул принца, могли бы своевременно попасть в Версаль, стать свидетелями чрезвычайного события. Набат пока еще молчит, из пушек пока еще не палят.
Лейб-медик громким голосом возвещает, что роды у королевы начались; вся толпа аристократов с шумом вваливается в комнату роженицы; плотно набившись в узком покое, усаживаются зрители вокруг постели в кресла, строго придерживаясь табели о рангах. Не нашедшие себе места в первых рядах, встают сзади на стулья или скамейки, чтобы, боже упаси, не пропустить ни одного движения, ни одного стона терзаемой страданиями женщины. Воздух в закрытом помещении становится все более спертым от дыхания, от испарений без малого пятидесяти человек, от острого запаха уксуса и эссенций. Но никто не откроет окна, никто не оставит своего места, семь полных часов длится публичная пытка. Наконец в половине двенадцатого пополудни Мария Антуанетта дает жизнь ребенку – hélas![133] – дочери. Отпрыска короля благоговейно переносят в смежные покои, чтобы искупать его и тотчас же передать на попечение нянюшек. Взволнованный и гордый король следует за ребенком, чтобы полюбоваться несколько припозднившимися трудами своих чресл, за ним теснится двор, любопытный, как всегда. И вдруг неожиданно раздается резкий приказ акушера: «Воздуха, горячей воды! Нужно немедленно пустить кровь». Внезапно королеве в голову ударила кровь; в обмороке, задыхающаяся в спертом воздухе и, вероятно, также от усилий подавить боль в присутствии полусотни любопытных зевак, лежит она, недвижимая, хрипя в подушки. Всех охватывает ужас. Король распахивает окно, возникает беспорядочная беготня. А горячей воды все нет и нет. О строжайшем соблюдении средневекового церемониала при родах придворные подхалимы позаботились, а вот о необходимом в этом случае – о горячей воде – позабыли. Хирург решается на кровопускание без каких-либо приготовлений. Струя крови бьет из вены ноги, и вскоре королева открывает глаза, она спасена. Лишь сейчас разражается буря восторга, и колокола торжественно возвещают стране радостную весть.
* * *
Страданиям женщины пришел конец, начинается счастье материнства! Правда, радость неполная – салют из двадцати одного залпа, а не из ста одного, как было бы при рождении престолонаследника, но все же Версаль и Париж ликуют. Во все страны Европы разосланы эстафеты. По всей Франции раздаются милостыни, заключенных освобождают из тюрем и долговых ям, сто пар обрученных молодых людей устраивают свадьбы за счет короля, одарившего их гардеробом и приданым. Когда королева после родов появится в Нотр-Даме, сто пар счастливцев – министр полиции подобрал особенно красивых – будут ждать ее там и приветствовать как свою благодетельницу. Люд Парижа любуется фейерверком, праздничным освещением города. Вино, бьющее из фонтанов, раздача хлеба и мяса, свободный вход в «Комеди Франсез»: король предоставляет свою ложу угольщикам, королева – рыночным торговкам рыбой, – и бедные имеют право отпраздновать это событие. Кажется, все довольны и счастливы; Людовик XVI, новоявленный отец, мог бы стать веселым, уверенным в себе человеком, а молодая мать, королева, – счастливой, серьезной, достойной всяческих похвал женщиной: большое препятствие устранено, брак укреплен и упрочен. Родители, двор и вся страна должны радоваться, и они действительно радуются, празднества и развлечения следуют друг за другом.
Лишь один человек не очень удовлетворен. Это Мария Терезия. Хотя положение любимой дочки с рождением внучки, по-видимому, и улучшается, но все же этого недостаточно. Как императрица, как политик, на события, определяющие личное, семейное счастье, она смотрит прежде всего с учетом династических интересов, ее волнует вопрос сохранения династии: «Нам непременно нужен дофин, престолонаследник». Словно литанию[134], непрерывно повторяет она одно и то же, умоляя дочь не быть легкомысленной, избегать lit à part. И когда снова проходит месяц за месяцем, а беременность не наступает, она просто-напросто сердится на Марию Антуанетту за то, что та так скверно использует свои супружеские ночи. «Король рано ложится спать и рано встает, королева же, наоборот, ложится поздно, как тут ждать хорошего? Если так будет продолжаться и далее, на успех надеяться нечего». Все более настойчивыми становятся ее письма: «До сих пор я сдерживалась, теперь же я буду навязчивой; в твоем положении было бы преступлением не иметь много детей». Только это ей хотелось бы увидеть, только до этого дожить: «Я нетерпелива – в моем возрасте некогда долго ждать».
Но она не увидит будущего короля Франции, в жилах которого текла бы ее, габсбургская, кровь. Этой последней радости ей не суждено дождаться. Следующая беременность Марии Антуанетты прерывается. Неосторожное, порывистое движение, которое она сделала, закрывая окошко кареты, приводит к выкидышу. Мария Терезия не дождется столь страстно ожидаемого ею внука, не дождется даже следующей, третьей беременности своей дочери. 29 ноября 1780 года она умирает от воспаления легких. Давно разочарованная в жизни женщина имела лишь два желания. Она хотела увидеть внука, рожденного ее дочерью для французского престола, – в этом судьба ей отказала. Она не хотела дожить до тех дней, когда ее собственный, самый любимый ребенок из-за сумасбродства и безрассудства окажется ввергнутым в пучину бедствий, – эту мольбу набожной женщины Бог услышал.
* * *
Только год спустя после кончины Марии Терезии Мария Антуанетта рожает столь давно ожидаемого сына. Из-за тревожного происшествия во время первых родов большое представление в комнате роженицы отменяется; к постели допускаются лишь самые близкие члены семьи. На этот раз роды проходят легко, новорожденного выносят в соседние покои, но у королевы недостает сил спросить, кого она родила – мальчика или опять девочку? Но тут король подходит к ее постели, слезы текут по лицу этого в общем-то не очень впечатлительного человека, и своим звучным голосом он объявляет: «Наследный принц желает представиться вам!» Начинается всеобщее ликование, обе створки двери торжественно распахиваются, и под восторженные крики собравшихся придворных обмытый и спеленутый ребенок – герцог Нормандский – возвращается к счастливой матери. Наконец-то можно осуществить большой церемониал, посвященный рождению наследного принца. Обряд крещения свершает предопределенный роком противник Марии Антуанетты, кардинал Роган, тот самый, путь которого в решающие часы ее жизни обязательно пересекается с ее путем; раздобывается пышногрудая кормилица, которую шутя назовут мадам Poitrine[135], оглушительно грохочут пушки – весь Париж узнает о событии.
И вот начинается хоровод празднеств, на этот раз более грандиозный, чем при рождении принцессы. Все цехи посылают в Версаль депутации в сопровождении музыкантов, девять дней длятся великолепные красочные выступления гильдий, каждое сословие, каждый цех желает на свой особый лад приветствовать новорожденного, будущего короля. Трубочисты торжественно тащат огромную трубу, на верхушке которой сидят маленькие трубочисты и распевают веселые куплеты; мясники гонят перед собой тучного быка, носильщики несут золоченый паланкин, в котором сидят куклы – кормилица и дофин, портные – маленький мундир его будущего полка, сапожники – детские ботиночки, кузнецы – наковальню, выбивая на ней музыкальную дробь. Слесари же, зная, что король благоволит к их ремеслу и любит сам на досуге слесарить, постарались особо: снабжают шкатулку секретным замком, а когда Людовик XVI, как понимающий толк в таких вещах, с интересом занимается ею и открывает, из шкатулки выскакивает фигурка дофина, с поразительным искусством сделанная из стали. Рыночные торговки, те самые, которые несколько лет спустя будут оскорблять королеву всякими непристойностями, надевают строгие черные шелковые платья и приветствуют ее словами, написанными Лагарпом. В церквах свершаются богослужения, в ратуше Парижа купцы дают большой банкет; война с Англией, нужда, все неприятное забыто. На короткое время прекращаются ссоры и раздоры, нет в стране недовольных, даже будущие революционеры и республиканцы подпадают под гипнотическое действие трескучего ультрамонархизма. Будущий президент Якобинского клуба Колло д’Эрбуа, тогда еще скромный актер в Лионе, сочиняет пьеску «в честь великой монархини, добродетели которой завоевали все сердца». Он, позже немало сделавший, чтобы был вынесен смертный приговор Луи Капету, благоговейно молит Небеса:
Прекрасное солнце сияет над Францией, Летите, тревоги и горести, прочь! Наш славный король, наш Людовик Шестнадцатый, Взял в жены Марии Терезии дочь. Их брак благодатью Господь осенил И сына-наследника им подарил. Дитя и его августейшую мать Храни, о Пречистая Дева! Мы жизнь не колеблясь готовы отдать За счастье своей королевы!Народ пока еще предан своему государю, младенец этот рожден еще для всей страны, его появление на свет – всеобщий праздник. На уличных перекрестках пиликают на скрипках, бьют в барабаны, повсюду, во всех городах и деревнях, дудят в волынки, поют, танцуют. Все любят, все славят короля и королеву, наконец-то доблестно выполнивших свой долг.
* * *
Итак, окончательно разрушены роковые чары. Мария Антуанетта родит еще два раза: в 1785 году – второго сына, будущего Людовика XVII, крепкого, здорового мальчика, «настоящего крестьянского парня», а в 1786 году – четвертого, последнего своего ребенка, Софи Беатрис, которая проживет лишь одиннадцать месяцев. С материнством в Марии Антуанетте начинаются первые перемены, еще не решающие, но провозвестники решающих. Каждая беременность всегда ведет к многомесячному воздержанию от безрассудных развлечений; умиротворенность незатейливых игр с детьми скоро станет милее легкомыслия зеленого стола, таящаяся в ней страстная потребность в нежности, растрачиваемая до сих пор по мелочам на ничтожное кокетничанье, найдет наконец свой естественный выход. Путь к самосознанию – теперь он открыт перед нею. Еще несколько спокойных, несколько счастливых лет – и она сама успокоилась бы, эта красивая женщина с ласковыми глазами. Вырвавшись из суеты по пустякам, она радостно смотрела бы на своих детей, следила бы за их постепенным вхождением в жизнь. Но судьба не даст этих лет. Как раз когда смятение покинет Марию Антуанетту, оно охватит весь мир.
Королева теряет популярность
Час рождения дофина – апогей власти Марии Антуанетты. Подарив королевству престолонаследника, она как бы вторично становится королевой. Шумное ликование толпы еще раз показывает ей, как любит французский народ свой королевский дом, как доверяет ему, несмотря на все разочарования, какими малыми усилиями властелин мог бы привязать к себе нацию. Один только решающий шаг следовало бы сделать королеве – вернуться из Трианона в Версаль, в Париж, из мира рококо – в действительный мир, от своего ветреного, легкомысленного общества – к аристократии, к народу, и все было бы выиграно. Однако и на этот раз, после вторых родов, она беззаботно возвращается к веселью, к удовольствиям. Вновь после празднеств, устроенных для народа, начинаются дорогостоящие роковые празднества в Трианоне. Но великому терпению приходит конец, безоблачное счастье достигло своей вершины. Отныне воды потекут под уклон, к пропасти.
Сначала ничего явного, ничего бросающегося в глаза. Но все тише и тише становится в Версале, все меньше господ и дам появляется на больших приемах, и в поклонах этих немногих чувствуется некоторая холодность. Они еще соблюдают форму, но лишь ради нее самой, а не ради королевы. Они еще преклоняют колена, еще целуют учтиво руку королеве, но уже не добиваются милости говорить с нею, их взгляды остаются сумрачными и отчужденными. При появлении Марии Антуанетты в театре публика уже не вскакивает, как прежде, в едином стремительном порыве, на улицах не слышно более знакомого с давних пор возгласа: «Vive la reine!»[136] Правда, нет еще открытой враждебности, но нет уже и той теплоты, которая до сих пор согревала благоговение из чувства долга. Еще послушны государыне, но уже не поклоняются женщине. Еще почтительно служат супруге короля, но уже не добиваются ее расположения. Не возражают открыто, не противоречат ее желаниям, но молчат – суровое, сдержанное, недоброе молчание заговора.
* * *
Штаб этого тайного заговора размещается в четырех или пяти дворцах королевской семьи: в замке Люксембург[137], в Пале-Рояле, в замке Бельвю и в самом Версале; все они объединились против Трианона, резиденции королевы.
Хор враждебных сил ведут три старые тетушки. Им никак не забыть, что девушка ускользнула из-под их влияния, из пансиона интриг, и, став королевой, вышла из повиновения; раздосадованные тем, что теперь они не играют при дворе никакой роли, удаляются эти три старухи в замок Бельвю. Там в первые триумфальные годы Марии Антуанетты сидят они, скучая, в своих комнатах, одинокие, всеми покинутые; никто о них не заботится, ведь все бросились угождать молодой обворожительной королеве, в нежных белых ручках которой сосредоточена теперь власть. Но по мере того как Мария Антуанетта теряет популярность, все чаще и чаще распахиваются для посетителей двери замка Бельвю. Все те дамы, которых не пригласили в Трианон, отстраненная мадам Этикет, ушедшие в отставку министры, уродливые и поэтому сохранившие устаревшие представления о морали женщины, обойденные кавалеры, оказавшиеся на мели охотники за синекурой – все те, кто ненавидит «новый курс» и меланхолически оплакивает старофранцузские традиции, благочестие, набожность и «добрые» нравы, – все они регулярно встречаются в этом салоне обиженных и обойденных. Салон тетушек в Бельвю становится тайной аптекой отравителей, в которой капля за каплей перегоняются и разливаются по бутылочкам все злобные сплетни, все слухи о самоновейших сумасбродствах «австриячки», все ondits[138] о ее амурных приключениях; здесь основывается главный арсенал клеветы, пресловутая atelier des calomnies[139]; здесь сочиняются маленькие язвительные куплеты, здесь они декламируются и затем разносятся по городу, проникают в Версаль. Здесь собираются, преисполненные коварства и вероломства, все, кто хотел бы повернуть вспять колесо времени, все живые трупы разочарованных, низвергнутых, погибающих, призраки, мумии минувшего мира, все старое, конченое поколение, чтобы отомстить за то, что оно старое и конченое. Но яд этой накопленной ненависти предназначен не для «бедного доброго короля», которого они лицемерно жалеют, а только лишь для одной Марии Антуанетты, молодой, сияющей, счастливой королевы.
* * *
Опаснее этого поколения беззубых вчерашних и позавчерашних, уже не кусающихся, а лишь брызжущих слюной, является новое поколение, которое никогда еще не было у власти и не желает более оставаться в тени. Версаль в своем стремлении обособиться, в своем небрежении к окружающей его стране, совершенно не подозревая этого, так изолировал себя от истинной Франции, что просто не заметил новых течений, волнующих ее. Проснулось образованное третье сословие, оно изучило свои права по произведениям Жана Жака Руссо, оно видит демократическую форму правления в соседней Англии. Вернувшиеся на родину участники Войны за независимость Америки привезли вести из чужой страны, в которой идея равенства и свободы упразднила различие между кастами и сословиями. Во Франции же повсеместно наблюдаются косность и упадок, вызванные полной недееспособностью двора. Народ верил, что после смерти Людовика XV будет покончено с позором хозяйничанья метресс, с бесчинством нечистоплотного протекционизма. Власть же опять оказалась в руках женщин, в руках королевы и стоящей за ее спиной Полиньяк. Со всевозрастающей горечью просвещенное третье сословие видит, как снижается политическая мощь Франции, как растут государственные долги, как разваливаются армия и флот, как колонии приходят в запустение. И это тогда, когда другие государства энергично развиваются. В широких кругах растет желание покончить с этой преступной бесхозяйственностью.
И недовольство французов, искренность патриотических, национальных чувств которых не вызывает сомнений, обращается – и не без основания – прежде всего против Марии Антуанетты. Вся страна знает, что неспособный принимать ответственные решения да и не желающий делать это король как государственный деятель ничего собой не представляет, влияние на него королевы безгранично. У Марии Антуанетты две возможности: либо серьезно, действенно, энергично, подобно своей матери, принять на себя государственные дела, либо полностью от них устраниться. Австрийская группа при дворе непрерывно пытается побудить королеву заняться политикой, но безуспешно. Чтобы быть правителем или соправителем, необходимо регулярно несколько часов в день работать с документами, королева же не желает заниматься этим. Нужно выслушивать доклады министров, обдумывать их, но Мария Антуанетта не любит думать. Даже необходимость слушать кого-либо требует огромного напряжения ее ветреного ума. «Она едва слушает, когда с ней говорят, – жалуется в своем письме императрице посланник Мерси. – Очень трудно обсудить с нею что-либо важное, сконцентрировать ее внимание на какой-нибудь значительной теме. Страсть к развлечениям имеет над нею таинственную власть». В лучшем случае, когда он, Мерси, особенно настойчиво обращается к королеве по поручению ее матери или брата, она отвечает ему: «Скажите, что́ я должна сделать, и я сделаю». И действительно, если при этом ей следует обратиться к королю, она идет к нему. Но на следующий день непостоянная королева все забывает, ее вмешательство ограничивается «какими-то импульсами нетерпения». Наконец Кауниц, признав свое бессилие, примиряется: «Никогда и ни в чем нам не следует рассчитывать на нее. Будем довольствоваться малым, возьмем от нее, как от несостоятельного должника, то, что она пожелает дать». Ведь и при других дворах, пишет он посланнику Мерси, женщины не вмешиваются в политику.
Но если бы она действительно отказалась влиять на политику! Тогда на ней по крайней мере не было бы вины и ответственности! Но, понуждаемая кликой Полиньяк, она беспрерывно вмешивается, как только дело идет о том, чтобы посадить кого-либо в министерское кресло, дать кому-то доходную должность; она делает самое опасное из того, что можно делать в политике, – она обсуждает темы, о сути которых не имеет ни малейшего представления, важнейшие вопросы решает как дилетант, выносит заключения, высасывая их из пальца; свою безмерную власть над королем она использует исключительно лишь в интересах своих любимчиков. «Когда дело касается серьезных вещей, – жалуется Мерси, – она проявляет робость и нерешительность; если же ее понуждает к чему-либо окружение коварных интриганов, она делает все ради того, чтобы выполнить их желания». «Ничто не возбудило такой ненависти к королеве, – отмечает государственный министр Сен-При, – как эти внезапные вмешательства, как эти несправедливые протекционистские назначения».
Третье сословие считает, что государством управляет королева. И если все назначаемые ею министры, генералы, посланники оказываются несостоятельными, если эта система автократии терпит полное крушение и Франция со всевозрастающей скоростью несется в пучину хозяйственного банкротства, то, следовательно, и вся вина падает на королеву, не понимающую даже меры ответственности (ах, она ведь всего лишь посодействовала нескольким обворожительным кавалерам в получении хороших постов!).
Все желающие прогресса, нового порядка, справедливости, творческих деяний для Франции говорят, ропщут, угрожают – виновата расточительная, беззаботная, веселая хозяйка Трианона, безрассудно, необдуманно пожертвовавшая для надменной клики, для каких-нибудь двадцати безответственных людей, любовью и благосостоянием двадцати миллионов французов.
* * *
Этому великому недовольству тех, кто требует новой системы, лучшего порядка, разумного распределения ответственности, недостает штаба, вождя. Наконец находится такой дом, находится такой человек. В жилах этого ожесточенного противника течет королевская кровь. Силы реакции скапливаются у теток короля в замке Бельвю, силы революции – во дворце герцога Орлеанского, в Пале-Рояле. Против Марии Антуанетты открываются военные действия одновременно с двух антагонистических друг другу фронтов. По природе своей склонный скорее к наслаждениям, чем к честолюбивым помыслам, ловелас, игрок, кутила, щеголь, совсем не умный и, собственно, не злой, герцог Орлеанский, этот в общем-то заурядный аристократ, имеет слабость, характерную для нетворческих натур, – тщеславие, направленное лишь на внешнюю эффектность. И этому тщеславию Мария Антуанетта нанесла удар: она легкомысленно, шутя – «frozzelnd»[140], как говорят и думают в Австрии, – высказалась о военных способностях своего дядюшки и воспрепятствовала назначению его на пост командующего морским флотом. Тяжело оскорбленный, герцог Орлеанский поднимает перчатку; представитель младшей ветви французской королевской династии, очень богатый и совершенно независимый человек, он не боится оказать упорное сопротивление королю в парламенте и открыто показывает, что королева ему враг. Недовольные обретают в нем наконец себе вождя. Всякий, кто находится в оппозиции к «австриячке» и королю, кто неограниченную королевскую автократию считает устаревшей и обременительной для народа, кто требует нового, разумного, демократического правления во Франции, идет отныне под защиту герцога Орлеанского. В Пале-Рояле, по существу первом, еще находящемся под покровительством принца крови Клубе революции, собираются все реформаторы, либералы, приверженцы конституционной власти, вольтерьянцы, филантрописты[141], масоны[142]. К ним присоединяются и другие недовольные: провинившиеся в чем-то перед существующей властью, чувствующие себя обойденными аристократы, образованные представители третьего сословия, не получившие должностей, которых домогались, ничем не занятые адвокаты, демагоги, журналисты – все те силы, находящиеся в состоянии брожения, которые позже, объединившись, образуют штурмовой отряд революции. За слабым, тщеславным вождем стоит могучая, сплоченная, воодушевленная армия, с которой Франция завоюет себе свободу. Еще не дан знак к наступлению. Но каждому известно направление удара, известен пароль: «Против короля!» – и прежде всего: «Против королевы!»
* * *
Между этими двумя группами противников существующей власти, между революционерами и реакционерами, стоит один человек, едва ли не самый опасный, роковой враг королевы, – родной брат ее мужа, monsieur[143] Франсуа Ксавье, граф Прованский[144], впоследствии король Людовик XVIII. Человек, действующий исподтишка, втихомолку, осторожный интриган, он, чтобы не скомпрометировать себя преждевременно, не присоединяется ни к одной из групп оппозиции. Он колеблется вправо и влево, выжидает, пока судьба не подскажет ему правильного решения. Не без удовольствия наблюдает он за растущими трудностями, но открыто высказываться о них остерегается; черный, безмолвный крот, роет он свой подкоп и ждет, пока положение брата не окажется достаточно шатким. Только тогда, когда с Людовиком XVI и Людовиком XVII будет покончено, граф Франсуа Ксавье Прованский сможет стать наконец королем, стать Людовиком XVIII. Осуществится тайно вынашиваемая с детских лет мечта его честолюбия. Уже однажды счастье улыбнулось было ему, появилась надежда стать заместителем, «регентом» и законным преемником своего брата; семь трагических лет, в течение которых брак Людовика XVI вследствие злополучных помех оставался бездетным, были для его нетерпеливого тщеславия семью библейскими годами изобилия[145]. Но затем следует жестокий удар по его надеждам наследовать корону; когда Мария Антуанетта разрешается от бремени дочкой, он в письме шведскому королю с горечью признается: «Не могу таиться, сложившиеся обстоятельства чрезвычайно волнуют меня… Внешне я очень быстро взял себя в руки и поведение мое осталось прежним, правда я не подчеркиваю свою радость, которую, разумеется, приняли бы как проявление лицемерия, что, в сущности, было бы правильным… Внутренне же мне тяжелее сохранить равновесие. Иногда чувство еще восстает, но я надеюсь держать его в узде, если и не удается полностью овладеть им».
Рождение дофина ставит крест на его мечтах о престолонаследии. Отныне прямой путь прегражден, следует идти теми извилистыми лисьими тропами, которые в конце концов – впрочем, лишь через тридцать лет – приведут его к страстно желаемой цели. Враждебность графа Прованского не похожа на пламенную ненависть герцога Орлеанского. Это огонь зависти, скрытый под золой притворства: пока в руках Марии Антуанетты и Людовика XVI неоспоримая власть, тайный претендент воздерживается от каких бы то ни было открытых притязаний, ведет себя сдержанно, ничем не выдавая своих планов. Лишь в годы революции начинаются его подозрительные переговоры с той и другой оппозицией, его странные совещания в Люксембургском дворце. Но, едва лишь счастливо перебравшись за границу, он тотчас же с помощью своих вызывающих прокламаций начинает возню у могил своего брата, своей невестки, своего племянника в надежде – которая действительно оправдалась – найти там так страстно желаемую корону.
Не свершил ли граф Прованский большего? Не была ли его роль, как утверждают многие, мефистофельской? Не повинно ли честолюбие претендента в том, что он дал указание печатать и распространять грязные брошюры, позорящие честь невестки? Не замешан ли он действительно в том, что этот несчастный ребенок, Людовик XVII, тайно спасенный из Тампля, был после кражи документов вновь схвачен и брошен в темные катакомбы рока, да так, что о судьбе его и сейчас еще никто ничего достоверно не знает? Многое в поведении графа крайне подозрительно. Сразу же по восшествии на престол король Людовик XVIII, не жалея денег, прибегая к угрозам и насилию, принимает самые решительные меры, чтобы приобрести и затем уничтожить письма, написанные рукой графа Прованского. Он не осмеливается отдать королевские почести праху ребенка, некогда скончавшегося в Тампле: не следует ли рассматривать этот факт как сомнение Людовика XVIII в кончине Людовика XVII, не позволяет ли это предполагать, что он знал о подмене ребенка – подмене, очень и очень возможной в смутное время. Однако этот человек с лисьими повадками, этот упрямый, настойчивый человек хорошо умеет молчать, умеет держаться в тени; те подземные ходы и галереи, которыми он пробрался к французскому престолу, давно осыпались. Бесспорно одно: даже среди самых убежденных противников, самых злобных врагов Марии Антуанетты у нее не было более опасного врага, чем этот державшийся всегда на заднем плане непроницаемый человек.
* * *
После десяти лет правления (потерянные, зря растраченные годы) Мария Антуанетта со всех сторон окружена врагами. В 1785 году ненависть к ней расцветает пышным цветом. Все группы, враждебные королю, – почти вся аристократия, половина третьего сословия – уже заняли свои позиции, ждут только знака для наступления. Но силен еще авторитет наследственной власти, нет еще разработанного плана действий. Лишь перешептывания, едва слышные разговоры, гудение и жужжание остро отточенных стрел слышатся в Версале. Острие каждой стрелы несет каплю яда Аретино, все стрелы нацелены на королеву. Маленькие печатные или рукописные листки передаются под столом из рук в руки; заслышав чужие шаги, их тотчас прячут за корсаж. В книжных лавках Пале-Рояля книготорговцы приглашают благородных господ, обладателей бриллиантовых пряжек на туфлях, кавалеров креста Святого Людовика, в заднюю комнату и, тщательно закрыв дверь, извлекают из какого-либо пыльного угла спрятанный в макулатуре новый памфлет против королевы, контрабандой доставленный из Лондона или Амстердама. Но печать удивительно свежая, пожалуй даже влажная, – возможно, памфлет отпечатан в этом же доме, в Пале-Рояле, принадлежащем герцогу Орлеанскому, или в Люксембургском дворце. Не колеблясь, знатные покупатели платят за брошюру подчас больше золотых, чем в ней страниц. Их, этих страниц, десять – двадцать, но какими ехидными, пикантными остротами они сдобрены, какими скабрезными эстампами украшены! Такой пасквиль – чудесный подарок возлюбленной-аристократке, одной из тех, кому Мария Антуанетта отказала в чести быть приглашенной в Трианон; такой подарок доставит больше удовольствия, чем драгоценное кольцо, чем веер. Написанные анонимами, тайно отпечатанные, непостижимым образом распространенные, порхают эти клеветнические сочинения повсюду – и в Версале, и в парке дворца, и в будуарах парижских дам, и в провинциальных замках. Гнаться за ними, пресечь их распространение – безнадежная затея: какие-то невидимые силы препятствуют этому. Листки эти оказываются в самых неожиданных местах. Королева находит их под салфеткой у столового прибора, король – на своем письменном столе, среди бумаг; в театральной ложе королевы – пришпиленный иголкой к бархату барьера, торчит злобный стишок, а ночью стоит лишь ей взглянуть из окна комнаты вниз, как она услышит давно уже всеми распеваемую насмешливую песенку, которая начинается вопросом:
Каждого мысль гложет: Сможет король? Иль не сможет? Королева страдает в тоске… –и после перечисления некоторых эротических подробностей кончается угрозой:
Королева Туанетта, В вас любви к французам нету, Убирайтесь-ка обратно в Австрию.Правда, первые памфлеты и polissonneries[146] по сравнению с более поздними выглядят весьма сдержанными и скромными, они скорее иронически ехидные, чем злобные. Пока еще острия стрел смочены всего лишь щелочью сарказма, а не ядом. Они должны раздражать, но не ранить смертельно. Только после того, как королева забеременеет и это неожиданное событие очень разозлит всех тайных претендентов на корону, тон памфлетов станет заметно более резким. Именно сейчас, когда для этого уже нет оснований, короля с умыслом именуют импотентом, королеву – прелюбодейкой, чтобы заранее (нетрудно догадаться, в чьих интересах) новорожденного, кто бы он ни был, назвать бастардом[147]. После рождения дофина, бесспорно законного наследника престола, атака против королевской четы активизируется, со скрытых, замаскированных позиций Марию Антуанетту обстреливают памфлетами, оскорбительными виршами. Ее подруг, Ламбаль и Полиньяк, выставляют к позорному столбу как опытных жриц лесбийской любви, Марию Антуанетту – как ненасытную и извращенную эротоманку, короля – как бедного рогоносца, дофина – как бастарда. Куплет, очень популярный в то время, подтверждает сказанное:
Забавные носятся слухи Про жизнь королевской семьи: Бастард, рогоносец и шлюха – Веселая тройка, Луи!В 1785 году симфония клеветы гремит уже вовсю, тон задан, либретто составлено. Чтобы поставить Марию Антуанетту перед трибуналом, Революции потребуется лишь громко выкрикнуть на улицах придуманное и срифмованное в салонах. Основные тезисы обвинения подсказаны двором. И топор ненависти, который поразит королеву, вложат в руки палача унизанные кольцами, узкие руки аристократов.
* * *
Кто фабрикует эти клеветнические листки? Несущественный вопрос, ведь стихоплеты, сочиняющие те стишки, занимаются своим делом без злого умысла, ничего худого не подозревая. Они работают за деньги на чужие цели. Когда во времена Возрождения знатные господа хотели избавиться от неугодного им лица, они за кошелек, набитый золотом, могли купить надежный кинжал или раздобывали флакон яда. Восемнадцатое столетие, став просвещенным, применяет более изощренные приемы. Теперь против политических противников не используют наемных убийц. Теперь прибегают к услугам наемных писак, теперь своих политических врагов не приканчивают физически, их уничтожают морально: убивают смехом. Как раз в 1780 году за хорошие деньги приобретены первоклассные перья: господин Бомарше – сочинитель бессмертных комедий, Бриссо – будущий трибун, Мирабо – гений свободы, Шодерло де Лакло. Всех этих великих людей, несмотря на их гениальность, можно купить, и купить относительно дешево, потому что они исключены из круга привилегированных лиц, отвергнуты им. А за этими гениальными пасквилянтами ждут заказа сотни других, более грубых и низких, с грязными ногтями, с пустыми желудками, они готовы в любой момент писать все, что от них потребуют, сиропом или ядом: поздравление по поводу бракосочетания или оскорбительное письмо, гимн или памфлет, длинно или коротко, грубо или нежно, политично или неполитично, именно так, как будет заказано. Если к тому же еще обладать некоторой дерзостью и ловкостью, то на подобных делишках можно заработать дважды, а то и трижды. Во-первых, от анонимного заказчика получают куш за представленный ему пасквиль на Помпадур, Дюбарри или теперь на Марию Антуанетту, затем тайно сообщают двору, что вот-де такое позорное сочинение лежит, отпечатанное, в Амстердаме или Лондоне, и получают деньги из придворной казны или от полиции за помощь в перехвате издания. А трижды зарабатывает втройне умный – так поступил Бомарше, – когда вопреки клятвенным заверениям и честному слову, подтверждающим, что все издание полностью уничтожено, он все же оставляет себе один или два экземпляра пасквиля и грозится вновь напечатать его без изменений или с изменениями, если ему не будут выплачены отступные. Эта веселая шутка будет стоить ее гениальному автору двух недель заключения в венской тюрьме: Мария Терезия не расположена шутить, когда дело касается чести ее дочери. Правда, трусливый Версаль выплатит пострадавшему компенсацию в тысячу золотых гульденов, а затем еще семьдесят тысяч ливров.
Вскоре все пачкуны только и говорят, что памфлеты на Марию Антуанетту в настоящее время самое выгодное и совсем не опасное дело; так распространяется роковая мода. Умолчание и сплетня, сделка и низость, ненависть и корыстолюбие работают рука об руку в сочинении и распространении этих произведений. И вскоре их объединенным усилиям удается добиться задуманной цели: вся Франция ненавидит Марию Антуанетту как женщину и как королеву.
* * *
Мария Антуанетта очень хорошо чувствует за своей спиной эту недоброжелательную, враждебную людскую массу. Она знает о пасквилях, догадывается об их вдохновителях. Но ее desinvoltura[148], ее прирожденная и неисправимая габсбургская гордость толкает на мужественное пренебрежение опасностью, вместо того чтобы умно и осторожно встретить ее. Презрительно смахивает она эти капли грязи с платья. «Мы живем в эпоху сатирической песенки, – пишет она на скорую руку своей матери, – такое сочиняют о всех особах при дворе, а французское легкомыслие не побоится задеть и короля. Что касается меня, то и мне тоже не было пощады». Вот и все – весь ее гнев, вся ее неприязнь. Что ей до того, если на платье сядет пара навозных мух! В латах королевского достоинства она мнит себя неуязвимой, бумажные стрелы не могут причинить ей вреда. Но она забывает, что единственная капля такого сатанинского яда клеветы, попавшая в систему кровообращения общественного мнения, в состоянии вызвать лихорадку, которую потом не смогут вылечить даже самые мудрые врачи. Посмеиваясь, спокойно проходит Мария Антуанетта мимо опасности. Слова для нее всего лишь мякина на ветру. Лишь буря способна разбудить ее.
Удар молнии в театр Рококо
Первые недели августа 1785 года королева необычайно занята, но не потому, что политическая обстановка оказалась к этому времени особенно сложной[149] или восстание в Нидерландах подвергло франко-австрийский альянс тяжелым и опасным испытаниям. По-прежнему драма, разыгрываемая на мировых подмостках, представляется Марии Антуанетте менее значительной, нежели спектакли ее маленького театра рококо в Трианоне. Готовится премьера – вот причина лихорадочного возбуждения королевы. Во дворцовом театре с нетерпением ждут постановки «Севильского цирюльника» – комедии господина Бомарше. И какой избранный состав исполнителей, как облагородят они роли простолюдинов! Граф д’Артуа собственной персоной будет играть Фигаро, Водрей – графа, а королева – веселую девушку Розину.
Господин Бомарше? Не тот ли это хорошо известный полиции господин Карон, который десять лет назад якобы где-то раскопал, на самом же деле написал сам и доставил Марии Терезии некий гнусный памфлет «Avis important à la branche espagnole sur ses droits à la couronne de France»[150], в котором по всему свету раззвонил об импотенции Людовика XVI? Не тот ли это господин Карон, которого разозленная императрица-мать назвала fripon[151], оборванцем, а Людовик XVI – шутом и mauvais sujet?[152] По императорскому указу, как наглый вымогатель, он был взят под стражу и получил хорошую порцию розог в тюрьме Сен-Лазар. Совершенно верно, тот самый. Когда дело касается развлечений, у Марии Антуанетты удивительно короткая память, и Кауниц в Вене не преувеличивает, говоря, что ее сумасбродства только и делают, что «растут и хорошеют» (croître et embellir). Ведь дело не только в том, что этот деятельный, гениальный авантюрист высмеял ее самое и разозлил ее мать, – с именем автора комедии связано необычайное посрамление королевского авторитета. История литературы, более того, мировая история свыше ста пятидесяти лет помнит о жестоком поражении, которое писатель нанес королю, а вот собственная жена короля уже через четыре года совершенно забыла об этом. В 1781 году цензура нюхом учуяла, что «Женитьба Фигаро», новая комедия этого писателя, попахивает порохом и что подстрекательства, рассыпанные по всей комедии, могут привести к тому, что старый режим взлетит на воздух. Кабинет министров единогласно запретил постановку комедии. Но Бомарше, всегда абсолютно спокойный, когда дело касается его славы или даже денег, ищет сотни путей, чтобы протащить свою пьесу, и наконец добивается того, что для последнего, окончательного решения судьбы комедии ее читают самому королю. И хотя этот славный малый – тугодум, он все же тотчас же распознает мятежную сущность чудесной комедии. «Этот человек смеется надо всем, что следует почитать в государстве», – раздосадованный, говорит он. «Значит, пьесу действительно не поставят?» – разочарованно спрашивает королева; интересная премьера для нее важнее благополучия государства. «Нет, определенно нет, – отвечает Людовик XVI, – можете быть в этом уверены». Этим, казалось бы, пьесе вынесен приговор: христианнейший король, неограниченный властелин Франции, не желает, чтобы в его театре шла пьеса «Женитьба Фигаро», ясно и просто, никаких кривотолков. Дело для короля решенное. Но не для Бомарше. Тот и не думает капитулировать. Ему хорошо известно, что голова короля, вернее, ее изображение имеет значение лишь на монетах, на деловых бумагах. В действительности же над властелином властвует королева, над королевой – Полиньяк. Итак, вперед – к этой высшей инстанции! Бомарше без устали читает пьесу – после запрета она вошла в моду – во всех салонах. И под влиянием какого-то таинственного инстинкта самоуничтожения, присущего вымирающему обществу того времени, аристократия восторженно покровительствует комедии, во-первых, потому, что она высмеивает эту самую аристократию, во-вторых, потому, что Людовику XVI комедия не нравится. Водрей, возлюбленный графини Полиньяк, решается на дерзкий шаг – ставит запрещенную королем пьесу в своем театре. Но этого мало, король должен быть публично посрамлен, а Бомарше – публично одержать победу. В собственном доме короля следует сыграть запрещенную им комедию именно потому, что он ее запретил. Тайно и, вероятно, с ведома королевы, для которой усмешка ее Полиньяк важнее, нежели авторитет супруга, актеры получают указание выучить роли; уже распределены билеты, уже кареты съехались к театру – тут в последний момент королю все же становится ясно, что его достоинство оскорблено: ведь он не разрешил пьесу к постановке, дело идет о его авторитете. За час до начала спектакля король посредством летр де каше запрещает его. Освещение гасят, экипажи разъезжаются.
Вновь, казалось бы, с этим делом покончено. Однако дерзкой клике королевы доставляет удовольствие именно сейчас убедительно показать, что ее власть сильнее власти коронованного рохли.
Граф д’Артуа и Мария Антуанетта уговаривают, убеждают короля; как всегда, безвольный, он сдается, стоит только его жене что-нибудь от него потребовать. Чтобы как-то замаскировать свое поражение, он просит лишь несколько изменить особенно вызывающие реплики, именно те, которые каждому давно известны наизусть. 17 апреля 1784 года во Французском театре состоится премьера «Женитьбы Фигаро». Бомарше одержит победу над Людовиком XVI. Попытка короля запретить постановку и высказанная им надежда, что пьеса провалится, способствовали тому, что фрондирующие аристократы превратили вечер в сенсацию. Наплыв публики оказывается столь большим, что двери театра выдавливаются, железные запоры срываются; старое общество неистовыми аплодисментами встречает пьесу, дающую ему моральную пощечину. Эти аплодисменты – пока еще никто об этом не догадывается – являются провозвестником восстания, зарницей революции.
При таком положении вещей элементарное чувство приличия, такт, здравый смысл должны были заставить Марию Антуанетту держаться подальше от комедий этого господина Бомарше. Господину Бомарше, нагло замаравшему чернилами ее честь и сделавшему короля посмешищем всего Парижа, не следовало бы давать повод хвастаться, что дочь Марии Терезии, супруга Людовика XVI – ведь и императрица, и король, оба сажали его как негодяя за решетку, – что королева Франции будет на сцене исполнять роль в его пьесе. Однако мода – summa lex[153], высшая инстанция для светской королевы: после победы над королем господин Бомарше слывет самым модным человеком Парижа, а королева повинуется моде. Какое значение имеют честь и авторитет, ведь речь-то идет всего лишь о театральной постановке. И к тому же какая восхитительная роль – роль этой лукавой девушки! Как там в тексте? «Вообразите себе прехорошенькое существо, милое, нежное, приветливое, юное, обворожительное: крохотная ножка, тонкий стройный стан, полные ручки, алый ротик, а уж пальчики! Щечки! Зубки! Глазки…»[154]
Кому же – у кого еще такой стройный стан, такие полные ручки, – кому же играть эту обольстительную роль, как не королеве Франции и Наварры? Так что в сторону все сомнения, все соображения о такте! Надо пригласить великолепного Дазенкура из «Комеди Франсез», чтобы он научил знатных дилетантов непринужденному поведению на сцене, надо заказать прелестные костюмы у мадемуазель Бэртэн! Хоть немножко развлечься, не вечно же думать о враждебности двора, о злобности милых родственничков, о неприятных превратностях политики. Дни напролет занята Мария Антуанетта в своем восхитительном беломраморном с золотом миниатюрном театре, готовится к постановке этой комедии и не подозревает, что в другом театре уже поднимается занавес и начинается другая комедия, в которой ей, без ее ведома и согласия, определена главная роль.
* * *
Идут последние репетиции «Севильского цирюльника». Мария Антуанетта по-прежнему очень занята и сильно нервничает. Хорошо ли выглядит она для Розины, не бросят ли ей вновь упрек взыскательные, пресыщенные друзья из партера, что на сцене она недостаточно расторопна и непосредственна, что она скорее дилетантка, чем артистка? Вот уж поистине сама себе выдумывает заботы – странные заботы для королевы! И куда подевалась мадам Кампан, с которой ей нужно повторить роль? Наконец-то, наконец она появляется, однако что это? Мадам Кампан так возбуждена, что с трудом может связать несколько слов. Вчера явился к ней растерянный ювелир двора Бомер и умолял о немедленной аудиенции у королевы. Этот саксонский еврей рассказал совершенно несуразную и запутанную историю. Несколько месяцев назад королева тайно купила у него знаменитое бриллиантовое колье, тогда же были оговорены сроки платежей. Однако срок первого платежа давно истек, к ювелиру же не поступил ни один дукат. Кредиторы его торопят, ему немедленно нужны деньги.
Как? Что? Какие бриллианты? Какое колье? Какие деньги? Что за сроки? Сначала королева ничего не понимает. Наконец кое-что проясняется. Конечно, она знает большое колье, с таким вкусом сделанное двумя ювелирами: Бомером и Бассанжем. Они его трижды предлагали ей за миллион шестьсот тысяч ливров; разумеется, очень хотелось бы иметь эту великолепную вещь, но министры не дают денег, только и говорят о дефиците. Как же могут эти обманщики-ювелиры утверждать, что она купила колье, да еще в рассрочку и тайно, и что она должна им деньги? Здесь какое-то чудовищное недоразумение. Впрочем, теперь она припоминает: примерно неделю назад не от этих ли ювелиров пришло странное письмо, в котором они ее за что-то благодарили и писали о какой-то драгоценности. Где письмо? Ах, верно, сожжено. Она никогда не читает писем внимательно, в тот раз также. Кроме того, она сразу же уничтожила эту почтительную, невразумительную записку. Чего, собственно, они хотят от нее? Королева приказывает своему секретарю немедленно написать Бомеру записку. Пусть явится – разумеется, не сейчас, не завтра, а 9 августа. Бог мой, дело этих глупцов не так уж спешно, а у нее много хлопот с репетициями «Севильского цирюльника».
Ювелир Бомер является 9 августа. Возбужденный, бледный, он рассказывает нечто невероятное. Сначала королеве даже кажется, что перед нею помешанный. Графиня Валуа, близкая подруга королевы («Моя подруга? Я никогда не знала дамы под таким именем!»), смотрела у него эту драгоценность и заявила, что королева желает тайно купить ее. А его высокопреосвященство господин кардинал Роган («Как, этот отвратительный субъект, с которым я никогда не обмолвилась и словом?») по поручению ее величества взял это колье для передачи ей.
Каким бы диким ни казалось все сказанное, какое-то зерно истины должно в нем быть, ведь лоб этого несчастного в испарине, руки и ноги дрожат. И королеву тоже трясет от ярости: как посмели какие-то негодяи так подло злоупотребить ее именем? Она приказывает ювелиру безотлагательно письменно изложить происшедшее. 12 августа этот до сих пор хранящийся в архивах фантастический документ у нее в руках. Изложенное в нем представляется Марии Антуанетте бредовым сном. Она читает, перечитывает, и ее гнев, ее ярость с каждой прочитанной строкой растут: обман беспримерен. Виновные должны быть жестоко наказаны. Пока она не уведомляет об этом министров и не советуется со своими друзьями, лишь королю 14 августа доверяет она все подробности аферы и требует от него защитить ее честь.
* * *
Позже Мария Антуанетта поймет: ей следовало бы тщательно обдумать все весьма подозрительные и столь запутанные обстоятельства этого грязного дела. Но глубокие размышления, осторожная рассудительность – эти свойства всегда были чужды властному, нетерпеливому характеру, и меньше всего тогда, когда главный нерв ее существа возбужден, когда задета ее безмерная гордость.
До предела раздраженная королева читает и видит в этом обвинительном документе одно только имя – имя кардинала Луи Рогана, имя человека, которого уже много лет жестоко ненавидит со всей страстностью своего пылкого сердца, которого считает способным на любой легкомысленный поступок, на любую низость. Этот священник-дворянин, собственно, никогда ничего плохого ей не сделал. Более того, у портала Страсбургского кафедрального собора именно он восторженно приветствовал ее въезд во Францию. Он был восприемником ее детей, искал любого повода, чтобы с открытым сердцем приблизиться к ней. Их характеры совсем не антагонистичны. Напротив, по существу, этот кардинал Роган – Мария Антуанетта в мужском обличье: столь же легкомыслен, поверхностен и расточителен, так же небрежно относится к своему долгу духовного лица, как она – к обязанностям королевы. Светский священник, как она – светская государыня; епископ рококо, как она – королева рококо. Он отлично подошел бы Трианону со своими утонченными манерами, широтой натуры, и, весьма вероятно, они прекрасно поняли бы друг друга – элегантный, красивый, легкомысленный, умеренно фривольный кардинал и кокетливая, очаровательная, веселая, жизнерадостная королева. Лишь случай сделал их противниками. Однако как часто бывает такое – по существу близкие друг другу люди становятся злейшими врагами!
Мария Терезия первая привила дочери предубеждение к Рогану. Ненависть королевы унаследована от матери, передана матерью, внушена ею. До того как стать страсбургским кардиналом, Луи Роган был посланником короля в Вене. Там он навлек на себя безмерный гнев старой императрицы. Она ожидала увидеть при своем дворе дипломата, а встретила самонадеянного болтуна. Мария Терезия, правда, легко примирилась с его недалекостью: глуповатый представитель иностранной державы был на руку императрице-политику. И пристрастие к роскоши она ему простила бы, хотя ее и очень раздражало то, что этот суетный слуга Господа явился в Вену с двумя парадными каретами, каждая из которых стоила сорок тысяч дукатов, с целой конюшней лошадей, с камер-юнкерами, камердинерами и гайдуками, с парикмахерами, массажистами и чтецами, с управляющими и дворецкими, окруженный лакеями в зеленых шелковых ливреях, обшитых галунами. Роскошь этого священнослужителя нагло затмевала роскошь императорского двора. Однако в двух областях старая императрица была бескомпромиссна: в вопросах религии и морали, здесь она шуток не допускала. Вид слуги Господня, который меняет сутану на коричневый сюртук, чтобы в обществе очаровательных дам за день охоты настрелять сто тридцать куропаток и рябчиков, возбуждает в этой высоконравственной женщине негодование, перерастающее в ярость, едва она начинает понимать, что такое беспутное, легкомысленное, фривольное поведение священнослужителя вместо осуждения встречает всеобщее одобрение Вены, ее Вены иезуитов и комиссии нравов.
Суровость и бережливость, ставшие характерными для обычаев двора в Шёнбрунне, тесным жабо сжимают горло аристократии. А в обществе этого щедрого, элегантного ветрогона дышится свободнее. Его необычайно веселые ужины пользуются особенным успехом у дам, которым до смерти надоела мораль набожной вдовы. «Наши женщины, – должна признать раздосадованная императрица, – молоды они или стары, красивы или уродливы, очарованы им. Он их кумир, они все тут по нему с ума посходили, так что он чувствует себя здесь отлично и уверяет всех, что даже после смерти своего дядюшки, епископа Страсбургского, по-видимому, останется в Вене». Особенно обидно императрице видеть, как преданный ей канцлер Кауниц сближается с Роганом, называет его «милым другом», а родной сын, Иосиф, которому всегда доставляет удовольствие говорить «да», когда мать говорит «нет», дружит с церковником-кавалером; она вынуждена быть свидетелем того, как щеголь склоняет ее семью, весь двор, весь город к беспутному, фривольному образу жизни. Но Мария Терезия не будет потворствовать превращению суровой католической Вены в легкомысленный Версаль, в Трианон, не позволит, чтобы ее аристократия впала в разврат.
Нельзя допустить, чтобы эта зараза укоренилась в Вене, поэтому надо избавиться от Рогана. Одно за другим к Марии Антуанетте идут письма, она должна приложить все силы к тому, чтобы отозвать «эту недостойную личность», этого «villain évèque»[155], эту «неисправимую душу», этот «volume farci de bien de mauvais propos»[156], эту «mauvais sujet»[157], этого «vrai panier percé»[158] – вот к каким гневным эпитетам прибегает обычно очень осторожная женщина. Она сетует, она взывает о помощи, полная отчаяния, страстно желая, чтобы ее «избавили» наконец от этого посланца антихриста. И действительно, как только Мария Антуанетта становится королевой, она сразу же, послушная матери, добивается отозвания Луи Рогана из Вены.
Но когда кто-нибудь из Роганов падает, это всегда оборачивается для них удачей. Утратив пост посланника, Луи Роган становится епископом, а вскоре великим альмосениером[159] – высоким духовным сановником при дворе, лицом, через которое раздаются все благотворительные пожертвования короля. Доходы его громадны: он епископ Страсбурга и к тому же ландграф Эльзаса, аббат очень доходного аббатства Сен-Вааст, главноуправляющий королевским госпиталем, провизор[160] Сорбонны[161] и, кроме всего этого, – кто знает, за какие заслуги, – член Французской академии. Однако, как ни велики его доходы, расходов у Рогана больше, ибо он с легким сердцем, не задумываясь, сорит деньгами направо и налево. Он строит – а на это уходят миллионы – новый епископский дворец в Страсбурге, устраивает роскошнейшие празднества, много тратит на женщин, да и господин Калиостро обходится ему недешево, дороже, чем содержание семи метресс. Скоро перестает быть тайной, что финансы епископа находятся в весьма плачевном состоянии, слугу Господа Бога чаще встречают у евреев-ростовщиков или в дамском обществе, нежели в Божьем храме или среди ученых-теологов. Только что парламент интересовался долгами госпиталя, главноуправляющим которым является Роган. Удивительно ли, если при этих обстоятельствах королева решает, что легкомысленный человек затеял всю эту грязную историю для того, чтобы, прикрываясь ее именем, открыть себе кредит? «Кардинал, словно низкий, подлый фальшивомонетчик, использовал в преступных целях мое имя, – пишет она брату, еще не придя в себя от приступа гнева. – Возможно, находясь в очень стесненном положении, он надеялся внести ювелирам платежи в оговоренные сроки, рассчитывая на то, что обман не обнаружится». Можно понять ее ошибку, можно понять ее ожесточение, можно понять, почему именно этому человеку она не хочет простить. Ведь на протяжении пятнадцати лет, с той первой встречи у портала Страсбургского кафедрального собора, Мария Антуанетта, верная наказу своей матери, ни единым словом не обратилась к этому человеку, напротив, часто перед всем двором выказывала ему свое презрение. Она и воспринимает как гнусный акт то, что Роган впутал ее имя в мошенническую проделку; из всех попыток французской аристократии ущемить ее честь, очень болезненных для нее, эта кажется ей самой наглой и коварной. И со слезами на глазах, горячо и убежденно она требует от короля, чтобы тот безжалостно, в пример другим, публично наказал этого обманщика – каковым ошибочно считает самого обманутого.
* * *
Король – безвольное орудие жены – не раздумывает, когда королева что-нибудь требует; она же никогда не взвешивает последствий своего поведения, своих желаний. Не проверив обвинения, не потребовав документов, не сняв допроса с ювелиров или кардинала, рабски послушный король становится слепым исполнителем воли опрометчивой женщины. 15 августа король ошеломляет кабинет министров своим намерением немедленно арестовать кардинала. Кардинала? Кардинала Рогана? Министры поражены, приходят в ужас, озадаченно смотрят друг на друга. Потом один решается осторожно спросить, не вызовет ли нежелательных осложнений публичный арест, словно подлого преступника, такого высокого сановника, являющегося к тому же духовным лицом. Но именно этого, публичного бесчестья, и требует королева. Должен наконец свершиться акт наказания в назидание другим. Все должны понять: имя королевы не может иметь ничего общего с какой бы то ни было мерзостью. И она настаивает на публичном аресте. Очень неохотно, с затаенной тревогой, с тяжелым предчувствием, министры соглашаются. Несколькими часами позже разворачивается неожиданный спектакль.
В день Успения Божьей Матери, являющийся также днем ангела королевы, в Версале большой прием. Ой-де-Бёф и галереи заполнены придворными и государственными сановниками. Ничего не подозревающий исполнитель главной роли в спектакле, Роган, которому надлежит в этот праздничный день служить мессу, в пурпурной сутане, накинув на себя стихарь, ждет в специальном помещении, расположенном перед комнатой короля и предназначенном для знатных лиц, для grandes entrées[162].
Однако вместо Людовика XVI с супругой, торжественно шествующих к мессе, Роган видит приближающегося к нему слугу: король приглашает его в свои покои. Там с закушенной губой и опущенными глазами стоит королева, не отвечающая на его поклон, и очень сдержанный, неприветливый и холодный министр барон Бретёй, его личный враг. Прежде чем Роган понимает, чего, собственно, от него хотят, король спрашивает прямо и сурово: «Дорогой кузен, что тут произошло с бриллиантовым колье, которое вы купили от имени королевы?»
Роган бледнеет. К этому вопросу он не готов. «Сир, я вижу, меня обманули, но сам я никого не обманул», – запинаясь, говорит он.
– Если это так, дорогой кузен, вам нечего беспокоиться. Пожалуйста, объясните все.
Роган не в состоянии отвечать. Он видит перед собой безмолвную и возмущенную Марию Антуанетту. Он не может вымолвить ни слова. Его замешательство вызывает у короля чувство сострадания, он ищет выход. «Запишите все, что желаете сообщить мне», – говорит король. Сказав это, он, Мария Антуанетта и Бретёй покидают покои.
Оставленный один, кардинал пишет на бумаге полтора десятка строк и передает вернувшемуся королю свое объяснение. Женщина, по фамилии Валуа, побудила его приобрести это колье для королевы. Теперь он видит, что был обманут этой особой.
– Где эта женщина? – спрашивает король.
– Сир, я не знаю.
– Колье у вас?
– Оно в руках этой женщины.
По приказу короля приглашаются королева, Бретёй и хранитель большой печати, зачитывается заявление ювелиров. Людовик спрашивает Рогана о полномочиях, которые должны были быть подписаны королевой.
Совершенно раздавленный, Роган должен сознаться: «Сир, они находятся у меня. По-видимому, они фальшивы».
– Так оно и есть, – отвечает король. И хотя кардинал готов оплатить колье, сурово заключает: – Сударь, при сложившихся обстоятельствах я вынужден опечатать ваш дом, а вас – арестовать. Имя королевы мне дорого. Оно скомпрометировано, и я не имею права быть снисходительным.
Роган настоятельно просит избавить его от такого бесчестья, ведь сейчас он должен перед ликом Господним служить праздничную мессу для всего двора. Король, мягкий и доброжелательный, колеблется: его трогает глубокое отчаяние обманутого человека. Но теперь Мария Антуанетта уже не может сдержаться, со слезами гнева на глазах она кричит Рогану, как смел он думать, что она, не удостоившая его в течение восьми лет ни единым словом, выбрала его себе в посредники для заключения каких-то тайных сделок за спиной короля. На этот упрек кардинал не находит ответа. Он и сам теперь не понимает, как позволил втянуть себя в эту дурацкую авантюру. Король с сожалением замечает: «Надеюсь, вы сможете оправдаться. Но я должен поступить так, как велит мне долг короля и супруга».
Разговор подходит к концу. Между тем в переполненном приемном зале с нетерпением и любопытством ждет вся придворная знать. Мессе следовало бы уже давно начаться, почему же она задерживается, что там происходит? Едва слышно дребезжат стекла, некоторые из присутствующих нетерпеливо ходят взад и вперед, другие присели и шушукаются друг с другом: чувствуется, гроза нависла в воздухе.
Внезапно двустворчатая дверь покоев короля распахивается. Первым появляется кардинал Роган в пурпурной сутане, бледный, с плотно сжатыми губами, за ним – Бретёй, старый солдат с грубым красным лицом виноградаря, с глазами, сверкающими от возбуждения. Неожиданно в середине зала он намеренно громко кричит капитану лейб-гвардии: «Арестуйте господина кардинала!»
Все ошеломлены. Все поражены. Арестовать кардинала! Рогана! Уж не пьян ли этот старый рубака Бретёй? Нет, Роган не защищается, не возмущается, с опущенными глазами послушно идет он навстречу страже. С содроганием жмутся придворные к стенам, образуя живой коридор, и, словно сквозь строй со шпицрутенами, под настороженными, сконфуженными, негодующими взглядами идет из зала в зал, вниз по лестнице принц Роган, великий альмосениер короля, кардинал святой церкви, имперский князь Эльзаса, член академии и обладатель неисчислимого количества титулов и званий, а за ним следом, словно за каторжником, идет суровый солдат. Перед помещением дворцовой стражи Роган, пришедший наконец в себя, используя всеобщее ошеломление, успевает написать пару строк на клочке бумаги и бросить его вниз. Это записка домашнему священнику, указание уничтожить все документы, лежащие в красном портфеле, – как будет выяснено позже, на процессе, фальшивые письма королевы. Внизу один из гайдуков Рогана бросается в седло и мчится с запиской в Отель Страсбург. Он успевает выполнить поручение, опередив медлительных полицейских, следующих за ним, чтобы опечатать бумаги, и прежде, чем великий альмосениер Франции – какое неслыханное бесчестье! – вместо того чтобы служить королю и всему двору мессу, будет доставлен в Бастилию. Одновременно с арестом принца объявляется приказ о задержании всех его сообщников в пока еще темном деле. В тот день мессу в Версале не служат, да и к чему она? Нет молитвенного настроения, чтобы слушать ее; весь двор, весь город, вся страна оглушены известием, неожиданным, словно гром среди ясного неба.
* * *
И долго еще за закрытой дверью своих покоев королева не может прийти в себя. Она дрожит от гнева; объяснение с Роганом потрясло ее, наконец-то изобличен по крайней мере один из клеветников, один из тех, кто предательски покушался на честь ее имени. Не поспешат ли теперь все доброжелатели поздравить ее с изобличением этого негодяя? Не начнет ли двор, ранее ошибочно считавший короля слабовольным, славить теперь его за то, что он вовремя арестовал этого недостойнейшего из всех священников? Но удивительное дело: никто не является. Даже ее подруги и те смущенно избегают ее. Очень тихо сегодня в Трианоне и Версале. Аристократия даже не старается скрыть своего возмущения тем, что так опозорен представитель одного из самых знатных семейств королевства.
Придя в себя после внезапного удара, кардинал Роган, которому король снисходительно предлагает лично вести его судебное дело, отклоняет милость государя и выбирает своим судьей парламент. Поспешность не всегда дает хорошие плоды. Мария Антуанетта не рада своему успеху – вечером камеристки находят ее в слезах.
Но вскоре ее обычное легкомыслие вновь берет верх. «Что касается меня, – пишет она в безрассудном самообмане своему брату Иосифу, – то я счастлива: мы никогда больше ничего не услышим об этой мерзкой интриге». Письмо написано в августе, а процесс будет в лучшем случае в декабре, возможно даже лишь в следующем году, – к чему сейчас ломать себе голову над этими неприятными вопросами? Пусть люди болтают или ропщут, какое ей до всего этого дело! Займемся гримом, новыми костюмами, не отказываться же от восхитительной комедии из-за подобных пустяков. Репетиции возобновляются, королева разучивает роль веселой Розины из «Севильского цирюльника», вместо того чтобы изучать полицейские акты того большого процесса, который, вероятно, пока еще можно замять. Но похоже, и эту роль, роль Розины, она разучивает небрежно. В противном случае королева задумалась бы над словами своего партнера дона Базиля, так пророчески описавшего могущество клеветы: «Клевета, сударь! Вы сами не понимаете, чем собираетесь пренебречь. Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила. Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!.. Сперва чуть слышный шум, едва касающийся земли, будто ласточка перед грозой, pianissimo[163] шелестящий, быстролетный, сеющий ядовитые семена. Чей-нибудь рот подхватит семя и piano, piano[164] ловким образом сунет вам в ухо. Зло сделано – оно прорастает, ползет вверх, движется – и, rinforzando[165], пошла гулять по свету чертовщина! И вот уже, неведомо отчего, клевета выпрямляется, свистит, раздувается, растет у вас на глазах. Она бросается вперед, ширит полет свой, клубится, окружает со всех сторон, срывает с места, увлекает за собой, сверкает, гремит и, наконец, хвала небесам, превращается во всеобщий крик, в crescendo[166] всего общества, в дружный хор ненависти и хулы. Сам черт перед этим не устоит!»
Но Мария Антуанетта, как всегда, плохо слушает своих партнеров. Иначе она поняла бы: ее судьба обращается к ней, это судьба предостерегает ее. С комедией рококо этим последним представлением в театре Трианона – 19 августа 1785 года – покончено: incipit tragoedia[167].
Афера с колье
Что же произошло в действительности? Правдоподобно изложить эту историю трудно, ибо если следовать фактам, то получается невероятнейшая невероятность, слишком неправдоподобная даже для романа. Иной раз Действительность в поразительно удачный для нее день выкинет такое, что самому изобретательному, самому изощренному выдумщику-писателю не повторить столь сложной ситуации, столь запутанной интриги.
И тут писателю лучше выйти из игры, не подвергать пересмотру гениальное мастерство Действительности. Сам Гёте, пытаясь в «Великом Кофте»[168] использовать происшествие с колье, превратил в скучную, малоинтересную шутку то, что в действительности было одним из самых дерзких, сверкающих и волнующих фарсов истории. Во всех, вместе взятых, комедиях Мольера не найти такого яркого и логически оправданного забавного букета мошенников, обманщиков и обманутых, глупцов и изрядно пострадавших простаков, как в этой веселой ollapodrida[169], в которой сорока-воровка, лиса, умащенная всеми благовониями шарлатанства, и неуклюжий легковерный медведь ломают комедию, несуразнейшую во всей мировой истории.
В центре подлинной комедии всегда стоит женщина. В афере с колье это дочь разорившегося дворянина и опустившейся служанки. Девочка растет заброшенной, без присмотра, грязная, босая, она ворует в поле картошку, за кусок хлеба стережет корову. После смерти отца мать становится проституткой, бездомный ребенок – бродяжкой. Семилетняя девочка пропала бы, не подвернись счастливый случай. Она привлекает к себе внимание маркизы Буленвилье тем, что, прося на улице милостыню, обращается к прохожим с поразительными словами: «Умоляю о милосердии к бедной сиротке из дома Валуа![170]» – «Как? Этот завшивленный, истощенный, едва не умирающий от голода ребенок – отпрыск королевского рода? Отпрыск Богом избранного рода Людовика Святого? Невозможно!» – думает маркиза. И тем не менее приказывает остановить карету и расспрашивает маленькую попрошайку.
Знакомясь с материалами этой удивительной аферы, следует с самого начала приучить себя к мысли, что самое невероятное должно восприниматься как реальность, все ошеломляющее и удивительное – как факт. Жанна действительно законнорожденный ребенок Жака Сен-Реми, браконьера по профессии, пьяницы, буяна и забияки и тем не менее прямого и непосредственного потомка Валуа, – Валуа, не уступающих Бурбонам ни в древности рода, ни в благородстве крови. Маркиза Буленвилье, тронутая печальной судьбой влачащего нищенское существование ребенка из дома Валуа, тотчас же устраивает девочку и ее младшую сестру за свой счет в пансион. Четырнадцати лет Жанна поступает в обучение к портнихе, становится прачкой, гладильщицей, белошвейкой и, наконец, попадает в монастырь для девушек из аристократических семейств.
Однако скоро выясняется: на то, чтобы быть монахиней, у маленькой Жанны недостает таланта. Кровь отца-авантюриста бродит в ней. Полная решимости, двадцатидвухлетняя девушка вместе с сестрой перелезает через монастырскую стену. Без гроша в кармане, с сумасбродными мыслями о приключениях – появляются они внезапно в Бар-сюр-Обе[171]. Там Жанна, миловидная девушка, встречает жандармского офицера из мелкопоместных дворян Николаса де Ламотта, который вскоре женится на ней, как раз, впрочем, вовремя, поскольку пастырское благословение у алтаря опережает пару родившихся затем близнецов лишь на месяц. С таким человеком, не очень-то щепетильным в моральных вопросах – взыскательным, ревнивым супругом никогда он не был, – мадам Ламотт смогла бы, в сущности, вести весьма спокойную скромную обывательскую жизнь. Но «кровь Валуа» настоятельно требует своих прав. Молодая Жанна постоянно находится в плену единственной мысли – пробиться наверх, безразлично – как и какими путями. Сначала она наседает на свою благодетельницу маркизу Буленвилье и добивается счастья быть приглашенной в Саверн[172], во дворец кардинала Рогана. Красивая и ловкая, она немедленно использует слабости галантного и простодушного кардинала. При его содействии, а возможно, и в обмен на пару невидимых рогов – ее муж быстро получает патент ротмистра в драгунском полку и кругленькую сумму для оплаты всех долгов семьи Ламотт.
Казалось бы, Жанна может быть довольна. Но и это весьма значительное продвижение вверх она рассматривает лишь как ступеньку. Ее Ламотт произведен королем в должность ротмистра, теперь он сам, полнотой своей власти, без каких-либо обложений, присваивает себе титул графа. Действительно, имея возможность именовать себя так звучно – «графиня Валуа де Ламотт», следует ли прозябать в провинции с жалким пенсионом и скромным офицерским жалованьем? Вздор! Цена такому имени – сто тысяч ливров в год, и она получит эти деньги, красивая и наглая женщина, решившая основательно пообщипать богатых простаков и болванов. Для этой цели оба сообщника снимают в Париже целый дом на улице Нёв-Сен-Жиль, болтают ростовщикам об обширнейших поместьях, на которые графиня, как наследница Валуа, имеет бесспорные права. Создается видимость обеспеченной жизни людей светского общества, одалживается соответствующая домашняя утварь, из соседнего магазина каждодневно на три часа берется напрокат столовое серебро. Когда же наконец парижские заимодавцы берут их в оборот, графиня Валуа де Ламотт объявляет, что она отправляется в Версаль, чтобы там, при дворе, предъявить свои права.
Разумеется, при дворе она никого не знает и могла бы неделями натруживать свои красивые ножки, тщетно ожидая приглашения хотя бы в переднюю покоев королевы. Но хитрая авантюристка использует ловкий трюк. Находясь среди других просителей в приемной мадам Елизаветы, она вдруг падает в обморок. К ней бросаются, муж называет ее звучное имя и со слезами на глазах рассказывает, что причиной обморока является длительное голодание, приведшее к полному упадку сил.
Мнимобольную доставляют на носилках домой, движимый состраданием двор посылает ей вслед двести ливров и увеличивает пенсион с восьмисот до полутора тысяч ливров. Но что ей, Валуа, такая подачка? Почему бы не повторить свой трюк? Второй обморок – возле покоев графини д’Артуа; третий – в Зеркальной галерее, по которой должна пройти королева. К сожалению, Мария Антуанетта, на великодушие которой вымогательница особенно рассчитывает, ничего не узнаёт об этом инциденте. Четвертый обморок в Версале может быть опасным, и оба сообщника со скудной добычей возвращаются в Париж. Им удалось немногое из того, что они задумали. Но естественно, супруги боятся проболтаться на этот счет, напротив, хвастают направо и налево, как благосклонно, как сердечно, по-родственному приняла их королева. И поскольку всегда найдется изрядное количество таких, которым очень льстит знакомство с графиней Валуа, дамой из близкого окружения королевы, сразу же появляются дойные коровы, вновь на некоторое время открывается кредит. Обремененные долгами попрошайки обзаводятся – mundus vult decipi[173] – целой свитой во главе с так называемым секретарем, который именует себя Рето де Вийетом и, без сомнения, делит с «благородной» графиней не только труды по околпачиванию окружающих, но и ложе. Есть в этой свите и второй секретарь, Лот, – из духовного звания, имеются кучера, лакеи, собачки, кошечки.
Жизнь на улице Нёв-Сен-Жиль течет весело. Составляются партии в забавные игры, правда обходящиеся в копеечку простофилям, дающим поймать себя на крючок, но тем не менее весьма приятные благодаря участию в них дам полусвета. К сожалению, растет число назойливых личностей, ростовщиков, судебных исполнителей, предъявляющих неуместные, неприличные требования вернуть наконец долги, срок уплаты которых давно истек. И вновь достойная супружеская пара в тупике, не знает, что ей предпринять далее. Мелкие мошеннические проделки уже не спасают положения. Скоро, скоро подоспеет время развернуться как следует.
* * *
Для солидной аферы всегда необходимы два действующих лица: незаурядный мошенник и большой глупец. К счастью, такой глупец уже под рукой – это не кто иной, как сиятельный член Французской академии, его высокопреосвященство страсбургский епископ, великий альмосениер Франции, кардинал Роган. Человек своего времени, не умнее и не глупее других, этот обворожительный князь церкви страдает болезнью своего столетия – легковерием.
Человечеству никогда не удавалось длительное время обходиться без веры, и, когда кумир столетия Вольтер вывел Бога из моды, в салоны Dix-huitième вместо этого Бога прокрадывается суеверие. Для алхимиков, каббалистов[174], розенкрейцеров[175], шарлатанов, заклинателей духов и магов наступает золотой век. Ни один благородный кавалер, ни одна светская дама не упустит случая посетить Калиостро в его ложе, попасть на прием к графу Сен-Жермену, провести вечер возле магнетического чана у Месмера. Именно потому, что все оказывается таким предельно ясным, таким смешным и легкомысленным, именно потому, что никто ничего не принимает всерьез: генералы – свою службу, королева – свой сан, священнослужители – своего Бога, – именно поэтому «просвещенные» люди высшего света должны заполнить образовавшуюся ужасающую пустоту какой-либо игрой с метафизическим, мистическим, сверхъестественным, непостижимым и самым глупейшим образом попадают в ловушки невежд-обманщиков, в ловушки, никак не замаскированные, ничем не прикрытые. Среди подобных нищих духом находится и этот наилегковернейший, его высокопреосвященство кардинал Роган, попавший в лапы пройдохи из пройдох, великого обманщика, духовного вождя и папы всех аферистов, в лапы «божественного» Калиостро. Он расположился в замке Саверн и артистически, волшебным образом перекладывает деньги из карманов хозяина замка в свои. Авгуры[176] и мошенники узнают друг друга с первого взгляда, подобное произошло с Ламотт и Калиостро. Через него, хранителя всех тайн кардинала, узнает она сокровенное страстное желание Рогана – стать первым министром Франции. Попутно выясняется также, что этому может воспрепятствовать лишь одно: необъяснимая для кардинала антипатия королевы к его персоне. Для ловкой аферистки знать слабости мужчины все равно что уже держать его в руках. Мошенница тотчас же начинает ковать цепь, на которой заставит плясать его преосвященство, как медведя, до тех пор, пока тот не станет потеть луидорами. В апреле 1784 года Ламотт начинает время от времени при встречах с Роганом бросать фразы, свидетельствующие о ее близости к королеве, замечания, как ласкова с нею ее «милый друг» королева, как откровенна. Все более и более фантазируя, выдумывает она эпизоды, укрепляющие простодушного кардинала во мнении, что эта миниатюрная красивая женщина могла бы стать его заступницей перед Марией Антуанеттой. Конечно, его глубоко огорчает, открыто признается он, что за многие годы ее величество не удостоила его ни единым взглядом, ведь он высшим благом для себя почитает благоговейно служить ей. Ах, если бы кто-нибудь наконец смог рассказать королеве, как почитает он ее! Тронутая его огорчением, соболезнуя ему, «интимная» подруга королевы обещает замолвить за него словечко. И потрясенный Роган уже в мае узнает, что разговор состоялся, королева переубеждена и в скором времени даст кардиналу секретный знак, разумеется неявный, – свидетельство изменившегося отношения к нему: в ближайший торжественный прием во дворце она определенным образом тайно кивнет ему. Если хочешь чему-либо верить, то веришь этому охотно. Если хочешь что-либо увидеть, то легко видишь это. Действительно, при очередном приеме славному кардиналу кажется, что он заметил известный «нюанс» в кивке королевы при встрече с ним, за что восхитительной посреднице дарится кошелек с дукатами.
Но Ламотт еще далеко не полностью выбрала эту золотоносную жилу. Чтобы окончательно околпачить кардинала, следует показать ему какое-либо осязаемое вещественное свидетельство королевской милости. Может быть, письма? Ради чего, собственно, держишь в доме и в спальне секретаря, свободного от стеснительных пут совести? Действительно, Рето без промедления изготавливает эти письма – письма Марии Антуанетты к ее подруге Валуа. И поскольку глупец любуется ими как подлинными, почему бы не сделать еще шаг по этому пути, сулящему выгоды? Почему бы не инсценировать тайный обмен письмами между Роганом и королевой, с тем чтобы основательно похозяйничать в его казне?
По совету Ламотт ослепленный кардинал составляет обстоятельное оправдание своего поведения, несколько дней тщательно редактирует его и наконец передает набело переписанный экземпляр этой в прямом смысле слова бесценной женщине. И действительно, разве это не волшебница, разве это не самая близкая подруга королевы? Через несколько дней Ламотт уже приносит небольшую записку на белой тисненой бумаге с золотым обрезом, с французской лилией в одном углу. Обычно такая неприступная, гордая королева из дома Габсбургов пишет человеку, к которому до сих пор относилась с подчеркнутым пренебрежением: «Мне очень приятно считать Вас невиновным, однако пока еще не могу дать просимую Вами аудиенцию. Как только обстоятельства позволят, я извещу Вас. Прошу пока держать нашу переписку в тайне». Простофиля едва может прийти в себя от радости. По совету Ламотт он благодарит королеву, получает ответ, пишет опять, и чем более наполняется его сердце гордостью и страстным желанием пользоваться высочайшим расположением Марии Антуанетты, тем интенсивнее опустошает Ламотт его карманы. Дерзкая игра в полном разгаре.
* * *
Жаль лишь, что в этой игре пока все еще не принимает участия важная особа, основная фигура спектакля, – королева. Но долго вести опасную партию без нее невозможно. Легковерному, как бы наивен он ни был, нельзя бесконечно лгать, что королева ответила на его поклон, если на самом деле она нарочито смотрит мимо него, ненавистного ей человека, никогда не обращается к нему. Растет опасность, что глупец почует подвох. Настоятельно необходимо продумать новый ловкий шахматный ход. Поскольку исключено, чтобы королева когда-нибудь заговорила с кардиналом, так, может быть, достаточно будет, чтобы этот болван поверил, будто он говорил с королевой? Что, если выбрать славное время для всяческих мошеннических проделок – сумерки, найти подходящее место, какую-нибудь затененную аллею в парке Версаля, да подыскать двойника королевы – женщину, которая смогла бы вызубрить для Рогана пару слов? Ночью все кошки серы, а взволнованный и безумно влюбленный кардинал – а он действительно влюблен, этот славный малый, – даст себя одурачить. Подобная проделка ничем не хуже надувательств Калиостро или записок на листках с золотым обрезом, сочиненных малограмотным «секретарем».
Где же найти фигурантку, «дублера», как говорят нынче в кино? Конечно, там, где ежечасно в ожидании клиентов прогуливаются весьма привлекательные дамы и дамочки любого сорта, всякого сложения, высокие и низкие, худые и дородные, блондинки и брюнетки, – в саду Пале-Рояля, в парадизе[177] проституток Парижа. «Граф» де Ламотт берет на себя деликатное поручение; на это не требуется много времени. Двойник королевы найден – молодая дама по имени Николь, позже называющая себя баронессой д’Олива, якобы модистка, в действительности же более специализирующаяся в обслуживании мужчин, нежели дам. Не так уж трудно уговорить ее сыграть эту легкую роль, «поскольку она была очень глупа», объяснит позже госпожа де Ламотт судьям. 11 августа сговорчивую жрицу любви привозят в одну из сдающихся внаем квартир Версаля. Графиня Валуа самолично одевает ее в белое с крапинками муслиновое платье со шлейфом, такое, в котором королева изображена на одном из портретов работы мадам Виже-Лебрен. Далее на тщательно напудренные волосы надевается широкополая шляпа, затеняющая лицо, и чета Ламотт отправляется с изрядно струхнувшей девчонкой в вечерний сумеречный парк, где та должна десять минут исполнять роль королевы Франции для великого альмосениера королевства. Развертывается самая смелая из известных истории мошеннических авантюр.
Мимо террас Версаля бесшумно крадется пара, сопровождающая свою псевдокоролеву. Небо, как всегда, покровительствует жуликам – наступает безлунный вечер. Группа спускается к рощице Венеры, которая настолько затенена елями, кедрами и пихтами, что в ней с трудом угадываются лишь очертания человека, к рощице, удивительно приспособленной для любовных свиданий и – еще более – для такого фантастического шутовского розыгрыша. Маленькую блудницу Николь трясет. Как это угораздило ее попасть в подобное положение? Не сбежать ли, пока не поздно? Трепеща от страха, держит она в руке розу и записку; следуя полученным указаниям, Николь должна передать их знатному господину, который заговорит с нею здесь. Вот уже хрустит гравий. Возникает силуэт мужчины. Это Рето, секретарь, он исполняет роль слуги королевы, он ведет Рогана к месту свидания. Мгновенно чувствует Николь, как ее энергично подтолкнули вперед, видит – в темноте исчезли, растаяли оба сводника. Она одна, вернее, уже не одна, навстречу ей идет незнакомый человек – высокий, стройный, в глубоко надвинутой на лоб шляпе – Роган.
Странно, как глупо этот незнакомец ведет себя! Он благоговейно кланяется ей до самой земли, он целует кайму платья маленькой проститутки. Вот сейчас Николь должна передать ему розу и письмо. Но в замешательстве она роняет розу и забывает про письмо. С трудом выдавливает из себя приглушенным голосом те несколько слов, которые вдолбили ей в голову: «Вы можете надеяться, что все прошлое забыто». И эти слова кажутся незнакомому кавалеру безмерно восхитительными; явно осчастливленный, он снова и снова кланяется, невнятно лепечет слова верноподданнической благодарности, а бедная модисточка не понимает за что. Она испытывает лишь страх, смертельный страх, что начнет говорить и этим выдаст себя. Но слава Богу, вновь хрустит гравий, поспешные шаги, кто-то зовет тихо и взволнованно: «Быстрее, быстрее уходите! Мадам Елизавета и графиня д’Артуа совсем близко». Реплика оказывает свое действие – кардинал испуган, он быстро удаляется в сопровождении мадам де Ламотт, а ее «благородный» супруг уводит Николь. С бьющимся сердцем крадется мнимая королева этой комедии мимо дворца, где за зашторенными окнами спит ничего не подозревающая истинная королева.
* * *
Шутка в стиле Аристофана удалась блестяще. Теперь бедный дурень кардинал получил такой удар по голове, который вышиб из нее остатки разума. Раньше его недоверчивость следовало всячески усыплять, мнимый кивок головы был лишь полудоказательством расположения королевы, письма – также. Теперь же, поскольку обманутый считает, что он беседовал с королевой, услышал из ее уст слова о забвении прошлого, теперь каждому слову графини де Ламотт он будет верить больше, чем Евангелию. Теперь он пойдет за нею на поводу в огонь и в воду. В тот день во Франции нет человека более счастливого, чем он. Роган уже видит себя первым министром, фаворитом королевы.
Спустя несколько дней кардинал получает через Ламотт новое доказательство благосклонности королевы. Ее величество – Роган, конечно, знает, как близко принимает она к сердцу нужды своих подданных, – желала бы оказать денежную помощь одной дворянской семье, попавшей в беду, – всего лишь пятьдесят тысяч ливров, – но в настоящий момент затрудняется дать эти деньги. Не захочет ли кардинал вместо нее свершить этот добрый, милосердный поступок? Роган счастлив, его совсем не удивляет, как это королева при колоссальных доходах может вдруг оказаться без денег. Весь Париж знает, что она постоянно в долгах. Немедленно приказывает он эльзасскому еврею по имени Серф-Бер явиться к нему и занимает у того пятьдесят тысяч. Двумя днями позже это золото блестит на столе супругов Ламотт. Теперь наконец-то нити в их руках и они могут заставить марионетку плясать по своему желанию. Три месяца спустя они еще сильнее прижимают его: королева хотела бы получить деньги, и Роган послушно закладывает мебель и серебро, чтобы быть полезным своей покровительнице.
Для четы Ламотт наступают восхитительные времена. Кардинал далеко, в Эльзасе, а деньги его бренчат в их карманах. Никаких забот: найден дурень, оплачивающий их расходы. Время от времени ему пишется записка от имени королевы, и он раскошеливается вновь и вновь. Пока что можно жить в свое удовольствие и не думать о завтрашнем дне! Не только государи, князья и кардиналы легкомысленны в эти развращенные времена, но и шарлатаны также. Спешно покупается загородный дом в Бар-сюр-Об с великолепным садом и богатым хозяйством. В этом роскошном доме едят на золоте, пьют из хрусталя, играют и музицируют. Лучшее общество добивается чести бывать у графини Валуа де Ламотт. Как хорош мир, в котором существуют простофили!
* * *
Кому в игре везет трижды подряд, тот без опасения и в четвертый раз отважится на дерзкую ставку. Неожиданный случай дает Ламотт козырного туза в руки. На одном из ее званых вечеров кто-то рассказывает, что бедным придворным ювелирам Бомеру и Бассанжу сейчас приходится туго: весь свой наличный капитал и порядочную сумму денег, взятых взаймы, они поместили в бриллиантовое колье, великолепнейшее в мире. Сначала оно предназначалось для Дюбарри, она, безусловно, купила бы его, если б не оспа, прибравшая Людовика XV. Затем колье предлагали испанскому двору и трижды – Марии Антуанетте, которая без ума от драгоценностей и обычно легкомысленно покупает их, не очень спрашивая о цене. Но докучливо-расчетливый Людовик XVI не пожелал выложить миллион шестьсот тысяч ливров. Ювелиры оказались в весьма затруднительном положении: проценты грызут прекрасные бриллианты, не исключено, что чудесное колье придется расчленить, потеряв при этом огромные деньги. Может быть, она, графиня Валуа, находясь с королевой на короткой ноге, уговорит свою высокую подругу приобрести драгоценность в рассрочку, конечно на самых льготных условиях – фирма оплатит солидные комиссионные. Ламотт, очень заинтересованная в распространении легенд о ее влиянии при дворе, соглашается принять на себя роль посредницы, и 29 декабря оба ювелира приносят на улицу Нёв-Сен-Жиль для осмотра ларец с драгоценным колье.
Какое восхитительное колье! Сердце Ламотт усиленно бьется. Дерзкие мысли вспыхнули и заиграли всеми цветами радуги в ее голове, подобно этим бриллиантам, сверкающим в солнечном свете; как заставить этого архиосла кардинала приобрести колье для королевы? Едва он возвращается из Эльзаса, Ламотт приступает к обработке своей жертвы. Ему оказывается большая милость: королева желает, конечно втайне от супруга, приобрести драгоценное украшение, ей требуется посредник, умеющий хранить секреты; выполнение почетной и негласной миссии она в знак доверия поручает ему. Действительно, уже несколько дней спустя она сможет торжествующе сообщить осчастливленному Бомеру, что найден покупатель – кардинал Роган. 29 января во дворце кардинала, в Отеле Страсбург, совершается покупка: миллион шестьсот тысяч ливров, оплата – в течение двух лет, четырьмя равными долями, каждые 6 месяцев. Драгоценность должна быть доставлена покупателю 1 февраля, первый взнос – 1 августа 1785 года. Кардинал собственноручно визирует договор и передает его Ламотт, с тем чтобы та представила его на утверждение своей «подруге» королеве. 30 января авантюристка приносит ответ: ее величество с условиями договора согласна.
Но послушный до сих пор осел на этот раз проявляет некоторое упрямство. В конце концов миллион шестьсот тысяч ливров – это даже для расточительного князя не безделица! Ручаясь за такую грандиозную сумму, когда может встать вопрос о жизни или смерти, кардинал хотел бы иметь по меньшей мере долговое обязательство – бумагу, подписанную королевой. Нужен документ? Пожалуйста! Для чего же иначе держать секретаря? На следующий день Ламотт приносит договор, и под каждым его условием на поле стоит manu propria[178]: «Одобряю», а в конце договора – «собственноручная» подпись: «Marie Antoinette de France»[179]. Имей великий альмосениер двора, член академии, в прошлом посланник, а в своих грезах уже первый министр, хоть крупицу ума, он должен был бы сразу опротестовать этот документ. Во Франции королева никогда не подписывает бумаги иначе как только своим именем, так что подпись «Marie Antoinette de France» сразу выдает низкопробного фальсификатора. Но можно ли сомневаться, если королева имела с ним тайное свидание в рощице Венеры? Обманутый торжественно обещает авантюристке никогда не выпускать из рук это обязательство, никому его не показывать. На следующее утро, 1 февраля, ювелир передает драгоценность кардиналу, который вечером, чтобы лично убедиться в том, что колье попало в надежные руки «подруги» королевы, сам отнесет его графине Ламотт. Недолго приходится ждать ему на улице Нёв-Сен-Жиль. Вот слышны шаги человека, поднимающегося по лестнице. Ламотт просит кардинала пройти в смежную комнату, из которой через застекленную дверь можно наблюдать передачу колье. Действительно, является молодой человек, весь в черном, естественно, все тот же Рето, славный секретарь, и докладывает: «По поручению королевы». «Что за удивительная женщина эта Валуа де Ламотт, – должно быть, думает кардинал, – как тактично, преданно, искусно помогает она своей августейшей подруге!» Успокоенный, передает он шкатулку графине, которая вручает ее таинственному посланцу. Тот исчезает столь же быстро, как и появился, а с ним вместе и колье – до Страшного суда. Растроганный, прощается и кардинал; теперь, после такой дружеской услуги, ждать осталось недолго, и он, тайный помощник королевы, вот-вот станет первым слугой короля, государственным министром Франции.
* * *
Несколькими днями позже в парижскую полицию является еврей-ювелир, чтобы от имени ювелиров Парижа принести жалобу: некий Рето де Вийет предлагает очень дорогие бриллианты по поразительно низкой цене. Уж не похищены ли они у кого-нибудь? Министр полиции требует к себе Рето. Тот объясняет: бриллианты он получил для продажи от родственницы короля графини Валуа де Ламотт. Графиня Валуа – благородное имя, оно действует на министра словно слабительное, он немедленно отпускает насмерть перепуганного Рето. Графине становится ясно, насколько опасно сбывать в Париже отдельные, вынутые из колье камни (дичь, за которой так долго гонялись, выпотрошена – колье расчленено). Она набивает бравому супругу карманы бриллиантами и посылает его в Лондон – ювелиры с Нью-Бонд-стрит и Пикадилли не будут жаловаться по поводу того, что товар слишком дешев.
Ура! Теперь одним махом денег получено во много раз больше, чем могла мечтать дерзкая авантюристка. Так же бесстыдно и смело, как свершила эту безумную операцию, она кичится своим новым богатством. Обзаводится каретой с четверкой английских кобыл, лакеями в пышных ливреях, негром в галунах с головы до пят, коврами, гобеленами, бронзой, альковом под балдахином из багряного бархата. Когда достойная пара перебирается в свою великолепную резиденцию в Бар-сюр-Об, требуется более сорока подвод, чтобы перевезти в спешке накупленное ценное имущество. Бар-сюр-Об переживает незабываемые дни непрерывных празднеств из «Тысячи и одной ночи». Перед процессией нового Великого Могола[180] скачут великолепные курьеры, затем следует английская жемчужно-серая лакированная берлина[181], обитая изнутри белым сукном. Атласные полости, согревающие ноги супругам (ноги, которым следовало бы поскорее унести своих владельцев за границу), имеют герб Валуа с девизом: «Rege ab avo sanguinem, nomen et lilia» («От короля, моего прародителя, получил я кровь, имя и лилии»). Бывший жандармский офицер вырядился на славу: пальцы унизаны кольцами и перстнями, на башмаках – бриллиантовые пряжки, три или четыре цепочки часов сверкают на груди героя, а гардероб его – это можно будет потом проверить по описи в судебном акте – содержит не менее восемнадцати шелковых или парчовых новехоньких, с иголочки костюмов, с пуговицами из чеканного золота, с драгоценнейшими шнурами. Супруга не уступает ему в роскоши одежды и в украшениях, словно индусский идол, вся блестит и сверкает в драгоценностях. Никогда не было такого богатства в маленьком Бар-сюр-Обе, и очень скоро проявится его магнетическая сила. Вся окрестная аристократия устремляется в дом, принимает участие в лукулловых пиршествах[182], которые здесь даются; множество лакеев сервируют на драгоценном серебре изысканнейшие блюда, звучит застольная музыка; словно новый Крёз, шествует хозяин через княжеские покои и полными пригоршнями разбрасывает деньги.
И опять именно здесь история аферы с бриллиантовым колье звучит так абсурдно и фантастично, что кажется – такого не может быть. Разве обман не должен был обнаружиться через три, пять, восемь, наконец, через десять недель? Как могли – невольно спрашивает трезвый ум, – как могли эти два мошенника так беззаботно, так нагло хвастать своим богатством, где же была полиция? Но расчеты Ламотт, собственно, совершенно правильны, она думает: «Если действительно будет грозить опасность, то у нас есть надежный защитник. Попробуйте-ка нас тронуть, он живо наведет порядок, господин кардинал Роган! Он примет все меры к тому, чтобы афера не вскрылась; великий альмосениер Франции позаботится о том, чтобы замять аферу, которая сделает его посмешищем в веках. Он предпочтет тихо, не моргнув глазом, оплатить колье из собственного кармана. Чего же бояться?» Имея такого компаньона в деле, можно спокойно спать в своем роскошном алькове под балдахином из багряного бархата. И они в самом деле живут не тревожась – отчаянная Ламотт, ее почтенный супруг, искусный в письме секретарь, – живут в свое удовольствие на поборы, которые сбирают ловкой рукой с неистощимого капитала человеческой глупости.
Между тем доброму кардиналу странной кажется одна безделица. Он ожидал при первом официальном приеме увидеть королеву в драгоценном колье – возможно, даже надеялся на обращенное к нему слово или кивок головы, на какой-нибудь доверительный жест, понятный лишь ему одному, на жест признательности. Ничего подобного! Холодно, как всегда, смотрит Мария Антуанетта на него, колье не сверкает на белой шее. «Почему королева не носит мое ожерелье?» – удивленно спрашивает он наконец графиню. Но у этой бестии всегда ответ наготове: королеве неприятно надевать драгоценности, еще не оплаченные полностью. Лишь после полной оплаты она удивит супруга. Довольный осел снова сует свою морду в сено. Но после апреля наступает май, за маем идет июнь. Все ближе и ближе 1 августа – роковой срок платежа первых четыреста тысяч. Чтобы получить отсрочку, авантюристка придумывает новый трюк. Королева, говорит она, хорошенько обдумала условия договора, цена кажется ей слишком высокой. Если ювелиры не согласятся снизить стоимость колье на двести тысяч ливров, она вернет им его. Тертый калач, эта Ламотт рассчитывает на то, что ювелиры начнут вести переговоры и таким образом удастся выиграть время. Но она ошибается. Ювелиры, сильно завысившие при продаже цену на колье и крайне нуждающиеся в наличности, сразу же соглашаются. Бассанж пишет записку королеве, в которой дается их согласие, а Бомер передает эту записку с визой Рогана в собственные руки королевы 12 июля вместе с только что купленной у них другой драгоценностью. В ней сказано: «Ваше величество, мы счастливы надеяться, что последние условия платежа, которые были Вами предложены и которые мы со всем рвением и почтительностью принимаем, будут рассматриваться как новое доказательство нашей преданности и повиновения приказу Вашего величества. Мы счастливы думать, что прекраснейшее из существующих бриллиантовых украшений будет служить самой благородной и прекрасной королеве».
Бегло прочитав это письмо, ничего не подозревающий человек не поймет его, уж больно оно витиевато. Однако, если бы королева прочла его внимательнее и несколько поразмыслила над ним, она обязательно спросила бы: «Что за условия платежа? Какое бриллиантовое украшение?» Но по сотне других случаев известно: Мария Антуанетта редко что-нибудь читает внимательно до конца (безразлично, письма это, документы или книги). Чтение надоедает ей; серьезное обдумывание не для нее. Письмо она вскрывает, когда Бомер уже откланялся. Не имея никакого представления о существе вопроса и не понимая поэтому подобострастных и витиеватых фраз, она приказывает камеристке вернуть Бомера для объяснения. Но к сожалению, ювелир уже покинул замок. Ну что ж, потом выяснится, что имел в виду этот болван Бомер! «Значит, в следующий раз», – думает королева и бросает записку в огонь. Само это уничтожение письма, это безразличное отношение королевы к намекам, пусть неясным, как все в афере с колье, производит на первый взгляд впечатление невероятного, невозможного, и даже такие добросовестные историки, как Луи Блан, в этом быстром уничтожении письма усматривают повод для подозрения: а не знала ли королева все же что-то об этом грязном деле? Нет, это поспешное сожжение совершенно естественно для женщины, которая, зная свою рассеянность, всю свою жизнь из боязни шпионажа, так распространенного при дворе, уничтожает любой адресованный ей клочок бумаги. Даже после штурма Тюильри[183] в ее письменном столе не обнаружится ни одной относящейся к ней строчки. Но на этот раз поступок, диктуемый осторожностью, оказался очень неосмотрительным.
Итак, цепь случайностей позволила до поры сохранить обман в тайне. Но теперь никакое уже фокусничанье не поможет мошенникам; подходит 1 августа, и Бомер требует свои деньги. Ламотт пытается нанести последний оборонительный удар: она внезапно открывает свои карты ювелирам и нагло заявляет: «Вас обманули. Подпись королевы на поручительстве кардинала – фальшива. Но принц богат, он может расплатиться сам». Этим шагом она рассчитывает отвести удар от себя, она надеется – по существу вполне логично рассуждая, – что разгневанные ювелиры кинутся к кардиналу, все расскажут ему и он из страха оказаться посмешищем двора и общества, пристыженный, будет держать язык за зубами, предпочтет выложить миллион шестьсот тысяч ливров. Но Бомер и Бассанж не желают рассуждать логично, они дрожат за свои деньги. Они не хотят иметь никакого дела с обремененным долгами кардиналом. Королева – пока что еще оба считают, что Мария Антуанетта замешана в этом деле, ведь она не ответила на то письмо, – является для них значительно более платежеспособным должником, чем этот ветрогон-кардинал. И наконец, в худшем случае, – в этом они тоже заблуждаются – колье, драгоценный залог, все же у нее.
Наступает критический момент, когда шарлатанство должно быть разоблачено. И с прибытием Бомера в Версаль, с получением аудиенции у королевы сразу рушится вся Вавилонская башня лжи, взаимных недомолвок и умолчаний. И ювелиры, и королева понимают, что свершен мерзкий обман. Процесс должен показать, кто же этот обманщик.
* * *
Все акты, свидетельские показания и другие документы этого запутаннейшего из процессов в настоящее время неопровержимо подтверждают одно: Мария Антуанетта не имела ни малейшего представления о гнусной возне с ее именем, с ее честью. Юридически она абсолютно невинная жертва, она не только не была соучастницей этой самой дерзкой во всемирной истории аферы, но и ничего не знала о ней. Она никогда не принимала кардинала, никогда не знала обманщицу Ламотт, никогда не держала в руках ни одного камешка колье. Лишь недоброжелательное предубеждение, лишь сознательная клевета могли свести вместе как единомышленников этих троих: Марию Антуанетту, авантюристку и недалекого кардинала. Еще раз повторим: ничего не подозревала королева о банде жуликов, фальсификаторов, воров и дураков, имя ее без ее ведома было использовано в этой афере.
И тем не менее с моральной точки зрения Марию Антуанетту нельзя считать полностью невиновной, ибо этот грандиозный обман можно было затеять лишь потому, что всем известная ее дурная слава придала мошенникам смелости, потому что любой, самый невероятный, необдуманный поступок, любой неправдоподобно опрометчивый шаг, приписываемый королеве, воспринимался обманутым кардиналом как правдоподобный.
Если бы на протяжении многих лет не было непрерывной цепочки легкомысленных поступков, если бы не было сумасбродств Трианона, то не было бы и предпосылок для этого фарса лжи и обмана. Ни одному здравомыслящему человеку не пришла бы в голову мысль, что Мария Терезия, истинный монарх, способна получать тайную корреспонденцию за спиной своего мужа или может назначить кому-либо свидание в темной парковой аллее. Никогда бы ни Роган, ни ювелиры не попались на такую грубую ложь: дескать, королева сейчас не при деньгах и поэтому желает тайно от супруга, в рассрочку, через подставных лиц приобрести ценнейшие бриллианты – если бы раньше в Версале не перешептывались о ночных прогулках в парке, о новых драгоценностях, которые королева приобретает в обмен на старые, о неоплаченных долгах. Никогда Ламотт не удалось бы воздвигнуть такую пирамиду лжи, если бы легкомыслие королевы не заложило фундамент, а ее дурная слава не послужила бы лесами на этой стройке. Еще и еще раз: в фантастической афере с колье Мария Антуанетта была абсолютно невиновна. Однако то, что мошенники, использовав ее имя, смогли эту аферу осуществить, – в этом была и осталась историческая вина королевы.
Процесс и приговор
Наполеон проницательно заметил основную ошибку Марии Антуанетты в процессе о колье и так сформулировал ее: «Королева невиновна, и для того, чтобы общественное мнение признало эту ее невиновность, она выбрала судьей парламент. Именно поэтому все стали считать королеву виновной». Действительно, на этот раз Мария Антуанетта впервые потеряла уверенность в себе. Если прежде она с пренебрежением проходила мимо зловонной грязи сплетен и клеветы, не обращая на нее внимания, то теперь она ищет убежища у инстанции, которую ранее презирала, – у общественного мнения. Годами вела она себя так, словно не слышала, не замечала свиста отравленных стрел. И, требуя сейчас, в неожиданной, почти истерической вспышке гнева, суда, она обнаруживает, как давно и как сильно раздражена ее гордость. Пусть отвечает за всех этот кардинал Роган, позволивший себе более других, оказавшийся на виду. Но роковым образом она единственная верит во враждебные намерения бедного глупца.
Даже в Вене Иосиф II в сомнении качает головой, когда сестра изображает Рогана крайне опасным преступником: «Я знаю великого альмосениера как крайне легкомысленного и расточительного человека, но, признаюсь, никогда не подумал бы, что он способен на жульничество или какую-нибудь низость, подобную тем, в которых его теперь обвиняют». Еще меньше верит этому Версаль, и вскоре возникает странный слух: жестоким арестом королева просто хочет отделаться от неудобного сообщника. Мария Антуанетта опрометчиво дала расцвести неприязни, внушенной ей матерью. И при неудачном резком движении защищающая ее мантия властительницы падает с плеч, королева становится уязвимой для всеобщей ненависти.
Ибо теперь наконец все ее тайные противники могут объединиться. Мария Антуанетта неосторожно и нескромно потревожила змеиное гнездо ущемленного тщеславия. Кардинал Луи Роган – как могла она забыть об этом! – носитель древнейшего и славнейшего имени Франции. Он связан тесными родственными узами с другими знатными феодальными кланами, прежде всего с Субизами, с Марсанами, с Конде. Все эти семьи, естественно, чувствуют себя смертельно оскорбленными тем, что один из их членов схвачен в королевском дворце, словно карманный вор. Крайне возмущено и высшее духовенство. Взят под арест кардинал, его высокопреосвященство, взят за несколько минут до того, как он, уже в торжественном церковном облачении, должен был служить мессу перед лицом Господним. И кем схвачен? Грубым солдафоном, бретером. Жалобы доходят до Рима; таким образом, оскорбленными за свои сословия чувствуют себя и аристократы, и духовенство. Полно решимости бороться и могущественное братство масонов, ибо жандармы препроводили в Бастилию не только кардинала, покровителя масонов, но и Калиостро, божество безбожников, их главу; наконец-то им представился удобный случай поднять голос против трона и алтаря. Народ же, лишенный возможности смаковать пикантные подробности скандалов двора, обсуждать пышные празднества высшего света, восторженно принимает любое сообщение об афере. В кои-то веки выпадает счастье посмотреть на такое захватывающее представление: кардинал публично обвинен в мошенничестве, в складках пурпурной епископской мантии таится образцовая коллекция жуликов, обманщиков, фальсификаторов и вдобавок, на заднем плане, – в этом вся соль! – гордая, высокомерная австриячка!
Более занимательного сюжета, чем скандальная история с «красавчиком преосвященством», и не придумать для авантюристов пера и карандаша, для памфлетистов, карикатуристов, мальчишек-газетчиков. Даже полет на шаре братьев Монгольфье, завоевавший человечеству небо, не привлекает такого внимания Парижа, да что Парижа – всего света, как этот процесс королевы, который постепенно превращается в процесс против королевы. Когда до слушания дела публикуются в печати речи защитников, по закону не подлежащие цензуре, книжные лавки берутся приступом, приходится вызывать полицию. Бессмертные произведения Вольтера, Жана Жака Руссо, Бомарше на протяжении десятилетий не расходились такими огромными тиражами, как за неделю – речи защитников. Семь, десять, двадцать тысяч экземпляров, еще с влажной типографской краской, рвут из рук книгонош, в иностранных посольствах посланники упаковывают пакеты целыми дюжинами, дабы, не теряя времени, переслать самые последние новости о придворном скандале в Версале своим сгорающим от любопытства государям. Все желают всё читать, всё прочитать, неделями не говорят ни о чем ином, самые чудовищные предположения и догадки слепо принимаются всерьез. На суд является множество людей из провинции – дворяне, буржуа, адвокаты. В Париже ремесленники часами околачиваются возле парламента, оставив свои мастерские и лавчонки на произвол судьбы. Инстинктивно, бессознательно и безошибочно народ чувствует: здесь будут судить не за какое-то заблуждение, нет, из этого маленького грязного клубка будут вытянуты все нити, ведущие к Версалю; темные секреты летр де каше, этого документа королевского произвола, расточительность двора, бесхозяйственность в финансах – все теперь берется на мушку; впервые вся нация наблюдает в щель забора, образованную случайно сорванной планкой, незримую для посторонних глаз жизнь высокомерных властителей. В этом процессе речь пойдет о значительно большем, чем о колье, речь пойдет о режиме, ибо это обвинение, если его искусно направить, может обернуться против всего правящего класса, против королевы и тем самым против королевской власти. «Какое великое и многообещающее событие! – восклицает один из тайных фрондеров в парламенте. – Кардинал изобличен в мошенничестве! Королева запутана в скандальном процессе! Какая грязь на посохе епископа, какая грязь на скипетре! Какой триумф идей свободы!»
Еще не чувствует королева, какие беды на себя, на королевство навлекла она одним неосторожным жестом. Однако, если в здании подгнили устои, достаточно вырвать из стены один гвоздь, чтобы дом рассыпался.
* * *
Перед судом будет приоткрыт таинственный ящик Пандоры[184]. Его содержимое распространяет отнюдь не благоухание роз. Благоприятным для воровки оказывается одно-единственное обстоятельство: «благородный» супруг Ламотт вовремя сбежал в Лондон, прихватив с собой остатки колье. Тем самым отсутствуют улики, вещественные доказательства, и появляется возможность обвинить в воровстве и в обладании невидимым предметом другого, пустить тайный слушок: а не находится ли и сейчас колье в руках королевы? Чувствуя, что благородные господа постараются отыграться на ней, Ламотт, чтобы запутать дело, отвести от себя подозрение и сделать Рогана посмешищем, обвиняет в воровстве совершенно невиновного Калиостро и втягивает его в процесс. Она не брезгует никакими средствами. Свое неожиданное обогащение нагло и бесстыдно объясняет тем, что была любовницей его высокопреосвященства, – а ведь каждому известна щедрость этого любвеобильного священника! Дело для кардинала оборачивается по меньшей мере неважно, но тут удается наконец поймать сообщников – Рето и «баронессу д’Олива», маленькую модисточку. После их показаний все проясняется.
Одно имя, однако, и обвинение, и защита боязливо обходят – имя королевы. Каждый обвиняемый старательно избегает обвинить Марию Антуанетту хотя бы в самой малости; даже Ламотт – позже она заговорит иначе – отказывается от утверждения, что королева получила колье, как от преступной клеветы. Но как раз то, что они все, как сговорившись, с такими поклонами и столь почтительно говорят о королеве, оказывает на недоверчивое общественное мнение обратное действие. Все шире распространяется слух, что было дано указание «щадить» королеву. Уже поговаривают, будто кардинал великодушно взял вину на себя; а письма, которые он тайно приказал так поспешно сжечь, – все ли они были фальшивыми? Нет ли чего-нибудь – правда, неизвестно чего, – нет ли все же чего-то, пусть самой малости, подозрительного, относящегося непосредственно к личности королевы? Никакого значения не имеет, что все обстоятельства аферы полностью установлены, simper aliquid haeret[185]; именно потому, что на суде имя ее не упоминается, Мария Антуанетта незримо стоит перед судом.
* * *
Наконец наступает 31 мая, день, когда должен быть вынесен приговор. С пяти часов утра перед Дворцом правосудия стоит огромная толпа. Не только левый берег Сены, Понт-Нёф, но и правый берег реки заполнен нетерпеливыми людьми; конная полиция с трудом поддерживает порядок. По возбужденным и энергичным выкрикам из толпы судьи, а их шестьдесят четыре, уже на пути во дворец чувствуют всю важность для Франции судебного решения, которое они должны принять; однако еще более сильное предостережение ждет их в приемной большого зала совещаний, в grande chamre[186]. Там в траурных одеяниях шеренгами стоят девятнадцать представителей фамилий Роганов, Субизов и Лотарингского дома[187] и в глубоком молчании низко кланяются шествующим сквозь их ряды судьям. Их одежда, их позы говорят о многом. И эта немая мольба к суду, чтобы он своим приговором вернул роду Роганов находящуюся под угрозой честь, производит огромное впечатление на членов суда, в большинстве своем принадлежащих к высшей аристократии. И прежде чем начать совещание, они уже знают: народ и аристократия – вся страна ждет оправдательного приговора кардиналу.
Но тем не менее совещание длится шестнадцать часов, семнадцать часов должны ждать приверженцы Рогана во дворце и десятки тысяч толпящихся возле дворца – с пяти утра до десяти вечера. Ибо судьи стоят перед необходимостью принять решение, ведущее к серьезным последствиям. Что касается аферистки и ее сообщников, здесь вопрос ясен, у судей единодушное мнение. Маленькую модисточку охотно отпускают – уж очень она мила, да и в историю с переодеванием попала по глупости, не заподозрив в ней ничего дурного. Самым важным является решение о кардинале. Все согласны оправдать его, поскольку он, как доказано, не обманщик, а обманут сам. Разногласия возникают лишь при обсуждении формы оправдательного приговора, ибо в ней заключается большой государственный смысл. Партия двора требует – и не без основания, – чтобы оправдательный приговор сопровождался вынесением порицания за «недопустимую дерзость», так как со стороны кардинала неслыханной дерзостью было подумать, что королева Франции тайно от короля назначит ему свидание поздним вечером в парке. За отсутствие почтительности к священной особе королевы представитель обвинения требует от кардинала смиренного публичного покаяния перед grande chambre и отречения от всех должностей. Другая партия, партия противников королевы, желает прекратить дело. Кардинал был обманут, следовательно, он невиновен и безупречен. Такое полное оправдание несет в колчане отравленную стрелу. Поскольку кардинала оправдывают, то на основании всем известного поведения королевы можно напридумывать такое множество тайн и небылиц, что это поведет к публичному осуждению ее легкомыслия. Трудную задачу должно решить правосудие: если рассматривать поведение Рогана по меньшей мере как неуважение к монархине, то Мария Антуанетта отомщена; если полностью оправдать Рогана, то тем самым морально осуждается королева.
Это понимают судьи парламента, это понимают обе партии, это понимает нетерпеливый народ; приговор суда означает много больше, чем приговор по случайному, незначительному судебному делу. Выносится решение не по частному вопросу, а по вопросу, имеющему для своего времени огромное политическое значение: считает ли парламент Франции особу королевы все еще «священной», неприкосновенной или полагает, что она – личность, подсудная законам точно так же, как любой другой французский подданный. Грядущая революция впервые бросает отблески утренней зари на окна здания, частью которого является и замок Консьержери – страшная тюрьма, из которой Марию Антуанетту поведут на эшафот. Круг замыкается. В том же зале, где выносится приговор аферистке Ламотт, позже будет осуждена королева.
Шестнадцать часов совещаются судьи. Ожесточенно спорят стороны, имеющие разные мнения, защищающие разные интересы. Задолго до этого решающего дня обе партии, королевская и антикоролевская, приводят в действие все рычаги, используя при этом и подкуп; на протяжении недель оказывается давление на членов парламента, им угрожают, их подкупают, всячески обрабатывают, а на улицах уже распевают:
Наш красавчик кардинал за решетку вдруг попал. Ну, смекни-ка, почему угодил дружок в тюрьму? Потому что правит нами не закон – мешок с деньгами!Наконец многолетнее безразличие короля и королевы к парламенту оборачивается против монархов; слишком много среди судей таких, которые считают, что настало время публично и основательно проучить автократию. Двадцатью шестью голосами против двадцати двух – перевес очень небольшой – кардинала оправдывают полностью и безоговорочно, так же как его друга Калиостро и маленькую модистку – «баронессу д’Олива». Даже к сообщникам относятся мягко – они отделываются высылкой из страны. За все в полной мере отвечает Ламотт. Ей единогласно вынесен приговор: сечь плетьми, заклеймить буквой «V» (voleuse)[188] и пожизненно заточить в Сальпетриер[189].
Но оправдательный приговор кардиналу – это одновременно осуждение одной особы, не сидящей на скамье подсудимых, – Марии Антуанетты. С этого часа она, беззащитная, навсегда отдана клевете и безудержной ненависти своих противников.
* * *
Кто-то первый выбегает из зала с решением суда. Сотни следуют за ним, восторженно выкрикивают оправдательный приговор. Бурное ликование ширится, кипит, перебрасывается на правый берег Сены. По городу гремит новый клич: «Да здравствует парламент!» – вместо привычного: «Да здравствует король!» Судьи с трудом отбиваются от благодарного воодушевления. Их обнимают, рыночные торговки целуют их, цветами усыпают их путь; грандиозно выглядит победное, триумфальное шествие оправданных. За кардиналом, вновь облаченным в пурпур, словно за полководцем-победителем, следуют тысячи и тысячи возбужденных парижан, они провожают его в Бастилию, где ему придется провести последнюю ночь; до рассвета ждут его там ликующие толпы все время сменяющихся людей. Не менее торжественно приветствуют они и Калиостро, только вмешательство полиции препятствует иллюминации города в его честь. Так весь народ чествует двоих, заслуга которых перед Францией лишь в том – признак, внушающий опасение, – что они смертельно ранили авторитет королевы и королевской власти.
Тщетно пытается королева скрыть свое отчаяние: слишком оскорбительна эта публично данная пощечина. Камеристка видит Марию Антуанетту в слезах. Мерси докладывает в Вену: ее страдания «превышают те, которые можно оправдать разумом, зная их причину». Все глубже – инстинктивно, а не по размышлении – Мария Антуанетта начинает понимать непоправимость случившегося, понимать всю степень своего поражения; впервые, с тех пор как она носит корону, ее воля сломлена более сильным противником.
Но пока еще окончательное решение в руках короля. Еще может он энергичными мерами спасти оскорбленную честь своей жены и своевременно подавить глухое сопротивление; сильный король, решительная королева разогнали бы мятежный парламент – так поступил бы Людовик XIV, а возможно, и Людовик XV. Но Людовик XVI слабоволен. Он боится парламента и, чтобы дать хоть какое-то удовлетворение своей супруге, отправляет кардинала в ссылку, а Калиостро изгоняет из страны – полумера, которая разозлит парламент, не задев его по существу, и оскорбит правосудие, не реабилитируя чести королевы. Нерешительный король избегает крайних мер, а в политике это всегда ошибочно. Так выбран неверный путь, и вскоре сбудется в судьбах обоих супругов старое габсбургское проклятие, которое Грильпарцер так незабываемо изложил в стихах:
Проклятие висит над нашим благородным домом: Стремясь к вершине, колебаться, Бороться, но не до победного конца.Правильного решения король не нашел. Приговор парламента возвестил о начале новой эры.
* * *
И по отношению к Ламотт двор проявляет такую же роковую половинчатость. И здесь были две возможности: либо помиловать преступницу, великодушно избавить ее от страшного наказания – это произвело бы очень благоприятное впечатление, – либо публично осуществить акт наказания. Но вновь внутреннее замешательство заставляет двор прибегнуть к полумере. Едва установлен эшафот и тем самым народ узнаёт, что готовится варварский спектакль публичного клеймения, как ниши окон близлежащих домов начинают сдавать за фантастические деньги; но в последний момент двор пугается своей собственной смелости. В пять утра, то есть намеренно в такой час, когда нечего опасаться свидетелей, четырнадцать палачей тащат пронзительно кричащую и в исступлении рвущую на себе волосы женщину к лестнице Дворца правосудия, где ей зачитывается приговор – сечь плетьми и выжечь клеймо. Но на этот раз правосудие имеет дело с бешеной львицей: истеричка дико воет, извергает гнусную клевету на короля, королеву, кардинала, парламент, ее крики будят спящих в окружающих домах, женщина сопротивляется, кусается, отбивается ногами, с нее наконец срывают одежду, чтобы поставить клеймо. Но в момент, когда раскаленное железо касается ее спины, несчастная в ужасе бросается на палачей, являя свою наготу на потеху зрителям, и раскаленное клеймо с буквой «V» вместо плеча попадает на грудь. Взвыв от нестерпимой боли, она, словно неистовый зверь, прокусывает палачу куртку и лишается чувств. Как падаль, волокут ее, потерявшую сознание, в Сальпетриер, где она в соответствии с приговором в сером арестантском халате и деревянных башмаках всю жизнь должна будет работать за черный хлеб и чечевичную похлебку.
Едва становятся известны ужасные подробности этой процедуры наказания, все симпатии разом обращаются к Ламотт. Если полсотни лет назад, как пишет об этом Казанова, все высшее дворянство – кавалеры и дамы – четыре часа с жадностью следило за ужасными подробностями пыток и казни слабоумного Дамьена, поцарапавшего Людовика XV перочинным ножичком, забавлялось тем, как рвали его раскаленными клещами, обваривали кипящим маслом, как четвертовали агонизирующего, поседевшего внезапно, на глазах у всех, то теперь те же самые люди под влиянием филантропических веяний века проявляют трогательное сочувствие к «безвинной» Ламотт. Разгадка такой разительной перемены проста: счастливым образом найдена новая, совершенно безопасная форма фрондирования, выражения недовольства королевой – публично афишировать симпатию к «жертве», к «несчастной». Герцог Орлеанский устраивает публичное собрание, знать посылает в тюрьму подарки, каждый день к Сальпетриер подъезжают кареты аристократов. Посещение наказанной воровки считается dernier cri[190] парижского общества. Однажды аббатиса Сальпетриера среди знатных посетительниц с удивлением видит одну из ближайших подруг королевы – принцессу Ламбаль. Явилась ли она движимая какими-то внутренними побуждениями или же, как люди сразу стали говорить между собой, по тайному поручению Марии Антуанетты? Как бы то ни было, неуместное сострадание бросает тень на имя королевы. «Что означает это бьющее в глаза сочувствие? – спрашивают все. – Мучает ли королеву совесть? Ищет ли она тайного объяснения со своей жертвой?» Перешептывание не затихает. И когда несколько недель спустя странным образом какой-то неизвестный открыл ей ночью ворота тюрьмы – Ламотт бежит в Англию, – весь Париж говорит: королева спасла свою «подругу» в благодарность за то, что та на суде великодушно скрыла ее вину или соучастие в афере с колье.
* * *
В действительности же для королевы побег Ламотт оказался предательским ударом из-за угла, нанесенным, вероятно, со стороны клики заговорщиков. Ибо теперь не только открылся простор для досужих, полных таинственности недомолвок, рассуждений о соглашении королевы с воровкой, но и у самой Ламотт появилась возможность разыгрывать роль обвинительницы, безнаказанно печатать бесстыдную ложь и клевету. Более того, поскольку во Франции и в Европе имеется огромное количество любителей «разоблачений» подобного рода, она вновь может зарабатывать большие деньги. В первый же день ее появления в Лондоне один книгоиздатель предлагает ей солидный аванс. Напрасно пытается двор, понявший наконец всю силу клеветы, перехватить ядовитые стрелы. Фаворитка королевы, Полиньяк, посылается в Лондон, чтобы за двести тысяч ливров купить молчание аферистки, но ловкая мошенница вторично обманывает двор: берет деньги и незамедлительно издает свои «мемуары» трижды, каждый раз лишь несколько изменяя их форму и подбирая все более сенсационные заголовки. В этих «мемуарах» есть все, что желала бы прочесть падкая до скандалов публика, и даже сверх того. Процесс в парламенте был сплошным обманом, бедную Ламотт предали самым низким образом. Разумеется, королева заказала колье и получила его от Рогана, она же, Ламотт, воплощенная невинность, лишь из чисто дружеского побуждения призналась в якобы свершенном преступлении, чтобы спасти честь королевы. Свою близость с Марией Антуанеттой наглая лгунья объясняет именно так, как хочется похотливой толпе: more lesbico, альковной близостью. Не имеет никакого значения, что любому беспристрастному человеку совершенно очевидна абсурдность большинства этих утверждений, грубость и топорность фальсификации. Так, например, Ламотт утверждает, что Мария Антуанетта еще эрцгерцогиней находилась в любовной связи с Роганом, когда он был посланником в Вене, но ведь любой добросовестный человек с легкостью может установить, что посланник Роган прибыл в Вену после отъезда Марии Антуанетты в Версаль. Однако добросовестные люди стали редкостью. Широкая публика, напротив, восторженно читает десятки пахнущих мускусом любовных писем королевы Рогану, которые Ламотт фальсифицирует в своих «мемуарах», и чем больше пишет она о противоестественных склонностях королевы, тем больше хотят о них услышать. Пасквиль следует за пасквилем, один превосходит другой в непристойностях, низости и лжи. Вскоре публикуется «Перечень всех лиц, с которыми королева предавалась разврату». В списке тридцать четыре имени людей обоих полов – герцоги, актеры, лакеи, брат короля, королевский камердинер, Полиньяк, принцесса Ламбаль и, наконец, без обиняков «toutes les tribades de Paris»[191], в том числе не раз сеченные розгами уличные девки. Однако этот список, как выяснится далее, содержит не всех любовников, которых приписывает Марии Антуанетте искусно возбужденное мнение салонов и улицы. Если уж эротически воспаленная фантазия всего города, всей нации изберет жертвой какую-либо женщину, будь то императрица, кинозвезда, королева или оперная дива, то и нынче, как и в те времена, она присвоит этой женщине все мыслимые скандалы и половые извращения, чтобы с ханжеским негодованием в безымянном оргазме принять участие в смаковании приписываемой своей жертве похоти. Появляется пасквиль «La vie scandaleuse de Marie Antoinette»[192], в котором говорится о некоем ландскнехте, еще при австрийском императорском дворе успокоившем ненасытную fureurs utérines[193] тринадцатилетней девочки. Подробнейшим образом описывается «Bordel Royal»[194] (название еще одного пасквиля) с его mignons et mignonnes[195], и восхищенные читатели наслаждаются гравюрами порнографического содержания, на которых изображена обнаженная королева в любовных позах с различными партнерами. Все выше разлетаются брызги навозной жижи, все злобнее становится ложь, и всему этому верят, потому что хотят верить всему грязному, что можно только придумать, о «преступнице» – королеве.
Через два-три года после процесса по делу о колье репутацию Марии Антуанетты уже не спасти. Она ославлена как самая непристойная, самая развращенная, самая коварная, самая тираническая женщина Франции; продувная же бестия, клейменая Ламотт, напротив, оказывается безвинной жертвой. И едва начинается революция, клубы хотят пригласить в Париж беглую Ламотт, чтобы вновь провести процесс по делу о колье. На этот раз процесс должен будет слушаться перед Революционным трибуналом с Ламотт-обвинительницей и Марией Антуанеттой на скамье подсудимых. Лишь внезапная смерть Ламотт – страдая манией преследования, в припадке безумия она в 1791 году выбрасывается из окна[196] – мешает тому, чтобы эта выдающаяся авантюристка была пронесена восторженной толпой с триумфом по Парижу и чтобы ей был пожалован декрет «За заслуги перед республикой». Не вмешайся судьба, мир оказался бы свидетелем значительно более гротескного юридического фарса, нежели процесс по делу о колье: толпы народа восторженно приветствовали бы Ламотт, явившуюся на казнь оклеветанной ею королевы.
Народ пробуждается, королева пробуждается
Всемирно-историческое значение процесса об афере с колье заключается в том, что этот процесс бросил острый и яркий луч прожектора гласности на личность королевы, на окна Версаля; но в смутные времена очень опасно привлекать к себе внимание. Ведь, для того чтобы взяться за оружие, для того чтобы стать действием, недовольство – само по себе пассивное состояние – нуждается в телесном образе, безразлично, знаменосец ли это идеи или мишень для накопившейся ненависти – библейский козел отпущения. Таинственной сущности «народ» дано мыслить лишь человекоподобными образами: отвлеченные понятия никогда не воспринимаются им отчетливо. Только в образах эти понятия приобретают определенность, именно поэтому там, где народ чувствует какую-то вину, у него возникает потребность увидеть виновного. Французский народ давно уже смутно чувствует несправедливость власть имущих. Он многие годы послушно покорялся, надеялся на лучшие времена, с каждым новым Людовиком вновь восхищенно размахивал знаменами, безропотно отдавал феодалу и церкви все, что они от него требовали. Но чем ниже он сгибался, тем сильнее становился гнет, тем более жадно налоги сосали его кровь. В богатой Франции амбары были пусты, арендаторы нищали, на плодородной земле, под едва ли не самым прекрасным небом Европы крестьяне испытывали нужду в хлебе. Кто-то должен быть виноват: если одним недостает хлеба, значит другие слишком много жрут; если одни задыхаются, выполняя свои обязанности, значит должны быть другие, захватившие себе слишком много прав. Всю страну постепенно охватывает глухое беспокойство, обычно предшествующее всякому ясному мышлению. Третье сословие, которому Вольтер и Жан Жак Руссо открыли глаза, начинает самостоятельно рассуждать, порицать, читать, писать, познавать себя; иногда сверкают зарницы, предвещая большую грозу: грабят усадьбы, грозят феодалам. Великое недовольство, словно черная туча, давно уже нависло над страной.
Одна за другой две яркие молнии, сверкнув, помогают народу понять многое: процесс об афере с колье и разоблачения Калонна, связанные с дефицитом. Стесненный в своих реформах, а возможно, и из тайной неприязни ко двору, министр финансов впервые публикует суммы государственного долга. Теперь давно замалчиваемое становится известным всем: за двенадцать лет правления Людовика XVI государственный долг стал равен одному миллиарду двумстам пятидесяти миллионам. Побледнев от ужаса, стоит народ перед этой молнией. Израсходована астрономическая сумма – миллиард двести пятьдесят миллионов – кем, на что? Процесс об афере с колье дает ответ; бедняги, надрывающиеся по десять часов в сутки за пару су, узнают, что возлюбленной можно подарить бриллианты стоимостью в полтора миллиона, что есть в королевстве особы, покупающие дворцы за десять, за двадцать миллионов, народ же бедствует, терпит нужду. А так как всякий знает, что король, этот невзыскательный простак, этот мещанин по духу, никакого отношения не имеет к фантастическим тратам, то все негодование, нарастающее лавинообразно, народ грозит обрушить на блистательную, расточительную, легкомысленную королеву. Виновный в государственных долгах найден. Теперь ясно, почему хлеб дорожает, а налоги растут: потому что эта блудница-мотовка приказывает целую комнату в Трианоне облицевать бриллиантами, потому что она тайно послала своему брату Иосифу в Вену для войн сто миллионов, потому что она своих любовников и любовниц осыпает пенсионами, одаривает доходными должностями, теплыми местечками. Внезапно найдена причина несчастья, определен виновник финансовой катастрофы. По всей стране передается новое имя королевы – Мадам Дефицит. Так зовут ее теперь; словно клеймо, имя это горит на ее плече.
Разрываются тяжелые черные тучи: низвергается ливень брошюр, памфлетов, писем, предложений, петиций, никогда еще во Франции так много не говорили, не писали, не проповедовали; народ просыпается. Вернувшиеся из Америки добровольцы и солдаты в самых глухих деревушках рассказывают о демократической стране, в которой нет ни короля, ни двора, ни аристократии, лишь одни граждане, полное равенство и свобода. А разве не сказано совершенно ясно в «Общественном договоре»[197] Жана Жака Руссо, а более тонко, более скрытно – в произведениях Вольтера и Дидро, что королевская власть ни в коем случае не является единственной угодной Богу и лучшей из всех существующих на земле? Старое, безмолвно склонившееся благоговение впервые с любопытством приподнимает голову; и аристократия, и народ, и третье сословие проникаются пока еще не полностью осознанным чувством уверенности в себе. Тихие перешептывания в масонских ложах, в парламентах провинций постепенно перерастают в ропот, далеко повсюду слышны раскаты грома, в воздухе скапливается электрический заряд. «Что при этом недуге чудовищно растет, – докладывает посланник Мерси в Вену, – так это возбуждение умов. Можно сказать, что агитация постепенно охватила все классы общества, и это лихорадочное беспокойство дает парламенту силы упорствовать в своих требованиях. Трудно поверить, с какой дерзостью, открыто, даже в общественных местах, высказываются о короле, принцах и министрах, критикуют их расходы, самыми черными красками расписывают расточительство двора и настаивают на необходимости созыва Генеральных штатов[198], как если бы страна была без правительства. Какими-либо мерами наказания пресечь эту свободу речи сейчас уже невозможно, ибо лихорадка стала повсеместной. Даже если тысячи людей бросить в тюрьмы, это не улучшит положения, а ухудшит его, ибо вызовет гнев народа, восстание при этом вспыхнет непременно».
Теперь всеобщее недовольство уже не нуждается в маске, осторожность ему не требуется, оно выступает открыто и говорит то, что желает сказать: даже внешние формы выражения подданнических чувств уже не соблюдаются более. Когда вскоре после процесса об афере с колье королева впервые появится в своей ложе, ее так ошикают, что после этого она предпочтет театр не посещать. Когда мадам Виже-Лебрен захочет выставить в салоне[199] написанный ею портрет Марии Антуанетты, вероятность публичных оскорблений этого портрета Мадам Дефицит окажется столь большой, что картину придется спешно увезти. В будуаре, в Зеркальном зале Версаля – всюду Мария Антуанетта чувствует холодную враждебность уже не за спиной, а открыто, прямо в лицо. Наконец она испытывает еще больший позор: лейтенант полиции в туманных выражениях докладывает королеве, что было бы благоразумно некоторое время не посещать Париж, ибо если возникнут какие-либо инциденты, то нельзя будет поручиться за ее безопасность. Все накопившееся возбуждение целой страны лавиной обрушивается на одного человека, и внезапно королева, очнувшись от полузабытья беспечности, избитая, исхлестанная шпицрутенами ненависти, пишет в отчаянии своим последним преданным друзьям: «Что им надо от меня?.. Что сделала я им?..»
* * *
Чтобы вывести Марию Антуанетту из ее высокомерного апатичного laisser-aller[200], с неба должен ударить гром. Вот сейчас она приходит в себя, сейчас начинает постепенно отличать дурные советы от хороших, мимо которых когда-то прошла, начинает понимать, что́ было упущено, и с присущей ей нервозной внезапностью явно спешит исправить наиболее раздражающие ошибки. Прежде всего одним росчерком пера она сокращает свои весьма значительные личные расходы. Отказывается от услуг мадемуазель Бэртэн, ограничивает траты на гардероб, на содержание дома, на конюшню, что дает экономию более миллиона в год. Вместе с банкометами из салона исчезают азартные игры, прекращается новое строительство в замке Сен-Клу, другие замки с поспешностью продаются, упраздняется целый ряд ненужных должностей, в первую очередь должности, занимаемые фаворитами Трианона. Впервые Мария Антуанетта живет, прислушиваясь к тому, что говорят вокруг нее, впервые следует не велениям старой власти, моде света, а новой моде – общественному мнению. Уже при первых испытаниях для нее проясняется истинная сущность прежних друзей, которых она в ущерб своей репутации десятилетиями осыпала благодеяниями, – эти обиралы совсем не выказывают понимания государственных реформ, выполняемых за их счет. «Просто невыносимо, – совершенно открыто ропщет один из этих наглых подхалимов, – жить в стране с такими порядками, когда не знаешь, будешь ли завтра обладать тем, что принадлежало тебе вчера». Но Мария Антуанетта не отступает. С тех пор как она смотрит на мир открытыми глазами, она многое начинает понимать лучше. Она отстраняется от рокового общества Полиньяк и вновь приближает к себе старых советчиков – Мерси и давно уже ушедшего на покой Вермона: похоже, что наконец-то, с большим запозданием, она поняла ценность советов своей матери, императрицы Марии Терезии.
«Слишком поздно» – эти роковые слова будут теперь ответом на любые ее усилия. Во всеобщей сумятице все эти маленькие самоотречения остаются незамеченными, в спешке собираемые крохи экономии исчезают, словно капли в чудовищной бочке Данаид, в бездонной бочке дефицита. И испуганный двор начинает понимать, что отдельными, случайными мерами не спастись, нужен Геркулес, который смог бы наконец откатить колоссальный валун дефицита. Один министр финансов сменяет другого, но все они обращаются к средствам, способным помочь лишь на весьма короткое время, к средствам, известным и нам по практике вчерашнего и сегодняшнего дня иных современных нам государственных деятелей (история всегда повторяется): колоссальным займам, создающим видимость оплаты существующих долгов, бесцеремонным обложениям и огромным налогам, выпуску ассигнат[201] и переплавке золотой монеты, обесценивающей ее, то есть инфляции в скрытой форме. Но поскольку в действительности болезнь обусловлена более глубокими причинами – неправильным оборотом, нездоровым распределением экономических ценностей внутри страны, накоплением в руках нескольких десятков феодальных семей большей части национального богатства – и поскольку финансовые лекари на хирургическое вмешательство не решаются, бессилие государственной казны остается хроническим. «Когда расточительство и легкомыслие истощили королевскую казну, – пишет Мерси, – поднялся крик отчаяния и страха. Тогда министры финансов обратились к убийственным мерам, таким, например, как недавний выпуск неполноценной золотой монеты или введение новых налогов. Эти кратковременно действующие средства слегка и ненадолго уменьшают трудности, государственные же мужи с поразительной легкостью из положения безысходного отчаяния переходят в состояние величайшей беспечности. Безусловно, по бесхозяйственности и злоупотреблениям существующее правительство перещеголяло старое, и невозможно себе представить, чтобы это состояние вещей осталось без изменений и далее, обязательно следует ждать катастрофы». Однако чем глубже сознает двор приближение краха, тем смятеннее чувствует он себя. Наконец-то, наконец-то начинают понимать: недостаточно сменить министров – надо менять систему. Перед самым банкротством уже перестают требовать от страстно ожидаемого спасителя принадлежности к знатной семье, а хотят прежде всего, чтобы он – новое понятие для французского двора – был популярным и внушал доверие этому таинственному, неизвестному и опасному существу – народу.
Такой человек есть, при дворе его знают, более того, однажды – в беде – даже пользовались его советами, хотя он из буржуазной семьи, иностранец, швейцарец и – что в тысячу раз досаднее – настоящий еретик, кальвинист. Но министры были тогда не в очень-то большом восторге от этого чужака, и, поскольку в своем «Compte rendu»[202] он слишком подробно описал нации их шабаш ведьм, они быстро избавились от него. На оскорбительно маленьком листке почтовой бумаги разозленный швейцарец послал тогда королю свое прошение об отставке; эту непочтительность Людовик XVI не может ему забыть и длительное время категорически заявляет, а может быть, даже клянется никогда более не пользоваться услугами Неккера.
Но сейчас, как никогда, Неккер как раз тот человек, без которого не обойтись; королева наконец-то понимает, как нужен именно ей министр, который смог бы успокоить этого дико рычащего зверя – общественное мнение. Ей следует преодолеть внутреннее сопротивление, прежде чем настаивать на своем выборе, ведь и предыдущий, так быстро потерявший популярность министр Ломени де Бриенн был призван королем лишь под ее влиянием. Не придется ли ей в случае повторной неудачи вновь взять ответственность на себя? Но, постоянно видя своего супруга колеблющимся, она решительно, словно к яду, обращается к этому опасному человеку. В августе 1788 года вызывает она Неккера к себе в личный кабинет и использует все искусство убеждать, чтобы склонить обиженного человека принять ее предложение. В эти минуты Неккер переживает двойной триумф: королева не приказывает, а просит, и весь народ требует его. «Да здравствует Неккер!», «Да здравствует король!» – гремит этим вечером в галереях Версаля, на улицах Парижа, как только становится известным его назначение.
Лишь королеве недостает мужества принять участие в ликовании; слишком пугает ее ответственность – взять в неопытные руки руль управления судьбой страны. И еще, при упоминании имени швейцарца ее охватывает почему-то необъяснимое предчувствие какой-то беды: инстинкт сильнее разума. «Я трепещу при мысли, – пишет она в тот же день Мерси, – что это я настояла на его возвращении. Мой рок – приносить несчастье, и, если вновь коварные интриги помешают ему осуществить задуманное для спасения королевства или же он нанесет ущерб авторитету короля, меня возненавидят еще больше».
* * *
«Я трепещу при мысли», «извините мне эту слабость», «мой рок – приносить несчастье», «мне очень важно, чтобы такой добрый и верный друг, как Вы, поддержал меня в этот момент» – такое мы никогда не встречали в письмах Марии Антуанетты, никогда не слышали от нее. Этот новый тон – голос человека, потрясенного до глубины души, это уже не беспечный голос смеющейся, избалованной молодой женщины. Мария Антуанетта уже отведала от горького яблока с древа познания, теперь и следа нет от ее сомнамбулической беззаботности, ибо бесстрашен лишь тот, кто не осознает опасности. Только сейчас она начинает понимать, какую огромную цену надо платить за высокое положение: впервые ответственность делает такой тяжелой корону – корону, которую она до сих пор носила, словно модную шляпку от мадемуазель Бэртэн. Каким нерешительным стал ее шаг, когда она почувствовала глухие вулканические толчки под зыбкой почвой: не остановиться ли, не отбежать ли назад? Не лучше ли остаться в стороне от любых активных действий, навсегда уйти от политики и ее мрачных дел, не принимать более решений, которые кажутся такими простыми, а приводят к опаснейшим последствиям? Поведение Марии Антуанетты меняется неузнаваемо. Ранее счастливая в шуме и сутолоке, она ищет теперь тишины и уединения. Она избегает театра, балов и маскарадов, она не желает присутствовать в Государственном совете короля; она может дышать лишь в кругу своих детей. В эту наполненную смехом комнату не проникает смрад ненависти и зависти. Матерью она чувствует себя увереннее, чем королевой. С запозданием еще одну тайну открыла для себя разочарованная женщина: впервые появляется человек, который возбуждает в ней глубокие чувства, успокаивает смятение, дает ей счастье, появляется настоящий друг, близкий ей духовно. Казалось бы, теперь все будет хорошо, можно тихо жить в узком, безыскусном кругу, не испытывать судьбу, этого таинственного противника, с могуществом и коварством которого она впервые столкнулась.
Но именно теперь, когда ее сердце алчет тишины, барометр времени указывает на бурю. Именно в тот час, когда Мария Антуанетта увидела свои ошибки и хочет отступить, чтобы стать незаметной, неумолимая воля выталкивает ее вперед, бросает в самый водоворот волнующих событий истории.
Лето больших решений
Поставленный королевой в час горьких испытаний у кормила государственной власти Неккер решительно направляет корабль против бури. Он не приспускает боязливо паруса, он не лавирует: полумеры более не помогают, нужна одна мера – решительная и крайняя – полная переориентация доверия. В эти последние годы центр тяжести национального доверия уже не в Версале. Нация не верит более ни обещаниям короля, ни его долговым обязательствам, ни его ассигнатам, она не надеется более ни на парламент аристократов, ни на собрание нотаблей[203]. Должен быть создан новый авторитет – хотя бы временный, – чтобы укрепить кредит, уменьшить анархию, ибо суровая зима ожесточила народ; в любой момент отчаяние людских толп, оставивших деревни и голодающих сейчас в городах, может вылиться в бунт, в мятеж. И, после обычных для него колебаний, король в последний час решает созвать Генеральные штаты, вот уже два столетия по существу действительно представляющие весь народ. Чтобы с самого начала лишить преимущества тех, в чьих руках сейчас сосредоточены богатство и власть, – первое и второе сословия, аристократию и духовенство, – король по совету Неккера удваивает представительство третьего сословия. Таким образом обе силы уравниваются, и монарх благодаря этому сохраняет за собой право окончательного решения. Созыв Национального собрания[204], уменьшая ответственность короля, должен усилить его авторитет. Так думает двор.
Но народ думает иначе. Впервые чувствует он себя призванным к управлению государством и отлично понимает: короли пользуются советом народа лишь в исключительных случаях, оказавшись в отчаянном положении. Таким образом, на нацию возлагается чудовищно трудная задача, и создается положение, которое никогда более не повторится. Народ полон решимости использовать его. Хмель воодушевления бушует в городах и деревнях, выборы превращаются во всенародный праздник, собрания становятся очагами национально-религиозных волнений, – как всегда перед большим ураганом, природа дарит самые многоцветные, самые обманчивые утренние зори. Наконец начинается приобщение народа к власти. 5 мая 1789 года, в день открытия Генеральных штатов[205], Версаль уже более не только резиденция короля, а столица, мозг, сердце, душа всего государства.
Никогда до сих пор маленький городок Версаль не видал сразу так много народу, как в этот сверкающий весенний день 1789 года. В штате королевского двора – четыре тысячи человек, Франция послала почти две тысячи депутатов, а из Парижа и из сотни других городов, городков, из поместий и замков все прибывают и прибывают бесчисленные любопытные, желающие принять участие во всемирно-историческом зрелище. С большим трудом за кошелек золотых удается снять комнату, за пригоршню дукатов – купить соломенный тюфяк. Сотни прибывших, не найдя квартиры, спят под арками ворот, многие, несмотря на проливной дождь, еще ночью встают рядами вдоль дороги, чтобы только не пропустить такое зрелище. Продукты питания дорожают втрое, вчетверо, наплыв людей становится непереносимым. Уже сейчас обнаруживается символичность создавшегося положения: этот крошечный провинциальный городок рассчитан лишь на одного властелина Франции, не на двух. Один из них вынужден будет в конце концов освободить место: королевская власть или Национальное собрание.
* * *
Но сначала следует продемонстрировать не раздор, а великое примирение короля и народа. 4 мая с самого раннего утра благовестят колокола: прежде чем приступить к государственным делам, должно испросить Господнее благословение великому начинанию. Весь Париж пришел в Версаль, чтобы рассказывать потом детям и детям детей об этом дне, о первом дне нового века. В окнах, с подоконников которых спущены великолепные ковры, теснятся люди, голова к голове; невзирая на опасность для жизни, гроздьями висят на дымовых трубах, никто не хочет упустить ни одной подробности грандиозной процессии. И действительно, она великолепна, эта праздничная демонстрация сословий; в последний раз двор Версаля развертывает перед зрителями всю свою роскошь, чтобы убедительно показать народу истинное величие наследственной власти. В десять утра королевский поезд покидает дворец, впереди верхами пажи в своих пламенных ливреях, сокольничие с соколами на поднятых вверх кулаках, затем, запряженная чудесно украшенными лошадьми с цветными, колеблющимися султанами на крупах, медленно и величественно катит роскошная, с застекленными окнами, золоченая карета короля. Справа от короля сидит старший из его братьев, на козлах – младший брат, на заднем сиденье – юные герцоги Ангулемский, Берри и Бурбон. Ликующие крики «Да здравствует король!» бурно приветствуют эту первую карету. Отношение ко второй карете, карете с королевой и принцессами, поражает контрастом: люди встречают карету суровым и озлобленным молчанием. Уже в этот утренний час общественное мнение проводит четкую линию раздела между королем и королевой. Таким же молчанием встречает толпа и следующие кареты, медленно и торжественно едущие с остальными членами королевской семьи в церковь Нотр-Дам, где представители трех сословий, две тысячи человек, каждый с зажженной свечой в руке, ждут двор, чтобы единой процессией пройти по городу.
Кареты останавливаются у церкви. Вышедшим из них королю, королеве и двору предстает необычное зрелище. Депутаты от дворянского сословия, хорошо знакомые им по празднествам и балам, великолепны в своих шелковых, шитых золотом плащах, поля шляп с белыми перьями дерзко загнуты вверх. Хорошо знакома им также красочная, яркая роскошь духовенства – пламенеющий пурпур кардинальских мантий, фиолетовые сутаны епископов; оба сословия, первое и второе, столетиями верноподданно окружают трон, с давних пор украшают его празднества. Но что это за толпа людей в подчеркнуто скромной, черной одежде, с белыми шейными платками, кто они, эти чужие люди, со своими простыми треуголками, пока еще каждый в отдельности безымянный, кто они, эти незнакомцы, стоящие перед церковью черной сплоченной массой? Какие мысли таят эти чужие, никогда ранее не встречавшиеся люди со смелыми, ясными и даже суровыми взглядами? Король и королева разглядывают противников, сильных своей спаянностью, не склоняющихся рабски перед королевской четой, не приветствующих ее кликами восторга, упорно, молча ждущих, чтобы на равных правах с этими разряженными гордецами, с привилегированными и прославленными особами приступить к делу возрождения нации. Не похожи ли они, в своей мрачной, черной одежде, со своей серьезной, непроницаемой сущностью, более на судей, чем на послушных советчиков? Вероятно, при этой первой встрече с ними король и королева уже с содроганием предчувствуют свою судьбу.
Но эта первая встреча еще не начало военных действий: перед неизбежной битвой должен быть установлен час единодушия. Гигантская процессия – две тысячи человек, каждый с зажженной свечой в руке – степенно и серьезно проходит короткий путь от церкви до церкви, от Нотр-Дам-де-Версаля до собора Святого Людовика, вдоль рядов французских и швейцарских гвардейцев. Над ними – благовест колоколов, возле них – барабанная дробь, кругом – сверкание шитья мундиров, и лишь церковное пение священников – единственное, что отличает это празднество от военного парада.
Длинную процессию возглавляют – последние да будут первыми! – депутаты от третьего сословия. Они движутся двумя параллельными колоннами, за ними – депутаты от дворян, затем – депутаты от духовенства. Когда проходят последние – от представителей третьего сословия, в народе возникает (отнюдь не случайное) движение, зрители разражаются бурными кликами ликования. Причина воодушевления – герцог Орлеанский, человек, изменивший аристократии: принц крови из демагогических соображений предпочел ряды третьего сословия королевской семье. Даже короля, шествующего за балдахином со святыми дарами – их несет архиепископ Парижский в облачении, усыпанном бриллиантами, – не встречают со столь явным восхищением, как того, кто этим своим поступком открыто перед народом высказался за нацию, выступил против королевского авторитета. Чтобы подчеркнуть эту тайную неприязнь ко двору, иные, едва приближается к ним Мария Антуанетта, вместо «Vive la reine!»[206] нарочито громко выкрикивают имя ее врага: «Да здравствует герцог Орлеанский!» Сильно уязвленная этим, Мария Антуанетта приходит в смятение и бледнеет. С трудом удается ей сохранить внешнюю невозмутимость и пройти весь путь унижения с высоко поднятой головой. Однако на следующий день при открытии Национального собрания ее ожидает новое оскорбление. Если появление короля в зале вызывает воодушевление, то при ее появлении наступает гробовое молчание: ледяное молчание встречает ее, словно пронизывающий сквозняк. «Voilà la victime»[207], – бормочет Мирабо своему соседу, и даже самый нейтральный человек из присутствующих в зале, американец Гавернер Моррис, просит своих французских друзей проявить мужество, нарушить оскорбительное молчание. Но безуспешно. «Королева плакала, – запишет этот сын свободной нации в своем дневнике, – и ни один голос не поднялся в ее защиту. Я хотел что-нибудь предпринять, но не имею права выражать здесь свои чувства. Я тщетно просил своих соседей сделать это». И, словно на скамье подсудимых, три нескончаемых часа должна королева Франции сидеть перед представителями народа, не услышав от них ни единого слова приветствия, не чувствуя малейших проявлений уважения или внимания к себе, и, лишь когда она поднимется после бесконечно длинной речи Неккера, чтобы вместе с королем покинуть зал, несколько депутатов из сострадания несмело крикнут: «Vive la reine!» Тронутая Мария Антуанетта поблагодарит этих немногих кивком головы, и ее жест вызовет наконец бурю восторженных кликов всех присутствующих. Но, возвращаясь во дворец, Мария Антуанетта не переоценивает эти знаки внимания: очень уж отчетливо чувствует она разницу между нерешительными приветствиями из сострадания и большим, теплым, волнующим потоком народной любви, который однажды, когда она только-только появилась во Франции, покорил ее детское сердце. Теперь она твердо знает, что великое умиротворение не для нее, начинается битва не на жизнь, а на смерть.
* * *
Всем, кто видел Марию Антуанетту в эти дни, бросается в глаза, запоминается ее растерянность, встревоженность. При открытии Национального собрания она, величественная и прекрасная, появляется во всей королевской роскоши – в фиолетово-бело-серебряном платье, в великолепном головном уборе из страусовых перьев. Но мадам де Сталь все же замечает печальное выражение лица и подавленность в поведении королевы – черты, столь чуждые этой обычно веселой и кокетливой молодой женщине. И действительно, лишь с трудом, ценой огромного напряжения воли, Мария Антуанетта принуждает себя находиться в Национальном собрании; ее мысли, ее заботы в эти дни совсем в другом месте. Она знает, что, в то время когда ей приходится часами, по долгу своего положения, быть на виду у всего народа, в Медоне, в маленькой кроватке, мучительно умирает ее старший сын, шестилетний дофин. Уже в прошлом году она испытала тяжесть утраты одного из своих детей – одиннадцатимесячной принцессы Софи Беатрис, и вот вторично смерть прокрадывается в детскую за своей жертвой. Первые признаки предрасположения к рахиту обнаружились у ее первенца уже в 1788 году. «Мой старший сын очень беспокоит меня, – писала она тогда Иосифу II. – Он несколько горбится, одно бедро выше другого, а позвонки на спине немного смещены и выдаются вперед. С недавних пор его все время лихорадит, он худ и слаб». Затем наступает обманчивое улучшение, но вскоре у матери уже не остается никакой надежды. Торжественная процессия при открытии Генеральных штатов, это красочное, необычное зрелище, является последним развлечением бедного больного ребенка; закутанный в плащ, обложенный подушками, давно уже слишком слабый, чтобы ходить, он может еще, сидя на балконе королевских конюшен, видеть своими усталыми, лихорадочно блестящими глазами отца, мать, сверкающие ряды гвардейцев. Через месяц его похоронят. Все эти дни в мыслях Марии Антуанетты – близкая, неотвратимо близкая смерть; все заботы матери – только об умирающем ребенке. Глупая, время от времени вновь воскрешаемая легенда о том, что Мария Антуанетта в эти недели страшного материнского и человеческого горя с утра до вечера плела коварные интриги против собрания, лишена психологической правды. В те дни ее боевой дух сломлен материнскими страданиями. Лишь позже, совершенно одна, совершенно отчаявшись, борясь за жизнь, за королевство своего мужа и второго своего ребенка, вновь соберет она все свои силы для последнего сопротивления. Сейчас же силы ее иссякли, а как раз в эти дни от несчастной, растерянной женщины требуются нечеловеческие усилия, чтобы остановить неудержимо надвигающийся рок.
Ибо события следуют одно за другим со стремительностью горного потока. Уже несколько дней спустя между обоими привилегированными сословиями и третьим возникает ожесточенная распря; изолированное третье сословие самовольно объявляет себя Национальным собранием и в Зале для игры в мяч[208] клянется не распускать себя, прежде чем не будет выполнена воля народа, прежде чем не будет принята конституция. Двор приходит в ужас от демона-народа, которого сам же привел к себе в дом. Разрываемый во все стороны своими зваными и незваными советчиками, сегодня отдавая предпочтение третьему сословию, завтра – первому и второму, колеблясь роковым образом как раз в момент, требующий чрезвычайной ясности мышления и воли, чтобы принять решение, король попеременно склоняется то к воинствующим хвастунам, требующим по старым канонам надменности и высокомерия гнать чернь обнаженными клинками по домам, то к Неккеру, который снова и снова призывает к уступкам. Сегодня король закрывает перед третьим сословием зал совещаний, затем отменяет свое решение, испугавшись заявления Мирабо: «Национальное собрание уступит лишь силе штыков». Но одновременно с нерешительностью двора растет решимость нации. Неожиданно немой гигант – народ – благодаря свободе печати обрел голос, в сотнях брошюр кричит он о своих правах, в пламенных газетных статьях разряжает свою мятежную ярость. В Пале-Рояле под защитой хозяина, герцога Орлеанского, ежедневно собираются тысячи говорящих, кричащих, агитирующих, непрерывно друг друга подстрекающих людей. До сих пор неизвестные, на протяжении всей своей жизни не открывавшие рта, они обнаруживают вдруг желание говорить, писать. Честолюбцы, люди без определенных занятий чувствуют, что пришел удобный час, все они занимаются политикой: агитируют, читают, дискутируют, ораторствуют. «Каждый час, – пишет англичанин Артур Юнг, – появляется новая брошюра, сегодня их вышло тринадцать, вчера – шестнадцать, на прошлой неделе – девяносто две, и девятнадцать из двадцати говорят в пользу свободы», – это значит за ликвидацию привилегий, в том числе и монархических. Каждый день, каждый час уносит какую-то долю королевского авторитета, слова «народ» и «нация» за две-три недели из холодных сочетаний букв стали для сотен тысяч религиозными понятиями беспредельной силы и высшей справедливости. Уже офицеры, солдаты втягиваются в непреоборимое движение, уже служащие городского самоуправления и государственные чиновники в смущении замечают, что с пробуждением народа бразды правления ускользают из их рук, даже само Национальное собрание попадает в это течение, теряет продинастический курс и начинает колебаться. Все трусливее становятся советчики в королевском дворце, и, как обычно, духовная неуверенность пытается спастись, утвердиться, используя силовой прием: король стягивает последние надежные, оставшиеся верными ему полки, дает приказ держать Бастилию в готовности и наконец, для того чтобы уверить себя, бессильного, в своей силе, бросает нации вызов – освобождает 11 июля от занимаемой должности единственного популярного министра, Неккера, и как преступника высылает его.
* * *
События последующих дней навечно высекаются на страницах всемирной истории; правда, в одной книге того времени, в рукописном дневнике роковым образом ничего не подозревающего короля, никакого отражения этим событиям не найти. Там под датой 11 июля записано лишь: «Ничего нового. Отъезд господина Неккера», а под датой 14 июля – дня взятия Бастилии, когда власть короля окончательно пала, – опять то же трагическое слово: «reine», что означает: никакой охоты в этот день, ни одного загнанного оленя, следовательно, никаких сколько-нибудь значительных событий. В Париже об этом дне думают иначе, ибо и поныне вся нация празднует его как день рождения своей свободы. 12 июля в первой половине дня по Парижу разносится весть об отставке Неккера – искра падает в бочку с порохом. В Пале-Рояле Камилл Демулен, один из клубных друзей герцога Орлеанского, призывает всех к оружию, он вскакивает на кресло, размахивает пистолетом и кричит, что король готовит Варфоломеевскую ночь[209]. Немедленно появляется символ восстания – кокарда[210], принимается трехцветное знамя республики; несколькими часами позже к восставшим присоединяются военные, взяты штурмом арсеналы, забаррикадированы улицы. 14 июля двадцать тысяч человек направляются от Пале-Рояля к ненавистному оплоту старого режима – Бастилии. Ее берут штурмом после нескольких часов осады, и голова коменданта, пытавшегося ее защищать, пляшет на острие пики – впервые этот кровавый светильник освещает путь революции[211]. Никто теперь не отваживается оказать сопротивление стихийному взрыву народного гнева; войска, не получившие из Версаля никакого ясного приказа, отводятся назад; вечером празднично освещенный Париж отмечает победу.
В Версале, в десятке миль от места, где разыгрываются события мирового значения, никто ни о чем не подозревает. Неудобного министра убрали, теперь наступит мир, скоро можно будет опять отправиться на охоту, надо надеяться – уже завтра. Но вот от Национального собрания являются гонец за гонцом: в Париже беспорядки, громят арсеналы, толпы идут к Бастилии. Король выслушивает эти сообщения, но правильного решения не принимает; для чего же, собственно, существует это несносное Национальное собрание? Именно оно должно дать совет. Как всегда, так и сейчас, в эти дни, распорядок, освященный столетиями, расписанный по часам, не меняется; как всегда, этот ленивый, флегматичный и абсолютно ничем не интересующийся человек – завтра все встанет на свое место – в десять вечера ложится спать и спит крепко. Никакие события мировой важности не в состоянии нарушить этот сон, сделать его беспокойным. Но что за времена, сколько дерзости, бесцеремонности, анархии! Подумать только, люди стали настолько непочтительны, что отваживаются даже помешать сну монарха. Герцог Лианкур мчится на взмыленной лошади к Версалю с донесением о парижских событиях. Ему объясняют – король уже спит. Он настаивает – короля необходимо немедленно разбудить; наконец его впускают в священные покои. Он докладывает: «Бастилия взята штурмом, комендант убит! Его голову носят на острие пики по городу!»
«Но ведь это мятеж!» – испуганно лепечет злополучный властелин.
Но вестник несчастья сурово и безжалостно поправляет: «Нет, сир, это революция».
Друзья бегут
Над Людовиком XVI много глумились: будто бы он 14 июля 1789 года, перепуганный известием о падении Бастилии, со сна не сразу постиг смысл этого недавно появившегося слова – «революция». Но Морис Метерлинк в знаменитой книге «Мудрость и судьба» пишет, что иные умники, «располагая точными сведениями о последствиях, к которым привели такие-то обстоятельства, очень легко подскажут задним числом, как следовало бы себя вести».
Несомненно, что ни король, ни королева при первых толчках начинающегося землетрясения не могли представить себе, даже очень приблизительно, тех разрушений, которые оно повлечет за собой. Но возникает другой вопрос: чувствовал ли в этот первый час хоть кто-нибудь из современников огромную значимость событий, надвигающихся на мир, понимали ли это даже те, кто первый заронил искру, кто развязал революцию? Все вожди нового народного движения – Мирабо, Байи, Лафайет – совершенно не подозревали, как далеко уведет их раскованная ими сила, как далеко увлечет она их за собой вопреки их воле, ведь даже Робеспьер, Марат, Дантон, впоследствии самые неистовые революционеры, в 1789 году были еще совершенно убежденными роялистами. Лишь благодаря французской революции само понятие «революция» получило тот широкий, емкий, всемирно-исторический смысл, в котором мы теперь это слово используем. Лишь время сделало это понятие полнокровным, одухотворило его. Но произошло это, конечно, не в первый час его рождения. Вот удивительный парадокс: роковым для Людовика XVI стало не то, что он не смог понять революцию, а как раз противоположное – что он, человек со средними способностями, самым честным образом пытался понять ее. Людовик XVI охотно читал книги по истории, и в детстве на застенчивого мальчика произвело глубокое впечатление то, что однажды ему был представлен знаменитый господин Давид Юм, автор «Истории Англии», автор любимой книги дофина. Еще дофином Людовик с особым, напряженным вниманием прочел в ней ту главу, в которой повествовалось о восстании против другого короля, Карла Английского, и о его казни: этот пример воспринимался нерешительным престолонаследником как очень серьезное предостережение. И когда затем в его собственной стране начались волнения, Людовик XVI полагал, что наилучшим образом обезопасит себя, непрерывно перечитывая эту книгу, дабы на ошибках несчастного Карла понять, как не следует королю вести себя в условиях восстания: там, где тот проявлял вспыльчивость, он хотел быть мягким, надеясь таким образом избежать ужасного конца. Но именно это желание понять французскую революцию по другой, имевшей совершенно отличный от нее характер, оказалось для короля фатальным, ибо повелитель должен принимать решения в исторические секунды не по старым рецептам, не по образцам, которые никогда не имеют практической ценности. Лишь пророческий взгляд гения способен распознать в современности спасительное и правильное решение, лишь действие, героически преступающее существующие нормы, способно укротить дикие, хаотические силы стихии. Но никогда заклинаниями бури не прекратить, не укротить ее, убрав паруса; она будет бушевать с неослабной силой, пока наконец сама не истощится и не успокоится.
* * *
Вот в чем трагедия Людовика XVI: он хотел понять непонятное ему, обращаясь для этого к истории как к учебнику, он хотел защититься от революции, боязливо отрекаясь от всего королевского в своем поведении. Трагедия же Марии Антуанетты в другом: она не искала советов ни у книг, ни у людей. Вспоминать и предугадывать даже в момент величайшей опасности – не в ее характере, любые расчеты, любые комбинации чужды ее стихийной натуре. Ее сила – в одном инстинкте. И с первого же мгновения революции этот инстинкт говорит ей резкое, категоричное «нет». Рожденная в императорском дворце, воспитанная в божьей благодати, в убеждении о своей богоизбранности, она, не раздумывая, любые притязания нации рассматривает как непристойное возмущение черни: тот, кто сам претендует на все свободы и права, не расположен признавать их для других ни внутренне, ни внешне. Мария Антуанетта не желает быть втянутой в дискуссию; подобно своему брату Иосифу, сказавшему: «Mon métier est d’être royaliste»[212], она говорит: «Моя единственная задача – держаться точки зрения государя». Ее место – наверху, место народа – внизу; она не желает вниз, народ не смеет стремиться наверх. От взятия Бастилии до эшафота – все это время, до последней секунды – она чувствует себя непоколебимо правой. Нового движения она не принимает и не понимает: революция и бунт для нее синонимы.
Это высокомерно жесткое, это непоколебимо упрямое отношение Марии Антуанетты к революции не содержит, однако (по крайней мере, сначала), ни малейшей враждебности к народу. Выросшая в уютной Вене, Мария Антуанетта представляет себе народ – le bon peuple – как вполне благонравное, не очень разумное существо; она абсолютно убеждена, что в один прекрасный день славное стадо, разочаровавшись в этих подстрекателях и болтунах, отвратится от них и вернется к своим добрым яслям, к своему исконному государю. Поэтому вся ее ненависть обращена против factieux – против этих мятежников, смутьянов, членов различных клубов, демагогов, фразеров, карьеристов и атеистов, стремящихся во имя путаной системы взглядов или из-за личных честолюбивых интересов восстановить народ против трона и алтаря. «Un amas de fous, de scélérats» – «собранием глупцов, оборванцев и преступников» именует она депутатов двадцати миллионов французов, и тот, кто хотя бы час принадлежит к этой дикой толпе, для нее конченый человек, кто хотя бы говорит с этими маньяками, одержимыми новейшими идеями, уже подозрителен. Ни слова благодарности не услышит от нее Лафайет, трижды с риском для собственной жизни спасавший жизнь ее супруга и ее детей: лучше погибнуть, чем позволить этому тщеславному кавалеру спасать ее, для того чтобы затем передать на милость народа. Никогда, даже в тюрьме, ни своим судьям, которых она не признает и зовет палачами, ни депутатам она не окажет чести обратиться с просьбой; со всей силой упрямства своего характера, непреклонно противится она любому компромиссу. С первого мгновения до последнего Мария Антуанетта рассматривает революцию только как грязную волну нечистот, взбаламученную низкими и подлыми человеческими инстинктами; она не поняла и не приняла всемирно-исторического права революции, ее созидающей воли, потому что была полна решимости понимать и отстаивать лишь свои собственные королевские права. Бесспорно, нежелание понимать было исторической ошибкой Марии Антуанетты. Эта в общем-то ординарная и политически ограниченная женщина и по воспитанию, и из-за отсутствия внутренней воли не обладала способностью понимать идейные взаимозависимости, ей чужда была духовная проницательность, она всегда понимала лишь человеческое, близкое ей, исходящее от чувств. Но если смотреть без учета перспективы, если в оценках событий исходить лишь из человеческих отношений, любое политическое движение будет выглядеть беспорядочным, реализованная идея всегда будет искаженной. Мария Антуанетта судит о революции – и может ли она делать это иначе? – по людям, свершающим ее. Как всегда во время переворотов, и здесь самые речистые не были самыми честными, самыми лучшими. Едва ли способствовало укреплению доверия королевы то, что промотавшие свое состояние, пользующиеся дурной репутацией аристократы, наиболее развращенные среди них, такие как Мирабо, Талейран, оказались первыми, кто открыл свое сердце свободе. Может ли Мария Антуанетта считать дело революции честным и этичным, если видит, как восторгается новой идеей братства скупой и жадный герцог Орлеанский, готовый на любое грязное дело? Если любимцем Национального собрания является Мирабо, этот достойный последователь Аретино, такой же продажный, как его учитель, такой же порнограф, отребье аристократии, сидевший во всех тюрьмах Франции за совращения и другие темные истории и закончивший свою жизнь тайным агентом короля? Может ли быть священным дело, воздвигающее алтарь руками подобных людей? Должна ли она действительно считать авангардом новой гуманности всю эту нечисть, этих рыночных торговок и уличных девок, таскающих по улицам Парижа на окровавленных пиках отрубленные головы как каннибальский символ своей победы? Именно потому, что Мария Антуанетта прежде всего видит насилие, она не верит в свободу, ибо смотрит лишь на людей, не догадываясь об идее, незримо стоящей за этим диким, взрывающим мир движением. Ничего не заметила она, ничего не поняла в великой человечности движения, подарившего нам возвышеннейшие принципы взаимоотношений людей: свободу вероисповедания, свободу мнений, свободу печати, свободу промышленности, свободу собраний, – движения, впервые высекшего на скрижалях Нового времени принципы равенства классов, рас и вероисповеданий, отменившего постыдные остатки средневековья – пытки, феодальные повинности, рабство. За жестокими уличными волнениями абсолютно ничего из этих духовных целей движения не поняла она и не попыталась понять. Лишь хаос видит она в этой необозримой сумятице, а не очертания нового порядка, который вот-вот родится в ужасных судорогах и страданиях. Поэтому с первого до последнего дня со всей решительностью своего упрямого сердца ненавидит она вождей движения и тех, кто следует за ними. И произошло то, что должно было произойти. Поскольку Мария Антуанетта была несправедлива к революции, революция проявила несправедливость и жестокость по отношению к ней.
* * *
Революция – враг. Это точка зрения королевы. Королева – препятствие. Вот глубокое убеждение Революции. Своим безошибочным инстинктом народ чувствует в королеве основного противника, с самого начала обращает он всю страсть борьбы на ее личность. Людовик XVI не числится ни в добрых, ни в злых. Об этом знает самый последний крестьянин в деревне и любой уличный мальчишка. Этого робкого, боязливого человека можно припугнуть парой выстрелов из ружья, и он немедленно согласится выполнить любое предъявленное ему требование. Можно ему нахлобучить на голову фригийский колпак[213], и он будет носить этот колпак, а прикажи ему, чтоб он кричал: «Долой короля! Долой тиранов!» – и он хоть и король, а будет, словно попугай, кричать. Единственная воля во Франции защищает трон и его права, и, по словам Мирабо, «единственный мужчина, на которого король может рассчитывать, – это его жена». Кто за революцию, тот, следовательно, должен быть против королевы; с самого начала она является мишенью, и для того, чтобы с несомненностью закрепить это положение вещей, вся революционная печать начинает изображать Людовика XVI истинным отцом народа, порядочным, добродетельным, благородным, но, к сожалению, слишком слабым и «обольщенным» человеком. Если бы не это обольщение, между королем и нацией установился бы наипрочнейший мир. Но чужеземка, австриячка, во всем послушная своему брату, эта развратница, запутавшаяся в сетях своих любовников и любовниц, властолюбивая и тираническая, она одна не желает взаимного согласия, плетет новые и новые интриги, чтобы с помощью иностранных войск превратить свободный Париж в развалины. С дьявольской хитростью уговаривает она офицеров, убеждает их направить пушки на беззащитный народ; кровожадная, она задабривает солдат вином и подарками, подстрекает их к новой Варфоломеевской ночи. Поистине пришло время открыть глаза бедному, несчастному королю! По существу, обе партии рассуждают одинаково. Для Марии Антуанетты народ хорош, но он совращается этими factieux. Для народа король хорош, но он ослеплен женой, натравливается ею. Таким образом, собственно, вся война ведется между революционерами и королевой. Но чем больше ненависти обращается на нее, чем более несправедливыми и клеветническими становятся оскорбления, тем упорнее Мария Антуанетта в своем противодействии. Тот, кто решительнее руководит большим движением или же борется с ним, становится в борьбе сильнее, чем, казалось бы, мог быть. С тех пор как весь мир возненавидел ее, детское высокомерие Марии Антуанетты превращается в гордость, а ее распыленные силы формируются в настоящий характер.
* * *
Однако эти слишком поздно сформировавшиеся силы Марии Антуанетты проявятся лишь при защите. Со свинцовым грузом на ногах не выступишь против врага. А этот свинцовый груз – нерешительный король. Получив по правой щеке, когда пала его Бастилия, он униженно уже на следующее утро, в соответствии с христианским вероучением, подставляет под удар левую щеку. Вместо того чтобы разгневаться, вместо того чтобы потребовать объяснений и наказать виновных, он обещает Национальному собранию вывести из Парижа свои войска, вероятно еще готовые защищать его, отрекаясь этим актом от своих защитников, которые погибли бы за него. Не решаясь возвысить свой голос против убийц коменданта Бастилии, он тем самым признает для Франции террор как законную силу, своим отступлением легализует восстание. За такое самоунижение Париж готов признать заслуги этого услужливого повелителя и присваивает ему, правда лишь на короткий срок, титул Restaurateur de la liberté française[214]. У городских ворот торжественно встречает его мэр, двусмысленно звучат слова приветствия: «Нация вновь завоевала себе своего короля». Послушно принимает Людовик XVI кокарду, эту выбранную народом эмблему атаки на его авторитет. И не понимает он, что толпа в действительности приветствует не его, а собственную мощь, поставившую властелина на колени. 14 июля Людовик XVI потерял Бастилию, 17-го же он теряет свое достоинство и так глубоко склоняется перед своим противником, что корона сваливается с головы.
* * *
Король принес свою жертву, Мария Антуанетта также не должна сопротивляться. И ей следует проявить добрую волю, публично отказаться от тех, кого новый господин – нация – совершенно обоснованно ненавидит, от своих ближайших друзей – от графини Полиньяк, от графа д’Артуа. Они должны навсегда покинуть Францию. По существу, не будь это расставание вынужденным, королева едва ли приняла бы его с тяжелым сердцем. Внутренне она уже давно тяготилась легкомысленным, распутным окружением. Но теперь, в час прощания, еще раз пробуждается уже давно охладевшая дружба к этим товарищам ее прекрасных, ее беззаботных лет. Они были неразумны со всеми своими сумасбродствами. Полиньяк делила с нею все ее тайны, воспитывала ее детей, на глазах графини они росли и развивались. И вот сейчас она должна уехать. Не расставание ли это с собственной беспечной юностью? Ибо отныне навсегда покончено с безоблачными днями. Кулаками революции вдребезги разбит нежный, фарфоровый мир Dix-huitième, навсегда покончено с погоней за тонкими, изысканными наслаждениями. Надвигаются времена, возможно великие, но тяжелые, значительные, смертоносные. Серебряные часы с курантами, часы рококо, сыграли свою мелодию, минули дни Трианона. Борясь со слезами, Мария Антуанетта не решается проводить в дальнюю дорогу своих бывших друзей. Она остается в своих комнатах, – так боится своего волнения. Но вечером, когда внизу, во дворе, уже ждут кареты для графа д’Артуа и его детей, для герцога Конде, герцога Бурбона, для Полиньяк, для министров и аббата Вермона, для всех, окружавших ее юность, она стремительно хватает лист почтовой бумаги и пишет графине Полиньяк потрясающие слова: «Adieu[215], дорогая подруга! Страшное слово, но его надо произнести. Вот приказ на лошадей. У меня едва ли достанет сил обнять Вас».
Отныне нотки тоски будут звучать в каждом письме королевы, меланхолия окутывает каждое из них. «Я не в состоянии выразить Вам все мое сожаление, – пишет она в следующие дни графине Полиньяк, – по поводу того, что разлучена с Вами, и надеюсь лишь, что Вы разделяете мои чувства. Здоровье мое достаточно хорошее, хотя и несколько ослаблено из-за беспрерывных потрясений, которые мне приходится испытывать. Мы окружены лишь нуждой, несчастьями и несчастными – если не говорить о том, что многих возле нас уже нет. Весь свет спасается бегством, и я счастлива думать, что те, кто близки мне, сейчас находятся далеко от меня». Но, как будто не желая позволить испытанной подруге дать поймать себя на слабости, как бы зная, что единственное, что осталось у нее от могущества королевы, – это королевское самообладание, она спешит добавить: «Но можете быть уверены, эти превратности не сломят ни моих сил, ни моего мужества; я не поддамся им, напротив, они научат меня большей осторожности. Как раз в моменты, подобные этим, познаются люди и выявляются истинно преданные».
* * *
Итак, возле королевы, которая любила, пожалуй, слишком любила шум и суматоху, стало непривычно тихо. Началось великое бегство. Где они, те, кто некогда были ее друзьями? Ищи их как прошлогодний снег. Те, которые толпились и шумели, словно жадные дети вокруг стола с подарками, – Лозен, Эстергази, Водрей, – где они, партнеры по карточному столу, танцоры и кавалеры? Верхом, в каретах (Sauve qui peut[216]), переодетые, покидают они Версаль. Но на этот раз не в маскарадных костюмах, спеша на бал, а закутавшись, тайком, чтобы избежать самосуда толпы. Каждый вечер через золоченые решетчатые ворота дворцового парка выезжает карета, чтобы никогда более не вернуться сюда. Все тише и тише становится в опустевших и потому слишком просторных залах; никаких театральных представлений, никаких балов, никаких шествий, приемов. По утрам лишь мессы, а затем длинные бесполезные совещания с министрами, которые не в состоянии что-либо посоветовать. Версаль превратился в Эскориал[217]: кто умен, тот отходит от дел.
Но именно сейчас, когда королеву оставляют те, которых свет считал ее ближайшими друзьями, из темноты выступает истинный ее друг – Ганс Аксель Ферзен. Пока репутация фаворита Марии Антуанетты могла дать ореол славы, этот искренне любящий человек, щадя честь любимой женщины, держался робко в стороне, дабы уберечь глубочайшую тайну ее жизни от любопытства и пересудов. Теперь же, когда близость к гонимому существу не дает ни выгод, ни чести, ни уважения, не вызывает зависти, но требует мужества и беззаветной жертвенности, теперь этот лишь один по-настоящему любящий, этот единственный возлюбленный открыто и решительно становится рядом с Марией Антуанеттой и тем самым входит в историю.
Друг появляется
Личность Ганса Акселя Ферзена долгое время была окутана тайной. Имя его не упоминается ни в печатном списке фаворитов, ни в письмах посланников, ни в воспоминаниях современников. Ферзен не относится к постоянным гостям салона Полиньяк. Там, где свет, где проблески света, нет этого высокого серьезного человека. Вследствие такой умной и тщательно рассчитанной сдержанности ему удается избежать недоброжелательных толков среди придворной клики, но длительное время он оказывается также вне поля зрения истории, и, возможно, глубочайшая тайна королевы Марии Антуанетты так навсегда и осталась бы тайной. Но вот во второй половине прошлого столетия вдруг распространяется романтический слух. В одном шведском замке, недоступные и опечатанные, хранятся целые связки интимных писем Марии Антуанетты. Сначала никто этим неправдоподобным слухам не верит, пока наконец внезапно не появляется публикация этой тайной корреспонденции, сразу же – несмотря на беспощадное изъятие всех интимных подробностей – выдвигающая этого неизвестного скандинавского аристократа на первое, привилегированное место среди всех друзей Марии Антуанетты. Эта публикация полностью меняет представление о женщине, до сих пор считавшейся крайне легкомысленной; раскрывается величественная и чреватая опасностями драма души, идиллия в тени королевского замка и гильотины, один из тех потрясающих и столь невероятных романов, что на создание их решается одна лишь история: двое людей, королева Франции и чужеземец, незначительный юнкер-северянин, охвачены горячей любовью, но ради долга и осторожности обязаны в страхе хранить свою тайну, вынуждены постоянно разлучаться, непрерывно страстно стремясь воссоединиться, вернуться друг к другу из столь далеких друг другу миров. А за судьбой этих двух людей – гибнущий мир, апокалипсическое время – пылающий лист истории, волнующий тем более, что наполовину стертые и искаженные шифры и знаки позволяют лишь постепенно разгадать всю правду о минувших событиях.
* * *
Эта большая любовная драма начинается отнюдь не помпезно, а совсем в стиле своего времени, в стиле рококо: ее пролог словно списан с «Фобласа»[218]. Юношу, сына шведского сенатора, носителя старого аристократического имени, пятнадцатилетним в сопровождении домашнего учителя посылают на три года за границу. И теперь это не худший метод воспитания светского молодого человека. В Германии Ганс Аксель изучает общеобразовательные предметы и военное дело, в Италии – медицину и музыку. В Женеве он наносит непременный в те времена визит мудрой пифии[219], господину Вольтеру, который любезно принимает его, укутав свое высохшее, легкое как перышко тело в расшитый домашний халат. Этим Ферзен завоевывает себе право считаться бакалавром духа. Восемнадцатилетнему юноше недостает лишь последней шлифовки: Париж, безупречный тон светской беседы, искусство хороших манер – и типичный путь образования молодого аристократа Dix-huitième завершен. Теперь этот кавалер с законченным образованием может стать посланником, министром, генералом – высший свет открыт ему.
Помимо аристократического происхождения, личного обаяния, известной практичности, большого состояния и ореола иностранца юный Аксель Ферзен еще и поразительно красив. Стройный, широкоплечий, с хорошо развитой мускулатурой, он мужествен, как большинство скандинавов, и при этом не массивен, не груб. Нескрываемую симпатию вызывает на портретах его открытое лицо с правильными чертами, с ясными глазами, над которыми, словно ятаганы, выгибаются поразительно-черные брови. Крутой лоб, теплый, чувственный рот, умеющий, как это покажет время, безупречно молчать. По портретам можно понять, что такого человека любит настоящая женщина и, более того, она спокойно может положиться на него. Правда, немногие хвалят Ферзена как интересного рассказчика, как homme d’esprit[220], как особо занимательного собеседника, но с его суховатой и прозаической интеллектуальностью связаны человеческая прямота и естественный такт. Уже в 1774 году шведский посланник с гордостью может сообщить королю Густаву: «Из всех шведов, побывавших здесь за мое время, именно его особенно хорошо приняли в высшем свете».
К тому же этот молодой кавалер отнюдь не угрюмый человек, не брюзга, дамы превозносят его cœur de feu[221] под покровом льда; во Франции он не забывает развлекаться, прилежно посещает все придворные балы, все балы высшего света. И вот однажды происходит нечто удивительное. Вечером 30 января 1774 года на балу в Опере, там, где свет встречается с полусветом, к нему подходит необыкновенно окрыленной поступью подчеркнуто строго и элегантно одетая стройная молодая женщина с тонкой талией и под защитой бархатной маски завязывает с ним галантный разговор. Польщенный тем, что его заметили, довольный Ферзен с живостью вступает в беседу, находит свою агрессивную партнершу пикантной и занимательной и, возможно, уже начинает питать некоторые надежды на приятную ночь. Но вдруг он замечает, что некоторые дамы и господа с любопытством перешептываются и постепенно собираются вокруг них, он видит себя и эту даму в маске в центре всевозрастающего внимания. Наконец, когда ситуация становится уже неприятной, галантная интриганка снимает маску. Это Мария Антуанетта (неслыханный случай в анналах двора), престолонаследница Франции вновь оставила печальное брачное ложе своего вялого супруга и уехала на бал, где в игривой беседе развлекается с незнакомым кавалером. Придворные дамы, стремясь смягчить остроту положения, пытаются притушить слишком большое внимание, оказываемое дофиной шведу. Они тотчас же окружают экстравагантную беглянку и уводят ее обратно в ложу. Но может ли что-нибудь остаться тайной в этом болтливом Версале? Все шепчутся и дивятся развлечениям дофины, столь противоречащим правилам этикета. Возможно, уже завтра раздосадованный посланник Мерси пожалуется Марии Терезии, а из Шёнбрунна со спешным курьером будет отправлено одно из тех горьких писем к tête à vent – к ветренице-дочери, которой следует наконец оставить эти неуместные dissipations[222], перестать общаться со всяким сбродом на этих проклятых маскарадах. Но Мария Антуанетта делает то, чего желает: молодой человек понравился ей; она дала ему это понять. С того вечера юношу, положение которого в обществе не столь уж значительно, принимают на придворных балах с особой приветливостью. Не тогда ли, при таком многообещающем знакомстве, возникла взаимная симпатия двух молодых людей? Трудно сказать. Во всяком случае, великое событие прерывает этот – безусловно наивный – флирт, ибо маленькая принцесса в одну ночь – со смертью Людовика XV – становится королевой Франции. Двумя днями позже – не посоветовал ли ему кто-нибудь так поступить? – Ганс Аксель Ферзен возвращается в Швецию.
Конец первого акта. Этот акт не более чем галантное введение, пролог пьесы. Двое восемнадцатилетних встретились и понравились друг другу, voilà tout[223]; в переводе на современный язык – дружба на уроке танцев, гимназический флирт. Ничего значительного еще не произошло, глубинные пласты чувств еще не затронуты.
* * *
Второй акт: спустя четыре года, в 1778 году, Ферзен вновь приезжает во Францию. Отец послал двадцатидвухлетнего молодого человека добыть богатую невесту: либо барышню Рейель в Лондоне, либо барышню Неккер, дочку женевского банкира, получившую позже мировую известность как мадам де Сталь. Но Аксель не испытывает особого влечения к супружеству, и скоро станет ясно почему. Едва явившись в Париж, молодой дворянин в парадной одежде представляется ко двору. Узнают ли его еще? Вспомнит ли его кто-нибудь? Угрюмо кивает головой король, равнодушно смотрят другие на незначительного иностранца, никто не обращается к нему с приветливым словом. Лишь королева, едва заметив его, радостно восклицает: «Ah, c’est une vieille connaissance!» («Ax, это старое знакомство!»)
Нет, она не забыла его, своего прекрасного северного кавалера, тотчас же вновь вспыхивает ее интерес к нему – это не мимолетное увлечение! Она приглашает Ферзена в свое общество, она осыпает его любезностями. Точно так же, как при их первой встрече на балу в Опере, Мария Антуанетта делает первый шаг. Вскоре Ферзен уже может сообщить своему отцу: «Королева, самая любезная из известных мне государынь, соблаговолила осведомиться обо мне. Она спросила Кройца, почему я не принял участия в ее воскресной карточной игре, а услышав, что я однажды явился в день, когда прием был отменен, выразила сожаление и извинилась передо мной». «Поразительная благосклонность к мальчику», если попытаться выразиться словами Гёте, – эта высокомерная женщина, не отвечавшая даже герцогиням на поклоны, семь лет не удостаивавшая кивком головы кардинала Рогана, четыре года – мадам Дюбарри, извиняется перед незначительным приезжим дворянином за то, что он однажды напрасно явился в Версаль. «Каждый раз, когда я свидетельствую ей свое почтение во время карточной игры, она говорит со мной», – несколькими днями позже сообщает молодой кавалер своему отцу. Вопреки всем предписаниям этикета «самая любезная из государынь» просит молодого человека появиться в Версале в форме шведского офицера; она непременно желает – каприз влюбленной – посмотреть, как он будет выглядеть в этой необычной для нее одежде. Само собой разумеется, beau Axel[224] исполняет это желание. Старая игра возобновляется.
Но не совсем так; на этот раз игра становится опасной для королевы, за которой двор неусыпно следит, не спуская с нее тысячи глаз. Марии Антуанетте следовало бы быть теперь осторожнее, она больше уже не маленькая восемнадцатилетняя принцесса, оплошности которой можно извинить детскостью или наивностью, а королева Франции. Но ее кровь заговорила. Наконец, после семи ужасных лет, неловкому супругу Людовику XVI удалось выполнить супружеские обязанности. Королева стала женщиной. Но что должна испытывать эта тонко чувствующая женщина, достигшая полного расцвета своей красоты, сравнивая этого толстяка со своим молодым сияющим любимцем! Сама не подозревая этого, впервые страстно влюбленная, она выдает свои чувства к Ферзену всем любопытным, окружающим ее, выдает любезностями, которыми осыпает его, повышенным вниманием к нему и прежде всего тем замешательством, которое испытывает в его присутствии. И сейчас, как это свойственно Марии Антуанетте, человечески едва ли не самая симпатичная черта ее характера обращается против нее, становится для нее опасной: в симпатии и антипатии она притворяться не может. Одна придворная дама утверждает, что она совершенно отчетливо заметила, как при неожиданном появлении Ферзена королева в сладостном испуге начала дрожать. В другой раз, когда королева, сидя за фортепиано, пела арию Дидоны, при словах: «Ah, que je fus bien inspirée, quand je vous reçus dans ma cour»[225] – она перед всем двором мечтательно-нежно обратила свои обычно холодные голубые глаза на тайного (а теперь уже более не тайного) избранника своего сердца. Начинаются толки и пересуды. Вскоре все придворное общество, для которого интимности королевского дома являются событиями мировой важности, с пылким сладострастием следит за влюбленными: возьмет ли она его себе в любовники, как и когда? Ее чувства настолько явны, что у окружающих не вызывают никакого сомнения, лишь она одна еще не понимает этого. Имей Ферзен довольно смелости или будь он настолько легкомыслен, чтобы потребовать от юной королевы любого, даже самого последнего, доказательства своего расположения к нему, он немедленно получил бы его.
Но Ферзен – швед, настоящий мужчина и цельный характер: у северян сильная склонность к романтическому может сосуществовать со спокойным и трезвым рассудком. Он сразу замечает всю двусмысленность ситуации. Королева неравнодушна к нему, никто лучше его не знает этого. Но как бы он ни любил, ни уважал эту молодую, очаровательную женщину, его порядочности претит фривольное злоупотребление этими чувствами, он не может сделать королеву объектом сплетен. Открытая любовная связь вызвала бы беспримерный скандал: ведь даже платоническими знаками внимания, выказанными ему, Мария Антуанетта весьма сильно скомпрометировала себя. С другой стороны, для роли Иосифа Прекрасного[226], целомудренно и холодно отклоняющего выражения благосклонности молодой, красивой и любимой женщины, Ферзен чувствует себя слишком молодым и пылким. И тут этот чудесный человек совершает самое благородное, что может сделать в таком деликатном положении мужчина, – он добровольно воздвигает препятствие между собой и находящейся в опасности женщиной: он быстро уезжает за тысячу миль – в Америку – адъютантом Лафайета. Он рвет нить прежде, чем неизбежно и трагически запутаться.
Мы располагаем бесспорными документами об этом расставании влюбленных, тем официальным посланием шведского посланника королю Густаву, которое исторически подтверждает страстное влечение королевы к Ферзену. Посланник пишет: «Я должен уведомить Ваше Величество: королева так благоволила к юному Ферзену, что это возбудило у некоторых особ подозрение. Должен сознаться, я сам верю, что она симпатизирует ему; я замечал знаки внимания с ее стороны, слишком очевидные, чтобы в них сомневаться. При этих обстоятельствах юный граф Ферзен вел себя образцово, проявив сдержанность и в особенности приняв решение уехать в Америку. Уехав, он избежал всех опасностей; противостоять подобному соблазну потребовало бы решимости, которую трудно ожидать от человека его возраста. Последние дни королева не в состоянии была отвести от него глаз, полных слез. Я прошу, Ваше Величество, эту тайну никому, кроме сенатора Ферзена, не сообщать. Фавориты двора, услышав об отъезде графа, пришли в восторг, и герцогиня Фитц-Джеймс сказала ему: „Как, сударь, вы отступаетесь от своих трофеев?“ – „Будь они у меня, я бы от них не отступился. Я уезжаю свободный, без сожалений“. Согласитесь, Ваше Величество, что этот ответ по благоразумию и сдержанности сделал бы честь и более зрелому человеку. Впрочем, королева проявляет сейчас большее самообладание и благоразумие, чем прежде».
Защитники «добродетельности» Марии Антуанетты размахивают этим документом, словно знаменем ее безусловной невинности. Ферзен, так утверждают они, в последний момент избежал прелюбодейной связи с достойным удивления самоотречением, любящие отказались друг от друга, большая страсть осталась «чистой». Но это доказательство ничего окончательно не доказывает, разве лишь то, что тогда, в 1779 году, между Марией Антуанеттой и Ферзеном не было еще самых интимных отношений. Только в последующие годы эта страсть окажется решительно опасной. Пока что мы наблюдаем всего лишь конец второго акта и еще далеки от кульминации развертывающейся драмы.
* * *
Третий акт: возвращение Ферзена из Америки. В июне 1783 года он спешит в Версаль прямо из Бреста, куда вернулся после четырехлетнего добровольного изгнания, проведенного в американском вспомогательном корпусе. Все это время он переписывался с королевой, но любовь требует живого, непосредственного общения. Только бы не расставаться теперь, быть рядом друг с другом, никаких разлук, никаких расстояний, разделяющих влюбленных. По-видимому, по желанию королевы Ферзен тотчас же начинает добиваться патента полковника французской армии; зачем – эту загадку не разгадать старому бережливому отцу, шведскому сенатору. Почему Ганс Аксель непременно желает остаться во Франции? Опытный, обстрелянный солдат, наследник старого аристократического имени, любимец романтического короля Густава, он может занять на родине любое место. «Почему непременно во Франции?» – спрашивает все время раздосадованный, разочарованный сенатор. Для того чтобы жениться на богатой наследнице, барышне Неккер с ее швейцарскими миллионами, поспешно лжет сын недоверчивому отцу. То, что в действительности он думает о чем угодно, только не о женитьбе, выдает молодого Ферзена посланное им в то же время интимное письмо сестре, в котором он совершенно недвусмысленно открывает тайну своего сердца: «Я принял решение никогда не связывать себя брачными узами, они были бы противоестественными… Той единственной, которой я хотел бы принадлежать и которая любит меня, я принадлежать не могу. Значит, я никому не буду принадлежать».
Достаточно ли это ясно? Следует спросить лишь, кто она, эта «единственная», которая любит его и с которой он никогда не сможет соединиться брачными узами, – кто она – «elle», как он коротко именует королеву в своих дневниках? Должны быть решающие обстоятельства, чтобы самому себе, своей сестре так уверенно, так откровенно признаться в расположении Марии Антуанетты. И когда он пишет отцу о том, что «тысяча личных причин, которые невозможно доверить бумаге», удерживают его во Франции, то за этой тысячью причин стоит лишь одна-единственная, о которой он не хочет ничего говорить, а именно: желание Марии Антуанетты или приказание ее своему избраннику быть подле нее. Ибо едва Ферзен начинает ходатайствовать о патенте полковника, как Мария Антуанетта проявляет милость и вмешивается в дело, хотя она никогда не занимается назначениями в армии. И кто же – вопреки существующим обычаям – сообщает королю Швеции о быстро полученном воинском звании? Не верховный главнокомандующий – король, единственно компетентное лицо, – а его супруга, королева, собственноручным письмом.
Скорее всего, именно в этом или в следующем году начинаются интимные или, вернее, интимнейшие отношения Марии Антуанетты с Ферзеном. Правда, Ферзен вынужден еще на два года выезжать из Франции – крайне неохотно; как адъютант короля Густава он сопровождает своего монарха в поездке по Европе, но затем с 1785 года молодой человек окончательно оседает во Франции. И эти годы решительным образом преобразили Марию Антуанетту. Афера с колье создала атмосферу изоляции вокруг этой легкомысленной, доверчивой женщины, открыла ей глаза на действительный, реальный мир. Она покидает круговорот ненадежных острословов, вероломных забавников, галантных банкротов. Вместо множества ничего не стоящих личностей ее все еще разочарованное сердце видит теперь одного человека, истинного друга. Ей, окруженной всеобщей ненавистью, страшно недостает доброжелательности, нежности, любви; она уже созрела для того, чтобы не транжирить себя более безрассудно и тщеславно в отраженном свете всеобщего восхищения, а отдаться человеку с открытой и благородной душой. И Ферзен, прекрасная рыцарская натура, по-настоящему, всей полнотой своих чувств полюбит эту женщину, собственно, тогда, когда увидит, что ее оклеветали, опозорили, что ее преследуют, угрожают ей. Избегая ее благоволения, когда ее боготворит весь мир, когда ее окружают тысячи льстецов, он отваживается любить ее, когда она становится одинокой, когда нуждается в помощи. «Она очень несчастна, – пишет он своей сестре, – и ее мужество, достойное восхищения, делает ее еще более привлекательной. Мне очень тяжело, что я не в состоянии вознаградить ее за все ее страдания, не в состоянии сделать ее счастливой так, как она того заслуживает». Чем более несчастной становится она, более одинокой, более растерянной, тем сильнее растет в нем непоколебимое желание любовью возместить все утраты. «Elle pleure souvent avec moi, jugez si je dois l’aimer»[227]. И чем ближе надвигается катастрофа, тем более бурно и трагично стремятся друг к другу эти оба: она – чтобы еще раз найти с ним последнее счастье, вознаграждение за бесконечную, непрерывную цепь разочарований, он – чтобы своей рыцарской любовью, своей беззаветной жертвенностью возместить утраченное ею королевство.
Едва лишь это первоначально поверхностное влечение друг к другу становится глубоким, едва лишь флирт перерастает в большую любовь, оба прилагают все мыслимые усилия, чтобы сохранить свои отношения в тайне от света; чтобы рассеять малейшие подозрения, молодой офицер определяется не в Парижский гарнизон, а в гарнизон пограничного городка Валансьен. И когда его «призывают» (так сдержанно пишет Ферзен в своем дневнике) во дворец, он самым тщательным образом утаивает от своих друзей истинную цель поездки, чтобы его пребывание в Трианоне не вызвало сплетен. «Никому не говори, что я пишу тебе отсюда, – предупреждает он сестру в письме из Версаля, – ибо во всех других письмах я указываю местом отправления Париж. Прощай, иду к королеве». Никогда Ферзен не посещает общество Полиньяк, никогда не появляется в интимном кружке Трианона, никогда не принимает участия в катании на санках, в балах, в карточной игре: там и впредь должны как можно заметнее щеголять и красоваться мнимые фавориты королевы, ибо как раз своим флиртом, не подозревая этого, они помогают утаить от двора истину, сохранить в тени тайну. Они властвуют при дневном свете, Ферзен – ночью. Они поклоняются и болтают, Ферзен – любим и молчит. Сен-При, наиболее осведомленный среди придворных в чужих делах, знавший абсолютно все, за исключением того, что его жена была безумно влюблена в Ферзена и посылала ему страстные любовные письма, сообщает с уверенностью, делающей его утверждения более достоверными, нежели все другие свидетельства современников: «Ферзен бывал в Трианоне трижды или четырежды в неделю. Королева также бывала в эти дни в Трианоне без сопровождающих лиц, и эти свидания вызывали открытые толки, несмотря на скромность и сдержанность фаворита, никогда внешне не подчеркивавшего своего положения и являвшегося самым тактичным и скрытным из всех друзей королевы».
В самом деле, за пять лет у них всего считаные короткие часы совместного пребывания, часы, когда влюбленным молодым людям удается побыть друг с другом наедине, ибо, несмотря на мужество и верность своих камеристок, Мария Антуанетта может решиться не на многое; лишь в 1790 году, незадолго до расставания, счастливый влюбленный сообщает, что он наконец-то получил возможность провести целый день «с ней» («avec elle»). Лишь в ранние, предрассветные часы в тени парка – может быть, в одном из маленьких крестьянских домиков деревушки Трианона, не просматриваемом со стороны дворца, – может королева ждать своего Керубино[228]; в боскетах[229] Версаля, на извилистых дорожках парка Трианона завершается сцена в саду из «Фигаро» с ее романтической музыкой. Но уже величественно звучит прелюдия из «Дон Жуана», слышатся у дверей тяжелые, сокрушительные шаги командора; в конце третьего акта тональность рококо переходит в тональность великой революционной трагедии. И музыкальная тема последнего акта, взметнувшись от ужасов пролитой крови и насилия, приводит к крещендо, к отчаянию расставания, к экстазу и гибели.
Лишь теперь, в условиях чрезвычайной опасности, когда все остальные бежали, выступает тот, который в счастливые времена оставался незаметным, – истинный, единственный друг, готовый умереть с нею и ради нее; великолепно вырисовывается теперь на фоне блеклого грозового неба революции до сих пор затененный мужественный образ Ферзена. Чем большая опасность грозит его возлюбленной, тем сильнее его решимость. Беспечно безразличны влюбленные к общепринятым границам, до сих пор существовавшим между габсбургской принцессой, королевой Франции и иностранцем – шведским аристократом. Каждый день появляется Ферзен во дворце, все письма проходят через его руки, любое решение принимается с его участием, сложнейшие задания, опаснейшие тайны доверяются ему, он единственный знает все планы Марии Антуанетты, всё – о ее заботах и надеждах, он один – свидетель ее слез, ее малодушия, ее ожесточенной скорби. В момент, когда все покидают королеву, когда она все теряет, она находит того, кого тщетно искала всю свою жизнь, – честного, прямого, мужественного и смелого друга.
Был ли он ее возлюбленным или не был?
Теперь известно, и известно очень хорошо, что Ганс Аксель Ферзен был не второстепенной фигурой, как в свое время полагали, а главным действующим лицом большого романа Марии Антуанетты; известно, что его отношения с королевой не исчерпывались галантным ухаживанием, романтическим флиртом, исполненным благородства рыцарским поведением. Нет, то была любовь, проверенная двадцатью годами, закаленная в горниле жизни, любовь со всеми атрибутами своего могущества, в огненном плаще страстей, с державной верховной властью мужества, с щедрым величием чувств. Одно только еще неясно – какова была форма этой любви? Была ли то, как принято было литературно выражаться в прошлом столетии, «чистая» любовь, под которой обычно подразумевалась такая, когда страстно любящая и страстно любимая женщина чопорно отказывает любящему и любимому мужчине в последнем залоге самопожертвования? Или эта любовь была в некотором смысле «непозволительной», то есть в нашем понимании полной, свободной, щедро и смело дарящей, беззаветно дарящей? Был ли Ганс Аксель Ферзен всего лишь cavaliere servente[230], романтичным обожателем Марии Антуанетты или же ее истинным, в полном смысле этого слова, возлюбленным? Был он ее возлюбленным или не был?
* * *
«Нет! Ни в коем случае!» – с удивительным раздражением и подозрительной поспешностью восклицают роялистско-реакционные биографы, любой ценой желающие защитить королеву. «Он страстно любил королеву, – с завидной уверенностью утверждает Вернер Гейденстам, – но при этом никакие плотские помыслы не осквернили любви, достойной трубадура или рыцаря Круглого стола[231]. Мария Антуанетта любила его, ни на мгновение не забывая о долге супруги, о достоинстве королевы». Для благоговейных фанатиков подобное представляется немыслимым, они просто не желают, чтобы кто-нибудь подумал такое – чтобы последняя королева Франции могла изменить dépôt d’honneur[232], завещанному ей всеми или почти всеми матерями наших королей. Поэтому, бога ради, никаких розысков, вообще никаких обсуждений этой «affreuse calomnie»[233] (Гонкур), «acharnement sournois»[234] для выяснения истинных обстоятельств дела! Стоит лишь приблизиться к этому вопросу, как бескомпромиссные защитники «чистоты» Марии Антуанетты тотчас же начинают нервически бить боевую тревогу.
Следует ли действительно подчиниться этому приказу и, сомкнув уста, пройти мимо вопроса о том, видел ли Ферзен всю свою жизнь Марию Антуанетту «с нимбом вокруг чела» или смотрел на нее как мужчина, как живой человек? Более того, тот, кто целомудренно уклоняется от ответа на этот вопрос, не проходит ли он мимо проблемы первостепенной важности? Ибо до тех пор, пока не знаешь самой последней тайны человека, о нем ничего сказать нельзя, и меньше всего о характере женщины, если не поймешь сущность ее любви. В отношениях, имеющих такое всемирно-историческое значение, как эти, когда сдерживаемая долгие годы страсть не просто случайно едва касается жизни, а роковым образом заполняет и переполняет душу, вопрос о внешних проявлениях этой любви не праздный и не циничный, он оказывается решающим для воссоздания духовного облика женщины. Чтобы правильно воспроизвести натуру, художник должен видеть ее не в ложном освещении. Итак, подойдем поближе, рассмотрим ситуацию как можно тщательнее, изучим документы. Исследуем задачу; возможно, мы и получим ответ.
* * *
Вопрос первый. Предположим, что Мария Антуанетта беззаветно отдалась Ферзену. С точки зрения буржуазной морали, это вина. Кто ставит ей в вину эту самозабвенную жертву? Из современников – лишь трое; правда, три человека чрезвычайно значительных, не из тех, кто подсматривает в замочную скважину, а люди, посвященные в суть дела. Им до мельчайших подробностей должна быть известна истинная ситуация: Наполеон, Талейран и министр Людовика XVI Сен-При, этот беспристрастный очевидец всех дворцовых происшествий. Все трое утверждают без обиняков: Мария Антуанетта была возлюбленной Ферзена, они абсолютно убеждены в этом. Сен-При, как наиболее полно представляющий себе ситуацию, более точен и в подробностях. Не питая какой-либо враждебности к королеве, совершенно объективный, он рассказывает о тайных ночных посещениях Ферзеном Трианона, Сен-Клу и Тюильри, куда Лафайет разрешил графу, едва ли не единственному, свободный доступ. Сен-При рассказывает об осведомленности Полиньяк, которая была, казалось, очень довольна тем, что благосклонность королевы пала на иностранца, ведь он не пожелает извлекать никаких выгод из своего положения фаворита. Для того чтобы исключить из рассмотрения три таких важных показания, как это делают яростные защитники добродетели, для того чтобы Наполеона и Талейрана назвать клеветниками, для всего этого не надо проводить непредвзятых исследований, достаточно обладать одной лишь решительностью. Но кто из современников, кто из приближенных королевы – и в этом второй вопрос – опроверг заявление, что Ферзен был возлюбленным Марии Антуанетты, кто назвал такое заявление клеветой? Никто. И поражает то, что, желая с удивительным единодушием замолчать эту близость, все они вообще избегают произносить имя Ферзена: Мерси, который трижды обсуждает любую шпильку, используемую королевой в ее туалете, в своих официальных депешах ни разу не упоминает его имени; доверенные лица при дворе все время пишут лишь о «некоей известной особе», которой надлежит передать письма. Но ни один не произносит его имени; на протяжении столетия господствует подозрительный заговор молчания, и первые официальные биографы вообще умышленно не упоминают Ферзена. Нельзя, следовательно, отделаться от впечатления, что задним числом кем-то был выдан mot d’ordre[235] по возможности основательно забыть того, кто не вписывается в романтическую легенду о добродетели королевы.
Итак, историки-исследователи длительное время стояли перед сложным вопросом. Всюду встречали они факты, утверждающие серьезные основания к подозрениям, и всюду чья-то старательная рука странным образом уничтожала решающие документальные доказательства. По имеющемуся материалу, не содержащему более прямых улик, исследователи не в состоянии были установить истину in flagranti[236].
«Forse che si, forse che no»[237], – отвечала историческая наука до тех пор, пока не располагала последними убедительными, неопровержимыми доказательствами, и со вздохом захлопывала папку: нет ни рукописных, ни печатных документов, ни одного свидетельства, имеющего для нас силу бесспорного доказательства.
Но там, где, казалось бы, кончается строгое научное исследование, начинается свободное и одухотворенное искусство духовного видения; там, где отказывает палеография[238], должна стать пригодной психология, логически обоснованные вероятности которой часто сто́ят больше, чем голая истина актов и фактов. Не располагай мы ничем более, как одними документами истории, какой нищей, скудной и неполной была бы она! Однозначное, очевидное – это область науки; многозначное, обязательно подлежащее толкованию, объяснению – сфера, присущая духовному видению. Там, где для документальных доказательств недостаточно материала, остаются беспредельные возможности для психологов. Чувство всегда скажет о человеке больше, чем все, вместе взятые, документы о нем.
* * *
Но проверим все-таки еще раз документы. Хотя Ганс Аксель Ферзен и обладал романтическим сердцем, он был вместе с тем человеком порядка. С педантичной добросовестностью ведет он дневник, каждое утро с завидным постоянством делает подробные записи о погоде, регистрирует атмосферное давление и наряду с этим политические события, а также происшествия личного, интимного плана. Далее, он ведет (в высшей степени аккуратный человек) реестр почтовых поступлений и отправлений, делая, кроме того, пометки к своим записям, методически собирая и храня свою корреспонденцию, – идеальный человек для историка-исследователя. После своей смерти в 1810 году он оставляет безупречно упорядоченный архив, опись всей своей жизни, бесценную сокровищницу документов.
Что же происходит с этими сокровищами? Ничего. Уже одно это представляется очень странным. Их существование тщательнейшим образом или, скажем точнее, боязливо замалчивается наследниками, никто не получает доступа к архивам, никто не знает об их существовании. Наконец, через пятьдесят лет после кончины Ферзена, один из его потомков, барон Клинковстрем, печатает переписку и издает часть дневников. Но удивительное дело – издается не вся переписка. Исчезает часть писем Марии Антуанетты – те, которые в реестре именуются письмами Жозефины. Нет также дневников Ферзена за решающие годы, и – что особенно странно – в письмах целые строчки заменены точками. Чья-то рука безжалостно похозяйничала в архиве. И каждый раз, как только письмо уничтожается или искажается потомками, невозможно отделаться от подозрения, что факты затушевываются, вуалируются ради бесцветной идеализации. Но остережемся от предвзятых суждений. Останемся хладнокровными и справедливыми.
Итак, отдельные фразы писем заменены многоточием. Почему? Клинковстрем утверждает, что кто-то в оригинале сделал их неразборчивыми, нечитаемыми. Кто же? Вероятно, сам Ферзен. «Вероятно»! Но ради чего? На это Клинковстрем с некоторым смущением высказывает предположение, что, вероятно, эти строки содержали политическую тайну или неприязненные высказывания Марии Антуанетты о шведском короле Густаве. И поскольку Ферзен все эти письма (все ли) показывал королю, вероятно, адресат – опять «вероятно»! – эти строчки и зачеркнул. Поразительно! Письма в подавляющем своем большинстве были зашифрованы, следовательно, Ферзен мог показывать королю лишь копии. Зачем же уродовать оригиналы, делать их неразборчивыми? Согласитесь, такое объяснение весьма сомнительно. Но мы условились – никакой пристрастности.
Продолжим исследование! Рассмотрим внимательно места, ставшие неразборчивыми, строки, замененные точками. Что изъято? Прежде всего обратим внимание на следующее: подозрительные точки появляются едва ли не всегда в начале или в конце письма, при обращении или после слов «adieu», «je vais finir»[239]. Например, так: «С деловой и политической частью я покончила, теперь…» В изуродованном издании после «теперь» ничего, кроме точек, точек, точек. Если же встречаются пропуски в середине письма, то удивительным образом они оказываются в таких местах, которые абсолютно никакого отношения к политике не имеют. Снова пример: «Comment va votre santé? Je parie que vous ne vous soignez pas et vous avec tort… pour moi je me soutiens mieux que je ne devrais»[240]. Может ли человек, находящийся в здравом уме, примыслить что-нибудь политическое вместо изъятого куска фразы? Или когда королева пишет о своих детях: «Cette occupation fait mon seul bonheur… et quand je suis bien triste, je prends mon petit garçon»[241], наверняка девятьсот девяносто девять человек из тысячи в пропущенное место ввели бы «с тех пор, как ты отсюда уехал», а не какое-либо ироническое замечание в адрес короля Швеции. Маловразумительные утверждения Клинковстрема нельзя, следовательно, принимать всерьез: здесь таится нечто иное – не политическая тайна, а тайна человеческая. Но ведь есть же, к счастью, средство, которое может помочь разгадать эту тайну: микрофотография позволяет с легкостью вновь прочесть вымаранные строчки. Итак, займемся оригиналами!
Но вот неожиданность! Оригиналов нет: примерно до 1900 года, то есть более столетия, каталогизированные письма в хорошем состоянии лежали в наследном замке Ферзена. Внезапно они исчезают – их уничтожают, ибо возможность использования новых технических средств для восстановления текстов, изуродованных целомудренным бароном Клинковстремом, приводит его в состояние панического страха; не раздумывая, он незадолго до своей смерти сжигает письма Марии Антуанетты к Ферзену – поступок Герострата[242], беспримерный в наши времена, нелепый и, как будет показано, помимо всего бессмысленный. Но Клинковстрем не желает проливать свет на дело Ферзена, он предпочитает любой ценой сохранить вокруг него полутьму, он хочет, чтобы легенда восторжествовала над ясной и неоспоримой истиной. И решает, что, уничтожив письма-улики и спасая этим честь королевы, «честь» Ферзена, он может спокойно умереть.
Однако это аутодафе[243], как говорили в старину, было больше чем преступлением – оно было глупостью. Прежде всего уничтожение доказательств само по себе является уже доказательством чувства вины, и, кроме того, согласно зловещему закону криминологии, при каждом поспешном уничтожении улик какие-то из них всегда остаются. И вот Альма Сьедергельм, превосходная исследовательница, при просмотре оставшихся бумаг обнаруживает исполненную самим Ферзеном копию одного из писем Марии Антуанетты, которую издатель в свое время не заметил, поскольку она лежала среди других копий, выполненных Ферзеном (а «неизвестная» рука, вероятно, сожгла оригинал). Благодаря этой находке мы впервые получаем в руки интимное письмо королевы in extenso[244] и тем самым ключ или даже, скорее, камертон чувств для всех остальных писем. Теперь мы можем догадаться о том, что изъял, что заменил многоточиями в других письмах чопорный издатель. И в конце этого письма есть «adieu», есть слова прощания; но за этими словами следуют не подчистки, не многоточия, а например: «Adieu, le plus aimant et le plus aimé des hommes», то есть: «Прощай, самый любящий и самый любимый».
Какая эмоциональная сила заключена в этих словах! Начинаешь понимать, почему клинковстремы, гейденстамы и прочие «апостолы чистоты», располагавшие, вероятно, большим количеством документов подобного рода, чем об этом станет когда-либо известно, оказываются столь нервозными, стоит лишь кому-то сделать попытку исследовать дело Ферзена без предубеждений. Ибо для того, кто чувствует движение человеческой души, нет никакого сомнения в том, что если королева так смело и вопреки всем условностям, с таким чувством обращается к мужчине, то, следовательно, она давно уже дала ему последнее подтверждение, последнее доказательство своей беззаветной любви. Эта спасенная строка восстанавливает все уничтоженные. Не будь уничтожение само по себе уже доказательством интимных отношений королевы и Ферзена, спасенная фраза утверждает это совершенно бесспорно.
* * *
Но дальше, дальше! Кроме этого спасенного письма, необходимо иметь в виду также следующий факт из жизни Ферзена, имеющий, если учесть характер этого человека, решающее значение. Через шесть лет после смерти королевы Ферзен должен представлять шведское правительство на конгрессе в Раштатте[245]. И тут Бонапарт резко заявляет барону Эдельсгейму, что не собирается вести переговоры с Ферзеном, роялистские убеждения которого ему известны и который притом спал с королевой. Он не говорит: «был с ней в связи». Нет, он выражается вызывающе, почти нецензурно: «спал с королевой». Барону Эдельсгейму и в голову не приходит защищать Ферзена; и ему этот факт представляется совершенно бесспорным. Поэтому он отвечает, посмеиваясь, что полагал, будто с этими историями времен ancien régime[246] давно уже покончено и к политике они никакого отношения не имеют. Затем он отправляется к Ферзену и передает ему весь разговор. А Ферзен, как поступает он? Или, точнее, как следовало бы ему поступить, окажись слова Бонапарта ложью? Не должен ли был он тотчас же защитить покойную королеву от обвинения (будь оно ложным)? Крикнуть: «Клевета!» – и вызвать к барьеру этого маленького новоиспеченного корсиканского генерала, который для своих обвинений выбирает к тому же такие грязные слова? Может ли человек с благородным, прямым характером оставить безнаказанным ложное обвинение женщины в том, что она была его любовницей? Едва ли когда-нибудь еще представится Ферзену повод, более того, единственная возможность выполнить свой долг – обнаженным клинком опровергнуть давно уже тайными путями распространяющееся утверждение, раз и навсегда покончить со слухами.
Но что же делает Ферзен? Увы, молчит. Берется за перо и подробнейшим образом записывает в дневник все содержание разговора Эдельсгейма с Бонапартом, включая и обвинение в том, что он, Ферзен, «спал с королевой». Ни одним словом, даже наедине с самим собой, не опровергает он утверждения, являющиеся, по мнению его биографов, «позорным и циничным» обвинением. Он склоняет голову и тем самым говорит: «Да». Когда несколькими днями позже английские газеты сообщают об этом инциденте, «говоря при этом о нем и несчастной королеве», он добавит к записи: «се qui me choque» («что было мне крайне неприятно»). И в этом – всё возражение Ферзена, точнее, отсутствие возражений. И на этот раз молчание красноречивее, чем какие бы то ни было слова.
* * *
Мы видим, следовательно, что чопорные потомки настойчиво, упорно пытались скрыть то, что Ферзен был возлюбленным Марии Антуанетты, сам же он никогда этого не отрицал. Внимательное рассмотрение фактов и документов показывает, что десятки подробностей, деталей подтверждают это: в связи с тем что в Брюсселе Ферзен открыто бывает в свете с другой своей возлюбленной, сестра умоляет его быть осторожнее, чтобы об этом не узнала королева («elle»), ибо такое известие очень заденет ее. На каком основании, смеем спросить, не будь королева его возлюбленной? В дневнике подчищены строки, описывающие ночное пребывание Ферзена в покоях королевы в Тюильри. Горничная показывает перед Революционным трибуналом, что кто-то не раз покидал тайно по ночам комнату королевы. Все эти подробности, впрочем, весьма вески лишь потому, что они так тревожно согласны в утверждении, но, не будь доказательство из столь различных составных частей убедительным, для его усиления потребовалось бы еще одно – решающая связь с характером человека. Лишь совокупность особенностей индивидуальности может объяснить ее поступки, ибо каждое отдельное изъявление воли человека предопределяется причинностью его природы. Поэтому ответ на вопрос, какие отношения были между Ферзеном и Марией Антуанеттой – интимные или просто почтительные, в конечном счете зависит от психологического облика женщины. И, учитывая всю совокупность улик, прежде всего следует спросить: какое поведение – свободное, жертвенное или робкое, нерешительное – логически и психологически более соответствует характеру королевы? Кто смотрит с этой точки зрения, более не колеблется. Ибо всем слабостям Марии Антуанетты противопоставляется одно – ее безудержное, не вызывающее никаких сомнений, истинно суверенное бесстрашие. Искренняя до глубины души, неспособная к какому бы то ни было притворству, эта женщина сотни раз, при куда менее существенных поводах, не обращала никакого внимания на всяческие ограничения условностей, была совершенно безразлична к пересудам за спиной. Хотя настоящего величия Мария Антуанетта достигла лишь в решающие моменты своей судьбы, она никогда не разменивается на мелочи, никогда не проявляет неуверенности или робости, никогда не подчиняет свою волю каким-либо чуждым ее индивидуальности понятиям чести, нравственности, светской или придворной морали. Неужели перед этим человеком, единственным, которого она по-настоящему любит, смелой женщине следует внезапно разыгрывать жеманницу, боязливую, добродетельную супругу своего Людовика, ведь она связана с королем лишь интересами государства, но отнюдь не узами любви. Должна ли она свою страсть принести в жертву предубеждениям, предрассудкам общества в то апокалипсическое время, когда вся клика придворных в буйном опьянении экстазом близкой смерти, в средоточии всех ужасов гибели освободилась от пут дисциплины и порядка? Следует ли ей, той, которую никто не в состоянии сдержать и обуздать, самое себя принудить к отказу от самой естественной, самой женской формы чувств, и ради чего? Ради нереального, ради супружества, которое всегда было карикатурой на супружество, ради мужа, который и мужем-то ей не был, ради обычаев, которые она всегда ненавидела инстинктом свободолюбия своей необузданной природы? Кто хочет верить, что Мария Антуанетта способна на этот отказ, пусть верит. Но ее портрет искажают не те, кто убежденно полагает, что она проявила смелость и верность своему характеру в этой единственной ее страстной любви, а те, кто пытается эту бесстрашную женщину представить слабой, трусливой, с душой, находящейся в плену осмотрительности и осторожности, человеком, не решившимся на крайность, подавлявшим в себе естественное. Каждому, кто может понять и принять характер как нечто цельное, совершенно очевидно, что Мария Антуанетта как своей разочарованной душой, так и своим давно уже запроданным династическим интересам и неудовлетворенным телом была возлюбленной Ганса Акселя Ферзена.
* * *
А что король? При любом нарушении супружеской верности обманутый третий представляет собой жалкую, несчастную, смешную фигуру, и в интересах Людовика XVI было бы разумным по возможности замолчать ситуацию этого «треугольника». В действительности же король совсем не был смешным рогоносцем, он, бесспорно, знал об интимных отношениях своей жены с Ферзеном. Сен-При по этому поводу высказывается категорически: «Она нашла пути и средства довести до сведения короля о своих отношениях с графом Ферзеном».
Такое положение дел прекрасно вписывается в картину взаимоотношений этих трех людей. Ничто не было так чуждо Марии Антуанетте, как лицемерие и притворство. Она не может низко обманывать супруга, это противоречит ее духовному строю; столь часто встречающееся нечистоплотное поведение – одновременная связь с супругом и любовником – также не соответствует ее характеру. Без сомнения, сразу же, как только у нее устанавливаются интимные отношения с Ферзеном – сравнительно поздно, вероятно между пятнадцатым и двадцатым годами ее супружеской жизни, – Мария Антуанетта фактически перестает быть женой Людовика. Эти в общем-то чисто характерологические догадки неожиданно получают подтверждение в письме брата королевы, императора Иосифа, который каким-то образом прослышал в Вене, что его сестра после рождения четвертого ребенка решила разойтись с Людовиком XVI; по времени это соответствует началу ее интимных отношений с Ферзеном. Кто желает иметь ясность в этом вопросе, может ее получить. Выданная замуж из государственных интересов за нелюбимого и отнюдь не привлекательного человека, Мария Антуанетта долгие годы подавляет свою духовную потребность в любви ради своего вынужденного брака. Но, родив двух сыновей, дав династии престолонаследников, бесспорно детей Бурбона, она считает выполненным свой моральный долг перед государством, перед законом, перед своей семьей и чувствует себя наконец свободной. После двадцати пожертвованных политике лет много испытавшая женщина в последние и трагически потрясающие часы своей жизни возвращает себе чистое, естественное право не отказывать более ни в чем давно любимому человеку, который для нее и друг, и возлюбленный, и доверенное лицо, и соратник, мужествен, как она, готов пожертвовать своей жизнью ради нее. Как нищи, как убоги все те искусственные гипотезы о слащаво добродетельной королеве по сравнению с прозрачной психологической правдивостью ее поведения и как сильно принижают эту женщину, ее человеческое мужество, ее духовное достоинство те, кто пытается ее защитить! Что может быть честнее и благороднее для женщины, чем беззаветно и свободно следовать своим безошибочным, годами испытанным чувствам! И истинно королевским поведением будет такое, при котором она, королева, останется по-настоящему человеком.
Последняя ночь в Версале
Никогда за тысячелетнюю историю Франции не созревали здесь так рано посевы, как в то лето, лето 1789 года. Высоко поднимаются посевы на полях, но еще быстрее растет нетерпеливый посев революции, вспоенный кровью. Упущения десятилетий, несправедливость, чинимая столетиями, – все это перечеркивается единым росчерком пера: штурмом берется вторая, незримая Бастилия, в которой томились заточенные права французского народа. 4 августа при нескончаемом ликовании рушится древний оплот феодализма: аристократия отказывается от барщины и десятины, князья церкви – от податей и соляного налога, свободными становятся крестьяне, свободными – горожане, пресса свободно объявляет о провозглашении прав человека. В то лето все мечты Жана Жака Руссо стали явью. В зале Menus plaisirs[247] (который королями был предназначен для развлечений, народом же теперь определен для работы над созданием законов) окна дребезжат либо от радостных возгласов, либо от криков спорящих; уже за сотню шагов от зала слышно неумолкающее гудение скопища людей, гудение гигантского улья. Но в тысяче шагов отсюда, в большом дворце Версаля, угнетающая тишина. Из окон испуганно смотрит двор на шумного гостя, который, хотя и затребован сюда, приглашен для совещаний, собирается же разыгрывать из себя властелина над властелином. Как загнать джинна обратно в бутылку? Растерянно совещается Людовик со своими советниками, дающими самые противоречивые рекомендации; не лучше ли выждать, пока эта буря сама не отбушует, – так думают король и королева. Вести себя спокойно: держаться в тени. Выиграешь время – выиграешь всю игру.
Но революция стремится вперед, она должна стремиться вперед, если не хочет пойти на убыль, ибо революция – это бурное движение вперед. Остановка губительна для нее, движение вспять – смертельно. Она должна требовать, все больше и больше требовать для того, чтобы утвердить себя, должна побеждать, чтобы не оказаться побежденной. Тон для этого неудержимого наступления задают газеты; эти дети, эти уличные мальчишки революции, шумные и безудержные, они бегут впереди своей армии. Росчерком пера дана свобода слову, свобода печати и высказываниям, свобода же, если она в избытке, становится опасной. Одна за другой возникают газеты: десять, двадцать, тридцать, пятьдесят. Мирабо основывает одну, Демулен, Бриссо, Лустало, Марат – другие, и поскольку каждый из них зазывает читателей к себе и желает превзойти остальных газетчиков в патриотизме, то и пишут газеты бог весть что, трещат без оглядки, не считаясь ни с чем. А вся страна прислушивается к ним. Как можно громче, как можно неистовее, и чем громче, тем лучше, и всю ненависть направлять на королевский двор! Король задумал измену, правительство препятствует подвозу зерна, сопредельные державы стягивают войска к границе, собрания в опасности, нависает угроза новой Варфоломеевской ночи. Пробудитесь, граждане! Пробудитесь, патриоты! Трам-тарарам-там, трам-тарарам-там! День и ночь барабанят газеты, вдалбливая в миллионы сердец страх, недоверие, озлобленность, гнев. А за барабанщиками, вооруженная пиками, саблями и прежде всего безграничной яростью, стоит пока еще невидимая армия – французский народ.
* * *
Революции темп событий кажется слишком медленным, королю – слишком быстрым. Тучный, осторожный человек, он не может идти в ногу со стремительным наступлением юной идеи. Версаль медлит, затягивает решение; так вперед же, Париж! Пора кончать с этими наводящими скуку переговорами, с этой непереносимой попыткой короля совершить закулисную сделку с народом, барабанят газеты. У тебя сто, двести тысяч кулаков, в арсеналах лежат ружья, ждут пушки; захвати их, вытащи короля и королеву из Версаля, возьми их и тем самым свою судьбу в свои руки! В штабе революции, во дворце герцога Орлеанского, в Пале-Рояле, назначен пароль; все подготовлено. И один из перебежчиков двора, маркиз де Юрюж, уже тайно разрабатывает план экспедиции.
Но между замком и городом существуют какие-то тайные, темные связи. Через подкупленных слуг патриоты в клубах знают все, что происходит в замке, а в замке – также через своих агентов – узнают о предполагаемом нападении. В Версале решают действовать и, поскольку французские солдаты не могут быть достаточно надежной защитой от своих же сограждан, для охраны дворца приглашают наемников – фландрский полк. 1 октября войска из казарм выступают в Версаль, и двор готовит им торжественную встречу. В большом оперном зале дается банкет, и, несмотря на голод, свирепствующий в Париже, здесь не жалеют ни еды, ни вина: путь к верности, как и к любви, часто лежит через желудок. Чтобы воодушевить войска, привлечь их на сторону короля, король и королева с дофином на руках – неслыханная честь – появляются в банкетном зале.
Мария Антуанетта никогда не владела полезным искусством завоевывать симпатии и преданность людей интригами, расчетом, лестью. Но ее облику, ее душе присуще известное величие, которое на каждого, впервые увидевшего ее, производит чарующее действие. Ни отдельным людям, ни толпе не удается сохранить равнодушие: первое впечатление очень глубоко, оно сразу же располагает к ней (правда, при более близком знакомстве оно тускнеет). И на сей раз при появлении в зале молодой красивой женщины, величественной и в то же время обаятельной, офицеры и солдаты вскакивают со своих мест, восторженно выхватывают шпаги из ножен, шумным «виват!» встречая повелителя и повелительницу, забыв, вероятно, при этом все предписания, данные им нацией. Королева идет по рядам. Она может обворожительно улыбаться, быть приветливой ни к чему не обязывающей приветливостью, она может, подобно своей самодержавной матери, подобно своему брату, подобно, пожалуй, всем Габсбургам (и это искусство передается по наследству австрийским домом и в последующие десятилетия), сохраняя внутреннее непоколебимое высокомерие, быть естественнейшим образом вежливой и доступной с самыми простыми людьми, не впадая при этом в покровительственный, снисходительный тон. Искренне счастливо улыбаясь (как давно она не слышала «Vive la reine!»), обходит она со своими детьми столы, и вид этой благосклонной, полной очарования, этой действительно царственной женщины, которая пришла к ним, грубым солдатам, как гость, приводит офицеров и солдат в состояние верноподданнического экстаза: в этот момент каждый из них готов умереть за Марию Антуанетту. И королева, покидая приветствующий ее зал, тоже счастлива. Пригубив предложенный ей бокал, она отведала золотистого вина доверия: трон Франции имеет еще верных, надежных защитников.
Но уже на следующий день раздается барабанная дробь патриотических газет: трам-тарарам-там, трам-тарарам-там, королева и двор выставили против народа наемных убийц! Солдат опоили красным вином, чтобы они пролили красную кровь граждан, раболепствующие офицеры срывали, бросали на пол, топтали трехцветные кокарды, издевались над ними, пели антипатриотические песни, и все это при вызывающем смехе королевы. Патриоты, ужели вы еще ничего не поняли? Париж под угрозой, вражеские полки уже идут к нему. Пора, граждане, в последний бой, принимайте решение! Собирайтесь, патриоты, – трам-тарарам-там, трам-тарарам-там…
* * *
Двумя днями позже, 5 октября[248], в Париже начинаются беспорядки. И то, как они возникают, относится к одной из многих, до сих пор необъяснимых тайн французской революции. Ибо эти на первый взгляд стихийные волнения в действительности удивительно глубоко продуманы и организованы, политически искусно выполнены. Выстрел точен и целенаправлен: стреляла меткая, натренированная рука, умный стрелок прекрасно знал, куда и как надо стрелять. Насильно вывезти короля из Версаля, прибегнув для этого не к армии, а к толпе женщин, – мысль блестящая, достойная психолога столь же тонкого, как, например, Шодерло де Лакло, готовящего в Пале-Рояле поход за короной для герцога Орлеанского. Мужчин можно назвать бунтовщиками и мятежниками, в мужчин будут стрелять хорошо вымуштрованные солдаты. Женщины же в народных восстаниях выступают всегда только как отчаявшиеся, находящиеся в безысходном положении, от их мягкой груди отскочит самый острый штык, и, кроме того (подстрекатели учитывают и это), король, боязливый и сентиментальный человек, никогда не даст приказа направить пушки на женщин. Итак, сначала поднять возбуждение до предела – опять-таки неизвестно, чьими руками, посредством каких махинаций, – искусственно на два дня задержать подвоз хлеба в Париж, вызвать перебои со снабжением, усилить голод, единственную побудительную причину народного гнева, а затем, как только машина запущена, женщин поскорее вперед, женщин в первые ряды!
Действительно, молодая женщина ворвалась утром 5 октября в казарму и, как утверждают, рукой, унизанной кольцами, сорвала со стены барабан. Мигом вокруг нее собирается толпа сбежавшихся женщин, громко кричащих о хлебе. Начинаются волнения, толпа множится, в нее вливаются переодетые мужчины, они-то и дают бурлящему людскому потоку определенное направление – к ратуше. Полчаса спустя ее берут приступом, захватывают пистолеты, пики, даже две пушки. И внезапно – кто его выдвинул, к какой партии, к какой группировке он принадлежит? – появляется вождь (имя его – Майяр), формирующий эту беспорядочную, эту беспокойную массу людей в армию, подстрекающий ее к маршу на Версаль, якобы за хлебом, на самом же деле затем, чтобы доставить короля в Париж. Слишком поздно, как всегда (такова уж судьба этого благородно мыслящего, честного неудачника – являться к месту происшествия с запозданием), прибывает на своей белой лошади Лафайет, главнокомандующий Национальной гвардией[249]. Его задачей было – и он, естественно, хотел бы добросовестно ее выполнить – не допустить похода на Версаль, но солдаты не желают слушать его. Ему остается одно – вместе со своими солдатами сопровождать женскую армию, чтобы задним числом дать видимость законности открытому мятежу. Не больно-то почетная задача, он знает это, мечтатель-свободолюбец, и не рад ей. На своей знаменитой белой лошади рысит за революционной армией женщин мрачный Лафайет, символ сдержанного, логически расчетливого, бессильного человеческого разума, тщетно пытающегося следовать за великолепной алогичной страстностью стихии.
* * *
До полудня никто не подозревает о тысячеголовой опасности, движущейся из Парижа. Как всегда, королю подвели оседланную охотничью лошадь, и он ускакал в Медонский лес; королева, как обычно, ранним утром отправилась одна пешком в Трианон. Что ей делать в Версале, в гигантском замке, из которого давно уже бежал двор и лучшие друзья и возле которого в Национальном собрании каждый день factieux выносят новые, враждебные ей предложения? Ах, она устала от этого ожесточения, от этой борьбы в пустоте, устала от людей, устала от бремени королевской власти. Отдохнуть, посидеть пару часов спокойно, вдали от людей, в осеннем парке, которому октябрьское солнце расцветило листья багрянцем, золотом, медью. Собрать последние цветы с клумб, прежде чем придет зима, страшная зима, может быть, покормить китайских золотых рыбок в маленьком пруду или породистых кур. А затем отдохнуть, отдохнуть наконец от всех волнений и растерянности; ничего не делать, ничего не желать, сидеть со свободно опущенными руками у грота, в простом утреннем платье, с раскрытой книгой на скамейке, не читая ее, всем своим существом чувствуя усталость природы и осень в своем сердце.
Сидит королева в гроте на скамье, вырубленной в скале, – давно уже забыла она, что назывался он когда-то Гротом любви, – и видит на дороге пажа, идущего к ней с письмом. Она встает, идет навстречу. Письмо от министра Сен-При, он сообщает, что чернь движется на Версаль и королеве следует незамедлительно вернуться в замок. Быстро берет она шляпу, накидку и спешит во дворец своей легкой, стремительной походкой. Возможно, и не оглядывается она на маленький, любимый ею Трианон, на ландшафты, создание которых доставляло ей столько радости. Разве предполагает она, что последний раз в жизни видит эти мягкие луга, этот нежный холм с Храмом любви, осенний пруд, свою деревушку, свой Трианон, что это – прощание навсегда?
В замке министры, двор – все в беспомощном возбуждении. Неопределенные слухи о походе на Версаль исходят от слуги, которому удалось пробраться в замок, других слуг женщины задержали. Но вот ко дворцу во весь опор мчится какой-то всадник, он соскакивает со взмыленной лошади и бежит вверх по мраморной лестнице, – это Ферзен. При первых признаках опасности этот самоотверженно любящий человек прыгает в седло, скачет карьером, обгоняет армию женщин, «восемь тысяч Юдифей[250]», как патетически назовет ее Камилл Демулен, чтобы в момент опасности быть возле королевы. Наконец появляется король. Его разыскали в лесу возле Порт-де-Шатильона, прервали его любимую забаву. С досадой запишет он вечером в своем дневнике скудные трофеи охоты с пометкой: «Прервана из-за событий».
И вот стоит он, озадаченный, с испуганными глазами. Начинается совет – теперь, когда уже упущено все, поскольку в общем замешательстве забыли преградить авангарду мятежников путь к мосту у Севра. Еще есть пара часов, еще достаточно времени, чтобы принять решительные меры. Один министр считает, что королю следует верхом, во главе драгун и фландрского полка выступить навстречу толпе: уже одно его появление обратит орду женщин в бегство. Более осторожные, напротив, полагают, что если король и королева немедленно покинут замок и направятся в Рамбуйе, то вероломно задуманная угроза трону будет сорвана. Но Людовик, вечно нерешительный, колеблется. И сейчас, в который раз, из-за неспособности принять решение дает он событиям возможность наступать на него, вместо того чтобы бороться с ними. С закушенной губой стоит королева в окружении этих беспомощных людей, среди которых нет ни одного настоящего мужчины. Инстинктивно чувствует она, что любой акт насилия должен помочь, ибо с первой пролитой кровью каждый начнет страшиться каждого: «Toute cette révolution n’est qu’une suite de la peur»[251]. Но может ли она принять ответственность за всё и вся? Внизу, во дворе, стоят кареты, кони запряжены, за час королевская семья с министрами и Национальным собранием, присягнувшим во всем следовать королю, может добраться до Рамбуйе. Но король все еще не дает знака к отъезду. С большей и большей энергией настаивают министры, и в особенности Сен-При: «Если вас, ваше величество, повезут завтра в Париж, корона будет потеряна». Неккера же больше заботит его популярность, нежели сохранение королевства, он возражает, и король, как всегда, словно безвольный маятник, качается между двумя мнениями. Постепенно вечереет, кони внизу все еще бьют копытами в разыгравшейся к тому времени непогоде, лакеи ждут у карет, а совещанию нет и нет конца.
В окна дворца врывается многоголосый шум парижских улиц. Они уже здесь. Тысячеглавая толпа в темноте, в ночи подходит к замку. Рыночные амазонки в юбках, накинутых на головы, чтобы защититься от дождя, льющего как из ведра. Гвардия революции стоит перед Версалем. Предпринимать что-либо поздно.
* * *
Подходят и подходят женщины, промокшие до костей, голодные и замерзшие, в ботинках, полных жидкой грязи. Эти шесть часов никак не назовешь часами увеселительной прогулки, даже если в пути и разгромлено несколько трактиров и урчащий желудок получил пару капель горячительной влаги. Голоса женщин хриплы и грубы, а то, что они выкрикивают, не продиктовано дружескими чувствами к королеве. Первый визит – Национальному собранию. Оно заседает с самого утра, и для некоторых его депутатов – для тех, кто прокладывает путь герцогу Орлеанскому, – этот марш амазонок не так уж и неожидан.
Сначала женщины требуют от Национального собрания лишь хлеба (в соответствии с программой) – о переезде короля в Париж ни слова! Принимается решение направить в замок делегацию женщин в сопровождении председателя де Мунье и нескольких депутатов. Шесть выбранных женщин отправляются в замок, лакеи учтиво распахивают двери перед уборщицами, рыбачками, уличными нимфами. Со всеми почестями ведут необычную делегацию по большой мраморной лестнице в покои, вступить в которые до сих пор могли лишь люди с голубой кровью, аристократы с тщательно проверенной родословной. Среди депутатов, сопровождающих президента Национального собрания, – внушительный, полный, жизнерадостный, ничем не примечательный господин. Но его имя придает этой первой встрече с королем символический смысл. Ибо вместе с доктором Гильотеном, депутатом от Парижа, 5 октября гильотина сделала первый визит двору.
* * *
Добродушный Людовик так дружелюбно принимает дам, что их оратор, молодая девушка, предлагающая завсегдатаям Пале-Рояля цветы, а возможно, также и кое-что другое, потрясенная столь неожиданным приемом, падает в обморок. Ее приводят в чувство, добрый король-благодетель обнимает перепуганную девушку, обещает восхищенным женщинам хлеб и все, чего только они ни пожелают, предоставляет им в распоряжение даже свою собственную карету для возвращения в Париж. Похоже, все кончится наилучшим образом, но внизу, подстрекаемая тайными агентами, толпа женщин встречает свою делегацию воплями ярости, обвинениями, что ее подкупили, что она поверила лживым заверениям. Не для того шесть часов подряд они тащились из Парижа по грязи, в проливной дождь, чтобы с урчащими от голода желудками и пустыми обещаниями брести назад. Нет, надо оставаться здесь и не двигаться с места, пока они не захватят с собой в Париж короля, королеву и всю эту банду их приспешников. Уж там-то их отучат строить козни и заниматься проволочками. Бесцеремонно врываются женщины в Национальное собрание, чтобы переночевать там, тогда как иные из них, в том числе Теруань де Мерикур, находят себе приют у солдат фландрского полка. Число мятежников растет, так как к Версалю все время подходят отставшие. Подозрительные тени бродят в скудном свете масляных светильников у ограды замка.
Наверху, во дворце, двор все еще не пришел ни к какому решению. Может быть, все же лучше бежать? Но как отважиться на это, удастся ли тяжелым, неуклюжим каретам пробиться сквозь возбужденную толпу? Нет, слишком поздно. Наконец в полночь издали слышится барабанная дробь – приближается Лафайет. Первый визит он наносит Национальному собранию, второй – королю. И хотя он с подлинной преданностью, с глубоким поклоном говорит: «Сир, я явился и готов отдать свою жизнь ради спасения вашего величества», его никто не благодарит, и Мария Антуанетта также. Король объявляет, что у него нет намерения куда-либо уезжать или отдаляться от Национального собрания. Похоже, все приведено в порядок. Король дал свое обещание, Лафайет и вооруженные силы народа находятся рядом, чтобы его защитить, депутаты отправляются по домам, национальные гвардейцы и мятежники ищут убежища от проливного дождя в казармах, церквах, даже в арках ворот, в нишах стен. Постепенно гаснут последние светильники, и после проверки всех постов, в четыре утра, Лафайет ложится спать в Отеле де Ноай, хотя и обещал заботиться о безопасности короля. И король с королевой возвращаются в свои покои; они и не подозревают, что эта ночь – их последняя ночь в Версале.
Похороны монархии
Старая королевская власть со своим стражем – аристократией отправилась отдохнуть. Но революция юна, у нее горячая, неукротимая кровь, ей не нужен отдых. Нетерпеливо ждет она прихода дня, возможности действовать. У разложенных посреди улиц лагерных костров собираются солдаты парижского восстания, не нашедшие себе иного пристанища; никто не сможет объяснить, почему они, собственно, находятся еще в Версале, а не дома, в своих постелях, ведь король послушно со всем согласился и все обещал. Какая-то тайная воля управляет, командует этой беспокойной толпой. По ту и другую сторону ворот мелькают тени, какие-то люди дают тайные указания, и в пять утра еще дворец погружен в темноту и сон, а небольшие группы, ведомые кем-то, знающим план Версаля, крадутся в обход, через двор капеллы, к определенным окнам дворца. Чего хотят они? И кто руководит этими подозрительными людьми, кто толкает их вперед, кто направляет их к пока еще неясной, но, вероятно, хорошо продуманной цели? Подстрекатели, главари заговора остаются в тени; герцог Орлеанский и брат короля, граф Прованский, по всей видимости, знают, почему в эту ночь им не следует быть во дворце, возле своего законного короля. И вот внезапно раздается выстрел, один из тех провокационных выстрелов, которые всегда необходимы, когда нужно развязать столкновение. На выстрел тотчас же со всех сторон сбегаются мятежники, десятки, сотни, тысячи, вооруженные пиками, кирками, ружьями, женщины, мужчины, переодетые в женское платье. Направление удара выбрано точно – покои королевы! Каким же образом рыбачки, рыночные торговки Парижа, ни разу до сих пор не бывавшие в Версале, в этом громадном, необъятном дворце с дюжинами лестниц, с сотнями комнат, так поразительно точно нашли нужный вход? Огромная волна женщин и мужчин в женском платье мгновенно затопляет лестницу, ведущую к покоям королевы. Трое лейб-гвардейцев пытаются заградить вход, двоих из них валят с ног, убивают, выволакивают во двор, какой-то великан-бородач отрубает у трупов головы, и несколько минут спустя они, окровавленные, уже пляшут на остриях пик.
Но жертвы выполнили свой долг: их душераздирающие предсмертные вопли разбудили дворец. Третий лейб-гвардеец, вырвавшись из рук убийц, раненый, стремительно бежит вверх по лестнице, и пронзительный крик его слышен в каждом уголке пустого мраморного здания: «Спасайте королеву!» Этот крик действительно спасает ее. Испуганная камеристка вскакивает с постели и бросается в покои королевы предостеречь ее. Уже трещат под ударами кирок и топоров двери, запертые лейб-гвардейцами. Уже нет времени, не до чулок и туфель, лишь юбку надевает Мария Антуанетта и набрасывает шаль на плечи поверх ночной рубашки. Так, босоногая, с чулками в руке, бежит она с дико бьющимся сердцем по коридору, который ведет в Ой-де-Бёф, и через это обширное помещение – к покоям короля. Но к ее ужасу, дверь заперта. Королева и камеристка колотят в нее с отчаянием, колотят не переставая, но неумолимая дверь остается запертой. Пять долгих минут, пять ужасно долгих минут. Кровавые убийцы уже вломились в соседнюю комнату, обшарили, перерыли кровати и шкафы, а королева ждет, пока наконец слуга по ту сторону двери не услышит стук и не откроет ее. Лишь теперь Мария Антуанетта может скрыться в покоях своего супруга, гувернантка приводит сюда дофина и дочку королевы. Семья воссоединилась, жизнь спасена. Но не больше чем жизнь.
Наконец проснулся и соня Лафайет, которому в эту ночь не следовало бы нежиться в объятиях Морфея[252], с этого часа ему дано презрительное прозвище – Генерал Морфей. Он видит: во всем виновата его легкомысленная доверчивость. Теперь уже не авторитетом командира, а просьбами и заклинаниями спасет он лейб-гвардейцев, попавших в мышеловку, от полного истребления. Лишь ценой огромных усилий удается ему вытеснить чернь из дворцовых покоев. Сейчас, как только опасность миновала, появляются тщательно выбритые, напудренные граф Прованский, брат короля, и герцог Орлеанский; странно, чрезвычайно странно, что возбужденная толпа тотчас же расчищает им путь ко дворцу. Итак, королевский совет может приступить к работе. Впрочем, что же обсуждать? В грязном, покрытом пятнами крови кулаке десятитысячная толпа зажала дворец, словно маленькую, тонкую, хрупкую скорлупу ореха; из этих тисков не вырваться, не спастись. Никаких переговоров, никаких договоров победителя с побежденными; из тысяч глоток мятежников, стоящих под окнами дворца, гремит требование, тайно нашептанное им вчера и сегодня агентами клуба: «Короля в Париж! Короля в Париж!» От этих угрожающих криков стекла в окнах дребезжат, портреты венценосных предков испуганно дрожат на стенах старого дворца.
* * *
При этом повелительном, властном крике король обращает вопрошающий взор на Лафайета. Следует ли ему повиноваться или, точнее, должен ли он уже повиноваться? Лафайет опускает глаза. Этот кумир народа знает, что вчера он пал. Еще пытается король оттянуть неизбежный конец; чтобы несколько успокоить эту неистовую толпу, чтобы отделаться от нее, алчущей триумфа, жалкой подачкой, он решает выйти на балкон. И едва этот бедный малый появляется перед толпой, она разражается бурными приветствиями. Всякий раз, когда король побежден ею, толпа встречает его ликованием. И почему бы не ликовать, если повелитель с обнаженной головой стоит перед ней и приветливо смотрит во двор, где только что у двух его защитников, словно у зарезанных телят, отрубили головы и насадили на пики? Флегматичному же, в вопросах чести также отнюдь не горячему человеку никакая моральная жертва не представляется трудной. И разойдись народ спокойно по домам после этого его самоунижения, – вероятно, часом позже он, сев на коня, отправился бы беспечно на охоту, дабы наверстать упущенное вчера «из-за событий». Но народу мало этого триумфа; опьяненный чувством собственного достоинства, он требует вина покрепче. И королева, эта гордячка, упрямица, нахалка, непреклонная австриячка, она тоже должна выйти на балкон. Именно она, именно она, надменная, должна склонить свою голову под невидимым ярмом. Все более дикими становятся крики, все бешенее топот ног, все настойчивее требование: «Королеву, королеву на балкон!»
Мария Антуанетта стоит недвижно, бледная от ярости, с закушенной губой. И конечно же, не страх перед уже, вероятно, нацеленными ружьями, перед занесенными камнями или возможными оскорблениями лишает ее физической способности двигаться, согнав краску с ее лица, а гордость, переданная по наследству, несокрушимое чувство собственного достоинства – никогда ни перед кем эта голова, эта шея не склонялись. Смущенно смотрят все на нее. Стекла дребезжат от неистовых воплей. Вот-вот полетят камни. К ней подходит Лафайет: «Мадам, это необходимо, чтобы успокоить народ». – «Иду», – отвечает Мария Антуанетта и берет обоих детей за руки. С высоко поднятой головой выходит она на балкон. Не как просительница, молящая о пощаде, а как солдат, идущий в наступление, полный решимости умереть, глядя смерти прямо в глаза. Она показывается на балконе, но не склоняется перед толпой. И как раз именно такая манера держаться производит поразительное действие. Две воли противостоят друг другу: королевы и народа, и так сильна напряженность этих противоборствующих сил, что минуту на огромной площади царит мертвая тишина. Никто не знает, чем кончится эта натянутая до предела тишина, порожденная удивлением, потрясшим толпу, и ужасом, охватившим женщину, – ревом ярости, шальным выстрелом или градом камней. И тут возле Марии Антуанетты появляется Лафайет. В решительный момент всегда смелый и отважный, он рыцарски склоняется перед королевой и целует ее руку.
Этот жест одним ударом разрывает напряженность. Свершается поразительное. «Да здравствует королева! Да здравствует королева!» – несутся над площадью тысячеголосые крики. Тот самый народ, который только что пришел в восторг от слабости короля, невольно приветствует гордость, несгибаемое упорство этой женщины, показавшей, что она ни единой фальшивой улыбкой, ни одним малодушным, вымученным приветствием не добивается его благосклонности.
В комнате все окружают вернувшуюся с балкона Марию Антуанетту и поздравляют так, как если бы она избежала смертельной опасности. Но ее, однажды уже обманутую, вторично не введут в заблуждение запоздалые возгласы народа «Да здравствует королева!». Со слезами на глазах она говорит мадам Неккер: «Я знаю, они заставят нас, короля и меня, ехать в Париж и впереди нас понесут головы наших лейб-гвардейцев на пиках».
* * *
Предчувствия не обманули Марию Антуанетту. Народу мало одних поклонов. Он предпочтет по камню разобрать этот дворец, но не отступит от своих намерений. Не напрасно клубы пустили в ход эту гигантскую машину, не напрасно эти тысячи в течение шести часов шли сюда под проливным дождем. Вновь нарастает опасный ропот, уже Национальная гвардия, прибывшая для защиты дворца, откровенно склоняется к тому, чтобы вместе с народом штурмовать его. Наконец двор сдается. С балкона, из окон выбрасывают вниз записки: король решил вместе со всей семьей перебраться в Париж. Большего народ и не хотел. Солдаты отставляют ружья в сторону, офицеры смешиваются с народом, люди обнимаются друг с другом, ликуют, кричат, флаги пляшут над толпой, спешно высылаются вперед, в Париж, пики с насаженными на них окровавленными головами. Здесь это грозное предостережение более не нужно.
В два часа пополудни большие золоченые ворота замка распахиваются. Гигантская коляска с упряжкой из шести лошадей навсегда увозит из Версаля по тряской дороге короля, королеву и всю королевскую семью. Закончена глава всемирной истории – тысячелетие неограниченной королевской власти во Франции.
* * *
Под проливным дождем, при неистовых порывах ветра 5 октября выступила революция в поход за своим королем. 6 октября сиянием солнца встречает ее победу. По-осеннему прозрачен воздух, небо подобно голубому шелку. Полное безветрие, ни один лист не шелохнется на деревьях; кажется, будто природа, затаив дыхание, с любопытством наблюдает так давно невиданное ею зрелище – похищение народом своего короля. Действительно, что за зрелище – это возвращение Людовика XVI и Марии Антуанетты в свою столицу! И похоронная процессия, и масленичные игры, погребение монархии и народный карнавал. И прежде всего какой новый, удивительный церемониал шествия! Нет ни скороходов в расшитых галунами ливреях, бегущих перед каретой короля, ни сокольничих на лошадях черно-пегой масти, ни скачущих справа и слева от кареты лейб-гвардейцев в блестящих мундирах, ни разодетого в пух и прах дворянства, окружающего торжественно едущую карету. Ничего этого нет.
Грязный беспорядочный поток движется вдоль дороги и несет, словно обломок потерпевшего крушение корабля, печальную карету. Впереди, не соблюдая строя, бредут солдаты Национальной гвардии, в мундирах нараспашку, в нечищеной обуви, с песнями, смеясь, в обнимку, с трубкой во рту, у каждого на штыке нанизано по хлебцу. Между ними – женщины, либо сидящие верхом на пушках или в седлах у услужливых драгун, либо идущие вперемежку с рабочими и солдатами, рука об руку с ними, словно готовясь к танцу. За ними, охраняемые драгунами, громыхают телеги с мукой из королевских кладовых, и непрерывно вдоль процессии вперед и назад скачет кавалькада вожака амазонок[253] Теруань де Мерикур, приветствуемая толпой, криками ликования и бряцанием сабель. Среди этого бурлящего, вспененного потока плывет серая от пыли, жалкая, мрачная карета, в которой за полуопущенными занавесками сидят, тесно прижатые друг к другу, Людовик XVI, малодушный потомок Людовика XIV, Мария Антуанетта, трагическая дочь Марии Терезии, их дети и гувернантка. За этой каретой такой же траурной рысцой следуют кареты принцев крови, двора, депутатов и немногих оставшихся верными друзей – старая власть Франции, снесенная новой, впервые проверяющей сегодня свою силу, свою непреодолимость.
Шесть часов движется похоронная процессия из Версаля в Париж. Из всех придорожных домов выбегают люди, но не для того, чтобы благоговейно склонить обнаженные головы перед так позорно побежденной королевской семьей. Любопытные, молча толпятся они у обочины дороги, каждый хочет увидеть короля и королеву в унижении. С криками торжества показывают женщины свою добычу: «Мы везем их назад, пекаря, пекаршу и маленького пекаренка. Теперь с голодом будет покончено». Мария Антуанетта слышит все эти крики ненависти и издевки и глубже забивается в угол кареты – лишь бы ничего не видеть, лишь бы ее никто не видел. Глаза ее полузакрыты. Возможно, в эти долгие, бесконечно долгие шесть часов она вспоминает несчетное множество веселых и легкомысленных поездок по той же дороге, вдвоем с Полиньяк, в кабриолете на костюмированный бал, в Оперу, на званый ужин, возвращение назад на рассвете. Возможно, ищет взглядом среди гвардейцев переодетого Ферзена, сопровождающего процессию верхом, единственного настоящего друга. Возможно, она вообще ни о чем не думает, безумно усталая, измученная женщина, и медленно, медленно катятся колеса, неизбежно, она знает это, навстречу судьбе.
* * *
Наконец катафалк монархии останавливается у ворот Парижа: здесь политического мертвеца ожидает торжественная встреча. При пылающих факелах мэр Байи принимает короля и королеву и славит 6 октября, день, сделавший Людовика навечно подданным своих подданных. «Чудесный день, – говорит он эмфатически, – день, в который парижанам дано право владеть вашим величеством и вашей семьей в вашем городе». Даже король, нечувствительный к подобного рода язвительностям, ощущает сквозь свою толстую кожу этот укол; он быстро обрывает оратора: «Я думаю, сударь, мое пребывание здесь поведет к миру, согласию и подчинению законам». Но смертельно усталым людям все еще не дают покоя. Они должны направиться к ратуше, чтобы весь Париж увидел свою добычу. Байи повторяет слова короля: «Я всегда с удовольствием и доверием нахожусь среди жителей моего славного Парижа», – но при этом забывает повторить слово «доверие». Королева замечает пропуск. Она понимает, как важно этим словом «доверие» наложить на восставший народ определенные обязательства. С поразительным присутствием духа громко напоминает она, что король высказал также и свое доверие народу. «Вы слышите, сограждане, – быстро подхватывает Байи, – это еще лучше, чем если бы такое сказал я сам».
В заключение короля и королеву, силой возвращенных домой, подводят к окну. Их освещают, поднося справа и слева близко к лицам пылающие факелы, – народ должен удостовериться, что это не наряженные куклы, а действительно король и королева, привезенные из Версаля. И народ упоен своей неожиданной победой, захмелел от нее. Так почему бы не проявить великодушие? Давно забытое приветствие: «Да здравствует король, да здравствует королева!» – вновь и вновь гремит над Гревской площадью, и в вознаграждение Людовику XVI и Марии Антуанетте дозволено ехать в Тюильри без военной охраны, чтобы наконец они смогли отдохнуть от этого ужасного дня и понять, в какую бездну он сбросил их.
* * *
Покрытые пылью кареты останавливаются перед темным, запущенным дворцом. Еще при Людовике XIV, сто пятьдесят лет назад, двор покинул старую резиденцию королей – Тюильри. Комнаты необитаемы, мебель вывезена, нет постелей, светильников, двери не закрываются, холодный воздух проникает сквозь окна с разбитыми стеклами. В спешке, при скудном свете откуда-то раздобытых свечей слуги пытаются подготовить ночлег для королевской семьи, неожиданно свалившейся словно снег на голову. «Как скверно здесь все, мама», – говорит, входя в помещение, дофин, ребенок, выросший в сиянии Версаля и Трианона, привыкший к сверкающим канделябрам, к огромным, отливающим разными цветами зеркалам, к богатству и роскоши. «Дитя мое, – отвечает королева, – здесь жил Людовик XIV и чувствовал себя неплохо. Нам не следует быть взыскательнее его». Без единой жалобы принимает Людовик Безразличный неудобный ночлег. Зевая, он говорит окружающим: «Пусть каждый устраивается как может. Что касается меня, то я доволен».
Но Мария Антуанетта недовольна. Этот дом, выбранный ею не по своей воле, она всегда будет считать тюрьмой, всегда будет помнить, каким унизительным образом привезли ее сюда. «Никто никогда не поверит, – в большой спешке пишет она преданному Мерси, – что было пережито за последние двадцать четыре часа. Какие бы слова ни были сказаны, ни одно из них не будет преувеличением, напротив, слова будут значить много меньше того, что мы видели и выстрадали».
Самоосознание
В 1789 году революция еще не понимает, насколько она сильна, время от времени она еще пугается своей смелости. Нечто подобное происходит и на этот раз: Национальное собрание, депутаты парижской ратуши, все горожане, внутренне еще верные королю, пожалуй, напуганы набегом толпы амазонок, отдавшим в их руки беззащитного короля. Стыдясь, они предпринимают все мыслимое, чтобы хоть как-то сгладить незаконность этого грубого акта насилия, единодушно задним числом пытаются представить увоз королевской семьи как «добровольный» ее переезд. Трогательно соревнуются они в стремлении усыпать прекраснейшими розами гроб королевского авторитета, втайне надеясь скрыть тот факт, что на самом деле 6 октября монархия похоронена окончательно. Одна депутация за другой пытается заверить короля в глубочайшей преданности. Парламент направляет депутацию из тридцати своих членов, магистрат Парижа свидетельствует свое глубокое почтение, мэр склоняется перед Марией Антуанеттой со словами: «Город счастлив видеть вас во дворце своих королей и желает, чтобы король и ваше величество оказали ему честь, выбрав его постоянной резиденцией». Точно так же благоговейно ведут себя парламент, университет, казначейство, коронный совет и, наконец, 26 октября все Национальное собрание. Перед окнами изо дня в день толпятся люди, кричащие: «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Все делается для того, чтобы как можно полнее выказать королевской семье свою радость по поводу ее «добровольного» переезда.
Но неспособная притворяться Мария Антуанетта и послушный ей король противятся этому розовому приукрашиванию действительности с упорством, по-человечески хотя и понятным, но политически совершенно безрассудным. «Мы были бы рады, если б нам удалось забыть, каким образом мы попали сюда», – пишет королева посланнику Мерси. Но она не может, да и не хочет забывать. Слишком велико пережитое ею бесчестье. Насильно волокли ее в Париж, брали приступом ее дворец в Версале, злодейски умертвили ее лейб-гвардейцев, а Национальное собрание, Национальная гвардия смотрели на все это, ничего не предпринимая. Насильно заперли ее в Тюильри, и весь мир должен узнать об этом поношении священных прав монарха. Непрерывно с умыслом подчеркивает королевская чета свое поражение; король отказывается от охоты, королева не посещает театр, они не появляются на улицах, не выезжают, упуская тем самым реальную возможность вновь завоевать популярность в Париже. Однако это упрямое обособление от народа чревато опасными последствиями. Признавая себя жертвой народа, двор убеждает народ в том, что тот всесилен; постоянно подчеркивая, что он в этом поединке слабейший, король действительно становится таковым. Не народ, не Национальное собрание – король и королева возвели вокруг Тюильри невидимые крепостные валы, именно они безрассудного упрямства ради превратили свою еще не ограниченную свободу в тюремное заключение.
* * *
Хотя двор патетически и считает Тюильри тюрьмой, она, эта тюрьма, все же должна быть королевской. Уже на следующий же день после прибытия королевской семьи в Тюильри огромные повозки везут сюда из Версаля мебель, в комнатах до поздней ночи стучат столяры и обойщики. Вскоре в новой резиденции собираются все придворные, те, кто не эмигрировал, весь штат камердинеров, камеристок, лакеев, кучеров, поваров заполняет помещения для прислуги. Вновь сверкают ливреи в коридорах, весь церемониал в целости и неприкосновенности переносится из Версаля в Тюильри. Можно заметить только единственное новшество: в дверях вместо отстраненных гвардейцев-аристократов стоят в карауле гвардейцы Лафайета.
Из огромного множества комнат Тюильри и Лувра королевская семья занимает лишь небольшое количество помещений, ибо не будет более ни празднеств, ни балов, ни маскарадов, ни приемов, не будет отныне ненужного блеска. Кроме той части Тюильри, что была возведена напротив сада (она сгорела в дни коммуны 1871 года и не восстановлена), для королевской семьи подготовлены: в верхнем этаже – спальня и зал для приемов короля, спальни его сестры и детей, а также маленький салон, на первом этаже – спальня Марии Антуанетты с приемной и туалетом, бильярдная и столовая. Оба этажа, кроме обычной лестницы, связаны друг с другом еще одной, небольшой, вновь построенной лестницей, ведущей из покоев королевы в комнаты дофина и короля. Ключи от двери к этой лестнице имеются лишь у королевы и гувернантки детей.
При рассмотрении плана этой части дворца бросается в глаза одно: бесспорно, сама Мария Антуанетта определила свою изолированность от остальных членов семьи. Она спит и живет одна – ее спальня, ее приемная расположены так, что королева в любое время может принимать посетителей незамеченными, им незачем пользоваться общей лестницей и главным входом. Скоро предумышленность этих мер оправдает себя: выбранная планировка позволит королеве в любой момент подняться на верхний этаж и в то же время всегда в случае какой-либо неожиданности оказаться защищенной от обслуживающего персонала, соглядатаев, национальных гвардейцев (а возможно, также и от короля). Даже в тюрьме она будет отстаивать до последнего вздоха свою desinvoltura, последние остатки личной свободы.
Старый замок со своими темными коридорами, дни и ночи едва-едва освещаемыми коптящими лампами, со своими винтовыми лестницами, своими перенаселенными помещениями для прислуги и прежде всего с постоянным символом всемогущества народа – национальными гвардейцами, несущими караульную службу, – замок этот сам по себе не очень-то удобная резиденция. И тем не менее теснимая судьбой королевская семья ведет здесь более тихое, спокойное и, возможно, даже более приятное существование, чем в помпезной каменной коробке Версаля. После завтрака детей приводят вниз, в покои королевы, затем она идет к мессе и потом остается одна в своей комнате до обеда. После обеда, общего для всей семьи, королева играет с супругом партию в бильярд, весьма неполноценный для него заменитель столь милой сердцу охоты. Затем, в то время как король читает или спит, Мария Антуанетта вновь спускается к себе, чтобы побеседовать или посоветоваться с самыми близкими друзьями – с Ферзеном, принцессой Ламбаль или с кем-нибудь другим.
После ужина в большом салоне собирается вся семья: брат короля, граф Прованский, с женой, живущие в Люксембургском дворце старые тетушки и некоторые из самых близких друзей. В одиннадцать ночи гасят светильники, король и королева уходят в свои спальные покои. Этот размеренный, упорядоченный, обывательский распорядок дня ничем не разнообразится, не украшается: ни празднествами, ни какой-либо пышностью. Мадемуазель Бэртэн, модистку, почти никогда не вызывают к королеве, время ювелиров позади, Людовик XVI должен теперь попридерживать свои деньги для более важных дел – для подкупов, для тайной политической службы. Из окон виден осенний сад, ранний листопад: как быстро бежит время, прежде оно тянулось для королевы медленно-медленно. Наконец-то обступает ее тишина, которой раньше она страшилась, наконец-то впервые появляется время для серьезных и глубоких раздумий.
* * *
Покой – неотъемлемый элемент творчества. Он собирает, он очищает, он упорядочивает внутренние силы, он вновь объединяет все рассеянное диким движением. Если бутыль с жидкостью потрясти, а затем снова поставить, то примесь осядет на дно; так и у человека, вдруг оказавшегося вне беспокойной, суматошливой жизни, тишина и размышления отчетливее кристаллизуют характер. Жестокими обстоятельствами судьбы предоставленная сама себе, Мария Антуанетта постепенно начинает находить себя. Лишь сейчас становится ясным, что ничто не было столь роковым для этой беспечной, беззаботной, ветреной натуры, как та легкость, с которой ей все было даровано Провидением; именно эти ничем не заслуженные дары жизни внутренне обеднили, опустошили ее. Слишком щедро баловала и слишком рано избаловала ее судьба; высокое рождение, еще более высокое положение выпали на ее долю без каких-либо усилий, и она решила, что и в дальнейшем ей незачем прилагать усилий, ей следует жить как хочется, и все будет хорошо. Министры думали за нее, народ работал на нее, оплачивая ее комфорт, а избалованная женщина принимала все не задумываясь, не благодаря. И вот теперь, вынужденная защищать все это, свою корону, своих детей, свою собственную жизнь, от разбушевавшихся сил истории, она ищет в себе силы для сопротивления, извлекая из глубин своего существа неиспользованные резервы интеллекта, активности. Но наконец приходит озарение: «Лишь в несчастье понимаешь, кто ты». Эти прекрасные, эти потрясающие слова потрясенного человека внезапно, словно озарение, появляются в ее письме. На протяжении десятилетий мать, друзья не имели власти над ее своенравной душой. Не поддающаяся уговорам, не слушающая советов, она еще не была готова к тому, чтобы воспринимать их. Страдание – первый истинный учитель Марии Антуанетты, единственный учитель, уроки которого пошли нерадивой впрок.
С несчастьем внутренняя жизнь этой удивительной женщины вступает в новую фазу. Но несчастье никогда не меняет характер, не вводит в него новые элементы; оно лишь формирует все заложенное в человеке. Было бы ошибкой считать, что Мария Антуанетта в эти годы решительной последней борьбы внезапно стала разумной, деятельной, энергичной, полной жизни. Всеми этими качествами она обладала всегда, но из-за таинственной инертности души, из-за детской беспечности чувств эти черты ее индивидуальности не проявлялись до сих пор. Она лишь играла с жизнью – ведь это не требует никаких усилий, – но никогда не боролась с нею. И только теперь, когда жизнь бросила ей вызов, пришлось пустить в ход все неиспользованные резервы. Мария Антуанетта начинает глубоко задумываться только тогда, когда не думать уже нельзя. Она работает потому, что вынуждена работать. Она возвышается потому, что судьба заставляет ее быть таковой, дабы не оказаться жалким образом смятой могучим противником. Полная перестройка ее внутренней и внешней жизни начинается лишь в Тюильри. Женщина, которая за двадцать лет ни разу не удосужилась внимательно, до конца выслушать хотя бы одно донесение посланника, не прочитавшая ни одного письма, иначе как только второпях, не читавшая ни одной книги, никогда ни о чем ином не думавшая, как только об азартных играх, о скачках, нарядах и прочих пустяках, теперь превращает свой письменный стол в государственную канцелярию, свою комнату – в кабинет министра иностранных дел. Вместо своего супруга, который всеми теперь игнорируется как неизлечимо больной слабоволием, она обсуждает с министрами важнейшие государственные вопросы, контролирует их деятельность, редактирует их письма. Королева учится искусству шифрования, изобретает особую технику тайнописи, чтобы, пользуясь дипломатическими каналами, иметь возможность советоваться со своими друзьями за границей; пишет симпатическими чернилами, применяет цифровые коды, публикуя сообщения в газетах или посылая их контрабандой через кордоны на обертках шоколадных конфет. Каждое слово самым тщательным образом обдумывается так, чтобы посвященный его понял, а для того, кому не следует его понимать, оно осталось бы загадкой. И все это делается без помощника, без секретаря, ведь шпионы шатаются у дверей ее комнаты, проникают в нее. Одно перехваченное письмо – и ее муж, ее дети погибнут. До физического истощения работает женщина, не привыкшая к такой нагрузке. «Я очень устала от всей этой писанины», – замечает она в одном из своих писем и затем в другом: «Я просто не вижу, что пишу». И далее, весьма знаменательная духовная метаморфоза: наконец-то Мария Антуанетта начинает ценить добросовестных советчиков, она отказывается от своей прежней самонадеянности, не предпринимает ничего серьезного, не подумав, не рассмотрев вопрос с учетом политической обстановки. Если раньше седовласого посланника Мерси она принимала с едва сдерживаемой зевотой и с облегчением вздыхала, когда докучливый педант затворял за собой дверь, теперь она пристыженно домогается встреч с этим слишком долго не признаваемым, честным, многоопытным человеком. «Чем несчастнее я становлюсь, тем больше чувствую себя внутренне глубоко обязанной моим истинным друзьям» – вот какие человеческие интонации звучат в ее письмах старому другу матери. «С таким нетерпением жду я мгновения, чтобы вновь свободно видеть Вас, говорить с Вами, чтобы выразить Вам свои чувства, которые с полным основанием питаю к Вам всю свою жизнь», – пишет она ему. На тридцать пятом году своей жизни она поняла наконец, к какой особой участи была приуготовлена: не оспаривать кратковременный триумф моды у других красивых, кокетливых, духовно ординарных женщин, а стремиться к тому, чтобы на долгие годы заслужить неподкупное внимание будущих поколений, заслужить его вдвойне – как королева и как дочь Марии Терезии. Ее гордость, до сих пор бывшая всего лишь вздорной гордостью ребенка, гордостью заласканной девочки, в соответствии с велениями великого времени решительным образом трансформируется, и королева являет себя всему миру смелой и величественной. Не ради своих мелких интересов, не за власть или личное счастье борется она сейчас: «Что касается нас, то я понимаю: ни о каком счастье думать нечего; как бы обстоятельства ни сложились, его не будет. Но долг короля – страдать за других, и мы хорошо выполним его. Однажды это поймут». Поздно, но всем своим существом Мария Антуанетта понимает, что ей предопределено быть исторической личностью, и эта вневременная задача придает ей огромные силы. Ибо, когда человек приближается к пределу своего «я», когда он решается докопаться до самого сокровенного своей личности, в его крови восстают тайные силы всех его предков. Эту слабую, неуверенную в себе женщину внезапно, волшебным образом возвышает над собой то, что она из дома Габсбургов, внучка и наследница древней королевской чести, дочь Марии Терезии. Она чувствует себя обязанной быть «digne de Marie Thérèse»[254], быть достойной своей матери, и слово «мужество» становится лейтмотивом ее симфонии смерти. Непрерывно повторяет она: «Ничто не в состоянии сломить мое мужество», – и, получив из Вены известие о том, что ее брат Иосиф в ужасной смертельной агонии вел себя до последнего вздоха мужественно, она пророчески произносит слова, очень откровенно выражая ими чувство собственного достоинства: «Он скончался как император. Осмелюсь сказать, он достоин меня».
* * *
Правда, эта гордость, поднятая, словно знамя над миром, обходится Марии Антуанетте намного дороже, чем думают иные. Ибо в глубочайшей своей сущности эта женщина совсем не высокомерна, она отнюдь не сильная личность, не героиня, очень женственна, рождена не для борьбы, а для нежной самоотверженной любви. Мужество, выказываемое ею, предназначено для того, чтобы поддержать мужество в других, она давно уже более не верит в лучшие дни. Едва лишь возвращается она в свою комнату, руки, которыми она только что гордо держала знамя над миром, устало опускаются, почти всегда Ферзен находит ее в слезах; часы встреч с бесконечно любимым, наконец-то найденным другом ничем не напоминают любовных свиданий, все свои силы должен собрать этот не менее измученный человек, чтобы рассеять ее грусть, чтобы снять ее усталость. И как раз именно это ее несчастье возбуждает в любящем самые глубокие чувства. «Она при мне часто плачет, – пишет он сестре, – судите же, как я должен любить ее!» Последние годы были слишком суровыми для этого легковерного сердца: «Мы видели слишком много ужасов и слишком много крови, чтобы когда-либо вновь быть счастливыми». Но вновь и вновь против безоружной женщины поднимается ненависть, и нет у нее иного защитника, кроме собственной совести. «Я взываю к миру, пусть мне скажут, в чем я виновата», – пишет она. Или еще: «От будущего я ожидаю справедливого приговора, и это помогает мне переносить все мои страдания. Тех, кто не верит в это, я презираю настолько, чтобы не замечать их». И все же она вздыхает: «Как жить с таким сердцем в таком мире!» Чувствуется, что в иные минуты у отчаявшейся женщины лишь одно желание – чтобы скорее наступил конец: «Как хотелось бы, чтобы все наши страдания, по крайней мере, принесли нашим детям счастье! Вот единственное желание, которое я позволяю себе иметь».
* * *
Эти мысли о своих детях – единственные, которые Мария Антуанетта еще решается связывать с понятием «счастье». «Если я и смогу когда-нибудь быть счастлива, то только благодаря моим обоим детям», – вздыхает она однажды, а в другой раз замечает: «Когда мне становится грустно, я беру к себе моего малыша». «Весь день я одна, и единственное мое утешение – мои дети. Я держу их возле себя, сколько можно». Двое из четверых, которым она дала жизнь, умерли, и теперь загнанная внутрь, а ранее неосторожно показанная всему миру любовь с отчаянной страстностью толкает ее к этим двум оставшимся в живых. Дофин в особенности радует ее – крепкий, здоровый малыш, смышленый и ласковый, «chou d’amoiu»[255], как влюбленно говорит она о нем; все ее чувства, симпатии и склонности показывают, что эта много выстрадавшая женщина постепенно становится прозорливой. Обожая своего мальчика, она не балует его. «Наша нежность к этому ребенку должна быть суровой, – пишет она его гувернантке. – Нам не следует забывать, что мы воспитываем будущего короля». И, передавая после мадам Полиньяк своего сына новой воспитательнице, мадам де Турзель, она составляет той для руководства психологическую характеристику ребенка, неожиданно показав этим до сих пор скрытые блестящие способности глубокого понимания человека и его душевных качеств. «Моему сыну четыре года и четыре месяца без двух дней, – пишет она. – Я не буду писать о его росте и внешности, это Вы увидите сами. Он всегда был здоров, но рос очень нервным ребенком; с колыбели малейший шум возбуждал его. Зубы у него пошли поздно, но безболезненно и без каких-либо осложнений, и, лишь когда прорезался, кажется, шестой, у мальчика появились конвульсии. С тех пор подобные конвульсии повторялись лишь дважды: зимой 1787/88 года и во время прививки, однако во второй раз конвульсии были очень слабые. Из-за острой нервной восприимчивости любой шум, к которому он не привык, вызывает у него страх; так, например, однажды услышав возле себя лай, он стал бояться собак. Я никогда не заставляла его терпеть возле себя собак, думаю, что со временем, когда он станет разумнее, этот страх пройдет сам собой. Как и все крепкие, здоровые дети, он очень шаловлив, а при внезапных вспышках гнева – резок; но все же он славный, нежный и ласковый ребенок, если на него не нападает упрямство. У него очень развито чувство собственного достоинства, что со временем, если его правильно использовать, можно направить на пользу мальчику. Даже если мальчик еще не привык к кому-то, но проникся к нему доверием, он все равно будет держаться ровно, сдержанно, скроет свое недовольство, даже гнев, будет вести себя мягко и вежливо. Если он обещал что-нибудь, то всегда выполняет, но излишне болтлив, охотно повторяет то, что слышал со стороны, и, не желая солгать, часто добавляет к этому все, что благодаря его способности фантазировать кажется ему правдоподобным. Это самый большой его недостаток, и, безусловно, следует сделать все, чтобы помочь ему от этого недостатка избавиться. В остальном, повторяю, он славный ребенок. Деликатно и энергически воздействуя на него, не применяя при этом слишком строгих мер, им можно без труда руководить и добиться всего, что требуется. Строгость будет его сильно раздражать; несмотря на такой нежный возраст, у него уже есть характер. Приведу лишь один пример: с самых малых лет его очень раздражает слово „прощение“. Если он не прав, то будет делать и говорить все, чего бы от него ни потребовали, но слова „простите меня“ выдавит из себя, лишь обливаясь слезами, испытывая при этом ужасные страдания. С самого начала я воспитала в моих детях большое доверие ко мне, и они привыкли рассказывать мне все, даже если сделали что-нибудь нехорошее, потому что если я и браню их, то никогда не показываю при этом, что сержусь, а только что меня огорчает, смущает то, что они натворили. Я приучила их к тому, что все сказанное мной однажды, любое „да“ или „нет“, не подлежит отмене; но каждому своему решению всегда даю объяснение, понятное их возрасту, чтобы они не подумали, что решила я просто из каприза. Мой сын еще не может читать, да и учится очень скверно; он слишком несобран, чтобы заставить себя стараться. О своем высоком положении он не имеет никакого понятия, и мне хочется, чтобы это так и осталось. Наши дети и так слишком рано узнают, кто они такие. Свою сестру он любит сильно и от чистого сердца; всякий раз, когда ему что-либо доставляет удовольствие, безразлично, предстоит ли ему куда-нибудь идти, или он получает от кого-то подарок, первое, что он требует, – это чтобы и сестре досталось то же. По своей природе он очень веселый, подвижный, для его здоровья необходимо, чтобы он много времени проводил на открытом воздухе…»
Если положить этот документ матери рядом с прежними письмами женщины, трудно поверить, что написаны они одной и той же рукой, – так далека эта Мария Антуанетта от той, другой, далека, как несчастье от счастья, как отчаяние от шаловливого задора. Несчастье оставляет более отчетливый отпечаток на нежных, незрелых, податливых душах: четко вырисовывается характер, ранее беспокойный, неясный, словно текучая вода. «Когда же ты наконец станешь собой?» – все время в отчаянии сетовала мать. И вот наконец, с первыми седыми волосами на висках, Мария Антуанетта стала собой.
* * *
Эту полную метаморфозу можно обнаружить на портрете, единственном из сделанных в период пребывания королевы в Тюильри. Польский художник Кухарский писал его легко, в непринужденной манере. Бегство в Варенн прервало работу над портретом; и тем не менее из всех дошедших до нас это наиболее совершенное изображение королевы. Парадные портреты Вертмюллера, салонные портреты мадам Виже-Лебрен роскошными костюмами и пышными декорациями постоянно стремятся напомнить зрителю, что эта женщина – королева Франции. В великолепной шляпе с прекрасными страусовыми перьями, сверкая драгоценностями, в парчовом платье, стоит она перед своим обитым бархатом престолом, и, даже если художник изобразит ее в одеянии мифологической героини или в одежде пейзанки, в картине обязательно будет явный знак, удостоверяющий, что эта женщина – значительная особа, более того, самая значительная особа страны, королева. Портрет же работы Кухарского лишен всех этих бросающихся в глаза аксессуаров: женщина зрелой красоты села в кресло и мечтательно смотрит перед собой. Она выглядит немного усталой, утомленной. Никаких особенных туалетов, нет украшений, нет драгоценностей на шее, она не принарядилась – ничего кокетливого, не время для этого. Флиртующая женщина уступила место отдыхающей, щегольство отступило перед простотой. Безыскусно причесанные, с первыми серебряными нитями, свободно и естественно спадают волосы, спокойно струится платье со все еще полных и сверкающих плеч. Но ничто в позе не рассчитано на внешний эффект, на желание нравиться. Губы не улыбаются более, глаза не манят призывно; в неверном сиянии осени, еще прекрасная, но уже мягкой, материнской красотой, в двойственном свете желания и отречения, femme entre deux âges[256], уже не молодая, но еще и не старая, уже без желаний, но еще желанная, сидит эта женщина, погруженная в свои мечты. Если другие портреты оставляют впечатление, что женщина, влюбленная в свою красоту, в беге, в танце, смеясь, лишь на мгновение обратила свой взор на художника, чтобы вновь броситься в водоворот жизни, то, глядя на этот портрет, чувствуешь: эта женщина успокоилась и полюбила покой. После тысяч изображений кумира, после портретов в драгоценных рамах, после изваяний, статуэток из мрамора, из слоновой кости, из бронзы – незаконченный портрет дает наконец образ человека; единственный среди них он впервые позволяет угадать в этой королеве душу.
Мирабо
В изматывающей борьбе против революции королева до сих пор искала защиты только у одного союзника – у времени. «Нам могут помочь лишь гибкость и терпение». Но время – ненадежный, беспринципный союзник, оно неизменно принимает сторону сильного и с пренебрежением бросает на произвол судьбы всякого, кто, надеясь на него, сам ничего не предпринимает. Революция движется вперед, каждую неделю вербуя тысячи новобранцев в городах, среди крестьян, в армии; только что созданный Якобинский клуб[257] с каждым днем все основательнее подводит рычаг, чтобы опрокинуть монархию. Наконец королю и королеве становится понятной вся опасность их изолированности, и они начинают искать союзников.
Одно значительное лицо – эта великая тайна оберегается самым узким кругом приближенных – уже не раз в завуалированной форме предлагает свои услуги. С сентябрьских дней в Тюильри знают, что вождь Национального собрания, внушающий ужас врагам революции, граф Мирабо, этот лев революции, готов принять из рук королевы золотую подачку. «Позаботьтесь о том, – сказал он тогда посреднику, – чтобы во дворце знали: я скорее с ними, нежели против них». Однако, пока двор оставался в Версале и чувствовал себя спокойно, уверенно, королева еще не представляла себе всей значительности этого человека, который, как никто другой, был способен вести революцию, поскольку сам был гением мятежа, воплощением свободолюбия, олицетворенной идеей разрушения, материализацией анархии. Другие в Национальном собрании – дельные, доброжелательные ученые, проницательные юристы, честные демократы, все эти идеалисты грезили о порядке и преобразованиях; лишь для него одного хаос в государстве явится спасением от хаоса собственного внутреннего мира. Его вулканическая сила – однажды он с гордостью назвал ее силой десятерых людей – желает помериться с могучим противником, требует достойного приложения; сам не устроенный в семейном, нравственном, материальном отношениях, он желает, чтобы и государство было таким же неустроенным, чтобы он смог взобраться на эти развалины. Все вспышки его стихийной природы, возникавшие время от времени до сих пор, памфлеты, обольщения женщин, дуэли и скандалы были всего лишь клапанами для разрушительного темперамента, они совершенно недостаточны для его успокоения, ведь укротить его не удалось даже всем тюрьмам Франции. Широких просторов требует эта непокорная душа, грандиозных задач – этот могучий дух: словно разъяренный бык, слишком долго простоявший взаперти в тесном загоне, доведенный до бешенства жалящими бандерильями[258] презрения, рвется он на арену революции, с первого же удара разнося в щепы гнилые барьеры стойла. Национальное собрание ужасается, впервые услышав в своих стенах этот громовый глас, но склоняется под его властным игом. Блестящий оратор, большой писатель, он обладает поразительным талантом в немногие минуты выковывать сложнейшие законы, создавать дерзновенные чеканные формулировки, подобные тем, что в древние времена отливались в бронзе. Его пламенный пафос парализует волю Национального собрания, и уже нет недоверия к его подозрительному прошлому, уже нет инстинктивной самозащиты идеи порядка против этого вестника хаоса; у французского Национального собрания вместо тысячи двухсот голов первых дней теперь лишь одна-единственная голова, один-единственный неограниченный повелитель.
Однако этот глашатай свободы сам не свободен: долги обременяют его, путы грязного процесса связывают ему руки. Человек, подобный Мирабо, может жить, может действовать, лишь безрассудно расточая. Он хочет быть беспечным, ему нужны карманы, полные звонкой монеты, изобилие во всем, открытый стол, секретари, женщины, помощники, слуги. Лишь купаясь в роскоши, он может полностью отдать самого себя. Чтобы быть свободным в этом единственном понятном ему смысле, загнанный сворой кредиторов, он предлагает себя любому: Неккеру, герцогу Орлеанскому, брату короля и, наконец, самому двору. Но Мария Антуанетта, которая перебежчиков аристократии ненавидит больше, чем кого бы то ни было, считает себя в Версале еще достаточно сильной, чтобы отказаться от продажного расположения этого monstre. «Я надеюсь, – отвечает она посреднику графу де Ламарку, – что мы никогда не окажемся настолько несчастными, чтобы прибегнуть к этому последнему, столь мучительному для нас средству – искать помощи у Мирабо».
* * *
Но все же этот час настал. Пятью месяцами позже – для революции бесконечно большой отрезок времени – граф де Ламарк через посланника Мерси получает уведомление. Королева готова вести переговоры с Мирабо, или, что, по сути, одно и то же, она готова купить его. К счастью, еще не поздно: с первого же раза Мирабо клюет на золотую наживку. С радостью узнает он, что Людовик XVI держит наготове четыре собственноручно подписанных долговых обязательства на двести пятьдесят тысяч ливров каждое, общей суммой в один миллион, которые должны быть ему, Мирабо, переданы после заседания Национального собрания, «если им будет оказана добрая услуга королевскому дому», как добавляет бережливый король. И едва трибун видит, что все его долги погашаются единым росчерком пера и, кроме того, он может рассчитывать на шесть тысяч ливров пенсиона в месяц, как годами гонимый судебными исполнителями и полицейскими сыщиками человек «приходит в восторженное упоение, степень которого меня поразила» (граф де Ламарк). С такой же испытанной страстностью, с какой он всегда убеждает всех, он убеждает и себя в том, что лишь он один в состоянии спасти одновременно и революцию, и короля, и страну. Едва почувствовав, что большие деньги плывут к нему в карман, Мирабо вдруг сразу вспоминает, что он, рыкающий лев революции, всегда, собственно, был пылким роялистом. 10 мая он подтверждает эту сделку, расписывается под соответствующим документом со словами: он обязуется служить королю лояльно, ревностно и отважно. «Я усвоил монархическое миропонимание, несмотря на то что видел лишь слабости двора, не имел представления о сердечности и уме дочери Марии Терезии, не смел рассчитывать на таких высоких союзников. Я служил монарху даже тогда, когда не надеялся получить ни прав, ни вознаграждения от справедливого, но введенного в заблуждение короля. На что же я способен теперь, когда уверенность укрепляет мое мужество, а благодарность за то, что мои принципы находят понимание, придает мне силы? Я всегда останусь тем, кто я есть: защитником монархической власти в том смысле, как она определена законом, апостолом свободы в той степени, в какой она признана королевской властью. Сердце мое будет следовать по пути, уже предначертанному разумом».
Обе стороны прекрасно понимают: этот договор, несмотря на высокопарность его стиля, не очень-то достойный документ, он касается дел, не терпящих огласки. Вот по этой-то причине и решено, что Мирабо никогда не должен появляться во дворце и все свои советы королю – передавать лишь в письменном виде. Для улиц и площадей Парижа Мирабо следует оставаться революционером, в Национальном же собрании – защищать интересы короля, – скверное, темное дело, при котором никто не выигрывает и никто никому не доверяет. Мирабо тотчас же приступает к выполнению своих обязательств: пишет монарху письмо за письмом с советами и предложениями; истинным же адресатом является королева. Король не в счет; это открывается ему очень скоро – он надеется быть понятым королевой. «Король, – пишет он уже во втором своем письме, – располагает лишь одним мужчиной, и этот мужчина – его жена. Она же находится в опасности, пока не будет восстановлен королевский авторитет. Я думаю, она не сможет жить без короны, но совершенно уверен в том, что она не сможет сохранить себе жизнь, не сохранив трон. Настанет момент, и, вероятно, очень скоро, который покажет, на что способна женщина с ребенком на лошади[259]. А это было уже проверено в ее семье, пока же необходимо все приготовить и не рассчитывать на случай или какую-либо нехитрую интригу, способные разрешить необычный кризис с помощью обычных людей и простых средств». Как необыкновенного, выдающегося человека Мирабо крайне прозрачно предлагает себя. Своим словом, обладающим магической силой, он рассчитывает успокоить разбушевавшуюся волну столь же легко, как может возмущать ее. В своем воспаленном самомнении он видит себя одновременно и президентом Национального собрания, и премьер-министром королевской четы. Но Мирабо заблуждается. Ни одного мгновения Мария Антуанетта не думает облечь эту mauvais sujet[260] настоящей властью. Обычному, заурядному человеку демоническая личность всегда инстинктивно представляется подозрительной, и Мария Антуанетта не может понять грандиозную аморальность этого гения, равного которому по исключительности она не встречала на своем жизненном пути. Она испытывает лишь неприятное чувство от неожиданных дерзких поворотов его характера, его титаническая страстность скорее отталкивает ее, нежели притягивает. Сокровеннейшей ее мыслью является возможно быстрее – как только минет в этом надобность – выплатить все, что обещано этому неистовому, волевому, не поддающемуся никакому контролю человеку, и удалить его от себя. Его дорого купили, он должен честно отработать эти немалые деньги, должен давать советы, ведь он умен и хитер. Советы прочтут, используют то, что не покажется слишком эксцентричным, слишком дерзким, – и конец. Этот отличный агитатор потребуется при голосовании, он будет полезен как лицо, хорошо осведомленное о всех подводных течениях революции, как посредник при проведении в Национальном собрании «политики добрых услуг» королевскому дому. Этот подкупленный может быть использован при необходимости, для того чтобы подкупать других. Лев должен рычать в Национальном собрании, оставаясь на поводу у двора. Такого мнения Мария Антуанетта об этой поразительной личности, но ни грана истинного доверия не испытывает она к человеку, с чьими способностями иногда считается, «мораль» которого всегда презирает и гениальности которого никогда не понимает и не признает.
* * *
Вскоре проходит медовый месяц первого увлечения. Мирабо начинает понимать, что его письма, вместо того чтобы разжигать огонь воодушевления, попадают в королевскую корзину для бумаг. Но то ли из тщеславия, то ли из-за страстного желания заполучить обещанный миллион – Мирабо не перестает атаковать двор. И, видя, что его письменные советы и предложения не дают никаких плодов, он делает последнюю попытку. На основании опыта политика, по бесчисленным любовным похождениям он знает, что подлинно могуч не как писатель, а как оратор, что его электризующая сила наиболее полно проявляется при личном общении. Он непрерывно наседает на посредника, графа де Ламарка, требует, чтобы тот предоставил ему наконец возможность встречи с королевой. Один лишь час беседы – и ее недоверие, подобно тому как это было уже не с одним десятком женщин, превратится в преклонение перед ним. Одну аудиенцию, только одну! Ибо его самоуверенность пьянит себя мыслью, что эта аудиенция не будет последней. Тот, кто однажды узнает его близко, не в состоянии более освободиться от его чар. Мария Антуанетта долго уклоняется от встречи, наконец сдается и объявляет, что готова принять Мирабо 3 июля во дворце Сен-Клу.
* * *
Само собой разумеется, эта встреча должна произойти тайно; по странной иронии судьбы Мирабо предстоит то, о чем мечтал кардинал Роган, оставшийся в свое время в дураках, – встреча в саду, в тени рощицы. Парк Сен-Клу – очень скоро и Ганс Аксель Ферзен узнает об этом – имеет множество скрытых убежищ. «Я разыскала место в парке, – пишет королева посланнику Мерси, – хотя и не очень удобное, однако пригодное для того, чтобы встретить его там, вдали от дворца и сада».
Определено и время встречи: воскресенье, восемь утра – час, когда двор еще спит и гвардейцы не ожидают посетителей.
Мирабо, безусловно взволнованный, проводит ночь перед свиданием в доме своей сестры в Пасси. Рано утром экипаж везет его в Сен-Клу, кучер – племянник, переодетый соответствующим образом. Экипаж останавливается в укромном месте, и, приказав ждать, Мирабо, глубоко надвинув шляпу на глаза, прикрыв лицо плащом, словно заговорщик, входит в королевский парк через заранее указанную и предусмотрительно оставленную открытой боковую калитку.
Вскоре слышит он легкие шаги на гравии дорожки. Появляется королева – без сопровождающих. Мирабо хочет поклониться. Увидев изуродованное страстями, изрытое оспой, властное и все же чем-то притягательное лицо плебея-аристократа в обрамлении всклокоченных волос, она непроизвольно всем своим существом испытывает дрожь и не может этого скрыть. Мирабо замечает ее испуг, он привык к такой реакции. Всегда все женщины (он прекрасно знает это), даже нежная Софи Волян[261], впервые увидав его, приходят в ужас. Но гипнотическая сила его уродства, возбуждающая отвращение, в состоянии и привлекать; ему всегда удавалось этот первый испуг трансформировать в удивление, в поклонение и – весьма часто! – даже в страстную любовь.
То, о чем в эту встречу говорили королева и Мирабо, останется тайной. Поскольку не было свидетелей, все сообщения, в том числе и пытающейся представиться всезнайкой камеристки мадам Кампан, являются вымыслом и догадками. Известно лишь, что не Мирабо королеве, а она ему навязала свою волю. Прирожденное величие, усиленное вечно действенным ореолом королевской власти, присущее ей чувство собственного достоинства и живой ум, создающий после первой беседы с Марией Антуанеттой впечатление, что она, столь переменчивая, более решительная, умная и энергичная, чем в действительности, с непреодолимым волшебством действуют на легковозбудимую натуру Мирабо, которому не чуждо великодушие. Он симпатизирует тому, в ком чувствует смелость. Покидая парк, еще не придя в себя от волнения, он хватает своего племянника за руку и восклицает с характерной для него страстностью: «Она удивительная женщина, благородная и очень несчастная! Но я спасу ее». За один-единственный час Мария Антуанетта сделала решительным продажного, неустойчивого человека. «Ничто не в состоянии удержать меня, я скорее умру, нежели не выполню свое обещание», – пишет Мирабо своему посреднику де Ламарку.
Королева не оставила никаких сообщений об этой встрече. Никогда ее габсбургские губы не обронили слова благодарности Мирабо или доверия к нему. Никогда более она не высказала желания увидеть Мирабо, ни единой строчки не адресовала ему. Да и при той встрече она никакого союза с ним не заключила, а приняла от него лишь заверения в преданности. Она только разрешила ему пожертвовать собой ради нее.
* * *
Мирабо дал обещание, более того – он дал два обещания. Он присягнул на верность и королю, и нации, и в разгар борьбы он оказался одновременно начальником генеральных штабов обеих партий. Никогда ни один политик не принимал на себя более опасного обязательства, чем исполнение ролей в подобной двойной игре, никто не сыграл их столь гениально до конца, как он (Валленштейн был дилетантом по сравнению с ним). Даже с точки зрения физического напряжения деятельность Мирабо в эти драматические недели и месяцы поражает. Он выступает в Национальном собрании и в клубах, он агитирует, он ведет переговоры, принимает депутации и отдельных лиц, читает, работает. Днем составляет сообщения и предложения для Национального собрания, а вечером – секретные донесения королю. Три-четыре секретаря едва успевают записывать за ним, с такой стремительной поспешностью диктует он статьи, меморандумы, речи, однако всего этого недостаточно для его неисчерпаемой энергии. Еще большей работы жаждет он, еще большей опасности, еще большей ответственности, и при всем при этом он хочет широко жить, наслаждаться жизнью. Подобно канатному плясуну, стремится он сохранить равновесие, балансируя, подаваясь то вправо, то влево, обе основные силы своей исключительной натуры – свой ум политика-ясновидца, свою пылкую непреоборимую страстность – полностью отдавая решению двух задач. И так молниеносно чередуются его удары и парирования ударов, так стремителен его клинок, что никому не понять, против кого он обращен: против короля или против народа, против новой власти или против старой. И возможно, в моменты самоувлеченности Мирабо не знает этого и сам. Но долго так продолжаться не может. Противоречий в поведении не скрыть, возникают подозрения. Марат бросает ему обвинение в подкупе, Фрерон угрожает ему фонарным столбом. «Побольше добродетели, поменьше таланта!» – кричат ему в Национальном собрании. Но, не ведая ни страха, ни боязни, этот поистине опьяненный человек, о чьих долгах знает весь Париж, беззаботно транжирит свои новые богатства. Какое ему дело до того, что все вокруг удивляются, перешептываются, спрашивая друг друга, на какие средства получил он внезапно возможность содержать дом с вельможным размахом, устраивать грандиозные званые обеды, приобрести библиотеку Бюффона, осыпать драгоценностями оперных див и продажных женщин! Словно Зевс, бесстрашно шествует он в грозу, полагая себя владыкой непогоды. Любого задевающего его он, словно Самсон[262] филистимлян ослиной челюстью, бьет дубинкой своего гнева, разит молнией своего сарказма. Перед ним – бездна, вокруг него – подозрение, за ним – смертельная опасность; наконец-то титаническая сила, заключающаяся в нем, нашла достойную, соразмерную себе стихию; в эти решающие дни, перед самым угасанием, чудовищные языки пламени, взметнувшись на колоссальную высоту, сжигают его ни с чем не сравнимую силу, равную силе десятка человек. Наконец-то этому невероятному человеку дана задача, соразмерная его гениальности, – сдержать неизбежное, приостановить судьбу. Со всей энергией своей сущности бросается он в самый водоворот событий и пытается, один против миллионов, повернуть вспять колесо революции, то самое колесо, которое он же привел в движение.
* * *
Удивительная дерзость этой борьбы – одновременно на стороне каждой из обеих враждующих партий, грандиозность этой двойной игры выше понимания прямолинейной натуры Марии Антуанетты. Чем смелее становятся предлагаемые им меморандумы, чем более и более сатанинскими – даваемые им советы, тем сильнее страшится ее здравый смысл. Мысль Мирабо заключается в следующем: он хочет черта изгнать с помощью Вельзевула, вышибить клин клином, революцию уничтожить ее уродливой гипертрофией – анархией. Если обстоятельства не изменить к лучшему, их следует – его пресловутая politique du pire[263] – как можно скорее ухудшить, подобно тому как врач возбуждающими средствами вызывает кризис, чтобы ускорить этим выздоровление. Не сдерживать народное движение, а усиливать его, побеждать Национальное собрание не сверху, а, тайным образом подстрекая народ, добиться того, чтобы он сам послал к черту Национальное собрание. Не на покой рассчитывать, не на мир надеяться, а, наоборот, провоцировать несправедливость, сеять в стране недовольство, накалять атмосферу до предела, возбуждая этим страстную потребность в порядке, в старом добром порядке, ничего при этом не страшиться, даже гражданской войны, – вот каковы далекие от морали, но политически прозорливые предложения Мирабо. Однако при такой дерзновенности, оглушительно трубящей, словно в фанфары: «Четыре врага стремительно надвигаются на нас: налоги, банкротство, армия и зима; нам необходимо принять решение и быть готовыми, чтобы овладеть положением. Короче говоря, гражданская война неизбежна и, вероятно, необходима», – при подобных дерзких провозглашениях сердце королевы трепещет от ужаса. «Как может Мирабо или вообще любое мыслящее существо думать, что когда-нибудь настанет, более того, уже сейчас настал момент развязать гражданскую войну», – в негодовании возражает она и называет этот план «безумным от начала до конца». Ее недоверие к аморальной личности, готовой использовать любые, даже самые страшные, средства, постепенно становится неодолимым. Напрасно пытается Мирабо прервать «ударами грома этот ужасный летаргический сон» – его не слушают, и мало-помалу к его гневу против этой духовной вялости королевской семьи примешивается известное презрение к royal betail[264], к этим королевским баранам, послушно бредущим к бойне. Давно уже он понимает, что напрасно борется за этот двор, готовый лишь инертно принять помощь и совершенно неспособный к действиям. Но борьба – стихия Мирабо. Сам потерянный человек, он борется за потерянное дело и, уже сорвавшись с гребня черной волны, еще раз в отчаянии пророчески призывает обоих: «Добрый, но слабовольный король! Несчастная королева! Всмотритесь в разверстую перед вами ужасную бездну, к которой толкают вас колебания между слепой доверчивостью и излишним недоверием! Еще можно огромным напряжением усилий попытаться избавиться от них, но эта попытка – последняя. Откажетесь от нее или она вам не удастся – и траур покроет это государство. Что произойдет с ним? Куда понесет корабль, пораженный молнией, разбитый штормом? Не знаю. Но если мне самому удастся сохранить жизнь при кораблекрушении, то всегда я с гордостью буду говорить о своем одиночестве: я сам подготовил себе свое падение ради того, чтобы спасти их. Они же не пожелали принять мою помощь».
* * *
«Они не пожелали»; еще в Библии сказано о том, что нельзя запрячь в одну упряжку вола и коня. Неуклюжая, консервативная форма мышления двора антагонистична пламенному, стремительному, не терпящему ни узды, ни поводьев темпераменту великого трибуна. Женщина старого мира, Мария Антуанетта не понимает революционной сущности Мирабо, она в состоянии постичь лишь прямолинейный способ действий, но не отважное ва-банк этого гениального авантюриста от политики. И все же до последнего часа Мирабо в самоупоении продолжает бороться из одной лишь жажды борьбы, гордый своей безмерной отвагой. Один против всех, подозреваемый двором, подозреваемый Национальным собранием, подозреваемый народом, он заигрывает одновременно со всеми и борется против каждого из них. Истощенный физически, снедаемый лихорадкой, он вновь и вновь с трудом плетется к трибуне, чтобы еще раз навязать свою волю тысяче двумстам депутатам, пока наконец в марте 1791 года – восемь месяцев служил он одновременно королю и революции – смерть не одерживает верх над ним самим. Еще витийствует он, еще до последнего момента диктует своим секретарям, еще спит последнюю ночь с двумя оперными дивами, и вот этот титан полностью истощен. Толпами возле его дома стоят люди, прислушиваясь к последним глухим ударам сердца революции. За гробом покойного следуют триста тысяч человек. Чтобы дать останкам этого человека вечный покой, Пантеон впервые открывает свои ворота.
Но как жалко звучит слово «вечность» в столь бурные времена! Двумя годами позже, как только вскроются тайные связи Мирабо с королем, новым декретом еще не полностью разложившийся труп будет вырыт из могилы и выброшен на живодерню[265].
* * *
Лишь двор не реагирует на смерть Мирабо, и это не случайность. Не следует всерьез воспринимать глупый анекдот, выдуманный мадам Кампан, будто видели слезы на глазах Марии Антуанетты, услышавшей сообщение о смерти трибуна. Нет ничего маловероятнее этого; скорее всего, королева отметила конец этого союза вздохом облегчения: слишком велик был трибун, чтобы служить, слишком смел и дерзновенен, чтобы быть кому-либо послушным; двор боялся живого, он боялся и мертвого титана. Еще Мирабо в постели с предсмертными хрипами борется за жизнь, а из дворца уже засылают к нему в дом доверенного агента для изъятия из письменного стола умирающего опасных писем, дабы сохранить в строжайшей тайне ту связь, которой обе стороны стыдятся: Мирабо – потому, что служит двору, королева – потому, что пользуется его услугами. Со смертью Мирабо с исторической арены уходит последний человек, который, возможно, мог бы стать посредником между монархией и народом. И вот теперь стоят они друг перед другом лицом к лицу: Мария Антуанетта и Революция.
Подготавливается бегство
Со смертью Мирабо из жизни ушел единственный помощник в борьбе монархии против революции. Вновь двор остается в одиночестве. Имеются две возможности: победить революцию или капитулировать перед ней. Как всегда, двор принимает промежуточное решение, самое злополучное, – бегство.
Еще Мирабо высказывал мысль, для восстановления своего авторитета король должен освободиться от бесправного положения, навязанного ему в Париже, – пленники вести войну не могут. Чтобы иметь возможность по-настоящему бороться, нужно обладать свободной армией и иметь под ногами твердую почву. Но Мирабо настаивал на том, что король не должен удирать тайком, – это несовместимо с его достоинством. «Король не бежит от своего народа, – сказал он и добавил еще более определенно: – Король имеет право удалиться лишь при дневном свете, чтобы при этом остаться истинным королем». Он предложил, чтобы Людовик XVI выехал на прогулку в своей карете за город. Там его будет ждать оставшийся ему верным конный полк, и вот, в окружении своих солдат, верхом на коне, при свете дня ему следует направиться к своей армии и как свободному человеку вести переговоры с Национальным собранием. Конечно, подобный образ действий по плечу мужчине, а к такому нерешительному человеку, как Людовик XVI, нет смысла обращаться с призывом вести себя смело и мужественно. Правда, он обдумывает разные варианты, обсуждает их со всех сторон, но, в конце-то концов, сохранить удобства, привычной образ жизни для него важнее, нежели сохранить жизнь. И все же теперь, когда Мирабо мертв, Мария Антуанетта, уставшая от каждодневных унижений, чаще и чаще возвращается к мысли о бегстве. Ее не пугают опасности бегства, она страшится лишь потерять достоинство, так как потеря достоинства равносильна для нее потере престола. Но ухудшающееся с каждым днем положение не терпит промедления. «Остается лишь одно из двух, – пишет она посланнику Мерси, – либо погибнуть от меча мятежников, если они победят, и, следовательно, потерять абсолютно все, либо остаться под пятой деспотичных людей, утверждающих, что они желают нам только добра, в действительности же они все время причиняли нам один вред и впредь всегда будут вести себя так же. Вот наше будущее, и, вероятно, роковой момент наступит раньше, чем мы того ожидаем, если сами не решимся проявить твердость, применить силу, дабы овладеть общественным мнением. Поверьте мне, все сказанное не плод экзальтированных мыслей, оно не вызвано неприятием нашего положения или страстным желанием немедленно приступить к действиям. Я отчетливо представляю себе опасность, но вижу также различные открывающиеся нам возможности: вокруг нас кошмар, и лучший исход – погибнуть в поисках какого-либо пути к спасению, вместо того чтобы дать себя уничтожить, ничего не предпринимая, дабы избежать гибели».
И поскольку осторожный и трезвомыслящий Мерси вновь и вновь высказывает из Брюсселя свои сомнения, она пишет письмо еще более пылкое, полное пророческих мыслей, показывающее, насколько ясно представляет себе всю катастрофичность положения эта столь недавно легковерная женщина: «Положение наше ужасно, так ужасно, что его и не представить тем, кого нет сейчас в Париже. Перед нами выбор: либо слепо выполнять требования factiex, либо погибнуть от меча, постоянно занесенного над нашими головами. Поверьте мне, я не преувеличиваю опасности. Вам хорошо известно, что всегда основным моим правилом было по возможности проявлять уступчивость, я надеялась на время и перемену общественного мнения. Но сегодня все изменилось; мы должны либо погибнуть, либо ступить на единственный путь, который нам еще не закрыт. Мы отнюдь не ослеплены настолько, чтобы считать этот путь безопасным; но если уж нам и предначертана гибель, то пусть она будет хоть славной, после того как мы сделаем все, дабы умереть достойно и выполнить свой долг перед религией… Я надеюсь, провинция менее развращена, чем столица, но тон всему королевству задает Париж. Клубы и тайные общества ведут за собой всю страну; порядочные люди и недовольные, хоть их немного, бегут из страны или таятся, потому что они утратили силу или же потому что им недостает единения. Лишь когда король будет свободен и окажется в укрепленном городе, станет ясно, сколь велико в стране количество недовольных, молчавших или вздыхавших до сих пор втихомолку. Но чем дольше медлить, тем меньше поддержки найдем мы, ибо республиканский дух с каждым днем завоевывает себе все больше и больше последователей во всех классах, брожение в войсках все сильнее и, если не поспешить, положиться на них будет уже невозможно».
Кроме революции, возникает еще одна опасность. Принцы Франции – граф д’Артуа, принц Конде – и другие эмигранты, горе-герои, лихие хвастуны, бряцают у границы государства саблями, предусмотрительно вложенными в ножны. Они интригуют при всех дворах и, желая замаскировать неловкость своего бегства из Франции, разыгрывают из себя героев, пока это не грозит им опасностью. Они разъезжают от одного двора к другому, пытаются натравить императоров и королей на Францию, нимало не заботясь о том, что любая такая пустая демонстрация ставит под удар жизнь короля и королевы. «Он (граф д’Артуа) мало печалится о своем брате и моей сестре, – пишет император Леопольд II. – „Это gli importa un frutto“[266], – говорит он, высказываясь о короле, и совершенно не думает о том, как сильно вредят его планы и происки королю и моей сестре». «Великие герои» отсиживаются в Кобленце и Турине[267], живут на широкую ногу и утверждают при этом, что жаждут крови якобинцев. Королеве стоит огромных усилий удержать их от грубейших ошибок. Их необходимо лишить возможности действовать таким образом. Король должен быть свободным, чтобы держать в узде и ультрареволюционеров, и ультрареакционеров, всех этих «ультра» – тех, кто в Париже, и тех, кто по ту сторону государственной границы. Король должен быть свободным, и ради этого следует использовать даже самое неприятное, самое недостойное средство – бегство.
* * *
Организация побега находится в руках королевы, и получается так, что практические приготовления, само собой разумеется, она поручает тому человеку, от которого у нее нет никаких тайн и которому она безгранично верит, – Ферзену. Тому, кто сказал: «Я живу лишь для того, чтобы служить вам», ему, своему другу, доверяет она дело, исполнение которого требует напряжения всех сил, более того – беззаветной жертвы жизнью. Трудности безмерно велики. Чтобы выйти из охраняемого Национальной гвардией дворца, в котором едва ли не каждый слуга – шпион; чтобы выбраться из ставшего чужим и враждебным города; чтобы пересечь страну и пробиться к единственному оставшемуся верным королю генералу Буйе и его войскам, – следует принять необычайно серьезные меры, нужны смелость и предусмотрительность. Предполагается, что генерал вышлет конные разъезды в направлении к крепости Монмеди, примерно до Шалона, с тем чтобы, в случае если король будет опознан в пути или кареты короля и его семьи начнут преследовать, можно было бы защитить беглецов. Возникает новая трудность: нужен повод для оправдания этих бросающихся в глаза передвижений войск в пограничном районе, необходимо, следовательно, чтобы возле этого участка границы сосредоточился корпус австрийских войск, что позволит генералу Буйе провести маневрирование вверенными ему войсками. Все это подлежит обсуждению в тайной переписке с соблюдением чрезвычайных предосторожностей, ибо большинство писем вскрывается, и, как говорит Ферзен, «весь план провалится, если будут замечены хоть бы малейшие следы приготовлений к бегству». Кроме того, еще одна трудность – организация этого побега требует больших денежных средств, у короля же и королевы их нет. Все попытки получить несколько миллионов у своих братьев, у других владетельных особ Англии, Испании, Неаполя, у придворного банкира терпят крах. И о деньгах, как, впрочем, и о всем другом, должен позаботиться Ферзен, этот незначительный шведский аристократ.
Но Ферзен черпает силы в своей любви. Он работает за десятерых, сердце его полно преданности и самоотречения. Проникнув потайными ходами вечером или ночью в покои королевы, он часами обсуждает с нею мельчайшие подробности задуманного побега. Он ведет переписку с иностранными государями, с генералом Буйе, он подбирает самых надежных дворян, которые, переодетые курьерами, будут сопровождать королевскую семью, и тех, кому будет поручена доставка писем к королю и от короля. Он заказывает на свое имя карету, достает фальшивые паспорта, раздобывает деньги, одолжив, якобы для себя, по триста тысяч ливров у двух дам: шведки и русской – и, наконец, даже берет взаймы еще три тысячи у своего домоправителя. Вносит в Тюильри один за другим предметы туалета, необходимые для переодевания, и тайком же выносит из дворца бриллианты королевы. День и ночь, неделю за неделей, в непрерывном напряжении он пишет, ведет переговоры, составляет планы, разъезжает с постоянной опасностью для жизни, ибо стоит лишь порваться ничтожному участку сети, сотканной заговорщиками и накинутой ими на всю страну, стоит лишь одному посвященному обмануть доверие – и все пропало. Одно неосторожное слово, одно перехваченное письмо – и Ферзен поплатится головой. Но, движимый страстной любовью, смело и в то же время осторожно, трезво, без устали, молчаливый, всегда находящийся в тени, герой играет свою роль в одной из величайших трагедий мировой истории.
* * *
Все еще колеблются при дворе, все еще надеется медлительный король на какое-нибудь благоприятствующее событие, которое поможет отказаться от побега, от связанных с ним тягостных забот. Но напрасно: карета заказана, самая необходимая сумма денег раздобыта, договоренность с генералом Буйе об эскорте имеется. Недостает одного – внешнего повода, морального прикрытия для этого, несмотря ни на что, не очень-то рыцарского поступка. Необходимо найти хоть что-нибудь, что позволило бы показать миру, что король и королева удалились не из простого страха, – террор принудил их к этому. Чтобы создать такой предлог, король объявляет Национальному собранию и городскому самоуправлению, что Пасхальную неделю желает провести в Сен-Клу. И точно, как тайно и рассчитывалось, пресса якобинцев клюет на эту приманку: двор-де желает попасть в Сен-Клу для того, чтобы неприсягнувший священник[268] отслужил там мессу и отпустил королевской чете грехи, и, кроме того, велика опасность, что король желает оттуда бежать со своей семьей за границу. Подстрекательские статьи делают свое дело. 19 апреля, когда король собирается сесть в парадную карету, с явным вызовом поданную к главному входу дворца, вокруг нее уже стоит огромная толпа народа – это армия Марата и клубов силой хочет воспрепятствовать отъезду короля[269].
Именно такой публичный скандал и необходим королеве и ее советчикам. Весь мир должен знать, что Людовик XVI – единственный человек во Франции, не свободный в своих поступках, он не имеет даже права выехать в своей карете за десять миль от города, чтобы подышать свежим воздухом. Итак, вся королевская семья демонстративно усаживается в карету и ждет, пока в нее не впрягут лошадей. Но толпа, а с нею и национальные гвардейцы преграждают путь к конюшням. Наконец появляется вечный «спаситель» Лафайет и, как командир Национальной гвардии, приказывает освободить дорогу карете короля. Но никто не слушает его. Мэр, которого он просит развернуть красный флаг предостережения, смеется генералу в лицо. Лафайет хочет обратиться к народу – крики толпы заглушают его голос. Анархия открыто захватывает права на бесправие.
Между тем, пока злополучный командир безуспешно пытается заставить свои войска слушать его, король, королева и принцесса Елизавета спокойно сидят в карете, окруженные горланящей толпой. Дикий шум, грубые ругательства не задевают Марию Антуанетту; напротив, со злорадством наблюдает она бессилие Лафайета, апостола свободы, любимца народа, перед возмущенной толпой. Она не вмешивается в эту распрю двух сил: каждая из них ненавистна ей. Сумятицу вокруг себя она принимает спокойно и с кажущимся безразличием, это волнение вокруг со всей очевидностью покажет всему миру, что у Национальной гвардии нет более авторитета, что во Франции господствует анархия, что толпа, чернь может безнаказанно оскорблять членов королевской семьи и что тем самым король имеет моральное право покинуть Париж. Два с четвертью часа длится эта сцена, и лишь затем король приказывает вкатить карету в каретник и отменяет поездку в Сен-Клу. Как всегда, одержав победу, только что разъяренная, неистовствующая, орущая толпа мгновенно меняется. Ликуя, она восторженно приветствует королевскую чету; так же внезапно переменившись, Национальная гвардия дает королеве обещание защищать ее. Но Мария Антуанетта прекрасно понимает, что означает эта защита, и громко отвечает: «Да, мы рассчитываем на вас. Но вы должны признаться: сейчас-то мы не свободны». Она намеренно громко говорит эти слова. Сказанные Национальной гвардии, они в действительности обращены ко всей Европе.
* * *
Если бегство произошло бы в ночь на 20 апреля, то причина и следствие, оскорбление и реакция на него, удар и контрудар в своей последовательности были бы логически обоснованы. Два простых, легких, не бросающихся в глаза своей пышностью экипажа, в одном – король с сыном, в другом – королева с дочерью, да, пожалуй, еще и с мадам Елизаветой, и никто не обратил бы внимания на такие обыденные, заурядные кабриолеты с двумя-тремя седоками в них. Не привлекая ничьего внимания, королевская семья достигла бы границы: ведь бегство брата короля, графа Прованского, а бежал он в ту же ночь, что и королевская семья, именно потому и удалось, что не было обставлено с такой пышностью.
Но, даже находясь на волосок от смерти, королевская семья не желает нарушить священные обычаи, даже опаснейшее путешествие должно быть организовано по правилам бессмертного этикета. Первая ошибка: принимается решение ехать в одной карете пяти особам, то есть всей семьей, – отцу, матери, сестре, обоим детям, а ведь на сотнях эстампов именно в таком составе и изображается королевская семья, и вся Франция, до последней деревушки, прекрасно знает этот семейный портрет. Но этого мало, мадам де Турзель вспоминает о своей присяге, в соответствии с которой она не имеет права ни на мгновение оставлять королевских детей без присмотра. Следовательно, она – и это вторая ошибка – тоже должна быть в карете. Из-за неоправданной перегрузки скорость движения, естественно, уменьшится, а ведь каждые четверть часа, каждая минута – решающие. Третья ошибка: немыслимо, чтобы королева сама себя обслуживала. Следовательно, с собой необходимо взять – во вторую карету – еще двух горничных; таким образом, получается уже восемь человек. Но поскольку кучер, форейтор, курьер и лакей должны быть заменены надежными людьми, правда не знающими дороги, но обязательно лицами аристократического происхождения, набирается уже двенадцать человек, а если учесть Ферзена и его кучера, то все четырнадцать. Не многовато ли для того, чтобы сохранить все приготовления в тайне? Четвертая, пятая, шестая и седьмая ошибки: необходимо взять с собой туалеты – король и королева должны явиться в Монмеди в парадной одежде, а не в дорожных костюмах. Это увеличивает вес багажа еще на пару сотен фунтов. Дополнительный багаж в новехоньких чемоданах – дополнительный балласт, замедляющий движение, дополнительная опасность быть опознанными в пути. Мало-помалу то, что было задумано как тайный побег, превращается в помпезную экспедицию. А вот и самая большая из всех ошибок: королю и королеве предстоит целые сутки быть в пути и, даже если они бегут из преисподней, они должны ехать со всеми удобствами. Следовательно, для задуманной операции используется новая карета, особенно просторная, на хороших рессорах, роскошно отделанная, еще пахнущая свежим лаком. На каждой почтовой станции она, безусловно, вызовет особое любопытство у любого кучера, любого курьера, любого почтмейстера, любого конюха. Ферзен же – влюбленные так недальновидны – хочет обставить поездку Марии Антуанетты как можно лучше, как можно удобнее, приятнее. По его обстоятельным указаниям (якобы для баронессы Корф) изготавливается гигантская карета, нечто вроде небольшого военного корабля на четырех колесах, в которой не только должны разместиться пять особ королевской семьи, гувернантка, кучер и лакей, но также предусмотрено место для всего того, что обеспечило бы в пути все мыслимые удобства: серебряный сервиз, гардероб, съестные припасы, а также стульчаки, необходимые для отправления потребностей, естественных даже для королей. Встраивается винный погребок, который заполняется отборными винами, ибо монарх понимает в них толк и охотно их пьет. Карета изнутри обивается светлой камчатной тканью, и, пожалуй, остается лишь удивляться тому, что на дверцах кареты позабыли изобразить герб с лилиями. Чтобы везти такое громоздкое сооружение с мало-мальски терпимой скоростью, в роскошную карету необходимо впрягать восемь или даже двенадцать лошадей. И если легкую почтовую коляску о двух лошадях можно перепрячь за пять минут, здесь на смену лошадей требуется не менее получаса, четыре-пять часов задержки в пути на весь маршрут, а ведь даже четверть часа промедления может стоить жизни. Чтобы возместить моральный ущерб, наносимый дворянам, сопровождающим королевскую семью, – ведь им придется сутки быть в одежде слуг, – их наряжают в новехонькие, с иголочки, ливреи, сверкающие позументами и пуговицами, а потому очень броские и резко контрастирующие с продуманной, нарочито скромной одеждой короля и королевы. В маленькие городки на пути следования королевской семьи предусмотрены внезапные наезды эскадронов драгун (это в мирное-то время!), якобы ожидающих «денежный транспорт», – весьма непродуманный маневр, способный вызвать основательные подозрения у местных жителей. И наконец, следует упомянуть еще об одной несуразности, о поистине исторической глупости, совершенной герцогом Шуазелем, решившим использовать для секретных поручений во время задуманной операции неподходящего человека, этого Фигаро во плоти, парикмахера королевы, божественного Леонара, весьма опытного в искусстве причесок, но не в вопросах дипломатии. Более верный своей бессмертной роли Фигаро, чем королю, он еще сильнее запутывает и без того уже сильно запутанное положение.
Единственное оправдание всему этому – государственный церемониал Франции не располагал историческим прецедентом «бегства короля». Как вести себя при крестинах, при коронации, как вести себя в театре или на охоте, в каком платье, в какой обуви, с какими застежками появляться на больших и малых приемах, у карточного стола, в чем выезжать к мессе или на охоту, – для всего этого церемониал расписан до мельчайших подробностей. Но как королю и королеве бежать из дворца своих предков в чужом платье, на сей счет нет никаких предписаний. Здесь следует импровизировать смело и свободно. И двор, совершенно оторванный от жизни, при этом первом соприкосновении с реальным миром показывает полное свое бессилие. В момент, когда король Франции, собираясь бежать, надел на себя ливрею своего слуги, он перестал быть господином своей судьбы.
* * *
Наконец после бесконечных задержек определяется день бегства – 19 июня. Далее медлить невозможно, ибо паутина тайны, связывающей между собой такое большое количество людей, в любой момент может порваться. В едва слышное шушуканье и перешептывание внезапно, словно удар хлыста, врезается статья Марата, объявляющая о заговоре, цель которого – похищение короля: «Его силой хотят вывезти в Нидерланды под предлогом, что дело Людовика XVI – дело всех королей, а вы слишком глупы, чтобы воспрепятствовать этому. Парижане, безрассудные парижане, я устал вновь и вновь повторять вам: стерегите как следует короля и дофина, держите под замком австриячку, ее невестку и всех членов семьи; потеря одного-единственного дня может оказаться роковой для всей нации». Поразительная сила прови́дения у этого удивительно дальнозоркого человека, смотрящего на мир сквозь призму болезненной подозрительности; но потеря одного-единственного дня станет роковой не для нации, а для королевской четы. Еще раз в последний час Мария Антуанетта переносит дату побега, план которого разработан с точностью до часа. Напрасно до полного истощения сил трудился Ферзен, чтобы все приготовить к 19 июня. Дни и ночи, на протяжении недель и месяцев только этому одному предприятию служит его страстная любовь. Еженощно выносит он под своим плащом из покоев королевы необходимые для бегства предметы туалета, секретной перепиской точно согласовано с генералом Буйе, в каких именно пунктах драгунам и гусарам следует ожидать карету короля. Ферзен лично на почтовой станции Венсен проверяет упряжку заказанных им лошадей. Все доверенные лица в подробностях посвящены в план, сложный механизм проверен до последнего колесика. И вот в последний момент королева отменяет приказ. Одна из ее камеристок, находящаяся в связи с революционером, кажется ей очень подозрительной. Устроено так, чтобы на следующее утро, 20 июня, она была свободной от службы, вот и приходится переждать один день. Значит, опять двадцать четыре часа роковой задержки. Контрприказ генералу, приказ «расседлать коней!» – гусарам, опять напряжение нервов до предела возбужденного Ферзена, да и королевы тоже, которая уже едва в состоянии сдержать свое волнение.
Но вот наконец позади и этот последний день. Чтобы рассеять всякое подозрение, королева после обеда отправляется с детьми и мадам Елизаветой в увеселительный парк Тиволи. По возвращении она с обычным, исполненным величия спокойствием дает указания на следующий день коменданту. Не заметно никакого возбуждения в поведении королевы, а тем более короля. Это человек без нервов, он физически не способен волноваться. В восемь вечера Мария Антуанетта возвращается в свои покои и отпускает женщин. Детей укладывают спать, и все взрослые с кажущейся беззаботностью собираются к ужину в большом салоне. И лишь на одно мог бы обратить внимание очень тонкий наблюдатель – на то, что время от времени королева встает и смотрит на часы, как если бы она чувствовала себя усталой. В действительности же никогда за всю свою жизнь она не была такой собранной и бодрой, так готовой помериться силами с судьбой, как в эту ночь.
Бегство в Варенн
[270]
Вечером того 20 июня 1791 года даже самый настороженный наблюдатель не смог бы обнаружить в Тюильри ничего подозрительного: как всегда, солдаты Национальной гвардии стоят на своих постах; как всегда, камеристки и слуги разошлись после ужина; как всегда, в большом салоне сидят король, его брат, граф Прованский, и остальные члены семьи, мирно проводят время за игрой в триктрак или за спокойной беседой. Что же тут странного, если королева около десяти вечера среди разговора встает и на некоторое время удаляется? Ничего странного нет. Вероятно, она хочет дать какое-нибудь поручение или должна написать небольшое письмо. Никто из слуг не сопровождает ее, и, когда она выходит в коридор, там никого нет. Мария Антуанетта некоторое время стоит, напряженно затаив дыхание, прислушиваясь к тяжелым шагам гвардейцев, затем спешит к комнате дочери и тихо стучит в дверь. Маленькая принцесса просыпается и испуганно зовет вторую, замещающую гувернантку, госпожу Брюние; та является, удивленная неожиданным приказом королевы быстро одеть ребенка, но исполняет его без возражений. Между тем королева будит дофина, распахнув камчатый балдахин и нежно прошептав ему: «Вставай, мы уезжаем. Мы поедем в крепость, где много солдат». Сонный маленький принц лепечет что-то, требует свою саблю и мундир, ведь должен же он быть в мундире, если едет к солдатам. «Скорее, скорее, мы спешим», – приказывает Мария Антуанетта первой гувернантке, мадам де Турзель, давно посвященной в тайну, и та под предлогом, что они едут на костюмированный бал, одевает принца девочкой. Обоих детей тихо ведут по лестнице в комнату королевы. Там их ожидает веселый сюрприз: когда королева открывает дверцу стенного шкафа, из него выходит гвардейский офицер господин Мальден (неутомимый Ферзен до поры спрятал его там). Все четверо поспешно направляются к неохраняемому выходу.
Двор почти не освещен. Длинным рядом стоят кареты, несколько кучеров и лакеев праздно бродят по двору или болтают с гвардейцами, отложившими в сторону свои тяжелые ружья и не думающими – так хорош теплый летний вечер! – ни о своем долге, ни о возможных опасностях, подстерегающих их. Королева сама отворяет дверь и выглядывает наружу: ни на мгновение ее не оставляет чувство осторожности. В тени, отбрасываемой каретой, стоит, притаившись, человек, одетый кучером. Едва обменявшись с королевой парой слов, он берет дофина за руку; неутомимый Ферзен с самого утра на ногах, переделал тысячу самых разных дел. Заранее подготовил почтальонов – трех лейб-гвардейцев, переодетых курьерами, расставил их всех по своим местам. Тайком вынес из дворца необходимые в пути предметы обихода, подготовил карету, успокаивая взволнованную до слез королеву. Три, четыре, пять раз, сначала переодетый, а затем в своем обычном платье, он метался по всему Парижу, чтобы все привести в заранее определенный порядок. Сейчас, выводя дофина Франции из королевского дворца, он рискует своей жизнью, и не нужны ему за это никакие вознаграждения, кроме благодарного взгляда любимой, доверившей своих детей ему, только лишь ему одному.
Четыре тени исчезают в темноте, королева тихо запирает дверь. Незаметно, легкими, беззаботными шагами возвращается она вновь в салон, как если бы получила всего лишь незначительное письмо, и продолжает беседу о чем-то совершенно несущественном, в то время как Ферзен благополучно проводит детей через большую площадь, усаживает в старомодный фиакр, где они тотчас же погружаются в сон; одновременно обеих горничных королевы в другой карете переправляют в Клэ. Одиннадцать вечера – критический час. Граф Прованский и его жена, сегодня также бегущие из Парижа, покидают дворец в обычное время, королева и мадам Елизавета отправляются в свои покои. Чтобы исключить малейшее подозрение, королева дает камеристке раздеть себя, приказывает наутро приготовить карету для выезда. Половина двенадцатого. Неизбежный визит Лафайета к королю должен закончиться, она отдает приказ погасить светильники – это сигнал слугам идти спать. Но едва за камеристкой закрывается дверь, как королева вскакивает с постели, быстро надевает – на этот раз простенькое – платье из серого шелка и черную шляпу с фиолетовой вуалью, скрывающей лицо. Теперь надо тихо спуститься по маленькой лесенке вниз, где ее ждет доверенное лицо, и пересечь темную площадь Карусель. Все идет отлично. Но – непредвиденное, неприятное происшествие: внезапно двор освещается, это проезжает карета, впереди нее – скороходы и факельщики, – карета Лафайета, который убедился, что все, как всегда, в отменном порядке. Королева поспешно прячется под аркой ворот, карета Лафайета едва не задевает ее своими колесами. Никто не заметил Марию Антуанетту. Еще два-три шага – и она возле фиакра, в котором находятся самые любимые ею на свете существа – Ферзен и ее дети.
* * *
Труднее выбраться из дворца королю. Сначала он должен терпеливо выдержать ежевечерний визит Лафайета, затянувшийся на этот раз настолько, что даже толстокожему Людовику с трудом удается сохранить хладнокровие. Вновь и вновь встает он со своего кресла, подходит к окну как бы для того, чтобы посмотреть на небо. Наконец в половине двенадцатого докучливый гость откланивается. Людовик XVI направляется в свою опочивальню, и здесь начинается последняя отчаянная битва с этикетом, слишком уж заботливо оберегающим его. В соответствии с древними обычаями, камердинер короля должен спать в той же комнате, что и король, причем к запястью слуги привязывается шнур. Достаточно одного движения руки монарха, чтобы тотчас же разбудить его. Если теперь король желает бежать из своих покоев, бедняга должен сначала скрыться от своего камердинера. Спокойно, как обычно, Людовик XVI дает себя раздеть, ложится в постель и спускает с обеих сторон полог, как будто собираясь отойти ко сну. В действительности же он только ждет, чтобы слуга вышел раздеться в смежное помещение. В эти считаные минуты – сцена, достойная пера Бомарше, – король, крадучись, босой, в ночной рубашке, вылезает за полог и через другую дверь скрывается в комнате сына. Здесь для него уже приготовлена простая одежда, грубый парик и (новый позор!) шляпа лакея. Между тем в королевскую опочивальню очень осторожно, затаив дыхание, чтобы ненароком не разбудить возлюбленного монарха, покоящегося за пологом, возвращается верный слуга и, как он делал это ежедневно, подвязывает к запястью шнур. А тем временем вниз по лестнице в одной рубашке крадется Людовик XVI, потомок и наследник Людовика Святого, король Франции и Наварры, с серым сюртуком, париком и шляпой лакея в руках. Внизу, в стенном шкафу, ожидает его лейб-гвардеец господин Мальден, чтобы указать дальнейший путь. Неузнаваемый благодаря плащу бутылочного цвета и шляпе лакея на августейшей голове, беспрепятственно идет король по безлюдному двору своего дворца; неузнанного, пропускают его не очень-то ревностно несущие караульную службу гвардейцы. Этим как будто бы счастливо завершается самый тяжелый этап, и в полночь вся семья собирается в фиакре. Ферзен, переодетый кучером, садится на козлы и везет переодетого лакеем короля с семьей через Париж.
* * *
Через Париж, роковым образом через Париж! Ибо аристократ Ферзен привык, чтобы его возили, сам же на козлах он никогда не сидел и потому не знает бесконечных, сложнейших лабиринтов города. Кроме того, из предосторожности – роковая осторожность! – вместо того чтобы сразу же выехать из города, он направляется еще раз на улицу Матиньон, узнать, уехала ли уже карета-корабль. Лишь в два часа ночи, а не в полночь он вывозит драгоценный груз к городским воротам – два часа, два невозвратимых часа потеряны.
Карета-корабль должна стоять за таможенным барьером. И вот первая неожиданность: ее там нет. Опять потеря времени. Наконец ее обнаруживают, запряженную четверкой лошадей, с потушенными фарами. Лишь теперь Ферзен может на фиакре подъехать к карете, чтобы члены королевской семьи перебрались в нее, не замарав своей обуви – это было бы ужасно! – грязью французских дорог. И вот лошади запряжены в половине третьего – утром вместо полуночи. Нет, Ферзен не скупится на удары бичом, через полчаса они в Бонди, где их уже ожидает гвардейский офицер с восьмеркой свежих, хорошо отдохнувших курьерских лошадей. Здесь надо прощаться. Это очень нелегко. Трудно расставаться Марии Антуанетте с единственным надежным человеком, но король заявил категорически, что не желает, чтобы Ферзен сопровождал их далее. По какой причине – неизвестно. Возможно, чтобы не предстать перед верноподданными в обществе этого интимнейшего друга своей жены, возможно – из уважения к ней. Во всяком случае Ферзен отмечает: «Il n’a pas voulu»[271]. И поскольку уже все согласились, что Ферзен тотчас же посетит действительно свободных монархов, то и прощание поэтому коротко. Над горизонтом встает бледное мерцание света, предвещая жаркий день. Ферзен еще раз подъезжает верхом к карете и громко кричит на прощание, дабы ввести в заблуждение курьеров, не посвященных в тайну: «Прощайте, мадам де Корф!»
* * *
Бодрой рысцой, быстрее, чем четверка, восьмерка лошадей тянет тяжелую, громоздкую карету вдоль серой дороги, извивающейся, словно ручей. Все располагает к хорошему настроению: дети выспались, король оживлен больше обычного. Шутят по поводу ролей, которые приходится играть беглецам: госпожа де Турзель теперь знатная дама мадам де Корф, королева – мадам Рошет, гувернантка ее детей, король в ливрее лакея – дворецкий Дюран, мадам Елизавета – камеристка, дофин превратился в девочку. В сущности в этой удобной карете семья чувствует себя свободнее, члены семьи – ближе друг другу, нежели дома, во дворце, под неусыпным наблюдением многочисленной прислуги и шестисот национальных гвардейцев. Вот уже заявляет о себе верный друг Людовика XVI – никогда не покидающий его аппетит. Извлекаются обильные припасы, едят вдоволь, на серебряном сервизе, из окон кареты летят куриные кости, пустые винные бутылки; не забывают и славных лейб-гвардейцев. Дети в восторге от приключения, играют в карете, королева весело болтает со всеми, король использует этот непредвиденный повод для того, чтобы познакомиться со своим королевством. Он достает карту и с большим интересом следит за маршрутом от села к селу, от деревушки к деревушке. Постепенно у них появляется чувство безопасности: на первой почтовой станции в шесть утра – горожане еще нежатся в своих постелях – никто не интересуется паспортом баронессы Корф; остается лишь проехать через город Шалон – и можно считать, что предприятие удалось. Ведь в пяти милях за этим последним препятствием, у Понт-де-Сом-Весля, их уже поджидает выдвинутый вперед первый отряд кавалерии под командой молодого герцога Шуазеля.
Вот наконец и Шалон, четыре часа пополудни. Нет ничего подозрительного в том, что у почтовой станции собирается так много людей. Когда в городе появляется карета из столицы, очень хочется поскорее узнать от курьеров последние новости, при случае отправить на следующую станцию письмишко или посылочку, да и вообще, в маленьком скучном городишке любили и любят поболтать. Есть много охотников посмотреть новых людей, новую, красивую карету: бог мой, чего же тут придумать другого, более интересного в жаркий летний день! Знатоки с профессиональным интересом рассматривают карету. Новехонькая, с почтением устанавливают они прежде всего, и наверняка принадлежит очень знатной особе. Обита камкой, какая прекрасная отделка, какой великолепный багаж! Конечно же, это аристократы, вероятно эмигранты. Собственно, любопытно бы посмотреть на них, поболтать с ними, но странное дело: почему-то после долгой, утомительной поездки все они, все шестеро, так упрямо отсиживаются в душной карете. Ведь стоит чудесный, теплый день, можно бы выйти из нее, хоть немного поразмяться, выпить за разговором стакан холодного вина. Почему так нагло важничают эти лакеи в галунах? Кого это они корчат из себя? Странно, очень странно! Начинается тихое перешептывание, кто-то подходит к почтмейстеру, говорит ему несколько слов на ухо. Тот выглядит смущенным, очень смущенным, но не вмешивается, давая карете спокойно продолжать свой путь. Однако – никому не известно, кто сказал это первым, – спустя полчаса весь город болтает только об одном – через Шалон проехал король с семьей.
Те же ничего не знают, ни о чем не подозревают, напротив, несмотря на усталость, очень довольны. Ведь на следующей станции их уже ожидает Шуазель со своими гусарами. Будет покончено со всякими притворствами и обманом, можно будет отбросить шляпу лакея, порвать фальшивые паспорта, услышать наконец «Vive le roi! Vive la reine!»[272] – клики, давно уже не ласкавшие слух. Полная нетерпения, мадам Елизавета все время выглядывает в окно, чтобы первой приветствовать Шуазеля, курьера. Защищая глаза ладонью от заходящего солнца, напряженно всматриваются они, чтобы издали увидеть блеск гусарских сабель. Напрасно, ничего не видно. Наконец появляется всадник, один-единственный; гвардейский офицер подскакивает во весь опор к карете.
– Где Шуазель? – окликают его.
– Дальше.
– А остальные гусары?
– Здесь никого нет.
Хорошего настроения как не бывало. Тут что-то неладно. К тому же темнеет, близится ночь. Тревожно, боязно ехать сейчас вперед, в неизвестность. Но пути назад нет, остановиться тоже нельзя, у беглецов одна лишь дорога – дальше и дальше. Королева утешает своих спутников. Нет здесь гусар, так в Сент-Менегу, всего в двух часах езды отсюда, стоят драгуны, там-то уж они будут в безопасности.
Эти два часа тянутся дольше, чем целый день. Но – еще одна неожиданность – и в Сент-Менегу нет эскорта. Есть лишь командир драгун; кавалеристы долго ждали, весь день сидели в трактирах и там со скуки перепились, стали шуметь, да так, что заставили насторожиться все население городка. Наконец командир, одураченный сбивчивыми сообщениями придворного парикмахера, решил, что разумнее вывести солдат из городка, чтобы они дожидались в стороне от дороги, он же остался здесь один. И вот катит пышная карета, запряженная восьмеркой, а за ней пароконный кабриолет – второе таинственное событие этого дня для славных обывателей городка. Сначала, неизвестно зачем и почему, явились сюда драгуны, а теперь вот обе кареты с курьерами в роскошных ливреях; и смотри-ка, как подобострастно, как почтительно приветствует этих диковинных гостей командир драгун! Нет, не просто почтительно, а верноподданнически, все время, пока говорит с ними, держит руку, приложив ее к козырьку. Почтмейстер Друэ, член Якобинского клуба и ярый республиканец, пристально следит за гостями. «Это, должно быть, знатные аристократы или эмигранты, – думает он, – важная, очень важная сволочь. Их нельзя упустить». Сначала на всякий случай он тихо приказывает своим курьерам не очень-то торопиться на очередном перегоне с этими таинственными пассажирами, и карета с сонными седоками сонно громыхает дальше.
Но не проходит и десяти минут после отъезда экипажей, как распространяется слух – то ли пришло сообщение из Шалона, то ли подсказал инстинкт народа, – что в карете была королевская семья. Все приходит в движение, командир драгун быстро понимает нависшую опасность и хочет выслать эскортом своих солдат вслед беглецам. Но уже поздно, ожесточенная толпа протестует, и хорошо подогретые вином драгуны братаются с народом, не слушают команд. Кое-кто из решительных молодых людей бьет тревогу, и в этой суматохе лишь один человек принимает решение: почтмейстер Друэ дает указание двум кавалеристам немедленно седлать коней и кратчайшим путем скакать галопом в Варенн, опередить тяжелую карету. Там можно будет обстоятельно побеседовать с этими подозрительными пассажирами, и если это в самом деле король, то спасет его и его корону разве что Бог! Как и тысячи раз до сих пор, и в этом случае один-единственный энергичный поступок энергичного человека меняет ход мировой истории.
* * *
Между тем гигантская карета короля катит и катит в Варенн по извилистой дороге. Сутки пути в накаленном солнцем экипаже утомили седоков, тесно прижатых друг к другу; дети давно спят, король сложил свои карты, королева замолкла. Еще час, всего один лишь час – и они под охраной надежного эскорта. Но вот новая неожиданность. На последней предусмотренной планом побега станции, под городом Варенном, лошади не подготовлены. Приезжие топчутся в темноте, стучат в окна станции и слышат неприветливые голоса. Высланный вперед парикмахер Леонар путаными, сбивчивыми сообщениями (никогда не следует своим посланцем выбирать Фигаро) убедил обоих офицеров, которым поручено ожидать здесь беглецов, что король не явится. Они улеглись спать, и сон этот для короля оказывается столь же роковым, как и сон Лафайета в ночь на 6 октября. Итак, дальше, на усталых лошадях в Варенн; возможно, там удастся их сменить. Но вторая неожиданность: под аркой городских ворот к форейтору подбегает несколько молодых людей с криком: «Стой!» Мгновение – и оба экипажа окружены толпой юнцов. Прибывший сюда десятью минутами раньше Друэ со своими единомышленниками собрал всю революционную молодежь Варенна, кого вытащив из постели, кого – из трактира. «Паспорта!» – приказывает кто-то. «Мы спешим, мы очень торопимся», – отвечает из кареты женский голос. Это «мадам Рошет», королева, единственный человек, сохранивший самообладание в момент опасности. Но сопротивление бесполезно, им приказано следовать к ближайшему постоялому двору (как зло иной раз шутит история!), именуемому «К великому монарху», а процессию уже ожидает мэр, лавочник по профессии, человек с аппетитной фамилией Сосс[273], желающий посмотреть документы приезжих. Мелкий лавочник, внутренне преданный королю, полный страха угодить в скверное дело, бегло просматривает паспорта и говорит: «Все в порядке». Что касается его, он готов отпустить карету. Но почтмейстер Друэ, уже чувствующий рыбку на крючке, ударяет по столу кулаком и кричит: «Это король и его семья, и если вы выпустите их из страны, то будете обвинены в государственной измене!» От такой угрозы у славного отца семейства душа уходит в пятки, а тут товарищи Друэ бьют в набат, во всех окнах зажигаются огни, город поднят по тревоге. Возле карет растет толпа, о продолжении пути не может быть и речи, лошади не сменены. Чтобы выпутаться из затруднительного положения, бравый лавочник-мэр предлагает госпоже баронессе Корф переночевать со своими домочадцами у него – уже поздно, не ехать же дальше ночью. «К завтрашнему утру, – думает хитрец, – так или иначе все выяснится, а я не буду в ответе». Поколебавшись – ничего лучшего все равно не придумать, к утру же драгуны явятся наверняка, – король принимает приглашение.
Через час-другой Шуазель или Буйе должны появиться здесь. И Людовик XVI в парике лакея спокойно входит в дом; первое его государственное деяние – он требует бутылку вина и кусок сыра. «Король ли это? Королева ли» – беспокойно, возбужденно шепчутся старые женщины, подоспевшие крестьяне. Так далеко отстоит в те времена маленький французский городок от великого недосягаемого двора, что ни один из этих подданных короля никогда не видел его лика, иначе как только на монетах. Поэтому решено послать за каким-нибудь аристократом, чтобы наконец-то выяснить, действительно ли неизвестный путешественник – лакей баронессы Корф, или же это Людовик XVI, христианнейший король Франции и Наварры.
Ночь в Варенне
В тот день, 21 июня 1791 года, Мария Антуанетта, уже семнадцатый год как королева Франции, на тридцать шестом году своей жизни впервые переступает порог дома французского горожанина. Это единственное отклонение от ее маршрутов: дворец – дворец, тюрьма – тюрьма. Сперва надо пройти через маленькую лавчонку, полную затхлых запахов прогорклого масла, лежалой колбасы, острых пряностей. По узкой, крутой и скрипучей лесенке король или, вернее, неизвестная личность в парике лакея и гувернантка мнимой баронессы Корф поднимаются друг за другом на второй этаж; два помещения, общая комната и спальня, низкие потолки, убогая обстановка, грязь. У двери тотчас же встают гвардейцы нового времени, ничего общего не имеющие с блистательными гвардейцами Версаля, – двое крестьян с сенными вилами в руках. Все восемь – королева, король, мадам Елизавета, оба ребенка, гувернантка и горничные – располагаются, кто сидя, кто стоя, в этом тесном пространстве. Смертельно усталых детей укладывают в постель, и под защитой мадам де Турзель они тотчас же засыпают. Королева садится в кресло и опускает вуаль на лицо; никто не сможет похвастаться, что наблюдал ее гнев, ее раздражение. Один лишь король сразу же начинает устраиваться по-домашнему, спокойно садится за стол и ножом отрезает от головки сыра огромные куски. Все молчат.
Наконец слышен цокот копыт, и одновременно раздается дикий крик сотен разбегающихся людей: «Гусары! Гусары!» Наконец-то является Шуазель, также введенный в заблуждение ложными сообщениями; несколькими сабельными ударами он освобождает себе дорогу и собирает своих солдат возле дома. Речь, с которой он обращается к ним, бравые немецкие гусары не понимают, они не знают, в чем дело, ничего они не поняли, кроме двух немецких слов: «Der König» и «Die Königin»[274]. Но тем не менее повинуются команде и наезжают на толпу, мгновенно освобождая экипажи от окружающих их людей.
Затем герцог Шуазель поспешно вбегает по ступенькам в помещение и предлагает королевской семье свой план. Он готов дать семерку коней. Король, королева и сопровождающие их люди должны верхами в окружении его отряда бежать отсюда до того, как Национальная гвардия соберет здесь своих солдат. Почтительно склонившись после своего доклада, офицер говорит: «Ваше величество, я жду приказа».
Отдать приказ, принять быстрое решение? Нет. Людовик XVI никогда не был способен на такое. Готов ли Шуазель поручиться, что при таком прорыве шальная пуля не поразит его жену, его сестру, одного из его детей, сомневается король. Не лучше ли подождать, пока соберутся сидящие по трактирам города драгуны? В этих долгих разговорах проходят минуты, драгоценные минуты. На соломенных креслах в маленькой убогой комнатке сидит старое время, колеблется, медлит, ведет переговоры.
Но революция, новое, молодое поколение, не ждет. Из близлежащих деревень стягиваются поднятые с постелей набатными ударами колоколов вооруженные люди. Собираются солдаты Национальной гвардии, с городских валов приволокли старые пушки, улицы забаррикадированы. Вновь рассеянные в толпе солдаты, без толку проведшие в седле сутки, охотно принимают вино, предлагаемое им горожанами и крестьянами, братаются с ними. Все больше и больше людей собирается на улицах. Как будто какое-то коллективное неосознанное предчувствие решающего часа охватывает массы. Крестьяне, пастухи, рабочие из мест и местечек, прилегающих к городу, среди ночи поднимаются и тянутся к Варенну; древние старухи, чтобы хоть раз увидеть короля, бредут издалека со своими клюками, и теперь, когда король должен открыться, они все полны решимости не выпустить его за стены своего города. Любая попытка перепрячь лошадей встречает отпор. «В Париж – или будем стрелять, застрелим его в карете!» – кричат разъяренные люди почтальону, и среди этой сумятицы вновь бьет набат. Еще одна тревога в эту драматическую ночь: прибыла карета из Парижа. Национальное собрание разослало во все концы страны своих комиссаров на поиски короля. Двоим сидящим в этой вновь прибывшей карете повезло: они настигли беглецов. Теперь с Варенна снята ответственность, теперь маленькие люди – пекари, сапожники, портные, мясники этого городишки – не должны решать судьбу мира: здесь посланцы Национального собрания, единственного признаваемого народом авторитета. С триумфом ведут вновь прибывших в дом лавочника Сосса вверх по лестнице, к королю.
Тем временем проходит ужасная ночь, наступает утро, уже половина седьмого. Один из двух комиссаров, Ромёф, бледен и смущен. Не очень-то он доволен данным ему поручением. Как адъютант Лафайета, он часто нес караульную службу в Тюильри в покоях королевы, которая ко всем своим подчиненным относилась со свойственной ей доброжелательностью и сердечностью, всегда была приветлива с ним. Порой она, да и король также, дружелюбно разговаривала с ним. В глубине души этот адъютант Лафайета имеет одно желание – спасти обоих. Но рок невидимо противодействует королю: Ромёфа сопровождает второй комиссар, очень честолюбивый, преданный революции человек, Байон. Едва напав на след, Ромёф пытается тайно замедлить погоню, чтобы дать королю лишний шанс, но неумолимый Байон наседает на него; и вот стоит он, краснея от стыда, страшась сообщить королеве роковой декрет Национального собрания, приказывающий задержать королевскую семью. Мария Антуанетта не может скрыть свое удивление: «Как, сударь, вы? Нет, я никак этого не ожидала!» В замешательстве Ромёф бормочет: «Весь Париж возбужден, государственные интересы требуют, чтобы король вернулся». Королева проявляет нетерпение, отворачивается. За путаными объяснениями она чувствует нечто страшное. Наконец король требует декрет и читает: Национальное собрание лишает его прав монарха, каждый курьер, встретивший королевскую семью, должен применять любые средства, дабы воспрепятствовать ее дальнейшему продвижению. Правда, слов «бегство», «арест», «задержание» в декрете нет. Но этим декретом Национальное собрание впервые заявляет, что король не свободен и полностью подчинен его воле. Даже Людовик Неуклюжий понимает эту перемену, имеющую историческое значение.
Но он не защищается. «Во Франции нет больше короля», – говорит он своим сонным голосом, как если бы речь шла не о нем, и кладет рассеянно декрет на кровать, в которой спят обессиленные дети. Но тут Мария Антуанетта внезапно стряхивает с себя оцепенение. Эта женщина, мелкая во всем мелочном, церемонная во всем внешнем, показном, оказывается величественной, значительной, когда задевают ее гордость, угрожают ее чести. Она комкает декрет Национального собрания, осмелившегося распоряжаться ее судьбой и судьбой ее семьи, и презрительно швыряет его на пол: «Я не желаю, чтобы эта бумажка замарала моих детей».
Ужас охватывает маленьких чиновников при этом вызове. Чтобы замять неловкость, Шуазель быстро поднимает документ. Все в этой комнате одинаково смущены: король – смелостью жены, оба посланца Национального собрания – тягостным положением, в котором они оказались, не зная, что предпринять. Тут король предлагает решение, на первый взгляд согласующееся с декретом, однако таящее в себе коварство. Надо дать отдохнуть им здесь два-три часа, затем они вернутся в Париж. Ведь видно же, как смертельно устали дети, после двух таких ужасных ночей нужен небольшой отдых. Ромёф тотчас же понимает, чего хочет король. Через пару часов здесь будет кавалерия Буйе, а за ней – пушки и пехота. Внутренне желая спасти короля, он не возражает; в конце концов его задача – лишь выполнить приказ: приостановить экипажи короля, воспрепятствовать их дальнейшему продвижению. Это он сделал. Но второй комиссар, Байон, быстро смекнув, что́ здесь разыгрывается, решает ответить хитростью на хитрость. Он как бы соглашается, лениво спускается по лестнице и, когда его окружают возбужденные люди, спрашивая, какое решение принято, ханжески вздыхает: «Ах, они не желают возвращаться… Буйе уже близко, они ждут его». Эти слова подливают масла в уже полыхающий огонь. Такое допустить невозможно! Нельзя дать обмануть себя еще раз! «В Париж! В Париж!» Стекла окон дребезжат от гула, члены магистрата, и прежде всего несчастный лавочник Сосс, в отчаянии напирают на короля: ему следует немедленно ехать, они не ручаются за его безопасность, если он останется здесь. Гусары – иные перешли на сторону народа, иные так зажаты толпой, что бессильны что-либо предпринять; карету с триумфом подтаскивают к самой двери, в нее спешно впрягают лошадей. И тут начинается унизительная игра, ведь дело всего лишь в каких-нибудь нескольких десятках минут. Вот-вот должны подойти гусары Буйе, они совсем близко; каждая минута, которую удастся выиграть, может спасти королевство. Следовательно, во что бы то ни стало, любыми, даже недостойными средствами надо оттянуть, задержать отъезд в Париж. Даже сама Мария Антуанетта должна унижаться и впервые в жизни просить. Она обращается к супруге лавочника и умоляет ту помочь ей. Но эта бедная женщина боится за своего мужа. Со слезами на глазах она лепечет, что ей страшно тяжело отказывать в гостеприимстве королю, королеве Франции, но у нее самой дети, и мужу это может стоить жизни. Она права, эта бедная женщина, она предчувствует кровавую развязку: несчастный лавочник поплатится головой за то, что помог королю в эту ночь сжечь несколько секретных документов. Вновь и вновь пытаются король и королева задержать отъезд, подыскивая самые разные предлоги, но время идет, время проходит, а гусар Буйе все нет и нет. Уже все готово к отъезду, и тут Людовик XVI объявляет – как глубоко пал он духом, если разыгрывает такую комедию! – что ему хотелось бы поесть. Можно ли отказать королю в завтраке? Нет, конечно. Спешат подать пищу, только бы не задержать отъезд. Людовик XVI делает несколько глотков. Мария Антуанетта с презрением отодвигает тарелку в сторону. Все предлоги исчерпаны. Но вот новое происшествие: уже семья стоит у двери, и тут одна из камеристок, мадам Ньювевиль, падает на пол, симулируя конвульсии. Тотчас же Мария Антуанетта властно заявляет, что не бросит камеристку на произвол судьбы. Она не двинется с места, пока здесь не появится врач. Но и врач – ведь весь Варенн на ногах – является прежде, чем войска генерала Буйе. Он дает симулянтке успокаивающие капли; трагикомедия окончена. Король вздыхает и первый спускается по узкой крутой лесенке. За ним, с закушенной губой, поддерживаемая герцогом Шуазелем, следует Мария Антуанетта. Она догадывается, что́ предстоит им по возвращении. Но, полная забот о семье, она думает и о друге; ее первые слова, обращенные к герцогу Шуазелю: «Как вы думаете, удалось ли Ферзену спастись?» Рядом с настоящим человеком она выдержала бы и это адски трудное путешествие; оставаться же сильной среди слабовольных и малодушных так трудно.
Королевская семья садится в карету. Все еще надеются они на Буйе и его гусар. Но тщетно. Лишь грозный гул толпы доносится до них. Наконец карета трогается. Шесть тысяч человек окружают ее. Весь Варенн сопровождает свою добычу, выражая свой гнев и страх торжествующими кликами. Захлестываемый волнами революционных песен, окруженный армией тружеников, удаляется несчастный корабль монархии от утеса, у которого потерпел крушение.
И всего лишь двадцать минут спустя, еще не улегся столб пыли на дороге за Варенном, еще стоит он в знойном небе, с другой стороны в город на быстром галопе несутся эскадроны. Наконец-то они явились, так страстно и так тщетно ожидаемые гусары Буйе! Продержись король еще полчаса – и он оказался бы под защитой своей армии, а те, кто сейчас ликует, разгромленные, разбрелись бы по домам. Но, узнав, что король малодушно уступил, Буйе тотчас же отводит свои войска. К чему бесполезное кровопролитие? Он понимает, что слабость монарха уже решила судьбу монархии. Людовик XVI более не король Франции, Мария Антуанетта – не королева.
Обратный путь
Корабль в спокойном море движется быстрее, нежели в шторм. Расстояние от Парижа до Варенна карета короля покрыла за двадцать часов, возвращение длится трое суток. Каплю за каплей, до дна должны испить король и королева горькую чашу унижения. Смертельно усталые после двух бессонных ночей, не меняя одежды – рубашка короля так грязна от пота, что он вынужден взять на смену солдатскую, – сидят они вшестером в невыносимо душной и жаркой, словно духовка, карете. Немилосердно палящие лучи июньского солнца падают на раскаленную крышу кареты, воздух пахнет горячей пылью. Печально возвращение опозоренных, посрамленных, под непрерывно растущим эскортом злобно издевающейся над ними толпы. Тот шестичасовой переезд из Версаля в Тюильри был триумфальным шествием по сравнению с этим возвращением из Варенна в Париж. Карету осыпают бранными словами, двусмысленностями, каждый желает насладиться позором монархов, силой возвращаемых в столицу. Лучше закрыть окна, задыхаться, потеть, изнывать от жажды в этом котле на колесах, нежели чувствовать себя объектом издевательских насмешек и поношений, быть непрерывно под оскорбительными взглядами недоброжелателей. Уже на лицах злосчастных путников маски серой пыли, глаза воспалены от недосыпания и дорожной грязи, но опускать на длительное время занавески не разрешено, ибо на каждой станции мэр соседнего местечка или городка считает себя обязанным обратиться к королю с какой-нибудь поучительной речью, заканчивающейся обязательными уверениями, что у короля и умысла не было покинуть Францию.
В такие моменты королева держит себя прекрасно. Когда на одной станции им наконец приносят поесть и они опускают занавески, чтобы утолить свой голод не на глазах у зевак, люди начинают шуметь и требуют, чтобы занавески были подняты. Уже готова мадам Елизавета уступить, но королева энергично отказывается выполнить требование толпы. Она не обращает внимания на буйные выкрики, и лишь полчаса спустя, когда это ее действие не будет выглядеть как исполнение требований, она сама поднимет занавески, выбрасывая куриные косточки, и скажет убежденно: «Достоинство следует сохранить до конца».
Наконец-то появляется проблеск надежды: вечером в Шалоне привал. Там, за каменной триумфальной аркой, их ожидают горожане, – ирония истории – за той самой аркой, которая двадцать один год назад была сооружена в честь Марии Антуанетты, когда она в застекленной карете ехала из Австрии навстречу своему будущему супругу, а на протяжении всего пути народ приветствовал ее восторженными криками. На каменном фризе арки высечено: «Perstetaeterna ut amor» («Да будет этот памятник вечен, как наша любовь»). Но любовь не так вечна, как хороший мрамор или тесаный камень. Словно сон, вспоминает Мария Антуанетта, что под этой аркой она принимала аристократов в праздничных нарядах, что улицы были украшены лампионами, что толпы людей заполняли их, что фонтаны в ее честь били вином. Сейчас ожидает ее лишь холодная вежливость, в лучшем случае вежливость сочувствующих. И все же это благодеяние после откровенной, агрессивной ненависти. Можно выспаться, сменить одежду. Но на следующее утро вновь так враждебно печет солнце, а им надо продолжать свой мучительный путь. Чем ближе они подъезжают к Парижу, тем недоброжелательнее становится встречающий их народ. Попросит король влажную губку, чтобы смыть с лица пыль и грязь, ему издевательски отвечают: «Если едешь, грязь неизбежна». Поднимается королева после небольшой разминки по ступенькам лесенки кареты, а за спиной слышит шипение женщины, жалящее, словно укус змеи: «Берегись, милая, скоро увидишь другие ступени». Дворянина, который ее приветствует, стаскивают с коня, убивают.
Только теперь король и королева начинают понимать, что не один Париж оказался в плену «заблуждений» революции. На всех полях их страны зреют обильные всходы нового; но нет у них, по-видимому, сил глубоко прочувствовать все это: постепенно усталость делает их полностью невосприимчивыми ко всему окружающему. Обессиленные, сидят они в карете, уже безразличные к своей судьбе. И тут наконец-то, наконец-то подъезжают курьеры и сообщают: три члена Национального собрания едут навстречу, чтобы охранять поезд королевской семьи. Значит, жизнь в безопасности, но не более.
* * *
Карета останавливается посреди дороги; три депутата – Мобур, роялист, Барнав, адвокат из третьего сословия, Петион, якобинец, – идут к королевской семье. Королева сама распахивает дверцу кареты. «Ах, господа, – говорит она взволнованно и поспешно подает всем троим руку, – проследите за тем, чтобы не случилось несчастья, чтобы люди, которые нас сопровождали, не пострадали, чтобы им была сохранена жизнь». Ее безукоризненное чувство такта тотчас же находит правильный тон: не для себя самой должна просить королева защиты, а для тех, кто ей верно служил.
Энергичная манера королевы держать себя с самого начала обезоруживает покровительственно настроенных депутатов; даже Петион, якобинец, в своих записках неохотно признается, что взволнованные слова Марии Антуанетты произвели на него сильное впечатление. Он тотчас же требует тишины и предлагает королю: было бы лучше двум посланцам Национального собрания занять места в карете, дабы своим присутствием оградить королевскую семью от всяких опасностей. Мадам же Елизавета и мадам де Турзель могли бы пересесть в другую карету. Но король возражает: немножко потеснившись для депутатов, можно оставить в карете всех прежних седоков. Поспешно определяется порядок размещения людей: Барнав садится между королем и королевой, которая берет дофина на колени. Петион садится между мадам де Турзель и мадам Елизаветой, причем между колен мадам де Турзель пристраивается принцесса. Восемь особ вместо шести. Бок о бок, тесно прижатые друг к другу, сидят теперь представители монархии и народа в одной карете. И пожалуй, можно сказать, что никогда королевская семья и депутаты Национального собрания не были так близки друг другу, как в эти часы.
* * *
То, что происходит сейчас в этой карете, столь же естественно, сколь и неожиданно. Сначала взаимоотношения между пятью членами королевской семьи и двумя представителями Национального собрания напряженны, неприязненны, как между заключенными и тюремщиками. Обе стороны полны твердой решимости сохранить друг перед другом свой престиж. Мария Антуанетта упорно смотрит мимо этих factieux и не разжимает губ именно потому, что охраняется ими, отдана им на милость: они не должны думать, что она, королева, так домогалась их помощи. Депутаты со своей стороны, оставаясь в рамках вежливости, ни в коем случае не желают проявить покорность; следует, следует преподать королю наглядный урок, показать, что члены Национального собрания – свободные и неподкупные люди, что они устроены иначе, чем его раболепствующий придворный сброд. Итак, дистанция, дистанция, дистанция!
В таком настроении якобинец Петион переходит даже в наступление. Он тотчас же хочет проучить гордячку королеву, вывести ее из терпения. Ему хорошо известно, достоверность этих сведений не вызывает сомнений, заявляет он, что королевская семья возле дворца села в обычный фиакр со шведом на козлах по имени… имя шведа… При этом Петион запинается и, как бы пытаясь вспомнить имя, обращается за помощью к королеве. Удар отравленным кинжалом – спрашивать у королевы в присутствии супруга имя ее возлюбленного. Но Мария Антуанетта энергично парирует удар: «Не в моих привычках запоминать имена моих конюхов». Эта первая стычка не содействует умиротворению в тесной карете, натянутость и враждебность усиливаются.
Но пустяк разряжает напряженную обстановку. Маленький принц соскакивает с колен матери. Оба незнакомых господина чрезвычайно заинтересовали его. Крошечными пальчиками хватает он медную пуговицу мундира Барнава и с трудом, по складам, читает на ней надпись: «Vivre libre ou moutir»[275]. Конечно, это очень смешит обоих комиссаров: будущему королю Франции приходится весьма своеобразным способом знакомиться с основными принципами революции. Постепенно завязывается разговор. И тут происходит нечто странное. Валаам[276], выйдя к людям, чтобы проклинать их, стал их благословлять. Обе партии начинают находить, что их противники в сущности значительно приятнее, чем они казались издали. Петион, мелкий буржуа и якобинец, Барнав, молодой провинциальный адвокат, представляли себе «тиранов» в их личной жизни неприступными, чванными, высокомерными и наглыми глупцами и считали, что фимиам придворной лести душит все человеческое, гуманное.
И вот они оба, якобинец и буржуа-революционер, поражены естественностью взаимоотношений между членами королевской семьи. Даже Петион, желавший было играть роль неподкупного судьи, должен признаться: «Я нахожу, что они в обращении просты и непринужденны, и это мне нравится; ни следа королевской надменности – легкость и семейная бесхитростность. Королева зовет мадам Елизавету сестричкой, мадам Елизавета отвечает ей столь же сердечно. Мадам Елизавета обращается к королю: „Брат мой“. Королева разрешает принцу прыгать на ее коленях, юная принцесса играет со своим братом, а довольный король с гордостью посматривает на членов своей семьи, хотя сам малоподвижен и туповат». Оба революционера поражены: королевские дети играют точно так же, как их собственные дети дома. Комиссаров даже несколько смущает, что сами они, собственно, одеты значительно изящнее, чем повелитель Франции, на котором сейчас даже белье грязное.
Все более и более ослабевает первоначальная напряженность. Прежде чем выпить стакан вина, король предлагает его Петиону, и уж совершенно сверхъестественным представляется ошеломленному якобинцу то, что король Франции и Наварры собственноручно расстегивает штанишки своему сыну, когда дофин просится по малой нужде, и при исполнении всей этой процедуры держит перед ребенком серебряный горшок. Эти «тираны» по существу такие же люди, как и мы, с изумлением признается неистовый революционер. И точно так же поражена королева. Они, собственно, очень милые, вежливые люди, эти scélerats[277], эти monstres[278] Национального собрания! Отнюдь не кровожадны, совсем не глупы, невеждами их тоже не назовешь; напротив, болтать с ними куда интереснее, чем с графом д’Артуа или с кем-либо из его собутыльников.
Не прошло и трех часов совместного пребывания в карете, как обе партии, желавшие было навязать друг другу уважение к себе суровостью и высокомерием, – удивительная и в то же время глубоко человеческая перемена – стали искать это уважение друг у друга. Королева заводит разговор о политических проблемах, чтобы показать обоим революционерам, что люди ее круга не так уж ограниченны и злонамеренны, как ошибочно думает о них народ, склоняемый к этому недобросовестными газетами. Депутаты же стараются разъяснить королеве, что ей не следует отождествлять цели Национального собрания с путаницей идей господина Марата, с истошными воплями его газеты; и едва только разговор заходит о республике, даже Петион старается осторожно уклониться от него. Очень скоро становится ясно – многовековой опыт учит этому, – что воздух двора в состоянии вскружить голову даже самому энергичному революционеру; и едва ли найдется документ, более ярко, чем мемуары Петиона, показывающий, до какой степени глупости может довести тщеславного человека близость наследственного монарха.
После трех тревожных ночей, после трех дней, проведенных в смертоносной жаре в неудобной карете, после всех душевных волнений и унижений женщины и дети, естественно, страшно устали. Мадам Елизавету клонит ко сну, и, засыпая, она непроизвольно прислоняется к своему соседу, Петиону. Это кружит голову тщеславному болвану, он пленен чудовищным заблуждением, что-де одержал любовную победу. И вот, в своих мемуарах он пишет те слова, которые на сотни лет сохранят в памяти людей образ человека, захмелевшего от атмосферы двора: «Мадам Елизавета обратила на меня свой ставший нежным взгляд с тем выражением преданности, на которое только способен взгляд и которое пробуждает такой глубокий интерес. Наши взоры встречались с чувством взаимного понимания и взаимной симпатии; опускалась ночь, и луна изливала на нас мягкий, умиротворяющий свет. Мадам Елизавета посадила принцессу на наши колени – свое и мое. Принцесса заснула, я протянул руку, и мадам Елизавета положила на нее свою. Наши пальцы переплелись, и я касался груди девушки. Я чувствовал, как она дышит, я ощущал через платье тепло ее тела. Взгляды мадам Елизаветы представлялись мне трогательными, я заметил ее влечение ко мне, глаза ее увлажнились, и в ее меланхолии появилось что-то чувственное. Я могу ошибаться, иные формы выражения несчастья и удовольствия подчас трудно различить друг от друга, но все же я думаю, будь мы одни, она пала бы в мои объятья и отдалась бы велению природы».
Значительно серьезнее, чем эти смехотворные эротические домыслы «красавчика Петиона», оказывается действие опасного волшебства монаршего присутствия на второго депутата, Барнава. Явившись в Париж из своего провинциального городка совсем молодым, «свежеиспеченным» адвокатом, этот идеалист-революционер чувствует себя совершенно зачарованным, когда королева, королева Франции, позволяет ему изложить ей принципиальные основы революции, идеи своих клубных друзей. «Какой удобный случай, – невольно думает этот маркиз Поза[279], – внушить монархине благоговение и уважение к священным принципам, которые, возможно, склонят ее к конституционным мыслям». Пылкий юный адвокат говорит и слушает себя; и, подумать только, эта, казалось бы, поверхностная женщина (истинный Бог, ее оклеветали!), полная понимания, слушает с участием и как разумны ее возражения!
Своей австрийской любезностью, своей кажущейся готовностью поддаваться увлечению собеседника Мария Антуанетта окончательно пленяет наивного, простодушного человека. С изумлением спрашивает он себя, почему так несправедливо поступили с этой благородной женщиной, почему с нею так несправедливо обращаются. Ведь она желает только лучшего, и, окажись возле нее человек, который смог бы вовремя подсказывать ей правильные решения, во Франции было бы полное благополучие. Королева недвусмысленно намекает, что она ищет такого советчика и что она будет ему благодарна, если он в будущем пожелает просветить ее неопытность. Да, это будет его задачей – передавать отныне этой неожиданно такой рассудительной женщине все, о чем мечтает народ, и убедить Национальное собрание в чистоте ее демократического образа мыслей. Во время продолжительной беседы в архиепископском дворце Мо, где королевская семья останавливается на отдых, Мария Антуанетта так чарует Барнава своей любезностью, что он полностью предоставляет себя в ее распоряжение; итак, – кто бы мог догадаться об этом – на пути из Варенна королева совершенно неожиданно добилась неслыханного политического успеха. И в то время как другие лишь потеют, едят, устают, бездействуют, она в этой катящейся по пыльной дороге карете-темнице одерживает во имя монархии еще одну победу, на этот раз последнюю.
* * *
Третий, последний, день возвращения самый ужасный. Даже французское небо – за нацию и против короля. С утра до вечера лучи знойного солнца безжалостно накаляют запыленную, переполненную печь-духовку на колесах, ни одно облачко не бросает хотя бы минутную прохладную тень на раскаленный верх экипажа. Наконец поезд останавливается перед воротами Парижа, но так как все те сотни тысяч желающих посмотреть на галеру возвращаемого домой короля должны получить удовольствие, то королю и королеве надлежит попасть в Тюильри не через ворота Сен-Дени, а сделать гигантский крюк, проехав по бесконечным бульварам. Ни единого возгласа в их честь на всем пути, но и ни слова брани также, ибо большие объявления предают презрению каждого, кто будет приветствовать короля, и угрожают порцией розог любому, кто осрамит пленника нации. Но зато беспредельное ликование кипит вокруг экипажа, следующего за каретой короля. В нем сидит гордый вниманием окружающих человек, которого народ благодарит за этот триумф, – Друэ, почтмейстер, отважный, неукротимый охотник, хитростью загнавший королевскую дичь.
Последний участок этого пути – два метра, отделяющие карету от въездных ворот дворца, – самый опасный. Поскольку королевская семья охраняется депутатами, ярость же народа непременно требует жертв, она устремляется на трех безвинных лейб-гвардейцев, которые помогали «похитить» короля. Уже окружены они, уже пытаются их обезоружить, одно мгновение кажется: королеве вот-вот придется еще раз увидеть окровавленные головы, раскачивающиеся на пиках у входа во дворец, но тут солдаты Национальной гвардии бросаются к воротам и штыками расчищают путь. Лишь теперь распахивается дверца духовки; грязный, потный, усталый король первым спускается со ступенек кареты, за ним следует королева. Тотчас же поднимается опасный ропот против «австриячки», но она быстро проходит маленькое расстояние между каретой и дверью, за ней идут дети. Ужасная поездка окончена.
Во дворце, торжественно выстроившись, ждут лакеи: как обычно, накрыт стол, как обычно, соблюдается табель о рангах; возвратившимся домой может показаться, что все только что пережитое ими было сном. В действительности же эти пять дней потрясли устои королевства в большей степени, нежели пять лет реформ, ибо пленники более уже не коронованные особы. Еще на одну ступень спустился король, еще на одну ступень поднялась революция.
Но похоже, усталого человека это не очень-то волнует. Безразличный ко всему, он безразличен также и к своей судьбе. С невозмутимым спокойствием заносит он в свой дневник: «Отъезд из Мо – в половине седьмого, возвращение в Париж – в восемь, без задержек в пути». Это все, что желает сообщить потомкам Людовик XVI о глубочайшем позоре своей жизни. И Петион сообщает одновременно: «Он был спокоен, как будто бы ничего не случилось, как будто он вернулся с охоты».
Однако Мария Антуанетта понимает, что все потеряно. Все муки этого бесполезного предприятия – едва ли не смертельный удар по ее гордости. Но, истинная женщина, по-настоящему любящая, до конца жизни преданная запоздалой и всепоглощающей страсти, даже в этой преисподней она думает единственно о том, кого судьба оторвала от нее. Она боится, что друг, Ферзен, пытаясь спасти ее, может оказаться в большой беде. Ее, окруженную ужасными опасностями, больше всего тревожат его страдания, его волнения. «Не беспокойтесь о нас, – быстро набрасывает она несколько слов на листке бумаги, – мы живы». А на следующее утро еще настойчивее, еще с большей любовью (интимные выражения потомок Ферзена уничтожил, но и то, что осталось, не может утаить дыхания нежности): «Я живу еще… но мне страшно за Вас, и как терзает меня то, что Вы страдаете, не получая о нас никаких вестей! Если Небу будет угодно и эта записка дойдет до Вас, бога ради, не отвечайте мне, ответ навлечет на всех опасность, и ни под каким предлогом не пытайтесь прийти к нам. Уже известно, что именно Вы помогали нам выбраться отсюда. И стоит лишь Вам появиться здесь, все пропадет. Нас стерегут день и ночь, но мне это совершенно безразлично… Не беспокойтесь, со мной уже ничего не случится. Собрание хочет отнестись к нам снисходительно… я не смогу Вам более писать…»
И все же именно сейчас она не в состоянии остаться без слов привета от Ферзена. И вновь на следующий день пишет она самое пылкое, самое нежное письмо, требующее ответа, успокоения, заверений в любви: «Я хочу сказать лишь, что люблю Вас, и даже на это не имею времени. Мне хорошо, не беспокойтесь обо мне, как хотелось бы мне услышать подробнее о Вас. Шифруйте письма ко мне, пусть адрес пишет Ваш камердинер… Скажите лишь, кому адресовать письма к Вам, без них я не могу жить более. Прощайте, самый любящий, самый любимый человек на земле. Я обнимаю Вас от всего сердца».
«Без них я не могу жить более» – никогда с губ королевы не срывался подобный крик страсти. Как мало осталось королеве, как много былой власти отнято у нее. Но женщине осталось то, чего никто не в состоянии ее лишить, – любовь. И это чувство дает ей силы решительно и величественно защищать свою жизнь.
Один обманывает другого
Бегство в Варенн открывает новую главу в истории революции: в этот день родилась новая, республиканская партия. До сих пор, до 21 июля 1792 года, Национальное собрание было единодушно роялистским, потому что состояло исключительно из представителей аристократии и буржуазии. Но к следующим выборам четвертое сословие, пролетариат, великая стихийная сила, начинает теснить буржуазию, и третье сословие боится этой силы так же, как в свое время король испугался его. В страхе, с запоздалым сожалением весь класс имущих начинает понимать, какие демонические стихийные силы освободил он от оков, и пытается как можно быстрее с помощью конституции ограничить и власть короля, и власть народа.
Чтобы получить согласие Людовика XVI на конституцию, необходимо пощадить его лично; поэтому умеренные партии добиваются того, чтобы по поводу бегства в Варенн не делалось никаких упреков; не добровольно, не по своей воле покинул он Париж, лицемерно заявляют они, его «похитили». И когда затем якобинцы в знак протеста устраивают на Марсовом поле манифестацию с требованием низложения короля, вожди буржуазии Байи и Лафайет впервые энергично разгоняют толпу ружейными залпами и кавалерией. Но королева, обложенная со всех сторон в своем доме – после бегства в Варенн она не должна более закрывать двери своих покоев, национальные гвардейцы строго стерегут каждый ее шаг, – внутренне давно уже не заблуждается относительно истинной ценности этих запоздалых попыток спасти положение. Слишком часто слышит она под своими окнами вместо старого возгласа: «Да здравствует король!» – новый: «Да здравствует революция!» И королева знает, что эта революция безжалостно требует ее смерти, смерти ее мужа и детей.
* * *
Ночь в Варенне – и королеве скоро это станет предельно ясно – оказывается роковой не столько из-за неудачного бегства королевской четы, сколько из-за успеха младшего брата короля Людовика XVI, графа Прованского. Куда девалось его былое, так долго и с таким трудом разыгрываемое подчинение старшему брату? Едва добравшись до Брюсселя, он объявляет себя регентом, законным наследником королевства на время, пока настоящий король, Людовик XVI, является пленником Парижа, и тайно делает все, чтобы как можно дольше продлить это время. «Здесь в совершенно недопустимой форме выказывалась радость в связи с арестом короля, – сообщает Ферзен из Брюсселя, – граф д’Артуа просто сиял». Наконец-то теперь могут возглавить кавалькаду те, кто так долго униженно плелся где-то в ее хвосте. Теперь-то они могут бряцать оружием и, ни с чем не считаясь, подстрекать к войне; тем лучше, если при подобных обстоятельствах Людовик XVI, Мария Антуанетта, а надо надеяться, и Людовик XVII погибнут. Тогда граф Прованский сможет наконец именовать себя Людовиком XVIII.
Роковым образом европейские государи разделяют эту концепцию: монархической идее, собственно, совершенно безразлично, какой Людовик будет сидеть на французском троне; главное в том, чтобы в Европе и следа не осталось от революционного, республиканского яда, главное в том, чтобы в зародыше уничтожить «французскую эпидемию». Ужасающим холодом веет от строк, написанных Густавом Шведским: «Как ни велико мое сочувствие королевской семье, как ни волнует меня ее судьба, все же трудность и сложность общей обстановки, необходимость восстановления равновесия в Европе, особые интересы Швеции и сама идея суверена перевешивают чашу весов. Все зависит от того, можно ли реставрировать во Франции королевство, и нам, собственно, безразлично, кто будет сидеть на этом троне: Людовик XVI, Людовик XVII или же Карл X, при условии, что трон будет восстановлен и чудовищу – Школе верховой езды (Национальному собранию)[280] – будет нанесено поражение».
Более ясно, более цинично высказаться невозможно. Для монархов существует лишь «дело монархии», другими словами – вопрос их личной неограниченной власти, им, «собственно, безразлично», как говорит Густав III, какой Людовик займет французский трон. Действительно, им это совершенно безразлично. И это безразличие будет стоить Марии Антуанетте и Людовику XVI жизни.
* * *
И вот сейчас Мария Антуанетта должна вести одновременно борьбу с двойной опасностью – с опасностью изнутри и извне, с республиканизмом в своей стране и с развязыванием войны, затеянным принцами за границами государства: сверхчеловечески трудная задача, совершенно неразрешимая для одинокой, слабой, растерянной женщины, покинутой всеми друзьями. Сюда бы гения, одновременно хитрого, как Одиссей, и отважного, как Ахилл, сюда бы нового Мирабо. Но в эту страшную минуту рядом с нею лишь ординарные помощники. На обратном пути из Варенна Мария Антуанетта увидела, как незначительный провинциальный адвокат Барнав, имеющий большой вес в Национальном собрании, легко поддался чарам лести – ведь они исходили от королевы; теперь она решает использовать эту его слабость.
Письмом, тайно направленным Барнаву, она сообщает ему, что с самого своего возвращения из Варенна «очень серьезно думала об эрудиции и образе мыслей того, с кем много говорила, и поняла, что почерпнула бы для себя много полезного, если бы вела с ним обмен письмами, если бы могла беседовать с ним на расстоянии». Он вполне мог бы рассчитывать на ее молчаливость, а также на ее характер, всегда готовый подчиниться необходимости, если дело идет о всеобщем благе. После этого введения она пишет более определенно: «Невозможно упорствовать в стремлении сохранить существующее положение вещей. Конечно, что-то должно произойти. Но что? Не знаю. Я обращаюсь к нему, чтобы узнать это. Из наших бесед он должен был понять, что у меня добрые намерения. И я всегда буду придерживаться их. Это единственное, что у нас осталось и чего у меня никто никогда не в состоянии отнять. Мне кажется, я почувствовала в нем стремление к справедливости, у нас также есть это желание, и, что бы о нас ни говорили, оно всегда у нас было. Мы могли бы совместно осуществить наше общее намерение. Если он найдет средство поделиться со мной своими мыслями, я со всей искренностью отвечу, что́ могла бы сделать со своей стороны. Я готова к любой жертве, если действительно увижу, что она приведет ко всеобщему благу».
Барнав показывает это письмо своим друзьям, которые одновременно и радуются, и страшатся, но наконец решают отныне совместно давать тайные советы королеве – Людовик XVI вообще в расчет не берется. Прежде всего они требуют от королевы, чтобы она побудила принцев вернуться во Францию и склонила своего брата-императора к признанию французской конституции. Как бы уступая, королева принимает все эти предложения. Под диктовку своих советчиков посылает брату письма, ведет себя так, как они рекомендуют, – лишь «когда дело касается чести и благородства», она сопротивляется. И новые политические мэтры полагают, что нашли в Марии Антуанетте прилежную и благодарную ученицу.
* * *
Но как жестоко заблуждаются эти славные люди! В действительности Мария Антуанетта ни одного мгновения не думает о том, чтобы сдаться этим factieux; вся эта переписка должна лишь облегчить старый трюк – temporiser[281], выезд за город, который она задумала совершить к тому моменту, когда ее брат соберет так долго ожидаемый «вооруженный конгресс». Словно Пенелопа[282], распускает она по ночам ткань, сотканную днем со своими новыми друзьями. Посылая брату, императору Леопольду, написанные ею под диктовку письма, она одновременно уведомляет Мерси: «Я послала двадцать девятого письмо, которое, как Вы без труда заметили, написано не моим стилем. Но я думаю, что мне следует исполнить требование одной здешней партии, которая передала мне набросок этого письма. Я послала вчера такое же письмо императору и чувствовала бы себя униженной, если бы не надеялась, что мой брат поймет, что в настоящем моем положении я вынуждена делать и писать все, что от меня потребуют». Она подчеркивает: важно, чтобы император уверился в том, что ни одно слово в этом письме не принадлежит ей, не отвечает ее точке зрения. Так каждое письмо становится предательским. «Несмотря на то что советчики постоянно упорствуют в своих взглядах, справедливости ради следует признать, что они выказывают большую прямоту и искреннее, честное желание навести порядок в стране и тем самым восстановить королевство и авторитет короля». Тем не менее она все же не хочет в действительности следовать советам своих помощников, «ибо, хотя я и верю в их хорошие намерения, все же их идеи крайние и никогда не будут нами использованы».
Необычная двойная игра, начатая Марией Антуанеттой, это двуличие не так уж почетны для нее. С тех пор как она занимается политикой или, вернее, потому что она занимается ею, она вынуждена лгать и делает это самым отважным образом. Уверяя своих советчиков, что никакие задние мысли не определяют ее поведения, они пишет одновременно Ферзену: «Не бойтесь, я не дам себя поймать этим enrages[283]. Если я и встречаюсь с некоторыми из них или имею с ними какие-либо отношения, то все это лишь затем, чтобы использовать их для моих целей; слишком сильно у меня к ним всем чувство отвращения, чтобы с кем-нибудь из них делать общее дело». В конечном счете ей самой совершенно ясна недостойность этого обмана расположенных к ней людей, – людей, несущих ради нее свои головы на эшафот. Отчетливо чувствуя свою моральную вину, она все же ответственность сваливает на время, на обстоятельства, принуждающие ее играть столь жалкую роль. «Иногда я сама себя не понимаю более, – пишет она в отчаянии своему верному Ферзену, – и заставляю себя призадуматься, действительно ли я говорю такое. Но чего Вы хотите? Все это необходимо, и поверьте мне, мы опустились бы еще глубже, чем сейчас, не обратись я сразу же к этому средству. Во всяком случае время мы выиграли, а это – все, что нам нужно. Какое счастье, если б однажды, в один прекрасный день, я вновь стала сама собой и могла бы показать всем этим нищим (gueux), что не дала им себя одурачить». Лишь об этом мечтает, грезит ее неукротимая гордость – вновь стать свободной, не быть более политиком, дипломатом, лгуньей. И поскольку она, коронованная королева, воспринимает эту неограниченную свободу как свое Богом данное право, она считает себя вправе беспощадным образом обманывать всех, кто хочет ограничить ее в этом звании.
* * *
Но обманывает не одна королева, теперь, в это сложнейшее время, все участвующие в большой игре обманывают друг друга. Исследуя бесконечную переписку тогдашних правительств, монархов, посланников, министров, отчетливо представляешь себе всю безнравственность тайной политики. Подпольно все работают друг против друга, каждый лишь ради своих личных интересов. Людовик XVI обманывает Национальное собрание, со своей стороны только выжидающее, чтобы республиканские идеи проникли в сознание масс достаточно глубоко и можно было низложить короля. Сторонники конституции предлагают Марии Антуанетте власть, которой давно уже не обладают, она же пренебрежительно одурачивает их, договариваясь за их спиной со своим братом Леопольдом. А он, готовясь именно в это время вместе с Россией и Пруссией ко второму разделу Польши[284], всячески затягивает переговоры с сестрой, уже решив для себя не жертвовать ради ее дела ни одним солдатом, ни одним талером.
Король Пруссии совместно с императором Австрии дает советы «вооруженному конгрессу», деятельность которого направлена против революционной Франции, а посланник прусского короля в Париже финансирует якобинцев и обедает за одним столом с Петионом. Эмигрировавшие принцы разжигают войну, но не для сохранения трона своему брату Людовику XVI, а для того лишь, чтобы возможно быстрее самим занять его. И в самой гуще этой бумажной битвы суетится донкихот королевской власти – Густав Шведский, ни во что глубоко не вникающий и желающий лишь играть роль Густава Адольфа, спасителя Европы. Герцог Брауншвейгский, который должен возглавить армию коалиции против Франции, ведет одновременно переговоры с якобинцами, предлагающими ему французский трон. Дантон, Дюмурье ведут двойную игру. Владетельные князья так же не единодушны, как и революционеры, брат обманывает сестру, король – свой народ, Национальное собрание – короля, один монарх – другого, все лгут друг другу, и все это – только чтобы выиграть время, ради своей выгоды. Каждый хотел бы извлечь пользу для себя в этой сумятице, увеличивая беспорядок, создавая все большую и большую опасность для других. Играя с огнем, никто не желает обжечься, но все они – император, король, принцы, революционеры – постоянными интригами, постоянной ложью создают атмосферу недоверия (подобную той, что ныне отравляет мир) и в конце концов, не желая, собственно, этого, ввергают двадцать пять миллионов людей в пучину бедствий двадцатипятилетней войны.
* * *
Между тем время стремительно бежит, нимало не заботясь об этих мелких интригах: темп революции не подчиняется выжидательной политике старой дипломатии. Должно быть принято решение. Национальное собрание подготавливает наконец проект конституции и представляет его Людовику XVI для принятия. Итак, следует дать ответ. Мария Антуанетта знает, что эта monstrueuse[285] конституция – как пишет она Екатерине Российской – «означает моральную смерть, которая в тысячу раз хуже физической смерти, освобождающей от всех зол». Она знает также, что принятие конституции[286] будет порицаться в Кобленце и при дворах европейских государей будет воспринято как добровольное отречение от престола, возможно даже как проявление личной трусости, но королевская власть так обессилела, что даже она, Мария Антуанетта, такая гордая, вынуждена советовать покориться.
«Нашей поездкой мы достаточно показали, – пишет она, – что не страшимся подвергать себя опасности, если дело касается всеобщего блага. Но, принимая во внимание существующее положение, король не может долее откладывать согласие. Поверьте мне, это так, если я говорю такое. Вам достаточно хорошо известен мой характер, чтобы знать, что он побудил бы меня к благородному и мужественному поступку. Однако, прекрасно понимая опасность, мы не видим никакого смысла безрассудно подвергать себя ей». Но в то время когда перо для подписи капитуляции уже подготовлено, Мария Антуанетта сообщает своим близким друзьям, что король в глубине души вовсе и не думает – один обманывает другого и сам оказывается обманутым – сдержать свое слово, данное народу.
«Что касается нашего согласия, то я просто не представляю себе, чтобы любое мыслящее существо не понимало истинной причины нашего поведения, ведь оно объясняется нашей зависимостью. Важно само по себе то, что мы не возбуждаем никакого подозрения у окружающих нас monstres. В любом случае спасти нас могут лишь иностранные державы, армия потеряна, денег больше нет, никакой уздой, никакими препятствиями вооруженную чернь не остановить. Даже вождей революции, если они проповедуют порядок, никто не слушает. Состояние наше печально; добавьте ко всему этому еще то, что возле нас нет ни одного друга, что весь свет изменил нам, одни – из страха, другие – из слабости или честолюбия, а я опустилась настолько, что боюсь того дня, когда нам вновь будет возвращена свобода. Сейчас, бессильные что-нибудь предпринять, мы, по крайней мере, не можем в чем-либо упрекнуть себя». И с удивительной откровенностью она продолжает: «В этом письме я откроюсь Вам полностью. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, есть лишь единственное средство, чтобы выйти из затруднительного положения. Я выслушала людей с обеих сторон и, основываясь на их мнениях, сформулировала свое; не знаю, следовать ли ему. Вы знаете, какую особу я имею в виду: вот-вот, кажется, ее удалось убедить в чем-то, но совершенно неожиданно чье-то слово или мнение полностью меняет точку зрения этой особы на данный вопрос, да так, что она даже и не замечает этого; по одной этой причине тысячи дел не выполнить. Во всяком случае, что бы ни случилось, прошу Вас сохранить ко мне дружеское расположение и привязанность. Они мне так нужны, и поверьте, какие бы несчастья со мной ни случились, я могу заставить себя приспособиться к сложившимся обстоятельствам, но никогда при этом не соглашусь на какие-либо меры, недостойные меня. В жилах моего сына течет моя кровь, и, надеюсь, однажды он подтвердит, что является внуком Марии Терезии».
Значительные и трогательные слова, но им не прикрыть того внутреннего стыда, который испытывает эта искренняя, готовая действовать женщина при навязанной ей нечистой игре. В глубине души она знает, что ведет себя бесчестно, совсем не по-королевски. Честнее было бы добровольно отречься от престола. Но у нее уже нет более выбора. «Было бы благороднее отклонить конституцию, – пишет она своему возлюбленному Ферзену, – но при создавшихся обстоятельствах это оказалось невозможным. Мне хотелось бы, чтобы наше согласие было сформулировано более сжато, но, к сожалению, мы все время окружены недоброжелателями. Однако уверяю Вас, что окончательно принятая редакция много лучше предыдущих. Наш образ действия во многом также определялся неразумным поведением принцев и эмигрантов. Пришлось из формулы согласия исключить все, что могло бы быть истолковано как отсутствие доброй воли с нашей стороны».
* * *
Это нечестное и поэтому неполитическое, лишь кажущееся признание конституции позволило королевской семье выиграть немного времени (разве что на один вздох), ничтожный и – как скоро станет ясно – ужасный выигрыш в той двойной игре, где все делают вид, что каждый верит лжи другого. Лишь на секунду развеялись, разорвались грозовые тучи. Еще раз обманчивое солнце народной доброжелательности освещает головы Бурбонов. Сразу же, как только король 13 сентября заявляет, что на следующий день он в собрании присягнет конституции, гвардия, до сих пор охранявшая замок, оттягивается, ворота сада Тюильри распахиваются для публики. С пленом покончено, и – как многие преждевременно полагают – с революцией также. Впервые после многих недель и месяцев – но и в последний раз – слышит Мария Антуанетта давно забытые восторженные клики десятков тысяч: «Да здравствует король! Да здравствует королева!»
Уже давно все и вся, друзья и враги по эту и по ту сторону границы, поклялись не оставлять их в живых.
Друг появляется в последний раз
Действительно, трагические часы заката жизни Марии Антуанетты никогда не являются часами великой непогоды, нет, они выпадают на редкие, обманчиво прекрасные дни. Если б революция обрушилась, словно горный обвал, внезапно раздавив монархию, трагедия Марии Антуанетты протекала бы лавинообразно, без передышек на размышления, без вспышек надежд, без сопротивления, она не истрепала бы столь ужасающе нервы королевы, как эта медленная агония. Но между двумя бурями всегда наступает внезапное затишье: пять-десять раз в течение революции королевской семье кажется, что вот наконец-то наступило окончательное согласие, спор решен. Но революция – такая же стихия, что и море, штормовое наводнение не сразу накрывает берег, после каждого ожесточенного набега волны откатываются, будто истощенные, на самом же деле для того, чтобы вновь вернуться с еще большей разрушающей силой.
Конституция принята, кризис, казалось бы, преодолен. Революция стала законом, волнения приобрели застывшие формы. Наступает несколько дней, несколько недель обманчивого благополучия, иллюзорной эйфории; ликование переполняет улицы, воодушевление – Национальное собрание, театры гремят от бурных рукоплесканий. Но Мария Антуанетта давно уже утратила наивную, непосредственную веру своей юности. «Как жаль, – вздыхая, говорит она воспитательнице своих детей, вернувшейся во дворец из празднично освещенного города, – как жаль, что такое прекрасное зрелище может оставить в наших сердцах лишь чувство печали и беспокойства!» Нет, слишком часто заблуждавшаяся, она не желает новых разочарований. «Все на первый взгляд спокойно, – пишет она Ферзену, другу своего сердца, – но это спокойствие висит на волоске, и народ остался точно таким, каким был всегда, каждый момент готов он к любым ужасным поступкам. Нас уверяют, что он за нас. Я не верю этому и меньше всего тому, что это относится ко мне лично. Я хорошо знаю цену подобным уверениям. В большинстве случаев за это приходится расплачиваться, и народ любит нас лишь до тех пор, пока мы пляшем под его дудку. Невыносимо, если так будет продолжаться и далее. В Париже еще менее безопасно, чем прежде, так как нас уже привыкли видеть униженными». Действительно, переизбранное Национальное собрание, к разочарованию королевы, по ее мнению, «в тысячу раз хуже, чем прежнее»; так, одним из первых постановлений оно лишает короля права именоваться «величеством». Через несколько недель руководство переходит к жирондистам[287], совершенно открыто выказывающим свои симпатии республике, и священную радугу умиротворения быстро заволакивают вновь появившиеся тучи. И опять разгорается борьба.
* * *
То, что положение короля и королевы резко ухудшилось, они приписывают не революции, а прежде всего поведению своих родственников. Граф Прованский и граф д’Артуа свою главную квартиру разбили в Кобленце, оттуда они ведут открытую войну против Тюильри. Им безразлично, что их брат из-за затеянной ими игры рискует жизнью. Им на руку, что, находясь в безвыходном положении, король принял конституцию: купленные ими писаки высмеивают Людовика XVI и Марию Антуанетту за трусость, принцев же, сидящих в полной безопасности, представляют как истинных и единственно достойных защитников идеи королевской власти. Напрасно Людовик XVI просит и уговаривает своих братьев, да он даже приказывает им вернуться, чтобы не было причин к обоснованному недоверию народа. Охотники до наследства вероломно утверждают: это-де не истинное волеизъявление плененного короля – и предпочитают оставаться в Кобленце, на безопасном расстоянии от французской границы; нимало не подвергаясь какому-либо риску, они разыгрывают из себя героев. Мария Антуанетта дрожит от ярости, трусость эмигрантов выводит ее из себя: эта «презренная порода – все время они объявляли, что преданы нам, а на самом деле делали и делают нам одно лишь зло».
Она открыто обвиняет родственников мужа, именно «их поведение поставило королевскую семью в то положение, в котором она сейчас находится». «Но чего же они хотят? – спрашивает она гневно. – Чтобы уклониться от исполнения нашей воли, им удобно утверждать, что мы не свободны (что, разумеется, справедливо) и поэтому не смеем сказать то, что думаем, и что, вследствие этого, они всегда должны действовать противоположно нашим высказываниям». Напрасно умоляет она императора, чтобы он сдерживал принцев и других французов, находящихся вне страны. Граф Прованский опережает ее посланника, убеждая всех, что приказы королевы подписаны ею «под давлением», и повсюду у военных партий он находит одобрение. Густав Шведский возвращает Людовику нераспечатанным письмо, в котором тот сообщает о принятии им конституции; еще более оскорбительно высмеивает Марию Антуанетту Екатерина Российская – весьма печально, если, кроме молитв, нет более никаких надежд. Родной брат в Вене неделями молчит, прежде чем дать на письмо уклончивый ответ; по существу державы выжидают благоприятного повода, чтобы извлечь из сложившейся во Франции анархической обстановки какую-нибудь выгоду. Никто не предлагает настоящей помощи, никто не дает вразумительного предложения, и никто не спрашивает честно, чего хотят, чего желают пленники Тюильри; все азартнее за счет злосчастных узников становится двойная игра.
* * *
Чего же хочет, чего желает Мария Антуанетта, каких событий ожидает она? Французская революция, подобно, пожалуй, любому политическому движению, подозревая у своего противника существование всегда особенно глубоких и таинственных планов, думает, что Мария Антуанетта, что comité autrichien[288] готовят в Тюильри грандиозный Крестовый поход против французского народа, и некоторые историки следуют этой версии. На деле же Мария Антуанетта, дипломат от отчаяния, никогда не имела ясной идеи борьбы, никогда не имела какого-либо определенного плана. С удивительным самопожертвованием, с поразительным для нее прилежанием пишет она во все концы письмо за письмом, сочиняет и редактирует меморандумы и предложения, обсуждает и совещается, но чем больше она пишет, тем меньше становится понятным, каких, собственно, политических взглядов она придерживается.
У нее мелькают неопределенные мысли о созыве вооруженного конгресса держав, о полумере, не слишком жестокой, но и не слишком беззубой, которая, пожалуй, должна припугнуть революционеров и в то же время не оскорбить национальной гордости французов; как вести себя, ей неясно и самой, в ее поведении, в ее мыслях не очень-то много логики, ее резкие движения подобны движениям утопающего, который барахтается в воде и при этом все больше и больше погружается в воду. Вдруг она заявляет, что единственно правильное решение – это завоевание доверия народа, и тут же в письме пишет: «К умиротворению нет более никаких путей». Она не желает никакой войны, совершенно ясно и правильно предвидя: «С одной стороны, мы обязаны воевать против них, этого не избежать, но с другой стороны, это решение – войти в сговор с иностранными войсками – весьма сомнительно». А несколькими днями позже она пишет: «…лишь вооруженная сила может восстановить все» и «…без помощи извне нам ничего не сделать».
Она подстрекает своего брата, должен же император почувствовать нанесенное ему оскорбление: «О нашей безопасности заботиться более не следует, вот она, страна, которая побуждает к войне». Но затем она вновь пытается воспрепятствовать его активным действиям: «Выступление извне бросило бы нас под нож». В конце концов никто уж не может разобраться в ее планах. Иностранные государства, которые только о том и думают, как бы растранжирить ее деньги на «вооруженный конгресс», которые, едва стянув к границам разорительные армии, сразу же хотят развязать настоящую войну, с аннексиями и контрибуциями, пожимают плечами, услышав странное требование, что они должны лишь pour le roi de France[289] заставить солдат держать оружие наготове. «Что следует думать о людях, – пишет Екатерина Российская, – которые все время ведут себя непоследовательно, непрерывно противореча самим себе?» И даже Ферзен, самый близкий и верный друг, полагающий, что ему известны сокровеннейшие мысли Марии Антуанетты, напоследок перестает понимать, чего же хочет королева, войны или мира, примирилась ли она внутренне с конституцией или же вводит в заблуждение конституционалистов, революцию ли обманывает или монархов? В действительности же измученная женщина желает лишь одного: жить, жить, жить и не подвергаться более унижениям. Из-за этой двойной игры, непереносимой для ее прямой натуры, она внутренне страдает больше, чем могут представить себе окружающие ее близкие. Вновь и вновь чувство отвращения, вызванное навязанной ей ролью, выливается в крик души: «Я сама не знаю более, какого поведения, какого тона держаться мне. Весь мир обвиняет меня в притворстве, в фальши, и никто не поверит – а ведь это именно так, – что мой брат выказывает так мало участия в ужасном положении своей сестры, что он беспрерывно подвергает ее опасности, не ставит ее в известность о своих планах. Да, он подвергает меня опасности, и в тысячу раз большей, чем если бы действовал на самом деле. Ненависть, недоверие и наглость – вот три силы, приводящие в настоящий момент страну в движение. Люди ведут себя нагло, находясь непрерывно в чрезвычайном страхе, еще и потому, что думают, будто извне ничего им не грозит… нет ничего для нас хуже, если все останется по-прежнему, так как ни от времени, ни от самой Франции нам помощи ожидать нечего».
* * *
Он, единственный, начинает наконец понимать, что все эти долгие колебания, эти приказы и контрприказы свидетельствуют лишь о растерянности, об отчаянии и что этой женщине самой себя не спасти. Он знает, что рядом с нею никого нет – Людовика XVI из-за его нерешительности брать в расчет нельзя. И золовка, мадам Елизавета, не такая уж дивная, верная, Богом данная единомышленница, как ее превозносит роялистская легенда. «Моя сестра совершенно не умеет хранить тайну, окружена интриганами и, что самое главное, до такой степени находится под влиянием своих братьев, что с ней просто невозможно разговаривать, если не хочешь поссориться». И еще более жестко, более зло, со всей свойственной ей прямотой: «Наша семейная жизнь – ад, даже при самом доброжелательном отношении к нам свет другого не скажет». Все отчетливее издали чувствует Ферзен, что помочь ей в состоянии лишь единственный человек, тот, которому она полностью доверяет, не ее супруг, не брат, никто из ее родственников, а он сам. Несколько недель назад она послала ему тайными путями через графа Эстергази подтверждение нерушимой любви: «Если будете писать ему, скажите, что никакие страны, никакие расстояния не в силах разъединить сердца и что с каждым днем я все больше и больше понимаю эту истину». И во второй раз: «Я не знаю, где он. Ужасная мука – не иметь никаких сообщений, не знать, где находятся те, кого любишь». Эти последние страстные слова любви сопровождают подарок – золотое кольцо, на внешней стороне которого выгравированы три лилии с надписью: «Трус, кто покинет ее». Это кольцо, пишет Мария Антуанетта графу Эстергази, сделано по размеру ее пальца. Прежде чем отправить его адресату, она два дня носила его, чтобы передать холодному золоту тепло своей крови. Ферзен носит на пальце этот подарок возлюбленной; это кольцо с надписью: «Трус, кто покинет ее» – становится для него каждодневным призывом к совести, призывом рисковать всем ради этой женщины. Он слышит нотки отчаяния в ее письмах, он понимает, какую растерянность испытывает его любимая, покинутая всеми, поэтому чувствует себя обязанным совершить поистине героический поступок. Так как, переписываясь, они не могут обстоятельно объясниться, он решает посетить Марию Антуанетту в Париже, в том самом Париже, где он объявлен вне закона и где его появление равносильно добровольной отдаче себя в руки палача.
При известии о его намерении приехать Мария Антуанетта приходит в ужас. Нет, она не желает от своего друга этой слишком большой, поистине героической жертвы. Его жизнь дорога ей больше, чем ее собственная, больше, чем то несказанное успокоение, то блаженство, которые может дать ей его близость. Поэтому 7 декабря она поспешно отвечает ему: «Совершенно невозможно, чтобы Вы в настоящий момент появились здесь. Это означало бы поставить на карту наше счастье. Если это говорю я, Вы должны верить мне, ибо у меня огромное желание видеть Вас». Но Ферзен не сдается. Он знает, что совершенно необходимо вырвать ее из подавленного состояния. С королем Швеции он разработал новый план бегства; несмотря на ее сопротивление, чутким любящим сердцем он понимает, как страстно желает она встречи с ним и как много для нее, всеми покинутой, значит еще раз, еще один раз после всех тайных, шифрованных писем иметь возможность вновь выговориться – свободно и без помех. В начале февраля Ферзен принимает решение более не ждать и ехать во Францию к Марии Антуанетте.
По существу, это решение равносильно самоубийству. Сто против одного, что из этой поездки он не вернется, ведь ни одна голова во Франции не оценена более высоко, чем его. Ни одно имя не упоминается так часто и с такой ненавистью, как его. В Париже Ферзен официально объявлен вне закона. Приказ о его задержании – в руках каждого парижанина. Стоит лишь кому-нибудь узнать его в пути или в столице – и его растерзанное тело будет валяться на мостовой. Но Ферзен – а это делает его поступок в тысячу раз более героичным – не желает, добравшись до Парижа, спрятаться в каком-нибудь укромном уголке, он хочет проникнуть в неприступное логово Минотавра[290], в Тюильри, дни и ночи охраняемый тысячью двумястами гвардейцами, во дворец, в котором его знает в лицо каждый слуга, каждая камеристка, каждый кучер из гигантской армии дворцовой прислуги. Данный королеве обет: «Я живу лишь для того, чтобы служить Вам» – Ферзен может выполнить лишь сейчас, никогда более такая возможность ему не представится. 11 февраля он сдерживает свое слово и приступает к едва ли не самой смелой операции во всей истории революции. В простом парике, с фальшивым паспортом, в котором дерзко подделана подпись короля Швеции, Ферзен в качестве слуги сопровождает своего адъютанта, имеющего такие же поддельные документы дипломата, едущего в Лисабон. Как ни странно, ни бумаги, ни путешественники не подвергаются в пути сколько-нибудь серьезному досмотру, и без приключений 13 февраля, в половине шестого, Ферзен приезжает в Париж. Хотя у него там есть надежная подруга, более того – любовница, готовая с опасностью для жизни спрятать его, Ферзен сразу же из почтовой кареты отправляется в Тюильри. В зимние месяцы темнота наступает рано, она дружески прикрывает отважного человека. Потайная дверь, ключ от которой у него еще имеется – поразительно счастливый случай, – и на этот раз не охраняется. Надежно сбереженный ключ делает свое дело – Ферзен проникает во дворец; после восьми месяцев жестокой разлуки и потрясающих событий – мир за это время очень переменился – влюбленные вновь вместе, Ферзен снова, и в последний раз, у Марии Антуанетты.
* * *
Об этом памятном посещении сохранились две записи, сделанные рукой Ферзена, записи, весьма заметно отличающиеся одна от другой, официальная и личная; и как раз это их различие дает бесконечно много для понимания истинного характера взаимоотношений между Ферзеном и Марией Антуанеттой. В официальном письме он сообщает своему монарху, что 13 февраля, в шесть вечера, прибыл в Париж и в тот же вечер встретился и беседовал с их величествами – подчеркивается множественное число, следовательно, с королем Людовиком и Марией Антуанеттой, – а затем, вторично, в следующий вечер. Однако это сообщение, предназначенное для короля Швеции, которого Ферзен считает весьма болтливым и которому не желает доверять женскую честь Марии Антуанетты, противоречит многозначительной интимной заметке в дневнике. Там записано: «Пошел к ней; моим обычным путем. Волнение из-за Национальной гвардии; ее покои чудесны». Итак, совершенно определенно – «к ней», а не «к ним». Затем в дневнике записаны еще два слова, которые позже рукой некой чопорной личности были залиты чернилами и стали неразборчивыми. Но к счастью, их удалось восстановить. Вот они, эти два существенных слова: «resté là», что означает «остался там».
Эти два слова полностью разъясняют всю ситуацию той Тристановой ночи[291]: в тот вечер Ферзен, следовательно, был принят не королевской четой, как он сообщил королю Швеции, а Марией Антуанеттой и – что также не подлежит никакому сомнению – он провел эту ночь в покоях королевы. Ночной уход, возвращение и повторный уход из Тюильри означали бы бессмысленное увеличение опасности, ибо по коридорам денно и нощно патрулируют солдаты Национальной гвардии. Покои же Марии Антуанетты, расположенные на первом этаже, представляют собой, как известно, всего лишь одну спальню и маленькую уборную; следовательно, нет иного объяснения, чем то, которое так неприятно защитникам добродетели королевы, а именно: что эту ночь и следующий день до полуночи Ферзен провел, скрываясь в спальне королевы, в единственном помещении всего замка, защищенном от наблюдения национальных гвардейцев, от взглядов прислуги.
О часах, проведенных с глазу на глаз с королевой Франции, Ферзен, как и подобает всякому благородному человеку, молчит даже в своем дневнике. Никому нельзя запретить думать, что и эта ночь была посвящена исключительно рыцарскому служению и политической беседе. Но всякому, у кого горячее сердце, всякому, кто обладает здравым смыслом, кто верит, что власть крови – это вечный закон, ясно: не будь Ферзен уже давно возлюбленным Марии Антуанетты, он стал бы им в эту роковую ночь, в эту ночь, вырванную у судьбы ценой нечеловеческих усилий, в эту невозвратно последнюю ночь.
* * *
Первая ночь принадлежит целиком любовникам, и лишь следующий вечер – политике. В шесть вечера, то есть через двадцать четыре часа после прибытия Ферзена, тактичный супруг переступает порог комнаты королевы для конфиденциальной беседы с героическим вестником. Предложенный Ферзеном план побега Людовик отклоняет, во-первых, потому, что считает практически невыполнимым, а во-вторых, из чувства чести, так как публично обещал Национальному собранию оставаться в Париже и не желает изменять своему слову (в связи с этим Ферзен почтительно замечает в своем дневнике: «Поскольку он честный человек»). С полным доверием разъясняет король надежному другу свое положение. «Я полагаюсь на Вас, – говорит он, – и могу быть откровенным. Я знаю, меня обвиняют в слабости и нерешительности, но ведь никто и никогда не находился в положении, подобном моему. Я знаю, что упустил подходящий момент (для бегства) 14 июля, такого удобного повода у меня более не было. Весь мир бросил меня на произвол судьбы». И король, и королева не имеют более никакой надежды спасти себя. Державы должны попытаться сделать все мыслимое, нимало не заботясь о них. Только пусть не удивляются, если он будет давать согласие на те или иные акции; возможно, в их теперешнем положении им придется совершить поступки, которые им не по сердцу. Они смогут, пожалуй, только выиграть время, собственно же спасение должно прийти извне.
До полуночи Ферзен остается во дворце. Все, что может быть обсуждено, уже обсуждено. Затем наступает самое тяжелое в этих тридцати часах: им нужно проститься. Оба не хотят этому верить, но оба безошибочно чувствуют: никогда более! Никогда более в этой жизни! Чтобы утешить потрясенную женщину, он обещает ей вернуться, если к тому представится хоть малейшая возможность, и, осчастливленный, чувствует, как успокоил ее этим своим обещанием. Темным, к счастью, пустым коридором провожает королева Ферзена до двери. Еще не сказали они друг другу последних слов, еще не обменялись последними объятиями, как слышат чьи-то шаги: смертельная опасность! Напялив на себя парик, завернувшись в плащ, Ферзен выскальзывает наружу. Мария Антуанетта поспешно возвращается в свою комнату. Любовники виделись в последний раз.
Бегство в войну
Древнейшее средство: когда государство или правительство не в состоянии преодолеть внутренний кризис, они пытаются разрядку направить вовне; согласно этому извечному закону, чтобы избежать назревающей гражданской войны, трибуны революции на протяжении ряда месяцев требуют начать войну против Австрии. Приняв конституцию, Людовик XVI хотя и уменьшил значимость своего королевского звания, но все же сохранил его. Отныне – а простодушные, вроде Лафайета, верят этому – с революцией покончено навсегда. Но партия жирондистов, имеющая большинство во вновь избранном Национальном собрании, в сущности республиканская партия. Она желает покончить с королевской властью, а для этого нет лучшего средства, чем война, ибо неизбежным ее следствием будет конфликт между королевским домом и нацией. Ведь авангард иностранных армий формируют оба своевольных братца короля, а генеральный штаб противника возглавляется братом королевы.
То, что открытая война не поможет ее делу, а лишь повредит ему, Мария Антуанетта знает. Каким бы ни был исход войны, он в любом случае обернется против королевской семьи. Если армия революции победит эмигрантов, императора и королей, тогда уж наверняка Франция более не потерпит у себя «тирана». Если же французские войска будут побиты родичами короля и королевы, то, без сомнения, возбуждаемая или подстрекаемая кем-либо парижская чернь возложит всю ответственность за это на узников Тюильри. Победит Франция – они потеряют трон, победят иностранные войска – они потеряют жизнь. Исходя из этих соображений, Мария Антуанетта в бесчисленных письмах брату Леопольду и эмигрантам умоляет их вести себя спокойно; осторожный, медлительный, расчетливый и внутренне враждебно относящийся к войне, император действительно отстраняется от бряцающих оружием эмигрантов и избегает действий, которые можно было бы рассматривать как вызов.
Но счастливая звезда Марии Антуанетты давно уже закатилась. Все неожиданности судьбы оборачиваются против нее. Именно сейчас, 1 марта, внезапная смерть уносит ее брата, сторонника мирного разрешения назревающего конфликта, а четырнадцатью днями позже пуля заговорщика сражает самого убежденного среди европейских монархов защитника роялистской идеи, Густава Шведского. Таким образом, война становится неизбежной. Ибо наследник Густава не думает поддерживать дело монархов, а наследника Леопольда II нисколько не заботит судьба кровной родственницы, он учитывает исключительно лишь свои собственные интересы. У двадцатичетырехлетнего императора Франца, глуповатого, холодного, черствого человека, в душе которого нет ни искорки от гения Марии Терезии, Мария Антуанетта не находит ни понимания, ни желания понять ее. Ледяной прием ожидает ее посланцев, безразличие – ее письма; императора не беспокоит, что кровная родственница оказалась в ужасающем душевном разладе, что ее жизнь подвергается опасности из-за его вмешательства в дела Франции. Он видит лишь удобный случай увеличить свое могущество; холодно и раздраженно отклоняет он все пожелания и требования Национального собрания.
Жирондисты берут наконец верх. 20 апреля, после длительного сопротивления и – как утверждают – со слезами на глазах, Людовик XVI вынужден объявить «королю Венгрии» войну. Армия приводится в движение, неумолимый рок вершит свое страшное дело.
* * *
На чьей стороне в этой войне чувства королевы? С кем ее сердце – со старой родиной или с новой, с французскими или с иностранными войсками? От этого решающего вопроса роялисты, ее безоговорочные защитники, и панегиристы весьма трусливо увиливают, они даже фальсифицируют мемуары и письма современников, вводя в них целые абзацы, чтобы скрыть очевидный, безусловный факт – в этой войне Мария Антуанетта всей душой страстно желает триумфа союзных войск и поражения французских. Эта концепция не вызывает никаких сомнений: кто замалчивает ее – допускает извращение истины, кто отрицает ее – лжет. Действительно, Мария Антуанетта чувствует себя прежде всего королевой, а уж потом только королевой Франции, она не просто против тех, кто ограничил ее королевскую власть, а за тех, кто хочет усилить ее в династическом смысле, нет, более того, она делает дозволенное и недозволенное, чтобы ускорить поражение Франции, чтобы способствовать победе иностранных войск. «Богу угодно, чтобы мы однажды были отомщены за все обиды и оскорбления, нанесенные нам в этой стране», – пишет она Ферзену, и, хотя давно уже забыла свой родной язык и вынуждена прибегать к помощи переводчика немецких писем, она подчеркивает: «Я горда, как никогда, что родилась немкой». За четыре дня до объявления войны она пересылает австрийскому посланнику план военной кампании, вернее, то, что ей известно о нем, – другими словами, предает Францию. Ее точка зрения совершенно однозначна: австрийские и прусские знамена для Марии Антуанетты дружественные, а французское трехцветное – знамя врага.
Несомненно – слова так и готовы сорваться с губ, – это явная государственная измена, и ныне суд любой страны квалифицировал бы подобный поступок как преступление. Но не следует забывать, что понятий «национальное», «нация» в XVIII веке еще не было; лишь французская революция формирует их для Европы. Восемнадцатое столетие, со взглядами которого неразрывно связано миропонимание Марии Антуанетты, не знает еще иных точек зрения, кроме чисто династической – страна принадлежит королю; право всегда на стороне короля; тот, кто борется за короля и королевскую власть, безусловно, борется за правое дело. Тот же, кто выступает против королевской власти, – мятежник, бунтарь, даже если он и защищает родную страну. Ведь и по ту сторону границы лучшие представители немецкой интеллигенции – великие Клопшток, Шиллер, Фихте, Гёльдерлин – также находятся в плену антипатриотических чувств – ради торжества идей свободы они мечтают о поражении немецких войск[292], не народной армии, а армии, служащей делу деспотии. Они радуются отступлению прусских вооруженных сил, во Франции же для короля и королевы поражение их собственных войск – личная удача. Война идет не в интересах той или иной страны, а ради неких духовных идей: державного господства и свободы. И ничто лучше не характеризует удивительного различия во взглядах старого и нового столетий, как то, что командующий объединенными немецкими армиями герцог Брауншвейгский еще за месяц до начала военных действий всерьез размышлял над тем, не лучше ли ему принять на себя командование французскими войсками. Совершенно очевидно: понятий «отечество» и «нация» в 1791 году для людей XVIII века еще не существовало. Лишь эта война, объединившая огромные народные массы, сформировавшая самосознание наций и тем самым развязавшая ужасную братоубийственную борьбу, выдвинет идею национального патриотизма и передаст ее по наследству следующему столетию.
* * *
В Париже нет никаких доказательств того, что Мария Антуанетта желает победы иностранным державам, как нет и подтверждения факта ее государственной измены. Но хотя народ как некая совокупность, как множество людей никогда не мыслит логически, он обладает стихийным, животным чутьем, более развитым, чем у отдельного человека; оружие народа – не размышления, а инстинкты, и эти инстинкты почти всегда непогрешимо верны. С самого начала французский народ чувствует в атмосфере Тюильри некую враждебность; не располагая фактами, он угадывает измену делу Франции, действительно совершенную Марией Антуанеттой, и в ста шагах от дворца жирондист Верньо на заседании Национального собрания открыто обвиняет Тюильри в измене: «С трибуны, на которой я стою, обращаясь к вам, виден дворец, где развращенные советчики вводят в заблуждение короля, давшего нам конституцию, побуждают его к ложным шагам, куют цепи, в которые хотят заключить нас, и плетут интриги, чтобы передать нас в руки Австрийского дома. Я вижу окна дворца, в котором замышляется контрреволюция и продумываются все средства, чтобы вновь ввергнуть нас во власть рабства». Подчеркивая, что именно Мария Антуанетта является истинной зачинщицей этого предполагаемого заговора, он угрожающе добавляет: «Пусть знают все, кто живет в этом дворце, что наша конституция признает неприкосновенность одного лишь короля. Пусть они знают, что закон будет карать всех виновных без изъятия и что ни один человек, изобличенный в преступлении, не избежит меча возмездия».
Революция начинает понимать, что сможет бить внешнего врага, лишь расправившись с внутренним. Чтобы у всего мира выиграть решающую партию, нужно у себя дома объявить шах королю. Все истинные революционеры энергично стремятся создать конфликтную ситуацию; опять газеты поднимают свой голос, требуя низложения короля; новые тиражи пресловутого памфлета «La vie scandaleuse de Marie-Antoinette»[293] появляются на улицах, чтобы с новой силой оживить старую ненависть. В Национальном собрании намеренно выдвигаются предложения, которые король не захочет принять, делается ставка на то, что Людовик XVI, пользуясь своими конституционными правами, наложит на них вето. Так, предлагается проект о ссылке священников, отказавшихся присягнуть конституции. Выискивают, провоцируют открытый разрыв, потому что знают: король, верующий католик, никогда не даст согласия на это. Действительно, король, впервые собравшись с духом, накладывает вето. Пока у него была власть, он не пользовался ею; теперь же, непосредственно перед самой гибелью, этот злосчастный человек в роковой для себя час решается наконец проявить смелость. Но народ не намерен более терпеть протеста со стороны этого манекена. Вето должно стать последним словом короля, обращенным к своему народу, последним его словом, обращенным против народа.
* * *
Для основательного урока, который якобинцы, ударный отряд революции, собираются преподать королю и прежде всего этой непреклонной, высокомерной «австриячке», выбирается символический день – 20 июня. В этот день три года назад депутаты народа впервые собрались в Зале для игры в мяч для торжественной клятвы не отступать перед штыками и всеми силами бороться за новую Францию, за новые законы для нее. В этот день год назад король, не желая подчиниться воле народа, в ливрее лакея тайком ночью бежал через маленькую калитку дворцового парка. Теперь в этот день ему предстоит услышать и запомнить навсегда, что он – ничто, а народ – всё. Как в 1789 году штурм Версаля, так и в 1792 году штурм Тюильри подготавливается методически. Но тогда армию амазонок надо было формировать подпольно, в нарушение закона, под покровом темноты; нынче же средь бела дня, под гул набатных колоколов, возглавляемые пивоваром Сантером, маршируют по городу пятнадцать тысяч человек, городское самоуправление в полном составе приветствует эти отряды развернутыми знаменами, Национальное собрание открывает им ворота, а мэр Петион, который должен бы следить за порядком, способствует унижению короля, представляясь слепым и глухим.
Выступление революционной колонны начинается от Собрания и выглядит первоначально как простое праздничное шествие. Пятнадцать тысяч человек в строю, плечом к плечу, с большими листами, на которых написано: «Долой вето!», «Свобода или смерть!», отбивая такт «Çа ira»[294], идут мимо Школы верховой езды, в которой заседает собрание; в половине четвертого, похоже, спектакль подходит к концу. Но как раз именно в это время и начинается собственно политическая демонстрация. Вместо того чтобы мирно разойтись, огромная толпа без приказа, но незримо кем-то управляемая, бросается ко входу во дворец. Там, правда, стоят солдаты Национальной гвардии и жандармы с примкнутыми и обнаженными штыками, но двор, верный своей нерешительности, не отдал никакого приказа на случай возникновения такой, впрочем весьма вероятной, ситуации; солдаты не оказывают никакого сопротивления, и толпа людей сплошным потоком вливается в узкий раструб дверей. Напор ее так велик, что она, как бы влекомая сама собой, поднимается по лестнице до бельэтажа. И вот нет более никаких преград, двери выдавлены, запоры сбиты, и, прежде чем кто-либо успевает что-то предпринять для защиты, первые из ворвавшихся во дворец стоят уже перед королем, окруженным лишь горсткой солдат Национальной гвардии. Людовик XVI вынужден в своем собственном доме принимать парад восставшего народа, и столкновения удается избежать только благодаря невозмутимому, флегматичному хладнокровию короля. На все вызывающие вопросы он терпеливо и вежливо отвечает, послушно надевает красный колпак, данный ему одним из санкюлотов. Три с половиной часа, в невыносимой духоте, безотказно, без сопротивления терпит он своих враждебно настроенных гостей, их издевательства.
Одновременно другая большая группа инсургентов проникает в покои королевы. Вот-вот повторится ужасная сцена 5 октября в Версале. Королева более уязвима, чем король, и офицеры, понимая это, быстро собирают вокруг нее солдат; угол комнаты, где она находится, заставляют большим столом, три ряда национальных гвардейцев, стоящих перед этим столом, защищают королеву от оскорблений действием. Ворвавшимся в покои людям не дотянуться до Марии Антуанетты, но они близки к ней настолько, чтобы вызывающе рассматривать «чудовище», достаточно близки, чтобы Мария Антуанетта могла слышать любое бранное слово, любую угрозу. Сантер, желающий лишь унизить королеву, основательно припугнуть ее, не применяя при этом настоящего насилия, приказывает гвардейцам отойти в сторону, дать народу возможность наблюдать свою жертву – побежденную королеву.
Одновременно он пытается успокоить Марию Антуанетту: «Мадам, вас обманывают, народ не имеет против вас злого умысла. Если бы вы пожелали, каждый из нас любил бы вас, как любим мы это дитя. – При этом он указывает на дофина, который, дрожа от страха, жмется к матери. – Впрочем, вам не следует бояться, ничего худого вам не сделают». Но каждый раз, стоит лишь кому-нибудь из factieux предложить королеве свою помощь, гордость ее протестует. «Меня никто не обманывал, никто не вводил в заблуждение, – резко отвечает она, – и я никого не боюсь. Среди порядочных людей никогда не следует ничего бояться». Холодно и гордо выдерживает королева враждебные взгляды и самые дерзкие выпады. Только когда ее хотят принудить натянуть на голову ее ребенка красный колпак, она обращается к офицерам: «Это уж слишком, это выше человеческого терпения». Но ни на мгновение она не выказывает ни страха, ни неуверенности. Лишь после того, как становится ясно, что толпа ничем не угрожает королеве, появляется мэр Петион и просит людей разойтись по домам, «чтобы не дать повод подозревать народ в недостойных намерениях».
Но только поздно вечером замок освобождается от непрошеных гостей, и лишь тогда королева, униженная женщина, чувствует все муки своей беззащитности. Теперь она понимает, что все потеряно. «Я еще живу, но это чудо, – поспешно пишет она своему доверенному Гансу Акселю Ферзену. – Этот день был ужасен».
Последние крики о помощи
Ощутив на своем лице дыхание ненависти, увидев в своей собственной комнате в Тюильри пики революции, поняв, как бессильно Национальное собрание, насколько враждебен мэр, Мария Антуанетта отчетливо представляет себе, что она и ее семья неизбежно погибнут, если извне незамедлительно не появится помощь. Спасти их еще может одно – молниеносная победа прусских и австрийских войск. Правда, в этот последний, самый последний час старые, а с ними и неожиданно обретенные новые друзья пытаются организовать побег. Генерал Лафайет предлагает план: во время праздничных гуляний 14 июля окружить подразделениями кавалеристов на Марсовом поле короля и его семью и с обнаженными саблями пробиться за город. Он готов возглавить эту операцию. Но Мария Антуанетта все еще считает Лафайета виновником всех бед и предпочитает скорее погибнуть, чем вверить судьбу своих детей, мужа и свою собственную этому легкомысленному человеку.
Из благородных соображений отказывается она также от другого плана, от предложения ландграфини Гессен-Дармштадтской вывезти ее из дворца, как находящуюся в наибольшей опасности, такой побег можно было бы организовать только для нее одной. «Нет, принцесса, – отвечает ей Мария Антуанетта, – понимая всю ценность Вашего предложения, я все же не могу принять его. Свою жизнь я посвятила заботе о дорогих мне людях, с ними я делю их несчастья, и они, что бы о них ни говорили, заслуживают участия хотя бы ради того, что они мужественно переносят свою судьбу… Возможно, наступит день, и все то, что мы делаем, ради чего страдаем, приведет, по крайней мере, к счастью наших детей, это единственное желание, которое я себе позволяю. Прощайте, принцесса! У меня отняли все, кроме сердца, которое всегда будет любить Вас. Мне было бы очень горько, если бы Вы сомневались в моей преданности Вам».
Это одно из первых писем, адресованных Марией Антуанеттой не своему современнику, а последующим поколениям. В глубине души она уже знает: если она и не переживет эту беду, то уж свой-то последний долг исполнит, погибнет, сохраняя полное самообладание, погибнет с высоко поднятой головой. Возможно, она уже инстинктивно предчувствует мгновенную героическую смерть – вместо этого медленного погружения на дно, вместо этого постепенного, с каждым часом все большего засасывания в трясину. 14 июля, в народный праздник взятия Бастилии, когда королева – в последний раз – должна принять участие в торжественной церемонии на Марсовом поле, она отказывается надеть под платье кольчугу, как делает это ее осторожный супруг. Спит она в своей комнате одна, хотя однажды в ее покои и проникает какая-то подозрительная личность. Из дому она не выходит: давно уже нельзя ей выйти в сад, не услышав песенки, распеваемой народом на улицах: «Коль ты, француз, не углядишь, мадам Veto сожрет Париж». Ночью не заснуть, с каждым ударом колокола во дворце всех охватывает ужас: не набатный ли это призыв к давно задуманному последнему штурму Тюильри? Каждый день, едва ли не ежечасно, соглядатаи, шпионы осведомляют двор о том, что творится в тайных клубах, в секциях предместий. Двор знает – и это ни для кого уже не является тайной: якобинцы готовят ужасный конец, дело лишь в днях; пять, восемь, десять, может быть, четырнадцать дней пройдет – и «это» неизбежно должно будет произойти, ибо все более и более громко газеты Марата и Эбера требуют низложения. Спасти их может – и Мария Антуанетта знает это – либо чудо, либо стремительный победоносный бросок прусской и австрийской армий.
* * *
Читая письма королевы к ее преданному другу, чувствуешь весь ужас последнего ожидания. Собственно, это уже не письма, это вопль, дикий, исступленный вопль, и невнятный и пронзительный одновременно, словно предсмертный вопль загнанного зверя. Вообще, письма из Тюильри переправлять приходится теперь с крайней осторожностью, используя при этом самые дерзкие приемы, ибо нет уже во дворце надежной прислуги, под окнами и у дверей стоят шпионы. Заложенные в пакетиках с шоколадными конфетами, засунутые за подкладку шляпы, зашифрованные, написанные симпатическими чернилами (теперь уже чаще не собственноручно), письма Марии Антуанетты составлены так, что выглядят совершенно безобидно и в случае их перехвата не должны вызвать никакого подозрения. На первый взгляд кажется, что в них говорится о всякой всячине обыденного характера, о различных занимательных историях и приключениях – мысли королевы зашифрованы и излагаются обычно от третьего лица.
Все чаще и чаще, одна за другой, следуют мольбы о помощи в крайней беде; еще перед 20 июня королева пишет: «Ваши друзья считают излечение невозможным или, во всяком случае, чрезвычайно затяжным делом. Поэтому, если можете, успокойте их, они в этом нуждаются, положение их с каждым днем становится все ужаснее». А 23 июня призыв становится еще более настойчивым: «Ваш друг находится в очень большой опасности, его болезнь прогрессирует с ужасающей быстротой, у врачей нет более никаких средств… Если Вы хотите увидать его еще раз, поспешите, сообщите родителям о его отчаянном положении». «Все лихорадочнее поднимается температура» (26 июня). «Настоятельно необходим кризис, только он может принести спасение, мы в отчаянии, что этот кризис не наступает. Сообщите всем, кто связан с больным, о его отчаянном состоянии, чтобы и они могли принять свои меры. Время не ждет…» Иногда вдруг эта тонко чувствующая, как и всякая по-настоящему любящая, женщина теряется, боится, что призывами о помощи она тревожит того, кто дороже ей всего на свете; даже в самой большой беде, охваченная страхом, Мария Антуанетта думает не о своей судьбе, а о душевном потрясении, которое причиняют возлюбленному ее крики отчаяния. «Положение наше – ужасно, но Вам не следует очень волноваться, я исполнена решимости, что-то подсказывает мне, мы скоро будем счастливо спасены! Уже одни эти мысли поддерживают во мне гордость… Прощайте! Возможно, скоро мы вновь увидимся при более благоприятных обстоятельствах!» (3 июля). И еще раз: «Не тревожьтесь очень обо мне. Поверьте, бесстрашие всегда побеждает… Прощайте и постарайтесь по возможности ускорить обещанную для нашего спасения помощь… Берегите себя ради нас и не беспокойтесь за нас». Но затем это письмо обгоняется другим: «Завтра из Марселя прибудут восемьсот человек, и говорят, что за восемь дней им достанет сил выполнить задуманное» (21 июля). А тремя днями позже: «Передайте, пожалуйста, господину Мерси, что жизнь короля и королевы находится в величайшей опасности, что потеря одного-единственного дня может повлечь за собой неисчерпаемые беды… Банда убийц растет беспрерывно изо дня в день».
И в последнем письме, письме от 1 августа, самом последнем из полученных Ферзеном от королевы, она с прозорливостью крайнего отчаяния пишет об опасности: «Действительно, жизнь короля, как и жизнь королевы, давно уже под угрозой. Прибытие в Париж около шестисот марсельцев и множества членов Якобинских клубов других городов увеличивает наше, к сожалению, совершенно обоснованное беспокойство. Правда, принимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности королевской семьи, но убийцы постоянно рыщут возле дворца; они подстрекают народ. Одна часть Национального собрания находится в плену враждебных идей, другая – под гнетом слабости и трусости… Сейчас приходится думать лишь о том, как избежать кинжала, как сорвать планы заговорщиков, уже окруживших трон, чтобы опрокинуть его. Уже давно factieux не скрывают более своих намерений – устранить королевскую семью. На обоих последних ночных заседаниях Национального собрания пока что не пришли к единому мнению лишь относительно того, как сделать это. Из моих прежних писем Вы знаете, насколько важным является выигрыш даже двадцати четырех часов; сегодня я могу только повторить это и добавить, что если помощь не придет к нам сейчас, то одно лишь Провидение в состоянии будет спасти короля и королеву».
* * *
Эти письма возлюбленной Ферзен получает в Брюсселе; можно представить себе, какое отчаяние он испытывает при этом. С самого раннего утра до поздней ночи борется он против инертности, нерешительности королей, командующего вооруженными силами, посланников; пишет письмо за письмом, наносит визит за визитом, со всей силой подстегиваемого нетерпения торопит, требует начала военных действий. Но командующий армией герцог Брауншвейгский – солдат той старой военной школы, которая считала, что день наступления должен быть определен, высчитан за месяц вперед. Неторопливо, осторожно, систематично, в соответствии с законами, давно опровергнутыми военным искусством Фридриха Великого, расставляет он на карте свои полки и с дремучим генеральским высокомерием не желает прислушиваться к советам политиков или, еще того меньше, «сторонних» наблюдателей, коль скоро они рекомендуют хотя бы на йоту уклониться от составленных им планов. Он объявляет, что до середины августа не перейдет границ Франции, но затем в соответствии с начертанным планом (военный марш – извечная любимая мечта всех генералов) грозится одним броском прорваться к Парижу.
Но Ферзен, которого крики о помощи из Тюильри уже всерьез встревожили, знает: тогда будет поздно. Для спасения королевы нужно что-то делать немедленно. И в смятении чувств любящий делает как раз то, что погубит возлюбленную. Ибо именно те меры, которыми он хочет сдержать нападение толпы на Тюильри, ускоряют это нападение. Уже давно Мария Антуанетта настойчиво просит от союзников выпуска манифеста. Она считает, и ход ее мыслей совершенно правилен, что в манифесте должна быть сделана попытка изолировать идеи республиканцев, идеи якобинцев от французской нации; это придало бы мужества благонадежным элементам Франции (благонадежным в ее понимании), нагнало бы страх на gueux, на «голытьбу». Особенно она хотела бы, чтобы не было оснований считать манифест актом вмешательства во внутренние дела Франции и чтобы в нем «по возможности меньше упоминалось о короле, не очень подчеркивалось бы, что союзники, собственно, действуют единственно для поддержки короля». Она мечтает о дружественном разъяснении для французского народа и одновременно об угрозе террористам.
Но перепуганный насмерть злополучный Ферзен, зная, что настоящую военную помощь со стороны союзников ждать придется целую вечность, настаивает, чтобы этот манифест был составлен в самых резких выражениях; он сам делает набросок документа, через друга пересылает его в штаб-квартиру союзников, и роковым образом именно эта редакция принимается как окончательная. Пресловутый манифест союзнических войск к французским войскам составлен в таком оскорбительном тоне, как если бы победоносные полки герцога Брауншвейгского уже стояли у стен Парижа; манифест этот содержит все, что королева, лучше, чем эмигранты, знающая истинное положение дел, предпочла бы не указывать. В нем постоянно упоминается священная особа христианнейшего короля. Собрание обвиняется в том, что оно противозаконно захватило бразды правления государством, французские солдаты настоятельно призываются к подчинению королю, их легитимному монарху, городу же Парижу, в случае если он силой овладеет дворцом Тюильри, манифест угрожает «примерным и на вечные времена памятным возмездием», «военной экзекуцией» и полным разрушением: мысли, достойные Тамерлана, высказываются малодушным генералом задолго до первого выстрела.
Следствие этой бумажной угрозы ужасно. Даже тот, кто до сих пор относился к королю лояльно, сразу становится республиканцем, едва обнаружив, как дорог его король врагам Франции, едва поняв, что победа вражеских войск повлечет за собой уничтожение всех завоеваний революции, что Бастилию штурмовали напрасно, что клятва в Зале для игры в мяч давалась зря, что торжественная присяга, принесенная тысячами французов на Марсовом поле, не имела никакого смысла. Рука Ферзена, рука возлюбленного, этой безрассудной угрозой метнула бомбу в тлеющий огонь. И этот безумный вызов, эта бессмысленная бравада взорвали гнев двадцати миллионов французов.
* * *
В последние дни июля Парижу становится известным текст злосчастного манифеста герцога Брауншвейгского. Угроза союзников сровнять Париж с землей, если народ нападет на Тюильри, народом воспринимается как повод к нападению. Тотчас же начинаются приготовления, и единственное, что удерживает от немедленных действий, – это желание дождаться ударной группы, шестисот республиканцев Марселя. 6 августа вступают они в город, смуглые от южного солнца, неистовые и решительные, поющие в такт своему движению новую песнь, ритм которой в немногие недели поднимет всю страну, – Марсельезу[295], гимн революции, созданный в замечательный час ничем, казалось бы, не замечательным офицером. Теперь все готово к последнему удару по прогнившей монархии. Выступление может начинаться: «Allons, enfants de la patrie…»[296]
Девятое августа
Ночь с 9 на 10 августа предвещает жаркий день. Ни облачка, на небосводе – тысячи звезд, ни малейшего дуновения ветра; глубокая тишина на улицах города, крыши домов блестят в серебряном свете летней луны.
Но эта тишина никого не обманывает. И если улицы так необычно безлюдны, то означает это лишь то, что готовится нечто чрезвычайное, особенное. Революция не спит. В секциях, в клубах, в своих домах совещаются руководители; гонцы, соблюдая подозрительную осторожность, спешат с приказами из округа в округ, вожди восстания, Дантон, Робеспьер и жирондисты, оставаясь в тени, вооружают вторую, тайную армию, готовят народ Парижа к выступлению.
Но и во дворце никто не спит. Со дня на день ждут восстания. Здесь знают: марсельцы не зря прибыли в Париж; по последним сообщениям, их выступления следует ждать на следующий день. В душную, жаркую летнюю ночь окна раскрыты настежь, королева и мадам Елизавета прислушиваются. Пока еще ничего не слышно. Спокойной тишиной дышит охраняемый парк Тюильри, лишь шаги гвардейцев слышны во дворе, да разве что изредка зазвенит сабля или конь ударит копытом. Более двух тысяч солдат расквартировано во дворце, галереи полны офицерами и вооруженными дворянами.
Наконец, в три четверти первого – все бросаются к окнам – колокол в дальнем пригороде бьет тревогу, затем второй, третий, четвертый. И далеко-далеко слышна барабанная дробь. Теперь уж нет никаких сомнений – это собираются восставшие. Еще несколько часов, и начнется выступление. Взволнованная королева вновь и вновь возвращается к окну, прислушивается, не нарастает ли угрожающий шум. Никто не спит в ту ночь. В четыре утра на безоблачном небе поднимается кроваво-красное солнце. Будет жаркий день.
Во дворце все подготовлено. Только что занял свои позиции надежнейший полк короны, девятьсот человек – швейцарцы[297], суровые, непоколебимые люди, вымуштрованные, верные долгу. Кроме них с шести часов вечера охрану Тюильри несут шестнадцать отборных батальонов Национальной гвардии и кавалерии, подъемные мосты разведены, посты утроены, двенадцать пушек с угрожающими жерлами, пока еще безмолвными, закрывают входы. Кроме того, разосланы приглашения двум тысячам дворян, до полуночи ворота держали открытыми, впрочем напрасно: явилось всего каких-нибудь полторы сотни, в основном старые, убеленные сединами дворяне. Дисциплину поддерживает Манда, храбрый, энергичный офицер, полный решимости ни при каких условиях не отступать. Но об этом знают и революционеры, и в четыре утра его внезапно отзывают – он должен явиться в ратушу. Король неосторожно отпускает его, и, хотя Манда знает, что грозит ему, что ждет его, он все же следует приказу. Новая, революционная коммуна[298] без ведома ратуши вершит краткий суд; через два часа ему размозжат череп и, предательски убитого, бросят в Сену. Дворцовая охрана остается без командира, без вождя с решительным сердцем, с твердой рукой.
Ибо король – не вождь. Нерешительно, чего-то ожидая, бродит по комнатам растерянный человек в фиолетовом сюртуке, в небрежно надетом со сна парике, с пустым, несчастным взором. Еще вчера было принято решение защищать Тюильри до последней капли крови, с вызывающей энергией превратили дворец в крепость, в военный лагерь. Но уже сейчас, еще прежде, чем враг появился возле дворца, окружение короля чувствует себя неуверенно, и эта неуверенность исходит от Людовика XVI. Каждый раз, когда надо принять решение, этот, впрочем сам отнюдь не трусливый, но как бы ошеломленный любой ответственностью человек чувствует себя совершенно больным. А можно ли ожидать мужества от солдат, если они видят своего вождя дрожащим от страха? Полк швейцарцев под неусыпным надзором своих офицеров пока еще тверд, однако подозрительные признаки разложения появляются у солдат Национальной гвардии, они непрерывно задают себе вопросы: «Сопротивляться? Не сопротивляться?»
* * *
Королева почти не в силах скрыть от окружающих горечь, вызванную бессилием своего супруга. Мария Антуанетта жаждет определенности. Усталые, измученные нервы не могут более терпеть это вечное напряжение, ее гордость не хочет более испытывать непрерывные оскорбления, не желает быть постоянно в состоянии унизительной покорности. За эти два года она достаточно хорошо поняла, что мягкость, уступчивость требованиям революции не ослабляют врага, а делают его лишь самоувереннее. Но сейчас королевская власть стоит уже на последней, нижней ступени, ниже – некуда, ниже угрожающе зияет пропасть; один шаг – и все потеряно, даже честь. Гордая, решительная, бесстрашная женщина предпочла бы сама спуститься к малодушным солдатам Национальной гвардии, чтобы поделиться с ними своей решимостью, чтобы призвать их к исполнению долга. Вероятно, в ней неосознанно пробудились воспоминания о матери, которая в тяжкий час испытаний с престолонаследником на руках вышла к колеблющимся венгерским аристократам и этим поступком завоевала их преданность. Но Мария Антуанетта знает также, что в подобный час женщине не пристало заменять своего мужа, королеве нельзя подменять короля. И она уговаривает, убеждает Людовика XVI сделать еще одну, последнюю попытку – принять бой и, устроив смотр защитникам, сломить их нерешительность.
Мысль правильная: инстинкт Марии Антуанетты всегда безошибочен. Несколько пылких, убеждающих слов, подобных тем, которые в свое время, в опаснейшие мгновения, будет находить Наполеон, торжественное обещание короля умереть вместе со своими солдатами, энергичный жест уверенного в себе человека – и эти еще колеблющиеся батальоны стали бы стеной, защищая своих повелителей. Но тут заикается близорукий, неуклюжий и грузный, совсем не военный человек, со шляпой под мышкой, топчется на верхней площадке лестницы, бормочет какие-то обрывки фраз: «Говорят, они придут… Наше общее дело, мое и моих добрых подданных… не правда ли, мы будем биться смело?» Нерешительный тон, неловкие манеры увеличивают, а не уменьшают общую неуверенность. С презрением смотрят солдаты Национальной гвардии на этого рохлю, нерешительными шагами приближающегося к их рядам, и вместо ожидаемого возгласа: «Да здравствует король!» – его встречает сначала молчание, затем двусмысленный клич: «Да здравствует нация!» – а когда король, осмелев, доходит до решетки, где войска уже братаются с народом, он слышит открытые призывы к мятежу: «Долой вето! Долой толстую свинью!» Приближенные и министры в ужасе окружают короля и уводят его обратно во дворец. «Боже мой, над королем смеются!» – кричит морской министр, и Мария Антуанетта, с глазами, воспаленными от слез и бессонницы, наблюдающая всю эту унизительную сцену, с горечью отворачивается. «Все потеряно, – потрясенная, говорит она своей камеристке. – Король не проявил энергии, и этот смотр принес больше вреда, нежели пользы». Битва, так и не начатая, уже проиграна.
* * *
В это утро последней, решающей битвы между монархией и республикой в толпе у Тюильри стоит юный лейтенант без должности, корсиканец Наполеон Бонапарт. Словно глупца, высмеял бы он всякого, кто стал бы утверждать, что ему, Наполеону, предстоит однажды занять этот дворец как преемнику Людовика XVI. Сейчас он свободен, не зачислен в армию, и вот своим непогрешимым взглядом солдата оценивает шансы нападающей и защищающейся сторон. Несколько пушечных залпов, один стремительный удар – и этих каналий (как позже, на острове Святой Елены, презрительно назовет он жителей предместий), словно железной метлой, повымело бы отсюда[299]. Имей король возле себя этого незначительного артиллерийского лейтенанта, он устоял бы против всего Парижа. Но здесь, во дворце, никто не обладает железным сердцем и быстро оценивающим взглядом этого маленького лейтенанта. «Не нападать, сохранять спокойствие, решительно защищаться», – этот приказ, данный солдатам, – полумера и уже по этому одному предрешенное поражение. Семь утра: передовой отряд повстанцев подошел ко дворцу. Это неорганизованная вооруженная толпа, опасная не своей боеспособностью, а несгибаемой решимостью. Уже собираются люди возле подъемных мостов. Дальше откладывать решение нельзя. Рёдерер, генеральный прокурор, чувствует свою ответственность. Еще час назад он советовал королю обратиться к Национальному собранию и просить у него защиты. Но тут вспыхивает Мария Антуанетта: «Сударь, у нас здесь достаточно сил, и пришло наконец время определить, кому быть у власти – королю или мятежникам, конституции или революционерам».
Но король не находит нужных энергичных слов. Тяжело дыша, сбитый с толку, сидит он в своем кресле и ждет, ждет, сам не зная чего; одного лишь желает он – устраниться от всяких действий, уклониться от какого бы то ни было решения. Вновь подходит к нему Рёдерер со своим шарфом, обеспечивающим доступ повсюду; несколько городских советников сопровождают его. «Сир, – настойчиво обращается он к Людовику XVI, – ваше величество, вам нельзя терять ни минуты, единственное спасение для вас – это Национальное собрание». – «Однако на площади не так-то уж много людей», – боязливо возражает король, желающий лишь одного – оттянуть время. «Сир, огромная толпа с двенадцатью пушками движется сюда из пригородов».
Мария Антуанетта не может более сдерживать свое возбуждение, кровь приливает к лицу, она должна принудить себя не показать свою слабость перед этими мужчинами, ни один из которых не думает по-мужски. Искушение велико, но и ответственность огромна; в присутствии короля Франции женщина не должна давать приказ к бою. И она ждет решения этого вечно колеблющегося человека. Наконец он поднимает свою тяжелую голову, несколько секунд смотрит на Рёдерера, затем вздыхает и говорит, счастливый тем, что принял решение: «Идемте!»
И без боя, даже без попытки сопротивления, Людовик XVI покидает замок, построенный его предками, – покидает, чтобы никогда более не вернуться назад. Он идет вдоль рядов дворян, смотрящих на него с презрением, мимо солдат-швейцарцев, которым забывает сказать, должны они сопротивляться или нет, сквозь толпу, все более и более разрастающуюся, открыто смеющуюся над королем, его женой и горсткой верных им людей, даже угрожающую им. Они проходят по саду – впереди король с Рёдерером, за ними, поддерживаемая морским министром, Мария Антуанетта с дофином. С недостойной поспешностью торопятся они к крытому манежу Школы верховой езды, где некогда двор весело и беззаботно проводил время, а сейчас Национальное собрание отпразднует свой триумф, – ведь король Франции, дрожа за собственную жизнь, будет искать у него защиты. Всего две сотни шагов отделяют дворец от Манежа. Но эти двести шагов невозвратно отдаляют Марию Антуанетту и короля от ранее принадлежавшей им власти. Королевской власти пришел конец.
* * *
Собрание со смешанным чувством принимает просьбу своего прежнего государя об убежище, просьбу государя, с которым оно все еще связано присягой. В порыве великодушия, пораженный неожиданностью, Верньо, президент собрания, заявляет: «Сир, вы можете рассчитывать на решимость собрания. Его члены поклялись умереть за права народа, за установленную им власть». Это серьезное обещание, ведь, в соответствии с конституцией, король все еще наравне с собранием являет собой власть – в этом хаосе собрание делает вид, что порядок еще существует. Внимание председательствующего обращают на то, что, в соответствии с конституцией, королю запрещено присутствовать в зале во время заседания. Но так как собрание должно продолжаться, королю в качестве убежища предоставляется прилегающая к залу ложа, в которой обычно находятся секретари-стенографы. Эта ложа – помещение настолько низкое, что в нем невозможно стоять; в ложе спереди – несколько кресел, в глубине лежит соломенный тюфяк, железная решетка отделяет ложу от зала. Решетку депутаты спешно удаляют, нельзя не считаться с тем, что толпа попытается силой захватить королевскую семью; решено, что в этом случае заседание будет прервано и депутаты окружат членов королевской семьи. Вот в этой-то клетке – в знойный августовский день в ней можно задохнуться от жары – Мария Антуанетта и Людовик XVI с детьми должны провести восемнадцать часов, непрерывно ощущая на себе любопытные, злобные или сочувствующие взгляды депутатов. Но что унижает их еще больше, чем откровенная, подчеркнутая неприязнь, так это абсолютное безразличие, оказываемое Национальным собранием королевской семье все эти восемнадцать часов. На короля и королеву обращают не более внимания, чем на служителей в зале или на зрителей с трибун; ни один депутат не подходит к ним с приветствием, никто и не думает хоть как-то облегчить им пребывание в этом загоне. Им разрешено лишь слушать, что говорят о них. Фантасмагорическая ситуация: они как бы со стороны наблюдают собственные похороны.
* * *
Внезапно собрание охватывает волнение. Некоторые депутаты вскакивают со своих мест и прислушиваются. Дверь распахивается настежь, возле Тюильри раздаются ружейные выстрелы, окна дребезжат от глухих ударов – это канонада. Пытаясь проникнуть во дворец, мятежники встретили сопротивление швейцарцев. В жалкой поспешности своего бегства король совершенно забыл дать указание, или, как всегда, ему недостало энергии собраться с духом, чтобы сказать ясное «ДА» или «НЕТ». Верные прежнему, не отмененному приказу обороняться, швейцарские гвардейцы защищают пустые покои сбежавшего короля и по команде своих офицеров дают несколько залпов. Они очищают двор, отбивают притащенные толпой пушки, показывая этим, что решительный владыка в окружении преданных ему людей мог бы с честью защищаться. И только сейчас вспоминает король, безголовый повелитель (скоро он действительно потеряет голову), о своем долге – не требовать от других мужества и самопожертвования там, где сам он оказался малодушным; он посылает швейцарцам приказ прекратить всякую защиту дворца. Но и на этот раз – вечное роковое слово его царствования – поздно! Нерешительность или забывчивость короля стоит жизни более чем тысяче людей. Озлобленная толпа врывается в беззащитный дворец. Вновь светят кровавые фонари революции: на пиках высятся головы роялистов, лишь к одиннадцати часам кончается бойня. В этот день не упадет более ни одна голова – упадет лишь корона.
* * *
Не смея сказать ни слова, члены королевской семьи, сидя в душной и тесной ложе, должны наблюдать все происходящее на заседании. Сначала видят они, как в зал заседания врываются их верные швейцарцы, черные от порохового дыма, с кровоточащими ранами, а по пятам за ними гонятся торжествующие мятежники, преследующие их и в этом убежище. Затем на стол председателя выкладываются вещи, похищенные во дворце: серебро, украшения, письма, денежные шкатулки, ассигнаты. Молча должна слушать Мария Антуанетта, как восхваляют вождей восстания. Беззащитная, безмолвная, она выслушивает депутатов секций, выходящих к барьеру и горячо требующих низложения короля, должна быть свидетелем того, как искажаются в сообщениях совершенно ясные факты: оказывается, в набат били по приказу дворца, дворец осадил нацию, а не нация – дворец. И в который уже раз может она наблюдать вечную, неизменно повторяющуюся комедию: едва почувствовав, что ветер меняет направление, политики становятся трусами. Тот самый Верньо, который всего лишь пару часов назад именем Национального собрания клялся скорее умереть, чем допустить ущемление прав авторитета, установленного законом, теперь спешно капитулирует и вносит предложение о немедленной изоляции носителя исполнительной власти, то есть короля, требует перевода королевской семьи в Люксембургский дворец «под защиту граждан и закона», а это означает заключение под стражу. Чтобы несколько смягчить удар, нанесенный роялистски настроенным депутатам этой внезапной переменой политики, собрание видимости ради решает также вопрос о назначении воспитателя для наследного принца, хотя в действительности в настоящий момент никто более не думает уже ни о короле, ни о королевской власти. Короля лишают права вето, единственного его права, и тот самый закон, который был отвергнут королем, собрание самовластно утверждает, не испрашивая на то согласия у этого беспомощного, потеющего человека, устало сидящего в ложе для секретарей, слабовольного человека, который, вероятно, в глубине души рад тому, что его уже ни о чем не спрашивают. Отныне Людовику XVI не нужно более принимать никаких решений. Отныне решения будут приниматься о нем.
* * *
Восемь, двенадцать, четырнадцать часов длится заседание. И пять человек, сидящих в тесной ложе, в эту ночь ужасов не спят, пережив за сутки целую вечность. Ничего не понимающие в происходящем, усталые дети дремлют, король и королева непрерывно вытирают пот со лба, вновь и вновь смачивает Мария Антуанетта носовой платок водой, раз или два пьет она воду со льдом, передаваемую ей милосердной рукой. Смертельно усталая и в то же время остро и тонко воспринимающая все происходящее вокруг, с воспаленными глазами сидит она в душном помещении и слушает, как часами эта говорильня на все лады обсуждает и решает ее судьбу. Ни разу не берет она куска в рот, не то что ее супруг. Безразличный к окружающему, Людовик XVI несколько раз ест с аппетитом, непрерывно что-то жует, не спеша, спокойно двигая своей тяжелой челюстью, как если бы он сидел в Версале за столом, сервированным серебром. Даже в условиях чрезвычайной опасности у этого совсем не царственного супруга не пропадает охота вкусно поесть и хорошо поспать; тяжелые веки постепенно смежаются, и в самый разгар битвы, которая будет ему стоить короны, Людовик XVI погружается в дрему. Мария Антуанетта отодвигается от него в глубину ложи, в тень. В такие часы ей всегда стыдно за недостойную слабость этого человека, более заботящегося о своем желудке, чем о своей чести, способного в моменты жестокого унижения как ни в чем не бывало уминать пищу и дремать. Горящими глазами смотрит она мимо него, пытаясь не выдать своего ожесточения; и от собрания отворачивается королева, она вообще предпочла бы ничего не слышать, ничего не видеть. Одна она чувствует всю унизительность этого дня, а в пересохшем горле – горечь всего того, чему еще предстоит свершиться; но ни на мгновение она не теряет самообладания, всегда величественная в часы, требующие от нее этого. Ни слезинки не увидят у нее мятежники, ни вздоха не услышат, все глубже и глубже отодвигается она в сумрак ложи.
Наконец, после восемнадцати ужасных часов в этой раскаленной клетке, королю и королеве разрешено отправиться в бывший монастырь фейянов, где в одной из пустых, запущенных келий им поспешно приготовлен ночлег. Посторонние женщины одалживают королеве Франции ночную рубашку и кое-какое постельное белье, у одной из своих горничных должна она взять взаймы несколько золотых; свои деньги она либо потеряла, либо забыла в суматохе захватить. Теперь, наконец оставшись одна, Мария Антуанетта что-то ест. Но за решетчатыми окнами все еще неспокойно, город лихорадит, всю ночь толпы людей бродят по улицам. Со стороны Тюильри слышен глухой стук катящихся по мостовой телег. Это увозят трупы многих сотен погибших при штурме дворца – ужасная ночная работа. Труп королевской власти уберут среди бела дня.
Завтра и послезавтра королевской семье опять надо присутствовать в той же самой ложе на заседаниях Национального собрания; с каждым часом чувствуют король и королева, как в этой пылающей печи плавится их власть. Вчера говорили еще о короле, сегодня Дантон говорит уже об «угнетателях народа», а Клоотс – о «личностях, именуемых королями». Вчера для «пребывания» двора предлагали еще Люксембургский дворец и обсуждали кандидатуру воспитателя дофина, сегодня – формулировки резче: короля поставить под sauvegarde de la nation[300] – несколько более мягкий синоним понятия «тюрьма»; кроме того, коммуна, новое революционное городское самоуправление, созданное в ночь на 10 августа, не дала своего согласия на то, чтобы Люксембургский дворец или здание Министерства юстиции стали резиденцией короля, и совершенно ясно сформулировала причину отказа: из этих зданий можно очень легко организовать побег королевской четы. Лишь в Тампле[301] может быть гарантирована безопасность détenus[302] – все обнаженнее становится понятие тюрьмы. Национальное собрание, втайне довольное тем, что с него снимается ответственность за решение, заботу о короле передает коммуне. Она обещает отвезти королевскую семью в Тампль «со всем уважением, подобающим данным печальным обстоятельствам». Таким образом, с этим вопросом покончено, но затем целый день, до двух ночи, мельница перемалывает бесконечный ворох слов, и ни один из выступающих ничего не говорит в защиту этих униженных, сидящих сгорбившись в темной ложе, в тени своей судьбы.
Наконец 13 августа Тампль подготовлен. За эти три дня пройден чудовищно долгий путь. Между абсолютной монархией и Национальным собранием дистанция – столетия, между Национальным собранием и конституцией – два года, между конституцией и штурмом Тюильри – несколько недель, между штурмом Тюильри и арестом короля – всего три дня. Теперь лишь несколько недель – и эшафот, а затем один-единственный толчок – и труп в гробу.
В шесть вечера 13 августа королевскую семью под руководством Петиона привозят в Тампль – в шесть вечера, до темноты, не ночью: победоносный народ должен видеть бывшего властелина и особенно ее, высокомерную королеву, на пути в тюрьму. Два часа, нарочито медленно, движется карета, делая специально крюк через Вандомскую площадь, чтобы Людовик XVI мог видеть сброшенную с цоколя и разбитую по приказу Национального собрания статую своего прадеда, Людовика XIV, чтобы король не сомневался более – покончено не только с его личным господством, но и со всей его династией.
Одновременно, поскольку бывший владыка Франции меняет замок своих предков на тюрьму, новый властелин Парижа также меняет свою резиденцию. В ту же ночь гильотину вывозят со двора Консьержери и устанавливают на площади Карусель. Франция должна знать: с 13 августа не Людовик XVI повелевает Францией, а Террор.
Тампль
Уже темнеет, когда королевская семья прибывает в Тампль, бывший замок храмовников. Окна основного здания – ведь сейчас народный праздник – освещены бесчисленными лампионами. Мария Антуанетта знает этот маленький дворец. Здесь в счастливые, беззаботные годы рококо жил брат короля, граф д’Артуа, ее партнер по танцам, товарищ в развлечениях. Однажды зимой, под заливистый звон бубенчиков, в разукрашенных санках, четырнадцатилетняя дофина, укутанная в дорогую шубку, приехала сюда, чтобы перекусить на скорую руку у деверя. Нынче в этот дворец приглашают их на более длительное время менее гостеприимные хозяева – члены коммуны, и вместо лакеев в дверях, словно заботливые стражи, стоят солдаты Национальной гвардии и жандармы. Большой зал, в котором узникам сервируют ужин, знаком нам по знаменитой картине «Чай у принца Конти». Мальчик и девочка, развлекающие избранное общество концертом, – восьмилетний Вольфганг Амадей Моцарт и его сестра. Музыка и веселое настроение царят в этих покоях, счастливые, умеющие наслаждаться господа жили здесь всего каких-нибудь пятнадцать лет назад.
Но не этот изящный дворец – в покоях его, обшитых деревянными позолоченными панелями, возможно, до сих пор еще живут отзвуки той серебряной моцартовской легкости – определен коммуной как резиденция Марии Антуанетты и Людовика XVI, нет, жить они будут в расположенных поблизости двух древних круглых крепостных башнях с остроконечными крышами. Построенные в Средние века храмовниками, эти неприступные укрепления из тяжелого плитняка, серые и угрюмые, словно Бастилия, порождают мистический ужас у впервые увидевших их. Со своими тяжелыми, обитыми железом дверьми, со своими низкими окнами, со своими мрачными, окруженными каменными стенами двориками, напоминают они о давно забытых балладах стародавних времен, о тайных судилищах, об инквизиции, о камерах пыток. Боязливо смотрят парижане на этих немых свидетелей жестоких времен; бесполезные и поэтому вдвойне таинственные, высятся башни в густонаселенном квартале мелких торговцев и ремесленников. Был глубокий и страшный смысл в назначении этих старых, ставших ненужными стен тюрьмой для также ставшей ненужной королевской власти.
В последующие недели повышается надежность этой тюрьмы. Маленькие домишки вокруг крепости сносят, деревья во дворе срубают, чтобы облегчить наблюдение со всех сторон; кроме того, голые, совершенно пустые дворы возле крепости отделяют от других строений каменной оградой; теперь, чтобы попасть в собственно цитадель, надо преодолеть три крепостные стены. Возле каждого выхода построена сторожевая будка, перед каждой внутренней дверью, на всех переходах с этажа на этаж старательно сделаны барьеры, заставляющие всякого входящего и выходящего семь-восемь раз предъявлять охране свои документы. Ратуша, несущая ответственность за узников, ежедневно назначает по жребию четырех комиссаров (каждый раз других), обязанных круглые сутки вести надзор за всеми помещениями крепости и вечером брать под личную охрану ключи от всех ее дверей и ворот. Никто, кроме этих комиссаров и городских советников, не имеет права переступать порог крепости Тампль без специального пропуска магистрата: ни Ферзену, никому из друзей королевской семьи не приблизиться к ней, возможность передачи писем, какого бы то ни было общения с внешним миром абсолютно, во всяком случае так кажется, исключена.
Еще более сурова и еще сильнее ранит королевскую семью другая мера предосторожности. В ночь на 19 августа являются два чиновника магистрата с приказом удалить из крепости лиц, не принадлежащих к королевской семье. Особенно болезненно для королевы расставание с принцессой Ламбаль, которая, уже находясь в безопасности, добровольно вернулась из Лондона, чтобы в трудный час показать свою преданность подруге. Обе чувствуют, что не увидят более друг друга: при этом расставании, проходящем без свидетелей, Мария Антуанетта, вероятно, дарит подруге прядь своих волос, заключенную в кольцо с трагической надписью: «Они поседели от горя», найденное позже на растерзанном трупе принцессы. И воспитательница дофина мадам де Турзель со своей дочерью должна перебраться из этой тюрьмы в другую, в Форс, так же как и дворяне из свиты короля – лишь одного камердинера оставляют ему. Таким образом, исчезают последние следы придворного штата, и королевская семья – Людовик, Мария Антуанетта, двое детей и принцесса Елизавета – остается в одиночестве.
* * *
Страх ожидания какого-либо события подчас непереносимее самого события. Унижая короля и королеву, неволя все же пока гарантирует им некоторую безопасность. Толстые стены, окружающие их, забаррикадированные дворы, стража с заряженными ружьями – все это исключает любую попытку побега, но в то же время и защищает от возможного нападения. Теперь не нужно более королевской семье, как это было в Тюильри, ежедневно, ежечасно прислушиваться, не ударил ли набатный колокол, не забили ли барабаны тревогу, нет более непрерывного ожидания нападения; в этой уединенной башне изо дня в день один и тот же распорядок, одно и то же охраняемое одиночество, одна и та же удаленность от всех волнений внешнего мира. Городское самоуправление сначала делает все, чтобы удовлетворить физические потребности пленных членов королевской семьи: беспощадная в борьбе, революция в своей глубокой сущности не бесчеловечна. После каждого жестокого удара она дает передышку своей жертве, не подозревая, что как раз эта пауза, это кажущееся ослабление напряжения делает для побежденных поражение еще более ощутимым. Первые дни после перевода в Тампль городское самоуправление делает все, чтобы облегчить арестованным пребывание в тюрьме. Помещения большой башни заново обиваются, обставляются мебелью, под жилье отводится целый этаж: четыре комнаты для короля, четыре – для королевы, золовки королевы мадам Елизаветы, детей. Им разрешено в любое время выходить из мрачных, сырых помещений башни гулять в саду; коммуна особенно заботится о том, что для короля является, к сожалению, едва ли не самым важным, – о хорошей и обильной пище. Не менее тринадцати человек готовят пищу и обслуживают его за столом, каждый обед содержит по крайней мере три первых, четыре закуски, два жарких, четыре легких блюда, компот, фрукты, вина – мальвазию, бордо, шампанское; затраты на питание за три с половиной месяца составляют не менее тридцати пяти тысяч ливров. До тех пор пока Людовик XVI еще не считается преступником, коммуна в полном достатке снабжает его бельем, одеждой, различными предметами обихода. По его желанию в Тампль доставлена целая библиотека – двести пятьдесят семь книг, в основном латинские классики, что позволяет ему коротать время. Сначала, очень недолго, арест королевской семьи совсем не напоминает наказание, и только подавленность духа мешает королю и королеве вести в таких условиях тихую, спокойную, едва ли не мирную жизнь. По утрам к Марии Антуанетте приходят дети, она занимается с ними или играет, днем вся семья вместе обедает, затем после обеда играют в триктрак или в шахматы. В то время как король гуляет с дофином в саду и запускает с ним воздушного змея, королева, которой гордость не позволяет прогуливаться под наблюдением охраны, чаще всего сидит у себя в комнате с рукоделием. Вечером она сама укладывает детей спать, затем взрослые беседуют или играют в карты, иногда Мария Антуанетта, как в прежние времена, садится за клавесин или поет, но она отрезана от большого мира, от своих подруг, ей недостает уже навсегда утраченной сердечной легкости. Она говорит мало и предпочитает либо общество детей, либо одиночество. Ей недостает также утешения, черпаемого из глубокой веры, тогда как Людовика XVI и его сестру, которые много молятся и строго соблюдают все посты, это успокаивает, придает им терпения. Волю к жизни у Марии Антуанетты сломить не так-то легко, как у мужа и золовки, лишенных темперамента. Даже в этих каменных стенах все ее помыслы обращены к миру, от которого она изолирована; все еще отказывается она отречься от своей привыкшей к победам души, все еще не хочет поступиться надеждами – внутренне она концентрирует свои силы. Одна она из всей семьи, сидя в тюрьме, не может примириться с лишением свободы, тогда как сложившийся уклад жизни, не будь охраны на каждом шагу, не будь этого вечного страха перед завтрашним днем, полностью отвечает мечте, бессознательно лелеемой мещанином Людовиком XVI, монашенкой мадам Елизаветой, – жить в бездумной и безответственной пассивности.
* * *
Но у каждой двери – охрана. Заключенным непрерывно напоминают, что их судьбой повелевает некая сила. Коммуна повесила в столовой, на стене, на большом листе текст Декларации прав человека[303], дата под документом очень болезненно воспринимается королем: «В первый год республики»[304]. В своей комнате, на медных плитках печки, он вынужден читать: «Свобода, Равенство», за обедом неожиданно появляется незваный гость – комиссар или комендант. Каждый кусок хлеба отрезается и исследуется чужой рукой, нет ли в нем тайной записки, ни одна газета не должна проникнуть в Тампль, всякого входящего в крепость или покидающего ее охрана тщательно обыскивает, двери всех комнат закрываются снаружи на ключ. Ни шагу не могут ступить король или королева, чтобы сзади них, словно тень, не маячил страж с заряженным ружьем, не могут беседовать друг с другом без свидетелей, не могут читать без строжайшей цензуры. Лишь в своих отдельных спальнях дано им счастье: каждому разрешено остаться наедине с самим собой. Были ли они, эти стражи, действительно сознательными мучителями? Были ли эти сторожа и инспектора Тампля действительно такими уж садистами, как их изображают роялистские жизнеописания мучеников? Действительно ли Марию Антуанетту и ее близких непрерывно подвергали жестоким и ненужным мучениям, привлекая для этого особенно безжалостных санкюлотов[305]? Доклады коммуны опровергают это, но ведь и они необъективны. Чтобы правильно ответить на очень существенный вопрос – на самом ли деле коммуна умышленно оскорбляла и истязала побежденного короля, требуется чрезвычайная осторожность. Понятие «революция» очень емкое: оно содержит все тончайшие оттенки – от высшего, идеального до действительно жестокого, от величия до низости, от чисто духовного до полной противоположности ему – насилия; понятие это переменчиво, переливается всеми цветами радуги, и та или иная окраска зависит и от людей, в руках которых находится дело революции, и от обстоятельств. Во французской революции, как и во всякой другой, четко обозначаются два типа революционеров: революционеры идеи и революционеры от обиды, от зависти. Первые, вышедшие из более обеспеченных слоев народа, хотят поднять народ до своего уровня, до своей культуры, до своей свободы, своего образования, своего уклада жизни. Вторые, которым самим жилось плохо, хотят отомстить тем, кому жилось лучше, пытаются обретенную ими силу направить на тех, кто обладал ею раньше, жаждут вдоволь поиздеваться над бывшими господами. Такое представление, поскольку оно основано на двойственности человеческой природы, справедливо для всех времен. Во французской революции первоначально господствовала идейность: Национальное собрание, состоящее из аристократов и представителей третьего сословия, из уважаемых людей страны, хотело помочь народу, хотело освободить массы, но освобожденные массы, эти раскованные силы, тотчас же оборачиваются против своих освободителей; во второй фазе революции крайние элементы, революционеры от обиды, от зависти, приобретают господствующее положение, чувство власти для них настолько ново и необычно, что они не могут противостоять желанию полностью им насладиться. Эти личности, посредственности ума, наконец-то дорвавшись до власти, берут в свои руки бразды правления, чтобы со свойственным им тщеславием придать революции формы и масштабы, соответствующие их собственным масштабам, их собственной духовной посредственности.
К числу революционеров от обиды, от зависти относится Эбер, которому доверено попечение о королевской семье, – отвратительная личность, типичный представитель этой категории людей. Благородным, истинно одухотворенным революционерам – Робеспьеру, Демулену, Сен-Жюсту – скоро станет ясно, что этот грязный писака, этот распутный крикун – язва на теле революции, и Робеспьер выжжет эту язву каленым железом, правда слишком поздно. Человек с подозрительным прошлым, публично обвиненный в присвоении денег из театральной кассы, отстраненный за это от должности, этот человек без совести бросается в революцию, как зверь, которого травят, бросается в реку, и поток несет его, потому что он, по словам Сен-Жюста, «в зависимости от духа времени и опасности ловко, словно хамелеон, меняет свой цвет». Чем больше пятен крови на одеждах республики, тем краснее чернила, которыми пишет или, вернее, марает статьи Эбер в грязном бульварном листке революции «Папаша Дюшен». Вульгарными выражениями («Как если бы Сена была сточной канавой Парижа», – говорит Демулен) Эбер в этом листке льстит низменнейшим инстинктам низших классов и тем самым дискредитирует революцию за границей; но благодаря личной популярности у толпы, заработанной таким образом, он имеет хорошие доходы, место в ратуше и всевозрастающую личную власть: роковым образом судьба Марии Антуанетты вверена ему.
Этот человек с мелкой душонкой, став господином и стражем королевской семьи, естественно, наслаждается возможностью унизить эрцгерцогиню Австрийскую, королеву Франции, высокомерно обращаясь с нею. В личном общении намеренно холодно вежливый, всегда озабоченный тем, чтобы показать себя истинным и законным представителем новой справедливости, он в своем листке «Папаша Дюшен» с подлыми, яростными оскорблениями набрасывается на королеву за то, что она уклоняется от какого-либо общения с ним. Именно «Папаша Дюшен» беспрерывно требует Hechtsprung[306] и rasoir national[307] для «пьяницы и его потаскухи», для тех самых особ, которым господин городской прокуратор Эбер еженедельно отдает визиты вежливости. Без сомнения, болтать он горазд, сердце же у него холодное; ненужное, ничем не оправданное унижение поверженных заключается уже в том, что именно этот жалкий лжепатриот назначен начальником тюрьмы. Понятно, что страх перед Эбером в известной степени определяет поведение караульных солдат и других служащих тюрьмы. Из боязни прослыть ненадежными, они стараются быть более грубыми с узниками, чем хотели бы; правда, с другой стороны, вопли Эбера совершенно неожиданно помогают узникам. Наивные ремесленники, мелкие лавочники, которых Эбер использует для охраны тюрьмы, каждодневно читают в его «Папаше Дюшене» о «кровавом тиране», о «распутной, расточительной австриячке». А что они видят в тюрьме? Простодушного толстяка, такого же обывателя, как и они, гуляющего с сынишкой в саду и высчитывающего с ним, какова площадь этого сада, сколько квадратных футов и дюймов в тюремном дворике; они видят: он охотно и помногу ест и спит, подолгу сидит над книгами. Очень скоро они начинают понимать, что этот пассивный, славный отец семейства не обидит и мухи; действительно, ненавидеть такого тирана не за что, и, не следи Эбер так строго, караульные солдаты, вероятно, болтали бы с этим приветливым господином, словно со своим товарищем из народа, перекидывались бы с ним шуткой или играли бы в карты. На большей дистанции от себя, конечно, держит всех окружающих королева. За столом Мария Антуанетта ни единым словом не обращается к надзирателям, а когда является комиссия, чтобы спросить ее о пожеланиях, она неизменно отвечает, что ничего не желает, ничего не требует. Она предпочитает все делать сама, лишь бы не просить у своего тюремщика об одолжении. Но именно это величие в несчастье и трогает этих простых людей, и, как всегда, явно страдающая женщина вызывает особое сочувствие. Постепенно караульные, эти товарищи по заключению своим узникам, проникаются известной симпатией к королеве и королевской семье, и уж это одно объясняет, почему оказались возможными попытки побега; таким образом, если караульные солдаты, по роялистским мемуарам, и держали себя крайне грубо и подчеркнуто республикански, если иной раз непристойно ругались, пели или свистели громче, чем следовало, то вызвано это было желанием как-то скрыть от своего начальства внутреннее сострадание к узникам. Простой народ лучше идеологов Конвента понял, что поверженному подобает выказывать сочувствие в его несчастье, и, похоже, неотесанные солдаты Тампля относились к королеве с несравнимо меньшей неприязнью и враждой, чем в свое время иные придворные в салонах Версаля.
* * *
Но время не стоит на месте, и, хотя это не чувствуется в окруженном каменными стенами квадрате, за этими стенами оно летит на гигантских крыльях. С границ приходят дурные вести: наконец-то пруссаки, австрийцы зашевелились, при первом же столкновении с ними революционные полки были рассеяны. В Вандее крестьянское восстание[308], начинается гражданская война; английское правительство отозвало своего посланника, Лафайет покидает армию, раздраженный радикализмом революции, которой он в свое время присягнул; со снабжением продовольствием становится все хуже и хуже, народ начинает волноваться. С каждым поражением войск революции тысячекратно повторяемое слово «измена» слышится со всех сторон и пугает народ. В такой час Дантон, самый энергичный, самый решительный человек революции, поднимает кровавое знамя террора, вносит ужасное предложение – за три дня и три ночи сентября уничтожить всех узников тюрем, подозреваемых в измене. Среди двух тысяч обреченных[309] таким образом на смерть оказывается также и подруга королевы, принцесса Ламбаль.
Об этом страшном решении королевская семья в Тампле ничего не знает, ведь она изолирована от живых голосов, от печатного слова. Вдруг внезапно раздается бой набатных колоколов. Марии Антуанетте хорошо известен этот клекот бронзовых птиц несчастья. Она уже знает: едва над городом начинают бушевать эти вибрирующие звуки, тотчас же разражается буря, непременно быть беде. Взволнованные, шепчутся узники Тампля. Не стоит ли уже у городских ворот герцог Брауншвейгский со своими войсками? Не вспыхнула ли революция против революции?
Внизу же, у запертых ворот Тампля, в крайнем возбуждении совещаются чиновники ратуши с охраной. Примчавшиеся гонцы сообщили, что огромная толпа из пригородов движется к крепости, несет впереди на пике голову убитой принцессы Ламбаль с развевающимися волосами и волочит за собой ее обнаженное изуродованное тело. Эта опьяненная кровью и вином, озверелая банда убийц, безусловно, пожелает насладиться действием, которое произведет на Марию Антуанетту зрелище головы ее мертвой подруги, ее обнаженного, обесчещенного тела, подруги, с которой, по всеобщему мнению, королева так долго была в блуде. Растерянная охрана обращается к коммуне за военной помощью: ей самой не остановить разъяренной толпы, но, как всегда, когда возникает опасность, вероломного Петиона не разыскать; подкрепление не приходит, и толпа со своей ужасной добычей уже неистовствует у главных ворот. Чтобы предотвратить разгром крепости, который наверняка кончится убийством узников, чтобы как-то успокоить толпу, комендант пытается задержать ее; он решает пустить пьяных людей во внешний двор Тампля, и грязный поток, пенясь, вливается через ворота.
Двое волокут за ноги обнаженное туловище, третий размахивает окровавленными кишками, четвертый высоко поднимает вверх пику с зеленовато-бледной кровоточащей головой принцессы. С этими трофеями рвутся каннибалы в башню, чтобы, как они объясняют, принудить королеву поцеловать голову своей девки. Силой против этой беснующейся толпы ничего не поделаешь. Один из комиссаров пытается применить хитрость. Размахивая шарфом депутата, он требует тишины и держит речь. Обманом отвлекая толпу, он начал восхвалять ее замечательный подвиг и предлагает пронести голову по улицам Парижа, чтобы весь народ мог восхититься этим «трофеем», этим «вечным символом победы». К счастью, толпа поддается лести, и с диким ревом пьяные зачинщики, волоча изуродованное тело, уводят за собой толпу по улицам города к Пале-Роялю.
Между тем заключенные в башне теряют терпение. Они слышат доносящиеся снизу невнятные крики огромной бушующей массы людей, не понимая, чего ей надо. Еще со дней штурма Версаля и Тюильри узники помнят дикий рев толпы, они видят, как бледны, как возбуждены караульные солдаты, как спешат они к своим постам, чтобы предотвратить какую-то опасность. Тревожно спрашивает король одного из национальных гвардейцев. «Ну, сударь, – отвечает тот резко, – уж коли вам угодно знать, они хотят показать вам голову мадам Ламбаль. Могу вам только посоветовать: покажитесь у окна, если не желаете, чтобы народ явился сюда сам».
При этих словах они слышат приглушенный крик: Мария Антуанетта падает в обморок. «Это было единственное мгновение, – напишет ее дочь много позже, – когда силы изменили ей».
* * *
Тремя неделями позже, 21 сентября, улицы вновь гудят. Опять прислушиваются встревоженные узники. Но теперь не гнев, не ярость народа клокочет, на этот раз бушует радость: узники услышат, как внизу разносчики газет намеренно громко кричат: «Конвент принял решение об упразднении королевской власти!» На следующий день к королю, который более уж не король, являются депутаты, чтобы объявить ему о его низложении. Людовик Последний – как отныне его будут именовать до тех пор, пока не станут презрительно называть Луи Капетом, – принимает эту весть так же невозмутимо, как шекспировский король Ричард II:
Что ж королю прикажут? Подчиниться? Он подчинится. Иль его сместят? И этим тоже будет он доволен. Он должен титул потерять? Бог с ним![310]У тени бесполезно искать свет, от человека, давно уже утратившего власть, бессмысленно ожидать ее. Ни слова возражения не находит он, давно отупевший от всех унижений, ни слова не говорит и Мария Антуанетта: возможно, оба они даже испытывают облегчение, ведь отныне с них снимается всякая ответственность и за их собственную судьбу, и за судьбу государства, они не могут более сделать что-либо неправильно или что-то упустить, им не о чем более заботиться, только разве лишь о небольшом отрезке своей жизни, который, возможно, еще осталось пройти. Лучше всего сейчас предаваться маленьким человеческим радостям: помогать дочке в рукоделии или в игре на клавесине, исправлять мальчику упражнения, которые он пишет большими, неуклюжими, детскими буквами (правда, теперь приходится каждый раз быстро рвать лист, если мальчик – что понимает шестилетний в происшедшем? – выводит на бумаге с трудом вызубренное им: «Louis Charles dauphin»[311]). Решают загадки из свежего номера «Меркюр де Франс», спускаются во двор и вновь поднимаются, следят за слишком медленно перемещающимися стрелками старых каминных часов, наблюдают за дымком, вьющимся где-то из дальних труб, смотрят, как осенние тучи несут зиму. И прежде всего пытаются забыть то, что когда-то было, привыкают думать о том, что идет и неизбежно должно прийти.
* * *
Теперь, казалось бы, революция у цели. Король низложен, он спокойно покорился и тихо живет со своей женой и детьми в тюремном замке. Но всякая революция – это катящийся шар. Подобно жонглеру, непрерывно бегущему ради сохранения равновесия на катящемся шаре, тот, кто возглавляет революцию и хочет остаться ее вождем, должен мчаться вместе с нею: непрерывное развитие не знает остановки. Это известно всем политическим партиям, и каждая боится отстать от других. Правые боятся отстать от умеренных, умеренные – от левых, левые – от жирондистов, жирондисты – от сторонников Марата, вожди – от народа, генералы – от солдат, Конвент – от коммуны, коммуна – от секций; именно этот заразительный страх одного перед другими подстегивает их внутренние силы в этом горячечном состязании; всеобщий страх числиться в умеренных загнал французскую революцию намного дальше тех рубежей, которые были ее первоначальной целью, и придал одновременно ее движению лавинообразный характер. Ее участь – разрушать все ею же самой установленные точки опоры, – едва достигнув поставленных перед собой целей, стремиться к еще более труднодостижимым. Первоначально революция полагала свою задачу в отстранении короля от дел, затем – в его низложении. Но, низложенный, без короны, этот злополучный, уже безвредный человек все же остается символом, и, если революция выбрасывает из могил кости королей, умерших сотни лет назад, чтобы сжечь то, что давно уже стало пылью и прахом, будет ли она терпеть тень живого короля? И вожди полагают – политической смерти короля недостаточно, нужна его физическая смерть, вот она-то, безусловно, исключит возможность возврата к старому. Крайние революционеры считают, что только известковый раствор, замешенный на королевской крови, обеспечит прочность зданию республики; вскоре менее радикальные из страха присоединяются к этому требованию – они боятся потерять популярность у народа, – и на декабрь назначается процесс против Луи Капета.
В Тампле об этом страшном решении узнают, когда в башне внезапно появляется комиссия с требованием выдать ей «все режущие предметы» – ножи, ножницы и вилки: détenu, просто находящийся под стражей, становится, таким образом, обвиняемым. Позже Людовика XVI изолируют от семьи[312]. Оставленный, правда в той же башне, и лишь переведенный на этаж ниже, он с этого дня не имеет больше права видеться ни с женой, ни с детьми; жестокость принятой акции в том, что близкие короля – рядом. За все эти роковые недели жена ни разу не сможет поговорить со своим мужем, она ничего не должна знать о том, как протекает процесс, какие на нем принимаются решения. Ей запрещено чтение газет, ей запрещено встречаться с адвокатом мужа; в ужасающей неизвестности, в состоянии сильнейшего возбуждения, все эти страшно напряженные часы несчастная должна провести одна. Отделенная от него одним лишь перекрытием, слышит она тяжелые шаги своего супруга и не может увидеть его, не может поговорить с ним – непередаваемые муки, вызванные абсолютно бессмысленной акцией. И когда 20 января к Марии Антуанетте является служащий ратуши и смущенно сообщает, что сегодня в виде исключения ей и остальным членам семьи разрешено спуститься к супругу, она сразу понимает весь ужас этой милости: Людовик XVI приговорен к смертной казни, она и ее дети увидят мужа и отца в последний раз. Принимая во внимание трагический момент – кто завтра взойдет на эшафот, более уж не опасен, – при этой последней встрече членов семьи четверо служащих ратуши впервые оставляют узников в комнате одних; лишь через застекленную дверь наблюдают они за прощанием.
Никто не присутствовал в этот патетический час встречи и одновременно прощания навсегда с осужденным королем, все известные нам опубликованные сообщения являются свободным романтическим вымыслом, так же как и сентиментальные эстампы, унижающие трагичность этого часа слащавым стилем слезливой трогательности. Зачем ставить под сомнение то, что это прощание отца со своими детьми было едва ли не самым тяжелым мгновением в жизни Марии Антуанетты, к чему пытаться усиливать эти сами по себе потрясающие переживания? Видеть обреченного на смерть, видеть смертника в последний час его жизни, даже если этот несчастный совершенно чужой тебе, уже это чрезвычайно тяжело всякому, кто сохранил человеческие чувства; с этим же человеком, пусть даже Мария Антуанетта никогда его не любила и сердце ее давно уже было отдано другому, она прожила вместе двадцать лет, родила ему четверых детей; все эти бурные месяцы он был неизменно доброжелателен к ней, предан ей. Более тесно связанными, чем в самые счастливые годы совместной жизни, оказались они сейчас, эти двое, соединенные друг с другом в свое время навсегда лишь из политических соображений; сейчас, в эти мрачные дни заключения, испив совместно всю горькую чашу несчастья, они стали по-человечески ближе друг к другу. И кроме того, королева знает: ей вскоре придется последовать за ним, ей предстоит тот же путь. Он лишь немного опередит ее.
В этот страшный, в этот последний час та черта характера короля, которая на протяжении всей его жизни была гибельной для него, – поразительное хладнокровие – оказывается очень нужной много испытавшему человеку. Невыносимое в обычных условиях спокойствие придает в этот решающий момент Людовику XVI известное величие. Он не выказывает ни страха, ни волнения, четыре комиссара в соседней комнате не слышат ни повышенного голоса, ни всхлипываний: при прощании с близкими этот слабовольный, жалкий человек, этот недостойный король проявляет больше сил и достоинства, чем когда бы то ни было за всю свою жизнь. Невозмутимо, как раньше каждый вечер, ровно в десять обреченный поднимается, давая этим понять семье, чтобы его оставили. Мария Антуанетта не решается возразить его столь определенному волеизъявлению, тем более что, желая успокоить ее, он обещает завтра в семь утра еще раз встретиться с нею.
Затем наступает тишина. Королева остается одна в своих верхних покоях. Приходит ночь, долгая ночь без сна. Наконец брезжит рассвет, и с ним пробуждаются пугающие шумы приготовлений. Она слышит, как, громыхая тяжелыми колесами, подъезжает карета, она слышит – вверх и вниз по ступеням – шаги, опять шаги; исповедник ли это, депутаты ратуши или уже палач? Издали доносится барабанный бой идущего сюда полка солдат, становится все светлее, наступает день, все ближе час, который отнимет у ее детей отца, у нее – достойного уважения, внимательного, доброжелательного спутника многих лет. Запертая в своей комнате, с неумолимым стражем у дверей, страдающая женщина не имеет права спуститься на несколько ступенек, она не должна ни слышать, ни видеть происходящего и поэтому внутренне переживает все в тысячу раз мучительнее. Затем на нижнем этаже вдруг становится пугающе тихо. Король покинул Тампль, карета катит к месту казни. А часом позже Марии Антуанетте, некогда эрцгерцогине Австрийской, затем дофине и, наконец, королеве Франции, гильотина даст новое имя: вдова Капет.
Мария Антуанетта одна
За резким падением ножа гильотины следует беспокойная тишина. Казнью Людовика XVI Конвент хотел провести кроваво-красную линию раздела между королевством и республикой. Ни один депутат – а ведь многие из них испытывали тайное сожаление, толкнув этого слабого, добродушного человека под нож гильотины, – и не думает о том, чтобы предъявить какое-либо обвинение Марии Антуанетте. Без обсуждения коммуна выдает вдове затребованное ею траурное платье, надзор заметно ослабевает, и если королеву и ее детей вообще еще держат под охраной, то объясняется это лишь желанием иметь в руках драгоценный залог, который должен сделать Австрию более покладистой.
Но расчеты не оправдываются; французский Конвент переоценил чувства любви Габсбургов к членам своей семьи. Император Франц, тупой и бездушный, жадный и лишенный всякого внутреннего величия, совсем не думает извлечь из фамильной шкатулки, в которой и без «Флорентийца»[313] осталось бесчисленное количество других драгоценностей, хотя бы один драгоценный камень, чтобы выкупить близкую родственницу; кроме того, австрийская военная партия прилагает все усилия к тому, чтобы провалить переговоры. Правда, Вена с самого начала торжественно заявила, что начинает эту войну лишь по идейным соображениям, а не ради территориальных завоеваний и репараций; французская революция вскоре также откажется от своих слов, но в природе любой войны – неизбежное превращение ее в захватническую. Генералы очень неохотно позволяют кому бы то ни было вмешиваться в ведение войны – история подтверждает это. Слишком редко народы предоставляют военным это удовольствие, поэтому, дорвавшись до войны, они полагают, что чем дольше она будет, тем лучше. Напрасно старый Мерси, все время побуждаемый Ферзеном, напоминает венскому двору, что, поскольку Мария Антуанетта лишена титула французской королевы, она вновь стала австрийской эрцгерцогиней и членом императорской семьи и, следовательно, моральный долг императора – потребовать выдачи ее Вене. Но как мало значит в мировой войне одна женщина-пленница, как ничтожна ценность одной живой души в циничной игре политики! Всюду сердца остаются холодными, двери – запертыми. Каждый монарх утверждает, что он потрясен случившимся; но ни один из них и пальцем не шевельнет ради спасения королевы. И Мария Антуанетта может повторить слова, сказанные Людовиком XVI Ферзену: «Весь мир покинул меня».
* * *
Весь мир покинул ее, Мария Антуанетта чувствует это в своих уединенных покоях под замком. Но воля к жизни этой женщины еще не сломлена, и из этой воли растет решимость помочь самой себе. Короны ее лишили, но одно еще сумела сохранить она, хотя уже устала и постарела, – удивительную силу, волшебство склонять на свою сторону окружающих ее людей. Все меры предосторожности, принятые Эбером и другими членами ратуши, оказались совершенно недейственными перед таинственной магнетической силой, излучаемой нимбом истинной королевы на всех этих солдат и маленьких чиновников. Уже несколько недель спустя все или почти все непоколебимые санкюлоты, которые должны караулить королеву, из стражей превратились в ее тайных пособников, и, несмотря на строгие предписания коммуны, невидимая стена, отделяющая Марию Антуанетту от внешнего мира, разрушается. Благодаря помощи вновь приобретенных доброжелателей в башню и из башни непрерывно тайным образом передаются известия и сообщения, написанные либо лимонным соком, либо симпатическими чернилами на маленьких листках бумаги, которые затем закатываются в виде пробки из-под фляги с водой или же переправляются через дымоход печи. Изобретается язык жестов и мимики, чтобы вопреки указаниям бдительных комиссаров королева могла узнать о текущих событиях политики и войны; кроме того, есть договоренность, что свой, надежный разносчик газет особенно важные новости будет выкрикивать возле Тампля. Постепенно этот тайный круг пособников среди стражи расширяется. И вот, поскольку рядом нет Людовика XVI, своей вечной нерешительностью парализовавшего любое настоящее действие, покинутая всеми Мария Антуанетта решается на попытку освободить себя.
* * *
Опасность – неподкупная поверка. Все, что перемешано в обычных жизненных ситуациях, – смелость, трусость человека – все это при испытании опасностью разделяется, становится на свое место. Малодушные люди старого общества, трусы, себялюбцы, эгоисты из окружения короля и королевы тотчас же эмигрируют, едва короля перевозят из Версаля в Париж. Остаются лишь действительно преданные, и каждый из оставшихся, безусловно, надежен, ведь для любого бывшего приближенного короля пребывание в Париже сопряжено со смертельной опасностью. К таким мужественным людям в первую очередь относится бывший генерал Жарже, жена которого была придворной дамой Марии Антуанетты. Чтобы иметь возможность в любой момент прийти королеве на помощь, он возвращается из безопасного Кобленца и дает ей знать, что ради нее готов на любую жертву. 2 февраля 1793 года, через тринадцать дней после казни короля, к Жарже является неизвестный ему человек с поразительным предложением – освободить Марию Антуанетту из Тампля. Жарже бросает недоверчивый взгляд на пришельца, по виду настоящего санкюлота, предполагая в нем подосланного провокатора. Но тут неизвестный передает генералу маленькую записку, несомненно написанную рукой королевы: «Вы вполне можете доверять подателю этой записки, он будет говорить с Вами от моего имени. Его чувства мне известны, вот уж пять месяцев они неизменны». Это Тулан, один из постоянных сторожей Тампля, удивительный психологический феномен. 10 августа, когда наступил момент уничтожить королевскую власть, при штурме Тюильри он был одним из первых – медаль, награда за столь гражданское поведение, красуется на его груди. Благодаря этому всем известному республиканскому образу мыслей Тулана, ему, неподкупному и особенно надежному, ратуша доверяет стеречь королеву. Но из Савла он превращается в Павла[314]; тронутый горем женщины, которую он должен сторожить, Тулан становится самоотверженным другом тех, против кого с оружием в руках шел на штурм дворца, проявляет безрассудную преданность королеве; в своей тайной переписке она неизменно именует его «fidèle» – «верный». Из всех, кто оказался вовлеченным в заговор, этот удивительный Тулан был единственный, рискующий своей головой не корысти ради, а из-за своеобразного гуманного сострадания и, возможно, из дерзкого авантюризма: отважные всегда любят опасность, и совершенно в порядке вещей, что другие, искавшие себе лишь выгод, сумели спастись, как только заговор провалился, один лишь Тулан заплатил жизнью за свою безоглядную смелость.
Жарже доверяет неизвестному, но доверяет не полностью, ведь письмо можно и подделать, любая переписка опасна. И Жарже требует от Тулана: тот должен помочь ему проникнуть в Тампль, чтобы лично с королевой обсудить подробности побега. Сначала это требование – провести в хорошо охраняемую крепость постороннего человека, аристократа – представляется невыполнимым. Но королеве удается подкупом найти среди солдат караульной службы новых помощников, и уже спустя несколько дней Тулан передает генералу еще одну записку: «Если Вы решили прийти сюда, было бы лучше поторопиться; но, бога ради, будьте осторожны, не дайте себя узнать, особенно женщине, которая сидит с нами». Женщину зовут Тизон, и инстинкт Марии Антуанетты, подсказывающий ей, что это шпионка, не обманывает ее: именно благодаря бдительности Тизон заговор провалится. Пока же все идет прекрасно: Жарже проникает в Тампль, причем способом, который мог бы быть использован в какой-нибудь детективной комедии. Каждый вечер во двор тюрьмы приходит фонарщик зажигать фонари; по приказу ратуши все пространство вокруг тюрьмы должно быть особенно хорошо освещено, ведь темнота облегчает побег. Этому фонарщику Тулан внушает, что у него есть друг, который хотел бы разок посмотреть Тампль, не одолжит ли фонарщик ему на вечер свою одежду и инструмент. Тот смеется и идет с данными ему деньгами в кабачок. Так переодетый Жарже благополучно проникает к королеве и составляет с нею дерзкий план побега: она и мадам Елизавета должны будут переодеться в форму депутатов ратуши и, снабженные выкраденными документами, покинуть крепость как служащие магистрата, только что проведшие инспекционный обход. Труднее вывести детей. Но тут выручает счастливое обстоятельство: фонарщика часто по вечерам сопровождают его дети-подростки. Роль фонарщика сыграет один решительный дворянин, он и выведет из крепости обоих детей, переодетых в соответствующие платья, как бы возвращаясь с ними после зажигания фонарей. Поблизости должны ждать три легкие коляски: одна – для королевы, ее сына и Жарже; вторая – для ее дочери и второго заговорщика, Лепитра; третья – для мадам Елизаветы и Тулана. За пять часов, а раньше их не хватятся, беглецы рассчитывают в этих легких колясках оказаться недосягаемыми для преследователей. Королеву не пугает смелость плана. Она соглашается, и Жарже заявляет, что готов вступить со вторым заговорщиком, Лепитром, в связь.
Этот второй заговорщик, Лепитр, бывший школьный учитель, болтливый, низкорослый, хромой человек, – сама королева пишет о нем: «Вы увидите нового человека, его внешность не располагает к нему, однако он крайне необходим нам, и мы должны склонить его на нашу сторону» – играет в заговоре странную роль. Его участие в этом деле определяется не соображениями человеколюбия и тем более не жаждой приключений, просто Жарже обещал ему крупную сумму, которой, к сожалению, не располагает, так как с действительно состоятельным человеком, сторонником контрреволюционеров Парижа, бароном де Бацем, шевалье Жарже, как ни странно, не имеет связи. Оба заговора, шевалье и барона, готовятся параллельно, их руководители не сталкиваются друг с другом и не знают ничего друг о друге. Так теряется время, драгоценное время, поскольку Жарже приходится вовлекать в заговор бывшего банкира королевы. Наконец после долгих переговоров деньги раздобыты. Но к этому времени Лепитр, который, как член ратуши, уже подготовил фальшивые документы, теряет мужество. Распространился слух, что выезды из Парижа будут особо строго охраняться и все кареты самым тщательным образом обыскиваться, – осторожного человека охватывает страх. Возможно, по каким-то приметам он догадался, что шпионка Тизон напала на след; во всяком случае он отказывает в своей помощи, и, следовательно, всех четырех беглецов вывести одновременно из Тампля не удастся. Можно спасти одну лишь королеву. Жарже и Тулан пытаются убедить ее в целесообразности такого решения. Но Мария Антуанетта с истинным благородством отклоняет его. Лучше смириться со своей участью, но не покинуть детей! Взволнованно объясняет она Жарже: «Мы лелеяли чудесную мечту, и только. Для меня большой радостью было еще раз в подобных условиях убедиться в вашей преданности мне. Мое доверие к вам – безгранично. При любых обстоятельствах вы найдете во мне достаточно характера и мужества, но интересы моего сына – единственное, чем я должна руководствоваться, и, каким бы счастьем для меня ни было освобождение, я все же не могу согласиться на расставание с сыном. В том, что вы вчера сказали, я усматриваю вашу преданность, очень ценю ее и, поверьте, понимаю, что ваши доводы основываются на моих личных интересах, а также на том, что подобный случай никогда более не повторится. Но я не смогла бы найти себе оправдания, если бы была вынуждена оставить здесь своих детей».
* * *
Жарже выполнил свой рыцарский долг; теперь, находясь в Париже, он ничем не в состоянии помочь королеве. Но еще одну услугу может оказать ей преданный человек: с ним представляется возможность переслать друзьям и родственникам за границей последние свидетельства любви, последние знаки уважения. Незадолго до казни Людовик XVI пожелал передать через своего камердинера на память семье кольцо с печаткой и прядь волос, однако депутаты ратуши, подозревавшие в этом подарке смертника таинственные заговорщицкие знаки, задержали эти реликвии и опечатали их. Готовый ради королевы на любой безумно дерзкий поступок, Тулан выкрадывает их и передает Марии Антуанетте. Но она чувствует: им недолго лежать у нее в безопасности – и, поскольку наконец появился надежный человек, пересылает кольцо и прядь волос брату короля – на хранение. При этом она пишет графу Прованскому: «Располагая верным человеком, на которого мы можем рассчитывать, я пользуюсь случаем, чтобы переслать Вам, мой брат и друг, эти бесценные реликвии, которые в Ваших руках сохранятся наилучшим образом. Податель расскажет Вам, каким удивительным образом мы смогли получить их. Я воздерживаюсь назвать Вам того, кто помог их получить, он так полезен нам сейчас. Пережитые нами безмерные страдания и то, что до сих пор я была лишена возможности сообщить что-либо о нас, все это сильнее заставляет нас чувствовать ужас разлуки. Ах, скорее бы она кончилась! Пока же обнимаю Вас любя, и Вы знаете, что от всего сердца». Подобное же письмо направляет она и графу д’Артуа. Однако Жарже все еще медлит, не покидает Париж. Смельчак все еще надеется своим присутствием быть полезным Марии Антуанетте. Наконец пребывание его в Париже становится безрассудно опасным. Перед самым отъездом через Тулана он получает от королевы последнее письмо: «Прощайте; поскольку Вы решили ехать, я считаю, что лучше всего Вам это сделать быстрее. Боже мой, как я оплакиваю Вашу бедную жену! И как я буду счастлива, когда мы с нею вскоре соединимся. Никогда не отблагодарить мне Вас за все, что Вы сделали для нас. Adieu! Как ужасно это слово!»
* * *
Она знает, Мария Антуанетта, она чувствует, что посылает интимные письма своим близким в последний раз: единственная, самая последняя возможность дана ей. Ужели нет у нее потребности передать свидетельство любви, сказать последнее слово кому-нибудь еще, кроме графа Прованского и графа д’Артуа, которых ей не за что благодарить и только близкое родство с которыми обязывает сделать их хранителями реликвий, оставшихся от брата? Действительно, неужели нет у нее слов привета тому, кто после детей был ей дороже всего на свете, Ферзену, о котором она сказала, что без сообщений о нем «не может жить», которому она еще в страшные дни из осажденного Тюильри переслала то колечко, чтобы вечно помнил о ней? И вот при этой последней, самой последней возможности ужели она не имеет права стремиться всем сердцем к нему? Нет, мемуары Гогелы, в которых материалы об отъезде Жарже изложены с документальной полнотой и содержат даже копии писем, ни слова не сообщают о Ферзене; не следует ли предположение о том, что королева послала с Жарже Ферзену последнюю весть, считать ошибочным? Значит, положенное в основу этого предположения чувство психологической правды обмануло нас?
Нет, не обмануло. Действительно, Мария Антуанетта – могло ли быть иначе! – в своем горьком одиночестве не забыла возлюбленного, и те послания долга к братьям мужа писались, возможно, даже для того, чтобы скрыть самое важное из того, что добросовестно вывез Жарже. Но в 1823 году, когда появились упомянутые выше мемуары, в отношении Ферзена уже действовал заговор молчания, заговор, целью которого было утаить интимные отношения между ним и королевой от последующих поколений. И здесь также важнейшая для нас часть письма (как и у всех писем Марии Антуанетты) была изъята раболепствующими издателями. Лишь сто лет спустя эта часть письма обнаруживается, и оказывается, никогда чувство страстной любви королевы не было сильнее, чем в дни, предшествующие ее гибели. Чтобы постоянно иметь перед глазами знак отрадного напоминания о возлюбленном, Мария Антуанетта заказала себе кольцо, но не с королевскими лилиями (такое кольцо она послала Ферзену), а с гербом Ферзена: как он носил на своей руке девиз королевы, так в дни разлуки она на своей руке – герб шведского дворянина; каждый взгляд, брошенный на кольцо, должен был напоминать королеве Франции о любимом, находящемся вдали. И поскольку сейчас наконец появляется возможность послать ему еще один – она чувствует, последний – знак любви, она хочет показать ему, что с этим кольцом сохранила отданные ему чувства. Она прижимает кольцо с гравировкой к горячему воску и через Жарже посылает оттиск Ферзену. Слова не нужны, оттиск сам говорит. «Оттиск, который я прилагаю, – пишет она Жарже, – прошу Вас передать известному лицу, приезжавшему ко мне в прошедшую зиму из Брюсселя. Передайте, пожалуйста, упомянутому лицу, что этот девиз для меня никогда не был так дорог, как сейчас».
Что же написано на перстне с печаткой, изготовленном по указанию Марии Антуанетты, какой девиз для нее «никогда не был так дорог, как сейчас»? Что же было выгравировано на перстне с печаткой, на котором королева приказала вырезать герб шведского дворянина и который она, единственное из украшений, стоившее ей дороже бесчисленных миллионов, сохранила даже в тюрьме?
Пять итальянских слов девиза, и в двух шагах от смерти они звучат еще более верно, чем когда бы то ни было: «Tutto a te mi guida» («Все ведет меня к тебе»).
Весь ужас смерти, вся предельная напряженность «никогда более» еще раз с неизбывной силой рвется из этого немого крика смертника, и тот, находящийся вдали, знает, что для него бьется это сердце, бьется до своего последнего часа. В этом прощальном привете – мысли о вечности, присяга в верности бессмертным чувствам бренного мира. Сказано последнее слово этой великой, беспримерной трагедии любви в тени гильотины – занавес может падать.
Безысходное одиночество
Освобождение: последнее сказано. Еще раз чувства свободно излились. Стало легче, можно спокойно и собранно ждать грядущего. Мария Антуанетта простилась с миром. Ни на что более она не надеется, ничего более не предпринимает. Нечего рассчитывать ни на венский двор, ни на победу над французскими войсками; она знает: с тех пор как Жарже покинул город, а верный Тулан по приказу коммуны отстранен от должности, никто ее уже не спасет. Доносы шпионки Тизон научили городские власти бдительности; если раньше попытка освободить королеву была опасной, то теперь она стала бы безрассудной, самоубийственной.
Но есть характеры, которых таинственным образом эта опасность притягивает, есть люди, любящие, играя жизнью, идти ва-банк, чувствующие всю полноту своих сил лишь тогда, когда они отваживаются на невозможное, для которых самая дерзкая, самая рискованная авантюра является единственной приемлемой формой существования. В обычные, ничем не примечательные времена подобным людям нечем дышать; жизнь кажется им слишком скучной, слишком тесной, любой поступок – слишком малодушным, им требуются грандиозные задачи – под стать их безрассудной храбрости, сумасбродные, дикие цели; испытать невозможное, безумное – в этом их затаенная страсть. В Париже как раз в эти времена живет такой человек – барон де Бац. Пока королевская власть была сильна и ей ничто не угрожало, этот богатый аристократ держался высокомерно в тени: стоит ли сгибаться в поклонах ради положения или доходного места? Лишь опасность пробуждает в нем жажду приключений, лишь тогда, когда все потеряли последнюю надежду спасти обреченного на смерть короля, этот безрассудно преданный королевской власти донкихот бросается в бой, чтобы спасти его. Само собой разумеется, барон, этот безумец, на протяжении всей революции остается в самых опасных местах: под чужим именем, постоянно меняя его, скрывается он в Париже, чтобы бороться с революцией один на один. Он жертвует всем своим состоянием, предпринимая одну попытку за другой; самой безумной была та, когда он, размахивая обнаженной саблей, внезапно появился перед процессией, ведущей короля на казнь, с громким криком: «Ко мне все, кто хочет спасти короля!» Вокруг него – необозримые толпы людей, перед ним – десятки тысяч вооруженных солдат[315]. Никто не присоединился к нему. Во Франции не нашлось второго, столь же безрассудно мужественного, который решился бы средь бела дня отбить короля у народа, у армии. И прежде чем охрана успевает прийти в себя от изумления, барон де Бац вновь исчезает в толпе. Но эта неудача не обескураживает его, он готовится превзойти самого себя, сразу после смерти короля разрабатывая фантастически смелый план спасения королевы.
Барон де Бац увидел слабое место революции, разъедающую ее язву, которую Робеспьер пытается выжечь каленым железом, – начинающуюся коррупцию. С политической властью революционеры получили государственные должности, а к любой государственной должности липнут деньги, эта опаснейшая коррозия, разъедающая души, словно ржавчина – железо. Пролетарии, маленькие люди, никогда не имевшие дела с большими деньгами, ремесленники, писцы и агитаторы, до сих пор не имевшие ни специальности, ни постоянной работы, вдруг получают возможность бесконтрольно распоряжаться огромными средствами – при раздаче военных поставок, при реквизициях, при распродаже эмигрантских поместий, и очень немногие среди них обладают непоколебимостью Катона, чтобы устоять против столь чудовищного искушения. В этот пруд с хищными рыбами, жестоко дерущимися друг с другом за свою долю добычи, барон де Бац забрасывает удочку с наживкой. Эта наживка и в наши дни обладает магической силой – миллион. Миллион – на всех, кто поможет вызволить королеву из Тампля! С такими деньгами можно взорвать даже самые толстые тюремные стены, ведь барон де Бац работает не как Жарже, с мелкими помощниками, с фонарщиками, с отдельными солдатами. Он дерзко и решительно делает огромные ставки: подкупает не подчиненных, а все основные органы системы охраны и прежде всего самого важного человека городской ратуши, бывшего торговца лимонадом Мишони, которому подчиняется служба надзора за всеми тюрьмами и, следовательно, за Тамплем. Вторым очень нужным человеком является военный руководитель секции Кортей. Таким образом, де Бац, этот роялист, которого дни и ночи все органы государственной безопасности и полиции разыскивают как опаснейшего государственного преступника, держит в своих руках гражданскую власть и всю военную охрану Тампля и может скрытно идти к своей цели, в то время как в Конвенте и Комитете безопасности[316] мечут громы и молнии против «гнусного Баца».
В характере этого блестящего заговорщика, барона де Баца, сочетаются холодная расчетливость и личная пламенная отвага. Он, которого сотни шпионов и тайных агентов безуспешно выслеживают и ищут по всей стране – Комитет безопасности информирован уже о том, что он вынашивает планы крушения республики, – проникает в караульную команду Тампля как рядовой солдат под именем Форже, чтобы лично во всех подробностях изучить план тюрьмы и территорию вокруг нее. С ружьем в руках, в грязной, оборванной одежде национального гвардейца, изнеженный, сказочно богатый аристократ вместе с другими солдатами несет тяжелую караульную службу у двери камеры королевы. Неизвестно, удалось ли ему проникнуть к Марии Антуанетте. Впрочем, в этом у него не было необходимости, так как Мишони, рассчитывающий получить значительный куш из обещанного миллиона, безусловно, сам известил королеву о замышляемых планах. Одновременно благодаря купленному согласию военного коменданта Кортея в караульную команду пробирается большое количество сообщников барона. В конце концов создается удивительная ситуация, пожалуй самая невероятная в мировой истории: в один из дней 1793 года находящийся чуть ли не в центре революционного Парижа квартал Тампля, в котором содержится поставленная вне закона королева Франции и границы которого не имеет права переступить ни одно лицо без специального разрешения городского самоуправления, охраняется батальоном переодетых роялистов со своим вождем, бароном де Бацем. Конвент и Комитет безопасности преследуют этого человека, Париж, вся страна по десяткам декретов и объявлений знают, что этого преступника необходимо разыскать и арестовать: ни одному писателю не пришла бы в голову такая поразительная, такая несуразная ситуация!
Наконец Бацу представляется, что час для решительного выступления настал. Приходит ночь, которая, если дело удастся, окажется одной из самых незабываемых ночей в мировой истории: новый король Франции, Людовик XVII, навсегда будет вызволен из плена революции. В эту ночь барон де Бац и судьба играют с крайним риском, ставка в этой игре – республика или ее гибель. Вечер, темнеет, предусмотрено все до мельчайших подробностей. Во двор со своим отрядом вступает подкупленный Кортей, а с ним – вождь заговора барон де Бац. Кортей распределяет солдат так, чтобы все наиболее важные выходы оказались под наблюдением завербованных бароном де Бацем роялистов. Одновременно другой подкупленный, Мишони, обеспечил Марию Антуанетту, мадам Елизавету и дочь Марии Антуанетты плащами солдат Национальной гвардии. В полночь эти трое, нахлобучив на головы военные шляпы, с ружьем на плече, вместе с несколькими лжегвардейцами, окружив маленького дофина, должны по приказу Кортея выступить из Тампля как обыкновенный патруль. Все как будто продумано безупречно, план должен удаться. Поскольку Кортей имеет право в любой момент открыть большие ворота для своего патруля, то кажется несомненным, что он, лично возглавляющий отряд, сможет беспрепятственно вывести его. Обо всем дальнейшем вождь заговорщиков де Бац позаботился. Он имеет под Парижем записанный на чужое имя загородный дом, куда полиция еще ни разу не совала нос; королевская семья на несколько первых недель найдет себе тайное убежище, пока у нее не появится возможность перебраться за границу. На улице, прилегающей к главным воротам, патрулируют молодые, крепкие и решительные роялисты, каждый с парой пистолетов в карманах, готовые при необходимости задержать преследователей. Как ни кажется он безрассудным, этот план продуман до мельчайших подробностей и по существу уже выполнен.
* * *
Около одиннадцати. Мария Антуанетта и ее близкие стоят готовые в любой момент последовать за своими освободителями. Они слышат, как внизу тяжелыми шагами взад и вперед ходят патрули, но эта охрана не пугает, ведь под одеждами санкюлотов бьются сердца их друзей. Мишони ждет лишь знака барона де Баца. Но вдруг – что случилось? – от испуга они вздрагивают. Кто-то резко стучит в ворота тюрьмы. Чтобы избежать подозрений, пришельца тотчас же впускают. Это сапожник Симон, честный, неподкупный революционер, член городского самоуправления; он входит, взволнованный, желая лично убедиться, что королева еще не сбежала. Несколько часов назад какой-то жандарм доставил ему записку, в которой говорится, что Мишони задумал в эту ночь совершить измену. Тотчас же Симон передает это важное сообщение депутату ратуши. Тут не верят романтической небылице, ежедневно их засыпают сотнями доносов. Да и возможно ли это вообще: разве Тампль не охраняют двести восемьдесят человек, которых проверяют надежнейшие комиссары? А впрочем – на всякий случай, – депутаты уполномочивают Симона принять на эту ночь у Мишони контроль над внутренними помещениями Тампля. Едва увидев Симона, Кортей понимает, что все пропало. К счастью, Симон совсем не подозревает Кортея в том, что тот участвует в заговоре. «Раз ты здесь, я спокоен», – говорит он дружески и идет к Мишони, в башню.
Барон де Бац, видя, что из-за этого одного болезненно недоверчивого человека рушатся все его планы, несколько секунд размышляет, не следует ли последовать за Симоном и размозжить ему череп пистолетным выстрелом. Но это бессмысленно. Выстрел поднимет по тревоге всю караульную команду, а в ней, без сомнения, есть предатель. Королеву не спасти: любой акт насилия подвергнет ее жизнь опасности. Сейчас надо подобру-поздорову выбираться из Тампля всем, кто, переодевшись, пробрался в него. Кортей, на душе которого становится очень скверно, быстро составляет отряд патрулей из заговорщиков. Они, и среди них барон де Бац, не торопясь выходят из двора Тампля на улицу. Заговорщики спасены – королева брошена на произвол судьбы.
* * *
Между тем Симон гневно требует от Мишони объяснения. Тот должен немедленно отчитаться перед ратушей. Успев скрыть добытую им для узников одежду, Мишони сохраняет невозмутимость. Без возражений следует он за опасным человеком в опасный для него трибунал. Но удивительно, Симона принимают там весьма прохладно, хвалят его патриотизм, его добрые намерения, его бдительность, но очень ясно дают понять, что он пытался бороться с призраками. Видимо, ратуша не приняла заговор всерьез.
В действительности же, и пристальный взгляд на хитросплетения политики обнаруживает это, депутаты ратуши очень хорошо поняли всю серьезность попытки побега и остерегались лишь что-либо объявить о ней. Это подтверждается одним весьма примечательным документом, которым Комитет общественного спасения[317] категорически предлагает прокурору в процессе Марии Антуанетты не останавливаться на подробностях большого плана побега, организованного бароном де Бацем и сорванного Симоном. На процессе надлежит говорить лишь о самом факте попытки к бегству, без указания подробностей: ратуша боялась, что весь свет узнает, как глубоко коррупция развратила лучших людей революции; таким образом, многие десятки лет замалчивался один из наиболее драматических и невероятных эпизодов мировой истории.
* * *
Но если ратуша, ошеломленная продажностью своих, казалось бы, надежных служащих, не осмеливается на открытый процесс против пособников в этой попытке побега, то все же отныне она решает вести себя более твердо, чтобы исключить малейшую возможность повторных попыток со стороны дерзкой женщины, которая, вместо того чтобы смириться со своей участью, с упорством строптивого сердца продолжает бороться за свою свободу. Прежде всего отстраняются от должностей находящиеся под подозрением комиссары, в первую очередь Тулан и Лепитр, а за Марией Антуанеттой устанавливается надзор как за преступницей. Время от времени в одиннадцать ночи Эбер, самый жестокий из всех депутатов ратуши, появляется у Марии Антуанетты и мадам Елизаветы, которые давно уже лежат в своих постелях, и, пользуясь правом, данным ему коммуной, делает по своему усмотрению обыск покоев или лично узников, самым тщательным образом осматривает все уголки помещений, перетряхивает всю одежду, все ларцы и сундуки, прощупывает мебель.
Результаты таких обысков досадно ничтожны – бумажник красной кожи с парой не представляющих интереса адресов, держатель для карандаша без карандаша, кусок сургуча, два миниатюрных портрета и другие сувениры, старая шляпа Людовика XVI. Обыски повторяются, но ни разу не удается найти никаких оснований обвинить в чем-либо королеву. Мария Антуанетта, на протяжении всей революции, чтобы не компрометировать своих друзей и помощников, неизменно сжигавшая тотчас же по прочтении любую записку, не дает обыскивающим ее чиновникам ни малейшего повода к обвинению. Раздосадованное тем, что ему никакими вещественными доказательствами не подтвердить правонарушений со стороны своей мужественной противницы, и в то же время уверенное в том, что она продолжает делать попытки к освобождению, городское самоуправление решает нанести удар материнским чувствам королевы. На сей раз удар приходится в самое сердце. 1 июля, через несколько дней после сорванного заговора, Комитет общественного спасения по поручению городского самоуправления публикует решение: юного дофина, Луи Капета, разлучить с матерью, дабы исключить какую бы то ни было возможность общения с нею, перевести Марию Антуанетту в самое надежное помещение Тампля, или, более ясно и жестоко, отнять ребенка у матери. Выбор воспитателя предоставляется городскому самоуправлению, и оно решает, по-видимому в благодарность за бдительность, поручить мальчика сапожнику Симону, стойкому санкюлоту, как самому надежному и проверенному, не поддающемуся ни соблазну подкупа, ни обманчивым сентиментальным чувствам, ни слезливости. Симон – простой, неотесанный человек из народа, настоящий пролетарий, ни в коей мере не пьяница, не жестокий садист, как оболгали его роялисты, но тем не менее что за недоброжелательный выбор воспитателя! Ведь этот человек за всю свою жизнь, вероятно, не прочел ни одной книги, он не владеет, как показывает его единственное дошедшее до нас письмо, элементарными знаниями орфографии: он истый санкюлот, а в 1793 году этого совершенно достаточно, чтобы занимать любую должность. За шесть месяцев революция кардинально изменила свое мнение по этому вопросу, ведь полгода назад воспитателем престолонаследника Франции Национальное собрание намечало Кондорсе – аристократа, большого писателя, автора «Progrès de l’esprit humain»[318]. Какая ужасная разница между этим человеком и сапожником Симоном. Но из трех слов «Свобода, Равенство, Братство» понятие свободы со времен Комитета общественной безопасности, понятие братства со времен гильотины обесценились едва ли не так же, как ассигнаты; лишь понятие равенства или, вернее, насильственного уравнивания находится в последней фазе, радикальной и жестокой, в фазе революции. Поэтому и принимается обдуманное решение: юного дофина будет воспитывать не образованный, не культурный человек, нет, дофин должен остаться в среде наименее просвещенных людей, в низших слоях народа. Он должен полностью переучиться, должен забыть, от кого происходит, чтобы другим было легче забыть его.
Мария Антуанетта ничего не подозревает об этом решении Конвента лишить ребенка материнской защиты, как вдруг в половине десятого вечера шесть представителей ратуши стучат в ворота Тампля. Это один из приемов системы наказания, разработанной Эбером, – внезапность, неожиданность какой-либо страшной акции. Всегда эти его инспекции проводятся поздно ночью, без предварительного оповещения, скорее напоминая внезапные налеты. Ребенок давно в постели, королева и мадам Елизавета еще не спят. Чиновники ратуши входят в комнату королевы, она, в предчувствии чего-то страшного, поднимается им навстречу; ни один из этих ночных визитеров не приносит им ничего, кроме унижения или дурной вести. На этот раз и сами посланцы кажутся несколько смущенными. Тяжелый долг предстоит им выполнить, ведь большинство из них имеют детей, – они должны сообщить матери, что Комитет общественного спасения без какого-либо видимого основания приказал ей немедленно и навсегда отдать единственного сына под надзор чужих людей, отдать, даже не попрощавшись с ним.
О сцене, разыгравшейся в эту ночь между отчаявшейся матерью и служащими магистрата, мы не располагаем никакими свидетельскими показаниями, кроме крайне недостоверных свидетельств единственного очевидца – дочери Марии Антуанетты. Правда ли, что, как сообщает будущая герцогиня Ангулемская, Мария Антуанетта в слезах умоляла этих служащих, выполнявших лишь свой служебный долг, оставить ей ребенка? Что она призывала их убить ее, но не разлучать с сыном? Что служащие (звучит это совершенно неправдоподобно, ведь на это они не имели никаких полномочий) угрожали убить обоих детей в случае, если она будет продолжать сопротивляться, и наконец, после длительной борьбы, применив грубую силу, увели с собой кричащего, рыдающего ребенка? В официальном сообщении об этом ничего не говорится; желая несколько смягчить действительность, исполнители докладывают: «Расставание сопровождалось всеми проявлениями чувств, которых можно было ожидать в подобной ситуации. Представители народа выказали уважение, совместимое с важностью возложенной на них миссии». Таким образом, одно сообщение противоречит другому, одна партия – другой, а там, где спорят партии, истина редка. Но одно не вызывает сомнения: эта насильственная и неоправданно жестокая разлука с сыном была едва ли не самым тяжелым мгновением в жизни Марии Антуанетты. Мать была привязана к этому белокурому, шаловливому, не по годам развитому ребенку; мальчик, которого она хотела воспитать как короля, своей болтливой веселостью, своей привычкой задавать бесчисленные вопросы сделал терпимым время в уединенной башне. Безусловно, он был ближе матери, чем ничем не примечательная дочь. Недружелюбная, с угрюмым, мрачным характером, с вялым умом, она по сравнению с этим ласковым и удивительно смышленым мальчуганом не так-то уж сильно располагала к себе вечно живую восприимчивость матери. И вот сейчас с такой жестокой злобой мальчика навсегда отрывают от нее. Ведь, хотя дофин и далее останется жить в стенах Тампля, всего в нескольких десятках метров от башни Марии Антуанетты, ничем не оправданный формализм городских властей не разрешит матери обмениваться с ребенком ни единым словом; даже когда она узнает, что он болен, ей не разрешат посещение больного: словно зараженной чумой, ей запретят всякие встречи с ним. Более того, она не должна беседовать со странным воспитателем дофина, с сапожником Симоном, – еще одна бессмысленная жестокость. Ей запрещено передавать какие-либо сведения о ее сыне; лишенная права говорить, беспомощная мать, зная о том, что ее ребенок находится где-то здесь, рядом, не может поздороваться с ним, лишена возможности иметь с ним какое бы то ни было общение. Только чувство глубокой материнской любви осталось у нее: никакими предписаниями, никакими распоряжениями его не отнять.
Наконец – маленькое, жалкое утешение – Мария Антуанетта обнаруживает, что через единственное крошечное окошко на третьем этаже лестничной клетки можно наблюдать ту часть двора, в которой иногда играет дофин. И вот часами, несчетное число раз, дежурит у этого оконца измученная женщина, бывшая некогда королевой обширного государства, в тщетном ожидании, не удастся ли ей украдкой (охрана снисходительна) во дворе своей тюрьмы увидеть мимолетные очертания светлой тени любимого ребенка. Сын, не подозревающий, что его мать глазами, полными слез, следит за каждым его движением через зарешеченное окно, спокойно, беззаботно играет (что известно девятилетнему о его судьбе?). Мальчик быстро, слишком быстро вошел в новый окружающий его мир, в своем веселом, до краев наполненном сегодня он забыл, чей он ребенок, какая кровь течет в его жилах, какое имя он носит. Бойко и громко поет он, не понимая, смысла слов, Карманьолу[319] и «Çа ira»[320] – песни, которым обучил его Симон с товарищами; он носит красный колпак санкюлота, и ему это доставляет удовольствие, он перекидывается шуточками с солдатами, стерегущими его мать. Не каменной стеной – внутренне целым миром отделен теперь мальчик от нее. И тем не менее вновь и вновь сердце матери учащенно бьется, стоит лишь ей увидеть, нет, не обнять, только увидеть своего ребенка таким веселым, таким беззаботным. Какая же судьба уготована бедному мальчику? Разве Эбер, в подлые руки которого Конвент безжалостно отдал семью короля, в своем грязном листке «Папаша Дюшен» уже не написал угрожающие слова: «Бедная нация, рано или поздно этот мальчик уготовит тебе гибель; чем более потешен он сейчас, тем это опаснее. Этого гаденыша, да и сестрицу его в придачу, следовало бы высадить на необитаемом острове; любой ценой от него следует избавиться. Что значит один ребенок, когда речь идет о благе революции?»
Что значит один ребенок? Для Эбера – не много, мать знает это. Потому-то каждый день и трепещет она, не увидав своего любимца в тюремном дворе, потому-то и дрожит она от бессильной ярости, когда у нее в камере появляется этот ее заклятый враг, человек, по совету которого у нее отняли ребенка и который свершил тем самым презреннейшее преступление против морали: выказал к побежденному ничем не оправданную жестокость. То, что революция отдала королеву в руки Эбера, этого ее Терсита, едва ли не самая мрачная страница ее истории, которую лучше следовало бы скорее перелистнуть. Ибо самая высокая, самая чистая идея становится низкой и ничтожной, как только она дает мелкой личности власть совершать ее именем бесчеловечное.
* * *
С тех пор как смех ребенка не звенит более в зарешеченных камерах башни, в них стало темнее, время тянется дольше. Ни звука, ни сообщения извне, последние помощники исчезли, друзья недосягаемо далеко. Три одиноких человека сидят друг против друга изо дня в день, день за днем: Мария Антуанетта, ее маленькая дочь и мадам Елизавета; давно уж не о чем друг с другом говорить, давно уж разучились они надеяться, а возможно, и бояться также. Весна, лето, но все реже и реже спускаются они в свой маленький садик, тяжелая усталость наливает члены свинцом. В эти недели страшных испытаний что-то угасает в облике королевы. Если всмотришься в последний портрет Марии Антуанетты[321], сделанный в то лето неизвестным художником, в нем едва можно узнать бывшую королеву пасторалей, богиню рококо, не узнать в нем гордую, отважно борющуюся, величественную женщину, какой Мария Антуанетта была еще в Тюильри. На этом неумелой рукой сделанном портрете женщина с вдовьей вуалью на поседевших волосах, несмотря на свои тридцать восемь лет, уже старая женщина – слишком сильно она настрадалась. Нет блеска и живости в некогда озорных глазах; вот сидит она, бесконечно усталая, с вяло опущенными руками, готовая следовать любому зову без возражений, без протеста, даже если этот зов – к гибели, к концу. Прежняя привлекательность ее облика уступает место спокойной печали, беспокойство – полному безразличию. Этот последний портрет Марии Антуанетты похож, пожалуй, на портрет настоятельницы монастыря, аббатисы, женщины, отрешенной от всех земных забот, не имеющей никаких земных желаний, живущей уже не этой, а какой-то другой, потусторонней жизнью. Ни красоты не чувствуешь в этой женщине, ни смелости, ни сил – ничего, кроме великого терпеливого безразличия. Королева потеряла корону, женщина смирилась со своей участью; усталая, утомленная матрона смотрит на мир ясными голубыми глазами, ничто не может более удивить ее или испугать.
* * *
И она, Мария Антуанетта, действительно не испытывает страха, когда спустя некоторое время, в два часа ночи, снова будят ее резкие удары в дверь. Что может сделать ей окружающий ее мир после того, как он отнял мужа, ребенка, возлюбленного, корону, честь, свободу? Спокойно поднимается она, одевается и впускает комиссаров. Они зачитывают декрет Конвента, в соответствии с которым вдова Капет, поскольку против нее выдвинуто обвинение, должна быть препровождена в Консьержери. Мария Антуанетта внимательно слушает и молчит. Она знает: обвинение Революционного трибунала равнозначно осуждению, а Консьержери – это покойницкая. Но она не просит, не протестует, не молит об отсрочке. Ни слова этим людям, поразившим ее своим известием среди ночи, словно убийцы. Невозмутимо позволяет обыскать себя, отдает все, что носит с собой. Оставляют ей лишь носовой платок и маленький флакончик с сердечными каплями. Затем ей предстоит прощание – в который раз – теперь с дочерью и золовкой. Она знает, это прощание – последнее. Но жизнь уже приучила ее к подобным прощаниям.
Не оборачиваясь, с высоко поднятой головой идет Мария Антуанетта к дверям камеры и быстро спускается по лестнице. Она отклоняет всякую помощь, нет, не было необходимости оставлять ей флакончик с укрепляющей эссенцией, на случай если силы откажут ей: она окрепла в несчастье. Самое тяжелое уже пережито: ничто не может быть страшнее этих последних месяцев. Впереди самое легкое – смерть. Она так спешит из этой башни ужасных воспоминаний, что – возможно, слезы застилают ей глаза – забывает наклониться в калитке и сильно расшибает лоб о верхнюю перекладину. Озабоченные провожатые подбегают к ней, спрашивают, не больно ли ей. «Нет, – отвечает она спокойно, – теперь ничто не может причинить мне боль».
Консьержери
Еще одну женщину разбудили в ту ночь – мадам Ришар, жену надзирателя Консьержери. Поздно вечером был принесен приказ приготовить камеру для Марии Антуанетты; итак, после герцогов, князей, графов, простых горожан, епископов, после жертв от всех сословий пришел черед прибыть в покойницкую и королеве Франции. Мадам Ришар приходит в ужас. Ведь для женщины из народа слово «королева» все еще, будто мощный колокол, пробуждает в сердце благоговение. Королева, королева Франции под одной крышей с нею! Мадам Ришар лихорадочно ищет в своем постельном белье самые тонкие, самые белые простыни; генерал Кюстин, победитель в битве под Майнцем, над головой которого также висит нож гильотины, должен освободить зарешеченную камеру, многие годы служившую для заседаний совета; в спешке королеве отводится это мрачное помещение. Железную кровать, два матраца, два соломенных кресла, подушку, легкое одеяло, еще кувшин для умывания да старый ковер на сырую стену, больше ничего не отваживается мадам Ришар дать королеве. Помещение приготовлено. И затем все в этом древнем каменном здании, вросшем в землю, ждут новую постоялицу.
В три часа ночи с грохотом подъезжает несколько телег. Сначала в темный коридор входят жандармы с факелами, затем появляется торговец лимонадом Мишони – этому проныре удалось чудесным образом остаться в стороне после раскрытия заговора Баца и даже сохранить пост генерального инспектора тюрем, за ним в мерцающем свете идет королева со своей маленькой собачкой, это единственное живое существо, которое может быть с нею в тюремной камере. Из-за позднего часа и еще, вероятно, потому, что это выглядело бы фарсом – считать, будто в Консьержери не знают, кто такая Мария Антуанетта, королеве Франции обычного допроса не делают и разрешают ей сразу же отправиться в камеру, на отдых. Судомойка Ришаров, юная бедная крестьянка Розали Ламорльер, неграмотная и которой мы тем не менее обязаны правдивейшими и волнующими показаниями очевидца последних семидесяти семи дней королевы, потрясенная, незаметно пробирается за бледной, одетой в черное женщиной и умоляет ее разрешить помочь при раздевании. «Благодарю тебя, дитя мое, – отвечает королева, – с тех пор как все оставили меня, я обслуживаю себя сама». Она вешает свои часы на гвоздь, вбитый в стену, чтобы можно было следить за временем, – так мало осталось ей жить, и все же как бесконечно долго это время тянется. Затем она раздевается и ложится. Входит жандарм с заряженным ружьем, дверь камеры закрывается на ключ. Начался последний акт великой трагедии.
* * *
Консьержери, об этом знают и в Париже, и во всем мире, – особая тюрьма, тюрьма для самых опасных политических преступников. Внесение имени в список ее «постояльцев» равносильно свидетельству о смерти. Из Сен-Лазара, из Карма, из Эббея, из любых других тюрем иные еще возвращаются в жизнь, из Консьержери – никогда или в исключительных случаях. И Мария Антуанетта, и общественное мнение страны должны (и обязаны) считать, что перевод в покойницкую – это уже первый музыкальный такт аккомпанемента к пляске смерти. Конвент не думает торопиться с процессом королевы, этой драгоценной заложницы. Вызывающий перевод в Консьержери должен стать подстегивающим ударом хлыста для партнера в слишком уж медленно разворачивающихся переговорах с Австрией, угрожающим жестом – «поторапливайтесь», – политическим нажимом; в действительности же ударные и тромбоны в оркестре Конвента еще бездействуют. В течение трех недель после перевода в «прихожую смерти», который, само собой разумеется, во всех газетах, издаваемых за границей (а как раз этого-то и хотел Комитет общественного спасения), был встречен криками ужаса, прокурору Революционного трибунала Фукье-Тенвилю не было вручено ни одного документа; следует отметить, что после той первой музыкальной фразы ни в Конвенте, ни в коммуне вопрос о Марии Антуанетте официально ни разу не обсуждался. Правда, в своем «Папаше Дюшене» Эбер, грязная дворняжка революции, время от времени тявкает, что «девке» (grue) пора, пора наконец примерить «галстук Сансона»[322], что надо дать палачу возможность «сыграть в кегли головой волчицы». Но Комитет общественного спасения дальновиден. Невозмутимо позволяет он Эберу задавать такие, например, вопросы: к чему так увиливать от осуждения австрийской тигрицы, «зачем искать вещественные доказательства ее виновности, ведь совершенно справедливым будет немедленно сделать из нее котлету за всю ту кровь, которая у нее на совести», – все эти истерические вопли, весь этот безумный бред совершенно не влияют на тайные планы Комитета общественного спасения, который интересуется лишь картой военных действий. Кто знает, а не окажется ли полезной – возможно, даже очень скоро – эта женщина из дома Габсбургов, ведь июльские дни становятся для французской армии роковыми[323]. В любой момент союзнические войска могут оказаться под Парижем; к чему бесполезно лить столь драгоценную кровь? Пусть орет и беснуется Эбер, это на руку революции, это создает впечатление, что готовится скорая казнь королевы; в действительности же Конвент никакого решения о судьбе Марии Антуанетты не принимает. Ее не выпустят на свободу, но и не приговорят к смертной казни. Меч занесен над ее головой, и время от времени его лезвие угрожающе сверкает, – этим надеются устрашить дом Габсбургов и наконец-то, наконец-то заставить его быть более уступчивым при переговорах.
* * *
Однако роковым образом сообщение о переводе Марии Антуанетты в Консьержери нисколько не пугает ее близких родственников. Мария Антуанетта считалась Кауницем активом габсбургской политики лишь до тех пор, пока была повелительницей Франции; низложенная королева – частное лицо; несчастная женщина совершенно безразлична министрам, генералам, императору: дипломатия не признает сентиментальности. Лишь один человек, совершенно бессильный, принимает это сообщение очень близко к сердцу – Ферзен. В отчаянии пишет он сестре: «Дорогая Софи, мой единственный друг, ты, вероятно, уже знаешь теперь об ужасном несчастье, о переводе королевы в тюрьму Консьержери и о декрете этого подлого Конвента, по которому она предается Революционному трибуналу. С этого момента я уже не живу, разве это жизнь – так существовать, испытывать такие муки? Думаю, что если бы я смог что-нибудь сделать для ее освобождения, то страдал бы меньше. Но ничего не делать, только просить всех о помощи – это ужасно. Лишь ты одна в состоянии понять, как я страдаю, все для меня потеряно, скорбь моя беспредельна, и только смерть освободит меня от нее. Я не могу заставить себя заниматься чем-нибудь, думать о чем-либо, кроме как лишь о несчастье этой так много испытавшей, столь достойной государыни. У меня нет сил выразить то, что я чувствую. Я отдал бы жизнь ради ее спасения, но не могу сделать этого; величайшим счастьем для себя почел бы умереть за нее». И немногими днями позже: «Стоит лишь представить себе, что она заключена в ужасную тюрьму, как мне стыдно становится за то, что я еще дышу. Эти мысли разрывают мне сердце, отравляют мне жизнь, и я беспрестанно мечусь между страданиями и яростью». Но что значит этот маленький, ничего собой не представляющий человек, этот господин Ферзен для всесильного Генерального штаба союзников, что значит он для великой, мудрой и возвышенной политики? Что остается ему, кроме как изливать в бесполезных письмах свой гнев, свою горечь, свое отчаяние, адский огонь, бушующий в его душе, сжигающий его душу, что остается ему, как только не обивать пороги приемных, умолять военных, государственных деятелей, принцев, эмигрантов, убеждать их не быть позорно безразличными, бесстрастными наблюдателями унижений королевы Франции, принцессы из дома Габсбургов, свидетелями ее убийства. Но всюду встречает он уклончивое, вежливое безразличие; даже верный друг Марии Антуанетты граф Мерси оказывает ему «ледяной» (de glace) прием. Мерси почтительно, но решительно отклоняет любое вмешательство Ферзена и, более того, к несчастью, использует даже сложившиеся обстоятельства, чтобы выказать ему свою личную неприязнь: Мерси никогда не простит Ферзену, что тот был близок с королевой, и как раз от возлюбленного королевы – от единственного, который любил ее по-настоящему, – он не желает получать никаких рекомендаций.
* * *
Но Ферзен не отступает. Это общее холодное равнодушие людей, так разительно отличающееся от его пылкости, приводит его в бешенство. Поскольку Мерси отказывает ему в поддержке, он обращается к другому верному другу королевской семьи, к графу де Ламарку, который в свое время вел переговоры с Мирабо. Здесь он встречает человеческое понимание. Граф де Ламарк отправляется к Мерси и напоминает старику об обещании, данном четверть века назад Марии Терезии, защищать ее дочь до последних мгновений своей жизни. За столом у Мерси составляют они энергичное письмо принцу Кобургу, главнокомандующему австрийскими войсками: «Пока королеве не угрожала непосредственная опасность, можно было молчать из боязни разбудить ярость окружающих ее дикарей. Сегодня, поскольку она выдана кровавому трибуналу, любая мера, направленная к ее спасению, является Вашим долгом». Мерси, побуждаемый де Ламарком, требует немедленного выступления на Париж, чтобы посеять там ужас; любая другая военная операция менее важна, чем эта. «Разрешите мне, – предостерегает Мерси, – упомянуть о тех сожалениях, которые мы однажды испытаем потому, что были в такой момент бездеятельными. Будущие поколения не поверят, что великое злодеяние могло свершиться буквально на глазах у победоносной армии и армия не сделала никаких попыток, чтобы его предотвратить».
Этот призыв спасти Марию Антуанетту, к сожалению, направляется слабовольному и прежде всего феноменально глупому человеку, пустому солдафону. Реакция главнокомандующего Кобурга на письмо подтверждает это. И принц, известный своим nullité[324], предлагает, как если бы 1793 год относился ко временам инквизиции: «В случае если по отношению к личности Ее Величества будет проявлено малейшее насилие, только что взятых в плен четырех членов Конвента следует немедленно колесовать живыми». Мерси и де Ламарк, благородные, просвещенные аристократы, искренне ужасаются этой глупости, им становится ясно, что с таким тупицей иметь дело нет никакого смысла. Де Ламарк умоляет Мерси незамедлительно писать венскому двору: «Посылайте тотчас же другого курьера, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы там поняли всю опасность положения, выразите крайнюю озабоченность, оснований к которой, увы, более чем достаточно. Необходимо, чтобы в Вене поняли наконец, сколь постыдным, более того, сколь губительным для императорской власти будет то, что История некогда скажет: в сорока милях от могущественной победоносной австрийской армии благородная дочь Марии Терезии взошла на эшафот и не было сделано никакой попытки спасти ее. Это было бы несмываемым пятном на знамени нашего императора». И для того чтобы еще более побудить к действию медлительного старика, он обращается к Мерси с личным призывом: «Разрешите обратить Ваше внимание на то, что всегда несправедливое суждение людей неправильно оценит Ваши истинные чувства, так почитаемые Вашими друзьями, если при нынешних весьма прискорбных обстоятельствах Вы с самого начала не будете вновь и вновь прилагать все большие и большие усилия к тому, чтобы вывести наш двор из состояния инертности, в котором он находится».
Подстегиваемый такими предостережениями, старый Мерси начинает наконец действовать энергично. Он пишет в Вену: «Я спрашиваю себя: совместимо ли с достоинством императора, совместимо ли с его интересами быть всего лишь простым наблюдателем, когда его августейшей тетушке угрожает жестокая участь, допустимо ли не делать никаких попыток отвести удары судьбы, попыток защитить от этих ударов?.. Ужели императору в таких обстоятельствах не надлежит исполнить свой долг?.. Нельзя забывать, что придет время и последующие поколения вынесут приговор поведению нашего правительства; и разве не следует нам страшиться суровости этого приговора, если Его Величество император не сделает никаких попыток спасти королеву, не принесет никаких жертв ради нее?»
Это весьма смелое для посланника письмо равнодушно регистрируется, подшивается в соответствующую папку канцелярии двора и покрывается, без ответа, слоем пыли. Император Франц не думает и палец о палец ударить ради своей родственницы; спокойно прогуливается он в своем Шёнбрунне, спокойно ожидает в главной квартире принц Кобург, заставляя своих солдат заниматься строевой подготовкой столь интенсивно, что потери армии от дезертирства превышают потери после самых кровопролитных сражений. Все монархи сохраняют спокойствие, безразличие и беззаботность. Ибо что значит для древнего рода Габсбургов чуть больше или чуть меньше чести! Никто и пальцем не шевелит ради спасения Марии Антуанетты, и с горечью, во внезапно прорвавшемся гневе Мерси говорит: «Они не пытались бы спасти ее, даже если б своими глазами увидали ее поднимающейся к гильотине».
На Кобурга, на Австрию рассчитывать нечего, нечего рассчитывать также и на принцев, на эмигрантов, на ближайших родственников. Мерси и Ферзен на свой страх и риск обращаются к последнему средству – к подкупу. Через танцмейстера Новера, через какого-то финансиста с подозрительной репутацией в Париж посылаются деньги; никто толком не знает, кому их дать. Сначала пытаются связаться с Дантоном – Робеспьер был совершенно прав, подозревая его во взяточничестве; удивительным образом пути ведут также к Эберу, и хотя, как это обычно имеет место при подкупе, улик нет, поразительным представляется, что главный крикун, месяцы, словно одержимый, неистово требовавший: «Девка должна наконец свершить свой Hechtsprung», вдруг внезапно начинает настаивать на возвращении Марии Антуанетты в Тампль. Кто может сказать, как далеко зашли эти переговоры, какой успех имели или могли бы иметь избегающие гласности действия?
Во всяком случае очевидно одно: слишком поздно появились эти золотые кружочки. Ибо, пока осторожные друзья пытались спасти Марию Антуанетту, один друг, слишком неосторожный, едва не толкнул ее в пропасть. Как всегда, в жизни королевы роль ее друзей – роковая.
Последняя попытка
В Консьержери, в этой «прихожей смерти», распорядок дня более суров, чем во всех других тюрьмах Революции. Древнее каменное строение с непроницаемыми для звука стенами и тяжелыми, обитыми железом дверьми, каждое окно зарешечено, каждый проход на запоре. Здание охраняется со всех сторон, на плитах его стен по праву можно было бы высечь слова Данте: «Оставь надежду…»[325] На протяжении столетий совершенствовавшаяся система охраны, многократно пересмотренная и ужесточенная в связи с массовым террором, исключает какую бы то ни было связь заключенных с внешним миром. Невозможно передать письма, нельзя устроить свидание, ведь персонал Консьержери комплектуется не из новичков, как, например, в Тампле, а из специально обученных тюремщиков, прекрасно знающих свое дело; кроме того, к заключенным предусмотрительно подсаживают соглядатаев – они всегда предупредят тюремное начальство о любых приготовлениях к бегству. Всюду, где система испытана годами или десятилетиями, отдельным личностям очень трудно, практически бессмысленно сопротивляться ей.
Но к счастью, таинственным образом существует сила, способная противостоять любому коллективному насилию, – индивидуум. Человек, если он несгибаем, если он полон решимости, в конечном счете всегда оказывается сильнее любой системы. Всегда человечное, если воля индивидуума не сломлена, сведет на нет любой бумажный приказ; именно так происходит и в данном случае с Марией Антуанеттой. Уже через несколько дней под воздействием какой-то удивительной магии, излучаемой ее именем, определяемой обаянием ее величественной осанки, все люди, которые должны стеречь Марию Антуанетту в Консьержери, становятся ее друзьями, помощниками, преданными слугами. Жена надзирателя обязана лишь подметать пол в камере да стряпать грубую пищу, но с трогательной заботливостью готовит она для королевы лучшее, что может приготовить, предлагает ей свои услуги при причесывании, ежедневно достает в противоположном конце города бутылку той питьевой воды, которую предпочитает Мария Антуанетта. И служанка Ришаров пользуется любым поводом, чтобы проникнуть в камеру к заключенной и спросить, чем она может быть ей полезна. А суровые жандармы с закрученными усами, с бряцающими саблями, с постоянно заряженными ружьями, они, которые должны все запрещать, что делают они? Они – об этом свидетельствует протокол допроса – каждый день приносят королеве в ее мрачную камеру свежие цветы, покупая их на рынке за собственные деньги. Именно в простом народе, где несчастье более частый гость, чем у обеспеченных, живет трогательное, сердечное отношение к Марии Антуанетте, столь ненавидимой им в ее счастливые дни. Когда торговки рынка у Консьержери узнают от мадам Ришар, что курица или овощи предназначаются для королевы, они подбирают лучший товар, и Фукье-Тенвиль на процессе вынужден с раздражением и удивлением констатировать, что в Консьержери королева имела значительно больше льгот, чем в Тампле. Именно там, где господствует ужасная смерть, в людях как противодействие непроизвольно растет человечность.
Зная о прежних попытках бегства Марии Антуанетты, поражаешься тому, как плохо была организована в Консьержери охрана такого важного государственного заключенного. Но кое-что проясняется, если вспомнить, что главным инспектором этой тюрьмы был не кто иной, как торговец лимонадом Мишони, имевший самое непосредственное отношение к заговору в Тампле. Даже через толстые каменные стены Консьержери проникает манящий и обманчивый свет миллиона барона де Баца, все еще продолжает Мишони вести отважную двойную игру. Ежедневно, верный долгу, суровый, является он в камеру королевы, лично проверяет крепость решеток и дверей, с педантичной точностью докладывает об этих посещениях коммуне, счастливой иметь такого надежного республиканца надзирателем, сторожем. В действительности же Мишони дожидается лишь момента и, когда жандармы покидают камеру, дружески болтает с королевой, передает ей столь страстно ожидаемые сообщения из Тампля о детях; время от времени, то ли за мзду, то ли по добросердечию, при инспектировании Консьержери он пропускает даже тайком к заключенной любопытствующих, англичанина или англичанку (фамилия неизвестна), возможно – некую страдающую сплином[326] особу, миссис Аткинс, одного из не присягнувших Конвенту священников, который примет у королевы последнюю исповедь, художника – ему мы обязаны портретом королевы, выставленным в музее Карнавале. И наконец, роковым образом, также и безрассудного глупца, который своим чрезмерным рвением одним ударом лишит королеву всех данных ей малых свобод и послаблений.
* * *
Этот пресловутый affaire de l’œillet, этот «заговор гвоздики», события которого Александр Дюма положит позже в основу большого романа[327], – темная история; полностью расшифровать этот заговор, пожалуй, никогда не удастся, так как сведений, записанных в судебных актах, для этого совершенно недостаточно. То же, что говорит о нем сам герой заговора, подозрительно попахивает хвастовством. Если верить муниципалитету и главному инспектору тюрем Мишони, то заговора не было, был, по существу, незначительный случай. Якобы однажды за ужином с друзьями он, Мишони, рассказал о королеве, которую обязан по долгу службы ежедневно посещать. Один господин, имени которого он не знает, проявил особый интерес к этому и спросил, не разрешит ли Мишони сопровождать его при одном из посещений высокопоставленной узницы. Находясь в хорошем настроении, Мишони, не наведя справок об этом господине, взял его с собой в инспекционный обход, получив от него, разумеется, обещание не говорить с королевой.
Так ли наивен, как он себя изображает, этот Мишони, доверенное лицо барона де Баца? В самом ли деле не взял он на себя труд выяснить, кто же такой этот неизвестный господин, которого он согласился тайком провести в камеру королевы? Расспроси он окружающих – узнал бы, что это человек, хорошо знакомый Марии Антуанетте, шевалье де Ружвиль, один из тех аристократов, которые 20 июня с риском для жизни защищали королеву. Судя по всему, Мишони в свое время серьезно помогал барону де Бацу и имел убедительные и, что самое главное, веские и звонкие основания не очень-то расспрашивать этого неизвестного о его намерениях; вероятно, заговор был подготовлен значительно более основательно, чем это представляется по дошедшим до нас материалам.
Так вот, 28 августа у двери тюремной камеры слышится позвякивание ключей. Королева и жандарм встают. Всякий раз в первое мгновение, когда дверь камеры открывается, Мария Антуанетта пугается, ведь многие недели и месяцы почти каждое неожиданное посещение представителей власти приносило ей только плохие сообщения. Но нет, это Мишони, тайный друг, в сопровождении какого-то неизвестного господина; заключенная совсем не обращает на него внимания. Мария Антуанетта с облегчением вздыхает, она беседует с Мишони, расспрашивает его о своих детях: всегда первые и самые настойчивые расспросы – о них. Мишони приветливо отвечает, королева приходит в хорошее настроение: эти считаные минуты, когда тусклый стеклянный колпак молчания разбит, едва она слышит от кого-нибудь имена своих детей, всегда являются для нее минутами счастья.
Но внезапно Мария Антуанетта смертельно бледнеет. И тотчас же кровь бросается ей в лицо. Она начинает дрожать и с трудом пытается сохранить спокойствие. Неожиданность слишком велика: она узнала Ружвиля, человека, которого видела возле себя во дворце сотни раз и о котором знает, что он – отважный, безумно смелый человек. Что должно означать – время так стремительно мчится, его не хватает, чтобы все как следует продумать, – что должно означать столь внезапное появление здесь, в тюремной камере, этого надежного, этого преданного друга? Хотят ли ее спасти? Хотят ли что-нибудь сказать ей, что-нибудь передать? Она не решается обратиться к Ружвилю, не решается – из боязни жандармов и надзирательницы – прямо посмотреть на него, и все же она замечает: он подает ей все время знаки, смысл которых она понять не может. Мучительно волнующе и отрадно одновременно вновь после многомесячного перерыва видеть возле себя посланца и не понимать, с какой вестью он явился; все более и более опасается она неверным движением, неосторожным взглядом выдать себя. Возможно, Мишони замечает смятение, во всяком случае он вспоминает, что ему надо обойти других заключенных, и поспешно покидает камеру вместе с незнакомцем, заявив, однако, совершенно определенно, что еще вернется.
Оставшись одна – колени дрожат, – Мария Антуанетта опускается в кресло и пытается собраться с мыслями. Она решает, что, если оба вернутся, ей надо будет внимательнее, спокойнее, чем при первой встрече, следить за каждым знаком, за каждым жестом посланца. И действительно, они появляются вторично. Вновь бренчат ключами, вновь входят в камеру Мишони и Ружвиль. На этот раз Мария Антуанетта полностью владеет собой. Она более внимательно, более пристально, более спокойно следит за Ружвилем и внезапно по его быстрому кивку головой замечает, что он бросил что-то в угол, за печку. Сердце начинает учащенно биться, ей страстно хочется сразу же, немедленно прочесть то, что написано в записке; едва Мишони и Ружвиль покидают комнату, она сразу же под каким-то предлогом отсылает жандарма. Эту единственную минуту без свидетелей она использует, чтобы подобрать подброшенное. Как, ничего, кроме букетика гвоздики?
Нет, в букетике сложенная записка. Она разворачивает и читает: «Моя покровительница, я никогда не забуду Вас, всегда буду искать способ доказать готовность отдать свою жизнь ради Вашего спасения. Если Вам требуются триста или четыреста луидоров[328], я принесу их в следующую пятницу».
* * *
Можно представить себе чувства этой несчастной женщины: чудесным образом ей дано увидеть слабое сияние угасшей было надежды. Вновь, словно под ударом меча архангела, рушатся своды темного склепа. Один из ее приближенных, кавалер ордена Святого Людовика, доверенный и надежный роялист, все же прорвался к ней, прорвался, преодолев ужасы и неприступность покойницкой, через семь или восемь запертых, надежно охраняемых дверей, вопреки всем запретам, насмехаясь над всеми мерами коммуны; значит, спасение близко. Конечно же, любящая рука Ферзена пряла эту пряжу, конечно, могучие, неизвестные ей помощники содействовали ему, чтобы спасти ее, стоящую у самого края пропасти. Седая, совсем было смирившаяся со своей ужасной судьбой женщина вновь обретает мужество, вновь готова бороться за жизнь.
Она мужественна, излишне мужественна. И слишком доверчива. Ей ясно: триста-четыреста луидоров предназначены для подкупа жандарма, дежурящего в ее камере, в этом – ее задача, всем остальным займутся ее друзья. Внезапно воодушевленная оптимизмом, она тотчас же принимается за дело. Она разрывает на мельчайшие куски опасную записку и подготавливает ответ. В камере у нее нет ни карандаша, ни пера, ни чернил, есть лишь клочок бумаги. Она использует его – нужда находчива, – накалывая иглой буквы ответа[329]; письмо – его, правда, сейчас уже невозможно прочесть – доходит как реликвия до наших дней. Обещая большое вознаграждение, она просит жандарма Жильбера передать эту записку незнакомцу, когда тот появится у нее в камере вновь.
И вот здесь на все это дело ложится тень. Похоже, жандарм Жильбер внутренне колеблется. Триста-четыреста луидоров очень соблазнительно блестят для этого бедняка, но ведь лезвие гильотины тоже блестит и мерцает, а это мерцание зловеще. Ему жаль несчастную женщину, но он боится также потерять свое место. Что делать? Выполнить поручение – значит предать революцию, донести – обмануть доверие бедной, несчастной женщины. И этот бравый жандарм выбирает сначала компромиссное решение, открывается во всем жене надзирателя, всесильной мадам Ришар. И она, мадам Ришар, как и жандарм, смущена, не знает, что предпринять. Она не решается молчать и не решается говорить, а еще меньше хочет быть втянутой в такой безрассудный заговор; не исключено, что и она что-нибудь знала о тех баснословных деньгах, которые предназначались участникам заговора.
В конце концов мадам Ришар поступает так же, как и жандарм: не доносит, но и не молчит. Подобно жандарму, она снимает с себя ответственность и доверительно сообщает историю с секретной запиской своему начальнику, Мишони, который, услышав ее, бледнеет. Тут еще одно темное место. Заметил ли Мишони раньше, что он привел к королеве ее сторонника, или же узнал об этом только сейчас, после разговора с мадам Ришар? Был ли он посвящен в заговор, или Ружвиль одурачил его? Во всяком случае ему крайне неприятно иметь двух сообщников. Притворившись очень рассерженным, он отбирает у славной женщины записку, кладет ее в карман и приказывает молчать, полагая, что этим самым необдуманный поступок королевы будет замят без последствий и что с неприятной аферой счастливым образом покончено. Конечно, он никому об этом не сообщает; так же как в первом заговоре Баца, он потихоньку устраняется от дела, едва появляется опасность.
Теперь как будто бы все в порядке. Но к несчастью, жандарм никак не может успокоиться. Возможно, пригоршня золотых и заставила бы его замолчать, но у Марии Антуанетты нет денег, и постепенно он начинает чего-то страшиться. Мужественно помолчав пять дней (это-то и есть самое подозрительное и психологически не обоснованное во всем деле), ни словом не обмолвившись ни товарищам, ни начальству, 3 сентября он все же подает старшему по команде рапорт; уже через два часа возбужденные комиссары муниципалитета врываются в Консьержери и начинают допрос всех участников.
Сначала королева все отрицает. Она никого не узнала, а когда ее спрашивают, не писала ли она что-нибудь несколько дней назад, дерзко отвечает, что ей нечем писать. И Мишони тоже сначала прикидывается дурачком, рассчитывая на молчание, вероятно тоже уже подкупленной, мадам Ришар. Но та настаивает: записка была дана, пусть выкладывает ее (Мишони предусмотрительно сделал к этому времени записку нечитаемой, дополнительно проколов ее в нескольких местах). При втором допросе, на следующий день, королева перестает сопротивляться. Она признает, что встречала этого человека еще в Тюильри, что получила от него в букетике гвоздики записку, ответила на нее, она не отрицает более своего участия в заговоре, своей вины. Но, мужественно защищая человека, готового ради нее пожертвовать своей жизнью, она не называет имени Ружвиля, утверждая, что никак не может вспомнить, как зовут этого гвардейского офицера; она великодушно прикрывает Мишони и спасает ему этим жизнь. Но двадцать четыре часа спустя и муниципалитет, и Комитет общественной безопасности уже знают имя Ружвиля, и полицейские рыщут, впрочем безуспешно, по всему Парижу в поисках человека, пожелавшего спасти королеву, в действительности же своим поступком лишь ускорившего ее гибель.
* * *
Ибо этот так неудачно начатый заговор зловеще приближает роковую развязку. Сразу же покончено с мягким, снисходительным обращением с заключенной. У нее отбирают все личные вещи, последние кольца, даже маленькие золотые часы, привезенные из Австрии (последняя память о матери), даже маленький медальон с любовно хранимыми локонами детей. Само собой разумеется, изымаются иголки, с помощью которых она так изобретательно написала записку Ружвилю, запрещается зажигать свет по вечерам. Снисходительного Мишони увольняют с работы, мадам Ришар – также, вместо нее теперь будет другая надзирательница, мадам Бол. Одновременно магистрат декретом от 11 сентября предписывает эту неисправимую женщину, эту заключенную, не раз пытавшуюся бежать, перевести в более надежно охраняемую камеру; а так как в Консьержери не найти такой, которая показалась бы перепуганному магистрату достаточно надежной, освобождается помещение аптеки и оборудуется двойными железными дверями. Окно, выходящее на глухой двор, замуровывается до половины высоты решетки; двое часовых под окном, круглосуточно поочередно дежурящие в смежном помещении жандармы жизнью отвечают за заключенную. Теперь никто незваным не явится в камеру, придет лишь призванный по долгу службы – палач.
И вот стоит Мария Антуанетта на последней, на нижней ступени своего одиночества. Новые тюремщики, как бы они ни были расположены к ней, не решаются более разговаривать с этой опасной женщиной, жандармы – также. Маленьких часиков, своим слабым тиканьем вымеряющих бесконечное время, нет, рукоделием заниматься она не может, ничего не оставлено ей, одна лишь собачка. Лишь теперь, спустя двадцать пять лет, в полном одиночестве, вспоминает Мария Антуанетта об утешении, так часто рекомендованном матерью; впервые в своей жизни она требует книг и читает их одну за другой своими слабыми, воспаленными глазами; книг на нее не напастись. Не романов просит она, не пьес, ничего веселого или сентиментального, ничего о любви, очень уж все это напоминает о прошлой жизни, лишь книги о необыкновенных приключениях, описания экспедиции капитана Кука, повествования о кораблекрушениях, об отважных путешественниках, книги, которые захватывают, отвлекают, возбуждают, заставляют сильнее биться сердце, книги, читая которые забываешь время, мир, в котором живешь. Вымышленные, воображаемые персонажи – единственные товарищи ее одиночества. Никто не посещает ее, днями не слышит она ничего, кроме колоколов Сент-Шапель, расположенной поблизости от Консьержери, да визга ключа в замке, затем опять тишина в низкой камере, узкой, сырой и темной, словно гроб. Недостаток движения, воздуха утомляет ее, обильные кровотечения ослабляют. И когда королеву наконец вызывают на суд, из долгой ночи выходит на дневной свет, уже забытый ею, старая седая женщина.
Гнусная клевета
Вот и достигнута последняя ступень, близок конец пути. Создана такая напряженность противоположностей, которую в состоянии измыслить только судьба. Та, которая родилась в императорском замке, которая владела королевскими дворцами с сотнями комнат, живет в тесной, зарешеченной, полуподвальной, сырой и темной камере. Та, которая любила роскошь, привыкла видеть вокруг себя бесчисленное множество предметов искусства, обладала драгоценностями, не имеет даже шкафа, зеркала, кресла, только совершенно необходимое есть в этой камере – стол, скамья, железная кровать. Та, которая держала возле себя целую свиту бесполезных, ненужных прислуживающих лиц, придворных дам, камеристок для дневной службы, камеристок для ночных дежурств, чтеца, врача, хирурга, секретаря, лакеев, парикмахера, поваров и пажей, теперь сама расчесывает свои поседевшие волосы. Если раньше для нее ежегодно шилось триста новых платьев, то сейчас, полуослепшая, она сама штопает подол расползающегося тюремного халата. Сильная и здоровая несколько лет назад, сейчас она – усталая и изможденная. Бывшая некогда красивой и желанной, она увяла, превратилась в старуху. С такой радостью проводившая раньше время с полудня до глубокой ночи в шумном обществе, теперь, одна, всю бессонную ночь ждет она, когда забрезжит рассвет за зарешеченным окном. Чем ближе к осени, тем больше мрачная камера становится похожей на склеп, ведь сумерки наступают в ней все раньше и раньше, а, в соответствии с установленным суровым режимом, Марии Антуанетте запрещено зажигать свет. Только из коридора через верхнее оконце в полную темноту камеры милосердно падает слабый свет масляной лампы. Чувствуется наступление осени, холодом несет от каменного, ничем не покрытого пола, сквозь стены проникает в камеру сырость от Сены, протекающей вблизи Консьержери, стол, скамья влажны, пахнет гнилью и плесенью; все сильнее и сильнее чувствуется тлетворный запах смерти. Белье расползается, платья ветшают, грызущей ревматической болью вглубь, до мозга костей, проникает влажный холод. Все изможденнее становится эта замерзающая женщина, та, которая – ей кажется, тысячу лет назад – была некогда королевой этой страны, самой жизнерадостной женщиной Франции, все холоднее становится тишина, все более пустым время вокруг нее. Теперь ее не испугает близость смерти, ее, заживо похороненную в камере-гробу.
В этот расположенный едва ли не в центре Парижа, приспособленный для житья гроб не проникает ни один звук от чудовищного шторма, пронесшегося в ту осень над миром. Никогда французская революция не была в такой опасности, как в эти дни. Две самые неприступные крепости, Майнц и Валансьен, пали, англичане захватили важнейшие военные порты, второй по величине французский город, Лион, восстал, колонии потеряны, в Конвенте – распри, в Париже – голод и общая подавленность. Республика – в двух шагах от гибели. Теперь лишь одно может спасти ее – отчаянная смелость, самоубийственная отвага; республика преодолеет страх лишь тогда, когда сама посеет его. «Поставим террор на повестку дня» – эти ужасные слова жестоко звучат в зале Конвента, и действия беспощадно подтверждают эту угрозу. Жирондистов ставят вне закона, герцог Орлеанский и бесчисленное множество других предаются Революционному трибуналу. У гильотины много работы. На трибуну поднимается Бийо-Варенн и требует: «Только что Конвент показал, как следует относиться к изменникам, готовящим гибель нашей страны. Но ему надлежит вынести еще одно важное решение. Женщина, являющаяся позором человечества и своего пола, должна наконец на эшафоте ответить за все свои преступления. Уже повсюду говорят, что она вновь переведена в Тампль, что ее якобы тайно судили и Революционный трибунал полностью обелил ее, как будто женщина, на совести которой – кровь тысяч, может быть оправдана каким бы то ни было французским судом, французскими присяжными. Я требую, чтобы Революционный трибунал уже на этой неделе принял относительно нее решение».
Хотя это решение требует не только суда над Марией Антуанеттой, а совершенно открыто и казни, его принимают без возражений. Но удивительно, Фукье-Тенвиль, прокурор, всегда работавший методично, холодно и быстро, словно машина, сейчас подозрительно нерешителен. Ни на этой неделе, ни на следующей он не предъявляет королеве обвинения; никто не знает, удерживает ли его кто-то тайно за руку, или человек с каменным сердцем, обычно с ловкостью циркача превращающий бумагу в человеческую кровь, а кровь – в бумагу, действительно еще не имеет в руках ни одного надежного уличающего документа. Во всяком случае он медлит, вновь и вновь оттягивает предъявление обвинения. Он пишет в Комитет общественного спасения, чтобы ему прислали материалы, и, удивительное дело, Комитет общественного спасения проявляет такую же бросающуюся в глаза медлительность. Наконец он подбирает несколько бумаг, не имеющих существенного значения: допрос по «заговору гвоздики», свидетельские показания и акты по процессу короля. Но Фукье-Тенвиль все еще не берется за дело. Чего-то ему недостает, либо тайного приказа начать процесс, либо особенных, решающих документов, таких очевидных фактов, которые смогли бы придать его обвинительному заключению блеск и пламя истинного республиканского возмущения, недостает какого-то совершенно невероятного преступления, совершенного Марией Антуанеттой – как королевой или женщиной, безразлично. Похоже, и на этот раз требование призвать королеву к ответу останется лишь патетическим выпадом. Но тут Фукье-Тенвиль внезапно получает от Эбера, этого самого озлобленного, самого решительного врага королевы, ужаснейший документ, подлейший из всех, созданных в годы французской революции. Этот сильный толчок оказывается решающим: процессу дается ход.
* * *
Что же случилось? 30 сентября Эбер неожиданно получает письмо из Тампля от сапожника Симона, воспитателя дофина. Первая часть написана рукой неизвестного, не содержит орфографических ошибок и гласит: «Привет! Приходи быстрее, друг, у меня есть что рассказать тебе, я буду очень рад тебя увидеть; постарайся прийти сегодня, ты увидишь во мне искреннего и честного республиканца». Остальная же часть письма нацарапана рукой Симона и своей чудовищно гротескной орфографией показывает уровень культуры этого «воспитателя»: «Jet te coitte bien le bon jour moi e mo nest pousse Jean Brass etas cher est pousse et mas petiste bon amis la petist e fils cent ou blier ta cher soeur qui jan Brasse. Je tan prie de nes pas manquer a mas demande pout te voir ce las presse pour mois. Simon, ton amis pour la vis» («Мы шлем тибе привед я и моя старуха абнимаим тибя добрый друг и гражданин тваю супругу сынка незабудь абнядь и тваю систру тоже прашу тибя выпалнить маю прозбу для миня это очин важна. Твой да грабовой доски Симон»). Верный своему долгу, Эбер немедленно спешит к Симону. То, что он там слышит, даже ему, видавшему виды, представляется настолько жутким, что он не решается лично заниматься этим и требует специальной комиссии ратуши под председательством мэра; комиссия направляется в Тампль и составляет там три протокола допроса (дошедших до наших дней) – решающий материал обвинения против королевы.
* * *
Мы приближаемся к тому, что долгие годы казалось невероятным, психологически неоправданным, к тому эпизоду в истории Марии Антуанетты, который в какой-то степени можно объяснить лишь ужасно возбужденной атмосферой того времени, систематическим, длящимся десятилетиями искусным отравлением общественного мнения. Маленький дофин, не по возрасту развитой, шаловливый мальчик, находясь еще на попечении матери, играя с палкой, повредил себе мошонку; вызванный хирург сделал ребенку нечто вроде грыжевого бандажа. Казалось бы, с этим случаем, происшедшим еще во время нахождения Марии Антуанетты в Тампле, тем самым было покончено, о нем можно было бы позабыть. Но однажды Симон или его жена обнаруживают, что рано физически созревший и избалованный ребенок предается некоему детскому пороку, известным plaisirs solitaires[330]. Застигнутый врасплох, мальчик не может отречься от проступка. Понуждаемый Симоном к ответу, кто привил ему эту дурную привычку, несчастный ребенок говорит или дает себя уговорить, что мать и тетя склонили его к этому пороку. Симон, полагающий, что от этой «тигрицы» можно ожидать всего, даже самого дьявольского, расспрашивает дальше, крайне возмущенный такой порочностью матери, и наконец дело доходит до того, что мальчик начинает утверждать, будто женщины, мать и тетка, в Тампле часто брали его в постель, а мать имела с ним половую близость.
Само собой разумеется, на такое чудовищное показание ребенка, которому нет еще девяти лет, здравомыслящий человек в обычные времена ответил бы крайним недоверием. Но убежденность в эротической ненасытности Марии Антуанетты, воспитанная на бесчисленных клеветнических брошюрах революции, так глубоко проникла в кровь французов, что даже это вздорное обвинение матери в том, что она понуждала ребенка восьми с половиной лет к сожительству с нею, не вызывает ни у Эбера, ни у Симона ни малейшего сомнения. Напротив, этим фанатичным и к тому же введенным в заблуждение санкюлотам все это представляется совершенно логичным и ясным. Мария Антуанетта, вавилонская блудница, эта гнусная трибада[331], еще со времен Трианона привыкла каждый день пользоваться для плотских утех услугами нескольких мужчин и женщин. Не естественно ли, решают они, что подобная волчица, запертая в Тампле, где ей не найти партнеров для своей адской нимфомании, кидается на собственного беззащитного невинного ребенка? Совершенно потеряв голову от ненависти, ни мгновения не сомневаются ни Эбер, ни его мрачные друзья в истинности обвинения, возводимого ребенком на свою мать. Теперь остается лишь черным по белому запротоколировать позор королевы, чтобы вся Франция узнала о беспримерной развращенности этой подлой «австриячки», для кровожадности и испорченности которой гильотина будет лишь малой карой. И вот снимаются три допроса: допрашивают мальчика, не достигшего девяти лет, пятнадцатилетнюю девочку и мадам Елизавету; протоколы допросов настолько отвратительны и непристойны, что в их подлинность трудно поверить, но они существуют, их можно прочесть и сегодня, эти уже пожелтевшие от времени постыдные документы Национального парижского архива, собственноручно подписанные несовершеннолетними детьми.
* * *
На первом допросе, 6 октября, присутствуют мэр Паш, синдик Шометт, Эбер и другие депутаты ратуши; на втором, 7 октября, судя по подписи, принимает участие знаменитый художник и в то же время один из самых беспринципных людей революции, Давид. Сначала вызывают главного свидетеля – ребенка восьми с половиной лет: сперва его спрашивают о других событиях в Тампле, и болтливый мальчик, не понимая всей важности своих показаний, выдает тайного пособника своей матери, Тулана, и некоторых других ее доброжелателей. Затем допрашивающие переходят к деликатной теме, и здесь протокол свидетельствует: «Не раз Симон с женой замечали за ним в постели неприличные привычки, которые вредят его здоровью, он же отвечал им, что этим опасным действиям был обучен матерью и тетей и они часто забавы ради заставляли его проделывать все это при них. Обычно это происходило тогда, когда они укладывали его спать с собой в постель. Из рассказов ребенка мы поняли, что однажды мать побудила его к сношению с ней, что привело к половому акту, следствием этого было также вздутие его мошонки, после чего он стал носить бандаж. Мать запретила ему говорить об этом, и с тех пор такие сношения повторялись много раз. Кроме того, он обвиняет также Мишони и некоторых других, особенно доверительно беседовавших с его матерью».
Черным по белому фиксируется, семью или восемью подписями подтверждается эта чудовищная ложь: подлинность документа, факт, что сбитый с толку ребенок действительно дал такие ужасные показания, не подлежат сомнению; единственное, что еще можно обсуждать, так это причину, по которой текст, содержащий обвинение в кровосмешении с ребенком восьми с половиной лет, записан дополнительно на полях, – может быть, инквизиторы сами опасались документально зафиксировать эту клевету? Но чего не сотрешь, не подчистишь, так это подпись: «Louis Charles Capet», стоящую под протоколом допроса, гигантскими, с трудом выведенными, детски неуклюжими буквами. Действительно, в присутствии этих чужих людей ребенок предъявил своей матери самое мерзкое, самое гнусное обвинение.
Но этого бреда мало – следователи хотят основательно выполнить порученное им дело. После мальчика допросу подвергается пятнадцатилетняя девочка, его сестра. Шометт спрашивает ее, «не касался ли ее брат, не трогал ли так, как не следовало бы трогать, когда она играла с ним, клали ли его с собой в постель мама и тетя». Она отвечает: «Нет». И тут обоим детям (ужасная сцена), девятилетнему и пятнадцатилетней, устраивают очную ставку, чтобы они в присутствии инквизиции могли спорить о чести своей матери. Маленький дофин остается при своем, пятнадцатилетняя девочка, испуганная присутствием суровых мужчин и запутавшись в этих непристойных вопросах, каждый раз пытается уклониться от прямого ответа – она ничего не знает, она к тому же ничего не видала. Затем вызывается третий свидетель – мадам Елизавета, сестра короля; эту двадцатидевятилетнюю энергичную девушку не так легко допрашивать, как простодушных, запуганных детей. Едва ей предъявляют протокол снятого с дофина допроса, кровь бросается в лицо оскорбленной девушки, она отшвыривает бумагу и говорит, что подобная гнусность слишком низка, чтобы удостоить ее ответа. Тогда – еще одна ужасная сцена – ей устраивают очную ставку с мальчиком. Он держится храбро и дерзко: она и его мать подбивали его на эти безнравственные поступки. Мадам Елизавета теряет самообладание. «Чудовище!» – кричит она с ожесточением, в оправданном и беспомощном гневе на этого изолгавшегося карапуза, обвиняющего ее в таких непристойностях. Но комиссары уже услышали все, что хотели услышать. Аккуратнейшим образом подготавливается и этот протокол, и Эбер с триумфом несет три документа следователю, уверенный, что отныне для современников и потомков, на вечные времена королева обличена, выставлена к позорному столбу. Патриотически выпятив грудь, он предлагает выступить в трибунале как свидетель с обвинением Марии Антуанетты в постыдном кровосмешении.
* * *
Эти показания ребенка против своей матери давно уже являются загадкой для биографов Марии Антуанетты, возможно, потому, что в анналах истории ничего подобного не найти; чтобы обойти этот подводный камень, пылкие защитники королевы пускаются в пространные объяснения, идут на искажение действительности. Эбер и Симон, которых они считают дьяволами во плоти, вступили будто бы в преступный сговор и, применяя грубую силу, принудили бедного наивного мальчика к столь позорным, постыдным обвинениям. По одной версии роялистов, при этом использовался метод кнута и пряника, по другой, такой же психологически не оправданной, мальчика опоили водкой. Его показания, данные в состоянии опьянения, не имеют поэтому никакой юридической силы. Обоим этим недоказанным утверждениям противоречит прежде всего ясное и совершенно беспристрастное описание разыгравшейся сцены очевидцем, секретарем Данжу, тем, кто вел протокол: «Молодой принц, ножки которого не достигали пола, сидел в кресле и болтал ими. Когда его спрашивали об определенных вещах, он подтверждал, что все правильно…» Все поведение дофина, скорее, проявление вызывающей, наигранной дерзости. Такое же впечатление получаешь, читая текст двух других протоколов; мальчик ведет себя совсем не так, как если бы его кто-либо принуждал к определенным ответам. Наоборот, он с детским упрямством – чувствуется известная злость и даже мстительность – добровольно повторяет чудовищные обвинения против своей тети и матери. Как это объяснить? Людям нашего поколения, более основательно, чем в прошлые времена, вооруженным научными судебно-психологическими знаниями относительно природы лживости детских показаний по сексуальным вопросам, не так уж трудно объяснить подобное, казалось бы ничем не оправданное, поведение несовершеннолетних. Прежде всего следует отбросить сентиментальную концепцию, согласно которой дофин был очень унижен фактом передачи его сапожнику Симону, что он сильно горевал по своей матери; дети поразительно быстро привыкают к новому окружению, и, каким бы кощунственным на первый взгляд это ни казалось, не исключено, что восьмилетний мальчик чувствует себя у необразованного, но добродушного Симона вольготнее, чем в башне Тампля, возле обеих вечно печальных, заплаканных женщин, целый день занимающихся с ним, заставляющих учиться и непрерывно пытающихся принудить его, как будущего roi de France[332], вести себя достойно этого звания. У сапожника же Симона маленький дофин совершенно свободен, учением, слава богу, докучают ему мало, он может играть как хочет, ничто его не заботит, никто не заботится о нем; очень и очень вероятно, что ему больше нравилось петь Карманьолу с солдатами, нежели повторять молитвы с набожной и скучной мадам Елизаветой. Ибо в каждом ребенке заложено инстинктивное стремление противодействовать навязываемой ему культуре, насильно прививаемым обычаям; среди непосредственных, необразованных людей он чувствует себя лучше, чем в сковывающих рамках воспитанности; где больше свободы, больше естественности, где меньше требований к самообузданию, – там полнее раскрывается его индивидуальность, анархическое начало его сущности. Стремление к продвижению по социальной лестнице возникает лишь с пробуждением интеллекта – до десяти же лет, а часто и до пятнадцати, едва ли не каждый ребенок из обеспеченной семьи завидует своим школьным товарищам из пролетарской среды, которым разрешено все, что запрещает ему строго оберегающее его воспитание. Внезапная, очень резкая смена обстановки, окружения обычно весьма легко воспринимается детьми; дофин очень быстро – это совершенно закономерное обстоятельство сентиментальные биографы не желают признать – освобождается из плена материнского влияния и быстро вживается в свободное, хотя и более примитивное, но для него более интересное окружение сапожника Симона; его родная сестра признаёт, что он громко распевал революционные песни; другой внушающий доверие свидетель воспроизводит до такой степени грубое высказывание дофина о матери и тете, что его и не повторить. Имеется неопровержимое показание, свидетельствующее об особой предрасположенности мальчика к фантазированию. Мать писала о ребенке четырех с половиной лет, давая его характеристику гувернантке: «Он всегда выполняет, если обещал что-нибудь, но излишне болтлив, охотно повторяет, что слышал со стороны, и, не желая солгать, часто добавляет к этому все, что благодаря его способности фантазировать кажется ему правдоподобным. Это самый большой его недостаток, и, безусловно, следует сделать все, чтобы помочь ему от этого недостатка избавиться».
Именно этой характеристикой сына Мария Антуанетта убедительно подсказывает ответ загадки. И он логически дополняется сообщением мадам Елизаветы. Хорошо известно, что пойманные с поличным дети почти всегда стараются свою вину свалить на кого-нибудь. Из инстинктивной самозащиты они в таких случаях обычно объявляют, что их кто-то соблазнил, ведь они чувствуют, что взрослые сами хотели бы освободить их от ответственности. В данном случае протокол допроса мадам Елизаветы полностью проясняет ситуацию. Она показывает – и этот факт по непонятным причинам часто глупо замалчивается, – что ее племянник действительно давно предавался этому мальчишескому пороку, и она отчетливо вспоминает, что и его мать, и она сама именно за это частенько бранили его. Вот здесь ключ к правильному ответу. Значит, и раньше мать и тетя застигали ребенка за неблаговидным занятием и, возможно, как-то наказывали его. Спрошенный Симоном, кто приохотил его к такой скверной привычке, он, само собой разумеется, связывает свой поступок с воспоминанием о том, как попался в первый раз, а затем, неизбежно, о тех, кто его за это наказывал. Непроизвольно мстит он за наказание и, не подозревая о последствиях такого свидетельства, без колебаний, пожалуй уже сам убежденный в своей правоте, выдает своих воспитателей за людей, подстрекающих его к столь постыдному занятию, или же утвердительно отвечает на наводящие вопросы. Дальнейшее очевидно и не вызывает никаких сомнений. Запутавшись однажды во лжи, ребенок не может выкарабкаться; чувствуя к тому же, что к его утверждениям прислушиваются и даже охотно верят им, он начинает понимать, что ложь спасает его, радостно соглашается со всем, что ему говорят комиссары. Едва лишь ему становится ясно, что эта версия позволяет уйти от наказания, он инстинктивно придерживается ее. Сапожник, бывший актер, художник, письмоводитель не поняли, естественно, подтекста показаний ребенка, даже квалифицированным психологам потребовалось бы потратить усилия, чтобы все-таки не ошибиться при столь недвусмысленных и ясных показаниях. В этом же особом случае следователи, кроме того, находились под влиянием массового внушения; для них, постоянных читателей листка «Папаша Дюшен», ужасное обвинение ребенка точно согласуется с инфернальным характером матери, женщины, на всю страну ославленной порнографическими брошюрками как воплощение всех пороков. Никаким преступлением, приписанным ей, сколь бы абсурдным оно ни было, не удивишь этих загипнотизированных людей. Потому-то они не взвешивают, не обдумывают основательно, а так же беспечно, как девятилетний мальчик, ставят свои подписи под самой большой подлостью, которая была когда-либо измышлена против матери.
* * *
К счастью, Марии Антуанетте, надежно изолированной в Консьержери от внешнего мира, пока ничего не известно об ужасном свидетельстве ее ребенка. Лишь за день до смерти, читая обвинительное заключение, она узнает об этом унижении. Десятилетиями, не разжимая губ, она сносила самую подлую, самую низкую клевету. Но эта страшная ложь сына, эти ни с чем не сравнимые пытки должны потрясти ее до самых глубин души. До порога смерти сопровождает ее эта мучительная мысль; за три часа до казни пишет она мадам Елизавете – той, которую мальчик, как и ее, обвинил ужасно и несправедливо: «Я знаю, сколько неприятностей Вам причинил этот ребенок; простите его, моя дорогая сестра; подумайте о его возрасте и о том, как легко сказать ребенку, что захочется, и даже то, чего он не понимает. Настанет день, я надеюсь, когда он отлично поймет всю величину Вашей ласки и Вашей нежности к ним обоим».
Эберу не удалось осуществить задуманное им, не удалось, растрезвонив по всему свету о несуществующих преступлениях против морали, обесчестить королеву; нет, топор, которым он замахнулся на королеву во время процесса, падает из рук, и очень скоро он, Эбер, почувствует весь ужас близости этого топора, занесенного над его собственной головой. Но одно ему все же удалось – смертельно ранить душу женщины, уже отданной в жертву смерти, отравить самые последние часы ее жизни.
Процесс начинается
Теперь все должно идти как по маслу: прокурор может приняться за дело. 12 октября в большом зале заседаний – первый допрос Марии Антуанетты. Напротив нее сидят Фукье-Тенвиль, Эрман, председатель трибунала, несколько писцов, с ее же стороны – никого. Ни защитника, ни секретаря, только жандарм, стерегущий ее.
Но за многие недели одиночества Мария Антуанетта собрала все свои силы. Опасность научила ее сосредоточиваться, хорошо говорить и еще лучше молчать: каждый ее ответ точен, меток и одновременно осторожен и умен. Ни на мгновение не теряет она спокойствия; даже самые глупые или самые коварные вопросы не выводят ее из равновесия. Теперь, в последние, самые последние минуты, Мария Антуанетта поняла всю ответственность своего звания, она знает: здесь, в этой полутемной комнате, где ее подвергают допросу, она должна стать королевой, которой по-настоящему не была в роскошных залах Версаля. Не маленькому незначительному адвокату, бежавшему в революцию от голода, полагающему, что он играет роль обвинителя, отвечает она здесь и не этим вырядившимся в судейские одежды нижним чинам полиции и писцам, а лишь единственно настоящему, истинному судье – Истории. «Станешь ли ты наконец тем, кто ты есть?» – писала ей, отчаявшись, двадцать лет назад Мария Терезия. Сейчас, в одной пяди от смерти, Мария Антуанетта начинает проявлять то величие, которым до сих пор владела лишь внешне. На формальный вопрос, как ее зовут, она отвечает громко и отчетливо: «Мария Антуанетта Австрийская-Лотарингская, тридцати восьми лет, вдова короля Франции». Пытаясь педантично следовать форме настоящего судопроизводства, Фукье-Тенвиль точно придерживается порядка допроса и спрашивает далее, как будто он не знает, где она жила до ареста. Нимало не выказывая иронии, Мария Антуанетта сообщает обвинителю, что ее никогда не арестовывали, что ее из Национального собрания, куда она явилась добровольно, отвезли в Тампль. Затем задаются основные вопросы, выдвигаются обвинения, сформулированные в духе газетного пафоса, в духе революции; до революции она якобы поддерживала тесные политические связи с «королем Венгрии и Богемии», «ради интриг и развлечений, в сговоре со своими гнусными министрами, безудержно транжирила народным потом добытые» финансы Франции, разрешила передать императору «миллионы, чтобы тот направил их против народа, кормившего ее».
Она якобы готовила заговор против революции, вела переговоры с иностранными агентами, побуждала своего супруга, короля, прибегать к праву вето. Все эти обвинения Мария Антуанетта отводит энергично и по-деловому. Лишь при одном, особенно неудачно сформулированном утверждении Эрмана возникает диалог.
«Это вы научили Капета искусству глубокого притворства, с помощью которого он так долго держал в заблуждении добрых французов, этот славный народ, даже не подозревавший, до какой степени можно быть низким и коварным?» На эту пустую тираду Мария Антуанетта спокойно отвечает:
– Конечно, народ самым ужасным образом введен в заблуждение, но не моим супругом и не мною.
– Кем же народ введен в заблуждение?
– Теми, кто в этом заинтересован. У нас же в этом не было ни малейшей заинтересованности.
Услышав такой двусмысленный ответ, Эрман тотчас же использует его, чтобы заставить королеву высказаться о революции. Он рассчитывает, что теперь-то будут произнесены слова, которые можно будет истолковать как враждебные республике.
– Кому же, по вашему мнению, выгодно вводить народ в заблуждение?
Но Мария Антуанетта искусно уклоняется от прямого ответа. Этого она не знает. В ее интересах было просвещать народ, а не вводить его в заблуждение.
Эрман чувствует иронию в этом ответе и, недовольный, говорит: «Вы не дали однозначного ответа на мой вопрос».
Но королева не позволяет выманить себя с оборонительной позиции: «Я говорила бы без обиняков, если бы знала имена этих личностей».
После этой первой стычки допрос опять протекает некоторое время спокойно. Ее допрашивают об обстоятельствах бегства в Варенн; она отвечает осторожно, покрывая всех тех своих тайных друзей, которых обвинитель хочет вовлечь в процесс. Только при следующем неумном обвинении Эрмана она вновь дает сильный отпор.
– Вы никогда ни на мгновение не прекращали попыток погубить Францию. Вы во что бы то ни стало желали править и по трупам патриотов вновь взобраться на трон.
На эту напыщенную бессмыслицу королева отвечает гордо и резко (зачем, зачем поручили допрос таким болванам!): ни ей, ни ее мужу никогда не было необходимости взбираться на трон, ибо они уже занимали его и ничего другого не могли желать, кроме счастья Франции.
Тут Эрман становится агрессивнее; чем больше он чувствует, что Мария Антуанетта не позволяет сбить себя с толку и не дает никакого «материала» для открытого процесса, тем яростнее громоздит он обвинения: она опоила солдат французского полка, переписывалась с иностранными дворами, виновна в развязывании войны, в том, что была подписана Пильницкая декларация[333]. Но, опираясь на факты, Мария Антуанетта опровергает все эти обвинения: Национальное собрание, а не ее супруг объявило войну, во время банкета она лишь дважды прошла по залу.
Но самые опасные вопросы Эрман припасает под конец, те, отвечая на которые королева должна либо отречься от своих собственных чувств, либо каким-нибудь высказыванием оскорбить республику. Ей задают вопросы из катехизиса государственного права:
– Как вы относитесь к военным успехам республики?
– Больше всего я желала бы счастья Франции.
– Считаете ли вы, что для счастья народа нужны короли?
– Отдельные личности не в состоянии решить эту задачу.
– Вы, без сомнения, сожалеете, что ваш сын потерял трон, на который он вступил бы, если бы народ, узнав наконец о своих правах, не разрушил его?
– Я никогда не пожелаю моему сыну того, что может принести несчастье его стране.
Да, допрашивающему явно не везет. Мария Антуанетта не могла бы выразиться более изворотливо, более иезуитски, чем на этот раз: «…не пожелаю моему сыну того, что может принести несчастье его стране», ибо этим притяжательным местоимением «его» королева, не объявляя открыто республику незаконной, прямо в лицо говорит председателю трибунала этой республики, что она, Мария Антуанетта, все еще считает Францию собственностью сына, законными владениями своего ребенка, от прав сына на корону она не отказалась даже в опасности. После этой последней стычки допрос быстро заканчивается. Спрашивают, не назовет ли она сама имя защитника для судебного разбирательства. Мария Антуанетта заявляет, что не знает адвокатов и не возражает, чтобы ее делом занялись по определению суда один или два защитника, лично ей неизвестные. В сущности безразлично – она отчетливо представляет себе это, – другом или незнакомым человеком будет ее защитник, ибо во всей Франции нет сейчас никого, кто решился бы всерьез защищать бывшую королеву. Всякий, кто открыто скажет хотя бы слово в ее пользу, тотчас же сменит кресло защитника на скамью подсудимого.
* * *
Теперь видимость законного следствия соблюдена, испытанный педант Фукье-Тенвиль может приступить к работе и готовить обвинительное заключение. Перо так и скользит по бумаге, тот, кто ежедневно пачками фабрикует обвинения, набивает руку. И все же этот маленький провинциальный юрист считает, что особый случай обязывает его к известному вдохновению: обвинительное заключение по делу королевы должно быть более торжественным, более патетичным, чем по делу какой-нибудь белошвейки, схваченной за шиворот потому, что она крикнула: «Vive le roi!» И его документ начинается крайне выспренно: «После проверки полученных от прокурора документов установлено, что, подобно Мессалине, Брунгильде, Фредегонде и Екатерине Медичи, некогда именовавшим себя королевами Франции, презренные имена которых навечно остались в анналах истории, Мария Антуанетта, вдова Людовика Капета, со своего появления во Франции была бичом и вампиром французов». После этой небольшой исторической ошибки – во времена Фредегонды и Брунгильды королевства Франции не существовало – следуют известные уже нам обвинения: Мария Антуанетта имела политические связи с лицом, именуемым «королем Венгрии и Богемии», передала миллионы императору, принимала участие в «оргии» гвардейцев, развязала гражданскую войну, побуждала устроить резню патриотов, передавала военные планы иностранным державам. В несколько завуалированной форме дается обвинение Эбера: «Будучи невероятно преступной и противоестественной в поведении, она так издевалась над своим материнским долгом и законами природы, что не устрашилась обращаться со своим сыном Louis Charles Capet столь безнравственно, что даже подумать об этом или описать это невозможно, не содрогнувшись от возмущения».
Новым и неожиданным здесь является лишь обвинение в том, что она, достигнув предела притворства и низости, дала будто бы указание печатать и распространять произведения, в которых она представлялась в невыгодном свете, с целью внушить иностранным державам мысль о том, как жестоко относятся к ней французы. Таким образом, в соответствии с концепцией Фукье-Тенвиля, Мария Антуанетта сама распространяла трибадийные памфлеты Ламотт и бесчисленное количество других пасквилей. На основании всех этих обвинений находящаяся под стражей Мария Антуанетта становится обвиняемой.
Этот документ, который шедевром юридического искусства не назовешь, с еще не просохшими чернилами, передается 13 октября защитнику Шово-Лагарду, который незамедлительно направляется к Марии Антуанетте в тюрьму. Обвиняемая и ее адвокат одновременно читают обвинительное заключение. Адвоката поражает и потрясает враждебный тон документа, Мария Антуанетта же, не ожидавшая после допроса ничего другого, остается совершенно спокойной. Но добросовестный юрист не может прийти в себя от отчаяния. Нет, просто физически невозможно за одну ночь изучить такое нагромождение обвинений и документов. Он лишь тогда сможет эффективно защищать, когда разберется во всем этом бумажном хаосе. И он настаивает на том, что королева должна ходатайствовать о трехдневной отсрочке, чтобы он мог основательно подготовить свою защитительную речь, базируясь на надежных материалах, на проверенных документах.
– К кому же я должна обратиться? – спрашивает Мария Антуанетта.
– К Конвенту.
– Нет, нет… никогда.
– Но, – настаивает Шово-Лагард, – вы не должны из-за бесполезного в данном случае чувства гордости жертвовать своей пользой. Ваш долг – сохранить жизнь не только для себя, но и ради ваших детей.
Этот довод заставляет королеву сдаться. Она пишет председателю собрания: «Гражданин председатель, граждане Тронсон и Шово, которым трибунал поручил мою защиту, обращают мое внимание на то, что они лишь сегодня приступили к исполнению своих обязанностей. Завтра я должна предстать перед судом, они же за такой короткий срок не в состоянии ни изучить материалы процесса, ни даже прочесть их. Я была бы виновата перед моими детьми, если бы не использовала все средства, ведущие к моему полному оправданию. Мой защитник ходатайствует о трех днях отсрочки. Я надеюсь, Конвент согласится на это».
Вновь поражает в этом документе духовное преображение Марии Антуанетты. Всю свою жизнь плохой дипломат, сейчас она начинает мыслить и писать как королева. Она не выступает просительницей перед Конвентом, этой высшей правовой инстанцией, она не оказывает ему такой чести даже в момент чрезвычайной опасности для своей жизни. Она не просит от своего имени – нет, лучше погибнуть! – она передает лишь просьбу третьего лица: «Мой защитник ходатайствует о трех днях отсрочки», написано там и: «Я надеюсь, Конвент согласится на это».
Конвент не отвечает. Смерть королевы – давно решенный вопрос; к чему же затягивать формальности суда? Любая задержка была бы жестокостью. На следующее утро, в восемь, начинается процесс, и каждый знает заранее, чем он кончится.
Слушание дела
Семьдесят дней, проведенных Марией Антуанеттой в Консьержери, превратили ее в старую, больную женщину. Горят покрасневшие, совсем отвыкшие от дневного света, воспаленные от слез глаза, губы поразительно бледны из-за большой потери крови (несколько последних недель она страдает от непрерывных кровотечений). Все чаще и чаще врачу приходится прописывать ей средство, укрепляющее сердце, постоянно испытывает она усталость. Но сегодня, она знает это, исторический день, сегодня она не имеет права быть усталой, никто в зале суда не должен получить повод высмеивать слабость королевы, слабость дочери императрицы Марии Терезии. Еще раз надо собрать энергию в истощенном теле, в давно уже обессиленных чувствах, а затем, затем – отдых надолго, навсегда. Только два дела осталось выполнить Марии Антуанетте на земле: мужественно защищаться и мужественно умереть.
Но, внутренне полная решимости, Мария Антуанетта хочет и внешне с достоинством выступить перед судом. Народ должен чувствовать, что стоящая сегодня перед судом женщина – из дома Габсбургов и, несмотря на все декреты о низложении, королева. Тщательнее, чем обычно, укладывает она свои поседевшие волосы, надевает сборчатую, только что накрахмаленную белую полотняную наколку, по обе стороны которой спадает траурная вуаль; как вдова Людовика XVI, последнего короля Франции, желает предстать перед судом Мария Антуанетта.
В восемь часов в большом зале собираются судьи и присяжные. Эрман, земляк Робеспьера, – председатель трибунала; Фукье-Тенвиль – прокурор. Присяжные представляют все классы общества: бывший маркиз, хирург, продавец лимонада, музыкант, печатник, бывший священник и столяр. Рядом с прокурором для наблюдения за ходом процесса садятся несколько членов Комитета общественной безопасности. Зал набит до отказа. Редкое зрелище – разве что раз в сто лет увидишь королеву на скамье подсудимых!
Мария Антуанетта спокойно входит и садится; ей не предложено, как в свое время ее мужу, мягкое, удобное кресло; простое деревянное, ничем не покрытое сиденье с подлокотниками ждет ее; и судьи – не выборные представители Национального собрания, как при торжественном публичном процессе Людовика XVI, а обычные юристы, словно ремесленники, исполняющие свои мрачные обязанности. Напрасно присутствующие ищут в изможденном, но не растерянном лице королевы какие-либо зримые следы волнения или страха. Высоко подняв голову, решительная, ждет она слушания дела. Спокойно смотрит на судей, на зал, внутренне собирается с мыслями.
Первым поднимается Фукье-Тенвиль и зачитывает обвинительный акт. Королева слушает невнимательно. Она уже знает все пункты обвинения: каждый из них был изучен ею совместно с адвокатом. Ни разу, даже при чтении самого тяжелого из пунктов обвинения, она не поднимает головы, непрерывно с безразличием перебирая пальцами по подлокотнику сиденья, «как за клавесином».
Затем следуют выступления сорока одного свидетеля, тех, которые должны дать показания в соответствии с данной ими клятвой – «без ненависти и страха правду, всю правду и одну только правду». Так как процесс готовился в спешке – у него, у бедняги Фукье-Тенвиля, работы в эти дни было по горло, на очереди жирондисты, мадам Ролан и сотни других, – обвинения рассматриваются без системы, беспорядочно, без временной или логической связи друг с другом. Свидетели говорят то о событиях 6 октября в Версале, то о событиях 10 августа в Париже, о преступлениях, свершенных во время революции или до нее. Показания в своем большинстве несущественные, иные же из них просто смехотворны: служанка Мило, например, слышала, как в 1788 году герцог Койиньи кому-то сказал, что королева приказала переслать своему брату двести миллионов или, еще того глупее, будто Мария Антуанетта всегда носила при себе два пистолета, чтобы убить герцога Орлеанского. Правда, двое свидетелей под присягой показали, что видели денежные переводы королевы, однако оригиналы этих крайне важных для процесса документов суду представлены не были, так же как письмо, якобы собственноручно написанное Марией Антуанеттой и предназначенное командиру швейцарской гвардии: «Можно ли рассчитывать на Ваших гвардейцев, будут ли они в соответствующем случае стойко держаться?» Ни одного листка бумаги с собственноручными записями Марии Антуанетты у суда нет, и даже опечатанный конверт с ее вещами, конфискованными в Тампле, не содержит никаких улик. Локоны волос мужа и детей, миниатюрные портреты принцессы Ламбаль и подруги детства, ландграфини Гессен-Дармштадтской, в записной книжке королевы – фамилии ее врача и прачки; ничего, абсолютно ничего, что могло бы подтвердить хоть какой-нибудь пункт обвинения. Поэтому прокурор все время пытается вернуться к обвинениям общего характера, но королева, на этот раз подготовленная, отвечает еще решительнее и осторожнее, чем на предварительном допросе. Завязывается, например, следующий диалог:
– Где вы брали деньги для расширения Малого Трианона, для его меблировки, для устройства в нем пышных празднеств?
– Для этих расходов был выделен определенный фонд.
– Этот фонд должен был быть значительным, так как Малый Трианон стоил колоссальных сумм.
– Весьма возможно, что Малый Трианон стоил колоссальных сумм, и, вероятно, даже больших, чем мне хотелось на него потратить. Расходы росли и росли. Впрочем, я хотела бы больше, чем кто-либо другой, чтобы в этот вопрос была внесена ясность.
– Не в Малом ли Трианоне вы впервые увидели мадам Ламотт?
– Я ее никогда не видала.
– Не была ли она вашей жертвой в этой пресловутой афере с колье?
– Нет, так как я ее не знала.
– Вы, следовательно, продолжаете отпираться от знакомства с ней?
– Не в моих правилах отпираться. Я сказала правду и впредь буду говорить только ее.
* * *
Если и можно было бы хоть на что-нибудь надеяться, то основания к этому у Марии Антуанетты должны бы появиться, так как в большинстве показания свидетелей оказались несостоятельными. Ни один из тех, кого она боялась, не смог ни в чем серьезном уличить ее. Все сильнее становится ее самозащита. Когда прокурор заявляет, что бывший король под ее влиянием делал все, что она желала, она отвечает: «Это очень разные вещи – советовать кому-либо или заставлять делать». Когда в ходе разбора дела председатель указывает ей на то, что ее показания противоречат объяснениям ее сына, она говорит презрительно: «От восьмилетнего ребенка легко получить любые показания». На действительно опасные вопросы она отвечает, прикрываясь осторожными выражениями: «Этого я не знаю», «Не могу вспомнить». Ни разу не дает она Эрману повода изобличить себя в явной лжи или в противоречиях, ни разу за долгие часы слушания дела напряженно внимающей аудитории не представляется возможности выразить ей свою неприязнь враждебными криками, свистом, патриотическими рукоплесканиями. Разбор дела движется медленно, с большими задержками, подчас топчется на месте. Наступает момент нанести решающий удар, выдвинуть обвинение, действительно опасное для подсудимой. С этой сенсацией – со страшным обвинением в кровосмешении – должен выступить Эбер.
Он выступает. Решительно, убежденно, громким, внятным голосом повторяет он чудовищное обвинение. Но вскоре замечает, что невероятность сказанного очевидна, что ни один человек в зале суда ни одним возгласом возмущения не проявляет чувства отвращения к этой безнравственной матери, к этой женщине, потерявшей человеческий облик; люди в зале сидят безмолвные, бледные, пораженные. Тогда жалкий убийца решает преподнести аудитории еще одно, особо рафинированное психолого-политическое разъяснение. «Можно предположить, – заявляет этот неумный человек, – что преступное поведение вызвано не стремлением к удовлетворению похоти, а политическими мотивами – желанием физически ослабить ребенка. Вдова Капет надеялась, что ее сын когда-нибудь станет королем Франции, и подобными кознями она рассчитывала обеспечить себе влияние на него».
Поразительно, но и при этой беспрецедентно глупой интерпретации слушатели озадаченно безмолвствуют. Мария Антуанетта тоже молчит и презрительно смотрит мимо Эбера. Безразлично, как будто бы этот злобный болван говорил по-китайски, не дрогнув ни единым мускулом, сидит она прямо и неподвижно. И председатель трибунала Эрман ведет себя так же, словно он не слышал всего этого обвинения. Он намеренно забывает спросить, не желает ли возразить Эберу оклеветанная мать, – он уже понял, какое мучительно неприятное впечатление на всех слушателей, в особенности на женщин, произвело это обвинение в кровосмешении, и поспешно кладет его под сукно. На беду, один из присяжных имеет нескромность напомнить: «Гражданин председатель, я обращаю ваше внимание на то, что обвиняемая не высказалась о своих взаимоотношениях с сыном, о которых гражданин Эбер доложил суду».
Председателю не отмолчаться. Хотя ему это и не по душе, он обязан поставить вопрос перед обвиняемой. Мария Антуанетта порывисто вскидывает голову. «Вероятно, обвиняемая сильно взволнована», – говорит, вообще-то, обычно хладнокровный председательствующий. «Если я не возразила, то потому лишь, что природа сопротивлялась отвечать на подобное обвинение против матери. Я взываю ко всем матерям, которые находятся здесь», – говорит обвиняемая громко с невыразимым презрением.
И действительно, нарастающий шум, сильное волнение прокатывается по залу. Женщины из народа – работницы, рыбачки, рыночные торговки – поражены; затаив дыхание, связанные друг с другом какими-то таинственными узами, они чувствуют: вместе с этой женщиной жестоко оскорблены все они, все женщины. Председатель молчит, тот злосчастный присяжный опускает глаза: страдания и гнев, прозвучавшие в голосе оболганной женщины, тронули всех. Безмолвно выходит из-за барьера Эбер, возвращаясь на свое место, не очень-то довольный эффектом своего выступления. Все чувствуют, и, вероятно, он тоже, что в тяжелый для королевы час это страшное обвинение способствует ее моральному торжеству. То, что должно было унизить ее, возвысило.
Робеспьер, в тот же день узнавший о случившемся, не может преодолеть вспышки гнева. Он, единственный политический гений среди этих шумных народных агитаторов, сразу понимает, какой дикой глупостью было вынесение на публичный суд обвинения девятилетнего ребенка против матери, – обвинения, подписанного мальчиком либо из страха, либо под влиянием чувства собственной вины. «Этот болван Эбер, – говорит Робеспьер в ярости своим друзьям, – обеспечил ей триумф». Давно уже Робеспьер устал от этого распутного парня, порочащего великое дело революции своей вульгарной демагогией, своими анархистскими замашками; в тот же день он решает уничтожить это грязное пятно. Камень, брошенный Эбером в Марию Антуанетту, попадает в него самого и несет ему смерть. Несколько месяцев спустя и он отправится в последний свой путь в той же телеге, той же дорогой, что и она, но совсем не так мужественно; и его товарищ, Ронсен, вынужден будет подбодрить его: «Когда надо было действовать, ты только болтал языком. Сумей хоть умереть красиво».
* * *
Мария Антуанетта почувствовала свое торжество. Но она услышала возглас из зала: «Смотри, какая гордячка!» Поэтому она спрашивает своего защитника: «Не слишком ли много достоинства вложила я в ответ?» Но тот успокаивает ее: «Мадам, оставайтесь собою, и это будет превосходно». Еще один день предстоит Марии Антуанетте бороться; тяжело, с трудом тянется процесс, утомляя участников и слушателей; несмотря на то что королева истощена потерей крови и ничем, кроме чашки бульона, в перерывах себя не подкрепляет, дух ее не сломлен, манера держать себя остается прежней. «Трудно представить себе, – пишет защитник в своих воспоминаниях, – какие силы души понадобились королеве, чтобы выдержать напряжение столь долгих, столь ужасных заседаний: на подмостках, перед всем народом, в борьбе с кровожадным противником находить средства, чтобы уйти от расставляемых им тенет и ловушек и при этом сохранить достоинство, чувство меры, оставаться самой собой». Пятнадцать часов борется она в первый день, более двенадцати – во второй, пока наконец председатель не объявляет допрос законченным и задает подсудимой вопрос, не желает ли она в свое оправдание сказать что-либо дополнительно. С чувством собственного достоинства Мария Антуанетта отвечает: «Вчера я еще не слышала свидетелей, я не знала, в чем они будут обвинять меня. Но ни один из них не смог выдвинуть против меня ни одного факта. Я ничего не желаю сказать, кроме того, что я была лишь супругой Людовика XVI и поэтому должна была подчиняться всем его решениям».
Встает Фукье-Тенвиль и резюмирует мотивы обвинения. Оба назначенных защитника выступают весьма осторожно: они, вероятно, помнят, что перед адвокатом Людовика XVI, энергично защищавшим короля, возник страшный призрак гильотины; поэтому они предпочитают взывать к милосердию народа, а не доказывать невиновность королевы. Марию Антуанетту выводят из зала. Председатель задает присяжным вопросы. Теперь он точен и краток, никакого фразерства, никаких громких слов: оставляя в стороне сотни неясных и путаных обвинений, он четко формулирует свои вопросы. Народ Франции обвиняет Марию Антуанетту, так как все политические события, происшедшие за последние пять лет, свидетельствуют против нее. Поэтому он ставит присяжным четыре вопроса.
Первый. Доказано ли, что имеются тайные соглашения и договоренности с иностранными державами и врагами республики – передать им денежные средства, пропустить на французскую территорию и поддержать их в вооруженной борьбе против республики?
Второй. Уличена ли Мария Антуанетта Австрийская, вдова Капет, в том, что она принимала участие в этих интригах и поддерживала подобные соглашения и договоренности?
Третий. Доказано ли, что имел место заговор с целью развязать в стране гражданскую войну?
Четвертый. Уличена ли Мария Антуанетта Австрийская, вдова Капет, в том, что она участвовала в этом заговоре?
Молча поднимаются присяжные и удаляются в соседнюю комнату на совещание. Уже далеко за полночь. Неровно горят свечи в душном, переполненном зале, беспокойно от напряжения и любопытства бьются сердца.
* * *
Возникает вопрос: как следовало бы присяжным ответить по справедливости? В своем заключительном заявлении председатель отмел политическую шелуху процесса и все обвинение свел по существу к одному: присяжных не спросили, считают ли они Марию Антуанетту неверной женой, кровосмесительницей, распутной, расточительной женщиной, – их спросили только об одном: была ли бывшая королева связана с иностранными державами, хочет ли она победы вражеских армий, желает ли восстания в стране и помогла бы ему?
Виновна ли в правовом смысле Мария Антуанетта в этих преступлениях, уличена ли в них? Это вопрос, на который нужно дать два ответа. Без сомнения, Мария Антуанетта – и в этом сила процесса – была действительно виновна, в понимании республики. Она поддерживала, как мы знаем, постоянные связи с державами, враждебными Франции. Она, в полном соответствии с формулировкой обвинения, действительно совершила государственную измену, передав военные планы наступления французских армий австрийскому посланнику, она изыскивала и использовала всякие законные и незаконные средства, чтобы вернуть свободу и трон своему супругу.
Обвинение, следовательно, право. Но – здесь слабость процесса – абсолютно никаких доказательств всему этому нет. Сейчас известны и опубликованы документы, однозначно уличающие Марию Антуанетту в государственной измене против республики; они лежат в Венском государственном архиве в бумагах Ферзена. Но этот процесс велся 14–15 октября 1793 года в Париже, и тогда ни один из этих документов не был доступен обвинению. На протяжении всего процесса присяжным не была предъявлена ни одна бумага, которая имела бы законную силу и подтверждала бы государственную измену Марии Антуанетты.
Честные, непредвзятые присяжные оказались бы, таким образом, в положении весьма затруднительном. Если следовать гражданскому чутью, эти двенадцать республиканцев, безусловно, должны были признать Марию Антуанетту виновной, ибо никто из них не сомневался: эта женщина – смертельный враг республики, она делала все, что могла, чтобы вернуть своему сыну всю полноту королевской власти. Но если держаться буквы закона, то он окажется на стороне королевы, так как процесс не дал фактических подтверждений ее виновности. Как республиканцы, они должны признать королеву виновной; как присяжные, связанные клятвой, они обязаны следовать закону, не признающему вину, если она не доказана. Но, к счастью, конфликт с совестью не угрожает этим обывателям. Они знают, Конвент не требует от них приговора, вынесенного в полном соответствии с законом. Он послал их не для того, чтобы решать, виновна она или нет, а для того, чтобы они осудили эту опасную для государства женщину. Они должны либо отдать голову Марии Антуанетты, либо лишиться своих голов. Вот почему эти двенадцать совещаются лишь для видимости, и если на обдумывание ответов у них и ушло некоторое время, то только затем, чтобы у сидящих в зале создалось соответствующее впечатление. Ответы же были давно предопределены.
* * *
В четыре часа утра присяжные молча возвращаются в зал. Мертвая тишина зала встречает их. Единогласно признают они Марию Антуанетту виновной в измене. Председатель Эрман предупреждает немногих присутствующих (уже очень поздно, усталые люди почти все разошлись по домам): не должно быть никаких проявлений одобрения приговору. Вводят Марию Антуанетту. Она единственная, стойко борющаяся второй день с восьми утра, не имеет права быть усталой. Ей зачитывают решение присяжных. Фукье-Тенвиль требует смертной казни; его предложение принимается единогласно. Затем председатель спрашивает приговоренную, не обжалует ли она приговор.
Мария Антуанетта слушает заключение присяжных и приговор совершенно спокойно, без видимых следов волнения. Никаких признаков страха, гнева, слабости. На вопрос председателя она не отвечает ни слова, лишь отрицательно качает головой. Не оборачиваясь, ни на кого не глядя, при общем глубоком молчании она выходит из зала, спускается по ступеням; она устала от этой жизни, от этих людей и в высшей степени счастлива, что все эти унизительные мучения кончаются. Теперь важно лишь одно – сохранить силы для последнего часа.
На мгновение слабеющие глаза отказывают ей, в темном коридоре нога не находит ступеньки; покачнувшись, Мария Антуанетта едва не падает. Ее быстро подхватывает жандармский офицер, лейтенант де Бюсн, единственный, кому достало мужества во время слушания дела подать ей стакан воды. За это, да еще за то, что он держал шляпу в руке, провожая обреченную на смерть, другой жандарм пишет на него донос, и де Бюсн вынужден защищаться: «Я сделал это лишь для того, чтобы предотвратить падение, и ни один здравомыслящий человек не усмотрит в этом иных причин, ведь, если бы она упала на лестнице, меня же обвинили бы в заговоре и измене». Обоих защитников королевы после слушания дела сразу берут под стражу; их обыскивают, не передала ли им королева тайно какую-либо записку; судьи, эти убогие душонки, смертельно боятся несокрушимой энергии женщины, стоящей у края могилы.
Но женщина, принесшая судьям столько страхов и забот, несчастная, смертельно усталая, истекающая кровью, она ничего более не знает об этой жалкой возне; спокойно и невозмутимо возвращается она в свою тюремную камеру. Теперь ей осталось жить считаные часы.
* * *
В маленькой камере на столе горят две свечки. Смертница получила право на них как на последнюю милость, чтобы ночь перед вечной ночью не провести в темноте. И еще в одном не осмелились отказать до сих пор чрезмерно осторожные тюремщики: Мария Антуанетта требует бумагу и чернила для письма; из своего последнего сурового одиночества она хочет послать несколько слов тем, кто думает, кто тревожится о ней. Сторож приносит чернила, перо и сложенный вдвое лист бумаги, и, в то время как в зарешеченном окне занимается день, Мария Антуанетта, собрав последние силы, начинает свое последнее письмо.
О последних мыслях непосредственно перед смертью Гёте как-то сказал поразительные слова: «В конце жизни собранному и сконцентрированному духу открываются такие мысли, которые трудно даже себе представить; они подобны блаженным духам, спускающимся в сиянии на вершины прошлого». Таким таинственным сиянием расставания озарено это последнее письмо смертницы; никогда до сих пор Мария Антуанетта не сосредоточивала так полно и с такой решительной ясностью свои сокровенные мысли, как в этом прощальном письме к мадам Елизавете, сестре своего супруга, теперь единственно близкому человеку ее детей. Написанные почти мужским почерком на маленьком, жалком столе тюремной камеры, строки этого письма выглядят тверже, увереннее, чем на записочках, что выпархивали с золоченого письменного столика в Трианоне; здесь стиль – строже, чувства – откровеннее, как будто некий внутренний ураган разорвал, развеял перед смертью тучи, так долго не позволявшие этой трагической женщине увидеть свои глубины. Она пишет:
«16 сего октября, 4½ часа утра.
Вам, сестра моя, я пишу в последний раз. Меня только что приговорили не к позорной смерти – она позорна лишь для преступников, – а к возможности соединиться с Вашим братом; невинная, как и он, я надеюсь проявить ту же твердость духа, какую он проявил в свои последние мгновения. Я спокойна, как бывают спокойны люди, когда совесть ни в чем не упрекает; мне глубоко жаль покинуть моих бедных детей; Вы знаете, что я жила только для них; а в каком положении я оставляю Вас, моя добрая и нежная сестра, Вас, пожертвовавшую по своей дружбе всем, чтобы быть с нами! Из речей на процессе я узнала, что мою дочь разлучили с Вами: увы! Бедное дитя, я не осмеливаюсь писать ей, так как она не получит моего письма; я не знаю даже, дойдет ли это письмо до Вас.
Примите здесь мое благословение для них обоих. Я надеюсь, что когда-нибудь, когда они подрастут, они смогут соединиться с Вами и вполне насладиться Вашими нежными заботами. Пусть они оба думают о том, что́ я не переставала им внушать: что первой основой жизни являются принципы и точное выполнение своих обязанностей; что их обоюдная дружба и доверие составят их счастие; пусть моя дочь поймет, что в ее возрасте она должна помогать своему брату советами, какие смогут ей внушить ее больший опыт и ее дружба.
Пусть мой сын, в свою очередь, выказывает своей сестре все заботы и оказывает все услуги, какие только может внушить дружба; пусть, наконец, они оба почувствуют, что, в каком бы положении и где бы ни оказались они, только в своем единении они будут действительно счастливы.
Пусть они берут пример с нас! Сколько утешения в наших несчастиях дала нам наша дружба! А в счастии вы наслаждаетесь им вдвойне, когда можете разделить его с другом; и где вы найдете более нежного, более близкого друга, чем в своей собственной семье?
Пусть мой сын никогда не забывает последних слов своего отца, которые я особенно горячо повторяю ему, – пусть он никогда не будет стремиться мстить за нашу смерть.
Мне надо сказать Вам об одной очень тяжелой для моего сердца вещи. Я знаю, сколько неприятностей Вам причинил этот ребенок; простите его, моя дорогая сестра; подумайте о его возрасте и о том, как легко сказать ребенку, что захочется, и даже то, чего он не понимает. Настанет день, я надеюсь, когда он отлично поймет всю величину Вашей ласки и Вашей нежности к ним обоим.
Мне остается еще доверить Вам мои последние мысли; я хотела было записать их с начала процесса, но, помимо того что мне не давали писать, ход процесса был так стремителен, что у меня для этого действительно не было времени.
Я умираю, исповедуя апостолическую римско-католическую религию, религию моих отцов, в которой я была воспитана и которую я всегда исповедовала, – умираю, не ожидая никакого духовного напутствия, не зная даже, существуют ли здесь еще пастыри этой религии; и даже то место, где я нахожусь, подвергло бы их слишком большой опасности, если бы они хоть раз вошли сюда.
Я искренне прошу прощения у Бога во всех грехах, содеянных мною с первого дня моего существования. Я надеюсь, что по своей благости Он примет мои последние моления, равно как и те, что я уже давно шлю Ему, чтобы Он соблаговолил присоединить мою душу к своему милосердию и благости.
Я прошу прощения у всех, кого я знаю, и особенно у Вас, моя сестра, за все те обиды, которые, помимо моего желания, я могла нанести.
Всем моим врагам я прощаю зло, которое они мне причинили.
Здесь я прощаюсь с моими тетками и со всеми моими братьями и сестрами.
У меня были друзья; мысль о том, что я разлучаюсь навсегда с ними и с их горестями, вызывает одно из самых глубоких сожалений, которое я уношу с собой в час смерти. Пусть, по крайней мере, они знают, что до последней минуты я думала о них.
Прощайте, моя добрая и нежная сестра; о, если бы это письмо дошло до Вас! Думайте всегда обо мне; от всего сердца я обнимаю Вас и этих бедных и дорогих детей.
Боже мой! Как мучительно покинуть их навсегда! Прощайте, прощайте! Я хочу заняться только своими духовными обязанностями.
Так как я не свободна в своих действиях, то, может быть, ко мне приведут священника, но я заявляю здесь, что я не скажу ему ни слова и поступлю с ним как с существом, совершенно чуждым для меня».
Письмо внезапно обрывается без заключительной фразы, без подписи[334]. Вероятно, усталость одолела Марию Антуанетту. На столе все еще горят, мерцая, обе восковые свечки, их пламя, возможно, переживет человека, написавшего письмо при его свете.
* * *
Это письмо из предсмертной тьмы не попало почти ни к кому из тех, кому было адресовано. Незадолго до прихода палача Мария Антуанетта отдает его тюремщику Болу для передачи золовке; у Бола хватило человечности дать ей бумагу и перо, но недостало мужества доставить адресату это завещание, не испросив на то позволения начальства (чем больше видишь, как головы катятся с плахи, тем сильнее трясешься за свою). Итак, в соответствии с установленным порядком, он вручает письмо судебному следователю Фукье-Тенвилю, тот визирует его, но никуда не переотправляет. И поскольку два года спустя наступает черед Фукье занять место в телеге, которую он посылал в Консьержери за очень многими, письмо исчезает; никто в мире и не подозревает о его существовании, за исключением одной весьма незначительной личности по имени Куртуа. Этому депутату без чина и с мелкой душой Конвент после ареста Робеспьера поручает привести в порядок бумаги трибуна и издать их. При таких вот обстоятельствах бывшего сапожника, делавшего некогда сабо, осеняет блестящая мысль: лицо, присвоившее секретные государственные бумаги, должно обладать огромной властью. И действительно, все скомпрометированные чиновники начинают заискивать перед тем самым маленьким Куртуа, которого прежде и не замечали; за возвращение писем, когда-то написанных Робеспьеру, предлагаются огромные выкупы. Значит, отмечает про себя этот торгаш, следует припрятать побольше разных рукописей, авось пригодятся. Используя всеобщий хаос, он похищает огромное количество документов Революционного трибунала и начинает ими торговать; лишь письмо Марии Антуанетты, попавшее к нему при данных обстоятельствах в руки, он откладывает в сторону. Кто знает, думает лукавец, в такие времена может случиться всякое; возможно, столь драгоценный секретный документ очень пригодится, если ветер подует в другую сторону. Двадцать лет скрывает он украденный документ, и, действительно, ветер переменился. Снова на троне Франции Бурбон, Людовик XVIII; régicides[335], те самые, которые голосовали за смертную казнь его брата, Людовика XVI, начинают чувствовать, что по ним плачет веревка. Чтобы добиться благосклонности, Куртуа преподносит Людовику XVIII в подарок это будто бы спасенное им письмо Марии Антуанетты, сопровождая его ханжеским посланием. Этот трюк ему не помогает. Куртуа, подобно другим, ссылают. Но письмо спасено. Через двадцать один год после того, как Мария Антуанетта отправила удивительное прощальное письмо, его читают близкие королевы.
Но слишком поздно! Почти все, кому Мария Антуанетта в свой смертный час посылала слова привета, последовали за ней. Мадам Елизавета кончила свою жизнь на гильотине, сын королевы либо действительно умер в Тампле (до сих пор мы не знаем правды), либо блуждал по белу свету под чужим именем[336], неопознанный, ничего не знавший о своем происхождении. И до Ферзена не дошло последнее «прости» любящей женщины. Не было в письме упомянуто его имя, и все же кому, как не ему, адресованы эти взволнованные строки: «У меня были друзья; мысль о том, что я разлучаюсь навсегда с ними и с их горестями, вызывает одно из самых глубоких сожалений, которое я уношу с собой в час смерти». Чувство долга удержало ее от того, чтобы назвать самого близкого, самого дорогого ей человека. Но она надеялась, что когда-нибудь эти строки увидит ее возлюбленный и прочтет не написанные ею слова, узнает, что до последнего вздоха она думала о его беззаветной преданности. И – таинственное действие чувства на расстоянии – как будто бы он ощущал ее желание видеть его возле себя в последний свой час: его дневник при получении известия о ее смерти на магический зов из небытия отвечает записью: «Самое большое горе в том, что она в последние мгновения своей жизни была совершенно одинока, никого не было возле нее для утешения, никого – с кем она могла бы поговорить». Как она о нем, так и он о ней думает в горьком одиночестве.
Отделенные друг от друга расстоянием и каменными стенами, невидимые друг другу, недосягаемые друг для друга, дышат обе души в одни и те же секунды одним желанием; вне времени и пространства в парении над сферами слились их воспоминания – как губы сливаются в поцелуе.
* * *
Мария Антуанетта отложило перо. Самое тяжелое – позади: простилась со всеми и вся. Теперь отдохнуть считаные минуты; вытянувшись, расслабив члены, собрать силы. Не так уж много осталось ей в жизни. Только одно – умереть, и умереть достойно.
Последний путь
В пять утра, когда Мария Антуанетта еще пишет свое последнее письмо, во всех сорока восьми секциях Парижа уже бьют барабаны. В семь – на ногах гарнизон города, заряженные пушки блокируют мосты и уличные магистрали, вооруженные отряды с примкнутыми штыками патрулируют город, кавалерия образует шпалеры – солдаты, солдаты, солдаты, и все это из-за одной-единственной женщины, которая сама ничего более не желает, как только смерти. Часто власть боится жертву больше, чем жертва – власть. В семь часов судомойка тюремного надзирателя тихонько пробирается в тюремную камеру. На столе все еще горят обе восковые свечи, в углу угадывается силуэт бдительного жандармского офицера. Сначала Розали не видит королевы, затем, испуганная, замечает: полностью одетая, в черном вдовьем платье, Мария Антуанетта лежит на кровати. Она не спит. Она очень устала, изнуренная постоянными кровотечениями.
Маленькая сердобольная крестьянка стоит дрожа от жалости, полная сострадания к смертнице, к своей королеве. «Мадам, – говорит она взволнованно, – вы вчера вечером ничего не ели и весь день – почти ничего. Что подать вам сейчас?»
«Дитя мое, мне больше ничего не нужно, для меня все кончено», – не поднимаясь, отвечает королева. Но так как девушка еще раз настойчиво предлагает ей суп, который приготовила специально для нее, истощенная женщина говорит: «Хорошо, Розали, принесите мне бульон». Она ест немного, затем девушка начинает помогать ей при переодевании. Марию Антуанетту настоятельно просили не идти к эшафоту в черном траурном платье, в котором она была на процессе, – одежда вдовы была бы вызовом толпе. Мария Антуанетта – что значит для нее теперь то или иное платье! – не противится, она наденет легкое белое платье.
Но и в эти последние минуты ей уготовано последнее унижение. За эти дни королева потеряла много крови, все ее рубашки испачканы. Желание идти в последний путь физически чистой естественно, и поэтому она хочет надеть свежее белье и просит жандармского офицера, дежурящего в камере, выйти. Но, имея строгий приказ не спускать с нее глаз, он заявляет, что не имеет права оставить пост. И королева переодевается скорчившись, в узком пространстве между кроватью и стеной, а маленькая судомойка загораживает собой ее наготу. Но окровавленная рубашка – куда ее деть? Женщине стыдно оставить белье в пятнах на глазах у чужого человека – для любопытных и нескромных взоров тех, которые через несколько часов придут сюда делить ее пожитки. Она скатывает белье в комок и засовывает его за печку.
Королева одевается с особой тщательностью. Более года не была она на улице, не видела над собой просторного, свободного неба; пусть в этот последний свой выход она будет прилично и опрятно одета, и не женское тщеславие диктует ей такое решение, а чувство ответственности за сохранение достоинства в этот исторический час. Тщательно поправляет она свое белое платье, накидывает легкий муслиновый платок, выбирает лучшие туфли; поседевшие волосы прячет в двукрылый чепец.
В восемь утра стучат в дверь. Нет, это еще не палач. Это лишь его предвестник – священник, но один из тех, кто присягнул республике. Королева вежливо отказывается исповедаться ему, она признает служителем Бога лишь священника, не связанного присягой, и на его вопрос, может ли он проводить ее в последний путь, отвечает безразлично: «Как вам угодно».
Это кажущееся безразличие является в известной степени защитной стеной, за которой Мария Антуанетта готовит свою внутреннюю решимость, так необходимую ей для последнего пути. Когда в десять часов в камере появляется молодой мужчина гигантского роста, палач Сансон, чтобы обрезать ей волосы, она не оказывает никакого сопротивления, спокойно дает себе связать руки за спиной. Она знает: жизнь не спасти, спасти можно лишь честь. Ни перед кем не обнаружить свою слабость! Сохранить стойкость и всем, кто желает увидеть королеву в унижении, показать, как умирает дочь Марии Терезии.
* * *
Около одиннадцати часов ворота Консьержери открываются. Возле тюрьмы стоит телега палача, нечто вроде фуры, в которую впряжена могучая лошадь, битюг. Людовик XVI к месту казни следовал торжественно – в закрытой королевской карете, защищенной застекленными окнами от причиняющих мучения выпадов ненависти и грубости зевак. За это время революция в своем стремительном развитии ушла очень далеко: теперь она требует равенства даже в шествии к гильотине, король не должен умирать с большими удобствами, чем любой другой гражданин, телега палача достаточно хороша для вдовы Капет. Сиденьем служит доска: и мадам Ролан, Дантон, Робеспьер, Фукье, Эбер – все, кто послал Марию Антуанетту на смерть, – свой последний пусть совершат, сидя на такой вот ничем не прикрытой доске; ненамного осужденная опередила своих судей.
Сначала из мрачного коридора Консьержери выходят офицеры, за ними – рота солдат охраны с ружьями наизготове, затем спокойно, уверенно идет Мария Антуанетта. Палач Сансон держит ее на длинной веревке, одним концом ее руки связаны за спиной, как будто существует опасность, что жертва, окруженная охраной и солдатами, убежит. Люди, стоящие у тюрьмы, ошеломлены этим неожиданным и бессмысленным унижением. Толпа встречает осужденную глубоким молчанием, безмолвно следят собравшиеся за тем, как королева идет к телеге. Там Сансон предлагает ей руку, помогая сесть. Возле нее размещается священник Жерар в светской одежде, палач же в телеге остается стоять с неподвижным лицом, с веревкой в руке: равнодушный и бесстрастный, каждый день перевозит он свой груз на другой берег жизни, словно Харон – души умерших. Но на этот раз он и его помощники весь путь держат свои треуголки под мышкой, как бы извиняясь за свою мрачную работу перед беззащитной женщиной, которую они везут на эшафот.
* * *
Жалкая телега, тарахтя, медленно движется по мостовой. Умышленно медленно, ибо каждый должен насладиться единственным в своем роде зрелищем. Любую выбоину, любую неровность скверной мостовой физически ощущает сидящая на доске королева, но бледное лицо ее с красными кругами под глазами неподвижно. Сосредоточенно смотрит перед собой Мария Антуанетта, ничем не выказывая тесно обступившим ее на всем пути зевакам ни страха, ни страданий. Все силы души концентрирует она, чтобы сохранить до конца спокойствие, и напрасно ее злейшие враги следят за нею, пытаясь обнаружить признаки отчаяния или протеста. Ничто не приводит ее в замешательство: ни то, что у церкви Святого Духа собравшиеся женщины встречают ее выкриками глумления, ни то, что актер Граммон, чтобы создать соответствующее настроение у зрителей этой жестокой инсценировки, появляется в форме национального гвардейца верхом на лошади у телеги смертницы и, размахивая саблей, кричит: «Вот она, эта гнусная Антуанетта! Теперь с ней будет покончено, друзья мои!» Ее лицо остается неподвижным, ее глаза смотрят вперед, кажется, что она ничего не видит и ничего не слышит. Из-за рук, связанных сзади, тело ее напряжено, прямо перед собой глядит она, и пестрота, шум, буйство улицы не воспринимаются ею, она вся – сосредоточенность, смерть медленно и неотвратимо овладевает ею. Плотно сжатые губы не дрожат, ужас близкого конца не лихорадит тело; вот сидит она, гордая, презирающая всех, кто вокруг нее, воплощение воли и самообладания, и даже Эбер в своем листке «Папаша Дюшен» на следующий день вынужден будет признать: «Впрочем, распутница до самой своей смерти осталась дерзкой и отважной».
* * *
На углу улицы Сент-Оноре, на том месте, где сейчас находится кафе «Режанс», процессию ждет человек с листом бумаги и карандашом в руке. Это Луи Давид, едва ли не самый малодушный человек, едва ли не самый великий художник своего времени. При революции самый громкий среди крикунов, он служит могущественным, пока те у власти, тотчас же покидая их, едва они оказываются в опасности. Он рисует Марата на смертном одре, восьмого термидора патетически клянется Робеспьеру вместе с ним «испить горькую чашу страданий до дна», но девятого, на роковом заседании, уже не испытывает этой героической жажды: вчерашний смельчак предпочитает отсидеться дома и таким образом благодаря своей трусости избегает гильотины. При революции озлобленный враг тирании, он первым перебежит к новому диктатору и, запечатлев на полотне коронацию Наполеона, обменяет свою ненависть к аристократии на титул барона. Образец вечного перебежчика к сильным мира сего, угодничающий перед преуспевающими, безжалостный к побежденным, он изображает победителя – при коронации, потерпевшего поражение – на дороге к эшафоту. Он подстережет и Дантона на такой же телеге, на которой сейчас везут Марию Антуанетту, и тот, зная его низость, бросит ему хлесткое и презрительное: «Лакейская душа!»
Но этот человек с жалким, трусливым сердцем и рабской душой обладает зорким глазом и верной рукой великого художника. Несколькими беглыми штрихами на листке бумаги он схватит и сбережет человечеству образ королевы на пути к эшафоту, создаст поразительный по своей эмоциональности набросок, с какой-то сверхъестественной силой вырванный из живой, пульсирующей жизни. На нем – постаревшая женщина, уже утратившая красоту, но сохранившая гордость. Губы высокомерно сжаты, как бы сдерживая вопль души, глаза безучастны и холодны; с руками, связанными позади, сидит она на телеге палача с независимым, вызывающим видом, словно на троне. Невыразимое презрение – в каждой линии окаменевшего лица, непоколебимая решимость – в истинно королевской осанке. Терпение, переплавленное в упорство, страдания, ставшие внутренней силой, – все это придает измученной женщине новое и жуткое величие, – величие, с которым она поразительной манерой держать себя преодолевает бесчестье этой телеги позора.
* * *
Громадная площадь Революции, теперешняя площадь Согласия, черна от народа. Десятки тысяч людей на ногах с самого раннего утра, чтобы не пропустить редчайшее зрелище, увидеть, как королеву – в соответствии с циничными и жестокими словами Эбера – «отбреет национальная бритва». Толпа любопытных ждет уже много часов. Болтают с хорошенькой соседкой, смеются, обмениваются новостями, покупают у разносчиков газеты или листки с карикатурами, перелистывают только что появившиеся брошюры: «Les adieux de la reine à ses mignons et mignonnes»[337] или «Grandes fureurs de la ci-devant reine»[338]. Загадывают, шепчутся, чья голова завтра или послезавтра упадет здесь в корзину, пьют лимонад, жуют бутерброды, грызут сухари, щелкают орехи. Представление стоит того, чтобы подождать его.
Над этой сутолокой волнующейся черной массы любопытствующих, среди тысяч и тысяч живых людей, недвижно возвышаются два безжизненных силуэта. Тонкий силуэт гильотины, этого деревянного мостика, перекинутого из земного мира в мир потусторонний; на ее перекладине в свете скупого октябрьского солнца блестит провожатый – остро отточенное лезвие. Легко и свободно рассекает оно серое небо, забытая игрушка зловещего божества, и птицы, не подозревающие о мрачном назначении этого жестокого сооружения, беззаботно летают вокруг него.
Но сурово и гордо рядом с этими вратами смерти на постаменте, ранее служившем для памятника Людовику XV, возвышается гигантская статуя Свободы. Невозмутимо сидит она, неприступная богиня с фригийским колпаком на голове, с мечом в руке. Вот сидит она, каменная, в застывшей неподвижности, богиня Свободы, грезящая, погруженная в глубокую задумчивость. Невидящими глазами смотрит она поверх толпы, вечно волнующейся у ее ног, смотрит на стоящую рядом с нею машину смерти, вглядываясь в далекое, невидимое. Ничто человеческое не тревожит ее, ни жизни, ни смерти не замечает она вокруг себя, непостижимая, вечно любимая каменная богиня с грезящими о чем-то глазами. Не слышит она криков тех, кто взывает к ней, не чувствует тяжести венков, которые кладут ей на каменные колени; кровь, пропитавшая землю у ее ног, безразлична ей. Чужая среди людей, сидит она, немая, и смотрит вдаль, поглощенная извечной мыслью о своей никому не ведомой цели. Ничего не спрашивает она и ничего не знает о том, что вершится ее именем.
Внезапно в толпе возникает движение, на площади сразу же становится тихо. И в этой тишине слышны дикие крики, несущиеся с улицы Сент-Оноре; появляется отряд кавалерии, из-за угла крайнего дома выезжает трагическая телега со связанной женщиной, некогда бывшей владычицей Франции; сзади нее с веревкой в одной руке и шляпой в другой стоит Сансон, палач, исполненный гордости и смиренно-подобострастный одновременно. На громадной площади мертвая тишина, слышно лишь тяжелое цоканье копыт и скрип колес. Десятки тысяч, только что непринужденно болтавшие и смеявшиеся, потрясены чувством ужаса, охватившего их при виде бледной связанной женщины, не замечающей никого из них. Она знает: осталось одно последнее испытание! Только пять минут смерти, а потом – бессмертие.
Телега останавливается у эшафота. Спокойно, без посторонней помощи, «с лицом еще более каменным, чем при выходе из тюрьмы», отклоняя любую помощь, поднимается королева по деревянным ступеням эшафота; поднимается так же легко и окрыленно в своих черных атласных туфлях на высоких каблуках по этим последним ступеням, как некогда – по мраморной лестнице Версаля. Еще один невидящий взгляд в небо, поверх отвратительной сутолоки, окружающей ее. Различает ли она там, в осеннем тумане, Тюильри, в котором жила и невыносимо страдала? Вспоминает ли в эту последнюю, в эту самую последнюю минуту день, когда те же самые толпы на площадях, подобных этой, приветствовали ее как престолонаследницу? Неизвестно. Никому не дано знать последних мыслей умирающего. Все кончено. Палачи хватают ее сзади, быстрый бросок на доску, голову под лезвие, молния падающего со свистом ножа, глухой удар – и Сансон, схватив за волосы кровоточащую голову, высоко поднимает ее над площадью. И десятки тысяч людей, минуту назад затаивших в ужасе дыхание, сейчас в едином порыве, словно избавившись от страшных колдовских чар, разражаются ликующим воплем. «Да здравствует республика!» – гремит, словно из глотки, освобожденной от неистового душителя. Затем люди поспешно расходятся. Parbleu![339] Действительно, уже четверть первого, пора обедать; скорее домой. Что торчать тут! Завтра, все эти недели и месяцы, почти каждый день на этой самой площади можно еще и еще раз увидеть подобное зрелище.
Полдень. Толпа расходится. В маленькой тачке палач увозит труп с окровавленной головой в ногах. Двое жандармов остались охранять эшафот. Никого не заботит кровь, медленно капающая на землю. Площадь опустела.
Лишь богиня Свободы, силой какого-то волшебства превращенная в белый камень, остается неподвижная на своем месте и смотрит, смотрит вдаль, поглощенная извечной мыслью о своей никому не ведомой цели. Ничего не видела она, ничего не слышала. Сурово смотрит она в бесконечную даль, поверх диких и безрассудных деяний людей. Ничего не знает она и ничего не хочет знать о том, что вершится ее именем.
Реквием
Слишком много происходит в эти месяцы в Париже, чтобы долго думать о чьей-либо смерти. Чем быстрее бежит время, тем короче становится людская память. Несколько дней, несколько недель – и в Париже уже почти совсем забыли, что некая королева Мария Антуанетта была обезглавлена. На следующий день после казни Эбер в своем листке «Папаша Дюшен» поднимет вой: «Я видел, как голова этой бабы свалилась в корзину, и я хотел бы, проклятье, описать удовольствие, испытанное санкюлотами, которые наконец-то оказались свидетелями того, как эта тигрица проследовала через весь Париж в телеге живодера… Проклятая голова наконец-то была отделена от шеи потаскухи, и воздух сотрясся – черт побери! – от криков: „Да здравствует республика!“» Но его едва ли кто слушает: в годы террора каждый дрожит за свою голову. Пока же непогребенный гроб стоит на кладбище, для одного человека могилу теперь не роют, это было бы слишком накладно. Ждут подвоза от старательной гильотины и, лишь собрав шесть десятков гробов, гроб Марии Антуанетты заливают негашеной известью и вместе с остальными бросают в общую могилу. Вот и все. В тюрьме еще несколько дней воет маленькая собачка королевы, беспокойно бегает из камеры в камеру, обнюхивает все углы, прыгает по матрацам в поисках своей госпожи; затем и она успокаивается, тюремный сторож, пожалев, берет ее к себе. Потом в муниципалитет приходит могильщик и предъявляет счет: «Шесть ливров – за гроб для вдовы Капет, пятнадцать ливров тридцать пять су – за могилу и могильщикам». Затем служитель при суде собирает несколько жалких платьев королевы, составляет акт и отправляет их в лазарет; бедные старухи носят их, не зная, не спрашивая, кому они принадлежали раньше. Таким образом для современников покончено со всем, что было связано с именем Марии Антуанетты, и когда несколько лет спустя один немец приезжает в Париж, то во всем городе не находится человека, который смог бы ему сообщить, где похоронена бывшая королева Франции.
И по ту сторону границ казнь Марии Антуанетты – ведь эту казнь предвидели – не вызывает сильного волнения. Герцог Кобургский, слишком трусливый, чтобы спасти ее, приказом по армии патетически провозглашает месть. Граф Прованский, с этой казнью очень сильно приблизившийся к осуществлению своей столь вожделенной мечты стать королем – теперь бы только этого мальчика, который сейчас находится в Тампле, упрятать куда-нибудь или устранить, – делает вид, будто глубоко взволнован, и дает указание отслужить заупокойную мессу. Император Австрии, которому даже письмо написать было лень ради спасения королевы, объявляет глубокий придворный траур. Дамы одеваются в черное, их императорские величества несколько дней не посещают театр; газеты, как им приказано, с большим негодованием пишут о жестоких парижских якобинцах. Император оказывает милость и принимает бриллианты, которые Мария Антуанетта доверила Мерси, а спустя некоторое время – и дочь ее в обмен на взятых в плен комиссаров; но когда дело доходит до погашения долговых обязательств королевы и возмещения сумм, затраченных на попытки спасти ее, венский двор внезапно становится глухим. Вообще, здесь очень не любят вспоминать о казни королевы, эти воспоминания некоторым образом угнетают императорскую совесть – уж очень некрасиво по отношению к своей ближайшей родственнице вел себя император. Несколько лет спустя Наполеон заметит: «В Австрийском доме соблюдалось непременное правило – хранить глубокое молчание о королеве Франции. При упоминании имени Марии Антуанетты отводят глаза и разговору дается другое направление, чтобы уйти от неуместной, неприятной темы. Это – неукоснительное правило всей семьи, ему следуют также послы Австрийского дома при иностранных дворах».
* * *
Только одного человека сообщение о казни поражает в самое сердце – Ферзена, вернейшего из верных. Со страхом ждал он самого ужасного: «Уже давно я пытаюсь подготовить себя к этому и думаю, что встречу известие без большого потрясения». Но когда в Брюсселе появляются газеты, он чувствует себя совершенно раздавленным. «Та, которая была мне дороже жизни, – пишет он сестре, – и которую я никогда не переставал любить, нет, никогда, ни на мгновение, которой я пожертвовал всем, ради которой я тысячу раз отдал бы свою жизнь, ее больше уж нет. Я только сейчас понял, чем она была для меня. О Боже мой, за что Ты так караешь меня, чем я навлек на себя Твой гнев? Ее нет более в живых, муки мои достигли предела, не пойму, чем я еще жив. Не знаю, как вынести эти страдания, они безмерны, и нет им конца. Она всегда будет со мной в моих воспоминаниях, чтобы вечно оплакивать ее. Дорогая подруга, ах, почему я не умер вместе с нею, за нее в тот день, двадцатого июня, я был бы счастливее, нежели сейчас, когда жизнь моя влачится в вечных терзаниях, с упреками, которым лишь смерть положит конец, ибо никогда ее образ, так обожаемый мною, не исчезнет из моей памяти». Он чувствует, что может еще жить лишь своей скорбью, лишь мыслями о ней, о единственной женщине, образ которой значил для него все. «Ее уже нет более, и только сейчас я понимаю, как безраздельно я был ей предан. Ее образ продолжает поглощать мои мысли, он преследует меня и непрестанно будет повсюду преследовать, непрерывно вызывая в памяти лучшие мгновения моей жизни, только о ней могу я говорить. Я дал поручение купить в Париже все, что может напомнить мне о ней; все связанное с нею для меня свято – это реликвии, которые вечно будут предметом моего преданного преклонения». Ничто не может восполнить эту понесенную им утрату. Много месяцев спустя напишет он в своем дневнике: «О, я каждый день чувствую, как много потеряно мной и каким совершенством во всех отношениях она была. Никогда не было женщины, подобной ей, никогда не будет». Годы и годы проходят, а боль утраты не притупляется, любая, самая ничтожная причина является новым поводом для воспоминаний об ушедшей. Когда в 1796 году он приезжает в Вену и впервые видит при императорском дворе дочь Марии Антуанетты, впечатление от этой встречи столь велико, что слезы застилают ему глаза: «У меня дрожали колени, когда я спускался по лестнице. Я испытывал страдание и был счастлив одновременно, я был глубоко взволнован».
Каждый раз при виде дочери он вспоминает мать, и глаза его увлажняются, его тянет к этой девушке, плоть от плоти его возлюбленной. Но ни разу ей не разрешают поговорить с Ферзеном. Что является причиной тому – то ли негласное распоряжение двора предать забвению память об отданной в жертву, то ли суровость духовника девушки, который, вероятно, знает о «преступной» связи Ферзена с ее матерью? Австрийский двор недоволен приездом Ферзена и испытывает чувство облегчения, когда тот уезжает; ни разу этот вернейший из верных не услышал слова благодарности от дома Габсбургов.
* * *
После смерти Марии Антуанетты Ферзен становится угрюмым, суровым человеком. Несправедливым и холодным представляется ему мир, бессмысленной – жизнь, он совершенно теряет честолюбивый интерес к политике, к дипломатии. В годы войны колесит он по Европе как дипломат Швеции: Вена, Карлсруэ, Раштатт, Италия; он заводит связи с другими женщинами, но все это занимает и успокаивает его неглубоко; вновь и вновь в его дневнике появляются записи, подтверждающие мысль, что любящее сердце живет лишь тенью умершей возлюбленной. О 16 октября, дне ее смерти, годы спустя он пишет: «Этот день для меня – день благоговейных воспоминаний о ней. Мне никогда не забыть, как много я потерял, скорбь не покинет меня, пока я жив». Но и вторую дату каждый год отмечает Ферзен – роковой день своей жизни, 20 июня. Он не может простить себе, что в этот день бегства в Варенн уступил приказу Людовика XVI, оставил, покинул Марию Антуанетту в опасности; все сильнее чувствует он, что это день его вины, не искупленной им вины. Было бы лучше, было бы достойнее, вновь и вновь винит он себя, быть растерзанным толпой, чем пережить ее, с сердцем без радости, с душой, отягощенной упреками. «Почему я не умер за нее тогда, двадцатого июня?» – этот мистический упрек без конца встречается в его дневнике.
* * *
Но судьба любит аналогии случаев и таинственную игру чисел: многие годы спустя его романтическое желание исполняется. Именно в этот день, 20 июня, находит Ферзен столь долго призываемую им смерть, именно такую, какую он желал. Не домогаясь высокого положения, Ферзен постепенно благодаря своему происхождению становится у себя на родине могущественным человеком – главой дворянского сословия и наиболее влиятельным советником короля; могущественным человеком, но суровым и жестким, господином в понимании прошедшего столетия. С того дня, дня задержания королевской семьи в Варенне, он ненавидит народ, похитивший у него королеву, смотрит на народ как на коварную чернь, как на сброд подлых мерзавцев, и народ отвечает этому аристократу такой же лютой ненавистью. Его враги тайно распространяют слух о том, что этот дерзкий феодал, желая отомстить Франции, хочет захватить шведский престол и втянуть страну в войну. И когда в июне 1810 года внезапно умирает престолонаследник Швеции, по всему Стокгольму, непонятно где зародившись, разносится нелепая опасная молва – Ферзен отравил, убрал с дороги принца, чтобы захватить корону. С этого момента жизнь Ферзена, которой угрожает народный гнев, находится в такой же опасности, как и жизнь Марии Антуанетты во время революции. Друзья предупреждают упрямого человека – ему не следует принимать участие в церемонии похорон, он должен ради собственной безопасности остаться дома. Но день погребения принца – 20 июня – мистический, роковой день Ферзена: какая-то злая воля торопит его навстречу давно им самим предопределенной судьбе. И в Стокгольме 20 июня происходит то, что восемнадцать лет назад могло бы произойти в Париже, если б люди обнаружили Ферзена среди сопровождающих Марию Антуанетту. Едва карета покидает дворец, неистовая толпа прорывает войсковое оцепление, вытаскивает седого человека из кареты, избивает его, безоружного, палками, бросает в него камнями. Видение 20 июня стало явью: растерзанный той же неистовой, необузданной стихией, которая вынесла Марию Антуанетту на эшафот, лежит перед стокгольмской ратушей окровавленный, изуродованный труп «прекрасного Ферзена», последнего паладина последней королевы. Жизнь не смогла соединить их вместе, так умирает он, по крайней мере, в один и тот же, роковой для них обоих день, в день ее символической смерти.
* * *
С Ферзеном ушел из жизни последний, кто любовно хранил в памяти образ Марии Антуанетты. Ни один человек, ни одна душа скончавшегося не умирает по-настоящему, пока он по-настоящему любим хотя бы одним человеком на земле. Скорбь Ферзена по умершей – последние слова верности, затем наступает полное молчание. Вскоре уходят из жизни другие преданные ей; Трианон разрушается, его изысканные сады дичают, картины, мебель, в гармонической совокупности которых отражалась вся привлекательность королевы, продаются с публичных торгов, разбазариваются; окончательно стираются последние вещественные следы ее существования. А время стремительно бежит, льется кровь. Революция угасает в консульстве[340], приходит Бонапарт, вскоре он становится Наполеоном, императором Наполеоном, который берет себе другую эрцгерцогиню из дома Габсбургов для новой роковой свадьбы. Но и Мария Луиза, несмотря на свое кровное родство с Марией Антуанеттой, в своем тупом душевном безразличии – как непостижимо это для наших чувств! – ни разу не спрашивает о том, где спит своим горьким вечным сном женщина, жившая и страдавшая до нее в тех же покоях того же Тюильри; никогда ни один человек не был так жестоко, так холодно забыт своими ближайшими родственниками и потомками. Потом наступают перемены, начинают вспоминать люди с нечистой совестью. Граф Прованский по трупам трех миллионов взбирается на французский трон, становится Людовиком XVIII. Наконец-то, наконец-то этот человек темными путями добирается к своей цели. Поскольку все те, кто так долго преграждал путь его тщеславию, так удачно для него устранены – и Людовик XVI, и Мария Антуанетта, и их несчастный ребенок Людовик XVII – и поскольку мертвые не могут воскреснуть и предъявить иск, почему бы задним числом не воздвигнуть им роскошный мавзолей? Только теперь дается указание разыскать место погребения королевы (брат никогда не осведомлялся о могиле родного брата). Но после двадцатидвухлетнего постыдного безразличия выполнить такое указание не так-то просто, ведь в том пресловутом монастырском саду у Мадлен, который террор удобрил тысячами трупов, нет могилы королевы: могильщикам не хватало времени помечать места захоронения отдельных людей, они подвозили и сбрасывали гроб за гробом, едва поспевая за ненасытным ножом гильотины. Nulla crux, nulla corona – ни креста, ни короны не распознать в давно забытом пристанище мертвых; известно только одно: Конвент приказал останки королевы залить негашеной известью. И вот могильщики роют, роют. Наконец лопата звенит, ударившись о твердый пласт. И по полуистлевшей подвязке признают, что горсть бесцветной пыли, которую, содрогаясь, снимают с влажной земли, – это и есть последний след той, которая некогда была богиней грации и вкуса, а затем – королевой всех страданий.
Послесловие
В конце исторической работы принято перечислять использованные источники; в этом особом случае, в книге о Марии Антуанетте, мне представляется, пожалуй, более важным указать, какие источники и по какой причине я не использовал. Здесь даже таким, казалось бы, наинадежнейшим документам, как собственноручно написанные письма, не всегда можно верить: очень часто они оказываются фальшивыми. Мария Антуанетта, об этом в предлагаемом читателю романе не раз упоминалось, в соответствии со своим нетерпеливым характером была небрежной корреспонденткой; по собственному почину она, пожалуй, никогда не садилась без особых, действительно важных причин за тот удивительно изящный письменный стол, который еще и сегодня можно увидеть в Трианоне. И ничего удивительного нет в том, что десять, двадцать лет спустя после ее смерти не было найдено ни одного написанного ее рукой письма, за исключением бесчисленных счетов с непременной визой: «Payez. Marie Antoinette»[341]. Две полностью сохранившиеся переписки, первая – с матерью и венским двором и вторая – интимная, с графом Ферзеном, лежали в то время и еще пятьдесят лет под замком в архивах, немногие опубликованные письма к графине Полиньяк были также недоступны в оригиналах. Тем более странным поэтому представляется, что в 40-х, в 50-х и 60-х годах прошлого века едва ли не на каждом парижском аукционе автографов стали появляться оригиналы писем, и, что удивительно, с подписью королевы, тогда как она в действительности подписывалась в крайне редких случаях. Затем одна за другой вышли в свет обширные публикации: графа Гунольштейна, потом собрание писем королевы (еще и поныне наиболее объемное), подготовленное бароном Фейе де Коншем, и, наконец, изданное Клинковстремом, содержащее – правда, изуродованные во имя «высокой» морали – письма Марии Антуанетты к Ферзену. Впрочем, радость взыскательных историков, увидевших эти новые великолепные материалы, безоблачной не была: уже через несколько месяцев после издания писем подлинность многих из них, опубликованных Гунольштейном и Фейе де Коншем, была поставлена под сомнение. Завязывается затяжная полемика; добросовестным ученым становится ясно, что некий очень искусный, пожалуй даже гениальный, фальсификатор, дерзко, отчаянно дерзко смешав подлинники с поддельными письмами, выпустил в продажу фальшивые автографы.
Имя этого великолепного фальсификатора, едва ли не самого искусного из тех, кого знает мировая культура, ученые по странной тактичности не назвали. Правда, в работах Фламмермона и Рошетри, наиболее серьезных исследователей, можно было весьма отчетливо прочесть между строк, кого они в этом подозревали. Сегодня же нет никаких причин замалчивать это имя, и следует обогатить историю фальсификаций одним психологически чрезвычайно интересным анекдотом. Блестящим репродуцентом эпистолярного богатства Марии Антуанетты был не кто иной, как издатель ее писем барон Фейе де Конш, дипломат высокого ранга, человек очень образованный, превосходный писатель, автор интересных произведений, отличный знаток истории французской культуры; десять или двадцать лет разыскивал он письма Марии Антуанетты во всех архивах и частных коллекциях и с истинно достойным признания прилежанием и настоящим пониманием собрал их – работа, заслуживающая и сейчас большого уважения.
Но этот трудолюбивый и достойный признательности человек был одержим страстью, а страсти всегда опасны: он собирал автографы, собирал увлеченно, считался непогрешимым авторитетом в этой области, и благодаря этому увлечению мы имеем прекрасную работу – его «Causeries d’un curieux»[342]. Его коллекция, или, как он гордо именовал ее, «cabinet»[343], была самой большой во Франции, но когда какой собиратель удовлетворялся своей коллекцией? Возможно, из-за ограниченности собственных средств, не позволявших расширить собрание, как ему того хотелось, он собственноручно изготовил некоторое количество «автографов» – Лафонтена, Буало, Расина, иной раз еще и поныне появляющихся на рынке, и продал их через парижских и английских торговцев. Но истинно художественными произведениями являются его поддельные письма Марии Антуанетты. Здесь, как никто другой на свете, знал он содержание, почерк и все сопутствующие обстоятельства. Так, к семи настоящим письмам графине Полиньяк, подлинность которых им первым и была установлена, ему не стоило большого труда добавить столько же фальшивых собственного изготовления, сделать записочки королевы к тем ее родственникам, о которых он знал, что они были близки ей. Обладая поразительным знанием графического почерка королевы и ее стилистики, способный, как никто другой, выполнить эти удивительные фальсификации, он, к сожалению, решился осуществить подделки, совершенство которых действительно сбивает с толку – так точно повторен в них почерк, с таким проникновением в сущность характера корреспондента воспроизводится стиль, с таким знанием истории продумана каждая деталь. При всем желании – в этом приходится честно сознаться, – исследуя отдельные письма, сегодня вообще невозможно определить, подлинны они или придуманы и исполнены бароном Фейе де Коншем. Так, например, о письме к барону Флахсландену, находящемся в Прусской государственной библиотеке, я не смог бы с уверенностью сказать, оригинал это или подделка. За подлинность говорит текст, за фальсификацию – несколько более, чем ожидаешь, спокойный, закругленный почерк и прежде всего, конечно, то обстоятельство, что прежний владелец письма приобрел его у барона Фейе де Конша. На основе сказанного ради более полной исторической достоверности при работе над романом мною безжалостно игнорировался любой документ, родословная которого ведет к внушающей сомнение коллекции барона Фейе де Конша. Лучше меньше материала, но подлинного, нежели больше, но сомнительного – вот основной психологический закон, принятый при отборе писем для использования их в этой книге.
Ненамного лучше, чем с письмами, обстоят дела и в отношении достоверности свидетельств очевидцев о Марии Антуанетте. Если мы сожалеем о том, что иные исторические отрезки времени слишком мало освещены мемуарами, сообщениями очевидцев, то относительно эпохи французской революции, скорее, приходится тяжко вздыхать по поводу их избыточности. В ураганные десятилетия, когда одно поколение без какой-либо подготовки швыряется с одной политической волны на другую, редко удается выкроить время для размышлений, чтобы сосредоточиться; в течение двадцати пяти лет одно поколение претерпевает самые неожиданные превращения, почти без передышки ему приходится пережить последнее цветение королевской власти, ее агонию, первые, счастливые дни революции, страшные дни террора, Директорию, взлет Наполеона, его консульство, диктатуру, империю, потом мировую империю, тысячи побед и решающее поражение, вновь короля и еще раз Наполеона – его Сто дней[344]. Наконец после Ватерлоо[345] наступает длительное затишье – после двадцатипятилетнего неистовства не имеющая себе равных буря, пронесшаяся по всей земле, отбушевала. И вот люди пробуждаются от кошмарного сна, протирают глаза. Прежде всего они дивятся тому, что вообще уцелели, затем тому, как много успели пережить за такой короткий отрезок времени, – нам ведь тоже пришлось туго, когда, подхваченные бурным потоком в 1914 году, лишенные возможности управлять своим движением, мы неслись по его волнам, пока наконец он сам не стал спадать, – и сейчас на берегу, в безопасности, им хочется спокойно окинуть взглядом, логически переосмыслить то, что видели раньше взволнованные люди, что пережили в хаосе чувств. Вот поэтому теперь каждый пожелал заново прочесть историю, прочесть ее в воспоминаниях очевидцев, чтобы восстановить свои неупорядоченные переживания. Так после 1815 года возникает обстановка, столь же благоприятная для мемуаров, как у нас после мировой войны – для книг на военную тему. Вскоре это поймут издатели и профессиональные писатели и спешно начнут сериями фабриковать воспоминания, воспоминания, воспоминания о великих временах, пока не упадет спрос – мы и это пережили – на литературу подобного рода. От каждого, кто хоть раз случайно коснулся рукавом исторической личности, публика требует, чтобы он поделился с ней своими воспоминаниями. Но поскольку, однако, иные ограниченные, недалекие обыватели, с полным безразличием прошедшие, спотыкаясь, мимо великих событий, могут вспомнить только об отдельных подробностях этих событий и, кроме того, не в состоянии занимательно изложить даже то, что вспомнили, ловкие писаки охотно берутся помочь им. Замешивают огромную квашню теста со считаными изюминками, обильно сдабривают его слащавостями, раскатывают в сентиментальные вымыслы, и так вот выпекается книжонка. Всякий, кто в те времена в Тюильри, в тюрьме или в Революционном трибунале хоть часок провел в обществе Мировой Истории, выступает теперь как писатель: портниха, камеристка, первая, вторая, третья горничные, парикмахер, тюремный страж Марии Антуанетты, первая, вторая гувернантки детей, каждый из их друзей. Last not least[346], даже палач, господин Сансон, пишет мемуары или, по крайней мере, дает за определенную мзду свое имя какой-то книжонке, состряпанной каким-то ловкачом.
Само собой разумеется, что эти недостоверные сообщения противоречат одно другому буквально во всем; и как раз о самых решающих событиях 5 и 6 октября 1789 года, о поведении королевы при штурме Тюильри или о ее последних часах мы располагаем семью, восемью, десятью, пятнадцатью, двадцатью очень сильно отличающимися друг от друга версиями показаний так называемых очевидцев. Единодушны они только в политических убеждениях, в безоговорочно трогательных и непоколебимо верноподданнических чувствах, и это можно понять, если вспомнить, что все они писали при Бурбонах и искали подачки от них. Те самые слуги и тюремный сторож, которые во время революции были убежденными революционерами, при Людовике XVIII на все лады уверяют читателя в том, насколько глубоко (разумеется, тайно) уважали и любили они добрую, благородную, чистую и добродетельную королеву: если бы даже немногие из этих верных задним числом действительно были бы в 1792 году верными и беззаветно преданными королеве, как они сообщают об этом в 1820 году, никогда бы Мария Антуанетта не переступила порога Консьержери, никогда бы не взошла на эшафот. Девять десятых мемуаров того времени являются, таким образом, грубой стряпней, сочиненной ради сенсации или из низкопоклоннического подхалимства; и тот, кто ищет историческую правду, предпочитает (в отличие от авторов большинства книг о том времени) с самого начала убрать с дороги, как недостоверных свидетелей, всех этих камеристок, парикмахеров, жандармов, пажей, выдвинувшихся благодаря своей слишком уж услужливой памяти. Именно так поступил и я.
Вот почему в этой биографии Марии Антуанетты отсутствуют многие документы, письма и диалоги, которые во всех ранее вышедших книгах были использованы как не вызывающие никаких сомнений. Читатель с сожалением отметит отсутствие иных анекдотов, восхитивших или развеселивших его, когда он читал другие книги, посвященные жизни королевы, хотя бы, например, тот, в котором маленький Моцарт в Шёнбрунне предлагает Марии Антуанетте руку и сердце, и так далее, до последнего, в котором королева на помосте возле гильотины, нечаянно наступив палачу на ногу, учтиво говорит ему: «Pardon, monsieur»[347] (слишком уж остроумно все это, чтобы быть правдой). Читателями будет отмечено также отсутствие упоминаний о многих письмах, и прежде всего о тех, что трогательно адресованы «cher cœur»[348] принцессе Ламбаль; не упоминаю я о них потому, что они не были написаны Марией Антуанеттой, а сочинены бароном Фейе де Коншем, так же, впрочем, как не будет и целого ряда устно передаваемых чувствительных и остроумных изречений, единственно лишь по той причине, что они показались слишком уж остроумными и слишком уж чувствительными и потому совершенно не согласующимися с ординарным характером Марии Антуанетты.
Этим потерям в сентиментальности, но не в исторической правде противостоит новый и существенный материал. Прежде всего тщательным исследованиям подвергнут Государственный архив Вены, поскольку в так называемой полной публикации переписки Марии Антуанетты и Марии Терезии важные и даже важнейшие места были изъяты, как особо интимные. В этой книге использовалась полностью восстановленная переписка королевы с императрицей: супружеские отношения Людовика XVI и Марии Антуанетты невозможно понять, нельзя восстановить психологию этих отношений, не зная долго замалчиваемой физиологической тайны. Чрезвычайно важной оказалась, далее, окончательная «чистка», предпринятая превосходным ученым Альмой Сьедергельм в архиве наследников Ферзена, – «чистка», в процессе которой посчастливилось выявить многочисленные приукрашивания морального характера: «pia fraus»[349], ханжеская легенда о «чистой», «рыцарской» любви Ферзена к недоступной Марии Антуанетте оказалась разоблаченной благодаря этим документам, которые стали особенно весомыми и убедительными, так как много лет замалчивались. Кроме того, переписка королевы с Ферзеном проливает свет на многие неясные или нарочито затеняемые подробности. Поскольку наши представления о человеческих и моральных правах женщины (кем бы она ни была – пусть даже королевой) стали более свободными, наш путь к искренности оказался более прямым и мы меньше боимся психологической правды, так как не думаем уже более, подобно прошлым поколениям, что ради того, чтобы добиться сочувствия к какому-нибудь историческому образу, необходимо идеализировать à tout prix[350] его характер, сделать его сентиментальным или героическим, то есть какие-то существенные черты затенить, а какие-то особенно резко выделить. Не обожествлять, а очеловечивать – вот высший закон творческой психологии; не обвинять, пользуясь искусственными аргументами, а объяснять – вот ее задача.
Здесь этот метод использован при исследовании ординарного характера, который своим вневременным влиянием обязан только лишь беспримерной судьбе, своему внутреннему величию и чудовищному горю, обрушившемуся на него, и я надеюсь, что именно вследствие своей земной обусловленности он, этот характер, не требуя никакой ретуши, встретит сочувствие и понимание наших современников.
С. Ц.Хронологическая таблица
1755
2 ноября. Рождение Марии Антуанетты.
1769
7 июня. Сватовство (письмо Людовика XV Марии Терезии).
1770
19 апреля. Бракосочетание per procurationem в Вене.
16 мая. Бракосочетание в Версале.
24 декабря. Шуазель впадает в немилость.
1772
Прибытие Рогана в Вену 5 августа. Раздел Польши.
1773
8 июня. Торжественный въезд дофины в Париж.
1774
10 мая. Смерть Людовика XV.
Колье впервые предлагается Марии Антуанетте.
Ферзен впервые появляется в Версале.
Отозвание Рогана из Вены.
Бомарше продает Марии Терезии пасквиль.
1777
Апрель, май. Посещение Версаля Иосифом II.
Август. Первая интимная близость супругов.
1778
Рождение 19 декабря мадам Рояль, будущей герцогини Ангулемской.
1779
Первый памфлет на Марию Антуанетту.
1780
1 августа. Первое выступление Марии Антуанетты в театре Трианон.
29 ноября. Смерть Марии Терезии.
1781
22 октября. Рождение первого сына.
1783
3 сентября. Признание Соединенных Штатов Америки Англией.
1784
27 апреля. Премьера «Женитьбы Фигаро» во Французском театре.
11 августа. Встреча Рогана с «королевой» (графиней Валуа де Ламотт).
1785
29 января. Роган покупает колье.
27 марта. Рождение второго сына.
15 августа. Арест Рогана в Версале.
19 августа. Премьера «Севильского цирюльника» в театре Трианон, последнее представление в этом театре.
1786
31 мая. Вынесение приговора по делу о колье.
9 июля. Рождение принцессы Софи Беатрис.
1788
Королева вступает в интимную связь с Ферзеном.
5 августа. Объявление о решении короля созвать 1 мая 1789 г. Генеральные штаты. Неккер вновь министр.
1789
5 мая. Открытие Генеральных штатов.
3 июня. Смерть старшего сына.
17 июня. Третье сословие объявляет себя Национальным собранием.
20 июня. Клятва в Зале для игры в мяч.
25 июня. Провозглашение свободы печати.
11 июля. Изгнание Неккера.
13 июля. Учреждение Национальной гвардии.
14 июля. Взятие Бастилии штурмом.
16 июля. Начало эмиграции (д’Артуа, Полиньяк).
Конец августа. Ферзен в Версале.
1 октября. Банкет в честь фландрского полка.
5 октября. Поход народа Парижа в Версаль.
6 октября. Переезд королевской семьи в Париж. Создание Якобинского клуба в Париже.
1790
20 февраля. Смерть Иосифа II.
4 июня. Последнее лето в Сен-Клу.
3 июля. Встреча с Мирабо.
1791
2 апреля. Смерть Мирабо.
20–25 июня. Бегство в Варенн. Барнав и его друзья в Тюильри.
14 сентября. Присяга короля конституции.
1 октября. Законодательное собрание.
1792
13, 14 февраля. Ферзен последний раз в Тюильри.
20 февраля. Мария Антуанетта последний раз в театре.
1 марта. Смерть Леопольда II.
24 марта. Министерство Ролана.
29 марта. Смерть Густава Шведского.
20 апреля. Объявление Францией войны Австрии.
13 июня. Падение кабинета Ролана.
19 июня. Вето короля.
20 июня. Первый штурм Тюильри.
10 августа. Взятие Тюильри штурмом. Дантон – министр юстиции.
13 августа. Отстранение короля от власти. Перевод королевской семьи в Тампль.
22 августа. Первое восстание в Вандее.
2 сентября. Падение Вердена.
2–5 сентября. Сентябрьский террор.
3 сентября. Убийство принцессы Ламбаль.
20 сентября. Канонада под Вальми.
21 сентября. Конвент.
Упразднение королевской власти. Провозглашение республики.
6 ноября. Битва при Жемапе.
11 декабря. Начало процесса над Людовиком XVI.
1793
4 января. Второй раздел Польши.
21 января. Казнь Людовика XVI.
10 марта. Учреждение Революционного трибунала.
31 марта. Освобождение Бельгии французами.
4 апреля. Измена Дюмурье.
29 апреля. Лионский мятеж.
3 июля. Разлучение дофина с Марией Антуанеттой.
1 августа. Перевод Марии Антуанетты в Консьержери.
9 октября. Падение Лиона.
12 октября. Первый допрос Марии Антуанетты.
14 октября. Начало процесса над Марией Антуанеттой.
16 октября. Казнь королевы.
1795
8 июня. Объявление о смерти дофина (Людовика XVII).
1814
Людовик XVIII (прежде граф Прованский) – король Франции.
От переводчика
Беллетризованная биография «Мария Антуанетта» увидела свет в 1932 г. В 1933 г. ее издали на английском, датском, итальянском, французском языках, в 1942-м – на испанском, в 1946-м – на шведском, в 1950-м – на греческом и японском. В общей сложности за двадцать лет вышло более пятидесяти изданий. Книга вызвала большую прессу: за 1933–1937 гг. опубликовано около пятидесяти статей. В США в 1938 г. роман был экранизирован (режиссер – Б. С. Дайк, актеры – Норма Ширер, Тайрон Пауэр, Джон Барримор).
Судьба книги в нашей стране сложилась далеко не так счастливо. 4 января 1933 г. Ст. Цвейг послал в ленинградское кооперативное издательство «Время», которое в 1927–1932 гг. выпустило двенадцатитомное собрание его сочинений, следующее письмо:
Многоуважаемые господа!
Не знаю, получили ли вы уже мою «Марию Антуанетту», но прошу вас при возможности сообщить мне, реально ли издание этой вещи в России, – ведь речь там все-таки идет о королеве. Одно зарубежное русское издательство, находящееся в Париже, уже обратилось ко мне с предложением издать эту книгу, однако я ответил им отказом, потому что не желаю, чтобы мои вещи печатались сначала на той стороне. Скажите мне, пожалуйста, прямо и открыто, есть ли препятствия к изданию этой книги. Ее успех в Германии был совершенно исключительный; отпечатано уже сорок тысяч экземпляров, и сейчас печатают следующие десять тысяч.
С наилучшими пожеланиями
Ваш Стефан Цвейг[351].Ответа на это письмо писатель, по-видимому, не получил: издательство свертывало свою работу и вскоре прекратило существование.
На русском языке «Мария Антуанетта» была впервые издана все же «на той стороне» – в Риге в 1933 г. (издательство «Культурная жизнь», перевод В. Златогорского) со странной надписью на титульном листе: «Обработано для русского издания». В книге нет нескольких глав, очень много купюр. Тираж издания – 700 экземпляров.
В СССР книгу не издавали до 1989 г. В предисловии к первому русскому изданию романа (М.: Мысль, 1989) доктор исторических наук П. П. Черкасов писал: «В области идеологии и культуры усиленно насаждалось единомыслие с его неизменным спутником – скудоумием. Была объявлена подлинная война всему классово чуждому. Это была одна из самых продолжительных и тяжелых по своим последствиям идеологических „войн“ в истории; она велась без малого шестьдесят лет, ее близкие отзвуки слышны и поныне». И если роман Ст. Цвейга о Марии Стюарт – королеве Шотландии, казненной по приказу Елизаветы Английской, – издавали в это безвременье у нас много раз, то книга о Марии Антуанетте в СССР была запрещена. Гильотинированная по приговору Революционного трибунала, эта королева в представлении идеологов коммунистической партии являлась личностью одиозной, и книгу о ней издавать было нельзя. Читатель должен был иметь об этом человеке только такое мнение, которое принималось официальной идеологией. Цвейг же «своевольничает». Тонкий психолог, он прослеживает в динамике изменение ординарного характера: «Мы видим, понимаем и чувствуем, что мудрая рука Несчастья не отступит от Марии Антуанетты, пока не придаст этой мягкой и безвольной натуре твердость и самообладание, пока силой не извлечет все значительное, все величественное, унаследованное ею от родителей, дедов и прадедов, захороненное в тайниках ее души».
Прекрасно понимая огромную вину Марии Антуанетты перед Францией, перед историей – писатель и не пытается ее приуменьшить, – мы по-человечески сочувствуем несчастной королеве.
«Говорят, что симпатия – ключ к познанию. Это верно для Цвейга, – пишет Ромен Роллан. – Но верно также и противоположное: познание – ключ к симпатии. Он любит разумом. Он понимает сердцем. Смешение того и другого рождает в самом Цвейге… ненасытную любознательность психолога, удивительно похожую на „чувственную любовь“».
Художественное произведение – а произведение, построенное на историческом материале, в особенности – всегда субъективно. Непроизвольно или осознанно подчиняясь своей концепции, автор исторического романа допускает неточности, подчас уводящие читателя от истины. Примеров этому в мировой литературе много. В беллетризованной биографии «Мария Антуанетта» подобных серьезных отклонений от безусловно имевших место исторических фактов нет. Но она, конечно, не свободна от неточностей и ошибок. Желая дать психологический портрет королевы, автор выстраивает повествование в соответствии с этой задачей, иногда при этом отступая от хронологии событий, иногда опуская те из них, которые считает малосущественными для своей концепции или даже мешающими ей.
Исторический роман и не должен зеркально отражать историю. Сила его в другом. Лион Фейхтвангер в неоконченной литературоведческой работе «Дом Дездемоны» пишет: «…я каждый раз заново убеждался в том, что так называемая „чистая наука“ способна представить нам всего лишь скелеты, зачастую очень тщательно препарированные скелеты, созерцание которых доставляет своего рода эстетическое удовлетворение, но нарастить на такой скелет живую плоть способна одна лишь поэтическая фантазия». Под «чистой наукой» писатель имел в виду историческое исследование. Е. В. Тарле в заметке «Историческая книга для детей» пишет: «Придирчивость историка не означает, что надо лишать писателя права на художественный вымысел, на свою творческую трактовку образа исторического героя».
Исторический роман – не учебник истории, и все же он в большей степени, чем научная историческая литература, определяет представление среднего читателя об исторических событиях и личностях.
Именной указатель
Австрийский дом – династия, правившая Священной Римской империей германской нации; см. Габсбурги.
Агриппина Младшая (15–59) – дочь Германика и Агриппины Старшей, мать Нерона.
Аделаида, мадам (1732–1808) – четвертая дочь Людовика XV.
Адэмар, граф – дипломат во время царствования Людовика XVI.
Александр Сербский (Александр Обренович) (1876–1903) – король Сербии с 1889 г.
Ангулемская Мария Терезия Шарлотта де Бурбон (1776–1851) – герцогиня, старшая дочь Марии Антуанетты, вышла замуж за сына графа д’Артуа.
Ангулемский Луи Антуан де Бурбон (1775–1844), герцог – старший сын графа д’Артуа.
Аранда Педро Пабло Абарка де Болеа, граф (1718–1799) – испанский государственный деятель и дипломат, посланник Испании при Версале в 1773–1787 гг.
Аретино Пьетро (1492–1556) – итальянский писатель, драматург, публицист. За язвительные, остроумные памфлеты против папского двора и монархов Европы получил прозвище Бич Государей.
Аристофан (ок. 446–385 до н. э.) – афинский комедийный поэт, автор 44 комедий, из которых сохранились 11.
Артуа, граф д’ (1757–1836) – король Франции Карл X (1824–1830).
Артуа, графиня д’ – супруга графа д’Артуа.
Аткинс, миссис – дама, посетившая Марию Антуанетту в Консьержери.
Байи Жан Сильвен (1736–1793) – французский астроном, член Парижской академии наук. В 1789–1791 гг. председатель Национального собрания, мэр Парижа. В 1792 г. – депутат Конвента. Примыкал к жирондистам. Гильотинирован.
Байон Клод – командир 7-го батальона Национальной гвардии.
Бальзамо – см. Калиостро.
Барнав Антуан Жозеф Мари (1761–1793) – деятель французской революции. В 1789–1791 гг. депутат Учредительного собрания. Сторонник конституционной монархии. Гильотинирован.
Бассанж Поль – придворный ювелир Людовика XVI.
Бац Жан, барон де (1761–1822) – французский банкир.
Безанваль Пьер Виктор, барон де (1722–1791) – полковник швейцарской гвардии, военный комендант Парижа, автор «Мемуаров, анекдотов, политических и исторических».
Бекю Жанна – см. Дюбарри, графиня.
Берри, Беррийский герцог – см. Шарль Фердинанд, герцог де Берри.
Бетховен Людвиг ван (1770–1827) – немецкий композитор.
Бийо-Варенн (Бильо-Варенн) Жан Никола (1756–1819) – врач, адвокат, заместитель прокурора коммуны, депутат Конвента, член Комитета общественного спасения.
Блан Луи (1811–1882) – французский социалистический утопист, историк, деятель революции 1848 г.
Боккерини Луиджи (1743–1805) – итальянский композитор и виолончелист.
Бол – супруги, надзиратели в Консьержери.
Бомарше Пьер Огюстен Карон (1732–1799) – французский драматург, памфлетист.
Бомер Карл Август – придворный ювелир Людовика XVI.
Бонапарт Наполеон – см. Наполеон Бонапарт.
Боссюэ Жан Бенинь (1627–1704) – епископ, писатель, воспитатель дофина, автор книг «Политика, основанная на Священном Писании», «Рассуждения о всемирной истории».
Брауншвейгский Карл Вильгельм Фердинанд, герцог (1735–1806) – в 1792 г. назначен командующим войсками антифранцузской коалиции.
Бретёй (Бретель) Луи Огюст Лё Тонелье, барон де (1730–1807) – французский дипломат, министр Людовика XVI.
Бриенн – см. Ломени де Бриенн.
Бриссак – маршал, губернатор города Парижа.
Бриссо (Бриссот) Жан Пьер (1754–1793) – французский политический деятель, лидер жирондистов, автор историко-философских сочинений. Гильотинирован.
Брунгильда (ум. 613) – франконская королева. Фактически правила королевством Австразией с 596 г. Истребила много членов королевского рода Меровингов.
Брюние – вторая гувернантка королевской дочери.
Буало Никола (1636–1711) – французский поэт и теоретик литературы.
Буйе Франсуа Клод, маркиз де (1739–1800) – французский генерал, участник Семилетней войны. После ареста короля в Варенне эмигрировал. Умер в Лондоне.
Буленвилье, маркиза – принимала участие в судьбе детей Жака Сен-Реми.
Бурбон, герцог – третий сын графа д’Артуа.
Бурбон Луи Анри Жозеф, герцог де, принц де Конде (1756–1830) – сын принца де Конде Луи Жозефа.
Бурбон Луи Антуан де – см. Ангулемский герцог.
Бурбон Луи Жозеф, герцог де, принц де Конде (1736–1818) – принц крови, двоюродный брат Людовика XVI. В 1789 г. эмигрировал, возглавил армию эмигрантов. В 1814 г. вернулся во Францию.
Бурбоны – старинный княжеский род, младшая ветвь Капетингов, французская королевская династия, занимавшая престол во Франции в 1589–1792, 1814–1815 и 1815–1830 гг.; в Испании – в 1700–1808, 1814–1868, 1874–1931 гг.; в Неаполе – в 1735–1806 и 1814–1860 гг.; в Парме – в 1748–1802 и 1847–1859 гг.; в Болгарии – в 1887–1946 гг.
Бушардон Эдм (1698–1762) – французский скульптор, автор монументальных скульптур.
Бэртэн – модистка Марии Антуанетты.
Бюсн де – лейтенант, жандармский офицер.
Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) – французский естествоиспытатель, с 1739 г. директор Ботанического сада Парижа.
Валленштейн Альбрехт Венцель Евсевий (1583–1634) – полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне 1616–1648 гг. Являясь главнокомандующим, вступил в тайные переговоры с вражеской Швецией. Уличенный в измене, был отстранен от командования. Убит своими офицерами.
Валуа – династия французских королей (1328–1589), ветвь Капетингов.
Валуа де Ламотт (во втором замужестве де Гаше) Жанна, графиня (1756 г. – по одним сведениям, умерла в 1791-м, по другим – около 1825 г.) – авантюристка.
Ватто Антуан (1684–1721) – французский живописец и рисовальщик, мастер жанровых картин, картин из жизни театра.
Вержен Шарль Гравье, граф де (1717–1787) – французский дипломат и политик, в 1774–1787 гг. – министр иностранных дел.
Вермон Матье Жак (ок.1735–1797) – аббат, воспитатель эрцгерцогини Марии Антуанетты, затем чтец дофины, духовник короля.
Верньо Пьер Виктюрньен (1753–1793) – деятель французской революции. Адвокат. Депутат Законодательного собрания, депутат Конвента, лидер жирондистов. Гильотинирован.
Вертмюллер Адольф Ульрих (1751–1811) – шведский художник.
Веспуччи Америго (1454–1512) – испанский мореплаватель (флорентиец по происхождению).
Вийет Рето де – секретарь Жанны Ламотт.
Виже-Лебрен Элизабет Луиз (1755–1842) – французская художница-портретистка. Эмигрировала в Россию, написала в России более сорока портретов.
Виктория, мадам – дочь Людовика XV.
Водрей (Водрейль) Франсуа Жозеф Гиацинд, граф де (1740–1817) – друг графа д’Артуа, интендант зрелищ и увеселений королевы.
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778) – французский философ, историк, писатель, публицист.
Волян Софи – см. Моннье, Мари.
Вюртембергский Карл Евгений, герцог (1744–1793).
Габсбурги, Габсбургский дом – династия, правившая Священной Римской империей (1273–1806), Испанией (1516–1700), Австрийской империей с 1804 г. и Австро-Венгрией (1867–1918).
Габсбурги Лотарингские, Габсбургско-Лотарингский дом. – Мария Терезия, последняя государыня из дома Габсбургов, вышла замуж за Франца Стефана Лотарингского. Их дети – Иосиф II, Леопольд II и потомки Леопольда – из Габсбургско-Лотарингского дома, Фердинанд Карл, младший сын Марии Терезии, – родоначальник герцогства Габсбург-Эсте – также из этого дома.
Гарун (Харун) аль-Рашид (763 или 766–809) – халиф Ирана из династии Аббасидов с 786 г. Существует миф о добродетелях этого халифа, берущий начало в сказках «Тысячи и одной ночи».
Гейденстам Вернер фон (1859–1940) – шведский писатель, творивший в духе неоромантики. Лауреат Нобелевской премии (1915).
Гёльдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1767–1833) – немецкий поэт-романтик.
Герострат – грек, который, желая прославиться, сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды в Эфесе.
Гессен-Дармштадтская, ландграфиня – подруга Марии Антуанетты.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий мыслитель, поэт, прозаик, ученый.
Гильотен Жозеф Иньяс (1738–1814) – французский врач, предложил в 1789 г. машину для казни обезглавливанием – гильотину.
Гимэней, герцогиня.
Гин Андриан Луи де Бонньер, граф, затем герцог – дипломат.
Глюк Кристоф Виллибальд (1714–1787) – немецкий композитор. Жил и работал в Вене, Париже.
Гогела, барон де – капитан полка д’Артуа. Адъютант Буйе во время бегства королевской семьи в Варенн. После 10 августа 1792 г. эмигрировал, перешел на австрийскую службу.
Гольц Август Фредерик, барон фон – чрезвычайный посланник прусского короля Фридриха Великого во Франции.
Гонкур, братья: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) – французские писатели, совместно создали семь романов и «Дневник», работа над которым была завершена Эдмоном после смерти Жюля.
Граммон – французский актер (конец XVII в.).
Грильпарцер Франц (1791–1872) – австрийский драматург и писатель.
Гунольштейн, граф – издатель писем Марии Антуанетты (XIX в.).
Густав II Адольф (1594–1632) – король Швеции с 1611 г. Видный полководец, реформатор в судоустройстве, правительственных ведомствах, армии.
Густав III (1746–29.03.1792) – король Швеции с 1771 г. Совершил у себя поддержанный Францией переворот, установив неограниченную власть короля.
Давид Жак Луи (1748–1825) – французский живописец. Член Конвента. Придворный художник Наполеона I. После реставрации Бурбонов эмигрировал в Брюссель.
Дазенкур Жозеф Жан (1747–1809) – ведущий актер театра «Комеди Франсез». В премьере «Женитьба Фигаро» исполнял роль Фигаро.
Дамьен Робер Франсуа (1715–1757) – в январе 1757 г. совершил покушение на Людовика XV.
Данжу – секретарь ратуши.
Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт.
Дантон Жорж Жак (1759–1794) – адвокат, деятель французской революции. Помощник прокурора Парижской коммуны. В 1793 г. вошел в Комитет общественного спасения, стал его фактическим руководителем. Гильотинирован.
Демулен Камилл (Камиль) (1760–1794) – адвокат и журналист, деятель французской революции. Член Конвента. Примыкал к правому крылу якобинцев. Гильотинирован.
Дидро Дени (1713–1784) – французский философ.
Диллон – французский аристократ из окружения королевы.
Друэ Жан Батист (1763–1824) – по некоторым источникам, почтмейстер, по другим – сын почтмейстера в Сен-Менеульде, служил драгуном в полку Конде.
Дюбарри (дю Барри) Гильом – гасконский офицер, юридически муж фаворитки Людовика XV.
Дюбарри Мария Жанна (1746–1793) – побочная дочь Анны Бекю, отец неизвестен. Последняя фаворитка Людовика XV. Гильотинирована.
Дюма Александр (1803–1870) – французский писатель.
Дюмурье Шарль Франсуа дю Перье (1739–1823) – французский генерал и политический деятель. В 1792 г. министр иностранных дел, затем – военный министр, командовал Северной армией. Потерпев поражение при Неервиндере, вступил в сношения с австрийским командованием, бежал к австрийцам. С 1804 г. жил в Англии.
Дюран – документ на это имя был у Людовика, когда королевская семья бежала в Варенн.
Дюрфор, маркиз – французский дипломат.
Дюрфор, маркиза – жена предыдущего.
Екатерина Медичи (1519–1589) – французская королева, супруга Генриха II. Активно вмешивалась в управление государством. Участвовала в организации массового избиения гугенотов (Варфоломеевской ночи).
Екатерина Российская – Екатерина II (1727–1796), императрица с 1762 г.
Елизавета Тюдор (1533–1603) – английская королева с 1558 г.
Елизавета Филиппин Мари Элен, мадам (1764–1794) – сестра Людовика XVI. Гильотинирована.
Жарже – генерал.
Жерар – священник.
Жильбер – жандарм Консьержери.
Жозефина – этим именем Мария Антуанетта подписывала свои письма Ферзену.
Иосиф II (1741–1790) – сын Марии Терезии, соправитель матери с 1765 г., после ее смерти – государь, император Священной Римской империи.
Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) – итальянский авантюрист, автор «Мемуаров», впервые опубликованных в 1826–1832 гг.
Калиостро Алессандро (Джузеппе Бальзамо) (1743–1795) – авантюрист, выдавал себя за медика, натуралиста, алхимика, мага, заклинателя духов. В 1784 г. приезжал в Петербург, имел огромный успех в высшем обществе. Выслан из России как лицо, симпатизирующее масонам. В Риме в 1789 г. был приговорен как масон к смертной казни, замененной пожизненным заключением.
Калонн Шарль Александр де (1734–1802) – французский государственный деятель. В 1783–1787 гг. – генеральный контролер, министр финансов. После решения парижского парламента предать его суду бежал в Англию. В конце 1790 г. присоединился к лагерю роялистской эмиграции, став как бы главой правительства в изгнании. Умер во Франции.
Кампан Жанна Луиза (1752–1822) – французская писательница. Чтица дочерей Людовика XV, затем – первая камеристка Марии Антуанетты. При Наполеоне I директриса пансиона для дочерей офицеров Почетного легиона.
Капет (Капэ) – гражданское имя Людовика XVI.
Карагеоргиевичи – княжеская, затем королевская династия Сербии. Престол перешел к ним в 1903 г.
Карл X – см. Артуа, граф д’.
Карл Английский, Карл I (1600–1649) – король Англии с 1625 г. из династии Стюартов. Приговорен Верховным судебным трибуналом парламента к смертной казни.
Карон – см. Бомарше.
Катон Марк Порций Старший (234–149 до н. э.) – государственный деятель и писатель Древнего Рима. Был защитником староримских начал и идеологии, ввел суровые законы против роскоши.
Кауниц-Ритберг Венцель Антон, князь (1711–1794) – австрийский государственный деятель и дипломат. С 1753 по 1792 г. – государственный канцлер Австрии.
Клинковстрем Рудольф, барон де (1816–1902) – внучатый племянник Ганса Акселя Ферзена, шведский военный и политический деятель. Издатель переписки и дневников Г. А. Ферзена (1877–1878).
Клодион (наст. имя Клод Мишель) (1738–1814) – французский скульптор, широкую известность приобрел как автор небольших терракотовых статуэток, рельефов и моделей для севрского фарфора.
Клоотс Анахарсис (наст. имя Жан Батист) (1755–1794) – голландец по происхождению, прусский барон, очень состоятельный человек. Французский политический деятель, философ-просветитель, публицист. Член Конвента, выступал за насильственную дехристианизацию. Гильотинирован.
Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) – немецкий поэт.
Кобург – см. Фридрих Иосиф.
Койиньи Мари Франсуа, маркиз (1737–1820) – старший шталмейстер королевы, ее близкий друг. Во время революции эмигрировал. При Реставрации – маршал, герцог.
Колло д’Эрбуа Жан Мари (1750–1796) – актер, автор драм революционно-патриотического содержания. Депутат Конвента, член Комитета общественного спасения. В 1795 г. арестован в связи с попытками противодействовать разгулу контрреволюционного террора, сослан в Кайенну.
Кольбер Жан Батист (1619–1683) – министр Людовика XIV, сосредоточил в своих руках почти все управление государством.
Конде Луи Жозеф де Бурбон – см. Бурбон Луи Жозеф.
Кондорсе Жан Антуан де (1743–1794) – французский философ, математик, социолог, политический деятель. Был председателем Законодательного собрания, вице-председателем Конвента. Во время якобинской диктатуры заочно приговорен к смертной казни. В тюрьме покончил жизнь самоубийством.
Конти Луи Франсуа Жозеф де Бурбон, принц (1734–1814) – участник войн Людовика XV в Италии, Германии, Бельгии.
Корнель Пьер (1606–1684) – французский драматург.
Кортей – военный руководитель секции Парижа.
Корф – русская баронесса, вдова предыдущего. Ее документами воспользовалась королевская семья при бегстве в Варенн.
Крёз – последний царь Лидии (560–545 до н. э.). Первым начал чеканить золотые монеты, и имя его стало символом сказочного богатства.
Кройц Густав Филипп (1731–1785) – шведский поэт, дипломат, посол в Мадриде, затем в Париже. С 1783 г. – президент Государственного совета Швеции.
Кук Джеймс (1726–1779) – английский мореплаватель, совершил три кругосветных путешествия.
Куртуа Эдм Бонавентюр (1754–1816) – член Конвента. После 9-го термидора вошел в состав Комитета общественной безопасности, преследовал якобинцев, способствовал государственному перевороту 18-го брюмера.
Кухарский Александр (1741–1819) – польский художник.
Кюстин Адам Филипп, граф (1740–1793) – французский военный деятель, участник Семилетней войны и Войны за независимость Северной Америки. Командуя Рейнской армией, одержал ряд побед. Измена, за которую он был гильотинирован, современными историками подвергается сомнению.
Лагарп Жан Франсуа де (1739–1803) – французский драматург и теоретик литературы.
Лакло Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де (1741–1803) – французский писатель, автор романа в письмах «Опасные связи», легких галантно-эротических произведений, анонимных пасквилей. Ведущий деятель Якобинского клуба. Изобрел «полые ядра». В последующем – генерал в армии Наполеона.
Ламарк Аренберг Август Мария Раймонд, граф де (1753–1833) – немецкий аристократ. Член Учредительного собрания.
Ламбаль Мари Терез Луиз де Савой-Кариньяк, принцесса де (1749–1792) – приближенная королевы.
Ламорльер Розалия – служанка в Консьержери, автор записок о пребывании королевы в тюрьме.
Ламот (Ламотт) Жанна – см. Валуа де Ламотт.
Ламотт Николас де – муж графини Валуа де Ламотт.
Ларошфуко-Лианкур Франсуа Александр Фредерик, герцог де (1747–1827) – член Учредительного собрания, филантропист. Эмигрировал в Англию после 10 августа 1792 г., вернулся во Францию после прихода к власти Наполеона.
Лассон – лейб-медик Людовика XV.
Латур-Мобур – см. Мобур.
Лафайет Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер Мотье де (1757–1834) – маркиз, французский политический деятель. В 1777 г. уехал в Америку, сражался в рядах американских колонистов, восставших против английской короны. В 1789 г. избран в Генеральные штаты, затем командующий Национальной гвардией. Командовал одной из действующих армий. По подозрению в измене был отстранен от командования, бежал, находился в плену у австрийцев до 1797 г. Вернулся во Францию. Автор мемуаров.
Лафонтен Жан де (1621–1695) – французский поэт, баснописец.
Леви (Левис), герцог де – автор «Воспоминаний и портретов».
Ленотр Андре (1613–1700) – французский архитектор, планировщик парков, генеральный контролер королевских построек.
Леонар – парикмахер Марии Антуанетты.
Леопольд II (1747–1792) – в 1760–1790 гг. герцог Тосканский, с 1790 г. – австрийский государь, император Священной Римской империи.
Лепитр Жан Франсуа (1764–1821) – член коммуны 1792 г.
Лианкур – см. Ларошфуко-Лианкур.
Линь Шарль Иосиф, принц де (1735–1814) – бельгиец по происхождению, участник Семилетней войны и Войны за баварское наследство. Писатель, автор «Военно-литературной сентиментальной смеси».
Лозен Арман Луи де Бирон, герцог – приближенный королевы.
Ломени де Бриенн Этьен Шарль (1727–1794) – французский государственный деятель. Умер в тюрьме.
Лонэ Бернар-Рене Журдэн, маркиз де (1740–1789) – последний комендант Бастилии.
Лот – секретарь Валуа де Ламотт.
Луи Капет – Людовик XVI.
Луи Карл (Шарль) (27.03.1785–1.06.1795) – второй сын Марии Антуанетты и Людовика XVI, дофин, затем король Людовик XVII.
Лустало Элизе (1762–1790) – деятель французской революции, журналист, сотрудник газеты «Революсьон де Пари».
Любимов Николай Михайлович (род. 1912) – русский переводчик.
Людовик XIV (1638–1715) – король Франции с 1643 г.
Людовик XV (1710–1774) – правнук Людовика XIV, король Франции с 1715 г.
Людовик XVII – см. Луи Карл.
Людовик XVIII – см. Прованский, граф.
Людовик Святой (1214–1270) – король Франции с 1226 г., из династии Капетингов. Умер от чумы во время Восьмого крестового похода. Канонизирован в 1297 г.
Майяр Станислав Мари (1763–1794) – деятель французской революции. Имел прозвище «Крепкий кулак», участник штурма Бастилии. Торговый служащий, в дни сентябрьского террора был председателем импровизированного суда в тюрьме Аббатств. По своим политическим взглядам примыкал к Эберу. Гильотинирован.
Мальден – гвардейский офицер, содействовал бегству королевской семьи в Варенн.
Манда де Гранье Жан Антуан – командующий Национальной гвардией в 1792 г.
Мансар Жюль Ардуэн (1646–1708) – с 1668 г. носил фамилию Ардуэн-Мансар. Суперинтендент королевских построек, принимал участие в строительстве огромного количества дворцов, замков, зданий Версаля, Парижа.
Мансар Франсуа (1598–1666) – французский архитектор, автор проектов замков Блуа, Мезон, галереи Мазарини, др.
Марат Жан Поль (1743–1793) – медик и физик, публицист. Автор ряда научных работ. Член Конвента, издавал газету «Друг народа». Убит.
Мария Амалия (1746–?) – дочь Марии Терезии, герцогиня Пармская с 1769 г., жена инфанта Фердинанда, герцога Пармского.
Мария Каролина (1752–1814) – дочь Марии Терезии, с 1768 г. жена короля Неаполя (Королевства обеих Сицилий).
Мария Луиза (1791–1847) – дочь австрийского императора Франца II, вторая жена Наполеона I с 1810 г.
Мария Терезия (1717–1780) – австрийская государыня, императрица Священной Римской империи.
Мария Терезия Шарлотта де Бурбон – см. Ангулемская, герцогиня.
Машин Драга – любовница сербского короля Александра.
Ментенон Франсуаза д’Обиньи, маркиза де (1635–1719) – фаворитка Людовика XIV.
Мерси д’Аржанто Флоримон, граф де (1727–1794?) – австрийский посол во Франции в 1770–1790 гг.
Месмер Франц Антон (1734–1815) – австрийский врач. Выдвинул идею о «животном магнетизме» и считал, что планеты воздействуют на человека посредством особой магнитной силы.
Мессалина Валерия (около 23–48) – третья жена императора Клавдия. Жестокая, неразборчивая в средствах и властолюбивая, она отличалась исключительным распутством.
Метерлинк Морис (1862–1949) – бельгийский писатель-символист, автор пьес, цикла эссе и книги «Мудрость и судьба».
Мик Ришар (1728–1794) – французский архитектор. Автор декора Большого зала Малого Трианона, ряда построек в парке Трианон, декора покоев королевы в Версале. Гильотинирован.
Мило – дворцовая служанка.
Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф (1749–1791) – деятель французской революции. В Генеральные штаты избран был от третьего сословия, обладал исключительными способностями оратора.
Мишони (Мишонис, Мишонни) Жан Батист (1735–1794) – администратор полиции, член Парижской коммуны.
Мобур – депутат Учредительного собрания.
Мольер (наст. фамилия Поклен) Жан Батист (1622–1673) – французский драматург, создатель национального комедийного театра.
Монгольфье, братья – Жозеф (1740–1810), Этьен (1745–1799) – построили аэростат – бумажный шар, наполненный горячим дымом. Первый полет аэростата – июнь 1783 г., с людьми – ноябрь 1783 г.
Моннье Мари Терез Софи Ришар, маркиза де, урожденная де Рюффей (1754–1785) – возлюбленная Мирабо.
Морепа Жан Фредерик Филипп, граф де (1701–1781) – французский государственный деятель.
Моррис Гавернер (1752–1816) – американский политический деятель, дипломат.
Мотт де ла – см. Валуа де Ламотт.
Моцарт Вольфганг Амадей (1758–1791) – австрийский композитор.
Моцарт Мария Луиза (1756–1829) – сестра композитора, клавесинистка.
Мунье Жан Жозеф де (1758–1806) – деятель французской революции. Адвокат. Инициатор клятвы депутатов Национального собрания не расходиться до выработки конституции. В 1790 г. эмигрировал.
Муши – см. Ноай, графиня де.
Наполеон Бонапарт (1765–1821) – Наполеон I, французский император с 1804 г. по 11.04.1814 и с 1.03.1815 по 18.06.1815.
Неккер Жак (1732–1804) – швейцарец по происхождению, французский банкир, политический деятель. В 1777–1781 гг. генеральный контролер финансов. Затем – в этой же должности с перерывами в 1788–1790 гг. В сентябре 1791 г. эмигрировал.
Неккер, барышня – дочь барона Жака Неккера. См. Сталь Анна.
Неккер, мадам – жена Жака Неккера.
Николь (Лаге Николь) – модистка, принимавшая участие в афере Валуа де Ламотт.
Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, поэт, композитор.
Ноай, графиня де (1729–1794) – фрейлина дофины. После коронации, уйдя в отставку, вышла замуж за маршала Муши. Гильотинирована.
Новер Жан Жорж (1727–1810) – французский балетмейстер, автор знаменитого труда «Письмо о танце и балете».
Нормандский, герцог (1781–1789) – титул старшего сына Марии Антуанетты и Людовика XVI.
Ньювевиль, мадам – камеристка Марии Антуанетты.
Олива, баронесса д’ – см. Николь.
Орлеанский герцог – Луи Филипп Жозеф, герцог (1747–1793) – представитель младшей ветви королевской династии Валуа, французский политический деятель. В 1791 г. вступил в Якобинский клуб, в 1792 г. отказался от титула и взял фамилию Эгалите (Равенство). Член Конвента. Голосовал за казнь короля. После раскрытия заговора Дюмурье, к которому был причастен сын, будущий король Луи Филипп, – гильотинирован.
Орлеаны – младшие ветви королевских династий Валуа и Бурбонов.
Павел – апостол.
Патер Жан Батист (1695–1736) – французский живописец-жанрист, ученик Ватто.
Паш Жан Никола (1748–1823) – швейцарец, французский политический деятель. Примыкал к жирондистам, был избран в Конвент. Военный министр, мэр Парижа. Принимал участие в установлении диктатуры якобинцев. После 9-го термидора арестован, приговорен к смертной казни, амнистирован. С 1795 г. в политической жизни не участвовал.
Петион де Вильнёв Жером (1754–1794) – деятель французской революции. Депутат Генеральных штатов, депутат и первый председатель Конвента, мэр Парижа. После установления якобинской диктатуры исключен из Конвента. Участвовал в восстании жирондистов. Покончил жизнь самоубийством.
Полиньяк Диана – золовка Иоланты Полиньяк.
Полиньяк Иоланта Мартина Габриэль де Поластрон, герцогиня (1745–1793).
Помпадур, маркиза де (Жанна Антуанетта Пуассон) (1721–1754) – фаворитка Людовика XV с 1745 г. до своей смерти, фактически правила страной.
Прованский, Станислав Ксавье, граф Прованский (1755–1824) – с 1815 г. король Людовик XVIII.
Расин Жан (1639–1699) – французский драматург.
Рафаэль Санти (1483–1520) – итальянский живописец и архитектор.
Рейель – девушка, на которой отец Акселя Ферзена хотел его женить.
Рёдерер Пьер Луи (1754–1835) – французский политический деятель. Депутат Генеральных штатов от третьего сословия, член Учредительного собрания, генеральный прокурор-синдик парижского департамента.
Ричард II (1367–1400) – английский король (1377–1399), последний из династии Плантагенетов. Герой одноименной исторической драмы Шекспира (1597).
Ришар, мадам – жена надзирателя Консьержери.
Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог (1585–1642) – кардинал, французский государственный деятель, первый министр с 1624 г.
Робер Гюбер (1733–1808) – французский живописец и рисовальщик, мастер архитектурных пейзажей.
Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758–1794) – деятель французской революции. Адвокат, в 1788 г. президент Аррасской академии наук и искусств. Депутат Генеральных штатов. Один из руководителей восстания 31 мая – 2 июня 1793 г., свергнувшего власть жирондистов. После переворота 9 термидора гильотинирован.
Роган Луи Рене, принц де (1734–1803) – князь, кардинал, епископ Страсбургский.
Розенберг – австрийский дворянин, кузен Марии Антуанетты.
Ролан де ла Платьер Жан Мари (1734–1793) – французский политический деятель, министр внутренних дел, бежал от террора якобинцев; узнав о гибели жены, покончил с собой.
Ролан де ла Платьер Манон Жанна (1754–1793) – деятельница французской революции, жена Ж. М. Ролана, принимала участие в его политических делах. В ее салоне встречались лидеры жирондистского движения. Автор воспоминаний, написанных в тюрьме. Гильотинирована.
Ромёф – депутат Национального собрания.
Ронсен Шарль Филипп (1752–1794) – драматург, деятель французской революции, командовал революционной армией. Гильотинирован.
Рошет, мадам – документ на это имя был у Марии Антуанетты, когда королевская семья бежала в Варенн.
Рошетри – французский историк (XIX в.).
Рояль, мадам – см. Ангулемская герцогиня.
Ружвиль Гоне Шевалье (1760–1814) – телохранитель графа Прованского.
Руссо Жан Жак (1712–1778) – французский философ, писатель, композитор.
Рюффей де – см. Моннье.
Савл – имя апостола Павла до его крещения.
Савская царица – полулегендарный персонаж Библии.
Сансон Шарль Анри (1769–1840) – палач, казнивший королеву.
Сантер Антуан Жозеф (1752–1808 или 1809) – деятель французской революции. Повар по профессии, участвовал в штурме Бастилии. Командир Национальной гвардии в Париже. После 9-го термидора отошел от политики.
Сен-Жермен, граф (ум. в 1784 или 1795) – авантюрист, мнимый обладатель тайны философского камня, с помощью которого можно все металлы превращать в золото.
Сен-Жюст Антуан Леон (1767–1794) – деятель французской революции. Член Конвента 1792 г., примкнул к якобинцам. Активно участвовал в разработке якобинской конституции. Комиссар Рейнской, затем Северной армии. Гильотинирован.
Сен-При Франсуа Эммануэль Тиньяр (1735–1821) – французский государственный деятель, эмигрировал в Россию.
Сен-Реми Жак – отец Жанны Валуа де Ламотт.
Серф-Бер – эльзасский банкир.
Симон Антуан (1736–1794) – сапожник, член Парижской коммуны, член клуба кордельеров, воспитатель дофина. Гильотинирован.
Соломон (ум. ок. 928 до н. э.) – царь Израильско-Иудейского царства.
Сосс – бакалейный торговец, мэр и прокурор-синдик города Варенн.
Соус – см. Сосс.
Софи – сестра Ганса Акселя Ферзена.
Софи Беатрис (июль 1786 – июнь 1787) – вторая дочь королевской четы.
Софи, мадам – дочь Людовика XV.
Сталь Анна Луиза Жермен де (Сталь-Гольштейн) (1766–1817) – дочь барона Неккера, французская писательница, жена шведского дипломата.
Сьедергельм Альма – шведский историк.
Талейран-Перигор Шарль Мария де (1754–1836), князь Беневентский (1806–1815) – французский дипломат и государственный деятель. Был епископом Отейским. Депутат Генеральных штатов от духовенства, примкнул к представителям третьего сословия. После свержения монархии и раскрытия тайных связей с двором остался в Англии, где находился с дипломатической миссией. Министр иностранных дел Директории, консульства и империи. Способствовал Реставрации Бурбонов.
Тамерлан (1336–1405) – среднеазиатский полководец, отличался необыкновенной жестокостью к побежденным.
Теруань де Мерикур (Анн Жозеф Теруань) (1762–1817) – деятельница французской революции. Дочь зажиточного крестьянина, воспитание получила в монастыре. В 1790 г. открыла в Париже политический салон, среди посетителей которого были Дантон, Демулен. В 1793 г. сошла с ума, умерла в психиатрической больнице.
Тизон – жена комиссара в Тампле, шпионка коммуны.
Тронсон-Дюкуре Александр Гийом (1750–1797) – французский адвокат, защищал Марию Антуанетту. Был сослан в Гвиану.
Туанетта – сокр. от Марии Антуанетты.
Тулан – член Парижской коммуны, комиссар в Тампле. В апреле 1793 г. обвинен в связях со вдовой Капет, предан суду Революционного трибунала, приговорен 30.03.1794 г. к казни.
Турзель Луиза Элизабет, герцогиня де (1748–1832) – воспитательница детей королевской четы.
Тюренн Анри де ла Тур д’Овернь, виконт (1611–1675) – французский полководец, автор «Мемуаров».
Уолпол Гораций (Орас) (1717–1797) – английский писатель, историк литературы.
Фалькенштейн, граф – под этим именем император Иосиф II ездил в Париж. См. Иосиф II.
Фейе (Фелье) де Конш Феликс Себастьян (1798–1887) – французский дипломат, писатель, коллекционер автографов.
Фердинанд Карл (1754–1806) – сын Марии Терезии, родоначальник рода Габсбург-Эсте, правил Моденой.
Ферзен Ганс Аксель, граф де (1755–1810) – в 1775 г. капитан драгун шведской гвардии, в 1779 г. – полковник Королевского баварского полка. Во время Войны за независимость в Америке (1780–1783) – адъютант Рошамбо, в 1783 г. – полковник шведского полка. В 1797 г. – на дипломатической службе шведского короля.
Ферзен Фридрих Аксель (1719–1794) – крупный государственный деятель Швеции, отец Ферзена Акселя.
Фитц Джеймс, герцогиня.
Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) – немецкий философ и общественный деятель.
Фламмермон Жюль (1852–1899) – французский историк и палеограф.
Флахсланден, барон – адресат Марии Антуанетты.
Форже – один из псевдонимов барона де Баца; см. Бац.
Фрагонар Оноре (1732–1806) – французский живописец и график, ученик Шардена и Буше.
Франсьен – французский каретных дел мастер.
Франц I (1768–1835) – австрийский государь (1792–1835); под именем Франц II – последний император Священной Римской империи (1792–1806). Сын Леопольда II.
Франц Иосиф I (1830–1916) – австрийский император с 1848 г.
Фредегонда (543–597) – жена Хильперика I, короля Нейстрии. В борьбе с Брунгильдой проявила свой злобный и беспощадный к противнику характер.
Фрерон Луи Мари Станислав (1754–1802) деятель французской революции, член Парижской коммуны, член Конвента. Один из вождей термидорианской контрреволюции.
Фридрих Иосиф, герцог Саксен-Кобургский, князь фон (1737–1815) – фельдмаршал Австрии, одно время главнокомандующий армиями антифранцузской коалиции.
Фридрих Прусский (Великий) (1712–1786) – прусский король. Крупный полководец, автор ряда философских и исторических сочинений.
Фукье-Тенвиль Антуан Кентен (1746–1795) – деятель французской революции. Член Чрезвычайного трибунала. С марта 1793 г. общественный обвинитель Революционного трибунала. После термидорианского переворота гильотинирован.
Цвейг Стефан (1880–1942) – австрийский писатель.
Шарль Фердинанд, герцог де Берри (1778–1810) – второй сын графа д’Артуа.
Шартр (Шартрёз, Шартрская), герцогиня – супруга герцога Шартрского (с 1785 г. – Орлеанского).
Швейтен ван – лейб-медик Марии Терезии.
Шекспир Уильям (1564–1616) – английский поэт и драматург.
Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург, историк, филолог.
Шово-Лагард Клод Франсуа де (1756–1841) – защищал Марию Антуанетту и мадам Елизавету. Незадолго до падения Робеспьера был арестован, но после термидорианского переворота освобожден.
Шометт Пьер Гаспар (1763–1794) – сын сапожника, член клуба кордельеров, прокурор Парижской коммуны, один из инициаторов политики насильственной дехристианизации. Гильотинирован.
Штаремберг Георг Адам, князь де (1724–1807) – приближенное лицо австрийского двора.
Шуазель, герцог, полковник гусар, племянник Шуазеля Э. Ф.
Шуазель Этьен Франсуа, граф де Стенвиль, герцог де (1719–1785) – французский государственный деятель. В 1758–1770 гг. руководил всей политикой Франции.
Эбер Жак Рене (1757–1794) – деятель французской революции. Член клуба кордельеров, один из лидеров левых якобинцев. Член Парижской коммуны. С 1790 г. выпускал газету «Папаша Дюшен». Пропагандировал террор в самых крайних формах. Гильотинирован.
Эгалите Филипп – см. Орлеанский Луи Филипп Жозеф.
Эгийон, герцогиня – жена герцога Эгийона.
Эдельсгейм Георг Людвиг, барон фон (1740–1814) – на конгрессе в Раштатте представлял Бадей.
Эрман Марсьяль Жозеф Арман (1749–1795) – французский политический деятель.
Эстергази Валентин-Владислав, граф (1740–1815) – генерал-поручик. После неудачного бегства королевской семьи был послан графом д’Артуа в Петербург просить помощи у Екатерины II. Обратно вернуться во Францию уже не смог. Поселился в пожалованном ему императрицей поместье.
Этикет, мадам – см. Ноай, графиня.
Юм Давид (1711–1776) – английский философ, историк, экономист, представитель английского Просвещения.
Юнг Артур (1741–1820) – английский агроном и экономист. Автор ряда трудов, среди них «Путешествие во Францию» (2 тома, 1792, 1794).
Юрюж Виктор Амадей, маркиз де (1750–1810) – один из популярных ораторов Пале-Рояля.
Сноски
1
Австрийской волчице (фр.).
(обратно)2
Дом (Дворец) правосудия – здание на острове Сите, почти так же старо, как Париж. Сначала это был дворец римских правителей города, затем укрепленный замок французских королей. В начале XIV в. во дворце разместили парламент – Верховную судебную палату.
(обратно)3
«Вдова Капет». – После отстранения от власти в августе 1792 г. Людовика XVI, принадлежавшего к династии Капетингов, стали именовать просто «гражданин Капет».
(обратно)4
…один из Бурбонов вновь занимает французский престол… – это брат Людовика XVI, Станислав Ксаверий, граф Прованский, король Людовик XVIII.
(обратно)5
Гота – один из древнейших немецких городов Тюрингии (1180). В церкви августинского ордена (XVIII в.) сохранились надгробия XVI и XVII вв.
(обратно)6
…государство еретиков… – В XVI в. в Англии в результате Реформации возникла Государственная англиканская церковь. Католические Австрия и Франция считали англичан еретиками.
(обратно)7
…протестантское княжество Бранденбург… – Княжество сложилось в процессе завоевания германскими феодалами земель полабских славян. В середине XVII в. после присоединения Пруссии и Восточной Померании началось формирование Бранденбургско-Прусского королевства.
(обратно)8
Чудовище (фр.).
(обратно)9
Версаль – королевская резиденция. В 1627 г. король Людовик XIII купил маленькую деревню Версаль в 18 км от Парижа, где был построен небольшой охотничий замок. Позже на этом месте возвели королевский дворец.
(обратно)10
Шёнбрунн – резиденция австрийских императоров в Вене. Дворцовый парк включает в себя ботанический сад и старейший в Европе зоопарк.
(обратно)11
«Пусть воюют другие, ты же, счастливая Австрия, заключай браки» (лат.). – Выражение приписывается Матиасу Корвину, венгерскому королю, перефразировавшему стих из поэмы Овидия «Героиды»: «Другие воюют, Протезилай же предается любви». Корвин очень точно характеризует способ увеличения территории Австрийского государства при помощи брачных союзов императоров.
(обратно)12
«Большой Питт». – Другое название – «Регент». По данным 1968 г., четвертый по величине бриллиант в мире, его вес – 136,75 карата (27,3 г).
(обратно)13
Мехельн – город в Нидерландах (теперь в Бельгии); в 1714–1792 гг. принадлежал Австрии. Славился тонкими плетеными и шитыми кружевами.
(обратно)14
Хофбург – резиденция австрийских императоров; вероятно, самый старый архитектурный ансамбль в Вене (XIII в.).
(обратно)15
Торжественное представление (фр.).
(обратно)16
Бельведер – здесь: дворцово-парковый ансамбль Вены, загородный дворец императорской фамилии. Построен в 1713–1716 гг.
(обратно)17
По доверенности (лат.).
(обратно)18
Кассандра – в греческом эпосе дочь троянского царя. Обладала даром пророчества, но никто не верил ее предсказаниям.
(обратно)19
И другая дочь, та, что в Неаполе… – Мария Каролина.
(обратно)20
…легенда о Ясоне, Медее и Креусе… – По древнегреческому мифу, герой Ясон возглавил поход за золотым руном. С помощью Медеи, дочери царя Колхиды, полюбившей Ясона, он золотое руно добыл. Когда Ясон решил жениться на Креусе, дочери коринфского царя, Медея, мстя Ясону за измену, убила Креусу и – по Еврипиду – своих детей от Ясона.
(обратно)21
Коадъютор – помощник епископа.
(обратно)22
«Свидание с мадам дофиной» (фр.).
(обратно)23
Темной толпе, непросвещенной черни (лат.).
(обратно)24
Зала для представлений (фр.).
(обратно)25
«Ничего» (фр.).
(обратно)26
Брак не свершился (лат.).
(обратно)27
Натура с замедленной реакцией (фр.).
(обратно)28
Не стоит огорчаться по этому поводу (фр.).
(обратно)29
Чрезвычайная поспешность может все испортить (фр.).
(обратно)30
Такого странного поведения (фр.).
(обратно)31
Проклятые чары (фр.).
(обратно)32
Чрезвычайной холодности дофина (фр.).
(обратно)33
Фимоз – сужение крайней плоти (лат.).
(обратно)34
«Кто говорит, что уздечка так сдерживает крайнюю плоть, что она при акте не отступает и вызывает сильную боль, из-за которой Его Величество воздерживается от интимных встреч. Кто предполагает, что указанная плоть столь закрыта, что не может растянуться в достаточной степени, необходимой для головки, в силу чего эрекция не достигает должной упругости» (исп.).
(обратно)35
Чтобы вернуть ему голос (фр.).
(обратно)36
«Я стараюсь склонить его к небольшой операции, о которой уже шла речь и которую я считаю необходимой» (фр.).
(обратно)37
Маленьком улучшении (фр.).
(обратно)38
Король-солнце (фр.).
(обратно)39
Левэ – королевский выход; более широко: утренний прием у знатных особ.
(обратно)40
Гайдуки – здесь: выездные лакеи.
(обратно)41
Мадам – во Франции титул женщин королевской крови: сестер, дочерей короля, дофины.
(обратно)42
Парки – в древнегреческой мифологии богини жизни и смерти, прявшие нить человеческой судьбы.
(обратно)43
Словечки, каламбуры (фр.).
(обратно)44
Меры (фр.).
(обратно)45
«Лично» (лат.).
(обратно)46
Собачку мопса (фр.).
(обратно)47
Глупом и нелепом создании (фр.).
(обратно)48
Рыженькая (фр.).
(обратно)49
После меня хоть потоп (фр.).
(обратно)50
Дела (фр.).
(обратно)51
…подписывает соглашение… – Секретная Петербургская конвенция между Россией, Пруссией и Австрией о первом разделе Речи Посполитой (официальное название Польско-Литовского государства в 1569–1795 гг.) была подписана осенью 1772 г.
(обратно)52
Добрая и милая Антуанетта (фр.).
(обратно)53
Летр де каше – буквально: письмо с печатью (фр.). В феодально-абсолютистской Франции приказ о заключении в тюрьму, подписанный королем и скрепленный королевской печатью. Обычно выдавался полиции с пробелом на месте фамилии.
(обратно)54
Счастливый въезд (фр.).
(обратно)55
Мадам дофина (фр.).
(обратно)56
«Комеди Франсез» – старейший драматический театр Франции, основанный в 1680 г.
(обратно)57
Ночной Париж, Париж – город удовольствий (англ.).
(обратно)58
Славного Глюка (фр.).
(обратно)59
Музыка сфер – поэтический образ, берущий свое начало в учении пифагорейцев (последователей Пифагора) о гармонических звуках, будто бы возникающих при движении небесных светил.
(обратно)60
Король умер, да здравствует король! (фр.)
(обратно)61
«Болеть, сир, нужно только в Версале» (фр.).
(обратно)62
Ой-де-Бёф – буквально: бычий глаз (фр.). Название помещения перед королевской опочивальней в Версале дано по большому круглому окну.
(обратно)63
Рюэй – замок в 18 км от Версаля. Построен в XVI в. для кардинала Ришелье.
(обратно)64
Олений парк – находился при замке Ля-Мюэтт в Пасси, где содержались олени. Замок служил временным пристанищем для «любезных девиц», любовниц незнатного происхождения, принимавших там непродолжительные посещения Людовика XV.
(обратно)65
Шуази-ле-Руа – город примерно в 11 км от Парижа.
(обратно)66
«Король умер, да здравствует король!» – этой фразой в королевской Франции оповещали о смерти короля и вступлении на престол его преемника.
(обратно)67
Здесь: тварь (фр.).
(обратно)68
«Возлюбленный» – так стали называть Людовика XV в 1744 г. Во время Войны за австрийское наследство король отправился в Эльзас, где военное положение требовало его присутствия. В пути он опасно заболел, что вызвало в народе тревогу и сочувствие.
(обратно)69
Самая неказистая внешность, какую только можно себе вообразить (фр.).
(обратно)70
Бобовый король. – Существовал обычай в день Богоявления запекать в пирог бобовое зерно, нашедший зерно объявлялся бобовым королем. Здесь: ненастоящий король.
(обратно)71
Реймс – место принятия христианства королем франков Хлодвигом в 496 г. и в связи с этим – традиционное место коронации французских королей на протяжении всей истории королевской Франции.
(обратно)72
Жизнь врозь (фр.).
(обратно)73
Отдельная постель (фр.).
(обратно)74
Фальстаф – персонаж комедии «Виндзорские насмешницы» и хроники «Генрих IV» Шекспира.
(обратно)75
Нечто не стоящее внимания (фр.).
(обратно)76
Конвент – высший законодательный и исполнительный орган. Существовал с 21 сентября 1792 г. по 26 октября 1796 г.
(обратно)77
Из «Кротких ксений».
(обратно)78
Элегантности (лат.).
(обратно)79
Между Версалем, Трианоном, Фонтенбло, Марли, Сен-Клу, Рамбуйе… – Малый Трианон находится в 1,5 км от Версальского дворца, построен в 60-х гг. XVIII в. Фонтенбло – старейшая (XII в.) загородная резиденция французских королей в 30 км от Версаля; дворцовый парк – один из наиболее значительных образцов французского садово-паркового искусства. Марли – замок в местечке Марли-ле-Руа на левом берегу Сены, в 10 км от Версаля, построен для Людовика XIV. Сен-Клу – замок в 9 км от Версаля, построен в начале XVII в., куплен Марией Антуанеттой у наследников брата Людовика XIV. Рамбуйе – замок в 30 км от Версаля, построен в XIV в.
(обратно)80
Деревушки (фр.).
(обратно)81
Оплатите (фр.).
(обратно)82
Личные покои (фр.).
(обратно)83
Фигаро – персонаж нескольких пьес Бомарше, цирюльник.
(обратно)84
А-ля Ифигения (фр.).
(обратно)85
Делают королю прививку против оспы… – Прививки против оспы практиковались в Европе с 20-х гг. XVIII в. Во Франции их стали делать во второй половине века.
(обратно)86
«Прическа в честь прививки» (фр.).
(обратно)87
Входят в моду разговоры о восстании в Америке… – Война за независимость в Северной Америке (1775–1783) – освободительная война 13 английских колоний привела к созданию независимого государства, Соединенных Штатов Америки. В американской армии было около 7 тысяч европейцев-добровольцев, среди них маркиз Лафайет, будущий социалист-утопист Сен-Симон, будущий руководитель Польского восстания 1794 г. Костюшко. Франция первая из европейских стран сначала тайно, а потом открыто стала поддерживать становление Соединенных Штатов, в частности содействовала поставке оружия восставшим.
(обратно)88
«Бунтарский чепец» (фр.).
(обратно)89
Дорогой матушке (фр.).
(обратно)90
Фероньерка – женское украшение с драгоценными камнями, надеваемое на лоб.
(обратно)91
«Восход Авроры» (фр.).
(обратно)92
«Утренний дар» – подарок мужа новобрачной утром после свадьбы.
(обратно)93
Приют удовольствия (фр.).
(обратно)94
Приятное уединение (исп.).
(обратно)95
Лепорелло – слуга Дон Жуана в одноименной поэме Байрона. Здесь: слуга-сводник.
(обратно)96
Светлой роща названа потому, что в ней не светит (лат.). – Пример неверной этимологии, приводимый Квинтилианом.
(обратно)97
Людовик XVI (фр.).
(обратно)98
Людовика XV и Людовика XIV (фр.).
(обратно)99
Празднества галантности (фр.).
(обратно)100
Салический закон – существовал во Франкском государстве в начале VI в., определял право наследования земли исключительно по мужской линии.
(обратно)101
«Именем королевы» (фр.).
(обратно)102
По приказу королевы (фр.).
(обратно)103
«Деревенский колдун» (фр.).
(обратно)104
Человек с извращенными вкусами (лат.).
(обратно)105
Анакреонтические стихотворения – воспевали любовь, вино, пиры и пр. Название связано с именем древнегреческого поэта Анакреонта, автора любовных и застольных песен.
(обратно)106
Бельведер – от ит. «прекрасный вид». Здесь: беседка на возвышенности.
(обратно)107
Пейзане – от фр. paysan – «крестьянин». Название условно-идиллических образов крестьян в художественной литературе, живописи, театре.
(обратно)108
Мануфактура в Севре – крупнейший во Франции фарфоровый завод в г. Севре близ Парижа, основан в 1756 г.
(обратно)109
Комедией полей (фр.).
(обратно)110
Влечение к природе (фр.).
(обратно)111
…каплей в бочке Данаид… – По древнегреческой легенде, пятьдесят дочерей аргосского царя Даная, убившие своих мужей, были осуждены богами наполнять водой бездонную бочку.
(обратно)112
Революционный трибунал – был создан 17 августа 1792 г., а в марте 1793 г. реорганизован в Чрезвычайный уголовный трибунал. С 29 октября 1793 г. стал официально называться Революционным трибуналом, с ускоренным судопроизводством и единой мерой наказания – смертной казнью. Упразднен декретом от 31 мая 1795 г.
(обратно)113
Маленьком Шёнбрунне (фр.).
(обратно)114
Маленькой Вене (фр.).
(обратно)115
«Все, кто хуже всех в Париже и кто моложе всех» (фр.).
(обратно)116
«Общество, так сказать» (фр.).
(обратно)117
Распорядителя развлечений (фр.).
(обратно)118
«Один из тех, кто постоянно ходит в фаворитах и с кем советуются» (фр.).
(обратно)119
Сафические наклонности. – По имени Сафо, древнегреческой поэтессы с острова Лесбос. То же, что лесбиянство.
(обратно)120
Удар молнии (фр.). Здесь: любовь с первого взгляда.
(обратно)121
Ливр – французская серебряная монета, в разное время равнялась различным долям серебра; в 1795 г. 80 новых франков равнялись 81 ливру.
(обратно)122
Дукат – венецианская золотая и серебряная монета, имела хождение по всей Европе. Серебряный дукат равен примерно 0,75 франка.
(обратно)123
Елисейские поля – в древнегреческой мифологии загробный мир теней умерших. Здесь: рай.
(обратно)124
Приступах раздражения (фр.).
(обратно)125
1 Недомоганий, истерических припадков (фр.).
(обратно)126
Здесь: сударь, господин (фр.).
(обратно)127
Здесь: божьей искры (лат.).
(обратно)128
Написанное остается (лат.).
(обратно)129
Революция будет жестокой, если вы ее не подготовите (фр.).
(обратно)130
1 Нерадивый супруг (фр.).
(обратно)131
Важный (фр.).
(обратно)132
От лат. «Те, Deum, laudamus…» – «Тебя, Бога, хвалим…» – начальных слов раннехристианского гимна.
(обратно)133
К сожалению! (фр.)
(обратно)134
Литания – молитва; причитание.
(обратно)135
Бюст (фр.).
(обратно)136
«Да здравствует королева!» (фр.)
(обратно)137
Замок Люксембург – резиденция графа Прованского, возведен в 1615–1620 гг. Дворец Пале-Рояль, построенный в 1629–1636 гг., Людовик XIV подарил своему брату герцогу Ф. Орлеанскому. В 1781 г. герцог Орлеанский (будущий Филипп Эгалите) поручил построить однотипные, обрамляющие сад корпуса с галереями и аркадами для сдачи их внаем под лавки, кафе.
(обратно)138
Слухи, сплетни (фр.).
(обратно)139
Фабрика клеветы (фр.).
(обратно)140
Дразня, насмехаясь (от нем. frotzelnd).
(обратно)141
Филантрописты – последователи течения, близкого к идеям Руссо, проповедовавшего природосообразность воспитания, воспитание человеколюбия.
(обратно)142
Масоны (франкмасоны) – от фр. «вольные каменщики» – последователи религиозно-этического учения, призывавшего людей к объединению на началах братской любви в целях искоренения пороков человеческого общества путем самопознания и самоусовершенствования.
(обратно)143
Здесь: титул брата короля, следующего за ним по старшинству (фр.).
(обратно)144
…Франсуа Ксавье, граф Прованский… – Здесь Цвейг допустил ошибку: имя графа Прованского – Луи Станислав Ксавье.
(обратно)145
Семь библейских годов изобилия. – По библейской легенде, семь лет изобилия в Египте предшествовали семи годам голода.
(обратно)146
Скабрезности (фр.).
(обратно)147
Бастарды – потомство, получаемое от скрещивания особей различных видов или родов. Здесь: незаконнорожденное дитя.
(обратно)148
Независимость (ит.).
(обратно)149
…политическая обстановка оказалась… сложной… – В середине 80-х гг. XVIII в. во Франции разразился торгово-экономический кризис. В Нидерландах, где Франция имела серьезные политические и экономические интересы, вспыхнуло восстание против партии, опиравшейся на франко-австрийский альянс. Английская и прусская интервенция помогла подавить это восстание, но влияние Англии на Нидерланды усилилось, что ударило по интересам Франции.
(обратно)150
«Сообщение, важное для испанской ветви, относительно ее прав на корону Франции» (фр.).
(обратно)151
Мошенником (фр.).
(обратно)152
Дурной особой (фр.).
(обратно)153
Высший закон (лат.).
(обратно)154
Перевод Н. М. Любимова.
(обратно)155
«Противного священника» (фр.).
(обратно)156
«Сосуд, наполненный злословием» (фр.).
(обратно)157
«Дурную особу» (фр.).
(обратно)158
«Истинного мота» (фр.).
(обратно)159
Великий альмосениер – титул духовника французского короля.
(обратно)160
Провизор – здесь: управляющий.
(обратно)161
Сорбонна – парижский университет, создан в 1253 г., носит имя своего основателя, духовника Робера де Сорбона, автора ученого трактата «О рае».
(обратно)162
Больших приемов (фр.).
(обратно)163
Тихо, очень тихо (ит.).
(обратно)164
Тихо (ит.).
(обратно)165
Внезапно сильнее (ит.).
(обратно)166
Усиление звучности (ит.).
(обратно)167
Начинается трагедия (лат.).
(обратно)168
«Великий Кофта» – комедия нравов, написанная на основе материалов процесса о колье, в декабре того же года была поставлена в Веймарском театре, успеха не имела.
(обратно)169
Мешанине (исп.).
(обратно)170
Валуа – династия французских королей (1328–1589), старшая ветвь Капетингов. После смерти последнего короля из династии Валуа, Генриха III, к власти пришла младшая ветвь Капетингов – Бурбоны. Генрих IV – первый король из династии Бурбонов – дед Людовика XIV.
(обратно)171
Бар-сюр-Об – в конце XVIII в. небольшой городок в Шампани, примерно в 200 км от Парижа.
(обратно)172
Саверн – замок страсбургских епископов в одноименном городке Нижнего Эльзаса на реке Сорн.
(обратно)173
Мир желает быть обманутым (лат.).
(обратно)174
Каббалисты – здесь: лжеученые.
(обратно)175
Розенкрейцеры – члены мистико-философского общества, существовавшего в XVII–XVIII вв. в основном в Германии и Голландии. Название связано с эмблемой общества – роза и крест.
(обратно)176
Авгуры – в Древнем Риме жрецы, толковавшие волю богов по пению и полету птиц. Здесь: обманщики.
(обратно)177
Здесь: рай.
(обратно)178
Собственноручно (лат.).
(обратно)179
Мария Антуанетта Французская (фр.).
(обратно)180
Великие Моголы – династия, правившая в Индии в 1526–1707 гг. Могольская империя славилась могуществом и богатством.
(обратно)181
Берлина – четырехместная коляска для путешествий.
(обратно)182
Лукулловы пиршества. – Выражение связано с именем римского полководца Лукулла, прославившегося богатством, роскошью и пирами.
(обратно)183
Тюильри – резиденция французских монархов. Дворец являлся частью комплекса Лувр. В 1871 г. во время боев коммунаров с версальцами сгорел.
(обратно)184
Пандора – персонаж греческой мифологии. Была послана на землю с ящиком, наполненным бедствиями. Из любопытства она открыла ящик, и бедствия распространились среди людей.
(обратно)185
Всегда что-нибудь да прилипнет (лат.).
(обратно)186
Здесь: представителями высшей знати (фр.).
(обратно)187
Лотарингский дом – один из древнейших владетельных родов Европы, берущий свое начало от Лотаря II (855–859 гг.).
(обратно)188
Воровка (фр.).
(обратно)189
Сальпетриер – женская тюрьма в Париже.
(обратно)190
Последним криком моды (фр.).
(обратно)191
Все лесбиянки Парижа (фр.).
(обратно)192
«Скандальная жизнь Марии Антуанетты» (фр.).
(обратно)193
Неистовую плоть (фр.).
(обратно)194
«Королевский бордель» (фр.).
(обратно)195
Любовниками и любовницами (фр.).
(обратно)196
…выбрасывается из окна… – Существует версия, согласно которой Ламотт не выбросилась из окна, а симулировала свою гибель, чтобы скрыться от возможных преследователей со стороны французского двора.
(обратно)197
«Общественный договор». – В трактате «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) выражена идея народного суверенитета и права народов вернуть себе свободу, захваченную тем или иным правителем.
(обратно)198
Генеральные штаты – высший орган сословного представительства в феодальной Франции. Первыми принято считать Генеральные штаты 1302 г.
(обратно)199
Салон – здесь: название выставок художников. Впервые подобная выставка прошла в 1699 г. В 1737–1848 гг. они проходили в Квадратном салоне Лувра. С середины XVIII в. салон организовывается регулярно.
(обратно)200
Небрежения (фр.).
(обратно)201
Ассигнаты – бумажные деньги, выпущенные Учредительным собранием Франции, были в обращении в 1789–1796 гг.
(обратно)202
«Отчете» (фр.). «Отчет» – доклад королю, написанный Неккером в 1781 г., где он сообщал, что в 1778 г. на армию, флот, колонии и расходы Министерства иностранных дел было потрачено 125 млн. ливров, а на содержание королевского двора и пенсии придворным – 52 млн.
(обратно)203
Собрание нотаблей – во Франции XIV–XVIII вв. собрание представителей высшего духовенства, придворного дворянства и мэров городов. В отличие от депутатов Генеральных штатов нотабли не избирались сословиями, а приглашались королем. Собрания созывались нерегулярно, имели совещательный характер.
(обратно)204
Созыв Национального собрания… – Здесь и далее автор, говоря о Генеральных штатах, об Учредительном (существовавшем с 9 июля 1789 г.) или Законодательном (открытом 1 октября 1791 г.) собраниях, именует их или просто Собранием, или Национальным собранием, вкладывая в это понятие расширительный смысл – собрание, представляющее интересы нации. Это характерно для современников революции (Манифест герцога Брауншвейгского) и для многих историков (Ж. Жорес, П. А. Кропоткин, А. 3. Манфред).
(обратно)205
5 мая 1789 года, в день открытия Генеральных штатов… – Торжественное открытие Генеральных штатов состоялось 4 мая, первое заседание – 5 мая. Генеральные штаты состояли из 270 депутатов от дворян, 291 – от духовенства и 576 – от третьего сословия.
(обратно)206
«Да здравствует королева!» (фр.)
(обратно)207
«Вот она, жертва» (фр.).
(обратно)208
…объявляет себя Национальным собранием и в Зале для игры в мяч… – 17 июня 1789 г. собрание депутатов Генеральных штатов, представителей от третьего сословия, провозгласило себя Национальным собранием. Так как 20 мая зал заседаний во дворце был по приказу короля закрыт, собрание перешло в городской Зал для игры в мяч.
(обратно)209
Варфоломеевская ночь – массовая резня гугенотов католиками в Париже в ночь перед праздником Св. Варфоломея – 24 августа 1572 г. Было убито более 2 тыс. человек. Резня в Париже продолжалась три дня, затем начались погромы по всей Франции.
(обратно)210
Кокарда – металлический значок установленного образца на форменном головном уборе. Лафайет предложил муниципалитету ввести трехцветную кокарду: сочетание синего и красного цветов – цветов Парижа с белым цветом – цветом монархии. Сочетание это должно было символизировать единство нации и преемственность истории. Цвета кокарды стали цветами государственного флага Франции.
(обратно)211
…этот кровавый светильник освещает путь революции. – Во время взятия Бастилии 83 человека было убито, 15 – умерло от ран, 13 – изувечено, 60 – ранено. Были убиты комендант Бастилии де Лонэ, три офицера штаба Бастилии и три инвалида из охраны крепости.
(обратно)212
«Мое ремесло – быть роялистом» (фр.).
(обратно)213
Фригийский колпак – головной убор обычно красного цвета. По преданию, подобные колпаки носили древние фригийцы. В Древней Греции и Древнем Риме фригийский колпак надевали на освобожденного раба. Во время французской революции – символ свободы и равенства.
(обратно)214
Вернувший французам свободу (фр.).
(обратно)215
Прощайте (фр.).
(обратно)216
Спасайся кто может (фр.).
(обратно)217
Эскориал – дворец-монастырь, резиденция испанских королей. Суровый и мрачный, окруженный массивными стенами, огромный архитектурный ансамбль являл собой полную противоположность пышным дворцам французских королей, всегда заполненным толпами оживленных и богато одетых придворных.
(обратно)218
«Фоблас». – Автор имеет в виду многотомный роман французского писателя Луве де Кувре «Жизнь и любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787–1791, русский перевод 1792–1796).
(обратно)219
Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. Здесь: лицо, дающее неясные двусмысленные предсказания.
(обратно)220
Остроумного человека (фр.).
(обратно)221
Горячее сердце (фр.).
(обратно)222
Здесь: развлечения (фр.).
(обратно)223
Вот и все (фр.).
(обратно)224
Прекрасный Аксель (фр.).
(обратно)225
«Ах, по вдохновению свыше я приняла Вас при своем дворе» (фр.).
(обратно)226
Иосиф Прекрасный – библейский персонаж, один из двенадцати сыновей патриарха Иакова, был продан братьями. Жена царедворца Потифара, рабом в доме которого был Иосиф, соблазняла его к сожительству, однако он сохранил свое целомудрие.
(обратно)227
«Она при мне часто плачет, судите же, как я должен любить ее» (фр.).
(обратно)228
Керубино – персонаж пьесы Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» – паж, влюбленный в графиню, хозяйку дома.
(обратно)229
Боскет – маленькая рощица или густые группы деревьев в декоративном саду.
(обратно)230
Галантный кавалер, верный рыцарь (ит.).
(обратно)231
…достойной трубадура или рыцаря Круглого стола. – Трубадуры – провансальские странствующие поэты-певцы XI–XIII вв. Тема их поэзии – воспевание дамы. Рыцарь Круглого стола в рыцарских романах Средневековья – олицетворение преданности вассала своему сюзерену; король Артур (герой цикла романов, историческая личность, в конце V – начале VI в. возглавлял борьбу против англосаксонского вторжения в Британию) якобы велел соорудить круглый стол для придворных пиршеств, за которым все рыцари должны были чувствовать себя равными.
(обратно)232
Долгу чести (фр.).
(обратно)233
«Ужасной клеветы» (фр.).
(обратно)234
Здесь: «ничего скрытного и циничного» (фр.).
(обратно)235
Устный приказ (фр.).
(обратно)236
Со всей очевидностью (ит.).
(обратно)237
«Может быть, да; может быть, нет» (ит.).
(обратно)238
Палеография – дисциплина, изучающая видоизменение букв по эпохам и странам; изучает рукописи, преимущественно их внешнюю сторону: способ написания, форму букв, особенности материала, на котором написана рукопись, и пр.
(обратно)239
«Прощайте», «я заканчиваю» (фр.).
(обратно)240
«Как Ваше здоровье? Держу пари, что Вы о нем не заботитесь, и напрасно… что касается меня, то я себя чувствую лучше, чем это можно было ожидать» (фр.).
(обратно)241
«Эта забота составляет единственное мое счастье… и когда мне становится грустно, я беру к себе моего малыша» (фр.).
(обратно)242
Герострат – грек, который, желая прославиться и увековечить свое имя, сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды в Эфесе.
(обратно)243
Аутодафе (порт., буквально – акт веры) – оглашение и приведение в исполнение приговоров инквизиции, в частности сожжение осужденных на костре. Здесь: варварский акт сожжения документов.
(обратно)244
В подлинном виде (лат.).
(обратно)245
Конгресс в Раштатте. – На конгрессе велись переговоры представителей Франции, Австрии, Пруссии и небольших немецких государств – членов Священной Римской империи, с целью урегулирования территориальных вопросов. Конгресс длился с 9 декабря 1797 г. по 23 апреля 1799 г.
(обратно)246
Здесь: старого порядка (фр.).
(обратно)247
Малых забав (фр.).
(обратно)248
Двумя днями позже, 5 октября… – Цвейг ведет отсчет от 3 октября, когда для фландрского полка состоялся первый банкет в Версале.
(обратно)249
Национальная гвардия – вооруженное гражданское ополчение, создано 13 июля 1789 г. Строилась по территориальному принципу, делилась на легионы, батальоны, роты. В первый период Национальной гвардии ее младший и средний командные составы избирались, главнокомандующий назначался правительством.
(обратно)250
Юдифь – библейский персонаж. Спасла родной город, осажденный войсками Навуходоносора, царя Вавилона. Пробравшись во вражеский лагерь, она вошла в доверие к военачальнику Олоферну и, оставшись наедине с ним, «упадшим на ложе свое, потому что был переполнен вином» (Книга Юдифь), обезглавила его и невредимой вернулась в город. Армия противника, узнав о гибели вождя, в беспорядке бежала.
(обратно)251
«Вся эта революция – со страха» (фр.).
(обратно)252
Морфей – в древнегреческой мифологии божество сна и сновидений.
(обратно)253
Амазонки – в древнегреческих легендах воинственные женщины, жившие у берегов Черного моря и совершавшие походы в соседние страны. Для удобства стрельбы из лука эти женщины якобы выжигали правую грудную железу, отсюда и название (греч. а – частица отрицания и mazos – сосок).
(обратно)254
«Достойной Марии Терезии» (фр.).
(обратно)255
«Любимец» (фр.).
(обратно)256
Женщина средних лет (фр.).
(обратно)257
Якобинский клуб. – Бретонский политический клуб после переезда в октябре из Версаля в Париж стал именоваться Якобинским по названию помещения, в котором проходили его заседания, – в бывшей библиотеке доминиканских монахов, именовавшихся во Франции якобинцами.
(обратно)258
Бандерилья – копье, украшенное лентами, употребляется при бое быков.
(обратно)259
…на что способна женщина с ребенком на лошади. – Здесь имеется в виду эпизод, связанный с борьбой Марии Терезии за корону осенью 1742 г., когда ей удалось склонить на свою сторону Венгерский дворянский сейм.
(обратно)260
Дурную особу (фр.).
(обратно)261
Софи Волян – Мари Терез Софи Ришар де Моннье (урожд. де Рюффей). Роман Мирабо и де Моннье протекал в духе Средневековья – с отлучками из тюрьмы для свидания с возлюбленной, побегом из крепости, отравлениями, скитаниями за границей, с поимкой беглецов и судом над ними. Мирабо «за грабеж и обольщение» был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением, де Моннье – к заключению до конца дней в доме для падших женщин. Находясь в заключении, Мирабо на протяжении почти четырех лет обменивался письмами с Софи де Моннье. Письма Мирабо к возлюбленной, которые «обессмертили ее имя» (энциклопедия Ларусса), были изданы в начале XIX в.
(обратно)262
Самсон – библейский персонаж. Обладал огромной силой. В Библии говорится, что однажды он ослиной челюстью убил тысячу филистимлян, враждовавших с израильтянами.
(обратно)263
Здесь: курс на ухудшение (фр.).
(обратно)264
Королевскому скоту (фр.).
(обратно)265
Двумя годами позже… труп будет… выброшен на живодерню. – Мирабо умер 2 апреля 1791 г. Останки его были захоронены в церкви Святой Женевьевы, объявленной Пантеоном, храмом, где благодарное отечество обязуется вечно хранить останки великих людей. По обнаружении после свержения монархии документов, устанавливающих измену Мирабо революции, прах его был перенесен на кладбище для преступников в предместье Сен-Марсо.
(обратно)266
Еще тот фрукт (ит.).
(обратно)267
«Великие герои» отсиживаются в Кобленце и Турине… – В г. Кобленце (Германия) эмигранты группировались вокруг братьев короля. Великобритания, Швеция, Россия оказывали им финансовую помощь. На эти средства формировались отряды дворян-эмигрантов, составивших так называемую «армию принцев» во главе с принцем Конде. В 1794 г. французские республиканские войска заняли Кобленц, «кобленцская эмиграция» распалась. Многие эмигранты эмигрировали в Турин, среди них – тетки короля. В конце XVIII в. Турин входил в Сардинское королевство, вступившее в 1792 г. в антифранцузскую коалицию.
(обратно)268
Неприсягнувший священник. – В конце 1790 – начале 1791 г. королем был санкционирован декрет о гражданском статусе духовенства и о принесении присяги служителями культа. Присягнувшие, «конституционные», священнослужители (а таких было большинство среди среднего и низшего духовенства) не признавались ни аристократами, ни королевой.
(обратно)269
19 апреля… толпа… хочет воспрепятствовать отъезду короля. – Отъезд королевской семьи был пресечен национальными гвардейцами 18 апреля 1791 г.
(обратно)270
Варенн – местечко на восточной границе Франции.
(обратно)271
«Он не пожелал» (фр.).
(обратно)272
«Да здравствует король! Да здравствует королева!» (фр.)
(обратно)273
Sause на французском означает «соус».
(обратно)274
«Король», «королева» (нем.).
(обратно)275
«Жить свободным или умереть» (фр.).
(обратно)276
Валаам – библейский персонаж. По приказу царя Валаам должен был проклясть народ Израиля, но против своей воли стал благословлять его.
(обратно)277
Злодеи (фр.).
(обратно)278
Чудовища (фр.).
(обратно)279
Поза – персонаж драматической поэмы «Дон Карлос» Ф. Шиллера, проповедовал терпимость и превозносил суверенность народа.
(обратно)280
…чудовищу – Школе верховой езды (Национальному собранию)… – Национальное собрание после 19 октября 1790 г. разместилось сначала в епископстве, затем – в манеже Тюильри.
(обратно)281
Затянуть время (фр.).
(обратно)282
Пенелопа – персонаж греческого эпоса. Сохраняя верность своему мужу Одиссею во время его двадцатилетнего отсутствия, говорила сватавшимся к ней женихам, что откладывает брак до поры, когда закончит ткать начатую ею ткань. И каждую ночь распускала сотканное днем.
(обратно)283
Злобствующим, взбесившимся (фр.).
(обратно)284
…готовясь… ко второму разделу Польши… – Второй раздел Польши был выполнен в соответствии с Петербургской конвенцией России и Пруссии от 23 января 1793 г. Фактором, ускорившим этот раздел, явилось заявление Фридриха Вильгельма II об отказе воевать с Францией, если не будет получено возмещение расходов за счет Польши.
(обратно)285
Чудовищная (фр.).
(обратно)286
…признание конституции… – Конституция была принята Учредительным собранием 3 сентября 1791 г., подписана королем 13 сентября.
(обратно)287
Жирондисты – политическая группировка (по существу – партия) периода французской революции. Она представляла по преимуществу торгово-промышленную и земледельческую буржуазию. Название было дано позднее по департаменту Жиронды, откуда происходили многие деятели этой партии.
(обратно)288
Австрийский комитет (фр.).
(обратно)289
Ради короля Франции (фр.).
(обратно)290
Минотавр – в греческой мифологии чудовище с телом человека и головой быка; содержался во дворце-лабиринте на острове Крит.
(обратно)291
…той Тристановой ночи… – «Тристан и Изольда» – французский рыцарский роман о трагической любви Изольды, жены корнуоллского короля, к его племяннику, вассалу Тристану. Король, преследуя бежавших влюбленных, «проник в шалаш один с обнаженным мечом и уже занес его. ‹…› Но он увидел, что губы их не соприкасались и обнаженный меч разделял их тела».
(обратно)292
…Клопшток, Шиллер… мечтают о поражении немецких войск… – Клопшток действительно приветствовал революцию одами «Генеральные штаты», «Людовик XVI», «Князь и его наложницы», «Они, а не мы», призывал Германию вступить на путь, которым пошла Франция. Но в 1793 г. в поэме «Моя ошибка» он отрекается от прежних взглядов на революцию. Отношение Шиллера к революции тоже с течением времени менялось от восторженного к более чем сдержанному.
(обратно)293
«Скандальная жизнь Марии Антуанетты» (фр.).
(обратно)294
«Дело пойдет на лад!» (фр.) – название и припев песенки, ставшей одной из самых популярных и боевых песен французской революции.
(обратно)295
Марсельеза – первоначально «Боевая песня» Рейнской армии. Слова и музыку написал Клод Руже де Лиль в ночь с 25 на 26 апреля 1792 г. в Страсбурге. Запрещенная в эпоху Реставрации и Второй империи, при Третьей республике она стала государственным гимном. В России очень популярна с 80-х гг. прошлого века.
(обратно)296
«Вперед, сыны отчизны милой…» (фр.) – первые слова Марсельезы.
(обратно)297
Швейцарцы – здесь: французские наемные войска, вербуемые в Швейцарии.
(обратно)298
Новая, революционная коммуна… – В образовавшейся в ночь на 10 августа 1792 г. так называемой повстанческой коммуне большинство принадлежало якобинцам, до этого в Парижской коммуне преобладали жирондисты.
(обратно)299
Несколько… залпов… и этих каналий… повымело бы отсюда. – Эти слова Наполеона Е. В. Тарле относит к событиям 20 июня, к первому штурму Тюильри.
(обратно)300
Защиту нации (фр.).
(обратно)301
Тампль – группа зданий (церковь, башни, замок), принадлежавших тамплиерам (храмовникам), членам средневекового католического духовно-рыцарского ордена, учрежденного ок. 1118 г. В 1312 г. орден был упразднен папой Климентом V.
(обратно)302
Заключенных, задержанных (фр.).
(обратно)303
Декларация прав человека и гражданина – политический манифест. Текст состоит из краткого введения и семнадцати статей, в которых изложены политические основы нового строя. Принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г. За образец взята была Декларация независимости Соединенных Штатов Америки от 4 июля 1776 г.
(обратно)304
«В первый год республики». – Постановлением Национального Конвента от 5 декабря 1793 г. во Франции был введен новый календарь. Начало года в летосчислении – день провозглашения республики – 22 сентября 1792 г. (совпадает с днем осеннего равноденствия). Год разделяется на двенадцать равных месяцев по тридцать дней. Остававшиеся в конце года пять или шесть дней назывались сначала «санкюлотидами», потом «дополнительными» днями. Название месяцев: вандемьер – месяц сбора винограда, брюмер – месяц туманов, фример – месяц заморозков, нивоз – месяц снегов, плювиоз – месяц дождей, вентоз – месяц ветров, жерминаль – месяц произрастания, флореаль – месяц цветения, прериаль – месяц лугов, мессидор – месяц колосьев, термидор – месяц жары, фрюктидор – месяц плодов. Семидневная неделя была заменена декадой, десятый день декады – праздничный. Каждый день года помимо названия, основанного на количественных латинских внутри декады (примиды, дуиды, триоды и далее), имел и другое название – виноград, шафран, каштан… – всего по числу дней в году. Календарь был введен по докладам Ромма и Фабра д’Эглантина. О новом календаре было объявлено на следующий день после свержения королевской власти во Франции – 22 сентября 1792 г. Республиканский календарь был отменен в 1806 г.
(обратно)305
Санкюлоты (фр., букв.: без коротких штанов) – название революционеров во время французской революции конца XVI в., носивших длинные штаны из грубой материи, в отличие от дворян и обеспеченных людей, носивших короткие бархатные отороченные кружевами штаны.
(обратно)306
Прыжка согнувшись (щукой) – спортивный термин (нем.).
(обратно)307
Национальной битвы (фр.).
(обратно)308
В Вандее крестьянское восстание… – Контрреволюционные выступления происходили с августа 1791 г. Особенно активизировались они с марта 1793 г. Мятеж в Вандее перекинулся в северо-западные области, в Нормандию, Бретань.
(обратно)309
Среди двух тысяч обреченных… – В сентябрьские дни террора погибло до 2000 человек.
(обратно)310
Перевод Мих. Донского.
(обратно)311
«Луи Карл, дофин» (фр.).
(обратно)312
Позже Людовика XVI изолируют от семьи. – Юридическим основанием к лишению короля неприкосновенности явились документы, найденные в потайном шкафу, вделанном в стену одного из коридоров Тюильри. В нем король хранил бумаги, доказывающие измену Мирабо, Лафайета, связь короля с братьями, другие компрометирующие его материалы.
(обратно)313
«Флорентиец» (или «Тосканец») – бриллиант из сокровищницы Австрийского дома, переданный Марии Антуанетте в качестве приданого. Бриллиант чистой воды, светло-желтого цвета, весом 139,5 карата. Попал к Габсбургам как трофей после поражения Карла Смелого в 1746 г. под Грансоном.
(обратно)314
Павел – один из апостолов. Ортодоксальные теологи приписывают ему четырнадцать посланий, вошедших в Новый Завет. В Деяниях апостолов он изображается юношей Савлом, гонителем христианства. После «откровения» он крестился и изменил свое прежнее имя Савл на Павла.
(обратно)315
…перед ним – десятки тысяч вооруженных солдат. – Ж. Жорес в «Социалистической истории французской революции» пишет: «Эшафот был окружен несколькими батальонами Национальной гвардии». Карлейль в книге «Французская революция. История» называет другое число: «Восемьдесят тысяч вооруженных людей стоит рядами, подобно вооруженным статуям».
(обратно)316
Комитет общественной безопасности – учрежден Конвентом 2 октября 1792 г., избирался из членов Конвента, оставался ему подотчетным. Задача – борьба с внутренней контрреволюцией. Прекратил свое существование в октябре 1795 г.
(обратно)317
Комитет общественного спасения – руководящий орган якобинской диктатуры. Весной 1793 г. противостояние якобинцев и жирондистов достигло наибольшей силы и завершилось восстанием 31 мая – 2 июня. Конвент исключил из своего состава тридцать одного жирондиста. Они были арестованы, но некоторым, в частности Ланжюине, удалось бежать. Массовые казни жирондистов были проведены несколько позже. Комитет общественного спасения был образован 6 апреля 1793 г. Избирался Конвентом из состава его членов и был подотчетен ему. С 27 июля 1793 г. фактическим руководителем Комитета был Максимилиан Робеспьер. С осени 1793 г. Комитет сосредоточил в своих руках руководство всеми сторонами государственной и политической деятельности в стране. Прекратил свое существование с введением конституции 26 октября 1795 г.
(обратно)318
В русском переводе эта книга вышла (1936) под названием «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума».
(обратно)319
Карманьола – революционная песня, сложенная народом в 1792 г. в связи со взятием Тюильри. Автор неизвестен. В наполеоновской Франции была запрещена.
(обратно)320
«Çа ira» – припев песенки санкюлотов.
(обратно)321
…последний портрет Марии Антуанетты… – Этот портрет, репродукция которого приведена в первом немецком издании романа, приписывается (под вопросом) Приеру.
(обратно)322
«Галстук Сансона» – петля виселицы, шутка в духе газеты «Папаша Дюшен». Сансон – «династия» французских палачей.
(обратно)323
…июльские дни становятся для французской армии роковыми. – С 10 августа 1793 г., после того как были сданы Валансьен, Конде, Майнц, дорога на Париж была открыта союзникам, имевшим до 300 тысяч человек войска.
(обратно)324
Ничтожеством (фр.).
(обратно)325
«Оставь надежду…» – начало строки из поэмы Данте «Божественная комедия». В переводе М. Лозинского она звучит так: «Входящие, оставьте упованье…»
(обратно)326
Сплин – тоскливое, подавленное настроение, уныние, хандра.
(обратно)327
…события… Дюма положит… в основу большого романа… – Роман вышел под названием «Шевалье де Мезон Руж» («Кавалер Красного замка»). Имеется русский перевод (изд. Сойкина, 1913).
(обратно)328
Луидор (20 франков) – золотая французская монета, чеканилась с 1640 г., обращение прекращено в конце XVIII в.
(обратно)329
…накалывая иглой буквы ответа… – Наколотая иглой записка Марии Антуанетты была расшифрована в 1876 г. палеографом М. Пилинским. Ее содержание: «С меня не спускают глаз, я ни с кем не разговариваю. Полностью полагаюсь на Вас, готова следовать за Вами».
(обратно)330
Уединенным развлечениям. Здесь: онанизму (фр.).
(обратно)331
Трибады – то же, что лесбиянки.
(обратно)332
Короля Франции (фр.).
(обратно)333
Пильницкая декларация – была подписана 27 августа 1791 г. австрийским императором Леопольдом II и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом в замке Пильниц (Саксония). На основе этой декларации и подписанного в июне 1791 г. прелиминарного австро-прусского договора в феврале 1792 г. был заключен австро-прусский военный союз, положивший начало коалиции европейских монархов против революционной Франции.
(обратно)334
Письмо… без подписи. – Текст письма Марии Антуанетты приводится по книге «Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции» (под ред. проф. Е. В. Тарле. Пг., 1918. Ч. 1.
(обратно)335
Цареубийцы (фр.).
(обратно)336
…сын королевы либо действительно умер в Тампле… либо блуждал по белу свету под чужим именем… – После смерти дофина, которого роялисты провозгласили королем Людовиком XVII, распространилась легенда, что он жив. Было очень много самозванцев, выдававших себя за Людовика XVII, а в середине XIX в. – за его сына. Вот некоторые из них: Жан Мари Гарваго (1812), сын портного; Брюно Матюрен выдавал себя за принца Наваррского, при Реставрации был арестован, умер в тюрьме; Карл Вильгельм Наудорф, а затем его сын (ум. 1883).
(обратно)337
«Последнее „прости“ королевы своим любовникам и любовницам» (фр.).
(обратно)338
«Неистовая страстность бывшей королевы» (фр.).
(обратно)339
Черт возьми! (фр.).
(обратно)340
Консульство – период в истории Франции между государственным переворотом 18-го брюмера (9 ноября) 1799 г., совершенным генералом Наполеоном Бонапартом, и провозглашением его императором 18 мая 1804 г.
(обратно)341
«Оплатите. Мария Антуанетта» (фр.).
(обратно)342
«Беседы любознательного» (фр.).
(обратно)343
Здесь: собрание (фр.).
(обратно)344
Сто дней – время вторичного правления Наполеона I (20 марта – 22 июня 1815 г.).
(обратно)345
Ватерлоо – селение в Бельгии, в 20 км от Брюсселя. 18 июня 1815 г. в сражении под Ватерлоо французская армия под командованием Наполеона I потерпела сокрушительное поражение от армий антифранцузской коалиции под командованием Веллингтона.
(обратно)346
Последний по счету, но не по значению (англ.).
(обратно)347
«Простите, месье» (фр.).
(обратно)348
«Милочке, душечке» (фр.).
(обратно)349
«Благочестивый обман, самообман» (лат.).
(обратно)350
Любой ценой (фр.).
(обратно)351
Публикация К. М. Азадовского. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1975.
(обратно)
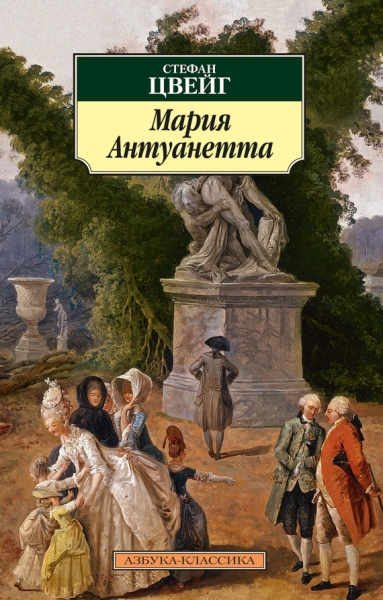



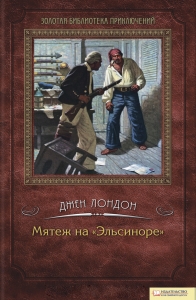






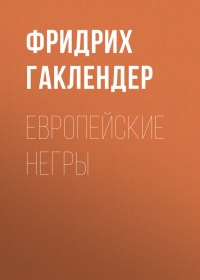
Комментарии к книге «Мария Антуанетта», Стефан Цвейг
Всего 0 комментариев