Вольтер Избранные сочинения
Диалоги Эвгемера
Диалог первый Об Александре
Калликрат. Ну-с, мудрый, Эвгемер[1], что видели вы во время своих путешествий?
Эвгемер. Глупости.
Калликрат. Как! Вы путешествовали в свите Александра и вас не охватил экстаз восторга?
Эвгемер. Вы хотите сказать, экстаз жалости?
Калликрат. Жалости к Александру?
Эвгемер. К кому же еще? Я видел его только в Индии и в Вавилоне, куда я, как и другие, отправился в тщетной надежде просветиться. Мне там сказали, что он и в самом деле начал свои походы как герой, но закончил их как глупец. Я видел этого полубога, превратившегося в самого жестокого из варваров, после того как он был самым гуманным из греков. Я видел трезвого ученика Аристотеля, ставшего презренным пьяницей. Я отправился вслед за ним, когда, оставив трапезу, он принял решение поджечь величественный храм Эстекара, дабы удовлетворить прихоть жалкой распутницы, именуемой Таис. Я сопровождал его во время его безумств в Индии, и, наконец, я узрел его умирающим в расцвете лет в Вавилоне из-за того, что он напился как последний забулдыга из его войска.
Калликрат. Какое унижение для великого человека!
Эвгемер. Иных среди великих не существует; они как магнит, определенное свойство коего я открыл: один его конец притягивает, другой – отталкивает.
Калликрат. Александр крайне меня отталкивает, когда, подвыпив, сжигает город. Но мне совсем неизвестен Эстекар о котором вы мне рассказываете; я знаю только, что этот сумасброд и безумная Таис сожгли для своей забавы Персеполь.
Эвгемер. Эстекар – как раз то, что греки именуют Персеполем. Нашим грекам нравится перелицовывать вселенную на греческий лад: они дали реке Зом-Бодпо имя «Инд»; другую реку они наименовали «Гидасп»; ни один из городов, осажденных в свое время и захваченных Александром, не известен под своим подлинным именем. Даже название «Индия» изобретено греками: восточные народы называли эту страну «Од-ху». Таким же образом в Египте они создали города Гелиополь, Кроко-дилополь, Мемфис. Стоит им отыскать звучное имя, и этого бывает довольно. Вот так они ввели в заблуждение всю Землю своими именами богов и людей.
Калликрат. Это еще не столь великое зло. Я не сетую на тех, кто таким образом обманул мир; я виню тех, кто его разоряет. Я совсем не люблю вашего Александра, который отправился из Греции в Киликию, Египет, на Кавказский хребет, а оттуда дошел вплоть до самого Ганга, убивая на своем пути все встречное – врагов, нейтральных людей и друзей.
Эвгемер. Это был лишь реванш: он отправился убивать персов, но до того персы явились, чтобы убивать греков; он помчался на Кавказ, в обширные пределы скифов, но эти скифы дважды опустошали Грецию и Азию. Все народы во все времена подвергались грабежам, порабощению и истреблению со стороны других народов. Говоря «солдат», мы говорим «вор». Каждый народ отправляется грабить своих соседей во имя своего бога. Разве мы не видим сейчас, что римляне, наши соседи, выходят из логова, образуемого семью холмами, для того, чтобы грабить вольсков, антийцев, самнитов? Скоро они придут грабить и нас, если научатся строить лодки. С того момента, как они узнали, что жители Вейн, их соседи, имеют в своих закромах немного пшеницы и ячменя, они заставили своих жрецов-фециалов объявить справедливым грабительский поход против вейентов. Разбой стал священной войной. У римлян есть оракулы, повелевающие убивать и грабить. У вейентов, с своей стороны, есть также оракулы, предсказывающие им, что они украдут римскую солому. Наследники Александра разворовывают сейчас для себя провинции, которые раньше они разворовывали для своего грабителя-господина. Таким был, таков есть и таковым всегда будет человеческий род. Я объездил половину Земли и видел там только безумства, несчастья и преступления.
Калликрат. Могу ли я спросить вас, встретили ли вы среди стольких народов хоть один справедливый?
Эвгемер. Ни одного.
Калликрат. Скажите же мне, какой из них наиболее глуп и зол.
Эвгемер. Тот, что более других суеверен.
Калликрат. Но почему самый суеверный народ – самый злой?
Эвгемер. Потому что суеверные считают, будто они выполняют из чувства долга то, что другие делают по привычке или в припадке безумия. Заурядный варвар, такой, как грек, римлянин, скиф, перс, после того как он в добрый час совершил убийство, грабеж, выпил вино тех, кого только что убил, и изнасиловал дочерей убитых отцов семейств, более ни в чем не нуждается и становится кротким и гуманным, чтобы расслабиться. Он прислушивается к чувству жалости, заложенному природой в глубине человеческого сердца. Он подобен льву, прекратившему преследование добычи с того момента, как он не чувствует себя больше голодным. Но суеверный человек напоминает тигра, продолжающего убивать и терзать добычу даже тогда, когда он сыт. Верховный жрец Плутона говорит ему: «Истребляй всех поклонников Меркурия, поджигай все дома, убивай всех животных»; и мой святоша почел бы себя святотатцем, если бы оставил живыми хоть одного ребенка и одну кошку на территории Меркурия.
Калликрат. Как! На свете существуют такие страшные народы, и Александр не истребил их, вместо того чтобы идти к Гангу и нападать там на мирных и человеколюбивых людей – тех, кто, если верить рассказам, изобрел философию?
Эвгемер. Разумеется, нет; он, как стрела, пронесся сквозь одно из маленьких племен фанатичных варваров, 6 которых я сейчас говорил; и поскольку фанатизм не исключает подлости и трусости, эти жалкие люди попросили у него пощады, льстили ему, выдали ему часть награбленного ими золота и получили разрешение грабить и впредь.
Калликрат. Значит, человеческий род ужасен?
Эвгемер. Среди обширного числа этих зверей встречаются иногда овцы, но большинство их – волки и лисы.
Калликрат. Я хотел бы понять, откуда эта огромная диспропорция в пределах одного и того же рода?
Эвгемер. Говорят, происходит это потому, что лисы и волки пожирают овец.
Калликрат. Нет, мир этот слишком несчастен и страшен; я бы хотел знать, откуда берется столько бедствий и глупостей.
Эвгемер. И я бы хотел того же. Давно уже, возделывая свой сад в Сиракузах, я об этом грежу.
Калликрат. Прекрасно! И что это были за грезы? Скажите мне, прошу вас, немногословно, всегда ли наша Земля была населена людьми? И вообще, всегда ли существовала она сама? Есть ли у нас душа? Вечна ли эта душа, как считают вечной материю? Существует ли один бог или множество? Что эти боги делают, почему они милостивы? Что такое добродетель? Что такое порядок и беспорядок? Что такое природа? Имеет ли она законы? Кто эти законы установил? Кто изобрел общество и искусства? Какое правление наилучшее? И особенно – в чем самый верный секрет, помогающий избегать опасностей, коими каждый человек окружен на каждом шагу? Все остальное мы исследуем в другой раз.
Эвгемер. Да это разговор не меньше чем на десять лет, если беседовать по десяти часов ежедневно!
Калликрат. А между тем обо всем этом шла вчера речь у прекрасной Евдоксии, и беседовали между собой самые приятные в Сиракузах люди.
Эвгемер. Ну, и какой же был сделан вывод?
Калликрат. Да никакого. Там присутствовали два жреца – Цереры и Юноны, и дело кончилось их взаимной перебранкой. Так откройте же мне без стеснения все ваши мысли. Я обещаю вам не спорить с вами и не выдавать вас жрецу Цереры.
Эвгемер. Отлично! Задайте мне ваши вопросы завтра; я попытаюсь вам ответить, но не обещаю вас удовлетворить.
Диалог второй О божестве
Калликрат. Начну с обычного вопроса: существует ли бог? Великий жрец Юпитера Аммона объявил Александра сыном бога, и ему за это щедро заплатили; но сей бог – существует ли он? И не смеются ли над нами с того самого времени, как о нем говорят?
Эвгемер. Действительно, над нами смеялись, когда заставляли нас поклоняться Юпитеру, скончавшемуся на Крите, или каменному барану, скрытому в песках Ливии. Греки, люди остроумные до глупости, недостойным образом насмеялись над человечеством, когда из греческого слова, означающего бежать, они сделали слово theoi – «бегущие боги»[2]. Их пресловутые философы – на мой взгляд, самые неразумные разумники в этом мире – утверждали, будто такие бегуны, как Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, – бессмертные боги, ибо они находятся в вечном движении, и, как представляется, движутся сами по себе. С таким же успехом они могли бы сделать божествами ветряные мельницы.
Индийское приключение
Переводчик Л. Бух
Пифагор, во время пребывания в Индии, изучил, как всем известно, в школе гимнософистов, язык животных и растении. Гуляя однажды по поляне, расположенной недалеко от морского берега, он услышал следующие слова: Как я несчастна, что родилась на свет травою! едва я вырастаю на два дюйма от земли, как является прожорливое чудовище, отвратительное животное, которое топчет меня своими большими ногами; его челюсти вооружены целым рядом острых кос, при помощи которых оно меня срезает, рвет и пожирает. Люди называют это животное бараном. Я не думаю, чтобы на свете было более гнусное создание.
Пройдя несколько шагов дальше, Пифагор нашел на маленькой скале раскрывшуюся устрицу. Не придерживаясь еще того удивительного правила, по которому запрещалось есть животных, подобных нам, он хотел уже проглотить устрицу, как вдруг она произнесла следующие трогательные слова: О, природа! как счастлива трава, которая представляет собою такое же твое творение, как и я! Когда ее скашивают, она возрождается вновь, она бессмертна; а мы, бедные устрицы, нас не защищает даже двойная броня; злодеи пожирают нас дюжинами за завтраком, и этим кончается всё. Какая ужасная судьба устриц, и какие варвары люди!
Пифагор содрогнулся, почувствовав всю огромность преступления, которое готов был совершить. Он попросил прощения у устрицы, со слезами на глазах, и осторожно положил ее обратно на пригорок, где она лежала раньше.
По дороге в город, размышляя сосредоточенно о происшедшем, он заметил, как пауки пожирали мух, как ласточки заклевывали пауков и как ястребы поедали ласточек. Все эти господа, сказал Пифагор еще не философы!
При входе в город Пифагор попал в толпу нищих и нищенок, которые толкали его, мяли и, наконец, повалили на землю; толпа эта бежала и кричала: Так и следует! Так и следует! Они вполне заслужили этого! – Кто? Что? спросил Пифагор, подымаясь на ноги. Толпа продолжала бежать, говоря: Ах! какое удовольствие доставит нам зрелище, когда их будут поджаривать!
Пифагор сначала думал, что они говорят о чечевице или о каких-нибудь других овощах; совсем нет, дело шло, как оказалось, о двух бедных индийцах. Ах! сказал он; это вероятно два великих философа, уставших жить; они очень будут довольны возродиться снова к жизни в другой форме; приятно переменить жилище, хотя бы оно было не лучше прежнего, хотя о вкусах не следует спорить.
Он приблизился, вместе, с толпой, к городской площади, и тут увидел пылавший большой костер, против него сканью, называвшуюся судилищем, а на скамье судей; каждый из них держал в руке но коровьему хвосту, на их головах были надеты колпаки, очень походившие на уши того животного, на котором ехал Силен[3], когда он, вместе с Бахусом, пройдя как посуху через Эритрейское море, остановил солнце, луну, как рассказывается об этом с достоверностью в песнях, приписываемых Орфею.
Среди судей был один честный человек, очень хорошо знакомый Пифагору; этот мудрый индус объяснил мудрецу с Самоса, по какому поводу устраивался праздник для индусского народа.
Двое индусцев, сказал он, вовсе не имеют никакого желания быть сожженными; но мои суровые сотоварищи осудили их на эту казнь: одного за то, что он утверждал, что существо Ксака не то же, что существо Брамы, а другого – за высказанную им мысль, что можно угодить Высшему Существу добродетельной жизнью, не держа за хвост корову в смертный час, так как, говорил он, добродетельным можно быть во всякое время, а корову не всегда найдешь и нужный момент. Добрые городские женщины были так напуганы тем и другим еретическим утверждением, что не давали покоя судьям до тех пор, пока те не решились присудить этих двух несчастных к смертной казни.
Пифагор пришел к заключению, что у всякого существа, начиная с травы и до человека, есть много поводов к скорби. Тем не менее, ему удалось переубедить судей и даже ханжей; но это был единственный случай, когда ему удалось одержать такую победу.
Затем, он отправился проповедовать терпимость в Кротон[4], но один из фанатиков поджег его дом, и Пифагор, который спас от огня двух индусов, сгорел. Спасайся, кто может.
Кандид, или Оптимизм
Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене[5] в лето благодати господней 1759.
Глава первая. Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан
Перевод Ф. К. Тетерникова
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом[6]. Старые слуги дома подозревали, что он – сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.
Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.
Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос[7] был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.
Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию[8]. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины[9] и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс.
– Доказано, – говорил он, – что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков[10], потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньор владеет прекраснейшим замком: у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, – мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, – нужно говорить, что все к лучшему.
Кандид слушал внимательно и верил простодушно; он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья – это быть Кунигундой, третья – видеть ее каждый день и четвертая – слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли.
Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, полная стремления к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, убедительного для юного Кандида, так же как и он – для нее.
Возвращаясь в замок, она встретила Кандида и покраснела; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним прерывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда все выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял, она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чувством, с особенной нежностью; их губы встретились, и глаза их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон Тундер-тен-Тронк проходил мимо ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.
Глава вторая. Что произошло с Кандидом у болгар
Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергоф-Трарбкдикдорф[11]. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах[12].
– Приятель, – сказал один, – вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий[13].
Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать.
– Господа, – сказал им Кандид с милой скромностью, – вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.
– Ну, – сказал ему один из голубых, – такой человек, как вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов и пять дюймов?
– Да, господа, мой рост действительно таков, – сказал Кандид с поклоном.
– Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.
– Верно, – сказал Кандид, – это мне и Панглос всегда говорил, и я сам вижу, что все к лучшему.
Ему предложили несколько экю. Он их взял и хотел внести свою долю, ему не позволили и усадили за стол.
– Вы, конечно, горячо любите?..
– О да, – отвечал он, – я горячо люблю Кунигунду.
– Нет, – сказал один из этих господ, – мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?
– Вовсе его не люблю, – сказал Кандид. – Я же его никогда не видел.
– Как! Он – милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить.
– С большим удовольствием, господа!
И он выпил.
– Довольно, – сказали ему, – вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обеспечена.
Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать палочных ударов. На другой день он проделал упражнения немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следующий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на него как на чудо.
Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие – неотъемлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ростом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает: быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того ни другого, – пришлось сделать выбор. Он решился, в силу божьего дара, который называется свободой, пройти тридцать шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состоял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре тысячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прогону, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного на смерть; так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, несведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляемо во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Кандида в три недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом[14]. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров[15].
Глава третья. Как спасся Кандид от болгар, и что вследствие этого произошло
Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во время этой героической бойни.
Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Те Deum»[16] каждый в своем лагере, Кандид решил, что лучше ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-нибудь другом месте. Наступая на валявшихся повсюду мертвых и умирающих, он добрался до соседней деревни; она была превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары спалили согласно законам общественного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.
Кандид поскорее убежал в другую деревню; это была болгарская деревня, и герои-авары поступили с нею точно так же. Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая Кунигунду.
Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных глаз Кунигунды.
Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там научат жить.
Потом он обратился к человеку, который только что битый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот проповедник[17], косо посмотрев на него, сказал:
– Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?
– Нет следствия без причины, – скромно ответил Кандид. – Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и изгнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпрашивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все это не могло быть иначе.
– Мой друг, – сказал ему проповедник, – верите ли вы, что папа – антихрист?
– Об этом я ничего не слышал, – ответил Кандид, – но антихрист он или нет, у меня нет хлеба.
– Ты не достоин есть его! – сказал проповедник. – Убирайся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше никогда не приставай ко мне.
Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив человека, который сомневался в том, что папа – антихрист, вылила ему на голову полный… О небо! До каких крайностей доводит женщин религиозное рвение!
Человек, который не был крещен, добросердечный анабаптист[18] по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу; он привел его к себе, пообчистил, накормил хлебом, напоил пивом, подарил два флорина и хотел даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, которые выделываются в Голландии.
Кандид, низко кланяясь ему, воскликнул:
– Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги.
На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с потускневшими глазами, искривленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глухим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во время которых он каждый раз выплевывал по зубу.
Глава четвертая. Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Панглоса, и что из этого вышло
Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал этому похожему на привидение страшному нищему те два флорина[19], которые получил от честного анабаптиста Якова. Нищий пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид в испуге отступил.
– Увы! – сказал несчастливец другому несчастливцу, – вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?
– Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?
– У меня нет больше сил, – сказал Панглос.
Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил хлебом и, когда Панглос подкрепился, снова спросил:
– Что же с Кунигундой?
– Она умерла, – ответил тот.
Кандид упал в обморок от этих слов; друг привел его в чувство с помощью нескольких капель уксуса, который случайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза.
– Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?
– Нет, – сказал Панглос, – она была замучена болгарскими солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспороли ей живот. Они размозжили голову барону, который вступился за нее; баронесса была изрублена в куски; с моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой; а что касается замка, там не осталось камня на камне – ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы все же были отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе.
Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств; но, придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он осведомился о причине, следствии и достаточном основании жалкого состояния Панглоса.
– Увы, – сказал тот, – всему причина любовь – любовь, утешительница рода человеческого, хранительница мира, душа всех чувствующих существ, нежная любовь.
– Увы, – сказал Кандид, – я знал ее, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне один только поцелуй и двадцать пинков. Как эта прекрасная причина могла привести к столь гнусному следствию?
Панглос ответил так:
– О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую служанку высокородной баронессы; я вкушал в ее объятьях райские наслаждения, и они породили те адские муки, которые, как вы видите, я сейчас терплю. Она была заражена и, быть может, уже умерла. Пакета получила этот подарок от одного очень ученого францисканского монаха, который доискался до первоисточника заразы: он подцепил ее у одной старой графини, а ту наградил кавалерийский капитан, а тот был обязан ею одной маркизе, а та получила ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, приобрел ее по прямой линии от одного из спутников Христофора Колумба. Что касается меня, я ее не передам никому, ибо я умираю.
– О Панглос, – воскликнул Кандид, – вот удивительная генеалогия! Разве не диавол – ствол этого дерева?
– Отнюдь нет, – возразил этот великий человек, – это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого; если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему и, очевидно, противной великой цели природы, – мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили; надо еще заметить, что до сего дня на нашем материке эта болезнь присуща только нам, как и богословские споры. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основание и им узнать эту хворь, в свою очередь, через несколько веков. Меж тем она неслыханно распространилась среди нас, особенно в больших армиях, состоящих из достойных, благовоспитанных наемников, которые решают судьбы государств; можно с уверенностью сказать, что когда тридцать тысяч человек сражаются против войска, равного им по численности, то тысяч двадцать с каждой стороны заражены сифилисом.
– Это удивительно, – сказал Кандид. – Однако вас надо вылечить.
– Но что тут можно сделать? – сказал Панглос. – У меня нет ни гроша, мой друг, а на всем земном шаре нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатят другие.
Услышав это, Кандид сразу сообразил, как ему поступить: он бросился в ноги доброму анабаптисту Якову и так трогательно изобразил ему состояние своего друга, что добряк, не колеблясь, приютил доктора Панглоса; он его вылечил на свой счет. Панглос от этого лечения потерял только глаз и ухо. У него был хороший слог, и он в совершенстве знал арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через два месяца Якову пришлось поехать в Лиссабон по торговым делам, он взял с собой на корабль обоих философов. Панглос объяснил ему, что все в мире к лучшему. Яков не разделял этого мнения.
– Конечно, – говорил он, – люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, а лишь становятся ими: господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и то и другое, чтобы истреблять друг друга. К этому можно добавить и банкротства, и суд, который, захватывая добро банкротов, обездоливает кредиторов.
– Все это неизбежно, – отвечал кривой философ. – Отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше таких несчастий, тем лучше.
Пока он рассуждал, вдруг стало темно, задули со всех четырех сторон ветры, и корабль был застигнут ужаснейшей бурей в виду Лиссабонского порта.
Глава пятая. Буря, кораблекрушение, землетрясение, и что случилось с доктором Панглосом, Кандидом и анабаптистом Яковом
Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы и все телесное устройство людей, бросаемых качкою корабля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою судьбу. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, работал, никто никому не повиновался, никто не отдавал приказов. Анабаптист пытался помочь в работе; он был на палубе; какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на палубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его благодетель на одно мгновение показывается на поверхности и затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал a priori, корабль затонул, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид были выброшены на доске.
Немного придя в себя, они направились к Лиссабону; у них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода, после того как избавились от бури.
Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами[20]. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает корабли, стоявшие на якоре; вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях, дома рушатся; крыши падают наземь, стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь:
– Здесь будет чем поживиться.
– Хотел бы я знать достаточную причину этого явления, – говорил Панглос.
– Наступил конец света! – восклицал Кандид.
Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов, среди умирающих и мертвых. Тут Панглос потянул его за рукав.
– Друг мой, – сказал он ему, – это нехорошо, вы пренебрегаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.
– Кровь и смерть! – отвечал тот. – Я матрос и родился в Батавии[21]; я четыре раза топтал распятие в четырех японских деревнях[22], так мне ли слушать о твоем всемирном разуме!
Несколько осколков камня ранили Кандида; он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Панглосу:
– Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла, я умираю.
– Хорошо, но землетрясение совсем не новость, – отвечал Панглос. – Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году; те же причины, те же следствия; несомненно, под землею от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.
– Весьма вероятно, – сказал Кандид, – но, ради бога, дайте мне немного оливкового масла и вина.
– Как «вероятно»? Я утверждаю, что это вполне доказано.
Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного воды из соседнего фонтана.
На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно среди такого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая, гости орошали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что иначе и быть не могло.
– Потому что, – говорил он, – если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хорошо.
Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:
– По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания.
– Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, – отвечал Панглос еще более вежливо, – но без падения человека и проклятия[23] не мог бы существовать этот лучший из возможных миров.
– Вы, следовательно, не верите в свободу? – спросил чернявый.
– Ваша милость, извините меня, – сказал Панглос, – но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленная причинностью воля…
Панглос не успел договорить, как чернявый уже сделал знак головою своему слуге, который наливал ему вина, называемого «опорто» или «порто».
Глава шестая. Как было устроено прекрасное аутодафе, чтобы избавиться от землетрясении, и как был высечен Кандид
После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе[24]. Университет в Коимбре[25] постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли.
Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, и двух португальцев, которые срезали сало с цыпленка[26], прежде чем его съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал с одобрительным видом. Обоих порознь отвели в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого одели в санбенито[27] и увенчали бумажными митрами. Митра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были хвостатые и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком одеянии они прошествовали к месту казни и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова[28].
Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя:
«Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со мною у болгар; но мой дорогой Панглос, величайший из философов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули на виселицу неведомо за какую вину? О мой дорогой анабаптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть в этой гавани? О Кунигунда, жемчужина среди девушек, почему было нужно, чтобы вам распороли живот?»
Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему:
– Сын мой, ободритесь, идите за мной.
Глава седьмая. Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел то, что любил
Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую, довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье.
– Ешьте, пейте, спите, – сказала она ему, – да сохранит вас Аточская Божья Матерь, святой Антоний Падуанский и святой Иаков Компостельский[29]. Я вернусь завтра.
Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку.
– Не мою руку надо целовать, – сказала старуха. – Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.
Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другой мазью; потом приносит обед; снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое.
– Кто вы? – непрестанно спрашивал ее Кандид. – Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?
Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается однажды вечером и не приносит ужина.
– Идите за мной, – говорит она, – и не произносите ни слова.
Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают; она ведет Кандида потайною лестницей в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчовом диване, закрывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит; вся его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута – сном приятным.
Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом поддерживая, трепещущую женщину могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.
– Снимите с нее покрывало, – сказала старуха Кандиду.
Молодой человек приближается; робкою рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле, это она. Силы оставляют его, он не может произнести ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чувство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их поменьше шуметь и оставляет одних.
– Как, это вы? – говорил ей Кандид. – Вы живы! Я обрел вас в Португалии! Значит, вы не были обесчещены? Вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглос?
– Все так и было, – сказала прекрасная Кунигунда. – Но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.
– Но ваш отец и ваша мать убиты?
– Увы, это верно, – сказала Кунигунда, плача.
– А ваш брат?
– Мой брат тоже убит.
– Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И по какой странной случайности меня привели в этот дом?
– Я вам все расскажу, – сказала она, – но сначала расскажите мне вы все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили.
Кандид почтительно исполнил ее желание; и, хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спину у него ломило, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.
Глава восьмая. История Кунигунды
– Я крепко спала в своей постели, когда небу угодно было наслать болгар на наш прекрасный замок Тундер-тен-Тронк. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили в куски. Огромный болгарин, шести футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все, случившееся в замке моего отца, было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок; след этого удара до сих пор еще заметен.
– Увы! Надеюсь, я увижу его, – сказал простодушный Кандид.
– Вы его увидите, – сказала Кунигунда, – но я продолжаю.
– Продолжайте, – сказал Кандид.
Она снова принялась рассказывать.
– Вошел болгарский капитан. Он увидел, что я вся в крови. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он приказал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве военной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него было немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что я очень хорошенькая; не буду отрицать, что он был отлично сложен и что кожа у него была белая и нежная; правда, ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний; сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Панглосом. К концу третьего месяца, прокутивши все деньги и пресытившись мною, он продал меня еврею по имени дом-Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить: ему я противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Один раз благородная особа может быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляется от этого. Чтобы приручить меня, еврей поселил меня в этом загородном доме, где мы сейчас находимся. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, чем замок Тундер-тен-Тронк; я ошибалась.
Однажды, во время обедни, меня заметил великий инквизитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дом-Иссахару было предложено уступить меня монсеньору. Дом-Иссахар, придворный банкир и человек с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я перешли в их общее владение: еврею достались понедельники, среды и субботы, а инквизитору – остальные дни недели. Полгода уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор; частенько они спорили из-за того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому Завету или Новому. Что касается меня, я до настоящего времени отказывала им обоим и думаю, потому-то они оба еще меня любят. Наконец, чтобы утишить ярость землетрясений и заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Он оказал мне честь – пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. Между обедней и казнью дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают двух евреев и того славного бискайца, который женился на своей куме; но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела в санбенито и митре человека, лицо которого напоминало мне Панглоса! Я протирала глаза, я смотрела внимательно, я видела, как его вешают, я упала в обморок. Едва пришла я в себя, как увидела вас, раздетого донага; это зрелище наполнило меня недоумением, трепетом, скорбью, отчаянием. Скажу вам по правде, ваша кожа еще белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего болгарского капитана, – и это удвоило мои страдания. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» – но голос мой замер, да и мольбы мои были бы напрасны. Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лиссабоне – один, чтобы получить сто ударов розгами, другой, чтобы окончить жизнь на виселице по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жестоко обманывал меня, когда говорил, что все в мире к лучшему. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство, то почти умирая от слабости, я вспоминала убийство моего отца, моей матери, моего брата, насилие гнусного болгарина, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого дом-Иссахара, моего отвратительного инквизитора, повешение доктора Панглоса, заунывное «miserere», под звуки которого вас секли, но более всего поцелуй, который я вам дала за ширмой в тот день, когда видела вас в последний раз. Я возблагодарила Бога, который вернул мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе служанке позаботиться о вас и привести сюда, как только это будет возможно. Она отлично выполнила мое поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались, у меня превосходный аппетит, сперва поужинаем.
Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже было сказано выше. Вдруг входит дом-Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дом-Иссахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь.
Глава девятая. О том, что случилось с Кунигундой, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем
Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только существовали в Израиле со времен вавилонского пленения[30].
– Как, – вскричал он, – галилейская собака, мало тебе господина инквизитора? Надо еще, чтобы и с этим разбойником мне пришлось делиться?
Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда был при нем, и, уверенный, что у его противника нет оружия, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды.
– Пресвятая Дева! – вскричала она. – Что нам делать? У меня в доме убит человек! Если сюда придут, мы погибли.
– Если бы Панглос не был повешен, – сказал Кандид, – он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой.
Она оказалась очень благоразумною, но только начала высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая маленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида и каково было его решение:
«Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут; то же, пожалуй, будет и с Кунигундой. Он меня немилосердно высек; он мой соперник; раз я уже начал убивать, нечего и колебаться».
Вывод этот был короток и ясен; не давая инквизитору времени опомниться от удивления, Кандид протыкает его насквозь, так что тот валится рядом с евреем.
– Вот и второй! – сказала Кунигунда. – Не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы, от природы такой кроткий, в две минуты убили еврея и прелата?
– Моя милая, – отвечал Кандид, – когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит.
Тут вмешалась в разговор старуха и сказала:
– В конюшне стоят три андалузских коня, там же хранятся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы, барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хотя у меня только ползада, а все-таки живее сядем на коней и поедем в Кадикс. Погода прекрасная, и очень приятно путешествовать в часы ночной прохлады.
Тотчас Кандид седлает трех лошадей; Кунигунда, старуха и он скачут тридцать миль без отдыха. В то время как они были в дороге, служители святой Германдады пришли в дом. Инквизитора похоронили в прекрасной церкви, Иссахара бросили на свалку.
Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авасена посреди гор Сиерра-Морены; в одном кабачке у них произошел такой разговор.
Глава десятая. Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс и как они сели на корабль
– Кто это украл мои деньги и бриллианты? – плача, говорила Кунигунда. – Как мы будем жить? Что будем делать? Где найти инквизиторов и евреев, которые снова дадут мне столько же?
– Увы, – сказала старуха, – я сильно подозреваю преподобного отца кордельера, который ночевал вчера в бадахосской гостинице, где останавливались и мы. Боже меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.
– Увы! – сказал Кандид. – Добрый Панглос мне всегда доказывал, что блага земные принадлежат всем людям и каждый имеет на них равные права. Кордельер[31], конечно, должен был бы, следуя этому закону, оставить нам что-нибудь на дорогу. Значит, у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?
– Ни единого мараведиса[32], – сказала она.
– Что же делать? – спросил Кандид.
– Продадим одну лошадь, – сказала старуха. – Хоть у меня и ползада, я усядусь как-нибудь позади барышни, и мы доедем до Кадикса.
В той же самой гостинице остановился приор-бенедиктинец[33]. Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда и старуха поехали через Лусену, Хилью, Лебриху и добрались наконец до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов иезуитов в Парагвае[34], которых обвиняли в том, что они подняли одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против испанского и португальского королей.
Кандид недаром служил у болгар – он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему сразу дали командовать ротой пехоты.
И вот он – капитан; он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали великому инквизитору Португалии.
Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Панглоса.
– Мы едем в Новый Свет, – говорил Кандид, – и в нем-то, без сомнения, все хорошо; ведь невозможно не посетовать на телесные и душевные страдания, которые приходится претерпевать в нашей части света.
– Я люблю вас всем сердцем, – сказала Кунигунда, – но моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.
– Все будет хорошо, – возразил Кандид. – Уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы; оно спокойнее, и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет – самый лучший из возможных миров.
– Дай-то бог, – сказала Кунигунда, – но я была так несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти закрылось для надежды.
– Вы жалуетесь, – сказала ей старуха. – Увы! Не испытали вы таких несчастий, как я.
Кунигунда едва удержалась от смеха, таким забавным показалось ей притязание этой доброй женщины на большие несчастья, чем те, которые претерпела она.
– Увы, – сказала она старухе, – милая моя, если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не вижу, как вы можете заноситься передо мною. Прибавьте, что я родилась баронессой в семьдесят втором поколении, а служила кухаркой.
– Барышня, – отвечала старуха, – вы не знаете моего происхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение.
Эта речь до чрезвычайности возбудила любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.
Глава одиннадцатая. История старухи
– Не всегда у меня были глаза с такими красными веками, нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была служанкой. Я дочь папы Урбана Десятого и княгини Палестрины[35]. До четырнадцати лет я воспитывалась в таком дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшни. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла, окруженная удовольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями; уже я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Белая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры Медицейской! А какие глаза! Какие ресницы! Какие черные брови! Каким огнем блистали мои взоры, – по словам наших поэтов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте.
Я была обручена с владетельным князем Масса-Карара[36]. Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нрава, исполненный приятности, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; начались дни торжеств, неслыханно великолепных, – празднества, конные состязания, опера-буфф, беспрерывные увеселения; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был сколько-нибудь сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада; менее чем через два часа он умер в страшных судорогах. Но не то еще ждало меня впереди. Моя мать, в отчаянии, хотя и не сравнимом с моим, захотела хоть на некоторое время оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты; мы сели на галеру, разукрашенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Сале[37] настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются точь-в-точь как папские солдаты: они все падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущение грехов in articulo mortis[38].
Их тотчас же раздели догола, как обезьян, так же как и мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой ловкостью эти господа умеют раздевать! Но более всего поразило меня то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клистир. Эта церемония показалась мне очень странной: ведь всему дивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поняла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллианты; это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен турок и турчанок; это закон международного права, который никто никогда не оспаривал.
Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую вместе с матерью увозят в Марокко; вам должно быть понятно, что мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще очень красива; дамы нашей свиты, даже наши служанки, обладали большими прелестями, чем все африканские женщины, вместе взятые. Что касается меня, я была восхитительна – сама красота, само очарование, и к тому же я была девственницей; недолго я оставалась ею; цветок, который сберегался для прекрасного князя Масса-Карара, был похищен капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Что говорить, княгиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом; это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться.
Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У каждого из пятидесяти сыновей императора Малик-Измаила были свои сторонники; это и явилось причиной пятидесяти гражданских войн черных против черных, черных против коричневых, коричневых против коричневых, мулатов против мулатов – беспрерывная резня на всем пространстве империи.
Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали отнимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы, какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных народов не такая горячая кровь, ими не владеет та бешеная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купорос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей. Мавр схватил мою мать за правую руку, помощник моего капитана удерживал ее за левую; мавританский солдат тянул ее за одну ногу, один из наших пиратов – за другую. Почти на каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по четыре воина. Мой капитан прикрыл меня собою; он размахивал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противиться его ярости. В конце концов все наши итальянки, моя мать в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, – солдаты, матросы, черные, коричневые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан – все были убиты; я лежала полумертвая под этой грудой мертвецов. Подобные сцены происходили, как всем известно, на пространстве более трехсот лье, но при этом никто не забывал пять раз в день помолиться, согласно установлению Магомета.
С большим трудом выбралась я из-под окровавленных трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева, которое росло неподалеку, на берегу ручья. Я свалилась там от усталости, страха, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, нежели отдыхом.
Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственности, между жизнью и смертью, когда почувствовала, что что-то на меня давит, что-то движется на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого человека с добродушною физиономией, который, вздыхая, бормотал сквозь зубы: «Ма che sciagura d'essere senza cogl»[39]!
Глава двенадцатая. Продолжение злоключений старухи
– Удивленная и обрадованная тем, что слышу язык моего отечества, и не менее пораженная словами этого человека, я ответила ему, что бывают большие несчастья, нежели то, на которое он жаловался; я рассказала ему в кратких словах о перенесенных мною ужасах и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, накормил, ухаживал за мной, утешал меня, ласкал, говорил, что не видел женщины прекраснее и что никогда еще так не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить.
– Я родился в Неаполе, – сказал он мне. – Там оскопляют каждый год две-три тысячи детей; одни из них умирают, другие приобретают голос, красивее женского, третьи даже становятся у кормила власти[40]. Мне сделали эту операцию превосходно, я стал певцом в капелле княгини Палестрины.
– Моей матери! – воскликнула я.
– Вашей матери? – воскликнул он, плача. – Значит, вы та княжна, которую я воспитывал до шести лет и которая уже тогда обещала стать красавицей?
– Это я; моя мать лежит в четырехстах шагах отсюда, изрубленная в куски, под грудой трупов…
Я рассказала ему все, что случилось со мной; он мне тоже поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к марокканскому королю одной христианской державой[41], дабы заключить с этим монархом договор, согласно которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан.
– Моя миссия исполнена, – сказал этот честный евнух, – я сяду на корабль в Сеуте и отвезу вас в Италию. Ма che sciagura d'essere senza cogl!
Я поблагодарила его со слезами умиления, но, вместо того чтобы отвезти в Италию, он отправил меня в Алжир и продал бею[42] этого края. Едва бей успел меня купить, как чума, обошедшая Африку, Азию и Европу, со всей яростью разразилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня, вы никогда не видели чумы.
– Никогда, – подтвердила баронесса.
– Если бы вы видели ее, – сказала старуха, – вы признали бы, что это не чета какому-то землетрясению. Чума часто посещает Африку. Я заболела ею. Представьте себе, каково это для дочери папы, пятнадцати лет от роду, – в течение трех месяцев испытать бедность, рабство, почти ежедневно подвергаться насилию, увидеть свою мать изрубленной в куски, пережить голод, войну и умереть от чумы в Алжире! Впрочем, я-то выжила, но и мой евнух, и бей, и почти весь алжирский сераль вымерли.
Когда свирепость этой ужасной немочи поутихла, невольниц бея продали. Я стала собственностью купца, который отвез меня в Тунис и там продал другому купцу, который перепродал меня в Триполи; из Триполи я была продана в Александрию, из Александрии в Смирну, из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге[43], который вскоре был послан защищать Азов[44] против осаждавших его русских.
Ага, который любил радости жизни, взял с собою весь свой сераль; он поместил нас в маленькой крепости на Меотийском болоте[45], где мы находились под стражей двух черных евнухов и двадцати солдат. Русских убили очень много, но они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню и мечу; не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков; держалась только наша маленькая крепость; неприятель решил взять нас измором. Двадцать янычар поклялись не сдаваться. Муки голода довели их до того, что, не желая нарушать клятву, они принуждены были съесть двух евнухов. Наконец через несколько дней они решили взяться за женщин. С нами был очень благочестивый и сострадательный имам, который произнес прекрасную проповедь, убеждая их не убивать нас.
– Отрежьте, – сказал он, – только по половине зада у каждой из этих дам: у вас будет отличное жаркое. Если положение не изменится, то через несколько дней вы сможете пополнить ваши запасы; небо будет милостиво к вам за столь человеколюбивый поступок и придет к вам на помощь.
Он был очень красноречив; он убедил их; они проделали над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми производят обряд обрезания; мы все были при смерти.
Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги; один из них, очень искусный, заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что, когда мои раны зажили, он объяснился мне в любви. Правда, он всем нам объяснился в любви, чтобы нас утешить; при этом он уверял нас, что мы не исключение, что подобные случаи уже происходили иногда при осадах и что таков закон войны.
Как только я и мои подруги смогли ходить, нас отправили в Москву; я досталась одному боярину, у которого работала садовницей и ежедневно получала до двадцати ударов кнутом; но через два года этот боярин сам был колесован вместе с тридцатью другими из-за какой-то придворной смуты[46]. Я воспользовалась этим случаем и убежала; я прошла всю Россию; долгое время была служанкой в кабачке в Риге, потом в Ростоке, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы; сотни раз я хотела покончить с собой, но я все еще люблю жизнь. Эта нелепая слабость, может быть, один из самых роковых наших недостатков: ведь ничего не может быть глупее, чем желание беспрерывно нести ношу, которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего существования и влачить его; словом, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изгложет нашего сердца.
Я видела в странах, где судьба заставляла меня скитаться, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которым была тягостна их жизнь, но всего двенадцать из них добровольно положили конец своим бедствиям – трое негров, четверо англичан, четверо женевцев и один немецкий профессор по имени Робек[47]. Кончила я тем, что поступила в услужение к еврею дом-Иссахару; он приставил меня к вам, моя прелестная барышня, я привязалась к вам, и ваши приключения стали занимать меня больше, нежели мои собственные. Я никогда не начала бы рассказывать вам о своих несчастьях, если бы вы меня не задели за живое и если бы не было обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы скоротать время. Да, барышня, у меня немалый опыт, я знаю свет; доставьте себе удовольствие, расспросите пассажиров, пусть каждый расскажет вам свою историю; и если найдется из них хоть один, который не проклинал бы частенько свою жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда утопите меня в море.
Глава тринадцатая. Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундой и со старухой
Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличествуют особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и убедила всех пассажиров рассказать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Кунигунда увидели, что старуха была права.
– Очень жаль, – говорил Кандид, – что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе; он изрек бы нам удивительные слова о физическом и нравственном зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы смелости почтительно сделать ему несколько возражений.
А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, капитан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо д'Ибараа-а-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекраснее всех, когда-либо им виденных. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать ее сестрой он тем более не смел; хотя эта невинная ложь некогда была очень в ходу у древних[48], да и в наше время может быть полезною, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине.
– Девица Кунигунда, – сказал он, – согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходительство дать нам на это ваше благосклонное разрешение.
Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и приказал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кандид повиновался; губернатор остался с Кунигундою… Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее прелестями.
Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться.
Старуха сказала Кунигунде:
– Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою самого влиятельного человека во всей Южной Америке, у которого к тому же такие великолепные усы. С какой стати вам хранить верность, невзирая на все превратности судьбы? Вы были изнасилованы болгарами; еврей и инквизитор пользовались вашими милостями. Несчастья дают людям известные права. Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задумалась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Кандиду сделать карьеру.
Пока старуха говорила, выказывая благоразумие, даруемое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль; на нем были алькальд и альгвасилы[49], и вот что случилось дальше.
Старуха верно угадала, что это нечистый на руку кордельер украл деньги и драгоценности Кунигунды в городе Бадахосе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер, перед тем как его повесили, признался, что он их украл, описал тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса; затем послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что алькальд скоро сойдет на берег и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная старуха вмиг смекнула, что делать.
– Вы не сможете бежать, – сказала она Кунигунде, – да вам и нечего бояться: не вы убили его преосвященство; кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами дурно обошлись. Оставайтесь.
Она поспешно идет к Кандиду.
– Бегите, – говорит она ему, – или через час вы будете сожжены.
Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?
Глава четырнадцатая. Как были приняты Кандид и Какамбо парагвайскими иезуитами
Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких множество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови; его отец был метис из Тукумана[50]; сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских коней.
– Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки.
Кандид залился слезами.
– О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что с вами станется?
– Как-нибудь да устроится, – ответил Какамбо. – Женщина нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим.
– Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как обойдемся без Кунигунды? – говорил Кандид.
– Клянусь святым Иаковом Компостельским, – сказал Какамбо, – вы собирались воевать против иезуитов, а теперь будете воевать вместе с ними; я неплохо знаю дорогу и проведу вас в их государство; они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое!
– Ты, значит, уже бывал в Парагвае? – спросил Кандид.
– А как же! – сказал Какамбо. – Я был сторожем в Асунсионской коллегии и знаю государство de los padres[51], как улицы Кадикса. Удивительное у них государство! Оно более трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций. Los padres владеют там всем, а народ ничем; не государство, а образец разума и справедливости. Что касается меня, то я в восторге от los padres: они здесь ведут войну против испанского и португальского королей, а в Европе их же исповедуют; здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют место в раю. Как тут не восхищаться! Вот увидите, вы будете там счастливейшим из людей. Как обрадуются los padres, когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу!
Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какамбо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней. Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат; комендант ждал их; на нем была трехрогая шляпа, подвязанная ряса, шпага на боку, в руке эспонтон[52]. Он подал знак; тотчас же двадцать пять солдат окружают наших путешественников. Сержант говорит им, что надо подождать, что комендант не может вести с ними переговоры, что преподобный отец провинциал запрещает говорить с испанцами[53] иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оставаться более трех часов в стране.
– А где же преподобный отец провинциал? – спросил Какамбо.
– Он принимает парад после обедни, – ответил сержант, – и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.
– Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже, – сказал Какамбо. – Он вовсе не испанец, он немец; нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?
Сержант тотчас же передал эти слова коменданту.
– Слава богу! – воскликнул этот сеньор. – Если он немец, я имею право беседовать с ним; пусть его отведут в мой шалаш.
Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, украшенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и все самые редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен превосходный завтрак; когда парагвайцы сели посреди поля, на солнцепеке, есть маис из деревянных чашек, преподобный отец комендант вошел в беседку.
Он был молод и очень красив – полный, белолицый, румяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом, – но гордость эта была не испанского или иезуитского образца. Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так же как и андалузских коней. Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей. Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол.
– Итак, вы – немец? – спросил иезуит по-немецки.
– Да, преподобный отец, – сказал Кандид.
Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть.
– Вы из какой части Германии? – спросил иезуит.
– Из грязной Вестфалии, – сказал Кандид. – Я родился в замке Тундер-тен-Тронк.
– О небо! Возможно ли? – воскликнул комендант.
– Какое чудо! – воскликнул Кандид.
– Это вы? – спросил комендант.
– Это невероятно! – сказал Кандид.
Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая ручьи слез.
– Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды! Вы, убитый болгарами! Вы, сын господина барона! Вы, парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивительно устроен. О Панглос, Панглос! Как бы вы были рады, если бы не были повешены.
Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он тысячу раз возблагодарил бога и святого Игнатия[54]; он сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слезами.
– Вы будете еще более удивлены и растроганы, – сказал Кандид, – когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует.
– Где?
– Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами.
Все, что они рассказывали друг другу в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как они были немцы, то, в ожидании преподобного отца провинциала, они не спешили выйти из-за стола; и вот что рассказал комендант своему дорогому Кандиду.
Глава пятнадцатая. Как Кандид убил брата своей дорогой Кунигунды
– Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли; мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезанных мальчиков положили на тележку и отправили для погребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих предков. Иезуит окропил нас святой водою; она была страшно солона; несколько капель попало мне в глаза; патер заметил, что веки мои дрогнули; он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется; меня привели в сознание, и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, как я был красив; я сделался еще красивее; поэтому преподобный отец Круст[55], тамошний настоятель, воспылал ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу генералу нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правители Парагвая не желали испанских иезуитов, они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Преподобный отец генерал рассудил, что я подхожу для работы на этом винограднике. Нас отправилось трое: поляк, тиролец и я. По приезде я был удостоен сана иподьякона и чина лейтенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы нам помочь. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?
Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида; он называл его своим братом, своим спасителем.
– Ах, может быть, – сказал он ему, – мы вместе с вами, мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду.
– Это предел моих желаний, – сказал Кандид, – потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней.
– Вы нахал! – отвечал барон. – Как у вас хватает бесстыдства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает семьдесят два поколения предков? И вы еще имеете наглость рассказывать мне о столь дерзком плане!
Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:
– Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора, она многим мне обязана и хочет вступить со мною в брак. Учитель Панглос всегда говорил мне, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней.
– Это мы посмотрим, негодяй! – сказал иезуит барон Тундер-тен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита; но, вытащив ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать.
– О боже мой! – сказал он. – Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата. Я добрейший человек на свете и тем не менее уже убил троих; из этих троих – двое священники.
Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей беседки.
– Нам остается дорого продать свою жизнь, – сказал ему его господин. – Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо умереть с оружием в руках.
Какамбо, который побывал в разных переделках, нисколько не растерялся; он схватил иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и подсадил на лошадь. Все это было сделано во мгновение ока.
– Живее, сударь, все примут вас за иезуита, который едет с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем за нами погонятся.
С этими словами он помчался, крича по-испански:
– Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!
Глава шестнадцатая. Что произошло у двух путешественников с двумя девушками, двумя обезьянами, дикарями, зовущимися орельонами[56]
Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы наполнить корзину хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и сосудами с вином. На своих андалузских конях они углубились в неизвестную страну, но не обнаружили там ни одной дороги. Наконец прекрасный луг, прорезанный ручейками, представился им. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину поесть и показал ему в этом пример.
– Как ты хочешь, – сказал Кандид, – чтобы я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона и к тому же чувствую, что осужден больше никогда не видеть прекрасной Кунигунды? Зачем длить мои несчастные дни, если мне придется влачить их в разлуке с нею, в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет «Вестник Треву»[57]?
Так говорил Кандид, отправляя в рот кусок за куском. Солнце садилось. Издалека до путников донеслись женские крики. Они не могли разобрать, были то крики скорби или радости, но оба стремительно вскочили, полные беспокойства и тревоги, всегда порождаемых в нас незнакомой местностью. Оказалось, что это вскрикивали две совершенно голые девушки, которые стремительно бежали по обочине луга, меж тем как две обезьяны, преследуя их, кусали их за ягодицы. Кандиду стало жаль девушек; у болгар он научился метко стрелять и мог сбить орешек с куста, не задев ни единого листка. Он хватает свое испанское двуствольное ружье, стреляет и убивает обезьян.
– Слава богу, дорогой Какамбо, я избавил от великой опасности этих бедняжек; если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь загладил свой грех – спас жизнь двум девушкам. Они, может статься, знатные девицы, и тогда мое деяние принесет нам большую пользу в этой стране.
Он хотел сказать еще что-то, но слова замерли у него на губах, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обезьян, проливают слезы над их телами и наполняют окрестность горестными жалобами.
– Вот не ожидал, что у них такая добрая душа, – обратился он наконец к Какамбо.
Но тот возразил ему:
– Славное вы сделали дело, сударь, – вы убили любовников этих девиц.
– Их любовников! Возможно ли это? Ты смеешься надо мной, Какамбо; с чего ты это взял?
– Мой дорогой господин, – отвечал Какамбо, – вас постоянно все удивляет; почему вам кажется странным, что в некоторых странах обезьяны пользуются благосклонностью женщин? Обезьяна – четверть мужчины, как я – четверть испанца.
– Увы, – отвечал Кандид, – я вспоминаю, что слышал от Панглоса, будто во время оно подобные случаи бывали. Он рассказывал, что так появились на свет египаны, фавны, сатиры, которых собственными глазами видели иные из великих людей древности; но я считал это баснями.
– Теперь вы убедились, – сказал Какамбо, – что это правда. Этим, как видите, занимаются особы, даже не получившие должного воспитания; боюсь только, как бы эти дамы не наделали нам хлопот.
Это основательное соображение побудило Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо; и оба они, проклиная португальского инквизитора, буэнос-айресского губернатора и барона, уснули на ложе из мха. Проснувшись, они почувствовали, что не могут пошевелиться; дело в том, что девицы донесли на них местным жителям, орельонам, и те ночью связали наших путников веревками из древесной коры. Кандид и Какамбо были окружены полсотней орельонов, совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами; одни кипятили воду в большом котле, другие приготавливали вертелы, и все кричали:
– Это иезуит, это иезуит! Отомстим и заодно славно пообедаем. Съедим иезуита, съедим иезуита!
– Говорил я вам, мой дорогой господин, – уныло сказал Какамбо, – что эти девушки сыграют с нами скверную шутку!
Кандид, заметив котлы и вертелы, вскричал:
– Нас, наверное, изжарят или сварят. Ах, что сказал бы учитель Панглос, если бы увидел, какова природа в естественном своем виде! Все к лучшему, пускай так, но, право, очень жестокий удел – потерять Кунигунду и попасть на вертел к орельонам.
Какамбо никогда не терял головы.
– Не отчаивайтесь, – сказал он опечаленному Кандиду, – я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними.
– Не забудьте, – сказал Кандид, – внушить им, что варить людей – бесчеловечно и совсем не по-христиански.
– Господа, – сказал Какамбо, – вы, конечно, рассчитываете съесть сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего справедливее, чем так поступать со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и этот обычай распространен по всей земле. Мы не пользуемся правом их съедать лишь потому, что у нас довольно другой пищи; но у вас нет таких запасов. Без сомнения, лучше съесть врага, чем отдать воронам и воронам плоды своей победы. Но, господа, не хотите же вы съесть ваших друзей. Вы собираетесь зажарить на вертеле иезуита, но ведь перед вами ваш защитник, враг ваших врагов, и из него-то вы предполагаете сделать жаркое! Что касается меня, я родился в вашей стране; господин, которого вы видите, мой хозяин и вовсе не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру: отсюда ваша ошибка. Можете проверить мои слова: возьмите эту рясу, отнесите ее на границу государства log padres и справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера; это не займет у вас много времени, и, если окажется, что я солгал, вы нас съедите. Но если я сказал правду, вы достаточно знаете принципы общественного права, обычаи и законы и помилуете нас.
Орельоны нашли, что его речь разумна; они отправили двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. Посланцы исполнили их поручение весьма толково и вскоре возвратились с добрыми вестями. Орельоны развязали пленников, стали с ними необычайно учтивы, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы своего государства, весело крича:
– Он не иезуит, он не иезуит!
Кандид не переставал удивляться причине своего избавления.
– Какой народ, – говорил он, – какие люди, какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе вовсе не плоха, так как эти простые люди, вместо того чтобы меня съесть, оказали мне тысячу любезностей, едва лишь узнали, что я не иезуит.
Глава семнадцатая. Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо[58], и что они там увидели
Когда они были уже за пределами земли орельонов, Какамбо сказал Кандиду:
– Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего; послушайтесь меня, вернемся поскорее в Европу.
– Как нам вернуться туда, – сказал Кандид, – и куда? На моей родине болгары и авары режут всех подряд, в Португалии меня сожгут, а здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?
– Поедемте через Кайенну[59], – сказал Какамбо, – там мы найдем французов, которые бродят по всему свету; быть может, они нам помогут. Должен же Господь сжалиться над нами.
Нелегко было добраться до Кайенны. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать; но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари – повсюду их ждали устрашающие препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды.
Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду:
– Мы не в силах больше идти, мы довольно отшагали; я вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосовыми орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-нибудь новое.
– Едем, – сказал Кандид, – и вручим себя Провидению.
Они проплыли несколько миль меж берегов, то цветущих, то пустынных, то пологих, то крутых. Река становилась все шире; наконец она потерялась под сводом страшных скал, вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники решились, вверив себя волнам, пуститься под скалистый свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шумом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной свет, но их лодка разбилась о подводные камни; целую милю пришлось им перебираться со скалы на скалу; наконец перед ними открылась огромная равнина, окруженная неприступными горами. Земля была возделана так, чтобы радовать глаз и вместе с тем приносить плоды; все полезное сочеталось с приятным; дороги были заполнены, вернее, украшены изящными экипажами из какого-то блестящего материала; в них сидели мужчины и женщины редкостной красоты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Андалузии, Тетуана[60] и Мекнеса[61].
– Вот, – сказал Кандид, – страна получше Вестфалии.
Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из золотой парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой части света с любопытством глядели на них; игральными шарами детям служили крупные, округлой формы камешки, желтые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову поднять с земли несколько таких кругляшей; это были самородки золота, изумруды, рубины, из которых меньший был бы драгоценнейшим украшением трона Могола[62].
– Без сомнения, – сказал Какамбо, – это дети здешнего короля.
В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей в школу.
– Вот, – сказал Кандид, – наставник королевской семьи.
Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на земле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь, бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на Кандида и продолжил свой путь.
Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.
– Где мы? – вскричал Кандид. – Должно быть, королевским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание, потому что они приучены презирать золото и драгоценные камни.
Какамбо был удивлен не менее, чем Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому; он напоминал европейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно в доме; слышалась приятная музыка, из кухни доносились нежные запахи. Какамбо подошел к дверям и услышал, что говорят по-перуански; это был его родной язык, ибо, как известно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого языка не знали.
– Я буду вашим переводчиком, – сказал он Кандиду, – войдем, здесь кабачок.
Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попугаев, вареного кондора, весившего двести фунтов, двух жареных обезьян, превосходных на вкус; триста колибри покрупнее на одном блюде и шестьсот помельче на другом; восхитительные рагу, воздушные пирожные – все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различные ликеры из сахарного тростника.
Посетители большею частью были купцы и возчики – все чрезвычайно учтивые; они с утонченной скромностью задали Какамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетворяли любопытство гостей.
Когда обед был окончен, Какамбо и Кандид решили, что щедро заплатят, бросив хозяину на стол два крупных кусочка золота, подобранных на земле; хозяин и хозяйка гостиницы расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились.
– Господа, – сказал хозяин гостиницы, – конечно, вы иностранцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но этого и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет государства. Вы здесь неважно пообедали, потому что это бедная деревня, но в других местах вас примут как подобает.
Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким его друг Какамбо переводил.
– Что же, однако, это за край, – говорили они один другому, – не известный всему остальному миру и природой столь не похожий на Европу? Вероятно, это та самая страна, где все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-нибудь да существовать. А что бы ни говорил учитель Панглос, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все обстоит довольно плохо.
Глава восемнадцатая. Что они видели в стране Эльдорадо
Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы; тот ему сказал:
– Я человек неученый и тем доволен; но есть у нас здесь старец, бывший придворный, – он самый образованный человек в государстве и очень разговорчивый.
Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота; но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту.
Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство:
– Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюшего, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство – это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать другие земли: в конце концов они сами были уничтожены испанцами[63].
Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее; с народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны; этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве; они назвали его Эльдорадо, а один англичанин, некий кавалер Ролей[64], даже приблизился к нашим границам около ста лет назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого.
Разговор длился долго: говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец Кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия.
Старец слегка покраснел.
– Как вы можете в этом сомневаться? – сказал он. – Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?
Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел.
– Разве могут существовать на свете две религии? – сказал он. – У нас, я думаю, та же религия, что и у вас; мы неустанно поклоняемся богу.
– Только одному богу? – спросил Какамбо, который все время переводил вопросы Кандида.
– Конечно, – сказал старец, – их не два, не три, не четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы.
Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика; он хотел знать, как молятся богу в Эльдорадо.
– Мы ничего не просим у него, – сказал добрый и почтенный мудрец, – нам нечего просить: он дал нам все, что нам нужно; мы непрестанно его благодарим.
Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей, он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся.
– Друзья мои, – сказал он, – мы все священнослужители; и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны; им аккомпанируют пять-шесть тысяч музыкантов.
– Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?
– Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие, – сказал старец, – все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи.
При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона; если бы наш друг Панглос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундер-тен-Тронк – лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать!»
После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету шесть баранов и приказал двенадцати слугам проводить путешественников ко двору.
– Простите меня, – сказал он им, – за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся.
Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов летят во всю прыть, и менее чем в четыре часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был двухсот двадцати пяти футов высотой и ста – шириной; невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями.
Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды из пуха колибри; после этого придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои его величества, причем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало двух тысяч. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать его величество. Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?
– Обычай таков, – сказал камергер, – что каждый обнимает короля и целует в обе щеки.
Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин.
В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в две тысячи шагов, уставленной математическими и физическими инструментами.
Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное.
Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо:
– Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды, да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли, вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду.
Эти рассуждения были по душе Какамбо; люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать.
– Вы делаете глупость, – сказал им король. – Я знаю, страна моя не бог весть что; но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется не имею права удерживать иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают десяти тысяч футов в вышину и отвесны, как стены; в ширину они достигают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее – они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится.
– Мы просим у вашего величества, – сказал Какамбо, – только нескольких баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны.
Король засмеялся.
– Не понимаю, – сказал он, – что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи, но берите ее сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу.
Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. Три тысячи ученых физиков работали над нею; через две недели она была готова и стоила всего двадцать миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину; с собой у них были два больших красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы; двадцать вьючных баранов, нагруженных съестными припасами; тридцать – с образцами того, что было в стране наиболее любопытного; пятьдесят – груженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей.
Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде.
– У нас есть, – говорил он, – чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Кайенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить.
Глава девятнадцатая. Что произошло в Суринаме, и как Кандид познакомился с Мартеном
Первый день прошел для наших путешественников довольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладают сокровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли со всем грузом; два других околели от усталости несколько дней спустя; семь или восемь подохли от голода в пустыне; несколько баранов сорвались в пропасть. Прошло сто дней пути – и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо:
– Мой друг, ты видишь, как преходящи богатства мира сего; нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и счастья новой встречи с Кунигундой.
– Согласен, – сказали Какамбо, – но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких не было и не будет даже у короля Испании. Вот я вижу вдали город, – думаю, что это Суринам[65], принадлежащий голландцам. Наши беды приходят к концу, скоро начнется благоденствие.
По дороге к городу они увидели негра, распростертого на земле, полуголого, – на нем были только синие полотняные панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки.
– О боже мой! – воскликнул Кандид и обратился к негру по-голландски. – Что с тобою и почему ты в таком ужасном состоянии?
– Я жду моего хозяина господина Вандердендура[66], известного купца, – отвечал негр.
– Так это господин Вандердендур так обошелся с тобою? – спросил Кандид.
– Да, господин, – сказал негр, – таков обычай. Два раза в год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает убежать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то и другое. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказала: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они принесут тебе счастье; ты удостоился чести стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил богатством своих родителей». Увы! Я не знаю, одарил ли я их богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее, чем мы; голландские жрецы, которые обратили меня в свою веру, твердят мне каждое воскресенье, что все мы – потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но подумайте сами, можно ли так ужасно обращаться с собственными родственниками?
– О Панглос! – воскликнул Кандид. – Ты не предвидел этих гнусностей. Нет, отныне я навсегда отказываюсь от твоего оптимизма.
– Что такое оптимизм? – спросил Какамбо.
– Увы, – сказал Кандид, – это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он вошел в Суринам.
Первым делом они справились, нет ли в порту какого-нибудь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому они обратились, оказался испанским судохозяином и согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке. Кандид и верный Какамбо отправились туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать.
У Кандида всегда было что на душе, то и на языке; он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду.
– Нет, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес – меня там повесят, да и вас тоже: прекрасная Кунигунда – любимая наложница губернатора.
Эти слова поразили Кандида как удар грома. Он долго плакал; наконец он обратился к Какамбо:
– Вот, мой друг, – сказал он ему, – что ты должен сделать: у каждого из нас брильянтов в карманах на пять-шесть миллионов. Ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион; если и тут заупрямится – дай два. Ты не убивал инквизитора, тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя ждать в Венеции. Это свободная страна, где можно не страшиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.
Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, который сделался его задушевным другом; но радостное сознание, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал ему не забывать доброй старухи. В тот же день Какамбо отправился в путь; очень добрый человек был Какамбо.
Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, ожидая, пока другой какой-нибудь купец не согласится отвезти в Италию его и двух баранов, которые у него еще остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия; наконец к нему явился господин Вандердендур, хозяин большого корабля.
– Сколько вы возьмете, – спросил Кандид этого человека, – чтобы доставить меня прямым путем в Венецию – меня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов?
Купец запросил десять тысяч пиастров. Кандид, не раздумывая, согласился. «Ого! – подумал Вандердендур. – Этот иностранец дает десять тысяч пиастров, не торгуясь – должно быть, он очень богат».
Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его иначе, как за двадцать тысяч.
– Ну, хорошо! Вы получите двадцать тысяч, – сказал Кандид.
«Ба! – сказал себе купец. – Этот человек дает двадцать тысяч пиастров с такой же легкостью, как и десять».
Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за тридцать тысяч пиастров, он не согласится.
– Что ж, заплачу вам и тридцать тысяч, – отвечал Кандид.
«Ну и ну! – опять подумал голландский купец. – Тридцать тысяч пиастров ничего не значат для этого человека; без сомнения, его бараны навьючены несметными сокровищами; не будем более настаивать, возьмем пока тридцать тысяч, а там увидим».
Кандид продал два некрупных алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Бараны были переправлены на судне. Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.
– Увы! – воскликнул он. – Вот поступок, достойный обитателя Старого Света!
Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные думы, – он потерял то, что могло бы обогатить двадцать монархов.
Он отправился к голландскому судье. Так как он был несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а войдя, рассказал о происшествии немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять тысяч пиастров за произведенный шум, потом терпеливо выслушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как возвратится купец, и заставил заплатить еще десять тысяч пиастров судебных издержек.
Этот порядок судопроизводства окончательно привел Кандида в отчаяние; ему пришлось испытать, правда, несчастья, в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала перед ним во всем своем безобразии; в голову ему приходили только мрачные мысли. Наконец, когда стало известно, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще две тысячи пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции.
К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вместил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек двадцать, показавшихся ему довольно обходительными; все они утверждали, что вполне отвечают его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав, чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю; он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою; остальным пообещал небольшое вознаграждение.
Беседа затянулась до четырех утра. Кандид, слушая рассказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не перенес бы величайших несчастий. При каждом новом рассказе он возвращался мыслью к Панглосу.
«Панглосу, – думал он, – трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет хорошо, это правда, но только в одной-единственной из всех земных стран – в Эльдорадо».
Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, который десять лет гнул спину на амстердамских книгопродавцев[67]. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни.
Этого ученого, который сверх того был добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Говоря по правде, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия. Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глубоко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по сто пиастров.
Глава двадцатая. Что было с Кандидом и Мартеном на море
Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали и, пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом.
У Кандида было большое преимущество перед Мартеном: он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида были золото и брильянты, и, хотя он потерял сто больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Панглоса.
– А вы, господин Мартен, – спрашивал он ученого, – что думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь о зле нравственном и физическом?
– Меня обвинили в том, – отвечал Мартен, – что я социнианин, но, сказать по правде, я манихей[68].
– Вы смеетесь надо мной, – сказал Кандид, – манихеев больше не осталось на свете.
– Остался я, – сказал Мартен. – Не знаю, как тут быть, но по-другому думать я не могу.
– Значит, в вас сидит дьявол? – спросил Кандид.
– Дьявол вмешивается во все дела этого мира, – сказал Мартен, – так что, может быть, он сидит и во мне и повсюду; признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вернее, на этот шарик, я пришел к выводу, что господь уступил его какому-то зловредному существу; впрочем, я исключаю Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы погибели соседнему городу, не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они пресмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом, шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, разбитых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбойничая, и зарабатывает этим себе на хлеб насущный, потому что более честному ремеслу эти люди не обучены. В городах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти, забот и треволнений, чем в осажденных городах от голода. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бедствия. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей.
– Однако на свете существует добро, – возразил Кандид.
– Может быть, – сказал Мартен, – но я с ним не знаком.
Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около трех миль от них шел бой между двумя кораблями. Ветер подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблюдать за боем было очень удобно. Наконец один из этих кораблей дал по другому столь удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен ясно видели сотню человек на палубе корабля, погружавшегося в воду; они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли; через минуту все исчезло в волнах.
– Ну что? – сказал Мартен. – Вот видите, как люди обращаются друг с другом.
– Верно, – сказал Кандид. – В этом сражении есть нечто дьявольское.
Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестящий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это один из украденных баранов. Радость, испытанная Кандидом, когда этого барана выловили, во много раз превзошла горе, пережитое им при потере ста баранов, груженных эльдорадскими брильянтами.
Французский капитан вскоре узнал, что капитан, потопивший корабль, был испанец, а капитан потопленного корабля – голландский пират; это был тот самый купец, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, украденные этим негодяем, вместе с ним пошли на дно морское, и спасся только один-единственный баран. «Вот видите, – сказал Кандид Мартену. – что преступление иногда бывает наказано; этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную кару». – «Да, – сказал Мартен, – но разве было так уж необходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог наказал плута, дьявол потопил всех остальных».
Между тем корабли французский и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном. Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый день рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того! Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана.
– Раз я снова обрел тебя, – сказал он, – значит, обрету, конечно, и Кунигунду.
Глава двадцать первая. Кандид и Мартен приближаются к берегам Франции и продолжают рассуждать
Наконец они увидели берега Франции.
– Бывали вы когда-нибудь во Франции? – спросил Кандид.
– Да, – сказал Мартен, – я объехал несколько французских провинций. В иных половина жителей безумны, в других чересчур хитры, кое-где добродушны, но туповаты, а есть места, где все сплошь остряки; но повсюду главное занятие – любовь, второе – злословие и третье – болтовня.
– Но, господин Мартен, а в Париже вы жили?
– Да, я жил в Париже. В нем средоточие всех этих качеств. Париж – это всесветная толчея, где всякий ищет удовольствий и почти никто их не находит, – так, по крайней мере, мне показалось. Я пробыл там недолго: едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. Притом меня самого приняли за вора, и я неделю отсидел в тюрьме; потом я поступил правщиком в типографию, чтобы было на что вернуться в Голландию хоть пешком. Навидался я всякой сволочи – писак, проныр и конвульсионеров[69]. Говорят, в Париже есть вполне порядочные люди; хотелось бы этому верить.
– Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию, – сказал Кандид. – Сами понимаете, прожив месяц в Эльдорадо, уже не захочешь ничего видеть на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?
– Очень охотно, – сказал Мартен. – Говорят, в Венеции хорошо живется только венецианским нобилям[70], но, однако, там хорошо принимают и иностранцев, если у них водятся деньги. У меня денег нет, зато у вас их много. Я согласен следовать за вами повсюду.
– Кстати, – сказал Кандид, – думаете ли вы, что земля первоначально была морем, как это написано в толстой книге[71], которая принадлежит капитану корабля?
– Я этому не верю, – сказал Мартен, – да и вообще больше не верю фантазиям, которые нам с давних пор вбивают в голову.
– А все же, с какой целью был создан этот мир? – спросил Кандид.
– Чтобы постоянно бесить нас, – отвечал Мартен.
– Но разве не удивила вас, – продолжал Кандид, – любовь этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я вам рассказывал?
– Нисколько, – сказал Мартен. – Не вижу в этой страсти ничего странного; я столько видел удивительного на своем веку, что меня уже ничто не удивляет.
– Как вы думаете, – спросил Кандид, – люди всегда уничтожали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, плутами, неблагодарными, изменниками, разбойниками, ветрениками, малодушными, трусами, завистниками, обжорами, пьяницами, скупцами, честолюбцами, клеветниками, злодеями, развратниками, фанатиками, лицемерами и глупцами?
– А как вы считаете, – спросил Мартен, – когда ястребам удавалось поймать голубей, они всегда расклевывали их?
– Да, без сомнения, – сказал Кандид.
– Так вот, – сказал Мартен, – если свойства ястребов не изменились, можете ли вы рассчитывать, что они изменились у людей?
– Ну, знаете, – сказал Кандид, – разница все же очень большая, потому что свободная воля…
Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.
Глава двадцать вторая. Что случилось с Кандидом и Мартеном во Франции
Кандид провел в Бордо ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы продать несколько эльдорадских брильянтов и приобрести хорошую двухместную коляску, ибо теперь он уже не мог обойтись без своего философа Мартена; его огорчала только разлука с бараном, которого он подарил Бордоской академии наук. Академия объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть у этого барана красная. Премия была присуждена одному ученому с севера[72], доказавшему посредством формулы A плюс B минус C, деленное на X, что баран неизбежно должен быть красным и что он умрет от овечьей оспы.
Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных кабачках, говорили ему:
– Мы едем в Париж.
Всеобщее стремление в столицу возбудило в нем наконец желание поглядеть на нее, тем более что для этого почти не приходилось отклоняться от прямой дороги на Венецию.
Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в наихудшую из вестфальских деревушек.
Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как все заметили, что у него на пальце красуется огромный брильянт, а в экипаже лежит очень тяжелая шкатулка, то к нему сейчас же пришли два врача, которых он не звал, несколько близких друзей, которые ни на минуту не оставляли его одного, и две святоши, которые разогревали ему бульон. Мартен сказал:
– Я вспоминаю, что тоже заболел во время моего первого пребывания в Париже. Но я был очень беден, и около меня не было ни друзей, ни святош, ни докторов, поэтому я выздоровел.
Между тем с помощью врачей и кровопусканий Кандид расхворался не на шутку. Один завсегдатай гостиницы очень любезно попросил у него денег в долг под вексель с уплатою в будущей жизни[73]. Кандид отказал. Святоши уверяли, что такова новая мода; Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартен хотел выбросить просителя в окно. Клирик поклялся, что Кандида после смерти откажутся хоронить. Мартен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Разгорелся спор. Мартен взял клирика за плечи и грубо его вытолкал. Произошел большой скандал, и был составлен протокол.
Кандид выздоровел, а пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандид очень удивлялся, что к нему никогда не шли тузы, но Мартена это нисколько не удивляло.
Среди гостей Кандида был аббатик из Перигора, из того сорта хлопотунов, веселых, услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые подстерегают проезжих иностранцев, рассказывают им столичные сплетни и предлагают развлечения на любую цену. Аббатик прежде всего повел Кандида и Мартена в театр. Там играли новую трагедию[74]. Кандид сидел рядом с несколькими остроумцами, что не помешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:
– Вы напрасно плачете: эта актриса очень плоха, актер, который играет с нею, и того хуже, а пьеса еще хуже актеров. Автор ни слова не знает по-арабски, между тем действие происходит в Аравии; кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр, направленных против него.
– А сколько всего театральных пьес во Франции? – спросил Кандид аббата.
– Тысяч пять-шесть, – ответил тот.
– Это много, – сказал Кандид. – А сколько из них хороших?
– Пятнадцать-шестнадцать, – ответил тот.
– Это много, – сказал Мартен.
Кандид остался очень доволен актрисою, которая играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии[75], еще удержавшейся в репертуаре.
– Эта актриса, – сказал он Мартену, – мне очень нравится, в ней есть какое-то сходство с Кунигундой. Мне хотелось бы познакомиться с нею.
Аббат из Перигора предложил ввести его к ней в дом. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обходятся во Франции с английскими королевами.
– Это как где, – сказал аббат. – В провинции их водят в кабачки, а в Париже боготворят, пока они красивы, и отвозят на свалку, когда они умирают.
– Королев на свалку? – удивился Кандид.
– Да, – сказал Мартен, – господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Монима[76] перешла, как говорится, из этого мира в иной; ей отказали в том, что эти господа называют «посмертными почестями», то есть в праве истлевать на скверном кладбище, где хоронят всех плутов с окрестных улиц. Товарищи по сцене погребли ее отдельно на углу Бургонской улицы. Должно быть, она была очень опечалена этим, у нее были такие возвышенные чувства.
– С ней поступили крайне неучтиво, – сказал Кандид.
– Чего вы хотите? – сказал Мартен. – Таковы эти господа. Вообразите самые немыслимые противоречия и несообразности – и вы найдете их в правительстве, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации.
– Правда ли, что парижане всегда смеются? – спросил Кандид.
– Да, – сказал аббат, – но это смех от злости. Здесь жалуются на все, покатываясь со смеху, и, хохоча, совершают гнусности.
– Кто, – спросил Кандид, – этот жирный боров, который наговорил мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез[77], и об актерах, доставивших мае столько удовольствия?
– Это злоязычник, – ответил аббат. – Он зарабатывает себе на хлеб тем, что бранит все пьесы, все книги. Он ненавидит удачливых авторов, как евнухи – удачливых любовников; он из тех ползучих писак, которые питаются ядом и грязью; короче, он – газетный пасквилянт.
– Что это такое – газетный пасквилянт? – спросил Кандид.
– Это, – сказал аббат, – бумагомаратель, вроде Фрерона[78].
Так рассуждали Кандид, Мартен и перигориец, стоя на лестнице, во время театрального разъезда.
– Хотя мне и не терпится вновь увидеть Кунигунду, – сказал Кандид, – я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон, так я ею восхищаюсь.
Аббат не был вхож к госпоже Клерон[79], которая принимала только избранное общество.
– Она сегодня занята, – сказал он, – но я буду счастлив, если вы согласитесь поехать со мной к одной знатной даме: там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре года.
Кандид, который был от природы любопытен, согласился пойти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фараон: двенадцать унылых понтеров держали в руках карты – суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, лица понтеров были бледны, озабоченно было и лицо банкомета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета и рысьими глазами следила за тем, как гнут пароли: все попытки сплутовать она останавливала решительно, но вежливо и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама именовала себя маркизою де Паролиньяк. Ее пятнадцатилетняя дочь была в числе понтеров и взглядом указывала матери на мошенничества несчастных, пытавшихся смягчить жестокость судьбы.
Аббат-перигориец, Кандид и Мартен вошли; никто не поднялся, не поздоровался с ними, не взглянул на них; все были поглощены картами.
– Госпожа баронесса Тундер-тен-Тронк была учтивее, – сказал Кандид.
Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, та приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкой, а Мартена – величественным кивком. Она указала место и протянула колоду карт Кандиду, который проиграл пятьдесят тысяч франков в две тальи. Потом все весело поужинали, весьма удивляясь, однако, тому, что Кандид не опечален своим проигрышем; лакеи говорили между собою на своем лакейском языке:
– Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.
Ужин был похож на всякий ужин в Париже: сначала молчание, потом неразборчивый словесный гул, потом шутки, большей частью несмешные, лживые слухи, глупые рассуждения, немного политики и много злословия; говорили даже о новых книгах.
– Вы читали, – спросил аббат-перигориец, – роман господина Гоша[80], доктора богословия?
– Да, – ответил один из гостей, – но так и не смог его одолеть. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе они не так нелепы, как книга Гоша, доктора богословия; я так пресытился этим потоком отвратительных книг, которым нас затопляют, что пустился понтировать.
– А заметки архидьякона Т[81]…, что вы о них скажете? – спросил аббат.
– Ах, – сказала госпожа Паролиньяк, – он скучнейший из смертных! С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно! Как длинно рассуждает о том, о чем и походя говорить не стоит! Как тупо присваивает себе чужое остроумие! Как портит все, что ему удается украсть! Какое отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне докучать: с меня довольно и тех страниц архидьякона, которые я прочла.
За столом оказался некий ученый, человек со вкусом, – он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о трагедии. Хозяйка спросила:
– Почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно читать?
Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть занимательной и при этом не имеющей почти никаких литературных достоинств; он доказал в немногих словах, что недостаточно одного или двух положений, которые встречаются во всех романах и всегда подкупают зрителей, – надо еще поразить новизной, не отвращая странностью, подчас подниматься до высот пафоса, всегда сохраняя естественность, знать человеческое сердце и заставить его говорить, быть большим поэтом, но не превращать в поэтов действующих лиц пьесы, в совершенстве знать родной язык, блюсти его законы, хранить гармонию и не жертвовать смыслом ради рифмы.
– Кто не соблюдает этих правил, – продолжал он, – тот способен сочинить одну-две трагедии, годные для сцены, но никогда не займет места в ряду хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы – это идиллии в диалогах, неплохо написанные и неплохо срифмованные; другие – наводящие сон политические трактаты или отвратительно многословные пересказы; некоторые представляют собою бред бесноватого, изложенный бессвязным, варварским слогом, с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет говорить с людьми, с неверными положениями, с напыщенными общими местами.
Кандид слушал эту речь внимательно и проникся глубоким уважением к говоруну; а так как маркиза позаботилась посадить его рядом с собой, то он наклонился к ней и шепотом спросил, кто этот человек, который так хорошо говорил.
– Это ученый, – сказала дама, – который не играет; вместе с аббатом он иногда приходит ко мне ужинать. Он знает толк в трагедиях и в книгах и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, подаренного им мне.
– Великий человек – сказал Кандид. – Это второй Панглос. – Затем, обернувшись к нему, он спросил: – Вы, без сомнения, думаете, что все к лучшему в мире физическом и нравственном и что иначе не может и быть?
– Совсем напротив, – отвечал ему ученый, – я нахожу, что у нас все идет навыворот, никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает и чего делать не должен. Не считая этого ужина, который проходит довольно весело, так как сотрапезники проявляют достаточное единодушие, все наше время занято нелепыми раздорами: янсенисты выступают против молинистов[82], законники против церковников, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников. Это непрерывная война.
Кандид возразил ему:
– Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире отлично, а зло – только тень на прекрасной картине.
– Ваш висельник издевался над людьми, – сказал Мартен, – а ваши тени – отвратительные пятна.
– Пятна сажают люди, – сказал Кандид, – они никак не могут обойтись без пятен.
– Значит, это не их вина, – сказал Мартен.
Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разговоре, продолжала пить; Мартен беседовал с ученым, а Кандид рассказывал о некоторых своих приключениях хозяйке дома.
После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и усадила его на кушетку.
– Итак, вы все еще без памяти от баронессы Кунигунды Тундер-тен-Тронк? – спросила она его.
– Да, сударыня, – отвечал Кандид.
Маркиза сказала ему с нежной улыбкой:
– Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии. Француз сказал бы: да, я любил баронессу Кунигунду, но, увидев вас, сударыня, боюсь, что перестал ее любить.
– О сударыня, – сказал Кандид, – я отвечу как вам будет угодно.
– Вы загорелись страстью к ней, – сказала маркиза, – когда подняли ее платок. Я хочу, чтоб вы подняли мою подвязку.
– С большим удовольствием, – сказал Кандид и поднял подвязку.
– Но я хочу, чтобы вы мне ее надели, – сказала дама.
Кандид исполнил и это.
– Дело в том, – сказала дама, – что вы иностранец; своих парижских любовников я иногда заставляю томиться по две недели, но вам отдаюсь с первого вечера, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии.
Заметив два огромных брильянта на пальцах у молодого иностранца, красавица так расхвалила их, что они тут же перешли на ее собственные пальцы.
Кандид, возвращаясь домой с аббатом-перигорийцем, терзался угрызениями совести из-за измены Кунигунде. Аббат всей душой разделял его печаль: он получил всего лишь малую толику из пятидесяти тысяч франков, проигранных Кандидом, и из стоимости брильянтов, полуподаренных, полувыпрошенных. Он твердо решил воспользоваться всеми преимуществами, которые могло ему доставить знакомство с Кандидом. Он охотно говорил с Кандидом о Кунигунде, и тот сказал, что выпросит прощение у своей красавицы, когда увидит ее в Венеции.
Перигориец удвоил любезность и внимание и выказал трогательное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил, ко всему, что он делал, ко всему, что собирался делать.
– Значит, у вас назначено свидание в Венеции? – спросил он.
– Да, господин аббат, – сказал Кандид, – я непременно должен там встретиться с Кунигундой.
Потом, радуясь возможности говорить о той, кого любил, Кандид рассказал, по своему обыкновению, часть своих похождений с этой знаменитой уроженкой Вестфалии.
– Полагаю, – сказал аббат, – что баронесса Кунигунда очень умна и умеет писать прелестные письма.
– Я никогда не получал от нее писем, – сказал Кандид. – Посудите сами, мог ли я писать Кунигунде, будучи изгнанным из замка за любовь к ней? Потом меня уверили, будто она умерла, потом я снова нашел ее и снова потерял; я отправил к ней, за две тысячи пятьсот миль отсюда, посланца и теперь жду ее ответа.
Аббат выслушал его внимательно и, казалось, призадумался. Вскоре он ушел, нежно обняв на прощанье обоих иностранцев. Назавтра, проснувшись поутру, Кандид получил письмо такого содержания:
«Дорогой мой возлюбленный! Я здесь уже целую неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь, и полетела бы к вам в объятия, но не могу двинуться. Я узнала о вашем прибытии в Бордо; там я оставила верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса взял все, но у меня осталось ваше сердце. Я вас жду, ваш приход возвратит мне жизнь или заставит умереть от радости».
Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кандида в неизъяснимый восторг; но болезнь милой Кунигунды удручала его. Раздираемый столь противоречивыми чувствами, он берет свое золото и брильянты и едет с Мартеном в гостиницу, где остановилась Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения, сердце его бьется, голос прерывается. Он откидывает полог постели, приказывает принести свет.
– Что вы делаете, – говорит ему служанка, – свет ее убьет. – И тотчас же задергивает полог.
– Дорогая моя Кунигунда, – плача, говорит Кандид, – как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, хотя бы скажите мне что-нибудь.
– Она не в силах говорить, – произносит служанка.
Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид сперва долго орошает слезами, а потом наполняет брильянтами; на кресло он кладет мешок с золотом.
В это время входит полицейский, сопровождаемый аббатом-перигорийцем и стражею.
– Так вот они, – говорит полицейский, – эти подозрительные иностранцы.
Он приказывает своим молодцам схватить их и немедленно отвести в тюрьму.
– Не так обращаются с иностранцами в Эльдорадо, – говорит Кандид.
– Я теперь еще более манихей, чем когда бы то ни было, – говорит Мартен.
– Куда же вы нас ведете? – спрашивает Кандид.
– В яму, – отвечает полицейский.
Мартен, к которому вернулось его обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду, – мошенница, господин аббат-перигориец – мошенник, ловко злоупотребивший доверчивостью Кандида, да и полицейский тоже мошенник, от которого легко будет откупиться.
Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, вразумленный советом Мартена и горящий нетерпением снова увидеть настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три маленьких брильянта стоимостью в три тысячи пистолей каждый.
– Ах, господин, – говорит ему человек с жезлом из слоновой кости, – да соверши вы все мыслимые преступления, все-таки вы были бы честнейшим человеком на свете. Три брильянта, каждый в три тысячи пистолей! Господи, пусть мне не сносить головы, но в тюрьму я вас не упрячу. Арестовывают всех иностранцев, но тем не менее я все улажу: у меня брат в Дьеппе в Нормандии, я вас провожу туда, и если у вас найдется брильянт и для него, он позаботится о вас, как забочусь сейчас я.
– А почему арестовывают всех иностранцев? – спросил Кандид.
Тут взял слово аббат-перигориец:
– Их арестовывают потому, что какой-то негодяй из Артебазии, наслушавшись глупостей, покусился на отцеубийство[83] – не такое, как в тысяча шестьсот десятом году[84], в мае, а такое, как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году[85], в декабре; да и в другие годы и месяцы разные людишки, тоже наслушавшись глупостей, совершали подобное.
Полицейский объяснил, в чем дело.
– О чудовища! – воскликнул Кандид. – Такие ужасы творят сыны народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне выбраться из страны, где обезьяны ведут себя, как тигры. Я видел медведей на моей родине, – людей я встречал только в Эльдорадо. Ради бога, господин полицейский, отправьте меня в Венецию, где я должен дожидаться Кунигунды.
– Я могу отправить вас только в Нормандию, – сказал полицейский.
Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, везет Кандида и Мартена в Дьепп и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Нормандец, получив три брильянта, сделался самым услужливым человеком на свете; он посадил Кандида и его слуг на корабль, который направлялся в Портсмут, в Англию. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду казалось, что он вырвался из преисподней, а поездку в Венецию он рассчитывал предпринять при первом удобном случае.
Глава двадцать третья. Что Кандид и Мартен увидали на английском берегу
– Ах, Панглос, Панглос! Ах, Мартен, Мартен! Ах, моя дорогая Кунигунда! Что такое ваш подлунный мир? – восклицал Кандид на палубе голландского корабля.
– Нечто очень глупое и очень скверное, – отвечал Мартен.
– Вы хорошо знаете англичан? Они такие же безумцы, как французы?
– У них другой род безумия, – сказал Мартен. – Вы знаете, эти две нации ведут войну из-за клочка обледенелой земли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада[86]. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам точно, в какой из этих двух стран больше людей, на которых следовало бы надеть смирительную рубашку. Знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, весьма желчного нрава.
Беседуя так, они прибыли в Портсмут. На берегу толпился народ; все внимательно глядели на дородного человека[87], который с завязанными глазами стоял на коленях на палубе военного корабля; четыре солдата, стоявшие напротив этого человека, преспокойно всадили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно довольная.
– Что же это такое, однако? – сказал Кандид. – Какой демон властвует над землей?
Он спросил, кем был этот толстяк, которого убили столь торжественно.
– Адмирал, – отвечали ему.
– А за что убили этого адмирала?
– За то, – сказали ему, – что он убил слишком мало народу; он вступил в бой с французским адмиралом[88] и, по мнению наших военных, подошел к врагу недостаточно близко.
– Но, – сказал Кандид, – ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского?
– Несомненно, – отвечали ему, – но в нашей стране полезно время от времени убивать какого-нибудь адмирала, чтобы взбодрить других.
Кандид был так ошеломлен и возмущен всем увиденным и услышанным, что не захотел даже сойти на берег и договорился со своим голландским судовладельцем (даже с риском быть обворованным, как в Суринаме), чтобы тот без промедления доставил его в Венецию.
Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, проплыли мимо Лиссабона – и Кандид затрепетал. Вошли через пролив в Средиземное море; наконец добрались до Венеции.
– Слава богу, – сказал Кандид, обнимая Мартена, – здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо как на самого себя. Все хорошо, все прекрасно, все идет как нельзя лучше.
Глава двадцать четвертая. О Пакете и о брате Жирофле
Как только Кандид приехал в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц, но нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки; ни слуху ни духу о Какамбо.
– Как! – говорил он Мартену. – Я успел за это время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Дьепп, из Дьеппа в Портсмут, обогнуть Португалию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасной Кунигунды все нет. Вместо нее я встретил лишь непотребную женщину и аббата-перигорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла, – остается умереть и мне. Ах, лучше бы мне навеки поселиться в эльдорадском раю и не возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартен: все в жизни обманчиво и превратно.
Он впал в черную меланхолию и не выказывал никакого интереса к опере alla moda[89] и к другим карнавальным увеселениям; ни одна дама не тронула его сердца. Мартен сказал ему:
– Поистине, вы очень простодушны, если верите, будто слуга-метис, у которого пять-шесть миллионов в кармане, поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет; а не найдет – возьмет другую; советую вам, забудьте вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.
Слова Мартена не были утешительны. Меланхолия Кандида усилилась, а Мартен без устали доказывал ему, что на земле нет ни чести, ни добродетели, разве что в Эльдорадо, куда путь всем заказан.
Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Кунигунды, Кандид заметил на площади св. Марка молодого театинца[90], который держал под руку какую-то девушку. У театинца, мужчины свежего, полного, сильного, были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, горделивая походка. Девушка, очень хорошенькая, что-то напевала; она влюбленно смотрела на своего театинца и порою щипала его за толстую щеку.
– Согласитесь, – сказал Кандид Мартену, – что хоть эти-то люди счастливы. До сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, я встречал одних только несчастных; но готов биться об заклад, что эта девушка и этот театинец очень довольны жизнью.
– А я бьюсь об заклад, что нет.
– Пригласим их на обед, – сказал Кандид, – и тогда посмотрим, кто прав.
Тотчас же он подходит к ним, любезно приветствует и приглашает их зайти в гостиницу откушать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина «Монтепульчано», «Лакрима-Кристи», кипрского и самосского. Барышня покраснела, театинец принял предложение, и она последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которые набегали слезы.
Едва войдя в комнату Кандида, она сказала ему:
– Неужели, господин Кандид, вы не узнаете Пакеты?
При этих словах Кандид, который до того времени смотрел на нее рассеянным взором, потому что был занят только мыслями о Кунигунде, воскликнул:
– Мое бедное дитя, вас ли я вижу? Когда я встретил доктора Панглоса, он был в славном состоянии, и виноваты в этом были вы, не так ли?
– Увы! Это действительно я, – сказала Пакета. – Значит, вы уже все знаете. Я слышала о страшных несчастьях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь не менее печальна. Я была еще очень неопытна, когда вы меня знали. Один кордельер, мой духовник, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны; мне пришлось покинуть замок вскоре после того, как господин барон выставил вас оттуда здоровыми пинками в зад. Я умерла бы, если бы надо мной и не сжалился один искусный врач. В благодарность за это я некоторое время была любовницей этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства, немилосердно избивала меня каждый день; не женщина, а настоящая фурия. Этот врач был безобразнейшим из людей, а я несчастнейшим из всех земных созданий: подумайте сами, каково постоянно ходить в синяках из-за человека, которого не любишь! Вы понимаете, господин Кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, выведенный из себя поведением жены, дал ей выпить однажды, чтобы вылечить легкую простуду, такое сильное лекарство, что через два часа она умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду; он сбежал, а меня упрятали в тюрьму. Моя невиновность не спасла бы меня, не будь я недурна собой. Судья меня освободил с условием, что он наследует врачу. Вскоре у меня появилась соперница, и меня выгнали без всякого вознаграждения. Я принуждена была снова взяться за это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется таким приятным, а нам сулит неисчислимые бедствия. Я уехала в Венецию. Ах, господин Кандид, вы не представляете себе, что это значит – быть обязанной ласкать без разбора и дряхлого купца, и адвоката, и монаха, и гондольера, и аббата, подвергаясь при этом несчетным обидам, несчетным притеснениям! Иной раз приходится брать напрокат юбку, чтобы ее потом задрал какой-нибудь омерзительный мужчина. А бывает, все, что получишь с одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а впереди видишь только ужасную старость, больницу, свалку. Поверьте, я – одно из самых несчастных созданий на свете.
В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду; присутствовавший при этом Мартен сказал ему:
– Вот видите, я уже наполовину выиграл пари.
– Но позвольте, – сказал Кандид Пакете, – у вас был такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил; вы пели, вы ласкали театинца так нежно и непринужденно! Право, вы показались мне столь же счастливою, сколь, по вашему утверждению, вы несчастны.
– Ах, господин Кандид, – отвечала Пакета, – вот еще одна из бед моего ремесла: вчера меня обокрал и избил какой-то офицер, а сегодня я должна казаться веселою, чтобы угодить монаху.
С Кандида было довольно – он признал, что Мартен прав. Они сели за стол с Пакетой и театинцем: обед прошел довольно оживленно, и под конец все разоткровенничались.
– Отец мой, – сказал Кандид монаху, – вы, мне кажется, так наслаждаетесь жизнью, что всякий вам позавидует; у вас цветущее здоровье, ваша физиономия выражает счастье, вы развлекаетесь с хорошенькой девушкой и как будто вполне довольны тем, что стали театинцем.
– Признаться, я хотел бы, чтобы все театинцы сгинули в морской пучине, – сказал брат Жирофле. – Сотни раз брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться турком. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство моего старшего брата, да поразит его, проклятого, господь бог! В обители царят раздоры, зависть, злоба. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, и они принесли мне немного денег; впрочем, половину отобрал у меня настоятель; остальные я трачу на девчонок. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, мне хочется разбить себе голову о стены дортуара. Все мои собратья чувствуют себя не лучше, чем я.
Мартен обратился к Кандиду с обычным своим хладнокровием:
– Не считаете ли вы, что я выиграл все пари целиком?
Кандид дал две тысячи пиастров Пакете и тысячу – брату Жирофле.
– Ручаюсь вам, – сказал он, – что с этими деньгами они будут счастливы.
– Как раз напротив, – сказал Мартен, – ваши пиастры, быть может, сделают их еще несчастнее.
– Ну, будь что будет, – сказал Кандид, – но кое-что меня все же утешает: я вижу, порою встречаешь людей, которых уже и не надеялся встретить. Если я нашел моего красного барана и Пакету, то, возможно, найду и Кунигунду.
– От души желаю, – сказал Мартен, – чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом.
– Вы очень жестоки, – сказал Кандид.
– У меня немалый опыт, – сказал Мартен.
– Вот посмотрите на этих гондольеров, – сказал Кандид, – они поют не умолкая!
– Вы не знаете, какие они дома, с женами и несносными детишками, – сказал Мартен. – У дожа свои печали, у гондольеров – свои. Правда, все-таки участь гондольера завиднее, нежели участь дожа, но, я думаю, разница так невелика, что о ней и говорить не стоит.
– Мне рассказывали, – сказал Кандид, – о сенаторе Пококуранте[91], который живет в прекрасном дворце на Бренте[92] и довольно охотно принимает иностранцев. Утверждают, будто этот человек никогда не ведал горя.
– Хотел бы я посмотреть на такое диво, – сказал Мартен.
Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.
Глава двадцать пятая. Визит к синьору Пококуранте, благородному венецианцу
Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены великолепными мраморными статуями; архитектура дворца не оставляла желать лучшего. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, известный богач, принял наших любознательных путешественников учтиво, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и, пожалуй, понравилось Мартену.
Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.
– Они довольно милые создания, – согласился сенатор. – Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти девушки начинают мне надоедать.
Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был поражен красотою висевших там картин. Он спросил, каким художником написаны первые две.
– Они кисти Рафаэля, – сказал хозяин дома. – Несколько лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ничего хорошего: краски очень потемнели, лица недостаточно округлы и выпуклы, драпировка ничуть не похожа на настоящую материю – одним словом, что бы там ни говорили, я не вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созерцаю самое природу, но таких картин не существует. У меня много полотен, но я уже более не смотрю на них.
Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандиду музыка показалась восхитительной.
– Этот шум, – сказал Пококуранте, – можно с удовольствием послушать полчаса, не больше, потом он всем надоедает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка нынче превратилась в искусство умело исполнять трудные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета, как превращать ее в отвратительное чудище. Пусть кто хочет смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы совсем некстати ввести несколько глупейших песен, в которых актриса щеголяет своим голосом; пусть кто хочет и может замирает от восторга при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря или Катона и спесиво расхаживающего на подмостках. Что касается меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими особами.
Кандид немного поспорил, но без особой горячности. Мартен согласился с сенатором.
Сели за стол, а после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного, начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус.
– Вот книга, – сказал он, – которой всегда наслаждался великий Панглос, лучший философ Германии.
– Я ею отнюдь не наслаждаюсь, – холодно промолвил Пококуранте. – Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен испытывать удовольствие, но эти постоянно повторяющиеся сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, которая, послужив предлогом для войны, почти не участвует в действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут ваять, – все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спрашивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при этом чтении. Все прямодушные люди признались мне, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся в обращении.
– Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии? – спросил Кандид.
– Должен признать, – сказал Пококуранте, – что вторая, четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что касается благочестивого Энея, и могучего Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется еще что-нибудь, столь же холодное и неприятное. Я предпочитаю Тассо[93] и невероятные россказни Ариосто[94].
– Осмелюсь спросить, – сказал Кандид, – не испытываете ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?
– У него есть мысли, – сказал Пококуранте, – из которых просвещенный человек может извлечь пользу; будучи крепко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Рупилия[95], слова которого, по выражению стихотворца, «полны гноя», с кем-то, чьи слова «пропитаны уксусом». Я читал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против старух и колдуний[96] и не нахожу ничего, достойного похвалы, в обращении Горация к другу Меценату[97], в котором он говорит, что если этот самый Меценат признает его лирическим поэтом, то он достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я читаю для собственного услаждения и люблю только то, что мне по душе.
Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококуранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разумным.
– О, я вижу творения Цицерона! – воскликнул Кандид. – Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете постоянно?
– Я никогда его не читаю, – отвечал венецианец. – Какое мне дело до того, кого он защищал в суде – Рабирия или Клуенция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разбирать. Уж скорее я примирился бы с его философскими произведениями; но, обнаружив, что и он во всем сомневался, я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оставаться невеждой, мне чужой помощи не надо.
– А вот и труды Академии наук в восьмидесяти томах! – воскликнул Мартен. – Возможно, в них найдется кое-что разумное.
– Безусловно, – сказал Пококуранте, – если бы среди авторов этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы способ изготовлять – ну, скажем, булавки. Но во всех этих томах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной полезной статьи.
– Сколько театральных пьес я вижу здесь, – сказал Кандид, – итальянских, испанских, французских!
– Да, – сказал сенатор, – их три тысячи, но не больше трех десятков действительно хороши. Что касается этих сборников проповедей, которые все, вместе взятые, не стоят одной страницы Сенеки[98], и всех этих богословских фолиантов, вы, конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да и никто не заглядывает.
Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами.
– Я думаю, – сказал он, – что республиканцу должна быть по сердцу большая часть этих трудов, написанных с такой свободой.
– Да, – ответил Пококуранте, – хорошо, когда пишут то, что думают, – это привилегия человека. В нашей Италии пишут только то, чего не думают; люди, живущие в отечестве Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни единой мысли без позволения монаха-якобита[99]. Я приветствовал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей, если бы пристрастность и фанатизм не искажали всего, что в этой драгоценной свободе достойно уважения.
Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает ли он этого автора великим человеком.
– Мильтона? – переспросил Пококуранте. – Этого варвара, который в десяти книгах тяжеловесных стихов[100] пишет длинный комментарий к Первой Книге Бытия; этого грубого подражателя грекам, который искажает рассказ о сотворении мира? Если Моисей говорит о Предвечном Существе, создавшем мир единым словом, то Мильтон заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и чертить план своего творения! Чтобы я стал почитать того, кто изуродовал ад и дьяволов Тассо, кто изображал Люцифера то жабою, то пигмеем и заставлял его по сто раз повторять те же речи и спорить о богословии, кто, всерьез подражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, вынуждал демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне, да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жалкие нелепицы. Брак Греха со Смертью и те ехидны, которыми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом, а длиннейшее описание больницы годится только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, дикая и омерзительная, при самом своем появлении в свет была встречена презрением; я отношусь к ней сейчас так же, как некогда отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я.
Кандид был опечален этими речами: он чтил Гомера, но немножко любил и Мильтона.
– Увы! – сказал он тихо Мартену. – Я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение.
– В этом еще нет большой беды, – сказал Мартен.
– О, какой необыкновенный человек! – шепотом повторял Кандид. – Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все не нравится!
Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить его красоты.
– Этот сад – воплощение дурного вкуса, – сказал хозяин, – столько здесь ненужных украшений. Но завтра я распоряжусь разбить новый сад по плану более благородному.
Когда любознательные посетители простились с вельможей, Кандид сказал Мартену:
– Согласитесь, что это счастливейший из людей: он взирает сверху вниз на все свои владения.
– Вы разве не видите, – сказал Мартен, – что ему все опротивело? Платон давным-давно сказал[101], что отнюдь не лучший тот желудок, который отказывается от всякой пищи.
– Но какое это, должно быть, удовольствие, – сказал Кандид, – все критиковать и находить недостатки там, где другие видят только красоту!
– Иначе сказать, – возразил Мартен, – удовольствие заключается в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?
– Ну хорошо, – сказал Кандид, – значит, единственным счастливцем буду я, когда снова увижу Кунигунду.
– Надежда украшает нам жизнь, – сказал Мартен.
Между тем дни и недели бежали своим чередом, Какамбо не появлялся, и Кандид, поглощенный своей скорбью, даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не пришли поблагодарить его.
Глава двадцать шестая. О том, как Кандид и Мартен ужинали с шестью иностранцами и кем оказались эти иностранцы
Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же гостинице, человек с лицом, темным, как сажа, подошел сзади к Кандиду и, взяв его за руку, сказал:
– Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь.
Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее удивиться и обрадоваться он мог бы лишь при виде Кунигунды. От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга.
– Кунигунда, конечно, тоже здесь? Где она? Веди меня к ней, чтобы я умер от радости возле нее.
– Кунигунды здесь нет, – сказал Какамбо, – она в Константинополе.
– О небо! В Константинополе! Но будь она даже в Китае, все равно я полечу к ней. Едем!
– Мы поедем после ужина, – возразил Какамбо. – Больше я ничего не могу вам сказать, я невольник, мой хозяин меня ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы.
Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что видит его невольником, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с Мартеном, который хладнокровно взирал на все, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал.
Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал:
– Ваше величество, вы можете отплыть в любую минуту – корабль под парусами.
Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча переглянулись: в это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:
– Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а лодка готова.
Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова переглянулись, всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:
– Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил.
И тотчас же исчез.
Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:
– Ваше величество, если угодно, вы можете ехать.
И вышел, как другие.
Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевшему подле Кандида. Он заявил:
– Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте.
Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мартен погрузились в глубокое молчание, прерванное наконец Кандидом.
– Господа, – сказал он, – что за странная шутка! Почему вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я, ни Мартен этим похвалиться не можем.
Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски:
– Это вовсе не шутка. Я – Ахмет III[102]. Несколько лет я был султаном; я сверг с престола моего брата; мой племянник сверг меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю свой век в старом серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:
– Меня зовут Иван[103], я был императором российским; еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Третий сказал:
– Я – Карл-Эдуард[104], английский король; мой отец уступил мне права на престол; я сражался, защищая их; восьмистам моим приверженцам вырвали сердца и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь направляюсь в Рим – хочу навестить короля, моего отца, точно так же лишенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Четвертый сказал:
– Я король польский[105]; превратности войны лишили меня наследственных владений; моего отца постигла та же участь; я безропотно покоряюсь Провидению, как султан Ахмет, император Иван и король Карл-Эдуард, которым господь да ниспошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Пятый сказал:
– Я тоже польский король[106] и терял свое королевство дважды, но Провидение дало мне еще одно государство, где я делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали когда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле Провидения; сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Слово было за шестым монархом.
– Господа, – сказал он, – я не столь знатен, как вы; но я был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор[107], меня избрали королем Корсики, называли «ваше величество», а теперь в лучшем случае именуют «милостивый государь». У меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой, было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что то же постигнет меня и здесь, хотя, как и ваши величества, я приехал на венецианский карнавал.
Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по двадцать цехинов королю Теодору на платье и белье; Кандид преподнес ему алмаз в две тысячи цехинов.
– Кто же он такой, – воскликнули пять королей, – этот человек, который может подарить – и не только может, но и дарит! – в сто раз больше, чем каждый из нас? Скажите, сударь, вы тоже король?
– Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести.
Когда они кончали трапезу, в ту же гостиницу прибыли четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства из-за превратностей войны и приехали на венецианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти в Константинополе обожаемую Кунигунду.
Глава двадцать седьмая. Путешествие Кандида в Константинополь
Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь, принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путешественники низко поклонились его злосчастному величеству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену:
– Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей, еще более несчастных. А я потерял всего лишь сто баранов и сейчас лечу в объятия Кунигунды. Мой дорогой Мартен, я опять убеждаюсь, что Панглос прав, все к лучшему.
– От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись, – сказал Мартен.
– Но то, что случилось с нами в Венеции, – сказал Кандид, – кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы шесть свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?
– Это ничуть не более странно, – сказал Мартен, – чем большая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола, а что касается чести, которую они нам оказали, отужинав с нами, – это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь.
Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею своему старому слуге, своему другу Какамбо.
– Говори же, – теребил он его, – как поживает Кунигунда? По-прежнему ли она – чудо красоты? Все ли еще любит меня? Как ее здоровье? Ты, наверно, купил ей дворец в Константинополе?
– Мой дорогой господин, – сказал Какамбо, – Кунигунда моет плошки на берегу Пропонтиды[108] для властительного князя, у которого плошек – раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя по имени Рагоцци[109], которому султан дает по три экю в день пенсиона. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая.
– Хороша она или дурна, – сказал Кандид, – я человек порядочный, и мой долг – любить ее по гроб жизни. Но как могла она дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе пять-шесть миллионов, которые ты ей отвез?
– Посудите сами, – сказал Какамбо, – разве мне не пришлось уплатить два миллиона сеньору дону Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса, губернатору Буэнос-Айреса, за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милое, Икарию, Самое, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, я – невольник султана, лишенного престола.
– Что за ужасное сцепление несчастий! – сказал Кандид. – Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурнела! – Потом, обратясь к Мартену, он спросил: – Как по вашему мнению, кого следует больше жалеть – императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?
– Не знаю, – сказал Мартен. – Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых.
– Ах, – сказал Кандид, – будь здесь Панглос, он знал бы и все разъяснил бы нам.
– Мне непонятно, – заметил Мартен, – на каких весах ваш Панглос стал бы взвешивать несчастья людей и какой мерой он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы людей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.
– Это вполне возможно, – сказал Кандид.
Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо; затем, не теряя времени, он сел на галеру со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды на поиски Кунигунды, какой бы уродливой она ни стала.
Среди гребцов галеры были два каторжника, которые гребли очень плохо; шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона, брата Кунигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмотрел на них еще внимательнее.
– Послушай, – сказал он Какамбо, – если бы я не видел, как повесили учителя Панглоса, и не имел бы несчастья самолично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут на галере.
Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.
– Не трогайте их, не трогайте! – воскликнул Кандид. – Я заплачу вам, сколько вы захотите.
– Как! Это Кандид? – произнес один из каторжников.
– Как! Это Кандид? – повторил другой.
– Не сон ли это? – сказал Кандид. – Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглос, которого при мне повесили?
– Это мы, это мы, – отвечали они.
– Значит, это и есть тот великий философ? – спросил Мартен.
– Послушайте, господин шкипер, – сказал Кандид, – какой вы хотите выкуп за господина Тундер-тен-Тронка, одного из первых баронов империи, и за господина Панглоса, величайшего метафизика Германии?
– Христианская собака, – отвечал левантинец, – так как эти две христианские собаки, эти каторжники – барон и метафизик, и, значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них пятьдесят тысяч цехинов.
– Вы их получите, господин шкипер; везите меня с быстротою молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все сполна. Нет, сперва везите меня к Кунигунде.
Но левантинец уже направил галеру к городу и велел грести быстрее, чем летит птица.
Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса.
– Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглос, каким образом вы остались живы, после того, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?
– Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране? – спросил барон.
– Да, – ответил Какамбо.
– Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! – воскликнул Панглос.
Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все сразу. Галера летела, и вот они уже в порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за пятьдесят тысяч цехинов брильянт стоимостью в сто тысяч: еврей поклялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае.
– Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? – спросил он.
– Вполне возможно и даже более того, – ответил Какамбо, – поскольку она судомойка у трансильванского князя.
Тотчас позвали двух евреев, Кандид продал еще несколько брильянтов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.
Глава двадцать восьмая. Что случилось с Кандидом, Кунигундой, Панглосом, Мартеном и другими
– Еще раз, преподобный отец, – говорил Кандид барону, – прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой.
– Не будем говорить об этом, – сказал барон. – Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того как мою рану вылечил брат аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отправили в Рим к отцу генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного ичоглана[110]. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться, я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают, как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок?
– А вы, мой дорогой Панглос, – спросил Кандид, – каким образом оказалась возможной эта наша встреча?
– Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили, – сказал Панглос. – Разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить мою персону в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал людей великолепно, надо отдать ему должное, но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но на лестнице упал. На шум прибежала из соседней комнаты его жена. Она увидела меня, растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, тоже бросилась бежать и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала супругу:
– Дорогой мой, как это ты решился резать еретика! Ты разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол. Пойду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса.
Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул:
– Сжальтесь надо мной!
Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил рану; его жена сама ухаживала за мною; через две недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место, я поступил лакеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Венецию; но у моего господина не было средств, чтобы платить мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу; с ним-то я и приехал в Константинополь.
Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была совершенно открыта, между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих ушек; она уронила букет, я его поднял и водворил на место очень почтительно, но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неаполитанских священников и два монаха с Корфу; они объяснили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали по двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас выкупили.
– Ну хорошо, мой дорогой Панглос, – сказал ему Кандид, – когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?
– Я всегда был верен своему прежнему убеждению, – отвечал Панглос. – В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя.
Глава двадцать девятая. Как Кандид нашел Кунигунду и старуху
Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамбо рассказывали друг другу о своих приключениях, обсуждали происшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешении, которое можно найти и на турецких галерах, – они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешивающие на веревках мокрые кухонные полотенца.
Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные, потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на три шага, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли старуху. Кандид выкупил обеих.
По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела, – никто ей этого не говорил; она напомнила Кандиду о его обещании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.
– Я не потерплю, – сказал барон, – такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Этого позора я ни за что не допущу – ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона.
Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами, но он был неумолим.
– Сумасшедший барон, – сказал ему Кандид, – я избавил тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сестру. Она мыла здесь посуду, она уродлива – я, по своей доброте, готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.
– Ты можешь снова убить меня, – сказал барон, – но, пока я жив, ты не женишься на моей сестре.
Глава тридцатая. Заключение
В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Панглосом, Мартеном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру и что, согласно всем законам империи, она может вступить в морганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море; Какамбо считал, что нужно возвратить его левантийскому шкиперу на галеры, а потом, с первым же кораблем, отправить в Рим к отцу генералу. Совет признали вполне разумным; старуха его одобрила; сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение, – разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона.
Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильянтов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной; старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывающие мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум; другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы, – их везли в подарок могучему султану. Эти зрелища рождали новые споры; а когда они не спорили, воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать:
– Хотела бы я знать, что хуже: быть похищенной и сто раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах – словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?
– Это большой вопрос, – сказал Кандид.
Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения.
Новые события окончательно утвердили Мартена в его отвратительных принципах, поколебали Кандида и смутили Панглоса. Однажды к ним на ферму явилась Пакета и брат Жирофле в самом бедственном состоянии. Они очень быстро проели свои три тысячи пиастров, расстались, потом помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали оттуда, и, наконец, брат Жирофле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ничего им не зарабатывала.
– Я ведь предвидел, – сказал Мартен Кандиду, – что они быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее, чем были. Вы и Какамбо растранжирили миллионы пиастров и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.
– Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя, – сказал Панглос Пакете. – Знаете ли вы, что стоили мне кончика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде! О, что это за мир, в котором мы живем!
Это происшествие дало им новую пищу для философствования.
По соседству с ними жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглос сказал так:
– Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?
– А тебе-то что до этого? – сказал дервиш. – Твое ли это дело?
– Но, преподобный отец, – сказал Кандид, – на земле ужасно много зла.
– Ну и что же? – сказал дервиш. – Какое имеет значение, царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?
– Что же нам делать? – спросил Панглос.
– Молчать, – ответил дервиш.
– Я льстил себя надеждой, – сказал Панглос, – что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.
В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом.
Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол нескольких их друзей. Это событие наделало много шуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили.
– Вот уж не знаю, – отвечал тот, – да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю.
Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, моккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Панглосу и Мартену бороды.
– Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье? – спросил Кандид у турка.
– У меня всего только двадцать арпанов, – отвечал турок. – Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.
Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартену:
– Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.
– Высокий сан, – сказал Панглос, – связан с большими опасностями; об этом свидетельствуют все философы. Судите сами[111]: Еглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авессалом повис на своих собственных волосах и был пронзен тремя стрелами; царь Нават, сын Иеровоама, был убит Ваасою; царь Эла – Замврием; Охозия – Иеговой; Гофолия – Иодаем; цари Иоаким, Иехония и Седекия попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителлий, Домициан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских[112], император Генрих IV? Знаете вы…
– Я знаю также, – сказал Кандид, – что надо возделывать наш сад.
– Вы правы, – сказал Панглос. – Когда человек был поселен в саду Эдема, это было ut operaretur eum, – дабы и он работал[113]. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.
– Будем работать без рассуждений, – сказал Мартен, – это единственное средство сделать жизнь сносною.
Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того – честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:
– Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, – не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.
– Это вы хорошо сказали, – отвечал Кандид, – но надо возделывать наш сад.
Танкред (Трагедия в пяти действиях)
Перевод Н. И. Гнедич
Действующие лица:
Аржир, Танкред, Орбассан, Лоредан, Катан – рыцари
Альдамон, воин.
Аменаида, дочь Аржира.
Фани, наперсница Аменаиды.
Многие рыцари, присутствующие в совете, щитоносцы, воины и народ.
Действие в зале совета в Аржировом доме, потом на площади.
Действие первое
Явление первое
Собрание рыцарей, которые сидят полукружием.
Аржир
Вожди и рыцари, Сицилии сыны, Герои-мстители отеческой страны! Вы, престарелые мои почтивши лета, Собрались у меня для важного совета, Как нам несущих брань тиранов отразить, И славу и покой отчизне возвратить. Давно сей стонет град от наших распрь несчастных. Бесплодно мужество, где нет сердец согласных. Пора – соединясь, на мусульман восстать; О други! нам пора от гибели спасать Стяжанных кровью благ остаток драгоценный, Для благородных душ всех более священный, Свободу, – вот о чем пещись мы все должны. Два сильные врага сей бедственной страны, Бичи народных прав, враги святой свободы, Византские цари, срацинские народы Презренным рабством нам досель еще грозят. Сии властители вселенную делят И спорят лишь о том, какой тиран меж ними Нас вправе отягчить оковами своими. Уже Мессину грек тиранством утеснил, Надменный Солгмир давно поработил И Этной пламенной венчанные равнины, И древний Агригент, и Эннские долины. Всё предвещало нам паденье Сиракуз, Отечеству позор и бремя рабских уз! Но алчные враги взаимно взревновали; Восставши нас терзать, друг на друга восстали, Ведя о жертве спор, лишились сами сил. К свободе верный путь сам бог для нас открыл! Вот миг тот счастливый и жданный многи лета: Уже стареется величье Магомета; Европу менее страшит уже сей враг: Во Франции Мартель, в Гишпании Пелаг, И церкви римской вождь Леон, поборник веры, Как гордого смирять нам подали примеры, — Я знаю, город наш раздорами смущен, И прежней вольности и прежних сил лишен. Не буду вспоминать дней горестных пред вами, Когда против себя мы восставали сами, Когда отчизна кровь детей своих лила, — Забвенью предадим позорные дела! Мы душу, Орбассан, единую составим, К единой цели мы все помыслы направим, Чтоб славу возвратить отеческим странам; И, не терпевшие доселе равных нам, Умрем, не потерпев властителя над нами!Орбассан
Ты справедлив, Аржир; меж нашими домами Несчастная вражда давно поселена; Страдала от нее родимая страна. Давно желают зреть печальны Сиракузы, Чтобы мой род с твоим связали дружбы узы. Аржир, теперь должны друг другу мы помочь: Супругой я беру твою любезну дочь; Отечеству, тебе полезным быть горжуся, И сам, от алтаря, где в том вам поклянуся, Иду за вас мечом я Соламиру мстить. Но должно не его единого сразить; И на других врагов нам время обратиться; Других тиранов мы должны еще страшиться, К которым подла чернь поднесь хранит любоиь. И по каким правам от Сенских берегов, Везде скитался, надменные французы Вселились на брегах цветущих Аретузы? И по каким правам, стран чуждых гражданин, Кусси надменный к нам пришел как властелин И Сиракуз в стенах свободно водворился? Сначала кроток был и службой нам гордился; Но вдруг он напыщен, как повелитель, стал. Наследства род его несметные стяжал И, нагло властвуя прельщенным здесь народом, Дерзнул возвыситься над Орбассана родом. За то наказан он: мы всех его детей Узрели изгнанных из здешних областей. Танкред, от племени враждебного рожденный, Еще в младенчестве из стен сих удаленный, Служил в Византии под знаменем царей. Он горд и, верно, храбр и, верно, всей душой Не терпит наших прав, законы презирает, И чтобы нам отмстить – лишь время избирает. Француза каждого приязнь для нас страшна! Три ратника простых в недавни времена, Скитальцы бедные, сыны снегов нормандских, Поставили их власть в полях апулианских Без всяких прав, кроме единых прав войны: Свергать властителей и расхищать страны. Аравлянин и грек, германцы и французы — Все пожирают нас, стекаясь в Сиракузы; И наши, тучностью несчастные поля, И зависть хищную и алчность воспаля, Манят грабителей и с севера и с юга. Всем должно нам восстать и мстить им друг за друга Измену сколько раз мы зрели в граде сем. Восставим свой закон и строго соблюдем: Лишает чести он и смертию карает Того, кто со врагом в связь тайную вступает, На гибель стран родных с ним явно устремлен: Пощадою всегда изменник ободрен. Не должно снисходить ни к возрасту, ни к роду. Господство утвердить и сохранить свободу Венеция могла лишь строгостью своей. В благоразумии последуем мы ей, Врагов отечества без жалости карая.Opeдан
Так, истинно позор для сицилийска края, Что Соламир, сей мавр, магометанин сей Находит для себя в Сицилии друзей! Что в бранной сей земле, в стране сей християнской, Что между нас самих властитель мусульманской Развратных граждан мог дарами закупить! То при дворах царей стараясь нам вредить, То в град наш с хитрыми условьями вступая, Там бранию грозя, здесь мир нам предлагая, Вселял меж нас раздор, старался обольщать И души роскошью восточной развращать. Взгляните, как меж нас от сладкой сей отравы Растлились честные отеческие нравы! И сколько ныне здесь обольщено граждан Науками, трудом лишь праздных аравлян; Они им преданных навек порабощают; Прямые рыцари науки презирают. Нам нужно знать одно – науку побеждать; Других наук, друзья, я не желаю знать. На мужество свое, на ваше уповаю, И так, как Орбассан, я строгость одобряю, Блюстительницу прав свободных областей. Гишпанию один поработил злодей. Он между нами был, он может вновь явиться. Пусть кар ужаснейших измена здесь страшится; Для блага общего всю жалость истребим. Сразимся с маврами, Танкреда отчуждим. Противной крови нам потомок сей последний, Свободы нашей враг, и враг всех боле вредный. Совет наш праведно и мудро положил, Чтоб Орбассан в его наследие вступил: Да истребится сонм злодеев сокровенных, К Танкреда имени доселе прилепленных. Его имущество да будет в род твоим, О храбрый Орбассан!Катан
Мы все то утвердим. Танкред могуществом в Царьграде пусть блистает; Пусть подвиги его двор вражеский венчает. Танкред, свою главу склонивши, пред царем — Всего себя лишил в отечестве своем И отчуждился сам от наших прав священных. Да будет изгнан он; раб кесарей надменных В республике ничем не должен обладать. Но Орбассан всегда стремился охранять Свободу наших прав; так можно ль меньшей мздою Признательной стране воздать сему герою?Аржир
Люблю я дочь мою, и Орбассан мой зять; Но собственность для них у сироты отнять?… Вы вняли, рыцари, что я не соглашаюсь.Лоредан
Сенат поносишь?Аржир
Нет, жестокостью гнушаюсь. Когда ж покорствовать закону должно мне, Когда в том выгода отеческой стране, Для ней сердечное роптанье заглушаю.Орбассан
Награды слабой сей искать я не желаю; Пусть общество возьмет Танкредов весь удел.Аржир
Оставим речь сию для больше важных дел. Так, завтра брак сверша, приближим день счастливый, В который общий наш смирится враг кичливый И победителя познает Соламир. Сей враг, соперник твой, нам предлагая мир, С моею дочерью дерзал союзом льститься, И мнил, что должен я родством его гордиться. Иди, и торжествуй над наглым сим врагом. Друзья, да будет наш готов весь ратный сонм. Но я, лишенный сил преклонными годами, Повелевать в бою не смею боле вами. Да будет Орбассан вам вождь в пути побед, Я ж, старец, коль смогу идти за вами вслед, И в том поставлю честь; я буду близ героев, И духом обновлюсь среди кровавых боев; И прежде чем глаза навеки затворю, В победе над врагом еще я вас узрю.Лоредан
Ты будешь нам вождем, и мы надеждой льстимся, Что с боя в сей же день со славой возвратимся. Сражаясь при тебе, иль лавры мы пожнем Или в глазах твоих все мертвыми падем.Явление второе
Аржир и Орбассан.
Аржир
Могу ли, Орбассан, обнять тебя как сына? Раздора нашего забыта ли причина? Могу ли, как отец, себя надеждой льстить, Что ты подпора мне?Орбассан
Уверен можешь быть. Люблю отечество, оно нас примиряет, И брак и общая нас польза съединяет. Но не ввело б ничто меня в союз с тобой, Когда б душа моя, горевшая враждой, И в самой сей вражде тебя не почитала. Цепь новую для нас хотя любовь сплетала, Но не одна любовь на брак влечет меня; Не будет наш союз плодом того огня, Который миг родит и миг уничтожает И часто вслед за ним вражду лишь оставляет. Сын Марсов и слуга отеческой страны, Я не привык вздыхать средь ужасов войны, Надежда с браком мне важнее представлялась: Скрепленье дружбы той, что между нас рождалась, И слава Сиракуз и польза обоих. Любовь, пред важностью взаимных выгод сих, Свое могущество минутное теряет. Пусть узы дружества рука ее скрепляет; Но слабый глас любви в то время да молчит, Когда вкруг наших стен оружие гремит.Аржир
Сей гордый, бранный дух почтение внушает; Но не суровость нас, а кротость лишь пленяет. Я льщуся, что, любви ты сердце покоря И грозное чело пред девою смиря, Признаешь страсти плен, тебе, конечно, новый.Орбассан
Я льщусь равно, что ты простишь мой нрав суровый: Возросши в воинстве, я к лести не привык; Сей суетных учтивств обманчивый язык, Сия для слабых душ сокрытая отрава Чужда для прямоты воинственного нрава. В Аменаиде я не красоты мечту, Но добродетели и дочь героя чту, И, с ней вступя в союз, тобой усыновленный, Снискать ее любовь почту за долг священный.Аржир
Но, призванная мной, она идет пред нас.Явление третье
Аржир, Орбассан и Аменаида.
Аржир
Ко благу сей страны граждан всеобщий глас, Отец и бог – тебе назначили супруга. Сей рыцарь, в ком теперь я обретаю друга, Согласья твоего меня порукой зрит. Ты знаешь, сколько здесь он саном знаменит: Сильнейший гражданин, к победам вождь избранный, Танкреда весь удел ему законом данный…Аменаида
(в сторону)
Танкреда!Аржир
Но не сей, ничтожной мне ценой, Возвысится союз, свершаемый тобой.Орбассан
Союз сей лестен мне, и будет лестен боле, Коль сердце дочери отца покорно воле. Да возмогу и я сей выбор заслужить И счастья всех троих надежду совершить.Аменаида
Всегда твоя душа, родитель, разделяла Все горести мои, и счастья мне желала. Героя выбор твой супругом мне дает; И скорбный ваш раздор, пылавший столько лет, Когда от вас навек забвенью предается, То дружбы вашей дочь залогом остается. Союза важного всю цену вижу я. Но Орбассан простит, когда душа моя, Разима с юности судьбою раздраженной И возмущенная внезапной переменой, В объятиях отца спокоится на миг.Орбассан
И сделать то должна; почтенных чувств таких Дочерней нежности я воспретить не смею; Тех прав, что над тобой с сего я дня имею, Во зло не обращу. Теперь – спешу на бой; Мне должно заслужить почтенный брак с тобой; Ласкаюсь, что в сей день свершу надежду вашу, И брачные венцы я лаврами украшу.Явление четвертое
Аржир и Аменаида.
Аржир
Но ты смущаешься, безмолвствуешь, стеня, И слезы на очах скрываешь от меня? Упреки ясно мне сей вздох предзнаменует: Язык преслушен нам, коль сердце негодует.Аменаида
Родитель! признаюсь – я думать не могла, Чтоб, столько претерпев от Орбассана зла, Ты некогда престал пылать к нему враждою; Чтоб я, соединя вас трепетной рукою, Супругом назвала злодея твоего? Забуду ль ужасы раздора я того, Как мятежом граждан, врагов твоих к отраде, Ты крова был лишен в отечественном граде? Как мать, гонимая в родных своих стенах, Искала жалости на чуждых берегах? Как, от груди отца оторванная с нею, В столице кесарей, с опорой слабой сею Делила я печаль, сносила иго бед И злополучие познала с юных лет! Но я у матери, в стране чужой и дальной Училася терпеть изгнанных рок печальный; Сносить училася в несчастии моем И гордого двора презорливый прием, И жалость хладных душ, тягчайшую презренья! И в мрачной доле сей, в училище терпенья Примером матери образовалась я. Но вдруг лишась всего с потерею ея, Я в мире с ужасом одну себя узрела, Как трость пустынная, защиты не имела! Но рок смягчился к нам: несчастливый сей град Стяжанье, честь, права отдал тебе назад; Судьбу оружия вручил твоей он длани, И пали пред тобой враги в кровавой брани; В объятия отца я вновь возвращена; И новая гроза над мною собрана! Ты брака моего светильник возжигаешь; Я знаю выгоды, которых ожидаешь; Но жертвою врагов была до сих я дней; А ныне зрю себя – я жертвою твоей! И день, который вы для брака мне избрали, Быть может, будет нам днем бедствий и печали.Аржир
Он будет счастливым, отцу поверь ты в том; Блаженства твоего не буду я врагом. Любезную мне дочь вручаю я герою, Который мавру, нам грозящему войною, В сей самый день за нас мстить бранию готов; Он был противник мой, теперь он наш покров.Аменаида
Покров? возносишь ты заслуги Орбассана; Но блеск меня не льстит высокого толь сана; И я желала бы, чтоб вождь толиких сил Для выгод собственных невинных не теснил.Аржир
Так, весь сенат, храня от рабства град сей вольный, В Танкреде наказал род чуждый и крамольный. Он, долго власть свою нам обращая в вред, Здесь приобрел врагов.Аменаида
Но и досель Танкред, Коль верить мне молве, в сем граде уважаем.Аржир
И мы в нем доблести героя почитаем; Уже Иллирию, гласят, он покорил; Но чем усерднее он кесарям служил, От родины своей тем боле отчуждался, И навсегда отсель законами изгнался.Аменаида
Танкред!Аржир
Опасен нам крамольника возврат; В Царьграде ты могла приметить много крат К нам ненависть его.Аменаида
Нет! – мавра победитель, И слабых Сиракуз был, верно б, он спаситель — Вот мать моя всегда как думала о нем. Когда ж свирепствуя враги во граде сем, За Орбассанов род все на тебя восстали, Расхитили твой дом, родных твоих изгнали, Танкред презрел бы смерть, чтоб защитить тебя: Вот как судила я.Аржир
О дочь, приди в себя: К советам нежного родителя склонися, С местами, с временем теперь сообразися: Танкред и Соламир и византийский двор Здесь ненавистны всем, друзья их нам позор! Путь к счастию тебе в покорности остался. Я весь мой долгий век за родину сражался; Неблагодарной, ей, как верный сын служил; Несправедливую, всегда ее любил; Так буду поступать до самой я могилы. Последуй мне, утешь ты старца дни унылы. Жизнь треволненную готов я окончать: Твою – обязана ты долгу покорять; И с миром очи я, сходя во гроб, закрою, Коль счастие твое пред смертию устрою.Аменаида
Заботься менее об участи моей. Не сожалею я, оставив двор царей: Родитель, всё в моем ты сердце заменяешь; Но им поспешно так почто располагаешь? На Орбассанову ты дружбу положась, Считаешь прочною и власть его и связь; Но всё пременчиво. Увы! сему герою, Быть может, рано ты дал право надо мною.Аржир
Как, что ты говоришь?Аменаида
Прости, коль речью сей, Быть может, нанесла я скорбь душе твоей. Я знаю, что наш пол, в сей области свободы, Законом осужден скрывать и глас природы; Но сердце пред тобой не в силах чувств сокрыть, Прости, когда дерзну родителя спросить: Зачем, как сей союз предположить решился, Ты сердца дочери несчастной не спросился? Ах! что переменить любовь твою могло?Аржир
Ты, ты одна, ее употреби во зло. Доселе я внимал, скрывая гнев правдивый, Но больше не внемлю я дочери строптивой. Не можно твоего союза мне прервать: Я слово дал; ему бесчестно изменять. Несчастным я рожден, сама ты мне вещала: Всегда судьба мои надежды разрушала; Весь скорбный век мой был как море в бурный час. Порадуй, о мой бог, меня ты в первый раз! Да дочь, сверша сей брак, в нем счастие познает И радостней, чем я, путь жизни протекает.Явление пятое
Аменаида
Танкред, о друг души! как, мне толь слабой быть? Для твоего врага любовь твою забыть? Быть низкою, как он, и, клятвам изменяя, С сим хищником твое наследство разделяя, Чтоб я теперь могла…Явление шестое
Аменаида и Фани.
Аменаида
О Фани, поспеши! Познай, о верный друг, всю грусть моей души: Отцом я названа супругой Орбассану!Фани
Как! сердцу твоему наносят нову рану? Но тщетно льстился им кичливый мусульман, И тщетно, вняв отцу, сей рыцарь Орбассан Над избранным тобой дерзает возвышаться; Твоя душа верна.Аменаида
Ах! можно ль сомневаться? Танкред лишен всего, гоним здесь от врагов; Но быть в гонении – героя рок таков; А мой – его любить всех более на свете! О Фани, в сих стенах жалеют о Танкреде? Народом он любим…Фани
Гонимый с юных дней, В своем отечестве забыт он от друзей; Об участи его немногие жалеют. Вельможи здесь одну корысть в виду имеют; Народ, сей страстью чувств еще не заглушив, И боле жалостлив…Аменаида
И боле справедлив.Фани
Но здесь он угнетен; и сонм друзей сокрытый Изгнанника сего не смеет быть защитой. Жесток и всемогущ верховный здесь совет.Аменаида
Он всемогущ, когда отсутствует Танкред.Фани
О, если бы он мог во граде сем явиться, Тогда могла б твоя надежда совершиться. Но тщетно всё, увы, от нас он удален; Надежда…Аменаида
В боге вся! меня услышит он! Вверяюся тебе: Танкред уж недалеко; И как толпа врагов, свершая ков жестокий, Его на вечное изгнанье обрекла, И как тиранов власть пределы превзошла, — Вот время – и Танкред к их трепету явится. Уже в Мессине он.Фани
О небо! и свершится Сей недостойный брак в Танкредовых глазах?Аменаида
Нет – не свершится он… нет, Фани, тщетен страх! И, может быть, мои гонители со мною Владыку одного признают над собою. Познай, открою всё, – но твердость нам нужна: Постыдно иго мне – и свергнуть я должна. Гоненьем робкая душа моя крепится. Бесчестно изменить, и подло покориться. Так, для меня одной здесь явится Танкред, И льщусь, того меня достойною найдет. — Кто? я, отцом моим жестоко угнетенна, Как слабая раба тирану обреченна, Чтоб я могла, как долг, измену совершить?… Нет, нет! меня ничто не может устрашить! Любовь и в робкий пол бесстрашие вселяет. Пускай моя любовь Танкреда возвращает; И если зрю беды в намереньях моих, Они приятны мне, любовь рождает их.Конец первого действия.
Действие второе
Явление первое
Аменаида и Фани.
Аменаида
Что делаю? в душе невольное волненье! Не угрызения ль?… родит их преступленье, Но небо ведает, как чуждо мне оно. — Так успокоимся. (Ко входящей Фани) Всё ль, Фани, свершено?Фани
Невольник отошел с письмом, тобой врученным.Аменаида
Важнейшим таинством, в сем сердце заключенным, Теперь владеет он; не сомневаюсь в нем; Всегда он верен мне в служении своем; Им убежденный мавр письмо мое к герою В Мессину принесет с заутренней зарею.Фани
Страшусь – и тем одним я рассеваю страх, Что имя рыцаря, о коем в сих стенах Молва единая тиранов ужасала, Что имя ты сие в письме не начертала; И что его один узнает лишь Танкред. Но всё смущаюсь я, чтоб небо новых бед…Аменаида
Сим небом дни мои от юности хранятся; Танкред к нам им ведом, и мне ль теперь смущаться?Фани
В других пределах вас да съединит оно; Здесь всё против него враждой возбуждено. Друзья его молчат, и кем он защитится?Аменаида
Своею славою! Лишь должен здесь явиться — Владыкой будет он; он всех пленит собой: Смягчает все сердца страдающий герой.Фани
Опасен враг его…Аменаида
Рассей боязнь мечтаний И не смущай моих ты твердых ожиданий; Ты не забудь, что мать в последний жизни час, На смертном уж одре благословила нас, Что мой с тех пор Танкред, что нет на свете власти, Могущей истребить взаимность нашей страсти. — Ах, в недрах славы с ним, Византии в стенах Тужили часто мы о скорбных сих странах; С ним часто жадный взор к полям сим обращали, К полям, где обрести блаженство мы мечтали. И думала ли я, чтоб здесь враждебный рок Танкредова врага супругом дать мне мог. И чтоб сей враг принес – как дар, мне на терзанье, Им похищенное Танкредово стяжанье?… Нет – пусть уведает он о злодействах сих; Пусть вспомнит о себе, о бедствиях моих, И защитит права, нарушенны безбожно. Чтоб за Танкреда мстить, я делаю что должно; Коль можно б – сделала и более сего!.. Люблю, страшусь отца и старость чту его, Но я воздвигла б здесь стенящие народы На Орбассана, нас лишившего свободы. Он славных рыцарей почтенный сан срамит: Корыстен, горд, жесток, и он о чести мнит! И вольности граждан покровом быть мечтает! Он стыд готовит мне, а мой отец свершает! И я должна терпеть? и я должна молчать? Брак с ненавистным мне должна я в честь вменять?… Ах! в вольном граде сем тиранство так гонимо; Но всех несноснее и больше всех терпимо Хотящее сердцам законы подавать И силою своей их чувства изменять. Но жребий мой решен.Фани
Но ты пред сим страшилась.Аменаида
Я боле не страшусь.Фани
Молва распространилась, Что страшный изречен Танкреду приговор; Он смертью всем грозит, кто б смел с ним в заговор…Аменаида
Я слышала о нем, и ужасом смутилась; Но верная любовь, скажи, когда страшилась? О Фани! мной любим бестрепетный герой; Бестрепетна и я.Фани
Ужель и над тобой Жестокий сей закон возможет совершиться? Одной лишь черни в страх он, верно, возвестится.Аменаида
Танкреда он гнетет, и ненавистен он! О, сколь сих рыцарей достоин сей закон! Ах, нет! не так себя их предки прославляли; Не так они страны и души покоряли. Италия, признав господство воев сих И их меча страшась, любила кротость их; Завистная вражда их душ не помрачала, И честь – сих витязей сердца соединяла. Они вселяли страх в одних своих врагов; Народ любил их власть и лил на битвах кровь Для славы рыцарей и собственной свободы. Смирялися тогда византские народы, И мавра грозного не трепетал сей град. А ныне что в нем зрю? бессильный лишь сенат, Подозревающий, враждою разделенный, Страшащий сам себя и гражданам презренный. Чрезмерно, может быть, мой дух воспламенен; Предубеждением, быть может, ослеплен; Но всё, что не Танкред, – я всё то ненавижу; Я в мире ничего, кроме его, не вижу; Танкред один везде, всегда в моих очах, И каждый враг его – Аменаиде враг!Явление второе
Аменаида, Фани, вблизи Аржир и рыцари во глубине театра.
Аржир
Удар сей перенесть, друзья, мне дайте силу… Не мнил я низойти с бесчестием в могилу! (К дочери, со вздохами, прерываемыми гневом) Беги, несчастная, не возмущай собой… Беги…Аменаида
Что слышу я? и ты, родитель мой…Аржир
И имя ты сие произносить дерзаешь, Когда отечеству и чести изменяешь?Аменаида
(сделав шаг, чтобы идти, склоняется на Фани).
Погибла я!Аржир
Постой и зри ток слез моих. Ах! что ты сделала?Аменаида
(рыдая)
Несчастье обоих.
Аржир
Иль слезы о твоем злодействе проливаешь?
Аменаида
Злодейства я чужда.
Аржир
Письмо ты отвергаешь?
Аменаида
Нет.
Аржир
Так, черты сии преступницу винят, Изобличают всё и сердце мне разят! Итак, всё истинно? Ты отвечать не смеешь? Скажи, ах, нет! молчи, когда отца жалеешь. Почто до бедствий сих велел дожить мне бог, Велел мне зреть… Ах! что ты сделала?…Аменаида
Мой долг; Ты совершил ли твой?Аржир
Ах, рода поношенье! Или себе ты в честь вменяешь преступленье? Беги, оставь меня убитого тоской; Закроются глаза мне чуждою рукой.Аменаида
(почти лишенная чувств и поддерживаемая от Фани, уходит)
Нет боле сил!Явление третье
Аржир и рыцари.
Аржир
Друзья, в сем страшном положеньи, Как дочь обличена в бесчестном преступленьи, Простите старцу вы его прискорбный стон: Внемля отечеству, природе внемлет он. Вы не потребуйте, чтобы отец стенящий В ваш грозный приговор вмешал свой глас дрожащий Увы! не может быть невинной дочь моя; Но вдруг произнести мой срам и смерть ея?… Нет, нет, не требуйте, чтобы отец несчастный Превыше сил своих исполнил долг ужасный.Лоредан
Почтенного отца мы горести делим И тяжких язв его в душе не растравим, — Но сам, Аржир, ты зрел несчастной начертанье; Зрел в нем преступное изменницы желанье. Гонец захвачен с ним близ стана самого, И дерзкий Соламир мог видеть казнь его. Их злые замыслы открыты слишком были И явной гибелью отечеству грозили. Его опасность, долг, народа общий глас Не суетных угроз днесь требуют от нас. Отцовской жалости законы не внимают; Пред ними всё молчит.Аржир
Чего они желают, Я знаю, знаю я, чего ей должно ждать; Но ах! она мне дочь – вот мой несчастный зять. Я скорбию убит… вам жребий мой вверяю, И прежде дочери лишь умереть желаю!Уходит.
Явление четвертое
Рыцари.
Катан
Уже поведено ей с стражей здесь предстать. Так, без сомнения, прискорбно нам взирать На юность, красоту, на деву толь почтенну, С надеждой двух домов в могилу заключенну. Но на бесстрастный суд, друзья, мы призваны. За поругание мы веры мстить должны; Отечество равно отмщенья ожидает: Изменница в наш град злодея призывает! Видали в Греции и жен мы и граждан, Что, славы отложась и веры християн, Передавалися неверным мусульманам, Сим алчным хищникам, презренным сим тиранам; Но чтобы дочь отца, почтенного всем нам, Для клятв супружеских вступая в божий храм, Свершила заговор толь гнусный и презренный!.. Неслыханным наш град злодейством посрамленный, К примеру вечному желает казнь узреть.Лоредан
Стеня, произнесу: ей должно умереть. Чем род ее славней, важней тем злодеянье. Известно мавра нам надменное мечтанье, Любовь к изменнице и дар его – пленять, Вселять разврат в сердца и взоры ослеплять. К нему относится в письме ее воззванье: «Приди и царствуй здесь». Преступное желанье Нам возвещает их открытый заговор; О прочем умолчу, (к Орбагссану) скрывая твой позор И общий стыд. – И кто, всему в бесчестье граду, Здесь кто из рыцарей, по древнему обряду, Отважится мечом измену защищать И, презря чести долг, злодейство оправдать?Катан
Обиду, Орбассан, мы все делим с тобою, И в ратном поле мы ее омоем кровью. Изменой прерван брак, забудь преступный взор: Немедля казнь ее отмстит за твой позор.Орбассан
Ужасна казнь ее… Верна или неверна, Я был ее жених… и грусть моя безмерна. Но стражей вижу я – и вот сама она! Темниц ведома в мрак, цепьми отягчена… Позорище сие мне стыд и оскорбленье! Друзья! оставьте с ней меня.Явление пятое
Рыцари, вблизи; Аменаида, вдали окруженная стражею.
Аменаида
О провиденье! Не оставляй меня ты в час сей роковой. Предмет любви моей ты знаешь, боже мой! Виновна ли я в чем, мое ты сердце знаешь.Катан
Преступницу сию еще ты зреть желаешь?Орбассан
Хочу.Катан
Пойдем, друзья; но, говоря ты с ней, Законы помни, честь и святость алтарей; Они поруганы и мести ожидают.Орбассан
Всё знаю; долг и честь мне то напоминают. (К стражам) Вы удалитеся.Явление шестое
Аменаида и Орбассан.
Аменаида
Что смеешь ты начать? Иль хочешь ты меня при смерти упрекать?Орбассан
Не постыжу себя жестокостью такою. Супругой избрана была самим ты мною; И, может быть, любовь внушала выбор сей. Не знаю, помнит ли душа моя об ней Или уже скорбит, что власть ее познала; Но я не потерплю, чтоб честь моя страдала; Я думать не хочу, что презрен Орбассан Для нечестивого владыки мусульман, Для вечного врага священной нашей веры — Злодейства равного неслыханны примеры! Для чести сей страны, для собственной моей Я верить не хочу ужасной вести сей. Со дня сего тебе супругом нареченный, Твоим бесславием сам лично оскорбленный, Честь защитить твою за долг считаю мой. Законы рыцарей определяют бой, В котором мощь руки суд божий[114] совершает; В нем меч решит, и он невинность возвращает. На бой сей я готов.Аменаида
Ты?Орбассан
Я один, и льщусь, Что после подвига, к которому стремлюсь, Который честию пред всеми оправдится, Принадлежавшее мне сердце вновь потщится Меня достойным быть. Входить не стану я, Была ли юная пред сим душа твоя Коварного врага соблазнена прельщеньем, Иль, ослепленная минутным заблужденьем, Противилася ты вступить во брак со мной. Над благородною, чувствительной душой Благотворение власть сильную имеет; Над добродетелью – один упрек успеет. Не сомневаюся о чести я твоей; Но мало мне сего: от гордости ль моей Или то от любви, – хочу, по праву власти, Увериться в твоей нелицемерной страсти. Клятв строгих требуют законы в сих странах; Я требую одной – не той, какую страх Иль принуждение у слабых исторгают, Что чувствам вопреки во храмах расточают: Ты прямо говори моей душе прямой. Скажи – и меч в руке, и я готов на бой, Готов на смерть – но с тем, что я любим тобою.Аменаида
В пучину бедствия низверглась я судьбою, И, к ужасу, едва приведена в себя, — Сей подвиг доблестный, нежданный от тебя, Ударом душу мне последним поражает И в ждавшую меня могилу повергает! О рыцарь! я должна тебя благодарить; И в час, когда во гроб готова я ступить, В последний жизни час – тебя я почитаю. Познай меня теперь: я сердце открываю. Ни чести, ни стране не изменяла я, Ни самому тебе; я не была твоя. Ты можешь упрекать душе моей смятенной Неблагодарностью, но никогда изменой. — Я не могу тебя любить… Нет, сей ценой Защиты не куплю: я отвергаю бой. Я знаю, что у вас законы беспощадны, Что казнь готовят мне тираны кровожадны; Суровой гордостью я не могу блистать, Чтобы без ужаса смерть грозную встречать. Нет, жизнь любезна мне… В сем бедствии ужас Я плачу о себе и об отце несчастном. Но и в несчастии, в ужасной доле сей Не обману тебя: не жди любви моей. Теперь кажуся я виновна пред тобою; Но знай, что я была б преступница душою, Когда бы до того забыла долг и честь, Чтоб сердце в дар тебе решилася принесть. Ни женихом, прости, коль речью оскорбляю, Ни рыцарем моим тебя не избираю. Вот мой ответ; суди – и честь свою отмщай.Орбассан
Я буду отомщать – отечественный край; Презрение ж простив, а дерзость презирая, Забуду их. – Итак, бой судный оставляя, Пред мной и пред тобой чист в совести моей, Отныне становлюсь твоим лишь судией, Закону преданным, равно как он бесстрастным, Ни сожалению, ни гневу непричастным.Явление седьмое
Аменаида и стражи вдали.
Аменаида
Теперь свершилось всё… я жертвую собой! О друг единственный, о друг несчастный мой! Ты, для которого я жизнью дорожила, Я за тебя теперь свой приговор свершила! Так, за тебя умру… Но тяжкий сей позор! Но горестный отец, представший вдруг пред взор! Оковы, сонм убийц, орудья грозной казни! Смерть страшную снести без трепетной боязни? Мученье, вечный стыд?… Ах, мысль одна мертвит! Нет! за Танкреда смерть меня не постыдит. Не наказать меня, но умертвить лишь можно. Как? пасть в глазах граждан преступницей мне должно?… Я верной им была – и казнь несу от них! Но ах, в невинности свидетелей других Не буду я иметь кроме души невинной! (К входящей Фани) Ах! где ты, где, Танкред?… О друг мой здесь единой!Фани, рыдая, целует ее руки.
Еще позволено тебя мне, Фани, зреть!Фани
Зачем я не могу здесь прежде умереть!Стражи приближаютоя.
Аменаида
Чудовища идут нас разлучить с тобою! Скажи ты некогда любимому герою, С какими чувствами я в самый гроб сошла; Пусть знает, Фани, он, верна ли я была; Скажи, какой меня постигнул рок ужасный: Он, может быть, слезу прольет о мне, несчастной! О Фани! за него себя я предаю; Но мыслию об нем смягчу я смерть мою.Конец второго действия.
Действие третье
Явление первое
Танкред, сопровождаемый двумя щитоносцами, которые
несут его копье, щит и проч., и Альдамон.
Танкред
Для благородных душ мила страна родная! Приветствую тебя, о родина святая! О храбрый Альдамон, друг юности моей, Тебе обязан я блаженством жизни сей; Твоим усердием сюда я возвратился. Как счастлив стал Танкред! мой жребий изменился! О друг мой! сколь важна услуга мне твоя — Лишь чувствовать могу, сказать не в силах я.Альдамон
Ничтожную, Танкред, услугу выхваляешь, И низкий жребий мой ты много возвышаешь; Я гражданин простой, и счастлив тем стократ…Танкред
Я то же, что и ты: всяк гражданин мой брат.Альдамон
Два года при тебе я в бранях подвизался, И славе дел твоих два года удивлялся, Смотря, как превышал ты праотцев своих; Вот всё достоинство услуг и дел моих. В почтенном доме мне отцов твоих рожденный, Воскормленный от них, тебе препорученный, Я должен…Танкред
Должен ты теперь мне другом быть. Вот град, который я стремился защитить; Вот град отеческий, вот стены те святые, Где я увидел свет, и в дни мои младые Из коих изгнан я! О друг, в каких местах Живет Аржира дочь?Альдамон
Во древних тех стенах; Пред ними пышный кров чертогов возвышенных, Где заседает сонм тех рыцарей почтенных, Судей священный сонм, тот бодрственный сенат, В чьей длани жезл суда и меч на сопостат. Их сонм везде б разил магометан средь боя, Коль не был бы лишен храбрейшего героя. Вот копья их, щиты, их надписи висят, И пышностью своей народу говорят Об их деяниях, со славою свершенных: Не зрят лишь твоего меж сих имен почтенных.Танкред
Сокроем имя мы в враждебных сих стенах; Известно, может быть, оно в других странах. (К щитоносцам) Вы знак мой с именем повесьте истребленным, Чтоб не был в ярость он врагам моим презренным; Доспехи без убранств, знак горести моей, Какими их носил средь бранных я полей, Копье и щит простой и шлем неукрашенный Повесьте, воины, на те печальны стены.Щитоносцы вешают его оружие на пустых местах между другими трофеями.
Но надпись на щите храните, о друзья! В ней всё, что славно мне, и всё, в чем жизнь моя! Она всегда в боях мне мужество вдыхала, Она везде мою надежду составляла; Священны в ней слова; они – Любовь и Честь. Пришедшим рыцарям вы объявите весть, Что воин чуждый им, но имя сокрывая, Пришел в сей град, служить в их воинстве пылая, И славу ставит в том, чтоб им лишь подражать. (К Альдамону) Кто вождь их?Альдамон
Третий год уж начал истекать, Как ревностный Аржир.Танкред
(в сторону)
Отец Аменаиды!Альдамон
Но долго рыцарь сей неправые обиды От страшных нам досель его врагов сносил. Власть должну наконец сенат ему вручил; Здесь имя чтут его и честь и важность сана; За старостью ж его избрали Орбассана.Танкред
Танкредова врага! злодея моего! Друг, что еще дошло до слуха твоего? Скажи мне, правда ль то, что рыцарь сей надменный, Незлобного отца прельстивши дух смиренный, Приязни от него обет уже приял? Что и на дочь его взор дерзкий простирал, Что даже смел уже мечтать о браке с нею?…Альдамон
Вчера я поражен молвой противной сею; Но, находясь всегда при укрепленьи том, Где мною встречен ты при вшествии твоем, От града удален, я более не знаю, Что делалось в стенах, которы презираю; Они ужасны мне, ты в них гоним враждой.Танкред
О друг, вверяюся тебе я всей душой! Спеши в Аржиров дом, узри Аменаиду, Скажи, что гражданин, неведомый по виду, Усердьем движимый и к чести дома их И к имени ее, кто с юных дней своих Ее почтенну мать, почтенный род их знает, О тайном слове лишь мблить ее дерзает.Альдамон
В их доме заслужил свободный я прием; Всех видят с радостью, всех уважают в нем, Которые к тебе осталися усердны. Коль небо помощь даст – мои успехи верны.Явление второе
Танкред
Поможет мне оно; сим небом сохранен, Сим небом я к стопам любезной приведен. Везде, всегда готов щит неба неизменной Для чести истинной и для любви священной. Под ним я протекал стан мавровых полков; Сей щит и здесь меня покроет от врагов. От воинств кесарских, от Иллирии дальной, К любезной я спешил в край родины печальной, Неблагодарной мне, – но и в судьбе сей злой, С Аменаидою толико мне драгой! Порукой мне была любовь Аменаиды, Что сердце здесь мое не понесет обиды. Пришел – другой готов здесь с нею в брак вступить! Ужель она сама могла мне изменить? И кто сей Орбассан? и кто сей дерзновенный? Какой здесь и когда им подвиг совершенный Так возгордил его, что требовать он смел Награды, должной быть наградой славных дел, Заслуженной в боях и ранами и кровью, И присужденной мне хотя одной любовью. Чтобы лишить ее, пусть враг мне жизнь прервет; Но верность мне она и в самый гроб снесет. Не может мой злодей господствовать над нею; Душа ее во всем равна с душой моею. Аменаида! так, ты в бедствиях тверда, Боязни, ужаса, неверности чужда.Явление третье
Танкред и Альдамон.
Танкред
Ты был, ты зрел ее, о друг стократ счастливый! Ах, предводи меня, мой взор нетерпеливый…Альдамон
Не подходи, Танкред, к ужасным тем местам.Танкред
Что слышу! по твоим что думать мне словам?Альдамон
Что должен ты бежать от сих брегов несчастных После соделанных в сей день злодейств ужасных Здесь быть не возмогу – я, гражданин простой.Танкред
Как?Альдамон
Мужеством твоим служи стране иной: В Царьграде честь тебя и слава ожидает; Но в сих местах уже не обитает. Беги – сей град навек покрыл позор и срам.Танкред
Я с ужасом внемлю сим нежданным словам! Что зрел, что слышал ты из уст Аменаиды?Альдамон
Забудь, о рыцарь, ты смертельные обиды; Забудь…Танкред
Так Орбассан уже владеет ей? Гонитель злобный мой, отца ее злодей?Альдамон
Сим утром от отца союз их утвердился, И пир погибельный в стенах провозгласился…Танкред
И мне весь ужас зреть предательства сего!Альдамон
Вся область древнего наследства твоего Дана им в брачный дар. Соперник твой презренный Похитил твой удел, отцами обретенный.Танкред
Польстился, подлый, тем, что я в ничто вменял. Но, небо, и ее властителем он стал? Аменаида…Альдамон
Ах! свирепою судьбою Удар ужаснейший свершен здесь над тобою.Танкред
Жестокий! перестань мне душу раздирать, Умолкни… Нет, вещай.Альдамон
Чтоб браком сочетать Аржира дочь с твоим гонителем надменным, Уже возжгли огонь пред алтарем священным; Но вдруг открылося предательство ее: То мало, что душа обманута твоя; Неверной обоим нанесена вам рана.Танкред
О небо! для кого?Альдамон
Для чуждого тирана, Для злобного врага свободных наших стран, Для Соламира.Танкред
Как? неверный мусульман, Сей мавр!.. о ней вздыхал в Царьграде он, несчастный, Но презрен ею был, но я любим был страстно. Не будет от нее обет святой забыт; То ль сердца чистого порок не осквернит. Нет, нет, не может быть.Альдамон
И сам я сомневался; Но страшный слух о сем по стогнам всем раздался.Танкред
Постой – я клевету и зависть сам познал. Ах! честный человек где оных избегал? С младенчества гоним, в напастях возрастая И с мужеством одним скитаясь в край из края, Я зрел, как зависти везде шипят уста; Я зрел от юных лет, что мрачна клевета Равно в республиках, как в царствах, обитает И из нечистых уст яд черный извергает. Аржир, терзаемый здесь кознями ее, Страдал подобно мне. Коль не ошибся я, Сие чудовище гнездится в здешнем граде И лютых змей своих растит в том смертном яде, Что в пленных им сердцах крамолы лишь родит. Враждебны сонмища, я знаю, что крутит: Аменаида их здесь терпит оскорбленья. Хочу я зреть ее, вещать для убежденья.Альдамон
Остановись – сказать я должен обо всем. Уже разлучена с своим она отцом, Уже в цепях…Танкред
Она!..Альдамон
И, может быть, ты вскоре Ее увидишь здесь в ужаснейшем позоре.Танкред
Аменаиду!Альдамон
Ах, коль здесь таков закон — Жесток, несправедлив, бесчеловечен он! Здесь ропщут, плачут все, но только плакать смеют.Танкред
Аменаиду!.. нет, – поверь мне, не успеют; Нет, варварство сие не будет свершено!Альдамон
Уже судилище толпой окружено. Чернь вопит на нее, преступной называя, И, к виду грустному взор жадно устремляя, С нетерпеливостью и жалостью в очах Вокруг темничных стен волнуется в толпах. Чрез миг предстанут здесь.Танкред
Кто старец сей почтенный, Который шествует из храма толь смущенный? И слуги грустные последуют ему.Альдамон
Несчастнейший Аржир…Танкред
Поди, и никому Не говори о мне.Явление четвертое
Аржир выходит со стороны, Танкред впереди, Альдамон вдали.
Аржир
О смерть, скончай мученье!Танкред
(после молчания)
Почтеннейший Аржир!.. прости мне дерзновенье: Ты знаешь рыцарей, которых грозный сонм Внес в области Луны господен крест и гром, Чтоб лавры заслужить среди священных боев: Ты зришь всех меньшего из тех великих воев. Пришел я, – но прости нескромность ты мою, Коль слезы вдруг мои с твоими я солью.Аржир
Одна твоя душа скорбеть со мной дерзает; Здесь всё меня бежит или терзать желает. Прости, прости и ты сей горести моей. Но с кем я говорю?Танкред
Пришлец в земле я сей, Исполненный к тебе и дружбой и почтеньем, Трепещущий спросить, терзаемый сомненьем… Несчастный, как и ты!.. Но, для небес самих, Еще ты раз прости мне дерзость слов моих: Как, правда ль, дочь твоя…?Аржир
О, правда безотрадна!.. В сей самый час ее постигнет казнь нещадна!Танкред
Она преступница?Аржир
(задыхаясь от рыдания)
Она – мой вечный срам!Танкред
Как, дочь сия?… Аржир, по дальным сторонам Об имени ее молвы я быв свидетель, Считал, когда живет в сем мире добродетель, Аменаидина душа – есть храм ея. Она преступница! правдива весть сия? О день, ужасный день!Аржир
Что боле ужасает, Что гроб отверзло мне и дух мой заставляет Без утешения в могилу нисходить, Что дочь, в злодействе сем, спокойной может быть. Увы, в защиту ей никто здесь не явился; Со стоном приговор на смерть ее свершился; И не зря на обряд старинный в сих странах, Чтоб защищать сей пол в торжественных боях, Дочь злополучная в сей миг на смерть исходит И рыцаря себе к защите не находит. Вот что меня срамит, вот что меня гнетет; Всё стонет, всё молчит, никто не предстает!Танкред
Предстанет, и страшись ты, старец, сомневаться.Аржир
Какой надеждою велишь ты мне ласкаться?Танкред
Предстанет, – но не дочь твою чтоб защитить, Достойною сего она не может быть, Но за святую честь отцов ее почтенных, За славу добрых дел, тобою совершенных.Аржир
Ах! мой унылый дух твой оживляет глас. Но кто же явится на поприще за нас? Весь град сей в ужасе, и кто меня спокоит? Кто руку помощи подать мне удостоит? Не смею льститься тем… Кто станет в битву?…Танкред
Я! Я, говорю тебе; и коль рука моя От праведных небес в бою благословится, Тогда в признательность позволь мне удалиться, Ни дочери твоей не быв перед лицом, Ни открывая вам об имени моем.Аржир
Ах! бог тебя к нам вел спасительной рукою. Хоть чужд веселия, убитый я тоскою, Но чувствую, что я отраднее дышу. Ах! можно ли мне знать, прости, когда спрошу, К кому питаю я признательность, почтенье? Всё кажет мне твое высокое рожденье. Кого, кого в тебе зрю?Танкред
Мстителя ты зришь.Явление пятое
Орбассан, Аржир, Танкред, рыцари и воины.
Орбассан
Страна в опасности. Аржир, ты так ли мнишь, Чтоб с воинством из стен мы завтра выходили? Мы так решили все. – Те, кои изменили, Врагам перенесли прошедший наш совет, И Соламир на нас полки свои ведет; Мы сами встретим их. – Теперь, Аржир, скрепися; Или от зрелища ты лучше удалися, Печального для нас, позорного стране.Аржир
Довольно, Орбассан; теперь осталось мне Идти, и между вас пасть мертвым среди боя. (Указывая на Танкреда) Туда сведут меня стопы сего героя; И я хоть тем свой род от срама свобожу, Что за отечество главу мою сложу.Орбассан
Такие чувствия души твоей достойны. Рассей в последний раз врагов толпы нестройны. Но прежде удались, и стогн оставь ты сей; Здесь уготовлен вид не для твоих очей. Подходят…Аржир
Боже мой!Орбассан
От отческого взора Сокрой ты ужасы несносного позора. Меня здесь держит сан, и долг жестокий мой Велит мне воздержать волненье черни злой. Законами ни в чем небрежность не терпима; Их сила грозная должна быть мной хранима. Тебя ж, кого сей долг ужасный не тягчит, Что держит здесь, и кто тебе смотреть велит, Как кровь виновная законами прольется? Идут – ты удались.Танкред
(взяв за руку Аржира)
Нет, здесь он остается.Орбассан
(осматривая его)
Но ты – ты кто такой?Танкред
Твой враг и старцев друг, Отмститель, может быть, и тот, чьих здесь услуг, Равно как и твоих, отчизна ожидает.Явление шестое
Те же; Аменаида, в цепях, окруженная стражею, рыцари и народ наполняют площадь.
Аржир
(Танкреду)
Дай руку, рыцарь, мне… мой дух изнемогает; Сокрой меня отсель… Увы, вот дочь моя!Танкред
О, недостойный вид!Аменаида
Небесный судия! Ты всё протекшее и будущее знаешь; Один ты справедлив, ты в помыслах читаешь. Но мрачная толпа неправедных людей И судит и винит во слепоте очей. Граждане, рыцари, вы все, чьей днесь рукою Кровавый приговор свершался надо мною, Не к оправданию предстала я пред вас: Небесный судия пускай рассудит нас. Безбожного суда орудий сонм надменный, Так, мной поруган ты и твой закон презренный; Закон сей был свиреп, и нестерпим он стал; Так, оскорблен отец, меня он угнетал; Поруган Орбассан, и нагло и кичливо Мечтавший сердцем сим владеть несправедливо. Народ, когда за то должна я казнью пасть, Рази, но выслушай, познай мою напасть: Кто к богу на ответ без трепета стремится, Тот людям истины сказать не устрашится; И ты, о мой отец! сей видя мой позор, (Увидя Танкреда) Как мог ты… Боже мой! кого встречает взор? О боже! – это он?…(Падает без чувств.)
Танкред
Ах! взор дерзнув простерти, Упреком сражена!.. Постойте, слуги смерти, Постойте, граждане, и отложите месть. Защиту я беру, я оправдаю честь, Сей девы рыцарь я: отец ее почтенный, И сам, равно как дочь, ко смерти осужденный, В покров невинности мой меч избрать почтил, Чтоб он в моих руках суд божий совершил. Вот храбрых рыцарей священнейшие правы. Раскройте поприще для чести и для славы; Устройте, судии, обряд нам боевой. О гордый Орбассан! – тебя зову на бой. Ты знаменит, ты вождь, ты чтешься первый воин, Так чести вызова, надеюсь, ты достоин. Иди предать свой дух или исторгнуть мой. Смертельной битвы знак бросаю пред тобой. (Бросает перчатку) Осмелишься ль поднять?Орбассан
С надменностью твоею Не стоишь, чтоб тебя почтил я честью сею: (Дает знак щитоносцам, чтобы подняли перчатку) Честь делаю себе; и сердца глас внушив И старца власть, тебя избравшего, почтив, В единоборство я хочу вступить с тобою И наказать тебя за дерзость удостою. Кто ты? какой твой сан и имя? Сей твой щит Не много о твоей нам славе говорит.Танкред
Его прославить я сегодня уповаю; Об имени ж моем – молчу, и так желаю; Познаешь ты его с оружием в руках. Пойдем.Орбассан
Да в сей же миг на боевых местах Ограду растворят. Аменаида боле Не остается здесь под стражею дотоле, Пока ничтожный сей не совершится бой.С Аменаиды снимают оковы.
Друзья, мгновенно круг оставив боевой, Иду, куда нас мавр к победе призывает. Честь поединщиков с их жизнью погибает. Одна прямая честь – отечеству служить.Танкред
Пойдем! О рыцари, я смею возвестить, Что принесет не он отечеству спасенье.Аржир
(уводя с Фани Аменаиду)
О боже, призри ты на старцево моленье[115]!Конец третьего действия.
Действие четвертое
Явление первое
Танкред, Лоредан и рыцари.
Воинский марш; перед Танкредом несут его оружия и доспехи Орбассана.
Лоредан
Так, бой твой знаменит, но гибелен нам был: Избраннейшего ты нас рыцаря лишил, Который к родине любовию был славен И мужеством своим с тобою только равен; Позволишь ли теперь узнать твой род, твой сан?Танкред
(в мрачной задумчивости)
Его со смертию познал лишь Орбассан, И тайну и мой гнев сокрыл с собой в могилу. Оставь в безвестности судьбу мою унылу; Коль я полезен вам, нет нужды знать, кто я.Лоредан
Да будет скрытою от нас судьба твоя; Но добродетели яви свои пред нами Полезным мужеством и славными делами. Здесь веют знамена враждебной нам Луны; Ты защити права и веру сей страны. Надменный Соламир нас вызывает к бою: Героя нас лишив, ты замени собою; Тебя ждет гордый мавр.Танкред
Даю я слово вам, Пред воинством идти во сретенье врагам, И слово то сдержу. Срацин вам ненавистный Стократно меньше ваш, чем мой, есть враг завистный, Непримиримый… но кто б ни был он такой, Иду я, и готов вступить с ним в новый бой.Катан
Ты многим нас польстил, сим мужеством пылая; И сам ты жди всех жертв признательного края, Достойных жди наград за мужество твое.Танкред
Здесь нет награды мне; не требую ее, И вовсе не прийму; для жертвы воздаяний Здесь нет того, в чем зрел я верх моих желаний. Когда несчастным я средь боя упаду, Ни славы, ни наград, ни жалости не жду; Я совершу мой долг; но тем одним ласкаюсь, Что с Соламиром я на битве повстречаюсь.Лоредан
И в том вся наша цель. Но время нас зовет, И с ним единственный всех наших душ предмет — Победа. С нами ты делить ее идущий, Всеобщей вестию познаешь час зовущий В поля, где встретить нас мечтает вождь врагов. Дружины все кипят пролить неверных кровь; Да будет чуждо всем нам чувствие другое. Умрем, или спасем отечество драгое.Уходят.
Танкред
Достойно или нет отечество того, Но за него умру.Явление второе
Танкред и Альдамон.
Альдамон
(в сторону)
Не ведают его Смертельной горести, в душе им заключенной. (К Танкреду) Но ты, обидою и скорбью сокрушенный, Исполнишь ли обряд, хранимый сей страной? Явишься ль в торжестве ты взорам девы той, Которой честь и жизнь возвращена тобою? Представишь ли ты ей победною рукою Кровавый рыцаря сраженного доспех?Танкред
Нет, не узрю ее.Альдамон
Как, пред очами всех Для ней ты в подвиг стал, где смерть тебе грозила, И от нее бежишь?Танкред
Она то заслужила.Альдамон
Я вижу, сколь ее ты раздражен виной; Но в оправдание ты дал кровавый бой.Танкред
Всё сделал для нее, и мне то сделать должно. Хоть вероломная, но зреть мне невозможно, Чтоб в гроб она несла бесчестие свое. Хоть меньше б я любил, оставить ли ее? Я должен был спасти, измены ж не прощаю. Пускай живет она, и пусть я погибаю. Но некогда о мне восплачет и она, О друге, коего навеки лишена, Чье сердце верное так жестоко терзала… О! до чего она меня уничижала! И от нее ли мог неверности я ждать? Ах! существо небес мечтал я обожать; Считал, что самых клятв и алтарей священных Святее речь одна из уст ее смиренных…Альдамон
Иль вероломств одних страна сия полна? Глава твоя в позор была здесь предана; Законом здесь гоним, любовью оскорбленный, Оставь, Танкред, сей край, злодейством отягченный. Иду с тобой на брань, спешу навек от стен, От сей обители злодейства и измен.Танкред
Что за волшебство в ней и в самом преступленья Ту добродетель мне живит в воображеньи, Которой образ в ней, мечтающий, я зрел! Ты, повелевшая, чтоб я в тот гроб нисшел, В котором без меня сама была б ты зрима, О вероломная… но всё еще любима! О ты, которою душа моя жила, Ах, если б быть могло, ах, если б ты была То, чем казалася очам моим прельщенным… Нет, с смертью призрак сей лишь может быть забвенным; Но должно вознестись над слабостию сей; Мне должно… умереть, не думая об ней.Альдамон
Но менее она винилася тобою. Неправдой, ты вещал, и мрачной клеветою Наполнена земля…Танкред
Ах! узнано о всем; Всё обнаружено в ужасном деле сем: Она своей красой прельстила Соламира; Сей мавр ее руки просил залогом мира. Дерзнул ли б он искать, любви ее не знав? Взаимность их была. Вотще я сердцу вняв, Сомнение питал: и сам ее родитель, Нежнейший сей отец… ее он обвинитель, И дочь преступная винит себя сама. Я зрел, я зрел слова ужасного письма: «Будь повелителем над нашею страною, Над Сиракузами и над моей душою». Мой жребий совершен!Альдамон
Но презрит пусть герой Неблагодарную с толь низкою душой.Танкред
И, к ужасу, она гордиться тем дерзает! Мнит, что славнейшего героя избирает! Ах, мысль сия одна мою всю душу рвет! Срацин презрительный Италию гнетет; И безрассудный пол, душою легковерный, Сей пол, в их областях до рабства угнетенный, Почтеньем поражен, которое родит Завоевателей властолюбивый вид, Сердцами жертвует тиранам, их гнетущим; А нам, защите их, для их любви живущим, У ног их дышащим и гибнущим за них, Изменой платит нам для варваров своих! Достанет гнева мне в обиде сей безмерной, Чтоб проклинать мне жизнь и скрыться от неверной!Явление третье
Танкред, Альдамон и многие рыцари.
Катан
Все рыцари сошлись, и время их зовет.Танкред
Я здесь его терял; иду за вами вслед.Явление четвертое
Те же, Аменаида и Фани.
Аменаида
(прибегая стремительно)
К ногам твоим паду, о ангел мой хранитель!Танкред, отвращая лицо, поднимает ее.
Не унижаюсь сим; и скорбный мой родитель Колена ног твоих идет со мной обнять. Священный образ твой почто от нас скрывать? Кто правое мое осудит нетерпенье? Мной старец упрежден… Но сердца восхищенье И чувства все излить могу ли пред тобой? Страшусь тебя назвать… Но вид печален твой? Могу ли зреть тебя, в местах сих безотрадных, Не посреди убийц, на кровь мою толь жадных? Не отвечаешь ты… трепещет грудь моя… Не смею говорить… увы! что вижу я — Ты отвращаешь взор… не внемлешь что вещаю.Танкред
(прерывающимся голосом)
Поди… утешь отца; его я почитаю. Другой, важнейший долг отсель меня зовет. Перед тобой, пред ним исполнил я обет, И награжден… другой мзды сердце не желает: Признательность без мер нам тягостна бывает. Освобождаю я навеки вас от ней… И ты… располагать властна судьбой своей. Будь счастлива… а я, я смерть найти желаю.Явление пятое
Аменаида и Фани.
Аменаида
Жива ли я? на свет еще ли я взираю? То правда ли, что жизнь мне небом отдана? И из могилы я ужель извлечена? О Фани, слышала ль ты приговор мой грозный, Жестокий, яростный и более поносный, Чем тот, которым я на казнь осуждена!Фани
И тем мне и другим душа поражена.Аменаида
Танкред ли, небеса! здесь говорил со мною? Ты зрела хладность ту и гордость ту, с какою Меня презрением обременять он смел? О Фани! на меня он с ужасом смотрел. Он спас мне жизнь, чтоб смерть лютей меня сразила! За что ж, Танкред, и чем твой гнев я заслужила?Фани
Так, пламенный сей гнев сверкал в его очах И прерывалася речь хладная в устах; Он отвращал свой взор, но слезы сокрывая.Аменаида
Он бросил, он презрел, меня здесь посрамляя! Чем страшная сия гроза возбуждена? Чего он хочет? чем в нем ярость возжена? К кому ревнивым быть он может во вселенной?… Я славлюсь, я горжусь Танкредом быть спасенной; Так, он один мне всё, он бог-хранитель мой; Он жизнь мне возвращал, сам жертвуя собой; Но я ту саму жизнь не за него ль теряла?Фани
Быть может, он не знал; быть может, увлекала Его всеобщая молва у нас людей; Кто и неверящий не покорится ей? Невольник, смерть его, несчастное посланье, Сей мавр, его любовь и дерзкое мечтанье — Всё, самое тебя молчание винит, Которым от врагов Танкред тобой сокрыт. Чей взор сквозь мрак сего покрова проницает? Но предрассудок в нем наружность осуждает.Аменаида
Он осуждал меня!..Фани
Коль слаб он до того, Вини любовь.Аменаида
(приняв свою твердость и силу)
Ничто не извинит его, Хотя б меня судил весь мир сей ослепленный: Великий человек, на суд свой утвержденный, И миру б целому противостать посмел. Так он меня спасать из жалости хотел? О поругание!.. тебя ль я ожидала? Я, гибнув за него, с отрадой умирала, И он осмелился меня подозревать! Напрасно он всю жизнь прощенья будет ждать. Так, не забуду я услуги, им свершенной; Она начертана в душе, им оскорбленной; Но если он не мог моей любви ценить, Так сам не может он меня достоин быть, Увы! из всех обид, перенесенных мною, Я не растерзана толь тяжко ни одною!Фани
Но он еще не знал.Аменаида
Меня он должен знать! Он сердце должен был такое почитать; Уверен должен быть, что невозможно было, Чтоб сердце ввек мое обету изменило. Столь твердо и оно, как грудь его тверда, Возвышенно, как дух высок его всегда; Но справедливее, чувствительнее боле. Я отвергаюся в моей ужасной доле Танкреда – и всего сообщества людей; Они коварны, злы, все с слабою душой, То обольстители, то жертвы обольщений; И, ждущая в тоске конца моих мучений, Танкреда, всех людей, весь свет забуду я.Явление шестое
Аржир, Аменаида и свита.
Аржир
(поддерживаемый щитоносцами)
Престаньте обо мне крушиться, о друзья, И, предводя меня на поприще вы боя, Мне дайте там обнять почтенного героя. (Увидев Аменаиду) Ах! кто, поведай мне, твоих спаситель дней?Аменаида
(погруженная в горесть, склоненная одною рукою на Фани и немного обращенная к отцу)
Кто некогда любви достоин был моей, Герой, моим отцом в сем граде угнетенный, Врагами изгнанный, священных прав лишенный, Единственный предмет посланья моего, Последня, славная ветвь рода своего, Великий человек, увы! несправедливый; И словом – он Танкред!Аржир
Что слышу, несчастливый?Аменаида
Что в грустной я душе скрыть боле не могла И, трепеща о нем, тебе передала.Аржир
Танкред!Аменаида
И кто другой мой был бы защититель?Аржир
Танкред, которого сенат наш был гонитель?Аменаида
Он самый.Аржир
И для нас что он в сей день свершил! Отчизны, прав, добра, всего лишен он был, И сам пришел за нас он жертвовать собою! Судьи несчастные, мы слабою рукою Весы и казни меч держа во слепоте, Как легкомысленны и лживы мы в суде! Как гордой мудростью ведемся мы в обманы! Что сделали мы с ним, мы, злобные тираны?Аменаида
Родитель, на тебя скорбеть могла б и я… Но столько чувствует вину душа твоя, Что упрекать тебя дочь грустная страшится. Упреком сим один Танкред обременится.Аржир
Как! тот, кем я живу? твои продлил кто дни?Аменаида
Уничижительны и тяжки мне они! Надежда вся в тебе: дай зреть их перемену; Ах! оправдай мне честь, тобою помраченну. Кто Орбассана сверг, тот жизнь мне только спас; Родитель, пусть меня твой оправдает глас.Аржир
Я должен и спешу —Аменаида
Я следую с тобою.Аржир
Будь здесь ты.Аменаида
Мне здесь быть? Нет, нет, иду я к бою. Я зрела смерть вблизи, ужаснейшую смерть! На поле чести, верь, ее отрадней зреть, Чем на воздвигнутой отцом позорной плахе. Не время, чтоб меня ты отвергал во страхе: Несчастие дает мне право над тобой. Иль два раза меня отец покинет мой?Аржир
Нет, боле над тобой я не имею власти; Я самовластием привел тебя к напасти. Но мысли страшные питаешь в сердце ты; Не исступленья ли то пылкие мечты? Не здесь, в других странах иных обыкновений Ваш пол, воспитанный без скорбных принуждений, Идет на брань, едва от воев отличен; Но не позволит здесь обычай и закон…Аменаида
Какой закон! какой обычай сей презренный! Знай, что мой дух теперь над ними вознесенный, В сей день, день ужаса, и в сей неправды час Приемлет за закон один сердечный глас. Как? будет ваш закон для варварских заклятий Лишь исторгать детей из отческих объятий? Он будет позволять, народа при глазах, Влачить здесь дочь твою в поноснейших цепях; И не позволит он с отцом идти мне к бою, Чтоб честь там защищать мне собственной рукою? И пол наш, смертию казнимый в сих странах, Быть может только зрим одних убийц в толпах! Тиранство наконец рождает непокорство. Трепещешь?… трепещи, когда твое потворство, Здесь собственным врагам желая угождать, Тебя принудило на смертного восстать, Который жизнь терял, чтоб дать нам оправданье. Вот чем ты сам привел меня в непослушанье…Аржир
Несчастного отца души не возмущай, И прав меня винить во зло не обращай. Я чувствую вину; я сам свой обвинитель; Щади ты скорбь мою; и если твой родитель Когда-либо в тебе дочь нежную имел, Позволь, чтоб я один погиб от вражьих стрел. С Танкредом, верь ты мне, враг вместе нас повержет. (К свите) Храните вы ее.Явление седьмое
Аменаида
Здесь кто меня удержит? О ты! который мог вражду ко мне питать, Который мстив меня, дерзаешь презирать, Танкред! перед тобой хочу я стать для бою, Все тучи стрел в тебя хочу сдержать собою, Принять удары их… и спасть главу твою; Хочу тебе явить признательность мою: Мстить смертию моей твою несправедливость; Коль можно, превзойти и гнев твой и кичливость; В твоих объятиях дух испуская мой, Обременить тебя всей праведной враждой, И в сердце страстном мной, тебе на сокрушенье, Неисцелимое оставить угрызенье, Терзания по гроб, без утешенья в них, Весь яд моей любви, весь ужас мук моих.Конец четвертого действия.
Действие пятое
Явление первое
Рыцари и их щитоносцы с обнаженными мечами; воины, несущие трофеи; вдали народ.
Лоредан
Победную вы песнь, граждане, воспевайте, И бога браней все во храмах ублажайте; Победа наша в нем, и слава вся ему! Народ, воздай хвалу поборнику сему: Он стрелы сокрушил, разрушил он те ковы, Что ставили на нас мучители суровы, Поработители свободных областей. На трупах их, народ, воздвигни свой трофей И, мертву ярость их поправши вновь стопами, Сокровищем Луны укрась господни храмы. Пускай Гишпания, Италия в цепях, Египет, Сирия, поверженные в прах, Узрят, что мог народ, за вольность ополченный, Против тиранов сих, колеблющих вселенной. Аржира мы теперь утешить поспешим И общей радостью печаль его смягчим. О! если бы в сей день, для Сиракуз блаженный, Обрел спокойствие отец сей огорченный. Но где воитель тот, сей чуждый нам герой, Который, говорят, решил наш славный бой? Он с сонмом рыцарей во град не возвращался. Ужели торжеством он сам не восхищался? Иль счел, что мы его завидуем делам? Довольно славны мы, и зависть чужда нам. Иль Сиракуз бежит, им жертвовав собою?(К Катану)
Катан, он долго вел бой жаркий пред тобою. Почто, желая нам победой ускорить, Всеобщей радости не хочет он делить?Катан
Склони внимание, узнаешь ты причину: Когда наш полк облег под Этною равнину И по хребту горы проходы замыкал, От вас тогда вдали, близ брега я стоял, Где враг выдерживал всю нашу крепость боя. Вдруг рыцарь сей, я зрел, исторгнулся из строя, Его прерывный глас, свирепое чело Души отчаянье нам ясно зреть дало. Он Соламира звал, вопль страшный испуская; Аржира дочери он имя повторяя, Неверной называл, и в ярости своей, Я видел, слезы лил из пламенных очей. На смерть кидался он, но невредим и страшен, Чем боле в сечу шел, тем боле был ужасен. Пред нами пало всё, иль лучше – перед ним. Я с войском к вам спешил, победой предводим; Бесчувствен к славе, он, с главою преклоненной, Безмолвен, горестен и в думы погруженный, Вдруг Альдамона, к нам спешившего, зовет, Объемлет, говорит и быстро вдаль идет, Подобно как в бою на сечу он бросался. «Так, навсегда!» – он рек. Смысл речи оправдался: Достойный памяти, великий рыцарь сей Незнаем хочет быть средь наших областей; Но нам неведомы его печальны виды. В сей миг услышавши я вопль Аменаиды, Узрел бегущую в воинственных толпах: Трепещуща, бледна, с отчаяньем в очах, К герою вопия, стремится в исступленьи. Отец, за ней влачась и удержа в стремленьи, Рыдающую дочь, рыдая, к нам ведет. «Друзья, – он возопил, – герой сей – есть Танкред! Герой, дивящий нас, великий сей воитель, Защитник Сиракуз, Аменаиды мститель, Есть тот, кого в сей день наш общий приговор Изменником назвал и предал на позор; Есть тот, чье имя здесь законом поругалось». О друг! что думать нам, что делать нам осталось?Лоредан
Раскаяться – вот всё, что остается нам; Не сознавать вины злым свойственно сердцам. Да устыдимся мы, героя угнетая. Страдает в мире сем заслуга, честь прямая; Но кто их ведает, тот должен их почтить.Явление второе
Рыцари, Аржир и Аменаида, вдали поддерживаемая служительницами.
Аржир
(входя с поспешностью)
Им должно помощь дать, их должно защитить: Танкред в опасности, усердьем ослепленный; Танкред напал один на сонм врагов спасенный, Набегший на него и в битву ставший с ним. О, горе старцу мне с бессилием моим! Вы, коих мужеству не уступает сила, Чьих старость пламенных сердец не охладила, Спешите все, друзья, к защите сей главы; Невинной дочери спасите друга вы.Явление третье
Аржир и Аменаида.
Аржир
О дочь, для нас лучи надежды воссияли; Утешу ль я тебя, предавшуюсь печали?Аменаида
Утешусь я тогда, как будет здесь Танкред; Как страха моего несчастный сей предмет Предстанет и спасен и справедлив душою; И скажешь ты, что он желает предо мною Раскаяньем стереть обиды мне его.Аржир
Ах! тягостны они для сердца твоего. Но, дочь моя, Танкред, из наших стен изгнанный, Теперь от всех почтен, и, славою венчанный, Он самую тебя сей славой озарил; Он, зависть постыдя, торжественно открыл, Чрезмерностью услуг, для нас им совершенных, Чрезмерность клеветы врагов его презренных. Довольствуется чернь, один свой долг сверша, — Герою мал сей труд; геройская душа Над упованьем всех возвыситься желает — Так общую Танкред надежду превышает. Он будет справедлив, познав любовь твою. Смягчился весь народ, узря вину свою. Танкред уже готов оставить подозренье; Чтоб укротить его, рассеять заблужденье, Лишь нужно слово…Аменаида
Но не сказано его. Ах! что обиды мне народа твоего, И легковерная любовь и сожаленье, И всё его ко мне ничтожное почтенье? Во мненьи одного мою я ставлю честь; И знай, что дочь твоя смерть легче может снесть, Чем миг прожить, его почтения лишася. Признаюсь наконец, и, может быть, гордяся, Что в защитителе – люблю супруга я. Обет наш приняла в час смерти мать моя; Нам руки трепетной рукой соединила И, закрывая взор, союз благословила. Ее мы тению, тобою, мой отец, Перед лицом небес клялись в любви сердец; Клялися, чтоб тебе быть в радость, в утешенье, У ног твоих принять на брак благословенье… Родитель… эшафот нам был здесь алтарем! И грустный мой жених, в отчаяньи своем, Со смертию одной желает сочетаться; А мне одним стыдом осталося терзаться. Вот жребий мой.Аржир
Рассей печальные мечты; Мы боле обретем, чем ожидаешь ты.Аменаида
Страшусь всего.Явление четвертое
Те же и вестник.
Вестник
Восторг народа разделяйте, И боле нас сердца сим чудом восхищайте: Танкред, один Танкред победу совершил, Один рассыпал он остаток вражьих сил, И в жертву славную и вольности и мира Танкред своей рукой сразил и Соламира. Свершилась грозная за Сиракузы месть, Но боле за твою обиженную честь. Уже гремит молва, все стогны наполняя; Восторженный народ, героя окружая, Своим защитником, спасителем зовет, О троне говорит, которого Танкред За добродетели, за подвиги достоин. Ему сопутствовал один усердный воин, Под властию твоей служивший Альдамон. Сим ратником одним герой был подкреплен, Сей ратник разделял с ним подвиг беспримерный, Когда ж сонм рыцарей в опасности чрезмерной С оружием в руках на помощь им предстал, Танкред уж бой решил, Танкред торжествовал. Вы слышите ль сей клик, его превозносящий? Идите зреть народ, во сретенье спешащий, Чтоб в сонмах радостных героя увенчать; Иди зреть торжество и жертву воспринять, Толь долго от него желанную тобою; Всё дышит счастием и радостью одною, Всё мстит за скорбь твою, весь град сей восхищен; Танкред твоей душе навеки возвращен.Аменаида
Ах! оживаю я и познаю веселье. Родитель, – воздадим творцу благодаренье! Так неожиданно он всё мне возвратил; Так щедро нас за все страданья наградил! В сей миг, в сей только миг я жить лишь начинам, И сердца полного блаженство постигаю! Я всё хочу забыть; простите плач вы мой, Упреки, тщетный страх, рожденные тоской; Граждане, рыцари, враждебные герою, Падите все пред ним, он пасть идет пред мною.Аржир
Благоволил творец скончать наш плач и стон. Что вижу? к нам идет бесстрашный Альдамон, Танкреда подвигов один свидетель верный; Вот он, вот воин тот, издавна мне усердный, И наше счастие он верно подтвердит. Но не от язв ли он едва стопы влачит? Ах, мрачен вид его, он скорби возвеститель!..Явление пятое
Те же и Альдамон.
Аменаида
Скажи, о Альдамон, Танкред ли победитель?Альдамон
Он, без сомнения.Аменаида
При кликах, внятных нам, При песнях радостных идет он к сим местам?Альдамон
Ах! песней глас на вопль пременится плачевный.Аменаида
Что слышу я!Альдамон
Сей день, навеки незабвенный, Увы! последний день, в который жил Танкред.Аменаида
Он мертв!Альдамон
Взирает он еще на дневный свет, Но от жестоких язв кончается с мученьем. Я к вам предстал с его ужасным извещеньем, С письмом сим, кровию начертанным его; В нем тайну он открыл вам сердца своего. С слезами тяжкое свершаю порученье.Аржир
О, день отчаянья! о, неба пораженье!Аменаида
(приходя в себя)
Подай мой приговор; предел моих он дней: Приятен он. – Танкред! о бог судьбы моей! Твой голос есть завет мне следовать с тобою? Подай письмо – и смерть!Альдамон
Услугой роковою, Мне толь ужасною, не оскорбися ты.Аменаида
О очи! зрите ль вы кровавые черты? Могу ль?… в последний раз мне укрепиться должно. (Читает) «Мне пережить твоей измены невозможно. На битве гибну я, но умерщвлен тобой; Тебе, жестокая, я, жертвуя собой, Желал бы сохранить честь с жизнию твоею». Что, мой отец!(Падает на руки Фани)
Аржир
Увы! всей яростью своею Неумолимый рок в сей день нас поразил! Теперь он всех надежд и страха нас лишил; Ни ты уже, ни я стенать не можем боле. Но, дочь бесценная! влачу я жизнь доколе, Пусть учит страшное раскаянье мое Отечество, весь свет, как имя чтить твое.Аменаида
Что мне в почтении, всех радостей лишенной? Что мне в отечестве и что во всей вселенной? Он умирает!Аржир
Ах! терплю безмолвно я.Аменаида
И умирает он во гневе на меня! Сему виновник ты… Но пусть хоть в час он страшный… Что вижу я? моих убийц!Явление шестое
Лоредан, рыцари, свита, Аменаида, Аржир, Фани,
Альдамон, Танкред, вдали несомый воинами.
Лоредан
Аржир несчастный! Несчастнейшая дочь! К вам принесен с полей Покрытый язвами великий рыцарь сей. Кипящей яростью водимый он средь боя, Желал лишь умереть, но смертию героя. Его драгая кровь, струившаясь рекой, От язв сдержалася усердною рукой; Великая душа хоть смертию томилась, Аменаиду зреть еще остановилась; Ее он называл, и каждый слезы лил; Свое смущенье скрыть я не имею сил.Между тем как он говорит, Танкреда медленно приносят К Аменаиде, почти бесчувственной, поддерживаемой Фани и воинами. Она быстро исторгается из рук их и с ужасом обращается к Лоредану.
Аменаида
Оставьте, варвары, смущенья бесполезны. (Подбегая к Танкреду и бросаясь к ногам его) Танкред! о друг души, жестокий и любезный! Ты можешь ли твой слух в последний раз склонить? Ты можешь ли ко мне взор темный обратить? Взгляни, узнай меня, и мой удел ужасный, Хоть в гробе место мне, супруге дай несчастной! Она завидует единой чести сей; Бессмертный сей союз ты обещал для ней. Не будь немилосерд, не будь врагом ты другу; Хоть взором удостой невинную супругу… (Он взглядывает на нее) Ужель в последний раз взглянул ты на нее!.. Ужель совсем отверг и сердце ты мое?… Ты мог подозревать?…Танкред
(немного поднимаясь)
Ах! ты мне изменила.Аменаида
Кто! я? Танкред!Аржир
(бросившись к ногам с другой стороны и обнявши Танкреда, потом вставая)
Ах, нет! она тебя любила, И за любовь к тебе на казнь осуждена; За верность лишь к тебе страдала здесь она. Мы все жестоки к ней и пред тобой виновны: Законы, рыцари и наш совет верховный — Все, все преступны мы; невинна дочь моя; Вооружило нас одно письмо ея; Письмо ж сие к тебе, к любимому герою; А ты обманут был, обманут даже мною.Танкред
Аменаида… как! так я любим тобой?Аменаида
Достойна б я была позорной казни той, От коей здесь меня рука твоя спасала, Когда б я миг один тебя не обожала, Когда б забыла я священный наш обет.Танкред
(немного пришедши в силы и возвыся голос)
Любим я!.. счастие, превысшее всех бед! Теперь об жизни я скорблю – ее кончая; Но смерть я заслужил, клеветникам внимая. Ужасны дни мои… и их свершен предел, Как в слове я твоем всё счастие обрел.Аменаида
И слово то сказать я время обретаю Лишь в миг сей роковой, когда тебя теряю! Танкред!Танкред
Оставь твой плач; – теперь спокоен я. Но расстаюсь с тобой; печальна смерть моя! Я чувствую ее… Внемли, Аржир почтенный: Вот сей драгой предмет моей любви священной, Вот жертва скорбная злодейской клеветы И подозрений всех. Соедини же ты С кровавой сей рукой ее дрожащу руку; Мне дай отраднее снести смертельну муку; С супруга именем мне дай во гроб сойти; Будь мне отцом.Аржир
(принимая их руки)
О сын мой! да возможешь ты Утешить жизнью нас, супругою любимый…Танкред
Я жил, чтобы отмстить жену и край родимый; И в их объятиях умру достойным их, От них любим… счастлив в желаниях моих…, Аменаида… друг!..Аменаида
(быстро)
Танкред!Танкред
Прости… страшися За мною следовать… и жить мне поклянися.(Упадает)
Катан
Свершилось! – Плачут все; но поздно он, увы! Здесь узнан был.Аменаида
(бросаясь на тело Танкреда)
Он мертв!.. как! плачете и вы? Вы, тигры, вы, его изгнавшие со света!(Встает и идет исступленная)
Да тартар вас пожрет, вас, всех убийц Танкреда, И родину мою, и лютый ваш закон, Который здесь с мечом в невинных устремлен! Почто я не паду в прах стен сих раздробленных. Меж трупов сих убийц, громами пораженных!(Бросается на тело Танкреда)
Танкред, Танкред!(Встает в исступлении)
Он мертв!.. а зрю живых я вас? Я следую за ним… его я слышу глас… Зовет меня – зовет к обители он вечной — Я оставляю всех вас муке бесконечной.(Упадает на руки Фани)
Аржир
О дочь!Аменаида
(в исступлении отвергая его)
Остановись… Нет, ты мне не отец; Ты чувства не имел отеческих сердец: Сообщник ты убийц… увы! что я вещаю? Умру, тебя любив… Танкред! – я умираю.(Упадает близ него)
Конец
1809
Примечания
1
Эвгемер был сиракузским философом, жившим в век Александра. Он путешествовал, как Пифагор и Зороастр. Он мало писал; под его именем до нас дошло только это небольшое сочинение. – Примеч. Вольтера.
(обратно)Греч.
(обратно)3
По мифологическим сказаниям Греции, Силен, воспитатель Бахуса, сопровождал его в Индии верхом на осле.
(обратно)4
Древний греческий город в Италии.
(обратно)5
Минден – город в Вестфалии; в городской крепости в XVIII в. помещалась тюрьма для государственных преступников.
(обратно)6
Имя героя повести в переводе с французского означает «чистосердечный», «искренний».
(обратно)7
Панглос – то есть «всеязыкий» (от греч. pan – все и glossa – язык).
(обратно)8
Метафизико-теолого-космологология. – Издевка над теориями ученика Лейбница, немецкого философа Христиана Вольфа (1679–1754).
(обратно)9
Намек на детерминизм Лейбница, писавшего в одной из своих работ: «Все во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, и всякое данное состояние объяснимо естественным образом только из непосредственно предшествующего ему».
(обратно)10
Детерминизм уже был высмеян Вольтером в его работе «Основы философии Ньютона» (1738), где писатель ссылается на сходные умозаключения голландского физика Николаса Гартсекера (1656–1725).
(обратно)11
Вальдбергхоф-Трарбкдикдорф. – Название этого города составлено Вольтером из отдельных немецких слов («вальд» – лес, «берг» – гора, «хоф» – двор, «дорф» – деревня) и бессмысленного набора звуков.
(обратно)12
Имеется в виду форма прусских вербовщиков; под «болгарами» Вольтер подразумевает пруссаков.
(обратно)13
Прусский король Фридрих-Вильгельм I (1688–1740) питал пристрастие к солдатам высокого роста. По его приказу высоких мужчин хватали просто на дорогах и даже похищали из соседних немецких княжеств.
(обратно)14
Диоскорид (I в.) – древнегреческий врач, автор многочисленных медицинских сочинений.
(обратно)15
Аварами называлось скифское племя, обитавшее на Балканском полуострове и в причерноморских степях. Под аварами Вольтер подразумевает французов, а под болгаро-аварской войной – Семилетнюю войну (1756–1763).
(обратно)16
Первые слова благодарственной молитвы «Тебя, Господи, славим…» (лат.).
(обратно)17
…проповедник… – то есть протестантский священник.
(обратно)18
Анабаптист – представитель плебейского крыла протестантизма. Анабаптисты отрицали предопределение и проповедовали свободу совести и всеобщее равенство.
(обратно)19
Флорин – золотая монета большого достоинства.
(обратно)20
Далее Вольтер описывает землетрясение в Лиссабоне 1 ноября 1755 г., в результате которого город был разрушен почти до основания. Вольтер посвятил этой катастрофе философскую «Поэму о разрушении Лиссабона».
(обратно)21
Батавия. – Так назывались голландские владения в Индонезии.
(обратно)22
В XVIII в. Япония поддерживала торговые отношения лишь с одной европейской страной – Голландией. Японцы, вернувшиеся на родину после посещения голландских портов в Индонезии, обязаны были публично топтать распятие в знак того, что не были обращены в христианство. Вольтер переносит этот обряд на голландского матроса, побывавшего в Японии.
(обратно)23
Вольтер продолжает спор с теологическим оптимизмом Лейбница; те же мысли и ту же аргументацию мы встречаем и в «Поэме о разрушении Лиссабона».
(обратно)24
Аутодафе. – Это сожжение «еретиков» действительно имело место в Лиссабоне 20 июня 1756 г.
(обратно)25
Коимбра – город в Португалии, в XII–XV вв. был резиденцией португальских королей. В 1307 г. сюда был переведен из Лиссабона университет, ставший в XVIII в. цитаделью католицизма.
(обратно)26
…срезали сало с цыпленка… – процедура, вследствие которой на них пало подозрение в иудаизме.
(обратно)27
Санбенито (или самарра) – накидка из желтого сукна, надевавшаяся на осужденных инквизиционным трибуналом. Перевернутое изображение пламени на санбенито означало, что кающийся подвергнут епитимии; если языки пламени поднимались вверх, это значило, что еретик осужден на сожжение.
(обратно)28
В действительности новое землетрясение произошло в Лиссабоне 21 декабря 1755 г.
(обратно)29
Антоний Падуанский и Иаков Компостельский – наиболее почитаемые в Испании и Португалии католические святые.
(обратно)30
Речь идет о захвате и разрушении в 586 г. до н. э. вавилонским царем Навуходоносором II Иерусалима, после чего в «вавилонский плен» было отправлено большое число иудеев.
(обратно)31
Кордельер – монах нищенствующего ордена францисканцев, основанного в 1209 г. Во Франции францисканцы назывались кордельерами (от corde – веревка, которой монахи этого ордена подпоясывают свою рясу).
(обратно)32
Мараведис – старинная мелкая испанская монета.
(обратно)33
Бенедиктинец – монах одного из первых монашеских орденов в Европе (основан Бенедиктом Нурсийским в VI в.).
(обратно)34
Речь идет о военной экспедиции, предпринятой в 1756 г. Португалией и Испанией для укрепления своей власти в Парагвае. Поскольку экспедиция была направлена против иезуитов, в нее внес вклад и сам Вольтер: в морском походе участвовал корабль «Паскаль», совладельцем которого был писатель.
(обратно)35
В издании Собрания сочинений Вольтера, осуществленного Бёшо (1829), к этой фразе была сделана сноска, возможно, принадлежавшая самому Вольтеру: «Обратите внимание на утонченную скромность автора: до сих пор папы Урбана Десятого не существовало; автор не решается приписать незаконнорожденного ребенка какому-либо известному папе; какая осмотрительность! какая деликатность чувств!»
(обратно)36
Масса-Карара – небольшое герцогство в Тоскане.
(обратно)37
Сале – город в Марокко, недалеко от Рабата.
(обратно)38
На смертном одре (лат.).
(обратно)39
Какое несчастье, что меня оскопили! (итал.)
(обратно)40
Здесь Вольтер, по-видимому, имеет в виду знаменитого певца-кастрата Фаринелли (Карло Броски; 1705–1782), имевшего большое политическое влияние на испанских королей Филиппа V и особенно Фердинанда VI.
(обратно)41
Намек на соглашение Португалии с Малик-Исмаилом в период «войны за испанское наследство» (1701–1704), в которой принимала участие и Франция.
(обратно)42
Бей – правитель Алжира.
(обратно)43
Янычары – гвардия султана; ага – турецкий офицерский чин, приблизительно соответствующий европейскому полковнику.
(обратно)44
В первый раз турецкая крепость Азов была взята русской армией в 1696 г. при Петре I (по миру 1711 г. крепость была возвращена туркам); в следующий раз осада Азова состоялась в 1739 г. при Анне Иоанновне. Вольтер имеет в виду, несомненно, первую осаду.
(обратно)45
Меотийское болото – древнегреческое название Азовского моря.
(обратно)46
Вольтер имеет в виду стрелецкое восстание 1698 г.
(обратно)47
Робек Иоганн (1672–1739) – шведский философ, автор книги, оправдывавшей самоубийство; через несколько лет после выхода книги Робек утопился.
(обратно)48
Вольтер имеет в виду библейского патриарха Авраама, который, приходя в чужой город, обычно из осторожности объявлял свою жену Сарру сестрой, извлекая из этого немалую выгоду (Бытие XII, 11–16).
(обратно)49
Алькальд – судья или судебный следователь в средневековой Испании. Альгвасилы – испанские полицейские.
(обратно)50
Тукуман – город и одноименная провинция в северо-западной части Аргентины.
(обратно)51
Святых отцов (исп.).
(обратно)52
Эспонтон – маленькая пика, какую носили офицеры.
(обратно)53
Иезуиты в своем парагвайском «государстве» строго следили за тем, чтобы местное население не имело контактов с посторонними, прежде всего с испанцами.
(обратно)54
Святой Игнатий – имеется в виду Игнатий Лойола (1491–1556), основатель ордена иезуитов; католической церковью был причислен к лику святых.
(обратно)55
Отец Круст – иезуит из Кольмара, преследовавший Вольтера во время его пребывания в этом городе в 1754 г.
(обратно)56
Орельоны (от франц. oreille – ухо) – так европейцы называли одно из индейских племен Южной Америки; орельоны украшали уши большими серьгами.
(обратно)57
«Вестник Треву» – то же, что «Записки Треву».
(обратно)58
Эльдорадо – легендарная счастливая страна, на поиски которой пускались многие отважные авантюристы XVI–XVIII вв. Об Эльдорадо упоминает Гарсиласо де ла Бега эль Инка (1539–1616), книгу которого «История инков» в переводе Ж. Бодуэна (1704), или Т. Далибара (1744) использовал Вольтер при работе над «Кандидом».
(обратно)59
Кайенна – город во Французской Гвиане на берегу Атлантического океана.
(обратно)60
Тетуан – портовый город в Марокко.
(обратно)61
Мекнес – крупный марокканский город в центре страны.
(обратно)62
Могол – титул легендарных императоров Северной Индии, будто бы обладавших несметными сокровищами.
(обратно)63
Государство инков достигло особенного могущества к середине XV в. В 1532 г. испанские завоеватели захватили столицу инков город Куско, а затем все их государство, уничтожив богатую древнюю культуру.
(обратно)64
Ролей Уолтер (1552–1618) – английский мореплаватель и поэт; в 1595 г. отправился в Америку на поиски страны Эльдорадо и, вернувшись, рассказал королеве Елизавете о будто бы виденных там чудесах.
(обратно)65
Суринам – в XVIII в. голландское владение в Южной Америке на побережье Атлантического океана, между Французской Гвианой и Английской.
(обратно)66
Вандердендур – возможно, намек на голландского книготорговца Ван Дюрена; Вольтер постоянно жаловался, что тот ему недоплачивает.
(обратно)67
В XVII и XVIII вв. Амстердам был одним из крупнейших центров книгоиздательского дела в Европе. Здесь печатались книги, которые невозможно было издать в другом месте (в том числе многие книги Вольтера). Вместе с тем в Амстердаме печаталось много пиратских контрафакций, на что Вольтер постоянно жаловался, называя голландских издателей прямыми разбойниками.
(обратно)68
Социнианин – то есть последователь социнианства, рационалистического течения в протестантизме, основанного Фавстом Социном (1539–1604). Социниане отвергали многие догматы католицизма (в том числе троицу и идею первородного греха) и исповедовали своеобразный религиозный оптимизм, то есть считали, что все в мире направлено к лучшему божественным соизволением.
Манихей – то есть сторонник манихейства, религиозной доктрины, возникшей в Персии в III в. и названной по имени ее основателя – полулегендарного проповедника Мани (ок. 215–276). Для манихеев характерно представление о том, что в мире царят два начала – добро и зло, находящиеся в состоянии борьбы. Человек должен противостоять злу, поэтому манихейство проповедовало аскетизм, отрицало богатство и даже собственность.
(обратно)69
Секта близкая к янсенистам, устраивавшая свои сборища на кладбище святого Медарда. В 1729 году запрещена властями.
(обратно)70
Нобили – представители венецианского дворянства, пользовавшиеся в своем городе всеми привилегиями.
(обратно)71
Вольтер имеет в виду следующее место из Библии (Бытие, I, 2): «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной; и Дух Божий носился над водою».
(обратно)72
В данном случае Вольтер намекает на французского натуралиста П.-Л. Мопертюи (см. прим. к с. 133), который в одной из своих работ предложил математическое «доказательство» бытия божия.
(обратно)73
Речь идет об отпущении грехов умирающим, которое стало широко применяться во Франции с 1750 г.
(обратно)74
Возможно, Вольтер имеет в виду свою собственную трагедию «Магомет» (1742); некоторые исследователи предполагают, что речь может идти о другой его пьесе – трагедии «Китайский сирота» (1755).
(обратно)75
Вольтер имеет в виду пьесу французского драматурга Тома Корнеля (1625–1709) «Граф Эссекс» (1678), посвященную событиям английской истории конца XVI в.
(обратно)76
Монима – персонаж из трагедии «Митридат» Расина, первая роль знаменитой трагической актрисы, друга Вольтера Адриенны Лекуврер (1692–1730), сыгранная ею на сцене театра Французской Комедии в 1717 г. Ранняя смерть актрисы вызвала всевозможные толки, и церковные власти Парижа запретили хоронить ее по христианскому обряду.
(обратно)77
Здесь Вольтер имеет в виду свою трагедию «Танкред», впервые сыгранную 3 сентября 1760 г.
(обратно)78
Фрерон Эли (1718–1776) – реакционный журналист, вечный противник Вольтера.
(обратно)79
Клерон – сценическое имя замечательной французской трагической актрисы Клер Лери де Латюд (1723–1803), особенно прославившейся исполнением ролей в пьесах Вольтера.
(обратно)80
Гоша Габриэль (1709–1774) – французский богослов и литературный критик, не раз пытавшийся полемизировать с Вольтером. Из-под пера Гоша не вышло ни одного романа, однако Вольтер подозревал, что Гоша был автором книги «Оракул новых философов» (имевшей следующий подзаголовок: «В продолжение и к разъяснению произведений г-на де Вольтера»). В действительности эта книга была написана аббатом Клодом-Мари Гюйоном.
(обратно)81
Архидьякон Т… – Имеется в виду аббат Николя Трюбле (1697–1770), богослов и литературный критик, не раз выступавший против Вольтера.
(обратно)82
Молинисты – сторонники религиозного учения испанского богослова Мигеля Молиноса (1640–1696), пытавшегося построить христианскую мораль на идеях взаимной любви, довольства малым, доброты. Это учение было осуждено официальной католической церковью.
(обратно)83
Подразумевается покушение на короля Людовика XV, который был легко ранен 5 января 1757 г. простолюдином Робером-Франсуа Дамьеном, четвертованным за это. Дамьен был родом из провинции Артуа (латинизированная форма названия этой провинции – Артебазия).
(обратно)84
Имеется в виду убийство Равальяком французского короля Генриха IV.
(обратно)85
Речь идет о покушении на Генриха IV, совершенном учеником иезуитов Жаном Шателем.
(обратно)86
Намек на англо-французскую войну из-за владения Канадой, в результате которой англичане захватили Квебек (1760 г.), по мирному договору 1763 г. окончательно закрепившись в этой стране.
(обратно)87
Далее описывается расстрел английского адмирала Джона Бинга (1704–1757), обвиненного в предательстве и трусости за то, что он проиграл небольшое морское сражение. В библиотеке Вольтера было несколько книг, посвященных этому адмиралу, которого писатель тщетно пытался спасти.
(обратно)88
…с французским адмиралом… – то есть с Роланом-Мишелем де Ла Галлиссоньером (1693–1756); в 1745–1749 гг. он был губернатором Канады.
(обратно)89
Модной, пользующейся успехом (итал.).
(обратно)90
Театинец – член монашеского ордена, основанного в 1524 г. для пропаганды католицизма и борьбы с Реформацией.
(обратно)91
Пококуранте – буквально: «имеющий мало забот» (итал.).
(обратно)92
Брента – река в Северной Италии, впадающая в море в районе Венеции.
(обратно)93
Тассо Торквато (1544–1595) – итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».
(обратно)94
Ариосто Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт, автор ироикомической поэмы «Неистовый Орландо».
(обратно)95
Речь идет о персонаже «Сатир» Горация (кн. I, сатира VII).
(обратно)96
Имеются в виду «Эподы» Горация (стихотворения 5, 8, 12).
(обратно)97
Вольтер имеет в виду следующие стихи Горация («Оды», 1,-1, 35–36):
Если и ты сопричтешь к лирным певцам меня, Я до звезд вознесу гордую голову.Перевод А. Семенова-Тян-Шанского.)
(обратно)98
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – древнеримский писатель-моралист, драматург и философ.
(обратно)99
Якобит. – Так во Франции называли монахов-доминиканцев, поскольку их первый монастырь находился в Париже на улице Святого Иакова.
(обратно)100
Вольтер ведет речь о поэме Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный Рай», где изображено восстание падших ангелов во главе с Сатаной против небесного самодержца. Поэма Мильтона состоит в действительности из двенадцати песен.
(обратно)101
Вольтер приписывает Платону мысли, высказанные Сенекой в одном из его «Писем к Луцилию» (письмо второе).
(обратно)102
Ахмет III (1673–1736) – турецкий султан, свергнутый с престола в 1730 г.
(обратно)103
Меня зовут Иван… – Вольтер имеет в виду Ивана (Иоанна) Антоновича (1740–1764), провозглашенного русским императором вскоре после рождения, но уже в 1741 г. свергнутого Елизаветой Петровной. С тех пор Иван тайно содержался в разных тюрьмах, с 1756 г. – в Шлиссельбурге, где был убит стражей при попытке освободить его и провозгласить императором.
(обратно)104
Карл-Эдуард (1720–1788) – внук английского короля Якова II из династии Стюартов, безуспешно претендовавший на английский престол, который он оспаривал у Георга II (Ганноверская династия).
(обратно)105
Имеется в виду Август III (1669–1763), король Польши и курфюрст Саксонии; он стал королем после изгнания русскими войсками Станислава Лещинского, но сам был изгнан Фридрихом II.
(обратно)106
Вольтер имеет в виду Станислава Лещинского (1677–1766), который был провозглашен польским королем под давлением Швеции в 1704 г., но после разгрома Карла XII под Полтавой свергнут и бежал во Францию. Его дочь Мария стала женой короля Людовика XV, и Лещинский при содействии Франции снова был провозглашен польским королем. Однако в 1735 г. он вынужден был отказаться от престола, вернулся во Францию и получил в управление герцогство Лотарингское, где его не раз навещал Вольтер.
(обратно)107
Имеется в виду Теодор фон Нейхоф (1690–1756), вестфальский барон; в 1736 г. он воспользовался восстанием корсиканцев против генуэзского владычества и провозгласил себя королем Корсики, но удержался на троне лишь восемь месяцев. Затем он скитался по Европе и не раз сидел в тюрьме за долги.
(обратно)108
Пропонтида – древнее название Мраморного моря.
(обратно)109
Рагоцци (Ракоци Ференц; 1676–1735) – венгерский князь; в 1707 г. возглавил борьбу венгров против австрийского господства и провозгласил себя королем Трансильвании. Разбитый в 1708 г., он бежал в Польшу, оттуда перебрался во Францию, а затем в 1720 г. – в Турцию.
(обратно)110
Ичоглан – паж у турок.
(обратно)111
Далее Панглос перечисляет умерших насильственной смертью упоминаемых в Библии правителей и царей, политических деятелей Древности и Средневековья.
(обратно)112
Три Генриха французских… – то есть французские короли Генрих II (1547–1559), Генрих III (1574–1589) и Генрих IV (1589–1610).
(обратно)113
Цитата из Библии (Бытие, II, 15).
(обратно)114
Сии битвы называли судом божиим.
(обратно)115
Следующее за сим явление, никогда не играемое и на французских театрах, в переводе выпущено. Переводчик вообще осмелился опустить некоторые стихи и сократить разговоры, которыми часто, как признали и французские критики, охлаждается ход сей трагедии, писанной Вольтером уже в старости.
(обратно)
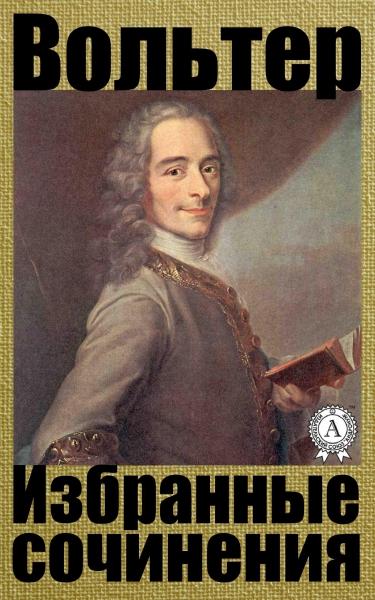

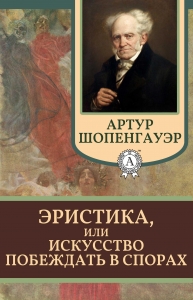



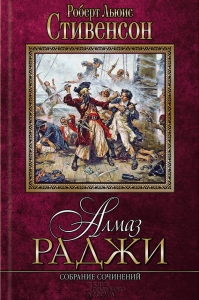


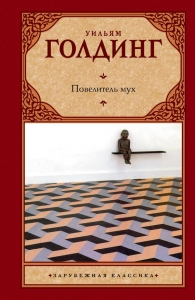
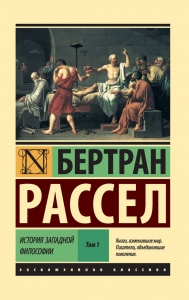
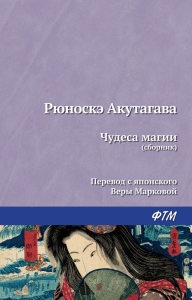
Комментарии к книге «Избранные сочинения», Вольтер
Всего 0 комментариев