Уильям Фолкнер Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха (сборник)
William Faulkner
LIGHT IN AUGUST
THE HAMLET
INTRUDER IN THE DUST
Перевод с английского В. Голышева («Свет в августе»), В. Бошняка («Деревушка», кн. 1, 2) и В. Хинкиса («Деревушка», кн. 3, 4), М. Богословской-Бобровой («Осквернитель праха»)
© William Faulkner, 1932, 1940, 1948
© Вступительная статья. В. Бернацкая, 2010
© Перевод. В. Голышев, 2010
© Перевод. В. Бошняк, 2010
© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2010
© Перевод. М. Богословская-Боброва, наследники, 2010
© Примечания. А. Долинин, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010
* * *
Великий сын нерожденной нации
Для тех американцев, кто чтит свою литературу, конец прошлого века – время Великих Столетних Юбилеев. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Джон Дос Пассос, Уильям Фолкнер, Торнтон Уайлдер, Эрнест Хемингуэй, Томас Вулф – все они родились в конце XIX столетия.
Почти все первые книги нынешних «столетних юбиляров» так или иначе затрагивают темы, связанные с Первой мировой войной. Но качественно они не равноценны. В «десятку» попал Хемингуэй, написавший, пожалуй, свой лучший роман «Прощай, оружие!». Фолкнер (1897–1962) тоже отозвался, однако «Солдатская награда» (1926) интересна сейчас только как первое крупное прозаическое произведение писателя. В отличие от Хемингуэя он не воевал (хотя и не всегда опровергал слухи об этом), и вообще это была не его война.
С раннего детства он слышал рассказы о другой, главной войне – той, что разметала призрачный мир, в котором царственно ступали прекрасные дамы в атласных платьях с кринолином и галантные кавалеры в широких плащах, с острыми шпагами в ножнах. Тот мир разительно отличался от прагматичного, буржуазного существования – непредсказуемый, фантастичный мир, в котором находилось место для безрассудных подвигов, любви до гробовой доски, преданности слуг и благородства хозяев.
Слушая еще в детстве эти истории, будущий писатель чувствовал, что и для рассказчиков и для него самого именно с той войны навсегда остановилось время. И словно не 40 лет назад, а прямо сейчас храпели под всадниками кони, неся их к лагерю северян, и думалось, что все еще можно изменить – переиграть, перевоевать ту проклятую войну между соотечественниками, что во всем мире зовется Гражданской. Или избежать ее…
Только заговорив о главном (впервые – и сначала робко – в «Сарторисе», 1929), Фолкнер стал тем, кого теперь называют классиком американской литературы. Пуля, прострелившая грудь деда, геройски сражавшегося с северянами, навсегда застряла в сердце внука. Боль побуждала делать открытия: «не существует никакого «было» – только «есть». Иначе не было бы ни печали, ни страданий». С самого начала Фолкнер – и в этом его сила – писал о том, что было ему важнее, интереснее всего, но, как это подчас бывает, он не сразу поверил в то, что боль его сердца может тронуть и взволновать остальных. Убедил его в этом другой человек.
Шервуд Андерсон (1876–1941) за свою жизнь помог не одному начинающему писателю. Многие, в том числе Хемингуэй, Вулф, Стейнбек, Сароян, Колдуэлл, испытали его влияние. Совершенно лишенный «звездности» (хотя ни один американский писатель не был так популярен, как он, после выхода книги «Уайнсбург, Огайо»), Андерсон исключительно много значил для писателей «потерянного поколения»: доброжелательный и бескорыстный, он с радостью оказывал им самую разную (вплоть до материальной) помощь.
Много лет спустя Фолкнер с большой теплотой напишет о том, что дало ему знакомство с Андерсоном – писателем и личностью. Старший товарищ первый объяснил ему, как важно помнить, кто ты есть на самом деле. «Ты деревенский парень, – сказал Андерсон, – все, что ты знаешь, – это крохотный клочок земли в Миссисипи, откуда ты родом. Но и этого достаточно. Это тоже Америка: пусть самый маленький и неизвестный ее уголок, но вытащи его, как кирпичик из стены, – и стена развалится».
В романах писателя мир часто выглядит трагически-абсурдным, но его любимые герои всегда несут в себе зерно другого, истинного, неабсурдного мира – мира гармоничных человеческих отношений. Такова Дилси (приложение к роману «Шум и ярость», 1929), спокойно вносящая свои коррективы в жизнь семейства Компсонов (сломанные часы бьют пять, а она тут же поправляет: «восемь часов»), такова беременная Лина Гроув («Свет в августе», 1932), безмятежно отправившаяся на поиски сбежавшего возлюбленного в твердой уверенности, что разыщет его и обретет счастье.
Характеризуя «южную школу», давшую Америке много талантливых писателей, Фолкнер сказал: «Нам требуется рассказать, выговориться, ибо красноречие – наследственный наш дар. Мы хотим в бешено краткий срок, пока дышим и держим перо, предъявить яростный обвинительный акт современному миру или уйти от него в нафантазированный мир магнолий, пересмешников и сабельных атак». В романе «Свет в августе» Фолкнер, почти позабыв о южной экзотике, бросает в лицо современной Америке именно такой – яростный – обвинительный приговор. В этом романе слова Фолкнера о том, что всякий южанин с рождения «распят на черном кресте», обретают почти буквальный смысл.
Вся жизнь Джо Кристмаса – с колыбели и до страшной гибели – трагедия только потому, что он не знает, кто он – белый или черный. Одно лишь сомнение в чистоте крови превращает его жизнь в ад. «В этом его несчастье, – объяснял Фолкнер в одной из своих лекций, – он не знает, кто он, и потому он никто… Вот что для меня было центральной трагической идеей всей истории, – то, что он не знает, кто он, и у него нет никаких возможностей выяснить это. А для меня это самая трагическая ситуация, в какой может оказаться человек, – не знать, кто он, и знать, что никогда этого не узнает».
Невозможность самоидентификации не позволяет Кристмасу примкнуть ни к сообществу белых, ни к сообществу черных, он вынужден жить в изоляции, подобно раненому зверю. Он не может осесть, завести дом, семью, он обречен на вечные скитания. Его не спасает и встреча с женщиной, которую не страшит близость с негром.
Джоанна Верден – из семьи аболиционистов, она, как ее дед и отец, целиком посвятила свою жизнь помощи чернокожим. Она не вникает в источник мук Кристмаса, считает, что он должен определиться, признать себя наконец негром и вместе с ней помогать беднякам своей расы. Этим вызывает взрыв ненависти к ней у Кристмаса: значит, она любит не конкретно его, просто мужчину, а любит в нем «черномазого», к которым, считает он, женщина испытывает противоестественное, страстное влечение.
Кристмас убивает Джоанну и тем самым подписывает себе смертный приговор. Духовно его убили давно, теперь же этого «мертвого» человека убивают вторично. Делает это некий Перси Гримм, убежденный в том, что «белая раса выше всех остальных рас, американская раса выше всех белых, а американский мундир превыше всего человечества». Сам Фолкнер на встрече со студентами и преподавателями Виргинского университета сказал о Перси Гримме, что этим образом он предвосхитил фашизм. Перси Гримм «уверен, что спасает белую расу, убивая Кристмаса. Я придумал его в 1931 году. До тех пор, пока о Гитлере не стали писать в газетах, я не сознавал, что создал наци раньше, чем он».
Как и в других произведениях Фолкнера, в этом романе история Кристмаса не единственная, она переплетается с другими историями и другими судьбами. С судьбой священника Хайтауэра, тоже бежавшего от реальности и будто вторично проживающего чужую жизнь – жизнь своего героического деда, который во время Гражданской войны ворвался в город, чтобы поджечь склады янки.
«Свет» в августе – это и пылающий дом Джоанны Верден, и огонь, пожирающий сердце и мозг Джо Кристмаса, но это и ровное сияние, исходящее от Лины Гроув и рожденного ею сына. Везмятежная вера Лины в то, что с ней не может случиться ничего плохого, оберегает ее в долгом пути, и в конце концов она обретает то, ради чего пустилась в дальнюю дорогу, – семью, отца своему ребенку.
Сам Фолкнер на вопрос о смысле названия ответил, что оно подсказано теми августовскими днями, когда вдруг повеет осенью, а воздух становится ясным, прохладным и светится особым светом. Этот свет воскрешает в памяти иные времена, иной свет, более древний, чем свет христианской цивилизации. Тут писателю и видится связь с Линой Гроув, в которой «было это языческое свойство – все принять. Она совершенно не стыдилась внебрачного ребенка, она выполняла непреложное веление времени и знала, что отец рано или поздно отыщется. Но ей он не очень-то и нужен, то есть она беспокоится об отце не более, чем женщины, зачавшие от Юпитера».
Преодолевая в воображении пространства и годы, Фолкнер тем не менее всегда писал о настоящем. Никто больше не проводил в американской литературе так убедительно мысль о том, что настоящее непременно вбирает в себя прошлое, не может не вбирать. Рассказав о предках своих современников, тех, кто был участником или очевидцем Гражданской войны, Фолкнер переходил к новой истории – уже о предках этих предков, выходцах из Старого Света. Дай ему волю, он добрался бы до праотцев, до Адама и Евы, и только тогда бы успокоился, решив, что теперь рассказал о настоящем все. (Любопытно, что даже свое пристрастие к длинным предложениям Фолкнер объяснял следующим образом: «Все предки человека, все его окружение присутствуют в нем в каждый отдельный момент. И потому человек, персонаж в повествовании в любой момент действия являет собой все то, что сделало его именно таким, и длинное предложение – попытка включить все прошлое, а по возможности и будущее в тот единичный момент, когда герой совершает какой-то поступок».)
Юг, проиграв, упустил свой шанс. Южане потеряли возможность стать уникальной нацией. И Фолкнер всю жизнь будет мучиться тем, что никому уже не дано узнать, что этот Юг мог бы подарить миру. Поражение в войне писатель вопреки логике истории объясняет проклятием прошлого, грехом рабства. «Моя страна – Юг, – писал Фолкнер, – проиграла войну… Завоеватели заняли наши дома и земли и остались в них после нашего поражения; и страна была не просто опустошена после проигранных сражений, победители еще целых 10 лет после поражения грабили то малое, что еще осталось после войны. Победители даже не пытались возродить нас как человеческое сообщество, как нацию».
У Юга были болезни, но он, по мнению Фолкнера, должен был побороть их сам, без вмешательства янки. Он сам должен был преодолеть рабство, и тогда новую историю определяли бы гордые династии Сарторисов, Компсонов, де Спейнов, Маккаслинов, а не дельцы-мошенники вроде Сноупсов. Юг подорвало не столько освобождение негров, сколько мощное внедрение пришельцев с Севера и собственной «белой швали»; именно они, не обладавшие нравственными принципами старой аристократии, захватили ключевые позиции. В известной трилогии Фолкнера – «Деревушка» (др. назв. «Поселок», 1940), «Город» (1957), «Особняк» (1959) – новые хозяева жизни все больше и больше экономически закабаляют южные штаты, утверждают разбойничью мораль.
Впервые появившийся в «Деревушке» Флем Сноупс – один из самых отталкивающих персонажей, порожденных воображением писателя. Фолкнер сам это сознавал и даже ввел в употребление термин «сноупсизм» – символ бездуховности, неспособности любить, видеть красоту. Флем мерит долларом все чувства и мечты. Как и прочим чужакам, Флему нет дела до прошлого Юга, нанесенная южанам рана не кровоточит в сердце пришельца. Путем шантажа, обмана пробирается он наверх. В отличие от остальных жителей Французовой Балки Флем лишен человеческих привязанностей и слабостей и в этом смысле неуязвим. Его не интересуют женщины – он импотент, для него в жизни существует только одно – обогащение, причем любой ценой. Женитьба на красавице Юле Уорнер – женщине, которая, как пишет Фолкнер, вызывала желание у всех мужчин от девяти до девяноста лет, – для Флема всего лишь выгодная сделка.
Фолкнер говорил, что «Деревушка» задумывалась им еще в 20– 30-е годы, тогда же делались отдельные записи, позже вошедшие в роман. В те же годы обдумывался и «Город». Так что еще задолго до написания трилогии Фолкнеру был очевиден путь Флема – от мелкого жулика до респектабельного президента банка и владельца роскошного особняка, в прошлом принадлежавшего одному из старейших аристократических семейств Юга. В беседе со студентами Виргинского университета Фолкнер сказал, что изначально Флем понятия не имел о респектабельности, но потом оказалось, что респектабельность ему необходима. «И тогда он надел эту маску, но, как только она ему больше не понадобится, он ее сбросит. Иначе говоря, у него есть цель, и он намерен ее достичь. И для достижения этой цели он применит спокойно и безжалостно любые средства. Нужна респектабельность – станет респектабельным, нужна религиозность – станет религиозным, надо уничтожить собственную жену – уничтожит».
Флем – не единственный из своего хищнического клана, кто проник на территорию Йокнапатофы. Сноупсы здесь постоянно множатся, потянувшись на Юг в предвкушении наживы. Из их среды поднялся и Кларенс Сноупс, который не без основания метит в сенаторы. Сноупсы – зараза, проникшая на Юг после поражения в войне, но писатель не смотрит на их присутствие фаталистически, они не вечны: недаром Флем погибает от руки сородича.
Итак, Юг, расставшись с мечтой о собственной неповторимой судьбе, пошел путем, предложенным победителями. И хотя внутренне Фолкнер так и не смирился с этим поражением, возможно, именно оно подарило нам великого писателя. Вновь и вновь возвращаясь мысленно в своих книгах в то роковое время, когда погибала, так и не успев родиться, новая южная нация, Фолкнер заставляет нас размышлять о Юге, о его блистательной, так рано закатившейся звезде, о его трагической судьбе. Приоткрывая дверь в прошлое, Фолкнер завораживает читателя дикими, полными «шума и ярости» картинами, такими пронзительно живыми, такими яркими, что в сравнении с ними реальный мир кажется тусклым и блеклым. Фолкнер видит неповторимую самобытность Юга в глубокой неразрывной связи между человеком и окружающим миром, родственности всего живого. И взамен утраченного старого Юга Фолкнер создает свой собственный космос, свой мир. Стать властелином целого мира – не самый плохой способ изжить комплекс побежденного.
Каждому, кто читал Фолкнера, известно его особое отношение к поражению, в котором при определенных условиях писатель умеет разглядеть победу. Поражение поражению рознь. Журналисты часто задавали Фолкнеру вопрос, почему в своем широко известном перечне лучших писателей Америки он поставил Хемингуэя на последнее, пятое, место. Фолкнер отвечал, что, на его взгляд, Хемингуэй рано открыл для себя границы своих возможностей и после за них не выходил: «Он никогда не пытался расширить пределы освоенной им территории, чтобы не испытать поражения. То, что он умел, он делал превосходно, первоклассно, но для меня это не успех, а провал… Поражение для меня выше. Стремиться к тому, чего нельзя достигнуть, – так, что даже невозможно надеяться на успех, – стремиться и потерпеть поражение и вновь стремиться… Тома Вулфа я поставил на первое место, потому что он попытался сделать наибольшее. Он стремился включить в свои книги всю вселенную и потерпел неудачу. Его поражение было самым славным».
Эти слова Фолкнера говорят многое о его отношении к писательскому труду. Для него творчество никогда не сводилось к увлекательному ремеслу или к интеллектуальной игре. Писать означало для него мобилизовать все духовные и душевные силы, весь жизненный опыт. Создать нечто, чего до него не существовало. «Неумело начертать на вратах забвения, в которые каждому придется войти, надпись на языке души: «Я был здесь!»
В том случае, когда задача огромна, проигрыш неизбежен. Но писатель, не выразивший всей волнующей его правды, вновь берется за перо и продолжает писать, «преследуя мечту, ибо, как только он сравняется с мечтой и создаст, как он верит, творения, озаренные светом истины и не уступающие мечте, ему ничего не останется, как прекратить работу».
В американской литературе всегда была сильна морализаторская тенденция. И Фолкнер не является исключением, он тоже моралист, хотя его этическая концепция гораздо шире традиционных представлений о нравственности. Его не назовешь последователем пуритан: слишком много в его взглядах мудрого приятия жизни. Однако не согласен он и с французскими экзистенциалистами, искавшими в нем союзника: ни Бог, ни нравственность не могут быть уничтожены, утверждает он.
Фолкнер не раз говорил (в том числе и в своей речи в 1950 году при получении Нобелевской премии), как сильно верит он в стойкость человека, в его способность к состраданию, жертвенности, верит в простые и вечные истины: любовь, честь, жалость, самопожертвование. Для того чтобы следовать им, человек должен изгнать из своей души страх, не позволить себе свыкнуться с ним.
Единственная возможность для писателя избежать забвения и обрести бессмертие, по мнению Фолкнера, – это стараться укрепить человеческий дух. Только так он может сказать смерти «нет!». Писатель должен поддерживать человека и в то же время не страшиться говорить правду. В книгах самого Фолкнера достаточно страниц, где изображены зло и насилие, но они не вселяют в читателя ощущение безнадежности, потому что ему передается вера писателя: зло будет побеждено, надо только избавиться от страха, не поддаваться ему – ведь именно страх лишает нас силы.
Юг проиграл войну и перестал быть прежним Югом, прежним космосом, обратившись в рядовое географическое понятие. Но нерожденной нации судьба даровала сына, оплакавшего ее. Юг останется в памяти человечества как некая исчезнувшая с лица земли редкая птица или вымершее животное, он будет вызывать к себе непреходящий интерес, который еще больше разжигают вечные книги Уильяма Фолкнера.
В. БернацкаяСвет в августе
1
Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет
Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город – на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой под сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал – потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.
Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, – в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда – хотя, может быть, и не понимала этого – на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.
Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется – потому что новое всегда можно купить в рассрочку, – и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать над курганами битого кирпича и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, небороненой, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.
Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей пять. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товаропассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разоренных холмов внезапно, как привидение, и, лешим взвыв, – мимо недодеревеньки, стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был двадцатью годами ее старше. Когда он забирал ее к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырехкомнатном некрашеном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сносях, либо оправлялась после родов. В это время Лина делала всю работу по дому и смотрела за другими детьми. После она говорила себе: «Потому, видно, и сама так быстро обзавелась».
Спала в пристройке, в задней части дома. Там было окно, которое она научилась бесшумно отворять в темноте – потому что в пристройке спали, кроме нее, сперва старший племянник, потом двое старших, потом трое. Впервые открыла окно на девятом году своей жизни у брата. Она и открыть-то его успела всего раз десять, когда обнаружила, что его вообще не следовало открывать. Сказала себе: «Такое, видно, мое счастье».
Невестка сказала брату. Тут только он заметил, что она округлилась, а мог бы заметить и раньше. Он был суровый человек. Добродушие, мягкость, молодость (а было ему сорок только) и почти все остальное, кроме упрямой, безнадежной стойкости да угрюмой родовой гордости, вышло из него с потом. Он обозвал ее проституткой. Он угадал виновника (молодых холостяков, – а опилочных донжуанов и подавно, – насчитывалось еще меньше, чем семей в деревне), но она не признавалась, хотя виновник отбыл полгода назад. Она твердила только: «Он меня вызовет. Он сказал, что вызовет меня», – непоколебимо, по-овечьи, черпая из тех запасов терпеливой прочной верности, на которые рассчитывает каждый Лукас Берч – не имея, впрочем, намерения оказаться под рукой, когда в этом будет нужда. Двумя неделями позже она снова выбралась через окно. Теперь это далось нелегко. «Было бы раньше так трудно, небось бы теперь не пришлось вылезать», – подумала она. Она могла бы уйти через дверь, днем. Никто бы ее не удерживал. Может быть, она это понимала. Но предпочла – ночью, через окно. С ней был веер из пальмовых листьев и другие пожитки, аккуратно увязанные в платок. В узелке лежали, среди прочего, тридцать пять центов – пяти– и десятицентовыми монетами. Башмаки на ней были братнины – его подарок. Поношены самую малость – никто из них летом башмаков не носил. Почувствовав под ногами дорожную пыль, она сняла башмаки и понесла в руках.
Так шла она вот уже почти месяц. Четыре недели пути и в сознании отпечатавшееся далёко – как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безымянными лицами и голосами: Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой жил – не слыхал. Дорога эта? В Покахонтас[1]. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места – не до места, а всё подвезет – и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых, неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы[2].
Повозка поднимается к ней по косогору. Лина миновала ее милю назад. Повозка стояла у дороги, мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у сарая двух мужчин на корточках. Только раз взглянула на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула – емкий, быстрый, простодушный и проницательный. Она не остановилась, скорей всего мужчины за забором даже не заметили, как она взглянула на них и на повозку. Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду, продолжала идти, ступая медленно в расшнурованных башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. Там она села на краю неглубокой канавы, свесила ноги, сняла башмаки. Немного погодя услышала повозку. Сперва ее было слышно. Потом стало видно, как она поднимается по косогору.
Лениво и сухо скрипит и громыхает немазаное, рассохшееся дерево и металл: трескучие оглушительные раскаты разносятся за полмили над знойной мореной одурью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути – невзрачной бусиной на рыжей шелковине дороги. До того, что устремленный на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее мирным однообразным чередованием дня и тьмы, как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот вялый оглушительный звук ничего собой не означает и доносится из какого-то пустячного, ерундового места, отдаленного больше чем расстоянием: морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самой еще не видать», – думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет – думает все равно как ехала полмили до того, как влезла в повозку – до того, как повозка подъехала к месту, где я ждала, а потом, когда слезу с повозки, она полмили все равно как со мной будет ехать. Ждет, уже не следя за повозкой, а мысль течет досуже, быстро, плавно, полная безымянных добрых лиц и голосов: Лукас Берч? Спрашивала, говоришь, в Покахонтасе? Эта дорога? В Спрингвейл. Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону, докуда едет – подвезет. Думает: «А если он до самого Джефферсона едет, Лукас меня услышит прежде, чем увидит. Повозку услышит, а не догадается. Так что одну услышит прежде, чем увидит. А потом увидит меня и разволнуется. И двоих увидит прежде, чем вспомнит».
Сидя на корточках в тени конюшни Уинтерботома, Армстид и Уинтерботом[3] видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя.
– Интересно, откуда это у ней живот, – сказал Уинтерботом.
– Интересно, издалека ли она его несет, – сказал Армстид.
– Видать, навещала кого-то в той стороне, – сказал Уинтерботом.
– Да нет, видать. А то бы я слышал. И там, в моей стороне, никого у ней нет. Тоже слышал бы.
– Видать, не просто так гуляет, – сказал Уинтерботом. – Не такая у ней походка.
– Не долго ей одной гулять, будет ей попутчик, – сказал Армстид. Женщина уже удалялась – медленно, со своей набрякшей очевидной ношей. Она словно бы даже не взглянула на них, когда проходила мимо – в выгоревшем синем балахоне, с пальмовым веером и узелком в руках. – Не из ближних мест идет, – сказал Армстид. – Ишь как потопывает – верно, порядком отшагала и еще шагать да шагать.
– Видать, навещала кого-то в наших краях, – сказал Уинтерботом.
– Да нет, пожалуй. Я бы слышал, – сказал Армстид. Женщина шла. Не оглядывалась. И медленно ушла из виду – налитая, обстоятельная, неутомимая, как сам набирающий силу день. Ушла и из их беседы, и, может быть, даже – из их сознания. Ибо, чуть подождав, Армстид сказал то, что надумал сказать. Он уже дважды заявлялся сюда – приезжал за пять миль на повозке и с бесконечной неторопливостью и уклончивостью своего племени по три часа сидел на корточках в тени сарая и поплевывал – для того чтобы сказать это. Предложить Уинтерботому цену за культиватор, который Уинтерботом хотел продать. И вот Армстид посмотрел на солнце и предложил цену, которую предложить задумал, лежа в постели три дня назад. – Я знаю одного в Джефферсоне, который отдаст за такую цену, – сказал он.
– Так ведь брать надо, – сказал Уинтерботом. – Дешевка-то какая.
– Ну да, – сказал Армстид. Сплюнул. Снова посмотрел на солнце и встал. – Да-а, видать, домой пора собираться.
Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привел их в движение – потому что только негр поймет, спит мул или проснулся. Уинтерботом дошел с ним до забора и облокотился на верхнюю слегу.
– Да, брат, – сказал он. – За такие деньги я сам бы взял. А ты не возьмешь – провалиться мне, коли я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятерку? Нет?
– Ну да, – говорит Армстид. Он правит; повозка предалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперед, должно быть, не смотрит – потому что женщины, сидящей в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнаёт синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на нее хоть раз, когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу по мере того, как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре тягучей, осязаемой дремы и рыжей пыли, по которой лунатически мерно ступали мулы, изредка позвякивая сбруей, вяло прядая заячьими ушами – и по-прежнему ни спят ни бодрствуют, когда он наконец натягивает вожжи.
Из-под блекло-синего чепца, полинявшего не от воды и мыла, она смотрит спокойно и любезно – молодая, миловидная, бесхитростная, доброжелательная и живая. Она еще не шевельнулась. Под балахоном того же блекло-синего цвета тело ее грузно и неподвижно. Веер и узелок лежат на коленях. Она без чулок. Босые ступни на дне канавы – сдвинуты. Жизни в них ничуть не больше, чем в тяжелых, пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замершей повозке сидит Армстид, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блекло-синим, что на чепце и платье.
– Далеко ли идешь? – спрашивает он.
– Да вот, хотела засветло еще малость пройти, – отвечает она. Она встает и поднимает башмаки. Медленно и неторопливо выбирается на дорогу, идет к повозке. Армстид не спускается на землю, чтобы помочь. Только удерживает мулов, пока она грузно перелезает через колесо и кладет башмаки под сиденье. Повозка трогается.
– Спасибо вам, – говорит она. – Уморилась – на ногах-то.
Кажется, Армстид и не посмотрел на нее ни разу открыто. Однако он уже заметил, что обручального кольца у нее нет. Теперь он на нее не смотрит. Повозка снова предается ленивому громыханию.
– Издалека ли идешь? – спрашивает он.
Она переводит дух. Это даже не вздох, а спокойный выдох – как бы спокойного изумления.
– А и впрямь конец немалый. Я иду из Алабамы.
– Из Алабамы? С этакой тяжестью? Где же семья твоя?
Она тоже на него не смотрит.
– Думаю встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете. Зовут его Лукас Берч. Тут по дороге говорили, в Джефферсоне он, на строгальной фабрике работает.
– Лукас Берч. – Армстид произносит имя почти тем же тоном. Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны ее руки, сложенные на коленях, и профиль под чепцом; он видит их краем глаза. Она, должно быть, следит за проселком, стелющимся между вялыми ушами мулов. – И ты всю дорогу сама, пешком прошла, за ним охотясь?
Она отвечает не сразу. Наконец говорит:
– Люди все добрые попадались. Такие добрые люди.
– И бабы, что ли? – Украдкой смотрит на ее профиль и думает не знаю, что Марта скажет думает: «Пожалуй, знаю, что Марта скажет. Бабы, они не так чтобы очень добрые, а скорей хорошие. Мужчина – он может быть. А баба – только плохая добра будет к другой бабе, которая в доброте нуждается», думает Как же. Знаю, знаю я, что Марта скажет
Она сидит на краешке неподвижно; профиль неподвижен, щека.
– Прямо удивительно, – говорит она.
– Что идет по дороге незнакомая девушка, в положении, – и люди догадываются, что муж ее бросил? – Она не шевелится. Теперь повозка подчинена какому-то ритму, ее немазаное замученное дерево сжилось с ленивым днем, дорогой, зноем. – И собираешься его тут найти.
Она не шевелится – наверно, следит за медленным бегом дороги между ушами мулов; даль, должно быть, дорогой прорезана, резка.
– Думаю, что найду. Дело немудреное. Он будет там, где больше всего народу собирается, где смеются и балагурят. Он всегда был до этого охотник.
Армстид крякнул – грубо, со злобой.
– Но-о, заснули там! – говорит он, и себе говорит – уже подумав, еще не произнося: «Найдет ведь. Спохватится парень, что маху дал, когда остановился по эту сторону от Арканзаса – или Техаса, для надежности».
Солнце клонится к западу, час ему до горизонта, до коротких летних сумерек – час. Они на развилке; в сторону отходит дорожка еще тише и глуше этой.
– Приехали, – говорит Армстид.
Женщина сразу оживает. Она наклоняется и подбирает башмаки – видимо, не хочет даже надевать их в повозке, чтобы его не задерживать.
– Большое вам спасибо, что подвезли, – говорит она.
Повозка снова остановилась. Женщина готовится слезть.
– Если и доберешься к закату до лавки Варнера[4], все равно оттуда еще двенадцать миль до Джефферсона, – говорит Армстид.
Она с трудом удерживает башмаки, узелок и веер в одной руке, чтобы опереться другой, когда будет слезать.
– Пойду-ка я, пожалуй, – говорит она.
Армстид к ней не прикасается.
– Поехали, заночуешь у меня, – говорит он, – там хоть бабы… женщина тебе… если что. С утра первым делом отвезу тебя к Варнеру, а там, глядишь, кто-нибудь тебя прихватит. В субботу всегда кто-нибудь в город едет. Не убежит он от тебя за ночь-то. Коли есть он в Джефферсоне, так и завтра там будет.
Она сидит не шевелясь, все пожитки – в одной руке, чтобы удобнее было слезать. Смотрит вперед, куда убегает змейкой дорога, разлинованная косыми тенями.
– Несколько дней у меня еще есть, пожалуй.
– Ну да. Времени у тебя вдоволь. Только попутчик у тебя появится с часу на час – который ходить не умеет. Поехали ко мне. – Он пускает мулов, не дожидаясь ответа. Повозка сворачивает на малоезжую дорогу. Женщина опускается на сиденье, но по-прежнему держит веер, узелок, башмаки.
– Я не обременю, – говорит она. – Хлопот со мной не будет.
– Ну да, – говорит Армстид. – Поехали со мной. – Впервые мулы идут резво по своей воле. – Корм почуяли, – говорит Армстид, размышляя: «Вот они, бабы. Сама же первая дорогу перебежит своей сестре, а сама гуляет по общественной земле, одна, без всякого стеснения, потому что знает – люди, мужики, ее пожалеют. До баб ей дела нет. Небось не баба ей вчинила – это, чего она и хлопотами не желает назвать. Да, их сестре дай только замуж выйти или так, без мужа, схлопотать – и сей же час из бабьего роду и племени она выходит и до самой смерти старается к мужскому роду примкнуть. Через это и к табаку их тянет, курить либо нюхать, через это и голосовать им подавай»[5].
Когда повозка проезжает мимо дома к сараю, его жена наблюдает за ними из передней двери. Он в ее сторону не смотрит: и так знает, что должна там стоять, что стоит. «Да, – думает он с язвительной иронией, заворачивая мулов в распахнутые ворота, – знаю, знаю я, что она скажет. Мудрено не знать». Он останавливает мулов; ему не надо оглядываться – и так знает, что жена уже на кухне, уже не наблюдает за ними, просто ждет. Он останавливает мулов.
– Ступай в дом, – говорит он; он уже на земле, а женщина слезает, медленно и все так же вдумчиво, прислушиваясь к чему-то в себе. – Ежели встретишь кого – это Марта. Я скотину накормлю и приду. – Он не смотрит, как она идет через двор к кухне. Ему незачем смотреть. Шаг за шагом вместе с ней он подходит к кухонной двери и наталкивается на взгляд женщины, которая смотрит на кухонную дверь точно так же, как смотрела на повозку из передней двери. «Знаю, знаю я, что она скажет», – думает он.
Он распрягает мулов, поит их, ставит в стойла, задает корму, впускает с выгона коров. Потом идет на кухню. Она еще тут – седая женщина с неприветливым, суровым, раздраженным лицом, за шесть лет родившая пятерых детей и воспитавшая из них мужчин и женщин. Она занята делом. Он на нее не смотрит. Подходит к раковине, наливает из ведра в таз и закатывает рукава.
– Ее фамилия Берч, – говорит он. – То есть так якобы парня зовут, которого она ищет. Лукас Берч. По дороге ей говорили, будто он теперь в Джефферсоне. – Он начинает мыться, к ней спиной. – Пришла из самой Алабамы, говорит, – одна и пешим ходом.
Хозяйка не оглядывается. Она возится у стола.
– Недолго ей так ходить – в Алабаму свою с прибавлением явится, – говорит она.
– Да небось и к парню этому, к Берчу. – Армстид возится у раковины – очень занят водой и мылом. Он чувствует ее взгляд на себе – на затылке, на спине, сквозь вылинявшую от пота голубую рубашку. – У Самсона ей говорили, будто парень по фамилии Берч, или наподобие того, работает на строгальной фабрике в Джефферсоне.
– И она надеется его там найти. Ждет ее не дождется. И дом уж, поди, обставил.
Он не может понять по ее голосу, смотрит она на него или отвернулась. Он вытирается распоротым мешком.
– Может, и найдет. Ежели он сбежать от нее думал – ох и спохватится парень, что оплошал, когда не оставил промеж себя и ее Миссисипи. – А теперь он знает, что она глядит на него: седая, не толстая и не тощая, закаленная, как мужчина, закаленная работой, в прочном сером платье, носимом без жалости и заботы, – руки уперты в бока, лицо – как у генералов, разбитых в бою.
– Эх, мужики.
– Что с ней прикажешь делать? Прогнать? Или в сарае положить?
– Мужики, – говорит она. – Мужики проклятые.
Они входят на кухню, миссис Армстид – первой. Она идет прямо к плите. Лина останавливается возле двери. Голова ее теперь непокрыта, волосы гладко зачесаны. Даже синий балахон на ней как будто посвежел и отдохнул. Она смотрит на хозяйку – та гремит чугунными конфорками и ожесточенно, с маху, по-мужски набивает дровами топку.
– Можно, я помогу? – говорит Лина.
Миссис Армстид не оборачивается. Она свирепо хлопает дверцей.
– Сиди уж. Ногам дай отдых – глядишь, и спина отдохнет.
– Я буду вам очень благодарна, если вы позволите помочь.
– Сиди уж. Тридцать лет затапливаю, по три раза на дню. Прошло то время, когда мне помощь требовалась. – Она хлопочет у плиты, не оглядывается. – Армстид говорит, твоя фамилия Берч?
– Да, – отвечает Лина. Тон у нее очень степенный, голос очень тихий. Она сидит не шевелясь, руки на коленях неподвижны. Миссис Армстид на нее не оглядывается. Она еще занята у плиты. Внимание, которого требует печь, не вяжется с той ожесточенной решительностью, с которой ее разжигали. Внимание к ней такое, словно это дорогие часы, а не печь.
– Стало быть, твоя фамилия уже Берч? – спрашивает миссис Армстид.
Молодая отвечает не сразу. Миссис Армстид уже не гремит у печки, хотя по-прежнему стоит спиной к Лине. Наконец она оборачивается. Они глядят друг на друга без утайки, наблюдают друг друга: молодая – на стуле, причесана гладко, руки на коленях неподвижны; старшая – тоже замерла, отвернувшись от плиты, седые волосы безжалостно скручены на затылке, лицо словно вытесано из песчаника. Наконец молодая говорит:
– Я вам сказала неправду. Моя фамилия еще не Берч. Меня зовут Лина Гроув.
Они глядят друг на друга. Голос хозяйки ни холоден, ни ласков. Он не выражает ничего.
– Стало быть, хочешь догнать его, чтобы твоя фамилия вовремя сделалась Берч. Так, что ли?
Лина смотрит вниз, словно разглядывая свои руки на коленях. В ее тихом голосе – упорство. Но и безмятежность.
– Мне ведь от Лукаса обещаний не нужно. Так уж вышло нескладно, что ему пришлось уехать. А приехать за мной, как он задумал, – видно, не получилось. А слово друг другу давать – нам незачем. Той ночью, когда узнал он, что должен ехать, он…
– Какой же это ночью он узнал? Когда ты ему про ребенка сказала?
Молодая отвечает не сразу. Лицо у нее невозмутимо, как камень, но без жесткости. В ее упорстве – что-то мягкое, оно освещено изнутри тихим, бездумным покоем, отрешенностью. Миссис Армстид наблюдает за ней. Лина начинает рассказывать, не глядя на хозяйку:
– Он еще задолго до этого узнал, что ему, наверно, придется уволиться. Только мне не говорил, потому что не хотел огорчать. А когда он в первый раз услыхал, что ему, наверно, придется уволиться, он понял, что лучше уехать, – может, на новом месте мастер не будет к нему цепляться и ему будет легче продвинуться. Но все откладывал. А когда уж это самое случилось, откладывать стало нельзя. А мастер к Лукасу цеплялся, невзлюбил его, потому что Лукас молодой и никогда не унывает, а мастер хотел устроить на его место своего родственника. А он от меня скрывал, не хотел огорчать. А уж когда это самое случилось, нам больше нельзя было ждать. Я ему сама велела ехать. Он сказал, я останусь, если скажешь, пускай его придирается. А я ему сказала – ехай. А он все равно не хотел ехать, даже после этого. А я сказала – ехай. Только весточку пришли, когда сможешь меня принять. Да вот не получилось у него вызвать меня вовремя, как он хотел. Ведь на новом месте устроиться, среди чужих – молодому время нужно. Он-то этого не знал, когда уезжал, не знал, что устроиться – больше времени нужно, чем он думал. А в особенности – парню вроде Лукаса, если он такой живой и компанию любит и повеселиться, и ему в компании тоже рады. Не знал, что у него больше времени уйдет, чем он думал, – и сам молодой, и люди льнут к нему, потому что охотник посмеяться и побалагурить, от работы отвлекают, а ему невдомек, ему людей обижать неохота. Да и я хотела, чтобы он погулял напоследок – ведь для парня молодого, веселого женатая жизнь – не то что для женщины: для парня молодого, веселого она ох как долго тянется. Неправильно я говорю?
Миссис Армстид не отвечает. Она разглядывает сидящую на стуле женщину, ее гладкую прическу, неподвижные руки на коленях, кроткое задумчивое лицо.
– Он уж, верно, послал мне весточку, только она по дороге потерялась. Отсюда до Алабамы – и то путь неблизкий, а ведь до Джефферсона – еще идти. Я ему сказала, что письма от него не жду – письма-то писать он не мастер. «Ты мне устным словом, – говорю, – передай, когда принять меня сможешь. Я буду ждать». Сперва, конечно, – как он уехал, – я немного волновалась, что фамилия моя еще не Берч, а брат со своей семьей не так хорошо знают Лукаса, как я. Откуда им знать? – На лице ее медленно появляется кроткое и радостное удивление – как будто в голову ей пришел ответ на вопрос, о самом существовании которого она до сих пор не подозревала. – Ну, правда, откуда было знать? А ему сперва надо было устроиться, вся трудность-то на него легла – среди чужих жить, а у меня забот никаких – только ждать, покуда он со всеми заботами и трудностями сладит. А уж после – надо было о ребенке думать, а не о фамилии своей, да о том, что люди скажут. А слово друг другу давать – нам с Лукасом незачем. Там какая-то неожиданность случилась, или, может, он послал мне весточку, а она потерялась по дороге. Так что решила я двигаться и больше не ждать.
– Откуда же ты знала, в какую сторону идти, когда в путь пустилась?
Лина рассматривает свои руки. Теперь они движутся – сосредоточенно собирают подол в складки. Робости, смущения в этом нет. Кажется, что это – непроизвольное движение самой задумчивой руки.
– А спрашивала. Лукас – парень молодой, веселый, с людьми сходится легко и скоро – я и думаю, где он побывал, там люди его запомнят. Ну, и спрашивала. Люди очень хорошо относились. И правда, третьего дня мне сказали на дороге, что он в Джефферсоне, работает на строгальной фабрике.
Миссис Армстид разглядывает склоненное лицо. Она подбоченилась и наблюдает за молодой бесстрастно, с холодным презрением.
– Думаешь, он там будет, когда ты явишься? Это если он вообще там был. Услышит, что ты с ним в одном городе, и до вечера там усидит?
Потупленное лицо Лины спокойно, серьезно. Ее рука остановилась. Теперь она лежит на коленях спокойно, словно умерла там. Голос звучит ровно, невозмутимо, упрямо.
– Я думаю, семья должна быть вместе, когда рождается ребенок. В особенности – первый. Я думаю, Господь об этом позаботится.
– Да уж, вижу, без Него не обойтись, – грубо, в сердцах произносит миссис Армстид. Армстид лежит в постели, подперев голову, и смотрит поверх изножья, как она, еще одетая, склоняется под лампой к комоду и остервенело роется в ящике. Она достает металлическую шкатулку, отпирает висящим на груди ключом, вынимает оттуда полотняный мешочек, открывает его и вытаскивает фарфорового петуха со щелью в спине. Когда она опрокидывает и яростно трясет его над крышкой комода, в нем брякают монеты и редко, нехотя выскакивают по одной из щели. Армстид наблюдает за ней с кровати.
– Ты что это надумала делать с яичными деньгами на ночь глядя?
– Мои деньги – что хочу, то и делаю. – Она наклоняется к свету, лицо у нее сердитое, злое. – Небось я их растила, мучилась. Ты и пальцем не шевельнул, видит Бог.
– Ну да, – говорит он. – Не сыщется в стране у нас человека, чтобы кур у тебя оспорил – вот опоссум разве да змея. И банк твой петушачий, – добавляет он. Потому что, нагнувшись внезапно, она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку вдребезги. С кровати, рукой подпершись, наблюдает Армстид, как она выбирает из осколков последние монеты и кидает их с остальными в мешочек и с яростной решимостью завязывает его и перевязывает – узлом, тремя, четырьмя.
– Ей отдашь, – говорит она. – Как солнце встанет, запрягай и вези ее отсюда. Вези хоть до самого Джефферсона, если не лень.
– Пожалуй, от лавки Варнера ее и без меня подвезут, – отвечает он.
Миссис Армстид поднялась до зари и приготовила завтрак. Когда Армстид вернулся с дойки, стол был накрыт.
– Поди скажи ей, чтобы есть шла, – велела миссис Армстид.
Когда он привел Лину, хозяйки на кухне не было. Замявшись на пороге – да почти и не замявшись, – Лина окинула взглядом кухню; лицо ее было сложено для улыбки, для речи – заготовленной речи, понял Армстид. Но она ничего не сказала; заминка даже не была заминкой.
– Есть давай да поехали, – сказал Армстид. – Тебе еще порядком добираться. – Он наблюдал, как она ест – прилежно, с тем же чинным спокойствием, что и вчера за ужином, хотя сегодня оно подпорчено вежливой, даже слегка нарочитой умеренностью. Потом он протянул ей мешочек. Она приняла его с удовольствием, но без особого удивления.
– Ой, я ей очень благодарна, – сказала она. – Только они мне не понадобятся. Я уж почти добралась.
– Ты возьми все-таки. Заметила небось – если Марта что задумала, ей лучше не перечить.
– Я очень благодарна, – сказала Лина. Она спрятала деньги в свой узелок и надела чепец. Повозка ждала их. Когда они поехали по дорожке, она оглянулась на дом. – Я вам всем очень благодарна.
– Это она, – сказал Армстид. – Кажись, моих заслуг тут нету.
– Все равно я очень благодарна. Вы уж попрощайтесь с ней за меня. Я надеялась сама ее увидеть, да…
– Ага, – сказал Армстид. – Она там где-нибудь, наверно, по хозяйству. Я ей передам.
К лавке они подъехали рано утром, а там уже сидели на корточках мужчины, плевали через обглоданное каблуками крыльцо и смотрели, как она медленно, осторожно слезает с сиденья повозки, держа узелок и веер. И опять Армстид не шевельнулся, чтобы ей помочь. Он сказал сверху:
– Это, стало быть, мисс Берч. Ей надо в Джефферсон. Если кто туда нынче едет и захватит ее, она будет очень благодарна.
В тяжелых пыльных башмаках она встала на землю. Посмотрела на него снизу – спокойно, безмятежно.
– Я вам очень благодарна.
– Ну да, – сказал Армстид. – Теперь, надо думать, ты до города доберешься. – Он смотрел на нее сверху. И, настороженно прислушиваясь к тому, как язык с бесконечной нерасторопностью подбирает слова, молча и быстро думал, едва успевая за мыслью Мужик. Всякий мужик. Сто случаев сделать добро упустит ради одного случая встрять, куда его встревать не просят. Прозевает какой угодно случай, проворонит любую возможность – богатства, почета, благого дела, а то и злодейства даже. Но случая встрять не упустит Потом язык нащупал слова, и он услышал их с не меньшим, наверное, изумлением, чем Лина: «Только я бы не очень надеялся… полагался на…» – думая Не слушает она. Если бы она могла услышать такие слова, не вылезала бы она сейчас из этой повозки, с пузом своим, да с узелком, да с веером, одна не тащилась бы в город, которого сроду не видела, не гналась бы за парнем, которого ей вовек не увидеть, которого и раз-то увидеть – оказалось больше, чем надо «…а если вертаться будешь этой дорогой, все равно когда – завтра ли, нынче вечером…»
– Теперь, я думаю, все наладится, – ответила она. – Мне сказали, он в Джефферсоне.
Он повернул повозку и поехал домой – сутулый, с выцветшими глазами; он сидел на продавленном сиденье и думал: «Бесполезный разговор. Чужим словам, своим ушам не поверит, как не верит тому, что люди думают вокруг нее вот уже… Четыре недели, – она сказала. Как сейчас не чует и не верит. Сидит там на верхней ступеньке, руки на коленях, а они вокруг на корточках и плюют мимо нее на дорогу. И не ждет ведь, пока ее спросят, сама рассказывает. По своей воле рассказывает про этого чертова парня, словно ей и нечего особенно скрывать или рассказывать – даже когда Джоди Варнер или кто из них скажет, что этого парня на деревообделочной в Джефферсоне зовут не Берч, а Банч. Это ее тоже не беспокоит. А ведь она, пожалуй, еще больше Марты знает – как она вчера Марте сказала? Господь позаботится, чтобы все было по справедливости».
Двух вопросов оказалось достаточно. И, сидя на верхней ступеньке, узелок и веер держа на коленях, Лина снова рассказывает свою повесть, с дословными повторами упорной и прозрачной детской лжи, а мужчины в комбинезонах, сидя на корточках, тихо слушают ее.
– Этого парня фамилия Банч, – говорит Варнер. – Он уже лет семь работает на фабрике. Почем ты знаешь, что и Берч твой там?
Она смотрит на дорогу, туда, где Джефферсон. Смотрит спокойно, выжидательно, чуть отрешенно, но раздумья во взгляде нет.
– Наверное, там. На строгальной этой фабрике. Лукас всегда любил развлечения. Тихая жизнь не по нем. Потому-то ему и не нравилось на Доуновой лесопилке. Потому он… мы и решили сменить место – ради денег и развлечений.
– Ради денег и развлечений, – говорит Варнер. – Этот молодец не первый увильнул от дела, для которого родился на свет, и от тех, кто положился на него в этом деле, – ради денег и развлечений.
Но она, очевидно, не слушает. Она тихо сидит на верхней ступеньке и смотрит на пустую дорогу, за поворот, откуда она изволоком убегает к Джефферсону. Мужчины сидят на корточках у стены, смотрят на ее покойное, безмятежное лицо и думают – как думал Армстид и продолжает думать Варнер, – что на уме у нее мерзавец, который бросил ее в беде и которого она, наверно, больше не увидит – разве что полы его пиджака, развевающиеся от бега. «А может, она про эту, как ее, Слоунову, Боунову лесопилку думает, – говорит себе Варнер. – Ведь и дурочке, поди, не обязательно забираться так далеко, в Миссисипи, чтобы понять, что новое место немногим отличается и не намного лучше будет того места, откуда она сбежала. Даже если тут нет брата, которому не по нутру ее ночные гулянки», – думает. А я бы так же, как брат, поступил, и отец ее поступил бы так же. Матери у нее нет, потому что отцова кровь ненавидит с любовью и гордостью, а материнская – с ненавистью любит и сожительствует
А она об этом и не думает. Она думает о монетах, спрятанных в узелке у нее под руками. Она вспоминает завтрак и думает, что хоть сейчас может войти в лавку и купить сыру и печенья, а если пожелает – и сардин. У Армстида она выпила только чашку кофе с куском кукурузного хлеба – больше ничего, хотя Армстид ее угощал. «Вежливо кушала», – думает она, держа руки на узелке, где у нее спрятаны монеты, вспоминая эту единственную чашку кофе и деликатный ломтик диковинного хлеба; думает с горделивым спокойствием: «Как дама кушала. Как дама-путешественница. А теперь и сардин могу купить, если пожелаю».
И вот, хотя кажется, что она созерцает отлогий подъем дороги, а мужчины, сидя на корточках, поплевывая и поглядывая на нее, украдкой думают, что мысли ее заняты Лукасом и приближающимся событием, на самом деле она тихо противится извечным предостережениям земли, чьим промыслом, милостью и бережливым уставом она живет. На этот раз она не подчиняется. Она встает и, двигаясь осторожно, немного неуклюже, преодолевает артиллерийский рубеж мужских глаз и входит в лавку; приказчик – за нею следом. «Возьму и куплю, – думает она, уже попросив сыру и печенья, – возьму и куплю», – а вслух говорит:
– …И коробку сардин. – Она называет их «сырдинами». – Коробку за десять центов.
– За десять центов сардин не имеем, – отвечает приказчик. – Сардины пятнадцать центов. – Он тоже именует их «сырдинами».
Она раздумывает.
– А какие у вас есть банки за десять центов?
– С ваксой, больше никаких. Думается, такого вам не надо. Для питания то есть.
– Ну что ж, тогда за пятнадцать возьму. – Она развязывает узелок и мешочек. Распутать узлы удается не сразу. Но она терпеливо развязывает их, один за другим, платит, снова завязывает мешочек и узелок и забирает покупки. Когда она выходит на крыльцо, у ступенек стоит повозка. В ней сидит человек.
– Он едет в город, – говорят ей. – Он тебя подвезет.
Лицо ее оживляется – безмятежно, медленно, благодарно.
– Ой, спасибо вам большое, – говорит она.
Повозка едет медленно, равномерно, словно здесь, среди безлюдных солнечных просторов, не существует ни времени, ни спешки. От лавки Варнера до Джефферсона – двенадцать миль.
– Приедем туда к обеду? – спрашивает она.
Возница сплевывает.
– Может, и приедем.
Он как будто ни разу не взглянул на нее – даже когда она влезала в повозку. И она на него как будто не взглянула ни разу. Не смотрит и сейчас.
– Вы небось часто в Джефферсон ездите.
Он говорит:
– Случается.
Скрипит повозка. Неотступно маячат где-то на полпути леса и поля – застывшие и вместе с тем текучие, изменчивые, как мираж. Однако повозка оставляет их позади.
– Вы, верно, не знаете в Джефферсоне такого Лукаса Берча?
– Берча?
– Найти его там надеюсь. Он работает на строгальной фабрике.
– Нет, – отвечает возница. – Не припомню, чтобы знал такого. Да я, пожалуй, много кого не знаю в Джефферсоне. Может, он и там.
– Хорошо бы. А то путешествовать больно надоедает.
Возница на нее не глядит.
– Издалека ты приехала искать его?
– Из Алабамы. Путь далекий.
Он на нее не глядит. Спрашивает вскользь:
– Как же это тебя отец с матерью отпустили в таком виде?
– Нет у меня отца с матерью. Я с братом живу. Да так вот – решила идти, и все.
– Понятно. Он тебе написал, чтобы приезжала в Джефферсон?
Она не отвечает. Ему виден ее спокойный профиль под чепцом. Повозка едет – медленно, бесконечно. Под мерный шаг мулов, под скрип и стук колес тянутся рыжие мили. Солнце высоко над головой; тень чепца лежит на ее коленях. Она смотрит на солнце.
– Пора, пожалуй, покушать, – говорит она. Краем глаза он наблюдает, как она разворачивает сыр и печенье, открывает сардины, протягивает ему.
– Мне неохота, – говорит он.
– Милости прошу, покушайте со мной.
– Мне неохота. Ты давай кушай.
Она начинает есть – не спеша, с усердием, медленно и увлеченно слизывая с пальцев вкусное масло. Потом останавливается, не вдруг, но намертво; челюсть перестает жевать, обкусанное печенье в руке, лицо чуть опущено, глаза пусты, словно она прислушивается к чему-то очень далекому или совсем близкому – у себя внутри. Кровь отлила от лица, густой здоровый румянец исчез, и она сидит оцепенело, слушая и ощущая неумолимую древнюю землю – но без тревоги и страха. «Двойня, не иначе», – говорит она себе беззвучно, не шевеля губами. Потом схватка утихает. Она опять ест. Повозка не остановилась; время не остановилось. Они въезжают на последний холм и видят дым.
– Джефферсон, – говорит возница.
– Подумать только, – говорит она. – Мы уже почти на месте, да?
На этот раз не слышит мужчина. Он смотрит вперед, через долину, на противоположную возвышенность, где стоит город. Следуя взглядом за его кнутовищем, она видит два столба дыма: один – от горящего угля, плотный, над высокой трубой, другой – высокий, желтый, над купой деревьев, должно быть, на отшибе.
– Дом горит, – говорит он. – Видишь?
Теперь уже она как будто не слушает, не слышит.
– Ну и ну, – говорит она, – всего четыре недели в дороге, а уже Джефферсон. Ну и ну. Носит же человека по свету.
2
Байрон Банч знает вот что. Это было в пятницу утром, года три назад. Работавшие в сарае у строгального станка подняли головы и увидели незнакомца, который стоял и смотрел на них. Они не знали, давно ли он там стоит. Похож он был на бродягу – и вместе с тем не похож. Ботинки у него были пыльные, брюки тоже в грязи. Но сшиты из приличной диагонали и отутюжены, а рубашка его, хотя и грязная, была белой рубашкой; на нем был галстук и соломенная шляпа, новая, с твердыми полями, заломленная нагло и зловеще над неподвижным лицом. Он не был похож на босяка в босяцком рубище, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес, как знамя, с выражением независимым, жестоким, чуть ли не гордым. «Словно, – говорили потом люди, – попал в полосу невезения и не намерен в ней задерживаться и плевать хотел на то, каким способом из нее выберется». Он был молод. И Байрон видел, как он стоял и наблюдал за рабочими в пропотевших комбинезонах – с сигаретой в углу рта, с презрительным и мрачно-неподвижным лицом, чуть стянутым на сторону из-за сигареты. Потом он выплюнул сигарету, не дотронувшись до нее рукой, повернулся и пошел в контору, а люди в выгоревшей, перепачканной рабочей одежде смотрели ему в спину с сердитым недоумением. «Через станок бы его пропустить, – сказал мастер. – Глядишь, сняло бы с него эту мину».
Они не знали, кто он. Никто его раньше не видел. «Между прочим, довольно опасно появляться с такой миной на людях, – сказал другой, – ненароком сделает где-нибудь такую мину, а она кому-нибудь может не понравиться». И они забыли о нем, во всяком случае, перестали говорить. Они разошлись по рабочим местам – среди жужжащих, скрипящих шкивов и приводных ремней. Но не прошло и десяти минут, как управляющий привел незнакомца обратно.
– Дайте ему работу, – сказал он мастеру. – Он говорит, что с лопатой, на худой конец, умеет обращаться. На опилки, что ли, поставьте.
Хотя остальные не прервали работы, в сарае не было человека, который не следил бы за чужаком в грязной городской одежде, за его мрачной невыносимой физиономией, исполненной безмолвного холодного презрения. Мастер посмотрел на него мельком, с такой же холодностью во взгляде.
– Что же он – так в этом наряде и будет?
– Это его дело, – ответил управляющий. – Я не костюм его нанимаю.
– Да мне все равно, в чем он ходит, – дело хозяйское, – сказал мастер. – Значит, так, любезный. Ступай туда вон, возьми лопату и помоги ребятам опилки откинуть.
Пришелец повернулся, не говоря ни слова. Остальные наблюдали, как он зашел за кучу опилок, появился оттуда с совковой лопатой и принялся за работу. Управляющий с мастером разговаривали в дверях. Управляющий ушел, мастер вернулся.
– Его зовут Кристмас[6], – сказал он.
– Как его зовут? – переспросил один.
– Кристмас.
– Иностранец, что ли?
– А ты слыхал когда, чтобы белого человека звали Кристмасом? – спросил мастер.
– Я вообще не слыхал, чтоб человека так называли, – сказал другой.
И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впервые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что человек совершит, – если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали, впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес роковое предупреждение о себе – как цветок несет свой запах, как гремучая змея – гремушку. Только ни у кого из них не хватило ума понять намек. Они просто решили, что он иностранец, и весь остаток пятницы, наблюдая за тем, как он работает в своем галстуке, в своей соломенной шляпе и глаженых брюках, рассуждали между собой, что так, должно быть, работают у него на родине; некоторые, правда, сомневались и говорили: «Он переоденется. Завтра утром он не придет на работу в этом воскресном наряде».
Наступило субботнее утро. Последние, явившиеся к самому гудку, еще на ходу спрашивали: «Ну что он?.. Где?..» Остальные показывали. Новенький стоял один у кучи опилок. Рядом валялась его лопата, а он стоял во всем вчерашнем, в той же наглой шляпе, и курил сигарету. «Когда мы пришли, он был тут, – объясняли первые. – Вот так вот стоял, и все. Словно и спать не ложился».
Он ни с кем не заговаривал. И с ним никто не пытался заговорить. Но все помнили о его присутствии, об уверенной его спине (он работал очень неплохо, с сумрачным и сдержанным усердием) и руках. Наступил полдень. Все, кроме Байрона, пришли сегодня без обеда и начали собирать свои вещи, чтобы уйти уже до понедельника. Байрон один отправился в насосную, где обычно ели, и сел. Вдруг что-то заставило его поднять глаза. Невдалеке, прислонясь к столбу, курил незнакомец. Байрон понял, что он пришел раньше, и не потрудился отойти. Или еще того хуже: вошел сюда нарочно, не обращая на Байрона внимания, как на столб. «Что же, не пошабашил еще?» – спросил Байрон.
Тот выпустил дым. Потом посмотрел на Байрона. Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа – само лицо, насквозь, словно голова была отформована с холодной, страшной правильностью и потом обожжена в раскаленной печи. «Сколько здесь платят сверхурочных?» – спросил он. И тут Байрон понял. Понял, почему тот работает в выходном костюме, почему вчера и сегодня приходил без обеда, почему не кончил в полдень, как все другие. Понял так же ясно, как если бы тот сам объяснил, что у него в кармане ни гроша, что вот уже два или три дня он, судя по всему, живет на одних сигаретах. И, не успев подумать, уже протягивал свой котелок – движением таким же непроизвольным, как сама мысль. Ибо прежде, чем оно завершилось, тот, не изменив своего ленивого презрительного выражения, повернул голову и взглянул на предложенный котелок сквозь стелющийся дым сигареты. «Не хочу. Убери свой корм».
Наступило утро понедельника, и догадка Байрона подтвердилась. Тот пришел в новом комбинезоне, с завтраком в пакете. Но в полдень он не ел с остальными, сидя на корточках в насосной, и на лице его было все то же выражение. «Пускай его, – сказал мастер. – Симс не костюм его нанимал – но и не морду ведь».
«И язык его Симс не нанимал», – подумал Байрон. По крайней мере так, видимо, полагал Кристмас – и так себя вел. Говорить ему было не с кем и не о чем, даже после полугода работы. Никто не знал, чем он занимается от смены до смены. Случалось, кто-нибудь из товарищей по работе встречал его после ужина на центральной площади, и Кристмас вел себя так, будто видел его впервые. Тут он ходил в новой шляпе и глаженых брюках, с сигаретой в углу рта, и дым сигареты змеился возле его лица. Никто не знал, где он живет, где ночует, и только время от времени кто-нибудь видел его на лесной тропинке у окраины города – как будто он жил в той стороне.
Сейчас Байрон знает не только это. Это он знал тогда – слышал, наблюдал, узнавая постепенно. А тогда никто из них не знал, где живет Кристмас, чем он на самом деле занимается – за ширмой, завесой своей черной работы на фабрике. Может быть, никто бы так и не узнал, если бы не еще один новенький, Браун. А когда Браун все рассказал, человек десять сразу же признались, что третий год покупают у Кристмаса виски – встречаясь с ним ночью, один на один за старым, колониальных времен, плантаторским домом в двух милях от города, где жила в одиночестве старая дева по фамилии Берден. Но даже покупавшие виски не знали, что Кристмас живет в негритянской развалюхе на участке мисс Берден, и живет уже больше двух лет.
И вот однажды, с полгода назад, на фабрике появился еще один незнакомец, искавший работы, как некогда Кристмас. Он был тоже молодой, рослый, пришел уже в комбинезоне, который, судя по всему, довольно давно не снимал, и тоже имел вид путешествующего налегке. У него было живое, миловидно-безвольное лицо с белым шрамиком у рта, выглядевшее так, словно на него подолгу любовались в зеркало, и привычка вскидывать голову и косить через плечо, как мул, когда его догоняет машина, думал Байрон. Но это была не просто оглядка, опаска; она еще, думалось Байрону, отдавала самонадеянностью, нахальством, словно он без конца показывал и доказывал, что не боится никакой опасности, которая грозила или могла бы грозить ему сзади. И когда мастер, Муни, увидел нового работника, Байрон подумал, что мастеру пришла в голову та же мысль.
– Н-да, – сказал Муни, – тут уж Симс надежно ничего не нанял – когда брал этого молодца. Путевой пары штанов – и то не нанял.
– Вот-вот, – подхватил Байрон. – Он мне на ум приводит машину – она по улице едет, а в ней радио. И чего там радио в машине лопочет – не понять, и машина-то едет абы куда, а как поближе посмотришь – так она, оказывается, еще и пустая.
– Да, – сказал Муни. – Мне он на ум приводит жеребца. Не норовистого. А, как бы сказать, никчемного. На выгоне он – лучше некуда, а только к воротам с уздечкой подходишь – он уже еле на ногах стоит. Бегает вроде резво, а как запрягать – обязательно у него копыто больное.
– Однако кобылам он, видно, нравится, – заметил Байрон.
– Ну да, – отозвался Муни. – Он и кобыле небось не может основательно навредить.
Новый работник приступил к уборке опилок с Кристмасом. С большим шумом приступил, рассказывая всем и каждому, кто он и откуда, самим тоном и манерой изобличая свою суть – такой от них разило лживостью и морокой. Такой, что его рассказам о себе веришь не больше, чем имени, которым он назвался, думал Байрон. Не было никаких оснований сомневаться, что его зовут Джо Браун. Но, глядя на него, человек понимал, что в какую-то минуту жизни глупость у такого достигает предела и он решает сменить имя и меняет его на Джо Браун, восторгаясь и ликуя так, словно он первый его изобрел. Все дело в том, что имя ему вообще было ни к чему. Никого оно не интересовало – точно так же, думал Байрон, как никого (по крайней мере из тех, кто носит брюки) не интересовало, откуда он прибыл, куда он отбудет и надолго ли здесь задержится. Ибо откуда бы он ни прибыл, где бы ни обретался раньше, всякому было ясно, что живет он на подножном корму, как пешая саранча. И занимается этим, казалось, так давно, что весь раструсился, высыпался, и ничего от него не осталось, кроме прозрачной легковесной оболочки, мотающейся бесцельно и бездумно по воле ветра.
Впрочем, он и работал на свой манер. Его не хватало даже на то, думал Байрон, чтобы как следует, по-хитрому отлынивать. Желать этого хотя бы, – потому что искусство увиливать от дела дается лишь человеку недюжинному – как искусство в любом деле, даже в воровстве или убийстве. Нужно стремиться к определенной и ясной цели, добиваться ее. А он видел, что у Брауна и этого нет. Они узнали, как в первый же субботний вечер Браун просадил в кости весь свой недельный заработок. Байрон сказал Муни:
– Я удивляюсь. Я думал, он хоть кости умеет кидать как следует.
– Он-то? – сказал Муни. – С чего ты взял, будто он на какую-нибудь шкоду способен, если он не способен даже опилки кидать? Будто он может кого-нибудь обмануть в такой хитрой штуке, как кости, если даже с такой простой, как лопата, не может. – Потом он добавил: – Только, думаю, нет такого жалкого человека, чтобы не мог перещеголять другого хоть в одном каком-нибудь деле. А этот Кристмаса перещеголяет по крайней мере в безделье.
– Ну да, – сказал Байрон. – Я думаю, быть хорошим – самое легкое для лентяя.
– Ну, думаю, он бы живо испортился, – возразил Муни, – если бы кто его научил.
– Ну, учителя он себе найдет – не нынче, так завтра, – сказал Байрон. Оба повернулись и посмотрели на кучу опилок, где трудились Браун и Кристмас, один – с угрюмым, злым усердием, другой – с холостой и суматошливой ретивостью, которая не могла бы обмануть даже самое себя.
– Да, пожалуй, что так, – согласился Муни. – Только если бы я дурное замышлял – упаси меня Бог от такого напарничка.
Как и Кристмас, Браун явился на работу в чем был. Но, в отличие от Кристмаса, он не сразу сменил одежду.
– Как-нибудь в субботу выиграет в кости столько, сколько нужно на новый костюм, и чтобы в кармане бренчало полдоллара мелочью, – сказал Муни. – И в понедельник мы его не увидим.
Браун, однако, продолжал ходить на работу – в том же комбинезоне и в той же рубахе, в которых явился в Джефферсон – так же проигрывать в кости недельный заработок по субботам – а может, выигрывать понемногу, приветствуя и то и другое одинаково бессмысленным гоготом, – балагурить и зубоскалить с теми же людьми, которые, по всей видимости, регулярно его обирали. Как-то раз прошел слух, что он выиграл шестьдесят долларов. «Ну, можете с ним попрощаться», – сказал кто-то.
– Не знаю, – сказал Муни. – Шестьдесят долларов – не та цифра. Вот если бы десять долларов или, наоборот, пятьсот, тогда, я думаю, ты был бы прав. А шестьдесят – нет. Теперь он как раз и решит, что хорошо здесь устроился – если цапнул столько, сколько за неделю получает.
И в понедельник он действительно вышел на работу, в комбинезоне; их обоих, Брауна и Кристмаса, увидели возле кучи опилок. За парой наблюдали с того дня, как появился Браун. Кристмас всаживал лопату в опилки неторопливо и размеренно, с силой, словно крошил зарытую змею («Или человека», – сказал Муни), а Браун, бывало, стоит, опершись на лопату, и, наверно, рассказывает ему какую-то историю, анекдот. Потому что немного погодя он разражается смехом, гогочет, закинув голову, а другой продолжает работать все с тем же молчаливым, неубывающим остервенением. Затем Браун тоже берется за дело, и опять какое-то время работает не медленнее Кристмаса, но лопата его, летая по убывающей дуге, захватывает все меньше, меньше и наконец уже совсем не задевает опилок. Тогда он снова опирается на нее и, видимо, досказывает историю – досказывает человеку, который, кажется, и голоса его не слышит. Словно этот – в миле от него или говорит на непонятном языке, думал Байрон. Случалось, субботним вечером их видели в городе вместе: опрятного Кристмаса – в неизменной и строгой диагонали с белой рубашкой, в соломенной шляпе, и Брауна – в новом костюме (бежевом в красную клетку, под ним – цветная рубашка, на голове соломенная шляпа, как у Кристмаса, но с цветной лентой), и Браун болтает, гогочет, и голос его разносится по всей площади и возвращается обратно эхом, вроде того как посторонний звук в церкви, кажется, идет отовсюду одновременно. Словно хочет всем показать, какие они с Кристмасом дружки, думал Байрон. А потом Кристмас поворачивался, и как бы ни было мало скопление народу, привлеченного пустым звоном Браунова голоса, бесстрастно и хмуро выходил вон, а Браун шел за ним следом, продолжая болтать и гоготать. И каждый раз остальные рабочие говорили: «Ну, в понедельник он на работу не вернется». Но каждый понедельник он возвращался. Первым бросил Кристмас.
Он бросил работу в субботу вечером, без предупреждения, после трех без малого лет. И сообщил им об уходе Кристмаса не кто иной, как Браун. Среди рабочих были люди разного возраста, были семейные, были холостяки, образ жизни они вели самый пестрый, но в понедельник утром все выходили на работу степенно, почти торжественно. Были среди них молодые, и по субботам они пили, играли на деньги, случалось, даже ездили в Мемфис. Но в понедельник утром они выходили на работу серьезные и тихие, в чистых комбинезонах и чистых рубашках, тихо дожидались гудка и затем тихо приступали к работе, словно что-то сохранялось еще в атмосфере от воскресенья, утверждавшее как догмат, что человеку, как бы он этот праздник ни провел, надлежит и подобает являться в понедельник на работу чистым и тихим.
Вот что они всегда отмечали в Брауне. В понедельник он, как правило, выходил в той же грязной одежде, что и на прошлой неделе, и в черной щетине, не тронутой бритвой. И бывал он еще более шумным, чем всегда, кричал и выкидывал штуки впору десятилетнему. Их, серьезных, это коробило. Для них это было все равно как если бы он явился голым или пьяным. Поэтому и получилось, что именно он оповестил их в понедельник об уходе Кристмаса. Он опоздал, но не в этом дело. Он был небрит, но дело и не в этом. Он был тихий. Они не сразу и заметили, что он здесь – он, которого в другое время половина из них уже ругала бы последними словами, и кое-кто от души. Он появился с гудком, пошел прямо к куче опилок и принялся за работу, не сказав никому ни слова, хотя кто-то с ним даже заговорил. Тут-то они и увидели, что он один, что его напарника Кристмаса нет. Когда подошел мастер, кто-то сказал:
– Ну, я вижу, одним заместителем истопника у тебя стало меньше.
Муни посмотрел туда, где Браун разгребал опилки так, словно это были яйца. Он плюнул.
– Да. Чересчур быстро разбогател. Не прельстишь его такой работенкой.
– Разбогател? – переспросил другой.
– Кто-то из них – да, – сказал Муни, все еще наблюдая за Брауном. – Вчера я их видел в новой машине. Он, – Муни кивнул на Брауна, – сидел за рулем. Этому я не удивляюсь. Я удивляюсь, что и один-то вышел сегодня на работу.
– Ну, по нынешним временам, – сказал тот, – Симсу нетрудно будет найти ему замену.
– Это нетрудно было бы в любое время, – сказал Муни.
– Да он словно бы неплохо управлялся.
– А-а, – сказал Муни. – Понял. Ты про Кристмаса говоришь.
– А ты про кого? Браун тоже сказал, что уходит?
– Ты думал, он тут копать будет, пока другой катается по городу на новой машине?
– А-а. – Тот тоже посмотрел на Брауна. – Хотел бы я знать, где это они раздобыли машину.
– А я – нет, – сказал Муни. – Он в обед уйдет или до шести дотерпит – вот что я хотел бы знать.
– А что? – сказал Байрон. – Если бы я тут накопил на новую машину, я бы тоже уволился.
Несколько человек посмотрели на Байрона. Они слегка улыбнулись.
– Накопили-то они не тут, – сказал один. Байрон посмотрел на него.
– Байрон чересчур уж, видно, дурного сторонится – потому и от жизни отстает, – сказал другой. Они посмотрели на Байрона. – Браун, можно сказать, слуга народа. Кристмас заставлял их ночью тащиться в лес, за имение мисс Берден, а Браун им сам теперь таскает, прямо в город. Говорят, если знаешь пароль, то в субботу вечером в переулке можешь получить пол-литра[7] прямо у него из-за пазухи.
– А пароль какой? – сказал еще кто-то. – Доллар без четверти?
Байрон смотрел то на одного, то на другого.
– Правда? Этим они занимаются?
– Браун этим занимается. Кристмас – не знаю. За него не поручусь. Только Браун от Кристмаса далеко не отстанет. Как говорится, свой своего ищет.
– Верно, – сказал другой. – Занимается этим Кристмас или нет, нам, я думаю, не узнать. Он, как Браун, штаны спустивши, при народе гулять не будет.
– А ему и незачем, – сказал Муни, глядя на Брауна.
И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было.
– А ты чего, есть не будешь? – спросил кто-то.
– Холодные помои из сального ведерка? – сказал Браун. – С утра до вечера ишачить, как паршивому негру, и перерыв час – чтобы жрать помои из жестяного ведерка.
– Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, – сказал Муни. – Только негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые.
Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя – себя слушает.
– Дурак. Только дурак на это пойдет.
– Тебя к лопате не привязывали, – сказал Муни.
– Правильно, черт бы ее побрал, – ответил Браун.
Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам. Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату как хлыст, и тогда они видели, что он разговаривает сам с собой.
– Ну да, ему там больше не с кем потолковать, – заметил кто-то.
– Не в этом дело, – откликнулся Муни. – Он еще не совсем себя уломал. Не совсем уговорил себя.
– В чем?
– В том, что он еще дурее, чем я думал, – пояснил Муни.
На другое утро он не вышел.
– Теперь его адрес будет парикмахерская, – сказал один.
– Или проулок за парикмахерской, – сказал другой.
– Я думаю, мы еще разок его увидим, – сказал Муни. – Он придет получить за вчерашний день.
И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа, и, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристмас три года назад – словно сами былые позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем – и гибелью, как от змеи, то у Брауна получалась только расхлябанность и пустое чванство.
– Навались, рабочая скотинка! – сказал он веселым, громким, зубастым голосом.
Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались.
– Ты, случаем, не меня так назвал? А? – спросил Муни.
С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное, на живую нитку сметанное, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, – думал Байрон.
– Я не с тобой говорю, – сказал Браун.
– А-а, понял. – Голос у Муни был мирный, ласковый. – Это ты остальных назвал скотиной.
Тут же вмешался еще один:
– Так ты это про меня?
– Я сам с собой разговаривал, – сказал Браун.
– Ну вот, раз в жизни ты сказал святую правду, – согласился Муни. – То есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину?
Больше на фабрике его не видели, но Байрон знает (и вспоминает теперь), как колесил по городу – бесцельно, праздно, непрестанно – новый автомобиль (с помятыми уже крыльями) и Браун, развалясь за баранкой, без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Кристмас, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются. Среди молодых людей и даже подростков стало притчей во языцех, что виски у Брауна можно купить с ходу, и город просто ждет, когда он попадется – когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор не известно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на бутлегерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в хибарке на участке Берденов. Но даже этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Берден – а если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна в большом доме – женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию[8]. Северянка, негритянская доброхотка – до сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением – что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не зря (по крайней мере на их взгляд) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других, в их связях с вражьими тенями, и рубежом меж них – видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь.
Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она (любовь) забыла про него – про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда.
Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит готовые доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени, – до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город – вернее, те, кто помнит или думает о нем, – считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина – эта. Человек так мало знает о своих ближних. В его глазах все мужчины – или женщины – действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать как другой мужчина – или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о Банче, но городу о его сношениях с Банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется Банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок (или когда громадные серебряные часы Банча покажут, что он прогудел). Миссис Бирд, в чьем пансиончике живет Банч, знает только, что каждую субботу в начале седьмого Банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношеный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае, собственноручно им отремонтированном и перекрытом, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит, она не знает. Знает только священник Хайтауэр – что он уезжает за тридцать миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви, – служба длится весь день. Потом, около полуночи, он седлает мула и едет обратно в Джефферсон, ровной, на всю ночь заведенной трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка, в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойло мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю, поздним вечером, Банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре, – в домишке некрашеном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут, в кабинете священника, они и сидят, беседуя тихо: щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он – загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью.
И вот Байрон влюбляется. Влюбляется вопреки всем заповедям своего ревнивого и строгого деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо, как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями, еще до полуденного гудка, до того, как разошлись.
– Ну, сегодня-то Байрон уйдет, – говорили они. – Бесплатно-то пожар посмотреть.
– Пожар большой, – сказал один. – Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму давало – кроме дома Берденов.
– Может, это он и есть, – сказал другой. – Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад: спалить его надо, да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся побойчее.
– Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком? – сказал третий. Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город.
– Берден, – сказал шофер. – Ну да. Она горит. В городе говорили, что и шериф туда отправился.
– Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится.
– А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать, – сказал шофер, – то вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место.
Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюжку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону; он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув – безмятежно улыбаясь в ожидании встречи, губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек.
– Вы – не он, – говорит она с серьезным детским изумлением за гаснущей улыбкой.
– Да, – говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече. – Похоже, что не он. А он – кто?
– Лукас Берч. Мне сказали…
– Лукас Берч?
– Мне сказали, что я его тут найду. – В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести. – Когда я к городу поближе подошла, его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно. Или я расслышала неправильно.
– Нет, – отвечает он. – Так оно и есть. Банч. Байрон Банч. – Продолжая держать на плече клепки, он смотрит на нее – на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. – А вы – миссис Берч?
Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги – все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые. Но тенью в них – мысль, что он пытается ее обмануть.
– Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча, а мне говорят: «Может, тебе Банча?» – ну, я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча?
Байрон опускает свою ношу аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом.
– Не знаю. Лукаса Берча у нас нету. Я всех знаю, кто тут работает. Может быть, он в городе где работает. Или на другой фабрике.
– А есть тут другая строгальная фабрика?
– Нету. Лесопилки, правда, есть – их тут порядком.
Она наблюдает за ним.
– По дороге мне говорили, что он на строгальной фабрике работает.
– Я тут такого не знаю, – говорит Байрон. – И припомнить не могу никакого другого Берча, кроме меня, а меня зовут Банчем.
Она продолжает смотреть на него прежним взглядом, в котором не столько беспокойства за будущее, сколько недоверия к настоящему. Потом она вздыхает. Это даже не вздох, а глубокий спокойный вдох.
– Так, – говорит она. Обернувшись, она окидывает взглядом распиленные доски, штабеля брусьев. – Присяду-ка я, пожалуй. А то уж больно устаешь – по твердым мостовым ходить. Кажется, пока дошла сюда из города, больше устала, чем за всю дорогу из Алабамы. – Она направляется к низкому штабелю реек.
– Подождите, – говорит Байрон. Бросившись к ней, он сдергивает с плеча дерюжку. Женщина, уже подогнув колени, замирает, и Байрон стелит дерюжку на рейки. – Мягче будет.
– Спасибо вам большое. – Она садится.
– Так-то оно помягче, – говорит Байрон. Он вынимает из кармана серебряные часы, смотрит на них, потом садится на другой край штабеля. – Пять минут, пожалуй, будет в самый раз.
– Отдыхать пять минут? – спрашивает она.
– Пять минут как вы пришли. Я с тех пор и отдыхаю. По субботним вечерам я сам себе замечаю время, – объясняет он.
– И каждый раз, как присесть на минутку, тоже замечаете? Откуда они узнают, что вы присаживались? Минутой больше, минутой меньше – велика ли разница?
– Я так думаю, за сидение мне не платят, – говорит он. – Значит, вы из Алабамы.
Она рассказывает ему, – теперь его очередь, – грузно сидя на дерюжке, со спокойным, ясным лицом, за которым он так же спокойно наблюдает, – рассказывает больше, чем ей кажется, – как рассказывала уже многим незнакомым людям, среди которых четыре недели совершается ее путь с мирной неторопливостью смены времен года. И Байрон – в свою очередь – рисует себе историю молодой женщины, обманутой и брошенной и даже не сознающей, что она брошена, так и не успевшей сменить свою фамилию на Берч.
– Нет, видно, я его не знаю, – говорит он наконец. – Да и нет тут сейчас никого, кроме меня. Все остальные – там, наверное, на пожаре. – Он показывает на желтый столб дыма, стоящий в безветрии высоко над деревьями.
– Мы его видели, как к городу подъезжали, – говорит она. – Пожар-то уж очень большой.
– Да и дом-то большой. Он старинный. Там дама одна живет, больше никого. Думаю, кое-кто в городе будет говорить, что это Бог ее наказал – даже теперь будут. Она северянка. Ее родня приехала сюда в Реконструкцию – негров баламутить. Двоих за это и убили. Говорят, она и сейчас вожжается с неграми. Навещает их, когда заболеют, все равно как белых. Кухарку не держит – не хочет, чтобы негры прислуживали. Говорят, у ней такое мнение, будто негр белому ровня. Поэтому никто к ней и не ходит. Кроме одного. – Она наблюдает за ним, слушает. Сейчас он на нее не смотрит, избегает ее взгляда. – Или, может, двоих – так я слышал. Хоть бы они туда поспели, помогли ей мебель вынести. Может, поспели.
– Кто поспел?
– Да тут, два парня, два Джо, они где-то в той стороне живут. Джо Кристмас и Джо Браун.
– Джо Кристмас? Чудное имя.
– Он и сам чудной. – И снова он избегает ее заинтересованного взгляда. – Товарищ его – тоже фрукт. Браун. Тоже тут работал. Но уволились – оба. Потеря, однако, скажу, небольшая.
Сидя на дерюжке, женщина слушает спокойно, с интересом. Можно подумать, что это выходной день и пара, одетая в выходное, сидит на плетеных стульях перед деревенским домом, на гладкой, патиной подернутой земле.
– И товарища его зовут Джо?
– Да. Джо Браун. Но, может быть, это его настоящее имя. Потому что как подумаешь о человеке по имени Джо Браун, сразу представляешь такого пустомелю, который вечно смеется и громко разговаривает. Так что я думаю, имя настоящее, хотя Джо Браун – как-то чересчур уж скоро да просто для настоящего имени. Но, думаю, тут оно как раз настоящее. Потому что если бы ему выработку с болтовни считали, он давно бы был хозяином этой фабрики. Хотя людям он как будто нравится. По крайней мере с Кристмасом ладит.
Она наблюдает за ним. Лицо ее по-прежнему ясно, но теперь очень серьезно – взгляд очень серьезен и очень внимателен.
– А чем они с ним занимаются?
– Да ничем таким, думаю, чего бы им не полагалось. По крайней мере за руку их еще не поймали. Браун здесь вроде как работал – в свободное время, когда не смеялся и шутки над людьми не шутил. А Кристмас уволился. Они где-то там живут, там вон, где дом горит. Слышал я, чем они занимаются для заработка. Но это, во-первых, не мое дело. А во-вторых, люди друг про друга все больше неправду говорят – вот что главное. И, надо думать, я других не лучше.
Она наблюдает за ним. Она даже не мигает.
– Так он говорит, что его зовут Брауном. – Может быть, это и вопрос, но ответа она не дожидается. – А чем, вы слышали, они занимаются?
– Возводить напраслину на людей не хотел бы. Зря я, видно, так разговорился. Вот уж правда, смотрю, – стоит человеку бросить работу, тут же нечистый его попутает.
– Что вы слышали? – спрашивает она. Она не пошевелилась. Голос ее спокоен, но Байрон уже влюбился, хотя еще не знает этого. Он не смотрит на нее, чувствуя ее серьезный пристальный взгляд на своем лице, на губах.
– Толкуют здесь, будто они виски продают. Прячут его вон там, где дом горит. Говорят еще, как-то в субботу вечером Браун был в городе пьяный и чуть не сболтнул, про что болтать не следовало – как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе или на темной дороге возле Мемфиса и чего-то там с пистолетом… Не то с двумя пистолетами. Но тут же Кристмас вмешался, заткнул ему рот и увел. Словом, что-то там было такое, про что Кристмас не хотел трезвонить – да и у Брауна хватило бы ума не растрезвонить, если бы не напился. Так я слышал. Сам я при этом не был. – Подняв голову, он вдруг сознает, что опустил глаза раньше, чем встретился с ней взглядом. Он словно предугадывает уже что-то безвозвратное, непоправимое – он, веривший, что здесь, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, случая причинить другому зло или вред у него не будет.
– А каков он из себя? – спрашивает она.
– Кристмас-то? Ну…
– Я не про Кристмаса.
– А-а, Браун. Ну да. Высокий, молодой. Смуглый; женщинам он кажется интересным – по слухам, многим. Большой охотник посмеяться, подурачиться, над людьми подшутить. Но мне… – Голос его пресекся. Он не в силах поднять глаза, выдержать ее упорный вдумчивый взгляд.
– Джо Браун, – говорит она. – А нет у него такого белого шрамика вот тут, возле рта?
Он не в силах поднять глаза; он сидит на штабеле реек, но сделанного не воротишь, и он готов язык себе откусить.
3
Из окна кабинета ему видна улица. Она близко, потому что лужайка не широкая. Это – маленькая лужайка, на ней – пяток низкорослых кленов. Дом – некрашеный, бурый, скромный коттедж – тоже мал и закрыт разросшимися миртами, алтеем и садовым жасмином, если не считать просвета, через который окно смотрит на улицу. Закрыт настолько, что свет уличного фонаря на углу едва пробивается сюда.
Из окна ему видна и вывеска, которую он называет своим памятником. Она стоит в углу двора, невысокая, обращенная к улице. Продолговатая, полметра на метр, доска лицом повернута к прохожим, оборотной стороной к нему. Но ему и незачем ее читать, потому что он сам аккуратно сделал ее – при помощи молотка и пилы, сам аккуратно и тщательно вывел на ней надпись – когда понял, что ему понадобятся деньги на хлеб, на дрова и одежду. Когда он бросил семинарию, у него был небольшой доход с отцовского капитала, но, получив церковь, он свои квартальные чеки сразу же стал переводить на исправительную колонию для девочек в Мемфисе. Потом у него отняли церковь, отняли церковь, и самым горьким в жизни – горше утраты, горше стыда – было для него письмо, в котором он сообщал колонии, что отныне сможет посылать лишь половину прежней суммы.
Он продолжал переводить им половину доходов, которых и целиком едва хватало бы ему на жизнь. «К счастью, я кое-что умею», – говаривал он в то время. Отсюда – вывеска, которую он сам аккуратно сколотил и сам написал, остроумно замешав в краску битое стекло, чтобы ночью под уличным фонарем буквы по-рождественски искрились:
Преп. ГЕЙЛ ХАЙТАУЭР, Д. Б.[9]
Уроки рисования
Изготовление рождественских и поздравительных открыток
Проявление фотографий
Но минуло уже много лет, и учеников у него не было, а рождественских карточек и фотопластинок было мало, краска и дробленое стекло осыпались с полинявших букв. Их еще можно было прочесть, хотя, как и сам Хайтауэр, большинство горожан в этом не нуждалось. Лишь изредка нянька-негритянка со своими белыми питомцами останавливалась перед вывеской и читала вслух, праздно и тупо, как водится у этой досужей малограмотной публики, да приезжий, случайно попав на тихую, глухую, немощеную улочку, задерживался, чтобы прочесть надпись, и, взглянув на маленький, бурый, почти закрытый зеленью дом, шел дальше; случалось, приезжий поминал вывеску в беседе с каким-нибудь знакомым из местных: «А-а, да, – говорил тот. – Хайтауэр. Он там один живет. Приехал сюда священником пресвитерианской церкви[10], но жена ему подгадила. Повадилась тайком в Мемфис ездить, развлекалась там. Это было лет двадцать пять назад, когда они только приехали. Некоторые говорили, что он это знал. Якобы удовлетворить ее не мог или не хотел и знал, чем она занимается. И вот, в субботу ночью, в Мемфисе, ее убили – не то в публичном доме, не то еще где-то. В газетах – шум. Пришлось ему уйти из церкви, а из Джефферсона уехать он почему-то не захотел. Пробовали его заставить – для его же блага, ну и ради города, ради церкви. А церкви, понимаешь, это совсем ни к чему. Приезжают люди, слышат про такие дела, и вдобавок он из города выселяться не хочет. А он – ни в какую. И живет там – когда-то это была центральная улица – с тех самых пор один. Теперь она хотя бы не главная. И то слава Богу. Правда, теперь уж он никому не мешает, и думаю, большинство народу про него забыло. Сам по дому хозяйничает. Вряд ли кто зашел к нему в дом за двадцать пять лет. Не знаем, зачем он здесь остался. В сумерки или вечером, если идешь мимо, обязательно видишь: у окна сидит. Сидит и все. А так его и не видать почти – разве, случится, когда в саду работает».
Так что вывеска, которую он сколотил и написал, значит для него еще меньше, чем для города; он уже не воспринимает ее как вывеску, как весть. Он и не вспоминает о ней, пока в сумерки не займет свое место у окна в кабинете. А тогда это – просто привычный продолговатый предмет невысоко над уличной стороной лужайки; ничего не значащий; может быть – такое же порождение трагической неизбывной земли, как низкие раскидистые клены и кустарник, выросшие без его помощи или противодействия. Он уже и не смотрит на нее – так же, как не замечает, в сущности, деревьев, из-за которых наблюдает за улицей, дожидаясь ночи, мгновения, когда она наступит. В доме, в кабинете за его спиной, – тьма, и он ждет секунды, когда последний свет погасает в небе, и опускается ночь, и только слабым светом упорно дышит напоенная днем былинка и лист, задерживая на земле тихий свет, хотя ночь уже наступила. Теперь скоро думает он, скоро. И даже про себя не говорит: «Еще осталось что-то от гордости и чести, от жизни».
* * *
Семь лет назад, когда Байрон Банч приехал в Джефферсон и впервые увидел маленькую вывеску Гейл Хайтауэр, Д. Б. Уроки рисования. Рождественские открытки. Проявление фотографий, он подумал: «Д. Б. Что такое Д. Б.?» – и спросил об этом, и ему сказали: Дрянной Безбожник. Гейл Хайтауэр, Дрянной Безбожник, по крайней мере – для Джефферсона, – сказали ему. И как Хайтауэр приехал в Джефферсон прямо из семинарии, отказавшись от других приходов; как он пустил в ход все связи, чтобы его направили в Джефферсон. И как он прибыл с молодой женой и вышел из вагона уже в возбужденном состоянии, объясняя, рассказывая старикам и старухам – столпам церкви, что он выбрал Джефферсон с самого начала, когда еще только решил стать священником; рассказывая с каким-то ликованием о том, как писал письма, как надоедал людям, как пускал в ход все связи, чтобы его послали сюда. Местным слышалось в этом ликование барышника после выгодной сделки. То же, наверное, слышалось и старейшинам. Потому что они внимали ему холодно, изумленно, с недоверием – казалось, город как место жительства был нужен ему, а не церковь, не составляющие церковь люди, перед которыми ему предстояло служить. Словно ему безразличны были люди, живые люди, и хотят они его тут или нет. А к тому же он был еще молод, и старшие пытались охладить его радость и возбуждение разговором о серьезных церковных делах, об обязанностях их церкви и его собственных. Байрону рассказывали, что и спустя полгода молодой священник все еще был возбужден и все толковал о Гражданской войне, и убитом деде-кавалеристе, и о горевших в Джефферсоне складах генерала Гранта[11] – покуда не получалась полная каша. Байрону рассказывали, что так же он говорил и с кафедры, так же на кафедре заходился, превращая религию в непонятный сон. Не кошмар, но что-то развертывающееся быстрее, чем слова в Писании, – смерч какой-то, пренебрегающий земной опорой. И старикам, старухам это тоже не нравилось.
Будто даже на кафедре он не мог отделить религию от скачущей конницы и покойного деда, застреленного на скаку. И в личной жизни, у себя дома, тоже, наверное, не мог отделить. Наверное, даже не пытался, думал Байрон, размышляя о том, что мужчине свойственно вытворять такое с женщиной, которая ему принадлежит, что поэтому-то женщинам и приходится быть сильными, и нельзя их винить за то, что они творят с мужчинами, из-за них и ради них – ибо, видит Бог, до чего это мудреное дело – быть женой. Ему рассказывали, что жена священника была маленькая, тихая с виду девушка и городу сначала показалась бессловесной. Но в городе говорили, что, будь Хайтауэр самостоятельным человеком – человеком, каким следует быть священнику, а не таким, который родился на тридцать лет позже того единственного дня, которым он словно бы и жил всю жизнь, – дня, когда его деда застрелили на скаку, – с ней бы тоже ничего не случилось. Но он таким не был, и соседи часто слышали, как она плачет днем или поздно вечером в приходском доме, и соседи понимали, что он не знает, как помочь беде, потому что не знает, в чем беда. И как, бывало, она даже не являлась в церковь, где служил ее собственный муж – даже в воскресенье, – и люди глядели на него и недоумевали – замечает ли он хотя бы, что ее тут нет, помнит ли хотя бы, что у него вообще есть жена, когда стоит на кафедре, размахивая руками, и догма, которую он должен проповедать, вся перемешана со скачущей конницей, доблестью и поражением, – точно так же, как на улице, когда он начинал толковать им про скачущую кавалерию, она мешалась с отпущением грехов и чинами боевых серафимов, – и, разумеется, старики и старухи решили в конце концов, что эти речи, произносимые в доме Божьем, в Божий день, граничат с самым настоящим святотатством.
И Байрону рассказывали, что после года жизни в Джефферсоне лицо у жены сделалось застывшим, и когда прихожанки посещали их дом, Хайтауэр встречал их один, суетясь, без пиджака, в рубашке без воротничка, и в первую минуту казалось, что он вообще не соображает, зачем они пришли и чего от него хотят. Затем он приглашал их войти и, извинившись, исчезал. Ни звука не слышалось в доме, покуда они сидели там в своих воскресных платьях, разглядывая друг друга и комнату, прислушиваясь и не слыша ни звука. А потом он возвращался одетый, в воротничке, садился и говорил с ними о церкви и о больных, и они отвечали ему спокойно и оживленно, по-прежнему прислушиваясь и, может быть, поглядывая на дверь, может быть, гадая, известно ли ему то, что они уже считали известным.
Дамы перестали к нему ходить. Вскоре они перестали встречать его жену даже на улице. А он вел себя так, будто ничего не происходит. А потом она стала отлучаться на день или на два; люди видели, как она садится на утренний поезд, и лицо ее постепенно худело и заострялось, будто она никогда не ела досыта, и делалось застывшим, будто она не видит того, на что смотрит. А он все говорил, что она ездит навещать родню где-то на юге штата, пока в одну из ее отлучек джефферсонская женщина, приехавшая в Мемфис за покупками, не увидела ее, когда она торопливо входила в гостиницу. Вышло так, что женщина вернулась домой и рассказала об этом как раз в субботу. А на другой день Хайтауэр стоял на кафедре, и снова мешалась религия со скачущей конницей; жена вернулась в понедельник и в следующее воскресенье опять пришла в церковь – впервые за шесть или семь месяцев – и сидела отдельно сзади. После этого она стала ходить в церковь каждое воскресенье. Потом снова уехала – на этот раз среди недели (дело было в июле, в жару), и Хайтауэр сказал, что она опять поехала к родне в деревню, там прохладнее, и старики со старухами присматривались к нему, не понимая, верит ли он тому, что говорит, а молодые сплетничали за его спиной.
Но они не могли понять, верит ли он сам тому, что говорит, волнует ли его это – если путает религию с дедом, застреленным на скаку, – словно дедово семя, из которого он произрос, тоже было в ту ночь на коне и тоже было убито, и время для семени остановилось на месте, и ничего с тех пор не произошло – даже он сам.
Жена вернулась до воскресенья. Стояла жара; старики говорили, что такой жары не припомнят. В воскресенье она пришла в церковь и села на задней скамье, отдельно. Посреди проповеди она вскочила и начала визжать, кричать что-то в сторону кафедры, грозить кулаками кафедре, где ее муж умолк и, подавшись вперед, замер с поднятыми руками. Сидевшие поблизости пытались ее удержать, но она отбивалась, и Байрону рассказывали, как она стояла – уже в проходе, – визжа и грозя кулаками кафедре, где, подавшись вперед, замер ее муж с поднятой рукой и искаженным лицом, застывшим в тот миг, когда прерван был громокопытный аллегорический период. Неизвестно, кому она грозила – ему или Богу. Потом он спустился, подошел, она перестала биться, он повел ее на улицу, и все головы поворачивались вслед за ними, пока старший священник не приказал органисту играть. Во второй половине дня старейшины собрались при закрытых дверях. О чем там шла речь – неизвестно, видели только, как вернулся Хайтауэр, вошел в комнату собрания и тоже закрыл за собой дверь.
Но что там происходило, люди не знали. Знали только, что церковь собрала деньги, чтобы отправить жену в лечебницу, в санаторий, что Хайтауэр отвез ее, вернулся и в воскресенье, как всегда, произнес проповедь. Женщины, соседки – даже те, которые не заходили в дом священника несколько месяцев, – сочувствовали ему, носили еду и рассказывали друг другу и мужьям, какой кавардак в его доме и что священник, кажется, ест, как животное, – когда захочется и что попадется. Раз в две недели он навещал жену в санатории, но через день уже возвращался, а в воскресенье опять стоял на кафедре как ни в чем не бывало. Люди справлялись о ее здоровье – с любопытством и сочувствием, – и он благодарил их. А в воскресенье – опять на кафедре, неистово размахивая руками, и в неистовом восторженном голосе гремят призрачные Бог и спасение, скачущая конница и убитый дед, а внизу сидят растерянные и оскорбленные старейшины и прихожане. Осенью вернулась домой жена. Она выглядела лучше. Она пополнела. Но главная перемена заключалась не в этом. Может быть – в том, что она выглядела очистившейся; по крайней мере – проснувшейся. Словом, такой, какой ее всегда хотели видеть дамы, какой, по их убеждениям, должна быть жена священника. Она регулярно посещала церковь и молитвенные собрания, дамы бывали у нее, она – у них и сидела тихо и смирно, даже у себя дома, пока они учили ее, как надо вести хозяйство, как одеваться, чем кормить мужа.
Можно даже сказать, что они ее простили. Никакого преступления или определенного проступка не было названо, и никакой определенной епитимьи на нее не налагали. Но город не верил, что дамы забыли ее таинственные поездки с конечным пунктом в Мемфисе и целью, относительно которой все придерживались одного мнения, хотя никто не выражал его словами, не высказывал вслух, ибо город считал, что добродетельные женщины нелегко забывают хорошее или дурное – дабы не улетучился аромат и вкус прощения, этого лакомства совести. Ибо город верил, что дамы правду знают, поскольку он верил, что дурное одурачит лишь дурную женщину, так как ей временами приходится отвлекаться от своей подозрительности. Но что добродетельную женщину оно не проведет, ибо если она добродетельная, значит, ей уже нет нужды до своей или чужой добродетели, и потому она в избытке располагает временем, чтобы учуять грех. Вот почему, считали люди, добро может в любую минуту ее одурачить, и она примет его за зло, но само зло ее никогда не одурачит. Словом, через четыре или пять месяцев, когда жена опять уехала и муж опять сказал, что она уехала к родне, в городе решили, что на этот раз даже он не обманывается. Так или иначе, она вернулась, а он как ни в чем не бывало продолжал проповедовать по воскресеньям, навещать прихожан и больных и разговаривать о своей церкви. Но жена совсем не ходила в церковь, дамы перестали бывать у нее и вообще появляться в доме священника. Даже соседи по обе стороны больше не видели ее возле дома. И скоро стало так, как если бы ее вообще не было, как будто все условились, что ее тут нет, что священник у них не женат. А он проповедовал им каждое воскресенье и уже не говорил, что она поехала к родне. Может быть, он даже радовался этому, думал город. Может быть, он радовался, что ему больше не надо лгать.
Так что никто не видел, как она садилась на поезд в ту пятницу – а может, это было в субботу, в тот самый день. Увидели они лишь воскресную утреннюю газету, где говорилось, что в субботу вечером она выбросилась или упала из окна мемфисской гостиницы и разбилась насмерть. С ней в номере был мужчина. Его арестовали. Он был пьян. Они зарегистрировались как муж и жена, под вымышленными именами. Настоящее свое имя она написала на листке бумаги, который потом порвала и бросила в мусорную корзину, – там его и нашли полицейские. Оно появилось в газетной статейке: жена пастора Гейла Хайтауэра из Джефферсона, Миссисипи. И в статейке описывалось, как редакция в два часа ночи позвонила мужу и как муж сказал, что ему нечего сказать. А в воскресенье утром, когда люди подошли к церкви, двор был забит мемфисскими репортерами, снимавшими церковь и дом священника. Потом появился Хайтауэр. Репортеры пытались остановить его, но он прошел прямо сквозь них к церкви и там – на кафедру. В церкви уже находились старые дамы и кое-кто из стариков, оскорбленные и возмущенные – не столько мемфисской историей, сколько присутствием репортеров. Но когда появился Хайтауэр и у них на глазах взошел на кафедру, они забыли даже о репортерах. Первыми поднялись и стали уходить дамы. Потом поднялись старики, и в церкви остался только священник, который стоял на кафедре, чуть подавшись вперед и упершись руками в аналой с раскрытой Библией, но даже не опустив головы, и сидевшие рядком на задней скамье мемфисские репортеры (они вошли в церковь за ним). Говорят, он не следил за тем, как уходит его паства, он не смотрел ни на что.
Байрону рассказывали: священник наконец осторожно закрыл Библию, спустился в пустую церковь, прошел по проходу, ни разу не взглянув на репортеров – так же, как не глядели на них прихожане, – и вышел в дверь. Там, расставив фотоаппараты и спрятав головы под черные покрывала, караулили фотографы. Священник, наверно, предвидел это. Потому что он вышел из церкви, заслонив лицо раскрытым Псалтирем. Но и фотографы, наверно, это предвидели. Потому что они перехитрили его. Видно, он был еще неопытный и его легко было перехитрить, объясняли Байрону. У одного фотографа аппарат стоял сбоку, и священник вообще не заметил его – или заметил слишком поздно. Он прятал лицо от того, что стоял впереди, и появившийся на другой день снимок был сделан сбоку: священник на ходу загораживает лицо книгой. А рот за книгой растянут, словно в улыбке. Но губы плотно сжаты, и лицо напоминает лицо Сатаны на старых гравюрах. На другой день он привез жену и похоронил. Город собрался на похороны. Но заупокойной службы не было. Он даже не перенес тело в церковь. Он отвез его прямо на кладбище и уже собрался сам читать отходную, когда вышел другой священник и отобрал у него Библию. Многие люди, те, что помоложе, остались и смотрели на могилу, когда он и другие ушли.
Затем даже в соседних приходах стало известно, что церковь просила его уйти и что он отказался. В следующее воскресенье собралось множество любопытных из других приходов. Он появился и вошел в церковь. Вся паства встала как один и вышла, оставив священника с чужими, пришедшими будто на спектакль. И он проповедовал им, как проповедовал всегда, – с яростным увлечением, которое свои считали святотатством, а эти, пришлые, восприняли как полнейшее безумие.
Он не желал уйти. Старейшины попросили церковный совет отозвать его. Но после заметки в газете, фотографий и прочего Хайтауэра не принял бы ни один город. Против него лично никто ничего не имеет, твердили все. Он просто родился невезучим. А в церковь совсем перестали ходить – даже люди из других приходов, первое время забредавшие сюда из любопытства: теперь его служба не была даже спектаклем – только надругательством. Однако каждое воскресное утро в урочный час он приходил в церковь, поднимался на кафедру, и паства вставала и уходила, а бездельники, зеваки выстраивались на улице и слушали, как он проповедует и молится в пустой церкви. И однажды в воскресенье, когда он пришел, дверь оказалась запертой, и зеваки видели, как он подергал дверь, и покорился, и продолжал стоять, так и не опустив головы, под взглядами выстроившихся вдоль улицы мужчин, которые вообще не ходили в церковь, и мальчишек, которые не знали, в чем дело, но что-то чувствовали и останавливались, глазея на человека, неподвижно стоявшего перед запертой дверью. На другой день город услышал, что он явился к старейшинам и отказался от кафедры для блага церкви.
Город радовался, жалея, – как жалеют порой того, кого заставили наконец подчиниться своей воле. Думали, конечно, что теперь он уедет из города, и церковь собрала деньги, чтобы он мог уехать и обосноваться на новом месте. А он не пожелал покинуть город. Байрону рассказывали, как все были потрясены – уже не просто оскорблены, – когда стало известно, что он купил этот домик на глухой улице, где живет и по сей день; и старейшины снова собрались на совет, потому что, говорили они, деньги даны ему на отъезд, и раз он потратил их на другое, значит, он получил их обманным путем. Явившись к нему домой, они ему так и сказали. Священник просил извинить его; он вернулся в комнату и принес все деньги, которые были ему выданы, точно до последнего цента и в тех же точно купюрах, и настаивал, чтобы они их взяли. Но они отказались, а он не пожелал объяснить, где он достал деньги на покупку дома. Так что на другой день, как рассказывали Байрону, некоторые стали утверждать, будто он застраховал жизнь жены, а потом нанял убийц. Но все понимали, что это неправда, – и тот, кто рассказывал или повторял это, и тот, кто слушал.
А он не желал уезжать из города. И в один прекрасный день горожане увидели маленькую вывеску, которую он сам сколотил, написал и повесил на дворе, и поняли, что он действительно решил остаться. Он по-прежнему держал кухарку, негритянку. Она работала у него с самого начала. И вот, рассказывали Байрону, когда жена умерла, все вдруг сообразили, что негритянка – женщина и что эта женщина-негритянка целый день одна с ним в доме. И не успел еще, кажется, остыть труп жены в позорной могиле, как поползли слухи. Он, мол, нарочно развратил жену и довел до самоубийства, потому что он – противоестественный муж, противоестественный мужчина, и все – из-за негритянки. И большего не понадобилось; только этого и не хватало. Байрон слушал молча и думал про себя, что люди, в общем, всюду одинаковы, но, видно, в маленьком городке, где зло осуществить труднее, где возможностей скрытничать меньше, люди зато могут придумать больше зла – приписав его другому. Потому что этого хватило: одной мыслишки, одного-единственного праздного слова, передававшегося из уст в уста. Кухарка отказалась от места. Прошел слух, будто однажды ночью к священнику явились люди в небрежно надетых масках и велели ее уволить. Потом прошел слух, будто на другой день кухарка говорила, что уволилась сама: хозяин якобы просил ее сделать что-то противное Богу и естеству. И говорили, будто какие-то люди в масках припугнули ее, чтобы она уволилась, поскольку она была, что называется, светло-каряя, а в городе нашлось бы три-четыре человека, которые, что называется, возражали бы, если бы она совершила какой-то поступок, казавшийся ей противным Богу и естеству, ибо, как говорили некоторые люди помоложе, если уж черной бабе он кажется противным Богу и естеству, то это, надо думать, довольно пакостный поступок. Как бы там ни было, Хайтауэр не мог найти – или не искал – другую кухарку. Может быть, той же ночью те же люди припугнули и всех остальных негритянок в городе. Он готовил себе сам, но в один прекрасный день разнесся слух, что он нанял повара-негра. И этим, понятно, себя доконал. Потому что в тот же вечер какие-то люди, без масок даже, вытащили этого негра из дому и выпороли. А наутро, когда Хайтауэр проснулся, окно его кабинета было разбито и на полу лежал кирпич с привязанной к нему запиской, требовавшей, чтобы до заката он убрался из города, и подписанной К. К. К.[12] Но он не уехал, и на другое утро его нашли в лесу, в миле от города. Он был привязан к дереву и избит до потери сознания.
Он не захотел сказать, кто это сделал. Город понимал, что так не годится; к нему пришли несколько человек и опять пытались убедить его, для его же блага, покинуть город, говоря, что в следующий раз его могут убить. Но он отказался уехать. Об избиении он даже разговаривать не хотел – даже когда ему предложили подать на обидчиков в суд. Он не хотел ни того ни другого. Ни рассказывать не хотел, ни уезжать. И вдруг буря улеглась. Как будто город понял наконец, что священник будет частью его жизни, пока не умрет, и лучше всего с этим примириться. Как будто, думал Байрон, вся эта история была пьесой, разыгранной множеством людей, и теперь, доиграв назначенные им роли, они могли спокойно жить друг с другом. Священника оставили в покое. Его видели за работой в саду или на дворе, встречали на улице или в магазине с корзинкой в руке и с ним заговаривали. Знали, что он сам стряпает и ведет хозяйство, и вскоре соседи снова начали посылать ему еду, хотя еда была такая, какую они посылали бы бедной фабричной семье. Но все же – еда, и от чистого сердца. Потому что, думал Байрон, люди многое забывают за двадцать лет. «Ведь, кроме меня, пожалуй, – думает он, – никто в Джефферсоне не знает, что он у окна сидит с заката до темноты. И каков его дом внутри. И не знают даже, что я знаю, – не то, верно, нас обоих бы вытащили и избили, как в тот раз, – потому что забывчивость людская, видно, так же коротка, как память». Потому что еще одно довелось увидеть и узнать Байрону в нерабочее время с тех пор, как он поселился в Джефферсоне.
Хайтауэр много читал. То есть Байрон вдумчиво, с почтительной робостью рассматривал стены, заставленные книгами – книгами по религии, истории и по естественным наукам, о самом существовании которых Байрон никогда не слыхал. Однажды, года четыре назад, к священнику прибежал негр, живший в хибарке на краю города, прямо за домом, и сказал, что его жена рожает. У Хайтауэра не было телефона, он посоветовал негру сбегать к соседу и вызвать врача. Он видел, как негр подошел к воротам соседнего дома. Но не вошел, а, постояв там, двинулся по улице в город – пешком. Хайтауэр знал, что он будет идти пешком всю дорогу до самого города и там, по негритянской своей нерасторопности и неведению времени, потратит, наверное, еще полчаса на поиски врача – вместо того чтобы попросить какую-нибудь белую женщину позвонить по телефону. Он подошел к кухонной двери и услышал, как воет в хибарке неподалеку женщина. Он не стал больше ждать. Он побежал туда и обнаружил, что негритянка слезла с кровати – почему, он так и не узнал – и, стоя на четвереньках, визжа и воя, пытается взобраться с пола обратно на кровать. Он поднял женщину на кровать, велел лежать тихо, припугнув ее, чтобы слушалась, побежал домой, снял с полки в кабинете книгу, взял бритву и шнурок, снова побежал к хибарке и принял младенца. Но младенец был уже мертвый; пришедший с опозданием врач сказал, что она, несомненно, придавила его, слезая с кровати на пол, где ее застал Хайтауэр. Действия Хайтауэра он одобрил, и муж тоже был удовлетворен.
«Но слишком свежа была еще та история, – подумал Байрон, – хотя прошло целых пятнадцать лет». Потому что уже на третий день поползла сплетня, будто ребенок был от Хайтауэра и он нарочно дал ему умереть. Байрон думал, что сами сплетники не верят в то, что говорят. Он думал, что слишком давней была привычка сочинять про опозоренного священника небылицы, которым город сам не верил, – настолько давней, что от нее уже не могли избавиться. «Потому что каждый раз, – думает он, – когда что-то входит в привычку, оно почему-то далеко уходит от правды и действительности». И он помнит тот вечер, когда в разговоре с ним Хайтауэр сказал: «Они хорошие люди. Они должны верить тому, чему должны верить, тем более что именно я одно время был в вере их наставником и слугой. И поэтому не мне оскорблять их веру, не Байрону Банчу говорить, что они не правы. Ибо единственное, на что может надеяться человек, – это чтобы ему было позволено спокойно жить среди собратьев». Это было вскоре после того, как Байрон узнал его историю, вскоре после того, как начались его вечерние визиты к Хайтауэру, и Байрон все еще недоумевал, почему тот остается в Джефферсоне, чуть ли не на виду, чуть ли не на слуху у церкви, которая изгнала его и отвергла. Однажды вечером Байрон спросил об этом.
– А почему вы субботними вечерами работаете на фабрике, когда другие развлекаются в городе? – спросил Хайтауэр.
– Не знаю, – ответил Байрон. – Такая уж, видно, моя жизнь.
– Ну и моя, видно, жизнь такая, – сказал тот.
«Но теперь-то я знаю почему, – думает Байрон. – Потому что не так страшна человеку беда, которая случилась, как та, которая может случиться. За привычную беду он цепляться будет – лишь бы ничего не менять. Да. Человек будет говорить, как бы он хотел скрыться от живых людей. Но вредят ему мертвые. От мертвых, что тихо лежат на месте и не пытаются его удержать, – вот от кого ему не скрыться».
Они уже прогремели мимо и беззвучно вломились в сумрак; ночь наступила. Но он по-прежнему сидит у окна, и за спиной его в кабинете по-прежнему темно. Фонарь на углу помаргивает и блещет, и обкусанные тени кленов как будто парят в безветренной августовской тьме. Издалека, очень тихо, но очень внятно доносится слитное церковное пение; звук, строгий и вместе с тем глубокий, смиренный и гордый, накатывается и замирает в недвижной августовской тьме, как волны прибоя.
Затем он видит, что по улице приближается человек. В будний вечер он узнал бы его – по фигуре, осанке, походке. Но в воскресный вечер, когда эхо мнимых копыт еще беззвучно ломится в затопленный тьмой кабинет, он спокойно наблюдает мелкую пешую фигуру, движущуюся с мишурной, ненадежной ловкостью прямоходящих животных – той ловкостью, которой животное человек так глупо гордится и которая неизменно подводит его – по вине ли природных явлений, как, например, тяжести и льда, или посторонних предметов, им же самим изобретенных, вроде автомобилей и мебели в темноте или остатков его же пищи на полу и тротуаре; и он спокойно думает, как правы были древние, сделав лошадь атрибутом и эмблемой воинов и королей, и в это время видит, что человек миновал вывеску, свернул в его ворота и приближается к дому. Подавшись вперед, он смотрит, как человек идет по темной дорожке к темной двери, он слышит, как человек шумно спотыкается о темную ступеньку. «Байрон Банч, – говорит он. – В воскресный вечер в городе. Байрон Банч в воскресенье в городе».
4
Они сидят и смотрят друг на друга через письменный стол. Теперь кабинет освещен – настольной лампой под зеленым абажуром. Хайтауэр сидит в старинном вращающемся кресле, Байрон – напротив него, на стуле. Лица их заслонены от прямого света абажуром. Через открытое окно доносится пение из далекой церкви. Байрон говорит ровным, монотонным голосом:
– Странная вышла история. Я думал: где-где, а уж там, на фабрике, в субботу вечером, у человека не будет случая причинить кому-нибудь вред. Да еще когда этот дом горит, можно сказать, прямо у меня под носом. И вроде, пока обедал, нет-нет да и подыму голову, посмотрю на этот дым и думаю: «Ну сегодня-то вечером я тут ни души не увижу. Сегодня вечером мне уж никто не помешает». Потом поднял голову – глядь, она стоит, и уже улыбаться собралась, уже губы сложила, чтобы его имя назвать, и тут видит, что я не тот. А я ничего лучше не придумал, как все ей выболтать. – На лице его появляется легкая гримаса. Это не улыбка: только верхняя губа приподнимается на миг, и движение это, даже морщинки на коже, не идет дальше, а тут же прекращается. – У меня тогда и в мыслях не было, что самого-то плохого я еще не знаю.
– Да, странная должна быть история, если Байрон Банч остался на воскресенье в городе, – говорит Хайтауэр. – Однако она его искала. А вы ей помогли его найти. Разве вы сделали не то, чего она хотела, ради чего шла сюда из Алабамы?
– Да уж, это я ей сказал. Что и говорить. Смотрит на меня, сидит с большим своим животом и смотрит, а глаза такие, что и захочешь – не соврешь. Ну и болтаю – хотя дым этот прямо перед глазами, словно нарочно там зажгли, предупредить меня, чтобы язык не распускал, – да не хватило ума догадаться.
– А-а, – говорит Хайтауэр. – Это дом, что вчера горел. Но я не вижу связи между… Чей это дом? Я тоже видел дым и еще спросил прохожего негра, но он не знал.
– Берденов старый дом, – отвечает Байрон. Он смотрит на священника. Они смотрят друг на друга. Хайтауэр – высокий мужчина, и когда-то был худым. Но теперь он не худой. Кожа у него – цвета мучного мешка, и торс, похожий на плохо наполненный мешок, свисает под собственной тяжестью с худых плеч на колени. Потом Байрон говорит: – Вы еще не слышали. – Священник смотрит на него. Байрон задумчиво говорит: – Значит, и это на меня ложится. За два дня двоим людям сказать то, чего им не захочется слышать, чего им по-настоящему и слышать бы не нужно.
– Что же это такое, чего я, по-вашему, не захочу услышать? Чего это такого я не слышал?
– Не про пожар, – отвечает Байрон. – Они-то из огня выбрались.
– Они? Я думал, мисс Берден живет одна.
Снова Байрон останавливает на нем взгляд. Но лицо Хайтауэра выражает лишь серьезность и интерес.
– Браун и Кристмас, – говорит Байрон. Лицо Хайтауэра все еще не меняется. – Вы даже об этом не слышали, – говорит Байрон. – Они там жили.
– Жили там? Снимали комнаты?
– Нет. В старой негритянской хибарке за домом. Кристмас отремонтировал ее три года назад. С тех пор и жил там – а люди голову ломали, где он ночует. Потом, когда сошелся с Брауном, пустил его к себе.
– А-а, – сказал Хайтауэр. – Но я не понимаю… Если им было удобно, и мисс Берден не…
– Думаю, они ладили. Они продавали виски, а старая усадьба была у них вроде штаба и для отвода глаз. Не думаю, что она про это знала – про виски. Люди по крайней мере не знают, знала она или нет. Говорят, Кристмас начинал один три года назад и продавал с оглядкой, только постоянным покупателям, которые даже друг друга не знали. А когда он взял в долю Брауна, Браун, видно, захотел расширить дело. Продавал четвертинками из-за пазухи, прямо в переулке, кому попало. То есть продавал, чего сам не допил. А как они добывали виски на продажу – это тоже дело темное. Потому что недели через две после того, как Браун ушел с фабрики и нашел себе другую работу – кататься на ихней новой машине, – в субботу вечером он был в городе выпивши и хвастался перед народом в парикмахерской, как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе, не то на дороге под Мемфисом. И чего-то про эту машину, спрятанную в кустах, и про Кристмаса с пистолетом, а потом – все про какой-то грузовик и четыреста литров, но тут Кристмас вошел и сразу к нему, выдернул его из кресла. И говорит тихим голосом, не то чтобы ласково, но и без злости: «Тебе поменьше надо пить этой джефферсонской воды для волос. Она тебе в голову ударила. Оглянуться не успеешь, как усы появятся». Одной рукой держит Брауна, а другой по лицу хлещет. И хлещет вроде не сильно. Но красное, говорят, даже сквозь баки у Брауна было видно – когда Кристмас руку отводил. «Выйди, свежим воздухом подыши, – Кристмас говорит. – Людей от работы отвлекаешь». – Байрон задумывается. Потом говорит: – И нате вам – она; сидит на рейках и смотрит на меня, я ей все это расписываю, а она смотрит. А потом говорит: «А нет ли у него такого белого шрамика возле рта?»
– Значит, это Браун, – говорит Хайтауэр. Он сидит неподвижно, глядя на Байрона со спокойным изумлением. В нем нет никакой воинственности, никакого праведного негодования. Как будто речь идет о жителях другой планеты. – Ее муж бутлегер. Так, так, так. – И Байрон различает в лице священника что-то дремлющее, близкое к пробуждению, самим Хайтауэром еще не осознанное – как если бы что-то внутри человека пыталось предупредить его или подготовить. Но Байрону в этом видится лишь отражение того, что он сам уже знает и собирается сказать.
– Словом, я и оглянуться не успел, как все ей выложил. Прямо язык себе готов был откусить – и притом ведь не знал еще, что это – не все. – Теперь он не смотрит на собеседника. За окном тихо, но внятно в вечерней тишине слышатся из далекой церкви согласные звуки органа и пения. А он, интересно, слышит? думает Байрон Или он слушал это так долго и так часто, что и не слышит больше? И ему уже не нужно не слушать? – Сидела там весь вечер, пока я работал, и уж дым пропал, а я все придумываю, что ей сказать, что делать. Она хотела прямо туда идти и чтобы я ей сказал дорогу. А когда я ей сказал, что дотуда две мили, она только улыбнулась, словно я ребенок или еще кто. «Я пришла из Алабамы, – говорит. – Подумаешь, еще две мили». Тогда я ей говорю… – Голос его обрывается. Он как будто разглядывает пол под ногами. Он поднимает глаза. – Я, наверно, соврал. Только это не совсем вранье. Я ведь знал, что там люди собрались, на пожар смотрят, а она придет и будет про него спрашивать. А остального я и сам тогда не знал. Главного-то. Самого худшего. Ну и сказал ей, что он занят своей работой и лучше всего его искать в центре, после шести. Это как раз правда. Ведь он небось работой это называет – таскать свои холодные бутылочки нагишом на груди, и если его на площади нет, значит, он идет сюда, только задержался или в переулок на минуту отошел. Словом, уговорил я ее подождать, она сидит, а я работаю и голову ломаю, что делать. Как подумаешь, что я тогда знал, из-за чего беспокоился, – теперь, когда остальное знаю, кажется, и беспокоиться было не из-за чего. Весь день думаю, как было бы просто, если бы снова сделался вчерашний день и никаких других забот не было, кроме вчерашних.
– Не понимаю все-таки, о чем вам беспокоиться, – говорит Хайтауэр. – Вина не ваша, что он такой, какой он есть, и что она такая. Вы сделали что могли. Все, что можно требовать от постороннего. Если, конечно… – Его голос тоже обрывается. Он замирает на этом переходе – словно праздное рассуждение стало мыслью, а затем – чем-то вроде участия. Напротив него сидит неподвижно Байрон, потупив серьезное лицо. А напротив Байрона Хайтауэр еще не думает любовь. Он только помнит, что Байрон еще молод и провел жизнь в воздержании и тяжелом труде и что, судя по рассказу Байрона, женщина, которой он сам не видел, вызывает какое-то волнение по меньшей мере, хотя Байрон продолжает считать его просто жалостью. И теперь он смотрит на Байрона не холодно и не ласково, а испытующе; Байрон между тем монотонно продолжает рассказ: как к шести часам он все еще не мог ни на что решиться и как, подходя с Линой к площади, он по-прежнему был в нерешительности. И когда Байрон тихо говорит, рассказывает о том, как уже на площади он решил отвести Лину в дом миссис Бирд, на озадаченном лице Хайтауэра выражается опаска, дурное предчувствие. А Байрон рассказывает тихо, думает, вспоминает. Словно разлилось что-то в воздухе, в вечере, сделав знакомые лица людей непривычными, и он – еще ничего не услышав, не зная даже, что произошло событие, после которого прошлое его затруднение покажется детским, – понял раньше, чем узнал о происшедшем, что Лина об этом слышать не должна. Без всякой подсказки было ясно, что он таки нашел пропавшего Лукаса Берча; теперь ему казалось, что только полнейшая тупость и скудоумие помешали ему это понять. Ему казалось, что сама судьба, случай предупреждали его весь день, воздвигнув этот столб желтого дыма, а он по глупости не разгадал знамения. И вот он не давал им говорить – встречным людям, самому воздуху, который был этим полон, – только бы не услышала Лина. Возможно, он тогда уже понимал, что рано или поздно ей придется об этом узнать, услышать, что в каком-то смысле это – ее право. Просто ему казалось, что если ему удастся провести ее через площадь домой, с него будет снята ответственность. Не за зло, за которое он считал себя ответственным – по той простой причине, что провел с ней вечер, когда оно творилось, что был избран случаем представлять Джефферсон, куда она добиралась тридцать дней, пешком, без денег. Он не имел ни намерения, ни надежды уклониться от этой ответственности. Он хотел только оттянуть, для себя и для нее, миг удивления и ужаса. Он рассказывает об этом тихо, ровным, невыразительным голосом, запинаясь, понурив голову, и Хайтауэр смотрит на него через стол, слушает по-прежнему с опаской и неохотой.
Наконец они оказались у пансиона и вошли. И в ней как будто тоже проснулось дурное предчувствие: стоя с ним в передней и внимательно глядя на него, она впервые заговорила:
– Что это они все хотели вам сказать? Что там стряслось на пожаре?
– Да так, ничего, – ответил он, и собственный голос показался ему пустым и скучным. – Мисс Берден будто бы поранилась.
– Как поранилась? Сильно поранилась?
– Да нет вроде. Может, и не поранилась вовсе. Скорей всего болтают просто. Что в голову взбредет. – Он не мог посмотреть на нее, выдержать ее взгляд. Но чувствовал, что она наблюдает за ним, и будто слышал несметный гомон: голоса, приглушенные, напряженные голоса по всему городу, на площади, через которую он торопливо ее вел, – повсюду, где люди собирались среди мирных, привычных огней и разговаривали о том самом. В доме, казалось, тоже царили привычные звуки, но главным образом – оторопь, чудовищное оцепенение, и, глядя в тускло освещенную переднюю, он думал Чего же она не идет. Чего же она не идет Наконец миссис Бирд пришла: уютная, с красными руками и растрепанными седоватыми волосами.
– Это миссис Берч, – сказал он. Взгляд его, настойчивый, упорный, почти горел. – Она из Алабамы, только что пришла в город. Надеется встретить тут своего мужа. Его еще нет. Вот я ее и привел, пускай передохнет немного, пока ее не втянули в эти городские передряги. Она еще в городе не была, ни с кем не разговаривала – я и подумал, может, вы ее где-нибудь устроите отдохнуть, пока ее не начали донимать разговорами и… – Голос его, упорный, настойчивый, повторяющий одно и то же, пресекся, замер. Ему показалось, что она поняла его. Позже он сообразил, что не по его просьбе она умолчала о новостях, которые – он был уверен в этом – до нее уже дошли, а потому что обратила внимание на беременность и воздержалась бы от рассказа в любом случае. Она измерила Лину коротким пронзительным взглядом, как это делали в течение вот уже четырех недель другие незнакомые женщины.
– Сколько она думает пробыть? – спросила миссис Бирд.
– Ночи две, – сказал Байрон. – Может, только сегодняшнюю. Надеется встретить тут мужа. Она только что пришла и не успела еще спросить, разузнать… – Тон его был все так же настойчив, многозначителен. Теперь миссис Бирд наблюдала за ним. Он думал, что она все еще пытается понять его намек. Она же, наблюдая, как он путается в словах, думала (или готова была подумать), что его замешательство имеет совсем другой смысл и причину. Затем она снова взглянула на Лину. Нельзя сказать, что холодно. Но без теплоты.
– По-моему, ей ни к чему сразу куда-то тащиться, – сказала она.
– Вот и я так думаю, – живо подхватил Байрон. – Тут эти волнения, разговоры – ей придется слушать, а она к этим волнениям, разговорам не привыкла… Если у вас сегодня все занято, может, ее в мою комнату поселить?
– Да, – сразу откликнулась миссис Бирд. – Вы ведь все равно сейчас уедете. Хотите, чтобы она в вашей комнате пожила до понедельника, пока вы не вернетесь?
– Сегодня я не поеду, – сказал Байрон. Он не отвел глаза. – В этот раз не смогу. – Он выдержал ее холодный и уже недоверчивый взгляд, надеясь, что она прочтет в его ответном взгляде то, что там есть, а не то, что она ему припишет. Говорят, будто обман удается опытному лжецу. Но часто опытный, закоренелый лжец обманывает одного себя; легче всего верят лжи человека, который всю жизнь был каторжником собственной правдивости.
– Ага, – сказала миссис Бирд. Она опять посмотрела на Лину. – У нее нет знакомых в Джефферсоне?
– Она тут никого не знает, – сказал Байрон. – Знакомые у ней – все в Алабаме. Мистер Берч, наверное, утром появится.
– Ага, – сказала миссис Бирд. – А вы где ляжете? – Но ответа она не дождалась. – Пожалуй, я ей сегодня поставлю койку у себя в комнате. Если она не против.
– Прекрасно, – сказал Байрон. – Прекрасно.
Когда позвонили к ужину, он уже был наготове. Он улучил время переговорить с миссис Бирд. Ложь для этого он сочинял дольше, чем все предыдущее. Но она оказалась ненужной; то, что он хотел скрыть, само послужило себе прикрытием.
– Мужчины будут говорить об этом за столом, – сказала миссис Бирд. – Я думаю, женщине в ее положении (притом разыскивающей мужа по фамилии Берч, – едко заметила она про себя) незачем больше слушать про мужское шалопутство. Приведете ее позже, когда они поедят.
Байрон так и сделал. Лина опять ела прилежно, с тем же серьезным, чинным прилежанием и, не успев кончить, почти уснула над тарелкой.
– Устаешь больно путешествовать-то, – объяснила она.
– Поди посиди в гостиной, пока я тебе койку постелю, – сказала миссис Бирд.
– Я хочу помочь, – сказала Лина. Но даже Байрон видел, что она не хочет: сон валил ее с ног.
– Поди посиди в гостиной, – сказала миссис Бирд. – Я думаю, мистер Банч не откажется побыть с тобой минутку-другую.
– Я боялся оставить ее одну, – говорит Байрон. По ту сторону стола Хайтауэр не пошевелился. – И вот, когда мы там сидели, как раз в это время все выходило наружу, как раз в это время Браун у шерифа все рассказывал – про себя, про Кристмаса, про виски и про все остальное. Только виски было не такой уж новостью – с тех пор, как он взял Брауна в напарники. Я думаю, люди только одного не могли понять: почему он вообще связался с Брауном. Может быть – потому, что свой своего не только ищет, ему попросту не укрыться от своего. Даже когда у своих общего – только одно; потому что даже эти двое со своим общим были разными. Кристмас шел против закона, чтобы заработать, а Браун шел против закона потому, что у него ума не хватало понять, на что он идет. Как в тот вечер в парикмахерской, когда он горланил спьяну, покуда Кристмас не прибежал и не уволок его. А мистер Макси[13] сказал: «Как вы думаете, чего это он сейчас чуть не наговорил на себя и на того?» – а капитан Мак-Лендон отвечает: «Я вообще про это не думаю», – тогда мистер Макси говорит: «Вы думаете, они правда ограбили чужой грузовик со спиртным?» И Мак-Лендон говорит: «А вас бы не удивило, если бы вам сказали, что за этим Кристмасом не водилось грехов похуже?»
Вот про что Браун рассказывал вчера вечером. Но это все знали. Давно уже говорили, что не мешало бы все-таки предупредить мисс Берден. Только, думаю, охотников не было идти туда предупреждать – никто ведь не знал, чем это кончится. Думаю, кое-кто из местных ни разу в жизни ее не видал. Я, пожалуй, тоже не захотел бы идти в этот старый дом – да никто к ней и не ходил, иногда только проезжие с повозки видели, как она на дворе стоит, в таком чепце и платье, что и негритянка не каждая наденет – до того страшны. А может, она и сама знала. И, может, была не против – раз она северянка и всякое такое. И кто ее знает, чем это могло кончиться.
Словом, боялся я оставить ее одну, пока она не ляжет. Я сразу хотел к вам пойти, в тот же вечер. Но оставить ее боялся. Жильцы по передней ходят туда-сюда – думаю, еще взбредет кому-нибудь в голову подойти – заведут про это разговор и все ей выложат; уж слышу, они про это на крыльце говорят, а она все смотрит на меня, и по лицу видно, что опять хочет спросить про пожар. Поэтому и боялся ее оставить. Сидим мы в гостиной, глаза у нее слипаются, а я ей все толкую, что найду его непременно, только мне надо пойти поговорить со знакомым священником, который может в этом деле помочь. Я ей твержу, а она сидит, глаза закрыла и не знает, что я знаю, что они с этим парнем еще не женаты. Она думала, что всех обманула. И спрашивает меня, что это за человек, которому я хочу про нее рассказать; я ей отвечаю, а она сидит с закрытыми глазами, и в конце концов я ей говорю: «Вы ни слова не слышали, что я вам говорил», – тут она вроде как встрепенулась, правда, глаз не открыла, и спрашивает: «А женить он еще может?» – я говорю: «Чего? Чего может?» – «Священник-то он, – говорит, – настоящий? Может еще женить?»
Хайтауэр не шелохнулся. Он сидит за столом выпрямившись, руки лежат параллельно на ручках кресла. Пиджака на нем нет; рубашка – без воротничка. Лицо у него худое и вместе с тем дряблое, словно два лица, наложенные друг на друга, смотрят из-под бледной лысой черепной коробки с венчиком седых волос, из-за пары неподвижно блестящих окуляров. Часть торса, возвышающаяся над столом, оплыла, она обезображена рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрягся; опаска, желание уклониться явственно написаны на его лице.
– Байрон, – говорит он, – Байрон, что это вы мне рассказываете?
Байрон умолкает. Он тихо смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости.
– Я знал, что вы еще не слышали. Знал, что это на меня ляжет – рассказать вам.
– Чего же я еще не слышал?
– Про Кристмаса. Про вчерашнее и про Кристмаса. В Кристмасе есть негритянская кровь. Про него, и Брауна, и про вчерашнее.
– Негритянская кровь, – говорит Хайтауэр. Голос его звучит легковесно, буднично – как будто перышко беззвучно и невесомо падает в тишину. Он не шевелится. Не шевелится еще несколько мгновений. Затем кажется, что всем его телом овладевает – словно части его подвижны, как черты лица, – это желание уклониться, отвести от себя опасность, и Байрон видит, что его большое, вялое, застывшее лицо вдруг залоснилось от пота. Но тон его легковесен, спокоен. – Что про Кристмаса, Брауна и вчерашнее? – произносит он.
Музыка в далекой церкви давно смолкла. В комнате слышен лишь настойчивый звон насекомых да монотонный голос Байрона. Выпрямившись, сидит за столом Хайтауэр. С параллельно лежащими на подлокотниках ладонями, до пояса скрытый столом, он напоминает восточного идола.
– Это было вчера утром. Один деревенский с семьей ехал в город на повозке. Он первый увидел пожар. Нет, он попал туда вторым, потому что, говорит, там уже был один человек, когда он взломал дверь. Говорит, что, когда они увидели дом, он сказал жене: больно уж много дыму идет из кухни, – потом они проехали еще немного, и жена сказала: «Дом горит». И, думаю, он, наверно, остановил повозку, и они посидели немного в повозке, поглядели на дым, и, думаю, погодя еще немного он сказал: «Похоже на то». И думаю, что это жена велела ему слезть и посмотреть. «Они не знают, что горят, – так, я думаю, она сказала. – Поди, скажи им». Он слез с повозки, поднялся на крыльцо и немного постоял там и покричал: «Эй! Эй!» Он говорит, что огонь в доме уже был слышен, и тогда он вышиб дверь плечом, вошел и увидел того, кто первым увидел пожар. Это был Браун. Но деревенский его не знал. Он сказал только, что в передней стоял пьяный, вид у него был такой, как будто он только что свалился с лестницы, и деревенский ему сказал: «У вас дом горит, уважаемый», – и тут только понял, до чего тот пьян. И он говорит, пьяный все время твердил, что наверху никого нет и что верх все равно горит и бесполезно спасать оттуда вещи.
Но деревенский смекнул, что наверху такого огня быть не может – весь огонь был в задней стороне, ближе к кухне. Да и слишком пьян был тот, ничего не соображал. И он сказал, что сразу заподозрил неладное – по тому, как пьяный не пускал его наверх. Он пошел наверх, пьяный попробовал удержать его, но он пьяного оттолкнул и пошел. Он говорит, пьяный стал было подниматься за ним и все доказывал, что наверху ничего нет, но потом, говорит, когда он спустился и вспомнил про пьяного, того уж и след простыл. Только, думаю, он не сразу про Брауна вспомнил. Потому что, наверх поднявшись, он снова начал кричать и открывать двери, а потом открыл ту дверь и ее увидел.
Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьется, навевая дрему, несметный насекомый хор.
– Увидел, – говорит Хайтауэр. – Он увидел мисс Берден. – Он не шевелится. Байрон на него не смотрит; можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит.
– Она лежала на полу. Голова почти начисто отрезана; дама с проседью. Он рассказывает, как стоял там и слышал огонь, и в комнате уже был дым, словно нашел за ним следом. И как он боялся поднять и вынести ее, потому что голова могла оторваться. И как потом сбежал обратно по лестнице, выскочил из дома, не заметив даже, что пьяного нет, выбежал на дорогу и велел жене гнать к ближайшему телефону и шерифа тоже вызвать. Потом побежал за дом, к баку, – говорит, уже вытаскивал полное ведро, и только тут сообразил, что это глупо, когда вся задняя часть дома полыхает. Тогда он побежал обратно в дом и снова вверх по лестнице, в ту комнату, сорвал с кровати покрывало, закатал ее в покрывало, ухватил за края и вскинул на спину, как мешок крупчатки, вынес из дома и положил под дерево. И чего он боялся, говорит, как раз случилось. Покрывало развернулось, а она на боку лежит, передом в одну сторону, а лицом аккурат в обратную. Будто назад оглядывается. Это, говорит, она живая могла так сделать, а тут-то не должна была бы.
Байрон умолкает и смотрит, бросает взгляд на человека за столом. Хайтауэр не шевельнулся. Лицо его за парой отсвечивающих стекол обливается потом.
– Явился шериф, и пожарная команда явилась. Но сделать ничего не могла, потому что не было воды для брандспойта. И старый дом горел весь вечер, я видел дым с фабрики и еще ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Берден отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой, она им сказала, написано, что с ней делать, когда она умрет. Там было написано, что на Севере, откуда она приехала – родня ее откуда приехала, – у ней есть племянник. Племяннику отбили телеграмму, а через два часа пришел ответ, что племянник заплатит тысячу долларов за поимку убийцы.
А Кристмас с Брауном скрылись. Шериф дознался, что в хибарке жили, и тут все сразу начали рассказывать про Кристмаса и Брауна – все, которые помалкивали, покуда один из них или оба вместе не убили эту даму. И до вчерашнего вечера ни того, ни другого найти не удавалось. А деревенский тот не знал, что пьяный, которого он в доме встретил, был Браун. Люди стали думать, что они сбежали – и он и Кристмас. А потом, вечером вчера, Браун объявился. Уже трезвый – вышел часов в восемь на площадь и стал кричать как ненормальный, что это Кристмас ее убил, и требовать тысячу долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Кристмаса и докажет, что Кристмас это сделал. И тогда Браун сказал. Сказал, что, когда они с Кристмасом познакомились, Кристмас уже три года жил с мисс Берден. Сперва, Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Кристмаса, Кристмас ему сказал, что все время тут ночует. А потом, говорит, он однажды ночью не мог уснуть и услышал, как Кристмас вылез из постели, подошел, постоял над его койкой, вроде как прислушиваясь, а потом на цыпочках – к двери, отворил ее тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся и – за Кристмасом, и видит, как тот подошел к большому дому и вошел с черного хода – то ли, значит, его оставили для Кристмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в хибару и лег. Но не мог, говорит, уснуть – такой его смех разбирал, что хитрость у Кристмаса не удалась. Лежал он так с час примерно, а потом Кристмас вернулся. И тогда, он говорит, совсем уже не мог удержаться от смеху и сказал Кристмасу: «Ну, ты и прохвост». И тогда, он говорит, Кристмас прямо замер в темноте, а он лежит, смеется над Кристмасом – мол, не такой уж он, выходит дело, ловкач, и все прохаживается насчет седых волос и насчет того, что если Кристмас хочет, он согласен чередоваться с ним – по неделе, в уплату за жилье.
Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Кристмас убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Кристмас опять собирается спать, а Кристмас вдруг чиркнул спичкой. Тогда он, говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел, а Кристмас зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал, а Кристмас встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну, ты нашел себе потеху, – Кристмас ему говорит. – Будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской». И Браун говорит, он не понял, что Кристмас взбеленился, и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить, и тут Кристмас говорит ровным своим голосом: «Недосыпаешь ты. Слишком долго не спишь. Тебе, пожалуй, надо больше спать», – а Браун спрашивает: «На сколько больше?» – и Кристмас говорит: «Может – навсегда». И Браун говорит, он понял тогда, что Кристмас взбеленился и дразнить его не стоит, и сказал: «Разве мы не друзья? С чего это я буду трепаться про чужие дела? Ты моему слову не веришь?» – а Кристмас сказал: «Не знаю. И знать не хочу. Но ты моему слову можешь поверить». И посмотрел на Брауна. «Можешь?» И Браун говорит, он сказал «Да».
И стал говорить, как он боялся, что однажды ночью Кристмас убьет мисс Берден; шериф спрашивает, – как же так он не удосужился сообщить о своих опасениях, а Браун говорит, он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить – и шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно и что мисс Берден наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут, я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльце в пуху. Потому что он принялся рассказывать, что машину Кристмасу купила мисс Берден и как он уговаривал Кристмаса бросить торговлю виски, пока они оба не попали в беду; полицейские смотрят на него, а он все быстрей и быстрей говорит, все больше, больше, что он, дескать, проснулся в субботу рано и видел, как Кристмас встал на рассвете и ушел. И он, дескать, знал, куда идет Кристмас, а часов в семь Кристмас вернулся в хибарку, стал и смотрит на Брауна. И говорит: «Я сделал это». Браун: «Что сделал?» И Кристмас говорит: «Поди в дом, посмотри».
И Браун сказал, что он испугался, но в чем дело, даже не подозревал. Он говорит, от силы думал, что Кристмас мог ее избить. И говорит, что Кристмас опять вышел, а он встал, оделся и, когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит.
«В котором часу это было?» – шериф спрашивает.
«Часов в восемь, наверно, – Браун говорит. – Когда человек встает? Если он не богач. А я, видит Бог, не из них».
«А о пожаре, – шериф говорит, – сообщили только к одиннадцати. И в три часа дня дом еще горел. Вы что же, хотите сказать – старый деревянный дом, пусть даже большой, будет гореть шесть часов?»
Браун сидит, смотрит туда-сюда, а они – вокруг, наблюдают за ним, кольцом окружили. Браун им: «Я вам правду говорю. Вы же сами просили». А сам туда-сюда смотрит, головой вертит. А потом чуть ли не в крик: «Почем я знаю, сколько было времени? Вы что думаете – человек, который заместо негра, раба на лесопилке ишачит, такой богач, чтобы часы носить?»
«Ни на какой ты лесопилке – и вообще нигде не работаешь полтора месяца, – полицейский говорит. – И если человек может позволить себе целый день кататься на новой машине, то он может позволить себе раз-другой проехать мимо суда и время по часам заметить».
«Сказано вам, это была не моя машина! – Браун говорит. – Это его машина. Она ее купила и ему отдала – женщина отдала, которую он убил».
«Это дело десятое, – шериф говорит. – Дайте ему досказать».
И Браун стал досказывать, и все громче, громче, все быстрей, быстрей – словно Джо Браун старался спрятать за тем, что говорил про Кристмаса, – покуда Браун не улучит момент цапнуть эту тысячу долларов. Вот ведь что самое удивительное: некоторые люди думают, будто зарабатывать или добывать деньги – это такая игра, где никаких правил нет. Он сказал, что даже когда увидел пожар, у него и в мыслях не было, что она еще в доме, тем более – мертвая. И, говорит, ему даже в голову не пришло заглянуть в дом: он только думал, как бы пожар потушить.
«И это, – шериф говорит, – было около восьми утра. Вы так утверждаете. А жена Хемпа Уолера сообщила о пожаре почти в одиннадцать. Долго же вы соображали, что не сможете голыми руками потушить пожар». А Браун сидит между них (дверь они заперли, а окна все лицами снаружи загорожены), глаза туда-сюда бегают, зубы оскалил. «Хемп утверждает, что, когда он выломал дверь, в доме уже находился человек, – шериф говорит. – И что этот человек пытался не пустить его наверх». А он сидит посередке и глазами шныряет, шныряет.
К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что тысяча долларов уплывает от него все дальше и дальше, – ему уже виделось, как кто-то другой ее получает. Я думаю, ему мерещилось, что эта тысяча вроде как у него в кармане, а тратит ее кто-то другой. Потому что, говорят, похоже было, будто то, что он сказал теперь, он нарочно придерживает на этот случай. Как будто знал, что, если влипнет, это его спасет, – хотя белому человеку признаться в том, в чем он признался – едва ли не хуже, чем быть обвиненным в самом убийстве. «Ну конечно, – он говорит. – Валяйте, обвиняйте меня. Обвините белого, который хочет вам помочь, рассказать, что знает. Обвините белого, а нигера – на волю. Белого обвините, а нигер пускай бежит».
«Нигер? – шериф говорит. – Нигер?»
И тут он вроде понял, что они у него в руках. Вроде в чем бы они его ни заподозрили – все будет ерундой рядом с тем, что он им про другого скажет. «Ну, вы же умники, – говорит. – У вас тут все в городе умники. Три года вас дурачили. Иностранцем три года его называли, а я на третий день догадался, что он такой же иностранец, как я. Догадался до того, как он сам мне сказал». Все на него смотрят, взглядом перекинутся – и опять на него.
«Ты, знаешь, со словами поаккуратней, если про белого говоришь, – полицейский его предупреждает. – Все равно, убийца он или нет».
«Я про Кристмаса говорю, – Браун отвечает. – Убил белую женщину после того, как три года жил с ней на виду у целого города – и ведь он все дальше, все дальше от вас уходит, пока вы тут обвиняете человека, который один может его найти, который знает, что он натворил. В нем негритянская кровь. Я это с первого взгляда понял. А вы тут, приятели, шерифы-умники и прочие… Один раз он даже сам признался – сам мне сказал, что в нем негритянская кровь. Может, спьяну сболтнул – не знаю. Только на другое утро он подошел ко мне и сказал (а сам Браун словами сыплет, зубами, глазами сверкает по кругу, то на одного, то на другого), говорит: «Вчера вечером я сделал ошибку. Смотри не повтори ее». А я сказал: «Какую такую ошибку?» Он говорит: «Подумай немного». Я подумал, он – про то, что однажды ночью сделал, когда мы были в Мемфисе, а я-то знаю, что за жизнь мою ломаного гроша не дадут, если я стану ему перечить, ну и сказал: «Я тебя понял. Не собираюсь я лезть не в свое дело. И никогда, по-моему, за мной такого не водилось». И вы бы так сказали, – Браун говорит, – если бы очутились с ним один на один в хибарке: там и закричишь – никто не услышит. И вы бы опасались – покуда люди, которым хочешь помочь, на тебя же не стали бы вешать чужое убийство». Он сидит, глазами рыщет, рыщет, а они на него глядят, и снаружи к окнам лица прилипли.
«Нигер, – полицейский говорит. – Я все время думал: что-то в этом парне странное».
Тут опять шериф вмешался: «Так вы поэтому до нынешнего вечера скрывали, что там творится?»
А Браун сидит среди них, зубы ощерил, и шрам этот маленький возле рта – белый, как воздушная кукуруза. «Вы мне покажите, – говорит, – человека, который бы по-другому поступил. Вот чего я прошу. Только покажите – человека, который столько прожил бы с ним, узнал бы его, как я, и поступил бы по-другому».
«Ну, – шериф говорит, – наконец-то, кажется, вы сказали правду. А теперь ступайте с Баком и проспитесь хорошенько. Кристмасом я займусь».
«В тюрьму, значит, так я понимаю, – Браун говорит. – Меня, значит, – в тюрьму, под замок, а вам – награду получать».
«Придержи язык, – шериф ему без злобы. – Если награда тебе положена, я позабочусь, чтоб ты ее получил. Бак, уведи его».
Полицейский подошел, тронул Брауна за плечо, и он встал. Когда они вышли за дверь, те, что в окна наблюдали, столпились вокруг них: «Поймали его, Бак? Это он, значит?»
«Нет, – Бак им говорит. – Расходитесь, ребята, по домам. Спать пора».
Голос Байрона замирает. Ровный, невыразительный деревенский речитатив обрывается в тишине. Он смотрит на Хайтауэра тихо, с состраданием и беспокойством, наблюдает через стол сидящего человека, у которого закрыты глаза и пот сбегает по лицу, как слезы. Хайтауэр говорит:
– Это точно? Доказано, что в нем негритянская кровь? Подумайте, Байрон, что это будет значить, когда люди… если они поймают… Несчастный человек. Несчастное человечество.
– Браун так говорит, – отвечает Байрон спокойно, упрямо, убежденно. – Ведь и лжеца можно так запугать, что он скажет правду – то же самое, как из честного вымучить ложь.
– Да, – говорит Хайтауэр. Он сидит выпрямившись, закрыв глаза. – Но они его еще не поймали. Они его еще не поймали, Байрон.
Байрон тоже на него не смотрит.
– Еще нет. Последнее, что я слышал, – нет еще. Сегодня они взяли ищеек. Но еще не поймали – это последнее, что я слышал.
– А Браун?
– Браун, – говорит Банч. – Браун. Браун с ними пошел. Может, он и помогал Кристмасу. Но не думаю. Я думаю, дом поджечь – это самое большее, на что он способен. А почему он это сделал – если сделал, – думаю, он и сам не знает. Вот разве только понадеялся, что если все это сжечь, то получится вроде как ничего и не было, и они с Кристмасом опять будут кататься на новой машине. Я думаю, по его мнению, Кристмас не столько грех совершил, сколько ошибку. – Лицо его потуплено, задумчиво; снова по нему пробегает усталая сардоническая гримаса. – Теперь он, пожалуй, не пропадет. Теперь она сможет найти его, когда пожелает – если он в это время не будет на охоте, с шерифом и собаками. Бежать он не собирается – зачем, если эта тысяча долларов, можно сказать, висит у него перед носом. Я думаю, он Кристмаса хочет поймать больше любого из них. Ходит с ними. Они забирают его из тюрьмы, и он идет с ними, а потом они возвращаются и обратно сажают его под замок. Смешно прямо. Вроде как убийца самого себя ловит, чтобы получить за себя награду. Но он как будто не против, только жалеет, что время теряет понапрасну, – когда сидит; вместо того чтобы бежать по следу. Да. Завтра я ей скажу. Скажу просто, что он покамест под замком – он и пара ищеек. Может, в город ее свожу посмотреть на них, на всех троих на сворке – как они тянут и тявкают.
– Вы ей еще не сказали?
– Ей не сказал. Ему тоже. Потому что награда наградой, а сбежать он может. А так, если он поймает Кристмаса и получит эту награду, он, может, женится на ней вовремя. Но она пока не знает – не больше того, что знала вчера, когда с повозки слезала на площади. С большим животом слезала, потихоньку, с чужой повозки, среди лиц чужих, и говорила про себя, вроде как тихо удивляясь – только, я думаю, удивления там не было вовсе, потому что пришла она потихоньку, пешком, а разговоры ей не в тягость: «Ну и ну. Вон откуда шла, из Алабамы, – а ведь и правда, в Джефферсон пришла».
5
Было за полночь. Кристмас пролежал в кровати два часа, но еще не спал. Он услышал Брауна раньше, чем увидел. Он услышал, как Браун подошел к хибарке, ввалился в дверь – и силуэтом застыл в проеме, опираясь, чтоб не упасть. Браун тяжело дышал. Держась за косяки, он запел сахариновым гнусавым тенором. Даже от тягучего его голоса, казалось, разило перегаром. «Заткнись», – сказал Кристмас. Он не пошевелился и не повысил голоса. Браун, однако, сразу замолк. Он еще постоял в дверях, держась, чтобы не упасть. Потом отпустил дверь, и Кристмас услышал, как он ввалился в комнату; через секунду он на что-то налетел. Наступила пауза, заполненная трудным, шумным дыханием. Затем с ужасающим грохотом Браун свалился на пол, ударившись о койку Кристмаса, и огласил комнату громким идиотским смехом.
Кристмас поднялся с койки. Где-то у него в ногах лежал, смеясь и не пытаясь встать, невидимый Браун. «Заткнись!» – сказал Кристмас. Браун продолжал смеяться. Кристмас перешагнул через Брауна и протянул руку к деревянному ящику, который заменял им стол, – там они держали фонарь и спички. Но ящика он не нашел и вспомнил звон разбившегося фонаря при падении Брауна. Он нагнулся к Брауну, который лежал у него между ног, нащупал воротник, выволок Брауна из-под койки, поднял ему голову и стал бить ладонью – резко, сильно, зло, – пока Браун не кончил смеяться.
Браун лежал обмякший. Кристмас держал его голову и ругал ровным, приглушенным голосом. Он подтащил Брауна к другой койке и бросил его туда, навзничь. Браун снова стал смеяться. Кристмас левой ладонью зажал ему нос и рот, захватив подбородок, а правой снова стал бить – сильными, нечастыми ударами, словно отвешивал их по счету. Браун перестал смеяться. Он стал дергаться. Под рукой у Кристмаса он издавал придушенный булькающий звук и дергался. Кристмас держал его, пока он не утих, не замер. Тогда он немного расслабил руку. «Теперь ты замолчишь? – сказал он. – Замолчишь?»
Браун снова задергался. «Прими свою черную лапу, образина не…» Рука опять сдавила. Опять Кристмас ударил его другой рукой по лицу. Браун замолк и лежал тихо. Кристмас расслабил руку. Через секунду Браун заговорил, лукавым голосом, негромко: «Ты же нигер, понял? Ты сам мне сказал. Сам сознался. А я белый. Я бе…» Рука сдавила. Снова Браун забился и захлюпал под рукой, слюнявя пальцы. Когда он перестал биться, рука расслабилась. Он лежал тихо, дышал тяжело.
– Теперь замолчишь? – сказал Кристмас.
– Да, – сказал Браун. Он шумно дышал. – Не души. Я молчу. Не души.
Кристмас расслабил руку, но не убрал ее. Браун задышал легче, вдохи и выдохи стали легче, свободнее. Но Кристмас не убирал руки. Дыхание Брауна обдавало его пальцы то теплом, то холодом, и, стоя в темноте над распростертым телом, он спокойно думал Что-то со мной будет. Что-то я сделаю Не снимая левой руки с лица Брауна, он мог дотянуться правой до своей койки, до подушки, под которой лежала его бритва с двенадцатисантиметровым лезвием. Но он этого не сделал. Может быть, мысль зашла так далеко, в такую тьму, что сказала ему Не его нужно Так или иначе, он не взял бритвы. Немного погодя он снял руку с лица Брауна, но не ушел. Он продолжал стоять над койкой, дыша так спокойно, так тихо, что сам этого не слышал. Браун, тоже невидимый, дышал теперь тише, и вскоре Кристмас отошел, сел на свою койку, нашарил в висевших на стене брюках сигарету и спички. Спичка вспыхнула, осветив Брауна. Прежде чем прикурить, Кристмас поднял спичку и посмотрел на Брауна. Браун лежал на спине, разбросавшись, рука свисала на пол. Рот был открыт. Пока Кристмас смотрел, он начал храпеть.
Кристмас закурил, щелчком отшвырнул спичку к открытой двери и увидел, как пламя погасло на полпути. Он прислушался, ожидая слабого пустякового удара горелой спички об пол; показалось, что услышал. Затем ему показалось, что, сидя на койке в темноте, он слышит несметную сутолоку звуков, таких же слабых: голоса, бормотание, шепот – деревьев, тьмы, земли; людей; свой собственный голос; другие голоса, вызывающие в памяти имена, времена, места, которые жили в нем постоянно, хотя он не знал этого, которые были его жизнью, – и он думал Может быть Бог, а я и этого не знаю Он видел это, как напечатанную фразу, полнорожденную и уже мертвую Бог и меня любит, как блеклые полусмытые буквы прошлогодней афиши Бог и меня любит
Он докурил сигарету, ни разу не прикоснувшись к ней рукой, и окурок тоже щелчком отшвырнул к двери. В отличие от спички, он не погас на лету. Кристмас наблюдал, как он мигает, кувыркаясь в воздухе за дверью. Он лег на койку, закинув руки за голову, как ложится человек, не надеющийся уснуть, и подумал Я лежу с десяти часов и не сплю. Не знаю, сколько сейчас времени, но уже за полночь, а я никак не усну «Потому что она стала молиться обо мне», – сказал он. Сказал вслух, и голос в темной комнате прозвучал неожиданно громко, заглушив пьяный храп Брауна. «Вот почему. Потому что она стала молиться обо мне».
Он поднялся с койки. Босые ноги коснулись пола беззвучно. Он стоял в темноте в одном белье. На другой койке храпел Браун. Кристмас постоял, повернув голову в направлении звука. Потом двинулся к двери. Босиком, в одном белье он вышел из хижины. Снаружи было немного светлее. Над головой медлительно поворачивались созвездия; тридцать лет он знал, что звезды есть, но ни одна не имела для него названия, ничего не говорила ему своим цветом, яркостью, расположением. Впереди, над плотной массой деревьев, он различал трубу и щипец дома. Сам дом в темноте не был виден. Ни звуком, ни проблеском света не встретил его дом, когда он подошел и стал под окном комнаты, где спала она, и подумал Если она спит вдобавок. Если она спит Двери никогда не запирались, и, бывало, в какой бы час ночи ни подняло его желание, он входил в дом и направлялся в ее спальню, уверенно находя в темноте путь к ее постели. Иногда она не спала, дожидаясь его, и произносила его имя. Иногда он будил ее жесткой грубой рукой и, случалось, так же грубо и жестко брал ее, еще не совсем проснувшуюся.
Тому уже два года, два года у них позади, подумал Может, в этом и есть самое оскорбительное. Может, я думаю, что меня провели, обманули. Что она врала мне о своих летах, о том, что случается с женщиной в ее возрасте Он сказал вслух – стоя один в темноте под темным окном: «Не надо было обо мне молиться. Ничего бы ей не было, если бы не стала обо мне молиться. Она не виновата, что состарилась и больше не годна. Но сообразить должна была, что нельзя обо мне молиться». Он начал ругать ее. Он стоял под темным окном и ругал ее – медленно, обдуманно, похабно. Он не смотрел на окно. Казалось, он рассматривал в полутьме свое тело – словно наблюдая, как оно лениво и сладострастно купается в шепоте подзаборной грязи, подобно трупу утопленника в стоячем черном пруду чего-то более густого, чем вода. Он тронул себя ладонями и с нажимом провел ими вверх по животу и груди, под бельем. Подштанники держались на одной верхней пуговице. Когда-то у него на белье все пуговицы были на месте. Их пришивала женщина. Было такое время – одно время. Но это время прошло. Он стал вытаскивать свое белье из семейной стирки раньше, чем она успевала добраться до него и пришить недостающие пуговицы. Она его опередила; тогда он стал специально замечать и запоминать, какие пуговицы отсутствовали, а потом появились. Перочинным ножом с холодной, бесчувственной обстоятельностью хирурга он срезал вновь пришитые пуговицы.
Его правая ладонь быстро скользнула вверх по прорехе, как некогда – нож. Ребром, легко и резко, она ударила по оставшейся пуговице. Темнота дохнула на него, дохнула ровно, когда одежда спала по ногам, – прохладный рот темноты, мягкий прохладный язык. Шагнув, он ощутил темный воздух, как воду, он ощутил под ногами росу, как никогда не ощущал ее прежде. Он прошел через сломанные ворота и остановился у дороги. Августовский бурьян доставал до бедер. На листьях в стеблях лежала месячная пыль от проезжавших мимо повозок. Перед ним тянулась дорога. Она была чуть бледнее темной земли и деревьев. По одну сторону стоял город. С другой – дорога взбегала на холм. Вскоре небо там посветлело; холм обозначился. Потом он услышал машину. Он не двинулся. Он стоял подбоченясь, голый, по бедра в пыльном бурьяне, а машина, перевалив через холм, приближалась, светя на него фарами. Он наблюдал, как тело его, белея, выделяется из темноты подобно фотоснимку в проявителе. Он смотрел прямо в фары проносящегося автомобиля. Оттуда назад долетел пронзительный женский визг. «Белые сволочи! – крикнул он. – Не первая ваша сука повидала…» Но машина умчалась. Некому было услышать, дослушать. Она умчалась, слизнув поднятую пыль и свет, слизнув замирающий женский крик. Ему стало холодно. Как будто он пришел сюда, чтобы присутствовать при заключительном действии, и теперь оно совершилось, и он снова был свободен. Он вернулся к дому. Под темным окном он задержался и поискал подштанники, нашел их и надел. На них не осталось ни одной пуговицы, и ему пришлось придерживать их, пока он возвращался к хижине. До него долетел храп Брауна. Он постоял перед дверью неподвижно и молча, слушая протяжные, хриплые, неровные вздохи, заканчивавшиеся придушенным бульканьем. «Кажется, я попортил ему нос сильнее, чем думал, – мелькнуло у него. – Сучье отродье». Он вошел и шагнул к своей койке, чтобы лечь. Уже опускаясь на подушку, он вдруг остановился, замер в наклонном положении. Может быть, мысль, что ему придется лежать до утра в темноте под пьяный храп, с несметными голосами в промежутках, показалась ему невыносимой. Он сел, тихо пошарив под койкой, нашел свои туфли, вдел в них ноги, снял с койки узкое полушерстяное одеяло, составлявшее всю его постель, и вышел из хижины. Метрах в трехстах стояла конюшня. Она разваливалась, лошадей там не держали уже тридцать лет, однако направился он к конюшне. Он шел быстро. Он думал, думал вслух: «На кой мне черт лошадей нюхать?» Потом сказал неуверенно: «Потому что они – не женщины. Кобыла и та все же вроде мужчины».
Он проспал меньше двух часов. Когда он проснулся, заря только занималась. Лежа в одеяле на щелеватом полу ветхой сумрачной норы, где першило в горле от тонкой пыли былого сена и спертый воздух запустения еще отдавал конюшенным аммиаком, он видел в окне желтеющий восток и бледную высокую утреннюю звезду зрелого лета.
Он проснулся отдохнувшим, словно проспал часов восемь. Сон был нежданный: он не ожидал, что уснет. Он снова вставил ноги в расшнурованные туфли и со сложенным одеялом под мышкой спустился по отвесной лестнице, нащупывая ногами невидимые подгнившие перекладины, сбрасывая свободную руку с одной перекладины на другую. Он вышел навстречу серому и желтому рассвету в свежую прохладу и вдохнул ее всей грудью.
Хибарка обрисовалась четко на разгоравшемся востоке – и купа деревьев, где прятался дом, весь, кроме одной трубы. Высокая трава отяжелела от росы. Его туфли сразу намокли. Кожа холодила ступни, мокрая трава скользила по ногам, как гибкие сосульки. Браун уже не храпел. Войдя, Кристмас разглядел его при свете из восточного окна. Теперь Браун дышал спокойно. «Протрезвел, – подумал Кристмас. – Трезвый, и сам того не знает. Несчастный балбес». Он посмотрел на Брауна. «Несчастный балбес. Ох и зол будет, когда проснется и поймет, что он опять трезвый. Целый час, наверное, потратит, пока опять напьется». Он положил одеяло, надел диагоналевые брюки, белую, но грязноватую уже рубашку и галстук-бабочку. Он курил. К стене был прикреплен гвоздями осколок зеркала. Завязывая галстук, он рассматривал в зеркале свое тусклое отражение. Жесткая шляпа висела на гвозде. Он не взял ее. Вместо нее он снял с другого гвоздя кепку, а из-под койки вытащил журнал – из тех, где на обложке бывают изображены либо молодые женщины в одном белье, либо мужчины, стреляющие друг в друга из пистолетов. Из-под подушки он достал бритву, помазок, палочку мыла и сунул их в карман.
Когда он вышел из хижины, уже совсем рассвело. Птицы распевали. На этот раз он направился прочь от дома. Он миновал конюшню и вышел на луг. Скоро его туфли и брюки пропитались серой росой. Он остановился, заботливо подвернул штанины до колен и пошел дальше. За лугом начинался лес. Росы тут было меньше, и он спустил штанины. Вскоре он очутился в лощинке, где бил ключ. Он положил журнал, набрал сушняку, развел костер и сел спиной к дереву, ногами к огню. Вскоре от мокрых туфель пошел пар. Потом он почувствовал, как по ногам разливается тепло, а потом, открыв глаза, увидел высокое солнце, догоревший костер и понял, что он спал. «Ей-богу, уснул, – подумал он. – Ей-богу – по второму разу».
На этот раз он проспал более двух часов, потому что солнце светило уже на самый родник, дробясь и сверкая в неугомонной воде. Он встал, потягиваясь, расправляя онемевшую спину, будя затекшие мышцы. Потом вынул из кармана бритву, мыло, помазок. Став на колени у родника, он побрился, глядя в воду, как в зеркало, правя длинную блестящую бритву на туфле.
Он спрятал в кустах бритвенные принадлежности и журнал и снова завязал галстук. От родника он пошел так, что дом остался далеко в стороне. На дорогу он выбрался в полумиле от дома. Чуть дальше стоял магазинчик с бензоколонкой. Он зашел в магазинчик, купил у женщины крекеры и банку мясных консервов. И вернулся к роднику, к кострищу.
Завтракал он, сидя спиной к дереву и читая журнал. До этого он успел прочесть только одну статью и теперь принялся за вторую, читая журнал подряд, как роман. Время от времени он, жуя, переводил взгляд со страницы на пронизанную светом листву, смыкавшуюся над лощиной. «Может, я уже сделал это, – думал он. – Может, больше не ждет меня это дело». Ему казалось, что желтый день мирно открывается перед ним – коридором, шпалерой, в тихую светотень, ничего не требуя. Ему казалось, что, пока он сидит тут, желтый день глядит на него сквозь дрему, как сонно разлегшийся желтый кот. И он читал дальше. Он переворачивал страницы в строгой последовательности, но иногда будто задерживался на одной странице, на одной строчке, может быть – на одном слове. Тогда он не поднимал глаз. Он не шевелился – по-видимому, поглощенный, скованный единственным словом, которым, может быть, еще и не проникся; все его существо повисало на коротком пустячном сочетании букв в тихом солнечном пространстве, и, замерев неподвижно, невесомо, он как будто наблюдал сверху за медленным течением времени и думал Я только покоя хотел думал: «Не надо ей было обо мне молиться».
Дойдя до последней статьи, он прервал чтение и пересчитал оставшиеся страницы. Потом посмотрел на солнце и снова начал читать. Теперь он читал так, как будто шел по улице, считая трещины в тротуаре, – до последней заключительной страницы, до последнего заключительного слова. Затем он встал, поджег спичкой журнал и терпеливо ворошил его, пока он не сгорел дотла. С бритвенными принадлежностями в кармане он пошел вдоль по лощине.
Вскоре она расширилась – ровное, песком убеленное дно между крутых уступчатых стен, доверху заросших колючками и кустами. Деревья над ней по-прежнему смыкались; в небольшом углублении стены был навален хворост, заполнявший выемку целиком. Он принялся оттаскивать сухие ветви в сторону и, очистив выемку, нашел лопату с коротким черенком. Лопатой он начал рыть песок, до этого скрытый хворостом, и откопал один за другим шесть бачков с завинчивающимися крышками. Он не стал их отвинчивать. Он повалил бачки, пробил их острой лопатой, и песок под ними стал темнеть от хлынувшего струями виски, а в воздухе, в солнечной тиши разлился запах алкоголя. Он опорожнил их тщательно, не торопясь, с застывшим, как маска, лицом. Когда бачки опустели, он свалил их в яму, кое-как забросал песком, затащил хворост обратно и спрятал лопату. Ветки скрыли мокрое пятно, но не могли скрыть запах. Он опять посмотрел на солнце. Полдень миновал.
В семь часов вечера он был в городе, в ресторане на боковой улочке, и ел, сидя на табурете за скользкой, отполированной трением деревянной стойкой, ужинал.
В девять часов он стоял у парикмахерской, глядя через стекло на человека, которого взял себе в напарники. Он стоял совершенно неподвижно, засунув руки в карманы, и дым сигареты плавал перед его неподвижным лицом, а кепка, как прежде – жесткая шляпа, была заломлена лихо и вместе с тем зловеще. Так бесстрастно и так зловеще стоял он, что в ярко освещенном салоне, душном от запахов лосьона и горячего мыла, Браун, жестикулирующий и хриплоголосый, в грязных красноклетчатых брюках и грязной цветной рубахе, поднял голову на полуслове и пьяными глазами взглянул в глаза человека за стеклом. Так неподвижно и так зловеще, что молоденький негр, который, насвистывая, вразвалочку шел мимо, при виде Кристмаса перестал свистеть, взял в сторону, прошмыгнул за его спиной и потом все оборачивался, все оглядывался через плечо. Но Кристмас уже двинулся прочь. Он словно для того только и задержался здесь, чтобы Браун на него посмотрел.
Он шел не торопясь прочь от площади. Улица, тихая во всякое время, в этот час была безлюдна. Она вела через негритянский район, Фридмен-Таун[14], к станции. В семь часов ему встречались бы люди, белые и черные, направляющиеся на площадь и в кино; в половине девятого они бы возвращались домой. Но кино еще не кончилось, и теперь он был на улице один. Он тихо шел, двигался между домами белых, от фонаря к фонарю, и плотные тени кленовых и дубовых листьев скользили по его белой рубашке клочьями черного бархата. Трудно представить себе что-либо более одинокое, чем рослый мужчина на безлюдной улице. И хотя он не был крупным, не был высоким, выглядел он более одиноко, чем телефонный столб посреди пустыни. На пустой, широкой, тенями омраченной улице он казался призраком, духом, который забрел сюда из другого мира, заблудился.
Потом он узнал место. Улица незаметно для него пошла под уклон, и не успел он оглянуться, как очутился в Фридмен-Тауне, среди летнего запаха и летних голосов невидимых негров. Они, казалось, взяли его в кольцо, эти бесплотные голоса, и шептали, смеялись, разговаривали на чужом языке. Словно со дна глухой и черной ямы он видел вокруг очертания хижин, неясных, освещенных керосином, отчего уличные фонари как будто стали реже, словно дыхание черных сгустилось в какое-то плотное дыхательное вещество, так что не только голоса, но и движущиеся тела и сам свет должны были становиться жидкими и, вбирая в себя – частица за частицей – поспевающую ночь, сливаться с ней в нечто единое и неделимое.
Теперь он стоял неподвижно, тяжело дыша, свирепо озираясь по сторонам. Знойное тусклое свечение керосиновых ламп вырезало из черноты черные лачуги. Повсюду, даже внутри у него, бесплотно рокотали утробно-мягкие голоса негритянок. Казалось, и он и все мужское вокруг ввергнуто обратно в непроглядное, жаркое, влажное первородное чрево. Он побежал, сверкая зубами, сверкая глазами, к следующему фонарю, и воздух, врываясь в рот, холодил сухие губы и зубы. Под фонарем из черной ложбины отходил в сторону и поднимался к параллельной улице узкий ухабистый переулок. Бегом Кристмас свернул в него и со стучащим сердцем бросился по крутому склону к верхней улице. Там он остановился, задыхаясь, поводя глазами, и сердце его все колотилось, словно он никак не мог или не хотел поверить, что воздух вокруг – холодный, резкий воздух белых.
Потом он успокоился. Негритянский дух, негритянские голоса остались позади и внизу. Слева лежала площадь, гроздья огней – сверкающие птицы, празднокрыло и трепетно повисшие над землей. Справа шагали вдаль фонари, редкие, разделенные обгрызенными невозмутимыми ветвями. Он шел, опять медленно, прочь от площади, опять между домами белых. И здесь на верандах сидели люди – и на лужайках, в креслах; но тут он мог идти спокойно. Время от времени он видел их: силуэты голов, неясную белую фигуру в одежде; на освещенной веранде сидели четверо за карточным столиком – сосредоточенные белые лица, резкие в низком свете лампы, обнаженные руки женщин, ровно белеющие над пустячными картами. «Это все, чего я хотел, – думал он. – Кажется, не так уж много».
Эта улица тоже пошла под уклон. Но в ее уклоне была надежность. Его плывущая белая рубашка и мелькающие черные ноги затерялись среди теней, врезанных огромно и отвесно в звездное августовское небо: хлопкового склада, цистерны, длинной и цилиндрической, как туловище обезглавленного мастодонта, вереницы товарных вагонов. Он пересек железнодорожную колею, рельсы блеснули в огне семафора двумя зелеными стрелами и снова отбросили свет мимо. За путями начинался лес. Но он отыскал тропинку безошибочно. Она шла в гору среди деревьев; за долиной, где лежала железная дорога, снова стали показываться один за другим огни города. Но он не оглядывался, пока не взошел на вершину холма. Оттуда он вновь увидел город, зарево, отдельные огни – там, где от площади разбегались улицы. Он видел улицу, по которой вышел, и другую, которая чуть не предала его, а еще дальше – яркий, ломающийся под прямым углом городской вал, и в углу – черную яму, откуда он бежал с рвущимся сердцем и оскаленными зубами. Ни света не шло оттуда, ни дыхания, ни запаха. Она просто лежала там, черная, непроницаемая, в гирлянде трепетно-августовских огней. Может быть – изначальные недра, сам первозданный хаос.
Он шел уверенно, несмотря на тьму, на деревья. Он ни разу не сбился с тропинки, хоть и не мог ее разглядеть; лес тянулся на милю. Он вышел на дорогу, ступил в пыль. Теперь он начал видеть – смутный расширяющийся мир, горизонт. Там и сям тускло светились окна. Но в большинстве лачуг было темно. Тем не менее кровь начала снова – говорить, говорить. Он шел быстро, ей в такт; он, кажется, понял, что эти люди негры, раньше, чем увидел или услышал их, раньше, чем они обозначились на фоне спящей пыли. Их было пятеро или шестеро, цепочка, в которой угадывались пары; снова донесся до него сквозь шум крови ропот глубоких женских голосов. Он шел прямо на них, шел быстро. Они увидели его, подались к обочине; голоса смолкли. Он тоже изменил направление, двинулся наискось, на них, словно ожидая, чтобы ему уступили дорогу. Дружно, как по команде, женщины отступили, обогнули его, очистив ему дорогу. Один из мужчин последовал за ними, словно погоняя их, оглядываясь через плечо. Другие двое остановились на дороге, повернувшись к Кристмасу. Кристмас тоже стал. Казалось, никто из них не движется, однако те двое приближались, наплывали двумя неясными тенями. Он почуял негра: почуял запах дешевой одежды и пота. Голова высокого негра наклонилась с неба, в небе.
– Это белый, – сказал он спокойно, не поворачивая головы. – Чего вы хотите, белый человек? Или ищете кого? – Голос не был угрожающим. Но и не был подобострастным.
– Юп, уходи оттуда, – сказал тот, что шел за женщинами.
– Кого ищете, начальник? – сказал негр.
– Юп, – сказала одна из женщин тонковатым голосом. – Уйди же ты.
Еще мгновение две головы, светлая и темная, будто висели в темноте, дыша друг на друга. Потом голова негра отплыла; откуда-то повеяло холодным ветром. Кристмас, медленно поворачиваясь, провожая взглядом фигуры, которые снова таяли, сливались с бледной дорогой, обнаружил, что в руке у него – бритва. Нераскрытая. Он вынул ее не от страха. «Суки! – сказал он. – Сучье отродье!»
Из тьмы дул холодный ветер; пыль даже сквозь туфли холодила ноги. «Что за чертовщина со мной творится?» – подумал он. Он сунул бритву в карман, остановился, закурил сигарету. Перед тем как взять ее в рот, ему пришлось несколько раз облизнуть губы. При свете спички он увидел, как дрожат его руки. «Все это беспокойство», – подумал он. «Все это проклятое беспокойство», – сказал он вслух, уже на ходу. Он посмотрел на небо, на звезды. «Наверно, скоро десять», – подумал он и почти в ту же секунду услышал бой часов на здании суда – в двух милях. Медленно, мерно прозвучали десять ударов. Он сосчитал их, стоя на пустой, мертвой дороге. «Десять часов, – подумал он. – Вчера я тоже слышал, как било десять. И одиннадцать. И двенадцать. А часа – не слышал. Может, ветер переменился».
Одиннадцать в эту ночь он услышал, сидя спиной к дереву, за сломанными воротами, и дом позади него снова был темен и скрыт лохматой рощицей. Сегодня он не думал Может и она не спит Сейчас он ничего не думал, думать еще не начал, и голоса еще не зазвучали. Он сидел там не шевелясь, пока часы в двух милях не пробили двенадцать – и после еще немного. Потом встал и двинулся к дому. Шел он не быстро. И даже тут не подумал Что-то случится. Что-то со мной случится
6
Память верит раньше, чем вспоминает знание. Верит дольше, чем помнит, дольше, чем знание даже спрашивает. Знает, помнит, верит: коридор в кирпичном длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящем на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутом дымными заводскими трущобами, опоясанном трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты, в одинаковых синих робах, с дискантовым детским чириканьем случайными, неровными порывами пролетают в воспоминаниях, но в знании хранятся постоянно, как унылые стены и унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов сбегала в дождь черными слезами.
В тихом пустом коридоре в тихий послеполуденный час он был как тень – маленький даже для пятилетнего, серьезный и тихий, как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было. Он это знал. Он занимался этим уже почти год, с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диетсестры.
Очутившись в комнате, он подошел, босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, а затем – голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диетсестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешенной мягкой женской одежды. Он услышал, как диетсестра и ее спутник вошли в комнату.
До сих пор диетсестра не значила для него ничего – кроме постоянного приложения к еде, пище, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами, – фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств – разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз – молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысли о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диетсестра должна обладать чем-то в этом роде и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача – личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг.
За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот: «Нет! Нет! Не здесь. Не сейчас. Нас увидят. Кто-нибудь… Не надо, Чарли! Прошу тебя!» Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин – на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки: шарканье ног, поворот ключа в двери. «Нет, Чарли! Чарли, прошу тебя! Прошу тебя, Чарли!» – шептала женщина. Он услышал другие звуки – шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал; он просто ждал, думая без особого интереса и внимания, что странно в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот: «Я боюсь! Скорей! Скорей!»
Он сидел на корточках среди мягких, женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел – ощупью только – смятый, некогда круглый тюбик. Не глазами – вкусом – созерцал прохладного невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пасты на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в пять лет он знал, что больше – нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что, если съесть больше, станет худо; может быть, человеческий рассудок предупреждал, что, если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверно, и выстрела за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда – он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно, на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахшей темноте за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну, все».
Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд на не гладкое уже, не бело-розовое, а окруженное всклокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У-у, гаденыш! – шипел тонкий злобный голос. – У-у, гаденыш! Шпионить за мной! Негритянский ублюдок».
Диетсестре было двадцать семь лет – достаточно много, чтобы рискнуть раз-другой на любовное приключение, но достаточно мало, чтобы думать не столько о самой любви, сколько об опасности быть за ней застигнутой. К тому же она была достаточно глупа и полагала, что пятилетний ребенок не только сможет сделать правильные выводы из того, что слышал, но и захочет рассказать о них, как взрослый. Поэтому в следующие два дня, когда ей казалось, что, куда бы она ни взглянула, куда бы ни пошла, всюду торчит этот ребенок, наблюдающий за ней темным, напряженно-пытливым взглядом животного, – она приписала ему еще больше взрослых черт: она решила, будто он не только намерен донести, но нарочно тянет с этим, чтобы увеличить ее страдания. Ей в голову не пришло, что он думает, будто это его поймали с поличным и мучают, оттягивая наказание, что он лезет ей на глаза, чтобы покончить с этим, получить взбучку, расплатиться, подвести счет.
На второй день она дошла до полного отчаяния. Ночь она не спала. Почти всю ночь лежала, стиснув зубы и кулаки, задыхаясь от ярости и ужаса, хуже того – от раскаяния, этого слепого неистовства обратить время вспять, хотя бы на час, на секунду. Пусть даже – время любви. Теперь молодой врач значил для нее даже меньше, чем ребенок: он был всего лишь орудием – но гибели, а не спасения. Она не знала, кто из двоих ей ненавистней. Не знала даже, когда она спит, а когда бодрствует. Потому что неотступно, неотвязно на смеженных веках, на сетчатке маячило это неподвижное, хмурое пергаментное лицо и наблюдало за ней.
На третий день она вышла из комы – полуяви-полусна, сквозь который, при свете и лицах, она несла свое собственное лицо, как маску, застывшую в мучительной и неестественной гримасе личину, которую страшно было сбросить. На третий день она решилась. Найти его не составляло труда. Это произошло в коридоре, в пустом коридоре в тихий послеобеденный час. Он стоял там без всякого дела. Может быть, пришел за ней следом. Нельзя было понять, ждал он ее или нет. Но, увидев его, она не удивилась, и он не удивился, услышав, обернувшись, увидев ее: два лица, одно – уже не гладкое, не бело-розовое, другое – хмурое, с серьезными глазами, выражавшее лишь ожидание, и больше ничего. «Ну, теперь я отделаюсь», – подумал он.
«Слушай», – сказала она. И умолкла, глядя на него. Она как будто не знала, что говорить дальше. Мальчик ждал, смирно, неподвижно. Мускулы на его спине и заду медленно, постепенно напряглись, одеревенели. «Ты не расскажешь?» – спросила она.
Он не ответил: ведь каждому ясно, что меньше всего на свете ему хочется рассказывать про пасту, про рвоту. Он не смотрел на ее лицо. Он следил за ее руками и ждал. Одна, в кармане юбки, была сжата в кулак. Под тканью было видно, что она сжата крепко. Его еще ни разу не били кулаком. Но и ни разу не заставляли три дня ждать наказания. Когда она вынула руку из кармана, он подумал, что сейчас его ударят. Но она не ударила, рука просто разжалась у него перед глазами. В ней лежал серебряный доллар. Она заговорила, настойчиво, тихо, шепотом, хотя в коридоре было пусто: «Знаешь, сколько можно купить? Целый доллар». Он никогда прежде не видел доллара, хотя знал, что это такое. Он смотрел на монету. Он хотел ее, как хотел бы блестящую крышку от пивной бутылки. Но не верил, что ее подарят – потому что сам бы он такую вещь не подарил. Он не понимал, что она за это хочет. Он ожидал, что его выпорют и отпустят. Она продолжала говорить, настойчиво, возбужденно, торопливо: «Целый доллар. Понимаешь? Сколько можно купить. Вкусного – на целую неделю. А через месяц я, может, дам тебе еще доллар».
Он не пошевелился, не ответил. Он стоял, будто вырезанный из дерева, похожий на игрушку: маленький, неподвижный, круглоголовый, круглоглазый, в комбинезоне. От изумления и унизительной беспомощности он оцепенел. Глядя на доллар, он словно видел штабеля, поленницы тюбиков, бесконечные и устрашающие; внутри у него все скручивалось от сытого, острого отвращения. «Я больше не хочу», – сказал он. И подумал: «Никогда больше».
Теперь он даже не решался взглянуть ей в лицо. Он ощущал, слышал ее, слышал ее долгий судорожный выдох. Ну вот оно промелькнуло у него в голове. Но она его даже не встряхнула. Она держала его крепко, но не трясла, словно рука сама не знала, что ей хочется сделать. Ее лицо было так близко, что он чувствовал на щеке ее дыхание. Он и не глядя знал, как сейчас выглядит это лицо. «Ну и рассказывай! – прошептала она. – Рассказывай! Негритянский гаденыш. Ублюдок негритянский!»
Это было на третий день. На четвертый она тихо и окончательно сошла с ума. Она уже не строила никаких планов. Теперь она действовала по наитию – как будто за те дни и бессонные ночи, когда под личиной спокойствия она вынашивала в себе страх и ярость, все ее душевные силы сосредоточились в интуитивном постижении зла, от природы безошибочном, как у всех женщин.
Она сделалась совершенно спокойной. Она избавилась даже от нетерпения. У нее как будто было вдоволь времени, чтобы осмотреться и рассчитать. В поисках выхода ее взгляд, ум, мысль сразу уперлись в сторожа, сидевшего в дверях котельной. Тут не было ни расчета, ни замысла. Она просто выглянула из себя, как пассажир из вагона, и, нисколько не удивившись, увидела этого грязного человечка в очках со стальной оправой, сидящего на плетеном стуле в закопченных дверях котельной, с раскрытой книгой на коленях, – фигуру привычную, почти данность, о существовании которой она знала уже пять лет, ни разу по-настоящему на нее не взглянув. На улице она бы его не заметила. Прошла бы мимо, не узнав, хотя он был мужчиной. А теперь жизнь казалась ей простой и прямой, как коридор, и в конце коридора сидел он. Она отправилась к нему сразу – уже шагала по грязной дорожке, еще не осознав, что идет.
Он сидел в дверях на своем плетеном стуле, с раскрытой книгой на коленях. Подойдя ближе, она увидела, что это – Библия. Но только заметила – как заметила бы муху у него на ноге. «Вы тоже его ненавидите, – сказала она. – Вы тоже за ним следите. Я видела. Не отпирайтесь». Он посмотрел на нее, сдвинув очки на лоб. Он не был стариком. Это не вязалось с его должностью. Он был крепкий мужчина, в соку – такому полагалось бы вести деятельную трудовую жизнь, но время, обстоятельства – или что-то еще – подвели его, подхватили крепкое тело и швырнули сорокапятилетнего человека в тихую заводь, где место – шестидесяти-шестидесятипятилетнему. «Вы знаете, – сказала она. – Знали раньше, чем дети стали звать его нигером. Вы с ним появились тут в одно время. Вы тут и месяца не проработали, когда Чарли нашел его у нас на ступеньках, в ночь под Рождество. Скажите мне». Лицо у сторожа было крупное, дрябловатое, довольно грязное, в грязной щетине. Глаза совершенно прозрачные, серые, совершенно холодные. И при этом – совершенно безумные. Но женщина этого не замечала. А может быть, ей они не казались безумными. И вот в закопченной дверной коробке они смотрели друг на друга, безумные глаза – в безумные глаза, и разговаривали, безумный голос – с безумным голосом, спокойно, тихо, отрывисто, как два заговорщика. «Я за вами пять лет наблюдаю. – Ей казалось, что она говорит правду. – Сидите здесь, на этом стуле, и наблюдаете за ним. Вас тут нет, пока дети в доме. Но стоит им выйти на двор, как вы тащите к двери стул и садитесь, чтобы следить за ним. Следить и слушать, как дети зовут его нигером. Вот чем вы заняты. Я знаю. Вот для чего вы здесь – чтобы следить и ненавидеть. Вы были готовы к его появлению. Может быть, сами его подкинули, оставили на ступеньках. Все равно: вы знаете. И мне надо знать. Когда он расскажет, меня уволят. И Чарли может… он… Скажите мне. Сейчас же скажите».
– А-а, – сказал сторож. – Я знал, что он тебя застигнет, когда пробьет Господень час. Знал. Я знаю, кто послал его туда – знамение и наказание за скотство.
– Да, он был за занавеской. Не дальше, чем вы от меня. Ну, говорите же. Я видела, какими глазами вы на него смотрите. Наблюдала за вами. Пять лет.
– Я знаю, – сказал он. – Я знаю зло. Или не я пустил его ходить по свету Божью? Ходячей скверной сделал его перед лицом Господним. В устах младенцев он не прячет[15]. Ты слышала их. Не я им велел это говорить – прозывать по законному естеству его анафемского племени. Я им не говорил. Они дознались. Им было сказано, но сказано не мной. Я только ждал его часа, когда он рассудит, что пришла пора открыть это его тварям. И теперь она пришла. Вот оно, знамение – и обратно явлено через женский срам и блуд.
– Да. Но что мне делать? Скажите.
– Ждать. Как я ждал. Пять лет я ждал, когда Господь объявит свою волю. И он объявил. И ты жди. Придет пора, и он объявит свою волю тем, которые приказывают.
– Да. Приказывают. – Впившись глазами друг в друга, они не шевелились, дышали ровно.
– Хозяйке. Придет пора, и он ей скажет.
– Вы думаете, если мадам узнает, она его отошлет? Да. Но я не могу ждать.
– И Господа Бога торопить не можешь. Разве я не ждал пять лет?
Она начала постукивать кулаком о кулак.
– Неужели вам не понятно? Может, это и есть Господня воля. Чтобы вы сказали мне. Потому что вы знаете. Может, это и есть его путь – чтобы вы сказали мне, а я сказала мадам. – Ее безумные глаза были совершенно спокойны, безумный голос – спокоен и терпелив: только руки не унимались.
– Будешь ждать, как я ждал, – сказал он. – Ты, может, три дня чувствуешь тяжесть Господней милостивой руки. А я пять лет под ней ходил, дежурил, ждал его срока – потому что мой грех тяжельше твоего. – Хотя он смотрел ей прямо в лицо, он ее будто не видел – глаза не видели. Широко раскрытые, ледяные, фанатические, они казались незрячими. – Против того, что я сделал и какими страданиями искупил, твой грех и бабьи страдания – все равно что мушиный навоз. Я пять лет терпел; а кто ты есть, чтобы с поганым своим бабьим срамом торопить Господа Бога?
Она повернулась, тут же.
– Ладно. Можете не говорить. Все равно я знаю. Я сразу поняла, что в нем – негритянская примесь. – Она вернулась в дом. Теперь она шла не спеша и страшно зевала. «Надо только придумать, как убедить мадам. Он говорить не станет, не поддержит меня». Она опять зевнула, раздирая рот; на пустынном ее лице бесчинствовала зевота; но потом и зевота кончилась. Ей пришло в голову что-то новое. Раньше она об этом не думала, но теперь ей казалось, что думала, знала с самого начала – ведь это так справедливо: его не только уберут, он будет наказан за страх и тревоги, которые ей пришлось из-за него пережить. «Его отправят в негритянский приют, – подумала она. – Ну конечно. Что им остается?»
Она даже не пошла сразу к начальнице. Она было отправилась к ней, но вдруг обнаружила, что дверь конторы осталась в стороне, а она идет дальше к лестнице и начинает подниматься. Она будто следовала за собой по пятам, чтобы посмотреть, куда она направится. В коридоре, теперь тихом и пустом, она опять зевнула – с огромным облегчением. Она вошла в комнату, заперла дверь, разделась, легла. Задернутые шторы почти не пропускали света; она неподвижно лежала на спине. Глаза у нее были закрыты, разгладившееся лицо ничего не выражало. Немного погодя она начала медленно раздвигать и сдвигать ноги, ощущая, как простыни перетекают по ним – то гладкие и прохладные, то гладкие и теплые. Мысли ее витали где-то между сном, которого она была лишена три ночи, и сном, которому она отдавалась – раскинувшись перед ним, словно сон был мужчиной. «Надо только убедить мадам», – думала она. И вдруг подумала Он будет там, как горошина среди кофейных зерен
Это было во второй половине дня. А в девять вечера, опять раздеваясь, она услышала сторожа, шедшего по коридору к ее двери. Она не знала, не могла знать, кто это, но вдруг поняла – по мерным шагам, по стуку в дверь, которая начала отворяться раньше, чем она успела к ней подскочить. Она не отозвалась на стук; она подскочила к двери, навалилась на нее, стараясь удержать. «Я раздеваюсь!» – сказала она жидким измученным голоском, уже зная, кто там. Он не ответил, продолжая упрямо и ровно давить на отходящую дверь за расходящейся щелью. «Сюда нельзя! – закричала она почти шепотом. – Вы же знаете – они…» Ее голос слабел, прерывался, был полон отчаяния. Сторож не отвечал. Она силилась остановить, задержать медленно отходившую дверь. «Дайте одеться, я к вам выйду. Дадите?» Она говорила замирающим шепотом, и тон у нее был несерьезный, легкомысленный – так разговаривают с сумасбродным ребенком или маньяком: успокаивая, заискивая. «Подождите, ладно? Вы слышите? Вы ведь подождете, правда?» Он не отвечал. Дверь продолжала медленно и неотвратимо отходить. Привалившись к ней в одной рубашке, она была похожа на марионетку в пародийной сцене насилия и отчаяния. Привалившись, застыв, глядя в пол, она, казалось, была погружена в глубокое раздумье – словно марионетка в разгаре сцены запуталась в самой себе. Потом она повернулась, отпустив дверь, отскочила к постели, схватила не глядя что-то из одежды и обернулась к двери, комкая вещь у груди, пригнувшись. Он уже стоял в комнате – должно быть, видел всю эту бесконечную паническую возню и спешку и ждал, когда она кончится.
На нем по-прежнему был комбинезон, но теперь еще и шляпа. Он ее не снял. Опять его серые, холодные, безумные глаза будто не видели ее, даже не смотрели.
– Если бы сам Господь явился к одной из вас в комнату, – сказал он, – вы бы подумали, что он явился по кошачьему делу. Ты ей сказала?
Женщина сидела на кровати. Обратив к нему бескровное лицо, комкая на груди одежду, она как будто медленно валилась на спину.
– Сказала?
– Что она с ним сделает?
– Сделает? – Она наблюдала за ним: его остановившиеся блестящие глаза, казалось, не столько глядят на нее, сколько окутывают взглядом. Рот у нее был разинут, как у слабоумной.
– Куда его пошлют? – Она не ответила. – Не ври мне. Господу Богу не ври. Они пошлют его в негритянский? – Ее рот закрылся, до нее словно только сейчас дошло, о чем он говорит. – Э-э… я все обдумал. Его пошлют в приют для черных. – Она не ответила, она следила за ним – взглядом, хотя и немного испуганным, но затаенным, что-то прикидывая. Теперь и он на нее смотрел, его глаза будто вцепились в ее тело, в нее самое. – Отвечай мне, Иезавель[16]! – крикнул он.
– Тс-с-с-с! – сказала она. – Да. У них нет выхода. Когда они узнают…
– Ага, – сказал он. Его глаза потухли, они отпустили ее и снова окутали невидящим взглядом. Глядя в них, она будто видела ими себя: ничтожней ничтожного, пустячней щепки, плавающей в луже. Затем его глаза сделались почти человеческими. Он начал оглядывать женское жилище, как будто прежде ничего подобного не видел: тесную комнату, теплую, неопрятную, пропахшую розово-женским. – Бабья пакость, – сказал он. – Перед лицом Господним. – Он повернулся и вышел. Немного погодя женщина поднялась. Она стояла неподвижно, комкая одежду, и бессмысленно смотрела в дверной проем, словно не зная, что делать дальше. Потом побежала. Она ринулась к двери, налетела на нее, захлопнула, заперла, привалилась к ней, тяжело дыша и вцепившись в ключ обеими руками.
На другое утро во время завтрака хватились сторожа и мальчика. Они исчезли бесследно. В полицию заявили сразу. Черный ход, ключ от которого был у сторожа, оказался незапертым.
– Это потому, что он знал, – сказала диетсестра начальнице.
– Что знал?
– Что этот ребенок, этот мальчишка Кристмас – нигер.
– Кто? – переспросила начальница. Откинувшись в кресле, она сердито смотрела на диетсестру. – Ниг… Не верю! – закричала она. – Не верю!
– Вы можете не верить, – ответила та. – А он это знает. Поэтому он его и выкрал.
Заведующей приютом шел шестой десяток; у нее было дряблое лицо и добрый, нерешительный взгляд неудачницы. «Я этому не верю!» – сказала она. Но на третий день сама вызвала диетсестру. Выглядела она так, будто ни разу за эти дни не спала. У диетсестры, напротив, вид был вполне свежий, вполне безмятежный. Она не дрогнула даже тогда, когда начальница сказала ей, что сторожа и мальчика разыскали. «В Литтл-Роке[17]. Он пытался сдать там мальчика в приют. Его приняли за ненормального и задержали до прихода полиции». Она посмотрела на младшую. «Вы говорили мне… На днях вы сказали… Откуда вам это известно?»
Диетсестра не отвела взгляда.
– Мне не известно. Я понятия не имела. Конечно, я понимаю – то, что дети прозвали его нигером, ничего не значит…
– Нигером? – повторила хозяйка. – Дети?
– Они не первый год зовут его нигером. Порой мне кажется, что у детей есть способность понимать такие вещи, которых люди моих или ваших лет просто не замечают. У детей и у стариков вроде него, вроде этого сторожа. Вот почему он всегда сидел в дверях, когда они играли на дворе: следил за мальчиком. Может быть, он догадался потому, что слышал, как дети зовут его нигером. Но, может быть, и раньше знал. Если помните, они тут появились почти одновременно. Он у нас и месяца не проработал до той ночи… под Рождество, помните… когда Чар… когда ребенка нашли на ступенях? – Она говорила гладко, наблюдая за смущенным, обескураженным взглядом старшей, которая смотрела ей в глаза так, словно не могла оторваться. Сама же она глядела ласково и невинно. – Мы разговорились на днях, и он все пытался мне что-то сказать про ребенка. Что-то он хотел сказать мне – кому-нибудь сказать, – но, в конце концов, наверно, побоялся, не захотел, и я ушла. Я совсем об этом забыла. Как-то вылетело у меня из головы… но тут… – Голос у нее пресекся. Она смотрела на старшую, а лицо ее прояснялось, как будто ее внезапно осенило; никто бы не мог сказать, притворство это или нет. – А‑а, так вот почему… А-а, теперь я все поняла. Ведь что было за день до этого, как они исчезли, скрылись? Я шла по коридору, к себе; как раз в этот день у нас был разговор – когда он мне что-то начал рассказывать, а потом передумал; и вдруг – он навстречу, останавливает меня; я еще, помню, удивилась – раньше никогда его в доме не видела. И он сказал… он говорил как ненормальный и выглядел как ненормальный. Я испугалась, до того испугалась, что двинуться не могла, да еще он дорогу загораживает… и говорит: «Ты ей сказала?» Я спрашиваю: «Кому? Что сказала?» – и тут понимаю, что он о вас говорит: передала ли я вам, что он пытался завести со мной разговор о мальчике. Чего он хотел, что я должна была передать – непонятно; я уже закричать хотела, но тут он сказал: «Что она сделает, если узнает про это?» – как отвечать, как от него отделаться – ума не приложу, но тут он сказал: «Можете не говорить. Я сам знаю, что она сделает. Она пошлет его в приют для нигеров».
– Для негров?
– Сама не понимаю, как мы могли так долго этого не замечать. Только посмотрите на его лицо, на глаза, на волосы. Конечно, это ужас. Но ведь больше его некуда девать, правда?
Нерешительные, встревоженные глаза начальницы смотрели сквозь стекла очков затравленно, студенисто, словно она пыталась уловить что-то за пределами их физической зоркости.
– Но зачем ему понадобилось увозить ребенка?
– Ну, если хотите знать мое мнение, то, по-моему, он ненормальный. Вы бы видели его в коридоре в тот веч… в тот день. Конечно, это плохо для ребенка – после нас, после того, как он воспитывался с белыми, отправиться в негритянский приют. Не его вина, что он нигер. Но и не наша ведь… – Она умолкла, глядя на старшую. Глаза начальницы смотрели из-за стекол все так же загнанно, нерешительно, безнадежно, губы ее дрожали, когда она выговаривала слова. И слова были безнадежные, но при этом – достаточно решительные, достаточно определенные.
– Мы должны пристроить его. Пристроить немедленно. Кто к нам обращался? Если вы дадите мне папку…
Когда мальчик проснулся, его несли. Была кромешная тьма и холод; его нес вниз по лестнице кто-то, двигавшийся безмолвно и с бесконечной осторожностью. Между мальчиком и державшей его рукой был зажат комок, в котором он угадал свою одежду. Он не вскрикнул, не проронил ни звука. По запаху, по воздуху он догадался, что находится на черной лестнице, ведущей от заднего подъезда к комнате, где с тех пор, как он себя помнил, среди сорока других кроватей стояла его кровать. И, опять же по запаху, догадался, что несет его мужчина. Но он не проронил ни звука и лежал неподвижно, расслабленно, как и во время сна, плыл высоко на невидимых руках, ехал, медленно спускался к заднему подъезду, который выходил на площадку для игр.
Он не знал, кто его несет. И не беспокоился из-за этого, ибо думал, что знает, куда его несут. Вернее – зачем. Но и куда несут – не беспокоился. История была двухлетней давности, в ту пору шел ему четвертый год. Однажды они недосчитались девочки Алисы, ей было двенадцать лет. Он любил ее – настолько, что позволял себя нянчить; а может быть, за это и любил. Для него она была взрослой и почти такой же большой, как женщины, распоряжавшиеся его едой, мытьем и сном, – с той только разницей, что она не была и так и не стала его врагом. Однажды ночью она его разбудила. Она прощалась с ним, но он этого не понял. Он был сонный, недовольный, так и не проснулся как следует – и не протестовал только потому, что она всегда старалась быть с ним ласковой. Он не понял, что она плачет, ибо не знал, что взрослые плачут, а к тому времени, когда узнал, память уже забыла о ней. И так же, не протестуя, он уснул, а наутро ее уже не было. Исчезла, не оставив следов, даже старой одежды, и сама кровать, на которой она спала, уже была занята новым мальчиком. Он так и не узнал, куда она делась. В тот день он слышал, как несколько взрослых девочек, собиравших ее в дорогу, говорили – приглушенно, таинственно, все еще с придыханием, будто собирали невесту, – о новом платье, о новых туфлях, об экипаже, который ее увез. Тогда он понял, что она уехала навсегда – сгинула за железными воротами стальной ограды. И тогда он словно увидел ее: фигурку, которая в момент исчезновения за слязгнувшимися воротами стала героической и, не уменьшаясь в размерах, таяла в чем-то безымянном и великолепном, как закат. Больше года прошло, прежде чем он узнал, что она была не первой – не будет последней. Что и другие – не одна Алиса – исчезали за слязгнувшимися воротами, в новом платье или новом комбинезоне, с аккуратным, маленьким – порою меньше коробки от туфель – узелком в руках. Он думал, что именно это и происходит с ним сейчас. Он думал, что теперь ему понятно, как им всем удавалось исчезнуть, не оставив после себя следов. Он думал, что их уносили, как и его, в глухую полночь.
Он уже чувствовал, что впереди – дверь. Она была совсем близко; он точно знал, на сколько еще невидимых ступеней спустился с безмолвной бесконечной осторожностью человек, который его несет. Он чувствовал под собой напряженные жесткие руки и узелок, комок, в котором он угадал свою одежду, собранную в темноте, ощупью. Человек остановился. Когда он нагнулся, ноги мальчика, описав дугу, стали на пол, и пальцы, коснувшись холодных, как железо, досок, загнулись вверх. «Стой», – сказал человек. И тогда ребенок понял, кто это.
Он узнал его сразу и не удивился. Удивилась бы начальница, если бы узнала, как хорошо он знает этого человека. Мальчик не знал его имени, и за те три года, что он был сознательным существом, они не перемолвились и сотней слов. Но человек этот был самой определенной личностью в его окружении – не исключая и девочки Алисы. Даже в трехлетнем возрасте мальчик чувствовал, что между ними есть связь, не нуждающаяся в словах. Он знал, что секунды не может провести на площадке без того, чтобы этот человек не следил за ним со своего стула в дверях котельной, и что он следит за ним с глубоким и неослабным вниманием. Будь ребенок постарше, он, может быть, подумал бы Он ненавидит меня и боится. До того, что не может спустить с меня глаз А в тех же летах, но со словарем побогаче – мог бы подумать Вот почему я не такой, как другие: потому что он все время за мной следит Он примирился с этим. И потому не удивился, узнав, кто забрал его, сонного, из постели и понес вниз; и, стоя перед дверью, в кромешной и холодной тьме, пока человек помогал ему одеться, он мог бы подумать Он ненавидит меня настолько, что пытается предотвратить какое-то надвигающееся на меня событие
Дрожа, торопясь изо всех сил, он послушно оделся; оба они при этом путались в его маленьких вещах, но кое-как их натягивали. «Ботинки, – сказал человек все тем же неслышным шепотом. – На!» Мальчик сел на холодный пол, чтобы обуться. Теперь человек его не трогал, но ребенок слышал, чувствовал, что и он наклонился, занят чем-то. «Тоже ботинки надевает», – подумал он. Пошарив, человек опять дотронулся до него, поднял на ноги. Шнурки у мальчика не были завязаны. Он еще этому не научился. Он не сказал, что не завязал шнурки. Он вообще не проронил ни звука. Только стоял, а потом его завернули целиком в какую-то вещь – по запаху он догадался, что она принадлежит этому человеку, – и снова подняли. Дверь открылась, разинулась. В нее хлынул свежий холодный воздух, свет уличных фонарей; он увидел фонари, голые фабричные стены, высокие бездымные трубы на фоне звезд. Высвеченная улицей стальная ограда стояла как строй изможденных солдат. Пока его несли через площадку, его свисающие ноги качались в такт шагам мужчины, а незашнурованные ботинки похлопывали по щиколоткам. Наконец они очутились у железных ворот и вышли за ограду.
Ждать трамвая им пришлось недолго. Будь мальчик постарше, он отметил бы, как хорошо этот человек рассчитал время. Но он ничего не замечал и не удивлялся. Он просто стоял на перекрестке рядом с мужчиной, в расшнурованных ботинках, до пят закутанный в мужское пальто, с широко раскрытыми, круглыми глазами и спокойным, совсем не сонным лицом. Подъехал трамвай, ряд окон, дребезжа, остановился и жужжал, пока они входили. В вагоне было почти пусто – шел третий час ночи. Здесь мужчина заметил, что ботинки не зашнурованы, и зашнуровал их, а ребенок наблюдал за этим, сидя смирно, с вытянутыми ногами. Вокзал был далеко, а на трамвае ему уже приходилось ездить, так что, когда они добрались до вокзала, мальчик спал. Когда он проснулся, был день, и они уже давно ехали на поезде. На поезде ему ездить не приходилось, но никто бы об этом не догадался. Он сидел смирно, как в трамвае, закутанный в мужское пальто – весь, кроме головы и торчащих вперед ног, – и рассматривал местность: холмы, деревья, коров и прочее – он никогда не видел, чтобы они плыли мимо окна. Увидев, что он не спит, мужчина вынул еду, завернутую в газету. Ломтики хлеба с ветчиной. «На», – сказал мужчина. Он взял и стал есть, глядя в окно.
Он не сказал ни слова, не выразил ни малейшего удивления – даже на третий день, когда пришли полицейские и забрали его и мужчину. Дом, где они жили теперь, ничем не отличался от того, который они покинули ночью: те же дети с разными именами, те же взрослые с разными запахами – и так же мало причин уезжать из нового дома, как покидать старый. Но он не удивился, когда они пришли и велели встать и одеться – не потрудившись объяснить, почему и куда он опять должен ехать. Может быть, он понимал, что едет обратно; может быть, с детской прозорливостью еще вначале понял то, чего не понимал мужчина: что так не будет, не может продолжаться. И снова он видел из поезда те же холмы, те же деревья, тех же коров – но с другой стороны, в другом направлении. Полицейский дал ему еду. Ломтики хлеба с ветчиной; только вынул их не из газеты. Он заметил это, но ничего не сказал и, может быть, ничего не подумал.
Потом он очутился дома. Может быть, он ожидал, что по возвращении его накажут, хотя за какое именно преступление – узнать и не рассчитывал, ибо давно усвоил, что если дети могут принимать взрослых как взрослых, то взрослые детей не умеют воспринимать иначе, как тоже взрослых. Он уже забыл историю с пастой. Теперь он избегал диетсестру так же, как месяц назад старался попасться ей на глаза. Он был так занят этим, что давно забыл причину – а вскоре забыл и путешествие, ибо ему не суждено было знать, что между тем и другим есть связь. Путешествие он время от времени вспоминал, но рассеянно, смутно. И бывало это только тогда, когда ему случалось взглянуть на дверь котельной и вспомнить человека, который прежде сидел там, наблюдая за ним, а теперь исчез совершенно и, по обычаю всех покидавших дом, не оставил следов – даже плетеного стула на пороге. И куда он мог деться, ребенок тоже не интересовался, не задумывался.
Однажды вечером за ним пришли в класс. Это было за две недели до Рождества. Две молодые женщины – диетсестры среди них не было – отвели его в ванную, вымыли, одели в чистый комбинезон, расчесали ему влажные волосы и доставили его в кабинет начальницы. Там сидел мужчина, чужой. Он посмотрел на мужчину и все понял – раньше, чем начальница успела раскрыть рот. Может быть, память знала, знание начало вспоминать, а может быть, даже – желание, ибо к пяти годам нельзя накопить столько отчаяния, чтобы родилась надежда. Может быть, он внезапно вспомнил путешествие в поезде и еду, потому что даже память простиралась ненамного дальше этого. «Джозеф, – сказала начальница, – хотел бы ты уехать и жить в деревне с хорошими людьми?»
Он стоял в новом жестком комбинезоне с красными, горящими от простого мыла и грубого полотенца лицом и ушами и слушал чужого. Один раз он посмотрел на него – и увидел плотного мужчину с густой коричневой бородой и волосами, стриженными не то чтобы недавно, но коротко. И борода и волосы были жесткие, буйные, без седины, словно растительности не коснулись сорок с лишним лет, прошедшиеся по лицу. Глаза были светлые, холодные. Костюм – жесткий, строгий, черный. На колене лежала черная шляпа, ее придерживала чистая квадратная рука, в кулак сжатая даже на мягком фетре. Поперек жилета тянулась тяжелая серебряная цепь от часов. Надежные черные башмаки покоились на полу бок о бок; они были начищены до блеска. При взгляде на него даже пятилетнему ребенку было понятно, что он не употребляет табаку и в других этого не потерпит. Но мальчик не смотрел на него – из-за его глаз.
Однако он чувствовал на себе его взгляд – холодный и пристальный, но не нарочито суровый. Таким взглядом он мог бы изучать лошадь или подержанный плуг – заранее зная, что найдет изъяны, заранее зная, что купит. Говорил он обстоятельно, веско, с расстановкой – голосом человека, требующего, чтобы его выслушивали если и не со вниманием, то хотя бы молча.
– Значит, вы либо не можете, либо не хотите ничего больше сказать о его родословной.
Начальница на него не смотрела. Глаза ее за стеклами очков были студенистыми – по крайней мере в эту минуту. Ответила она сразу, как-то даже чересчур сразу:
– Мы не пытаемся выяснять их родословную. Как я уже сказала, его подобрали здесь, на ступеньках, в канун Рождества – без двух недель пять лет назад. Если для вас так важна родословная, вам вообще не стоит усыновлять ребенка.
– Я не совсем то хотел сказать, – возразил незнакомец. Тон у него был слегка примирительный. Он ухитрялся извиняться, ни на йоту не отступив от своих убеждений. – Надо бы мне, пожалуй, потолковать с мисс Аткинс (так звали диетсестру), поскольку я лично с ней состоял в переписке.
И снова начальница ответила ему холодно и без промедления – чуть ли не раньше, чем он успел договорить:
– Я, вероятно, могу дать вам не меньше сведений об этом или любом другом из наших детей, чем мисс Аткинс, потому что ее официальные обязанности ограничиваются здесь кухней и столовой. Просто вышло так, что в данном случае она любезно согласилась служить секретарем в нашей переписке с вами.
– Не важно, – сказал незнакомец. – Не важно. Я просто подумал…
– Что вы подумали? Мы никого не принуждаем брать у нас детей, так же как детей не принуждаем уезжать против воли – если у них есть достаточно серьезные причины. Это – вопрос, который стороны должны решать между собой. Мы только советуем.
– Ну, ну, – сказал незнакомец. – Это не важно, еще раз говорю. Я не сомневаюсь, что малец у нас приживется. Он найдет себе хорошую семью в лице меня и миссис Макихерн. Люди мы уже не молодые, живем тихо. Разносолов и праздности не найдет. И работы не больше, нежели ему на пользу. Я не сомневаюсь, что, несмотря на его происхождение, он возрастет у нас в страхе Божьем и в отвращении к праздности и суете.
Так вексель, который он подписал два месяца назад тюбиком пасты, был опротестован, а до сих пор не вспоминавший о нем должник, закутанный в чистую попону, маленький, бесформенный, неподвижный, сидел в коляске, трясшейся в декабрьских сумерках по заледенелым ухабам. Ехали весь день. В полдень мужчина накормил его, достав из-под сиденья картонку с деревенской едой, приготовленной три дня назад. Но заговорил он с мальчиком только сейчас. Одетым в варежку кулаком, в котором был зажат кнут, он показал вперед на единственный огонек, светивший в сумраке, и произнес одно-единственное слово. «Дом», – сказал он. Ребенок ничего не сказал. Мужчина смотрел на него сверху. Он тоже закутался от холода: большой, коренастый, бесформенный, чем-то похожий на булыжник, и не столько крутой, сколько безжалостный. «Я говорю, вон твой дом». Ребенок по-прежнему не отвечал. Он никогда не видел своего дома, поэтому ему нечего было сказать. А чтобы говорить, ничего при этом не сказав, он был еще слишком мал. «Здесь ты найдешь кров и хлеб и заботу верующих людей, – сказал мужчина. – И работу себе по силам, которая убережет тебя от дурного. Ибо ты у меня скоро усвоишь, что два есть порока – леность и праздномыслие, две добродетели – работа и страх Божий». Ребенок опять ничего не сказал. Он никогда не работал и не боялся Бога. О Боге он знал меньше, чем о работе. Работа, которую олицетворяли люди с граблями и лопатами на площадке для игр, происходила на его глазах, шесть дней в неделю; Бог же появлялся только по воскресеньям. И тогда – если не считать непременного испытания чистотой – он был музыкой, приятной для слуха, и словами, слуха не задевавшими вовсе, – в целом приятным, хотя и несколько утомительным. Мальчик ничего не сказал. Коляска подскакивала, крепкие, ухоженные мулы поторапливались – к стойлу, к корму, к дому.
И было еще одно, что он вспомнил гораздо позже – когда память уже не признавала того лица, не признавала поверхности воспоминания. Они – в кабинете начальницы: он стоит неподвижно, избегая смотреть в глаза незнакомцу, но чувствует на себе его взгляд и ждет, когда незнакомец скажет то, что думают его глаза. И он слышит: «Кристмас. Языческая фамилия. Святотатство. Я ее переменю».
– Это ваше законное право, – ответила начальница. – Нам важно не как их зовут, а как с ними обращаются.
Но чужой уже никого не слушал – так же, как ни к кому не обращался.
– С нынешнего дня его будут звать Макихерн.
– Это разумно, – сказала сестра-хозяйка. – Дать ему вашу фамилию.
– Он будет есть мой хлеб и соблюдать мою религию, – сказал незнакомец. – Почему бы ему не носить мою фамилию?
Мальчик не слушал. Он был безучастен. Его это мало беспокоило – не больше, чем если бы незнакомец сказал, что день жаркий, когда он на самом деле не жаркий. Настолько мало, что он даже не сказал про себя Меня не Макихерном зовут. Меня зовут Кристмас Беспокоиться из-за этого пока не стоило. Времени впереди было много.
– Почему бы и нет, в самом деле? – сказала начальница.
7
И вот что знает память – двадцать лет спустя память еще будет верить В тот день я стал мужчиной
Чистая спартанская комната благоухала воскресеньем. Чистые штопаные занавески на окнах колыхались от ветерка, пахшего взрыхленной землей и лесным яблоком. На желтом, под дуб мелодеоне, педали которого были обиты вытертой и обтрепанной ковровой тканью, стояла ваза для фруктов с цветами шпорника. Мальчик сидел на жестком стуле за столом, на котором стояла никелированная лампа и лежала огромная Библия с латунными застежками и петлями и латунным замком. Мальчик был в чистой белой рубашке без воротничка и темных брюках, новых и жестких. Ботинки его были начищены недавно и неумело – как мог начистить восьмилетний ребенок, – с тусклыми пятнами там и сям, особенно на задниках, куда не попала вакса. На столе перед ним лежал раскрытый пресвитерианский катехизис.
Макихерн стоял у стола. Он был в чистой сатиновой рубашке и тех же черных брюках, в которых мальчик увидел его в первый раз. Его волосы, влажные и все еще без седины, были зачесаны на круглой голове гладко и аккуратно. Борода – тоже расчесана, тоже еще влажна. «Ты не старался выучить», – сказал он.
Мальчик не поднял глаз. Он не шевелился. Но лицо мужчины не стало от этого менее каменным. «Я старался».
«Тогда постарайся еще. Даю тебе еще час». Макихерн вынул из кармана пузатые серебряные часы, положил на стол циферблатом кверху, придвинул к столу еще один жесткий стул с прямой спинкой и сел, чисто вымытые руки положив на колени, ровно поставив ноги в тяжелых начищенных башмаках. На них не было тусклых пятен, не смазанных ваксой. Вчера вечером, однако, – во время ужина, – они были. А позже, когда мальчик, раздевшись на ночь, остался в одной рубашке, его выпороли, и он начистил их сызнова. Мальчик сидел за столом. Лицо его, потупленное, неподвижное, не выражало ничего. В чистую голую комнату замирающими порывами влетал весенний ветер.
Это происходило в девять часов утра. Они сидели тут с восьми. Церкви поблизости были, но пресвитерианская находилась в пяти милях, и до нее был час езды. В половине девятого появилась миссис Макихерн. Она робко заглянула в комнату – уже в черном платье, в шляпе, – маленькая забитая женщина с чуть согнутой спиной. Выглядела она лет на пятнадцать старше своего кряжистого, ражего супруга. В комнату она даже не вошла. Остановилась на пороге, постояла – в шляпе, в черном платье, порыжелом, но, как всегда, вычищенном, с зонтиком и веером в руках; странное выражение было в ее глазах: казалось, все, что она слышит и видит, она слышит и видит через более явственный образ и голос мужчины – как если бы она была медиумом, а ее ражий, безжалостный муж – духом. Возможно, он и услышал ее. Но не оглянулся и не заговорил. Она повернулась и ушла.
Ровно через час Макихерн поднял голову. «Теперь знаешь?» – спросил он.
Мальчик не шелохнулся. «Нет», – сказал он.
Макихерн встал, медленно, не спеша. Он взял со стола часы, закрыл их и положил в карман, снова пропустив цепь через подтяжку. «Пошли», – сказал он. Он не оглядывался. Мальчик последовал за ним по коридору в глубину дома; он тоже шел выпрямившись, молча, с поднятой головой. Их спины выражали одинаковое упрямство, будто наследственное. Миссис Макихерн была на кухне – все еще в шляпе, все еще с зонтиком и веером в руках. Она смотрела на дверь, когда они проходили мимо. «Па», – сказала она. Ни тот, ни другой даже головы не повернули. Словно не слышали, словно она и не сказала ничего. Они прошли мимо двухзвенной цепочкой, – более схожие в непреклонном отрицании всякого компромисса, чем если бы их связывало кровное родство. Они пересекли двор и вошли в хлев. Макихерн отворил дверь стойла и отступил в сторону. Мальчик вошел в стойло. Макихерн снял с гвоздя упряжной ремень. Ремень был ни старый, ни новый, как его башмаки. Он был чистым, как башмаки, и пах, как сам хозяин, чистой, крепкой, ядреной кожей. Мужчина посмотрел на мальчика.
«Где книга?» – спросил он. Мальчик смирно стоял рядом, на его спокойном лице сквозь ровную пергаментную желтизну проступила легкая бледность. «Ты ее не принес, – сказал Макихерн. – Ступай обратно и принеси». Голос его не был недобрым. В нем вообще не было ничего человеческого, личного. Он был просто холодный, неумолимый, как писаное или печатное слово. Мальчик повернулся и вышел.
Когда он вошел в дом, миссис Макихерн была в коридоре. «Джо», – сказала она. Он не отозвался. Он даже не взглянул на нее – на ее лицо, на деревянное движение руки, приподнявшейся в деревянной пародии на самый ласковый жест, доступный человеческой руке. Он прошел мимо как деревянный, с непреклонным лицом – непреклонным, быть может, от гордости и отчаяния. А может быть – от тщеславия, глупого мужского тщеславия. Он взял со стола катехизис и вернулся в конюшню.
Макихерн ждал с ремнем наготове. «Положи», – сказал он. Мальчик положил книгу на пол. «Не сюда, – сказал Макихерн без гнева. – Ты думаешь, что пол в хлеву, топталище скота – место для слова Божья. Но я тебя и в этом направлю». Он сам поднял книгу и положил на выступ. «Спусти штаны, – сказал он. – Мы их марать не будем».
Штаны упали на пол; мальчик остался в короткой рубашке, не закрывавшей ног. Он стоял прямой и тонкий. При первом ударе ремня он не отпрянул, не дрогнуло и его лицо. Он смотрел прямо перед собой со спокойным, углубленным выражением, как монах на картине. Макихерн принялся хлестать, методично, медленно, с рассчитанной силой, по-прежнему без гнева и азарта. Трудно сказать, чье лицо было более спокойным и углубленным, в чьем было больше убежденности.
Он ударил десять раз и перестал. «Возьми книгу, – сказал он. – Штаны не трожь». Он подал мальчику катехизис. Мальчик взял его. И продолжал стоять – прямой, с поднятым лицом и книжкой, в позе благоговейного восторга. Он был точь-в-точь как мальчик из католического хора, только без стихаря[18], и вместо нефа таяло в сумраке стойло, грубая дощатая стена, за которой в сухом аммиачном уединении возилась, изредка всхрапывая и лениво стукая копытом, невидимая скотина.
Макихерн, не сгибаясь, сел на ясли и сидел, расставив ноги, одну руку положив на колено, а на другой ладони держа серебряные часы; его чистое бородатое лицо было твердым, словно вытесанным из камня, глаза смотрели безжалостно и холодно, но не зло.
Так они провели час. Один раз за это время в задней двери дома показалась миссис Макихерн. Но ничего не сказала. Только постояла, глядя на хлев – в шляпе, с зонтиком и веером. Потом вернулась в дом.
И снова ровно через час, секунда в секунду, Макихерн спрятал часы в карман. «Теперь знаешь?» – спросил он. Мальчик не ответил – прямой, застывший, с раскрытой книжкой перед глазами. Макихерн вынул книжку из его рук. Мальчик при этом не шелохнулся. «Повторяй катехизис», – сказал Макихерн. Мальчик смотрел на стену прямо перед собой. Теперь лицо его было совсем белым, несмотря на ровный насыщенный тон кожи. Неторопливо и аккуратно Макихерн положил книгу на выступ и взял ремень. Он ударил десять раз. Когда он кончил, мальчик еще мгновение стоял неподвижно. Он еще не завтракал; они оба еще не завтракали. Затем мальчик пошатнулся и упал бы, если бы Макихерн не схватил его за руку и не поддержал. «Поди, – сказал Макихерн и потянул его к яслям. – Сядь тут».
«Нет», – сказал мальчик. И стал выдергивать руку, которую держал Макихерн. Тот отпустил.
«Что с тобой? Ты болен?»
«Нет», – сказал мальчик. Голос у него был слабый, лицо – белое.
«Возьми книгу», – сказал Макихерн, вкладывая ее в руку мальчика. За окном показалась миссис Макихерн – она опять вышла из дома. Теперь она была в летнем капоре и длинном линялом платье и несла деревянную бадью. Она прошла за окном, не взглянув в их сторону, и скрылась из виду. Немного погодя до них донесся протяжный скрип колодезного ворота, звучавший мирно и удивительно в тишине богослужебного дня. Потом она снова прошла за окном, изогнувшись под тяжестью бадьи, и скрылась в доме, не взглянув на хлев.
Снова ровно через час Макихерн оторвал взгляд от часов. «Ты выучил?» – спросил он. Мальчик не ответил, не пошевелился. Когда Макихерн подошел к нему, он увидел, что мальчик вовсе не смотрит на страницу, что глаза у него остановившиеся и пустые. Когда он взялся за книгу, он обнаружил, что мальчик цепляется за нее, как за веревку или за столб. Когда он силой отнял у него книгу, мальчик грянулся об пол и больше не шевелился.
Когда мальчик очнулся, день был на исходе. Он лежал на своей кровати в чердачной комнате под покатой крышей. В комнате стояла тишина, вползали сумерки. Ему было хорошо; он лежал, покойно глядя на скошенный потолок, и не сразу почувствовал, что рядом кто-то сидит. Это был Макихерн. Теперь он тоже был одет по-будничному – не в комбинезон, в котором ходил в поле, а в выгоревшую чистую рубашку без воротничка и выгоревшие чистые брюки защитного цвета. «Ты не спишь», – сказал он. Он протянул руку и отвернул покрывало. «Идем», – сказал он.
Мальчик не шевелился. «Вы опять будете меня бить?»
«Идем, – сказал Макихерн. – Встань». Мальчик слез с кровати и встал – худенький в мешковатом бумажном белье. Макихерн тоже зашевелился – туго, неуклюже, как будто его сковывали собственные мышцы и движение стоило ему неимоверной затраты сил; мальчик с детским интересом, но без удивления наблюдал, как он медленно и тяжело опускается на колени. «Стань на колени», – сказал Макихерн. Мальчик стал; в тесной сумрачной комнате стояли на коленях двое: ребенок в перешитом белье и безжалостный мужчина, не знавший, что такое сомнение или сострадание. Макихерн начал молиться. Он молился долго, монотонным, нудным, усыпляющим голосом. Он просил, чтобы ему простилось прегрешение против воскресного дня и то, что он поднял руку на ребенка, на сироту, любезного Богу. Он просил, чтобы упрямое сердце ребенка смягчилось и ему тоже простился грех непослушания – по ходатайству человека, которого мальчик презрел и ослушался, – и предлагал Всевышнему быть таким же великодушным, как он сам, по причине и вследствие сознательного милосердия.
Он кончил и грузно поднялся на ноги. Мальчик остался на коленях. Он вообще не пошевелился. Но глаза его были открыты (он ни разу не отвернул, даже не потупил лица) и лицо было вполне спокойно – спокойно, безмятежно, вполне непроницаемо. Он услышал, как мужчина возится у стола, где стоит лампа. Чиркнула, вспыхнула спичка. Пламя выровнялось на фитиле под стеклянным шаром, на котором рука мужчины казалась кровавой. Тени метнулись и выровнялись. Макихерн что-то взял со стола возле лампы: катехизис. Он обернулся к мальчику: нос, гранитный выступ скулы, заросшей волосами до самой глазницы, прикрытой стеклом очков.
«Возьми книгу», – сказал он.
Началось это в воскресенье, до завтрака. Он так и не позавтракал: вероятно, ни он, ни Макихерн о еде ни разу не вспомнили. Макихерн и сам не завтракал, хотя подошел к столу и попросил прощения за пищу и необходимость ею питаться. Обеденный час мальчик проспал из-за нервного переутомления. А об ужине ни тот, ни другой не вспомнили. Мальчик даже не понимал, что с ним происходит, почему он ощущает такую слабость и покой.
Вот и все, что он чувствовал, лежа в кровати. Лампа еще горела; на дворе было темно. Время шло, но ему казалось, что если он повернет голову, то увидит обоих, себя и мужчину, на коленях возле кровати или по крайней мере ямки на коврике от двух пар колен, не заполненные ничем осязаемым. Сам воздух, казалось, еще источал этот монотонный голос, который был похож на бормотание сновидца и говорил, умолял, препирался с кем-то, не способным даже оставить призрачную ямку на настоящем коврике.
Так он лежал – на спине, скрестив на груди руки, словно надгробное изваяние, – и вдруг снова услышал на узкой лесенке шаги. Шаги были не мужские: он слышал, как в сумерки Макихерн уехал на коляске в церковь, не пресвитерианскую, а ближнюю, в трех милях – замаливать утреннее.
Не поворачивая головы, мальчик слышал, как карабкается по лестнице миссис Макихерн. Слышал, как приближается к его кровати. Он не смотрел на нее, но скоро ее тень упала на стену, стала видна, и он увидел, что миссис Макихерн несет какую-то вещь. Это был поднос с едой. Она поставила поднос на кровать. Он ни разу не взглянул на нее. Не шевельнулся. «Джо», – сказала она. Он не шевелился. «Джо», – сказала она. Она видела, что глаза у него открыты. Она к нему не прикоснулась.
«Не хочу есть», – сказал он.
Миссис Макихерн не шевелилась. Она стояла, сложив руки под фартуком. Казалось, она на него тоже не смотрит. Казалось, она обращается к стене над его кроватью. «Я знаю, что ты думаешь. Нет. Он не говорил, чтобы я отнесла тебе поесть. Я сама догадалась. Он не знает. Эта еда не от него». Он не шевелился. Его лицо было спокойно, как лицо изваяния, и обращено к скату дощатого потолка. «Ты целый день не ел. Сядь и поешь. Это не он велел, чтобы я отнесла тебе поесть. Он не знает. Я сама собрала – ждала только, пока он уедет».
Тогда он сел. У нее на глазах он поднялся с кровати, взял поднос, ушел с ним в угол и перевернул, скинув посуду с едой на пол. Затем он вернулся на кровать, держа поднос как дароносицу, только вместо стихаря на нем было белье, купленное для взрослого и ушитое. Она уже не смотрела на него, хотя ни разу за это время не пошевелилась. Руки ее были спрятаны под фартуком. Он влез на кровать и снова лег навзничь, глядя широко раскрытыми глазами в потолок. Он видел ее неподвижную тень, расплывчатую, чуть согнутую. Потом тень исчезла. Он не повернул головы, но услышал, как она присела в углу и собирает на поднос разбитую посуду. Потом она вышла из комнаты. Стало совсем тихо. Лампа горела ровно, ровным язычком; на стене мелькали тени мошек, большие, как птицы. Он чуял, слышал за окном темноту, весну, землю.
Тогда ему было всего восемь лет. Годы прошли, прежде чем память распознала то, что он помнил; годы – с того вечера, когда через час после ее ухода он поднялся с кровати, пошел и стал на колени в углу, как не желал стоять на коврике, и, над поруганной пищей склонившись, стал есть, как дикарь, как собака.
Сумерки; ему полагалось быть за несколько миль отсюда – дома. Хотя в субботние вечера он принадлежал самому себе, никогда еще в такой поздний час он не отлучался так далеко от дома. Дома его ожидала порка. Но не за то, что он сделал или не сделал во время отлучки. Хотя он не совершил никакого греха, по возвращении его должны были выпороть так же, как если бы он согрешил на глазах у Макихерна.
Но он, наверное, и сам еще не знал, что не согрешит. Впятером они тихо собрались в сумерки у покосившихся дверей брошенной лесопилки, куда перед тем вошла и, раз оглянувшись, скрылась девушка-негритянка, за которой они наблюдали, спрятавшись метрах в ста. Устроил это один из ребят постарше – он и пошел первым. Остальные – подростки в одинаковых комбинезонах, жившие в радиусе трех миль отсюда и в свои четырнадцать-пятнадцать лет, подобно тому, кто звался среди них Джо Макихерном, умевшие пахать, доить и колоть дрова не хуже взрослых, тащили соломинки, разыгрывая очередь. Он, наверное, и не думал об этом как о грехе, пока не подумал о человеке, который ждет его дома, ибо первейший грех для четырнадцатилетнего – быть публично обвиненным в девственности.
Настал его черед. Он вошел в сарай. Там было темно. Сразу же им овладело страшное нетерпение. Что-то рвалось из него, как раньше, когда он думал о зубной пасте. Но он не мог двинуться с места: внезапно почуяв женщину, почуяв негра, стоял, обуянный негро-женским, охваченный нетерпением, и вынужден был ждать, пока не услышал от нее путеводного звука, который не был осмысленным словом и получился нечаянно. Тогда ему показалось, что он видит ее: что-то распростертое, жалкое, может быть – и ее глаза. Нагнувшись, он словно заглянул в черный колодец и на дне его увидел мерцание – как отблески мертвых звезд. Он уже двигался, потому что его нога коснулась ее. Потом коснулась еще раз, потому что он ее пнул. И снова пнул, с силой, и продолжал пинать придушенный вопль удивления и страха. Она завизжала, он схватил ее за руку, рванул вверх и стал бить, исступленно, наотмашь, молотя, может быть, ее голос, но попадая в плоть – обуянный негро-женским, охваченный нетерпением.
Затем она отлетела от его кулака, и сам он тоже отлетел назад, потому что остальные навалились на него, толпясь, хватая, шаря, а он отвечал ударами, и в горле у него клокотало от ярости и отчаяния. Он чуял теперь только мужской запах, они – тоже, а где-то внизу визжала, пыталась выбраться она. Они топали и мотались, молотя по всему, что касалось руки или тела, и наконец рухнули кучей – Джо в самом низу. Но он и тут отбивался, боролся, плача. Ее уже не существовало. Они просто дрались – словно ветром их обдало, резким и свежим. Они придавили его, растянули на земле. «Ну, кончишь теперь? Ты попался. Говори, кончишь?»
– Нет, – сказал он. Он извивался, пробовал встать.
– Кончай, Джо! Со всеми не сладишь. Мы же не хотим с тобой драться.
– Нет, – сказал он, пыхтя и вырываясь. Ни один из них не мог разглядеть, где – кто. Они совсем забыли о девушке, о причине драки и о том, была ли вообще причина. Для тех четверых все получилось автоматически, непроизвольно: инстинктивное побуждение самца драться за самку или из-за самки, с которой он спарился недавно или желает спариться. Но никто из них не понимал, почему дерется он. А он им сказать не мог. Они прижимали его к земле и переговаривались тихими сдавленными голосами.
– Эй, вы, сзади, давайте отсюда. А потом мы его отпустим, разом.
– Кто его держит? Кого я держу?
– Эй, пусти. Так, погоди… вот он… Мы с… – Снова вся куча вздыбилась, напряглась. Они снова его прижали. – Он тут, под нами. А вы отпускайте и – ходу. Дайте нам повернуться.
Двое поднялись и отступили за дверь. Затем другие двое, словно подброшенные взрывом, вылетели из темного сарая и бросились бежать. Джо ударил сразу, как только его отпустили, но уже никого не достал. Лежа на спине, он смотрел, как убегает в сумерках четверка, замедляет ход, оборачивается. Он поднялся и вышел из сарая. Он стоял у двери, отряхиваясь – тоже непроизвольно, – а они тихо сошлись невдалеке и наблюдали за ним. Он на них не смотрел. Он зашагал прочь; комбинезон его сливался с сумерками. Час был поздний. Вечерняя звезда, тяжелая и сочная, висела, как цветок жасмина. Он ни разу не оглянулся. Он уходил, призраком тая в темноте; четверо ребят следили за ним, сбившись в кучку, и лица их в сумерках были маленькими и бледными. Внезапно один из них произнес неожиданно громко: «Ага-а-а!» Джо не оглянулся. Другой голос тихо сказал, прозвучал тихо, внятно: «Покедова, Джо, до завтра». Он не ответил. Продолжал идти. То и дело механическим жестом он отряхивал комбинезон.
Когда впереди показался дом, небо на западе уже потухло совершенно. На выгоне за сараем бил родник; купа ив шумела и пахла, но была неразличима. Когда он приблизился, трели молодых лягушек смолкли разом, как струны, перерезанные ножницами. Он опустился на колени; в темной воде не видно было даже очертаний его головы. Он ополоснул лицо, заплывший глаз. Потом пошел дальше – через выгон, к свету в кухонном окне. Оно следило за ним, выжидательно и угрожающе, как глаз.
Перед изгородью он остановился, глядя в освещенное окно. Постоял немного, опершись на изгородь. В траве дружно стрекотали кузнечики. Над росно-серой землей между темных древесных стволов плавали и гасли светляки, блуждающие и неверные. На дереве возле дома пел пересмешник. Дальше, в лесу за родником, свистали два козодоя. А еще дальше, словно за каким-то последним горизонтом лета, выла собака. Он прошел за ограду и в дверях хлева, где его дожидались две недоеные коровы, увидел неподвижно сидящего человека.
Он узнал Макихерна и даже не удивился – словно ситуация эта была совершенно логичной, разумной и неизбежной. Возможно, ему пришло в голову, что они двое всегда могут друг на друга рассчитывать, положиться друг на друга; что только ее поступки нельзя предугадать. Возможно, он не видел ничего несообразного в том, что, хотя он и воздержался от греха, который в глазах Макихерна был бы самым тяжким из возможных грехов, его сейчас накажут так же, как если бы он согрешил. Макихерн не встал. Он продолжал сидеть, бесстрастный, каменный, и рубашка его смутно белела в черном зеве двери. «Я подоил и накормил», – сказал он. Потом встал неторопливо. Возможно, мальчик знал, что ремень уже у него в руке. Он взлетал и падал неторопливо, по счету, с пресными неторопливыми хлопками. Тело мальчика было как будто из дерева, из камня: столп или башня, на котором чувствилище его размышляло как отшельник – созерцательно и отстраненно, в экстазе самораспятия.
К кухне они подошли бок о бок. Когда свет из окна упал на них, мужчина остановился, повернулся, приблизил к нему лицо, вглядываясь.
– Дрался, – сказал он. – Из-за чего?
Мальчик не ответил. Вид у него был бесстрастный, сосредоточенный. Немного погодя он ответил. Голос его был ровен, холоден.
– Просто так.
Они стояли.
– Ты что же – не можешь сказать или не хочешь сказать? – Мальчик не ответил. Он не смотрел в землю. Он ни на что не смотрел. – Если ты сам не знаешь, ты дурак. А если не хочешь сказать, значит, ты нашкодил. Ты был с женщиной?
– Нет, – ответил мальчик.
Мужчина смотрел на него. Когда он заговорил, тон у него был задумчивый.
– Ты никогда мне не лгал. То есть сколько я знаю. – Он смотрел на мальчика, на его спокойный профиль. – С кем ты дрался?
– Там был не один.
– Ага, – сказал мужчина. – Я полагаю, ты им оставил память?
– Не знаю. Наверно.
– Ага, – сказал мужчина. – Поди умойся. Ужин готов.
В ту ночь он ложился спать с твердым решением бежать из дома. Он чувствовал себя как орел: суровым, независимым, могущественным, беспощадным, сильным. Но это прошло, хотя он не понимал тогда, что ему, как орлу, клеткой была собственная плоть и все окружающее пространство.
Макихерн хватился телки только на третий день. И то потому, что наткнулся на спрятанный в хлеву новый костюм. Осмотрев его, он понял, что костюм ни разу не надеван. Костюм он нашел утром. Но ничего об этом не сказал. А вечером пришел в хлев, где Джо доил корову. Хотя он сидел на низком табурете, прислонясь головой к коровьему боку, нетрудно было заметить, что ростом он не уступит взрослому мужчине. Но Макихерн этого не видел. Если он что и видел, то – ребенка, пятилетнего сироту, который сидел с ним в коляске декабрьским утром двенадцать лет назад, настороженно замерший и покорно-безразличный, как животное. «Я не вижу твоей телки», – сказал Макихерн. Джо не ответил. Он склонился над подойником, над ровно шипящей струей молока. Макихерн стоял позади него, над ним, глядя сверху.
– Я говорю, твоей телки не видно.
– Знаю, – сказал Джо. – Она, наверно, у ручья. Я за ней сам присмотрю, раз она моя.
– Ага, – сказал Макихерн. Он не повысил голоса. – Пятидесятидолларовой телке вечером не место у ручья.
– Ну, это будет моя потеря, – сказал Джо. – Корова была моя.
– Была? – переспросил Макихерн. – Ты сказал, корова была твоя?
Джо не поднял головы. Струя молока из-под его пальцев с тихим шипением толкалась в подойник. Он слышал, что Макихерн ходит у него за спиной. Но не оглядывался, пока не кончил доить. Тогда он повернулся. Макихерн сидел на чурбаке у двери.
– Ты бы снес сперва домой молоко, – сказал он.
Джо встал; в руке у него покачивалось ведерко. Он ответил упрямо, но спокойно:
– Утром ее найду.
– Снеси домой молоко, – сказал Макихерн. – Я подожду тебя тут.
Джо постоял еще секунду. Потом повернулся. Он вышел из хлева и направился к кухне. Когда он ставил подойник на стол, появилась миссис Макихерн.
– Ужин готов, – сказала она. – Мистер Макихерн уже дома?
Джо отвернулся к двери.
– Скоро придет, – сказал он. Он чувствовал, что женщина смотрит на него.
Она сказала обеспокоенно, несмело:
– Ты как раз успеешь умыться.
– Скоро придем. – Он вернулся в хлев.
Миссис Макихерн подошла к двери и смотрела ему вслед. Еще не совсем стемнело, и она увидела в дверях хлева фигуру мужа. Она не позвала его. Просто стояла и смотрела, как сходятся двое мужчин. Что они говорят, она не могла расслышать.
– Так, говоришь, она у ручья? – сказал Макихерн.
– Я сказал – может быть. На выгоне места много.
– Ага, – сказал Макихерн. Оба разговаривали спокойно. – Где же она, по-твоему?
– Не знаю. Я не корова. Не знаю, где она может быть.
Макихерн пошел.
– Давай посмотрим, – сказал он. Джо вышел на пастбище следом за ним. До ручья было четверть мили. В темной ленте прибрежных деревьев мелькали светляки. Они подошли к деревьям. Стволы их задыхались в болотной поросли, непролазной даже днем. – Кликни ее, – сказал Макихерн. Джо молчал. Не шевелился. Они стояли лицом к лицу.
– Корова моя, – сказал Джо. – Вы мне отдали ее теленком. Я вырастил ее, потому что вы отдали ее мне в собственность.
– Да, – сказал Макихерн. – Отдал. Чтобы приучить тебя к ответственности владения имуществом, собственностью. К ответственности владельца перед тем, чем он владеет с Божьего соизволения. Чтобы научить тебя предусмотрительности и приумножению. Кликни ее.
Они по-прежнему стояли лицом к лицу. Возможно, смотрели друг на друга. Потом Джо повернулся и пошел вдоль топи, Макихерн последовал за ним.
– Почему не зовешь? – сказал он. Джо не ответил. Он как будто вовсе не смотрел на ручей, на болото. Наоборот, он смотрел на одинокий огонек в той стороне, где был дом, – то и дело оглядывался на него, словно измеряя пройденный путь. Они шли не быстро, но вскоре очутились перед изгородью, отмечавшей границу выгона. Уже совсем стемнело. У изгороди Джо повернулся. Теперь они смотрели друг на друга. Они опять стояли лицом к лицу. Потом Макихерн сказал:
– Что ты сделал с телкой?
– Продал, – сказал Джо.
– Ага. Продал. А могу я узнать, что ты за нее получил?
Лиц они уже не могли различить. Они были всего лишь двумя тенями, почти одинаковой высоты, только Макихерн был пошире. Голова его над белым пятном рубашки напоминала мраморные ядра на памятниках Гражданской войны.
– Корова была моя, – сказал Джо. – Если она была не моя, зачем вы мне так сказали? Зачем мне ее отдали?
– Ты прав. Она была твоей собственностью. Пока что я тебя не упрекал за продажу – если только ты взял за нее хорошую цену. И если даже тебя надули, как это скорей всего и должно случиться с мальчиком восемнадцати лет, – я тебя все равно не упрекну. Хотя надо было спросить совета у старшего, кто лучше знает жизнь. Но ты должен учиться, как я учился. А спрашиваю я вот что: куда ты положил деньги на сохранение? – Джо не отвечал. Они стояли друг против друга. – Может, ты отдал их на хранение приемной матери?
– Да, – сказал Джо. Сказал его язык – солгал помимо воли. Он отвечать не собирался. Он услышал свой ответ с каким-то тягостным изумлением. Но было уже поздно. – Отдал ей, чтобы спрятала, – добавил он.
– Ага, – сказал Макихерн. И вздохнул – вздохнул чуть ли не с наслаждением – удовлетворенно, победоносно. – И ты, конечно, скажешь, что это приемная мать купила тебе новый костюм, который спрятан на сеновале. Ты был замечен во всех других грехах, на какие способен: в лени, в неблагодарности, в непочтительности, в богохульстве. Теперь я уличил тебя в последних двух: во лжи и разврате. Зачем тебе понадобился новый костюм, если не для распутства? – Так он признал, что ребенок, усыновленный им двенадцать лет назад, – мужчина. Стоя с ним почти нос к носу, Макихерн ударил его кулаком.
Первые два удара Джо стерпел – может быть, по привычке, может быть – от удивления. Но стерпел – чувствуя, как тяжелый кулак мужчины дважды врезался ему в лицо. Потом он отскочил, пригнулся, слизывая кровь, пыхтя. Они стояли друг против друга.
– Попробуй еще ударь, – сказал он.
Позже, когда, холодный, окоченелый, он лежал у себя на чердаке, он услышал их голоса, долетавшие по узкой лестнице из нижней комнаты.
– Я его купила! – говорила миссис Макихерн. – Я! На свои деньги от масла. Ты сказал, что я могу распоряжаться… могу тратить… Саймон! Саймон!
– Ты врешь еще нескладнее, чем он, – сказал мужчина. Голос Макихерна, размеренный, суровый, бесстрастный, долетал по лестнице до его кровати. Он его не слушал. – На колени. На колени. НА КОЛЕНИ, ЖЕНЩИНА. Проси у Бога милости и прощения – не у меня.
Она всегда старалась быть с ним ласковой – с того первого декабрьского вечера двенадцать лет назад. Когда коляска подъехала к дому, она стояла на крыльце – терпеливое, забитое существо без признаков пола, если не считать аккуратного седеющего узелка на макушке да юбки. Казалось, не морил, не разлагал ее исподволь безжалостный фанатик-муж, превращая в нечто чуждое даже своим намерениям и ее разумению, а упрямо расплющивал ее, как ковкий, податливый металл, все тоньше и тоньше – в бесплотность немых надежд и неисполненных желаний, серых и тусклых, как зола.
Когда коляска остановилась, она пошла к ним так, словно заранее все наметила и отрепетировала: как она снимет его с дрожек, унесет в дом. С тех пор, как он научился ходить, его ни разу не брала на руки женщина. Он вывернулся и пошел в дом сам – зашагал, маленький и неуклюжий в широкой попоне. Она шла рядом, вилась вокруг него. Она его усадила; в том, как она вилась вокруг него, в ее проворстве было что-то натянутое, растерянно-егозливое, словно ей хотелось повторить все сначала – чтобы он и она действовали так, как было намечено. Став перед ним на колени, она пыталась его разуть – до тех пор, пока он не догадался, чего ей надо. Он отвел ее руки и разулся сам, но на пол башмаки не поставил. Он не выпускал их из рук. Она стащила с него чулки и тут же принесла таз с горячей водой – принесла так быстро, что всякий, кроме ребенка, понял бы, что она держала его наготове, вероятно даже, с самого утра. Тогда он заговорил в первый раз: «Я вчера уже мылся».
Она не ответила. Она стояла перед ним на коленях, а он разглядывал ее макушку и руки, неловко копошившиеся у его ног. Теперь он не пытался ей помочь. Он не понимал, что она затевает, даже тогда, когда его застывшие ноги погрузились в теплую воду. Он не верил, что это – все: слишком ему было приятно. Он ждал, когда начнется остальное, неприятная часть – какова бы она ни была. Такого с ним раньше никогда не случалось.
Потом она уложила его в постель. Уже почти два года он одевался и раздевался сам, никто за ним не присматривал, никто не помогал – разве что, изредка, какая-нибудь Алиса. Заснуть сразу он не мог, потому что слишком устал, и сейчас был растерян, нервничал, желая только одного – чтобы она наконец ушла и дала ему уснуть. А она не уходила. Наоборот, она придвинула к кровати стул и села. Печка в комнате не топилась, было холодно. На женщине была шаль, она куталась в шаль, а изо рта у нее шел пар, как будто она курила. Ему совсем расхотелось спать. Он ждал, когда начнется неприятная часть, какова бы она ни была, за какую бы провинность ни полагалась. Он не понимал, что это – все. Такого с ним тоже никогда не случалось.
С той ночи все и пошло. И он думал, что так будет продолжаться всю жизнь. В семнадцать лет, оглядываясь назад, он видел всю длинную цепь будничных, нелепых, напрасных усилий, рожденных жизненным крушением, беспомощностью и дремлющим инстинктом: кушанья, которые она готовила тайком и заставляла тайком брать и есть, когда он их не хотел, зная к тому же, что Макихерну это безразлично; случаи вроде сегодняшнего, когда она пыталась встать между ним и наказанием: заслуженное ли, нет ли, справедливое или несправедливое, оно всегда было нелицеприятным, и мужчина с мальчиком относились к нему как к естественному и неизбежному факту – покуда не вмешивалась она и не сообщала ему какого-то душка, утонченности, стойкого привкуса.
Порою он думал сказать ей наедине – будучи уверен, что по беспомощности своей она не сможет ни перетолковать, ни оставить его слова без внимания, – сказать ей, чтобы знала и вынуждена была скрывать от мужа, чья немедленная и наперед известная реакция настолько бы заслонила и стерла само известие, что к нему больше и не возвращались бы, – сказать по секрету, расплатиться тайком за поданную тайком еду, которой он не хотел: «Слушай. Он говорит, что вскормил неблагодарного богохульника. Так вот, соберись с духом и скажи ему, кого он вскормил. Нигера он вскормил под своей крышей, за своим столом, своей собственной пищей».
Потому что она всегда была добра к нему. Мужчина, суровый, безжалостный судья, просто полагался на него – что он будет вести себя определенным образом и получать за это столь же определенное воздаяние; так же и он мог положиться на мужчину – что тот определенным образом будет реагировать на определенные его поступки и проступки. В женщине было дело – с ее женским влечением и склонностью к секретам, к тому, чтобы грешком приправить самое ерундовое и невинное занятие. За отставшей доской в стене его чердачной комнаты она спрятала в жестянке немного денег. Деньги были пустячные и прятались, понятно, не от кого иного, как от мужа, хотя мальчик думал, что мужу было бы все равно. Для него же это никогда не было секретом. Когда он был еще ребенком, она тайком приглашала его с собой на чердак, кралась туда со всяческими предосторожностями, как в ребячьей игре, и добавляла к своему кладу жалкие, считанные пяти– и десятицентовики (плоды невесть каких мелких уловок и обманов, против которых никто на свете и возражать бы не стал), а он смотрел серьезными круглыми глазами, как падали в жестянку монеты, в достоинстве которых он даже не разбирался. Это женщина доверялась ему, навязывала свое доверие, как навязывала свои кушанья: заговорщицки, тайком, делая тайну из тех отношений, которые этот акт доверия должен был подтверждать.
Дело было не в тяжелой работе, которую он ненавидел, не в наказаниях и несправедливости. С этим он свыкся еще до того, как узнал их обоих. Ничего другого он не ждал: это его не удивляло и не возмущало. В женщине: ее мягкость и доброту, чьей жертвой, казалось ему, он обречен быть всю жизнь, – вот что ненавидел он пуще сурового и безжалостного суда мужского. «Она хочет, чтоб я заплакал», – думал он, когда лежал на своей кровати, закинув руки за голову, холодный, окоченелый, в полосе лунного света, и слышал настойчивое бормотание мужчины, долетавшее до его комнаты по дороге к небу. «Хотела, чтоб я заплакал. Тогда, думает, он у нас в руках».
8
Двигаясь бесшумно, он достал из тайника веревку. Один конец был заранее завязан петлей, чтобы закреплять в комнате. Теперь он мог моментально спуститься на землю и подняться обратно; теперь, после года с лишним упражнений, он умел, ни разу не коснувшись стены, взлететь по веревке с тенеподобной легкостью и проворством кошки. Он высунулся из окна, и отпущенный конец прошелестел вниз. В лунном свете веревка выглядела не толще паучьей нити. Затем, подвесив связанные ботинки сзади к поясу, он съехал по веревке, пронесшись, как тень, мимо окна, за которым спали Макихерны. Веревка висела прямо перед окном. Он оттянул ее вбок по стене и привязал. Потом прошел под лунным светом к хлеву, взобрался на сеновал и вытащил из тайника новый костюм. Костюм был аккуратно завернут в бумагу. Прежде чем развернуть его, он ощупал складки бумаги. «Нашел, – подумал он. – Пронюхал». И шепотом произнес: «Сволочь. Гад».
Он оделся в темноте, быстро. Он уже опаздывал: пришлось дожидаться, когда они уснут после скандала из-за телки – и виновата в скандале была женщина, потому что вмешалась, когда все уже было кончено или по крайней мере отложено до утра. В пакете лежала еще белая сорочка и галстук. Галстук он положил в карман, но пиджак надел, чтобы не так заметна была при луне белая рубашка. Он спустился и вышел из хлева. После стираного-перестираного комбинезона новая одежда казалась плотной, жесткой. Дом, темный и непроницаемый, предательски затаился в лунном свете. Из-за луны у него как будто появилась собственная физиономия: лживая, угрожающая. Он миновал дом и вышел на дорогу. Вынул из кармана дешевые часы. Они были куплены три дня назад, на выручку от телки. Но он еще не привык иметь дело с часами и поэтому забыл их завести. Впрочем, и без часов было ясно, что он опаздывает.
Перед ним в лунном свете лежала прямая дорога, обсаженная деревьями; жирные резкие тени сучьев на мягкой пыли были как будто намазаны черной краской. Он шел быстро; дом остался за спиной, из дома его уже нельзя было увидеть. Дорога выходила на большак невдалеке. В любую минуту мимо мог промчаться автомобиль: он предупредил ее, что если не придет к перекрестку, то встретит ее прямо у школы, где будут танцы. Но машина не показывалась, и, выйдя на большак, он ничего не услышал. Дорога, ночь были безлюдны. «Может, уже проехала», – подумал он. Он снова вынул бездействующие часы и посмотрел на них. Часы стояли потому, что ему помешали их завести. Из-за Макихернов он опоздал: это они не дали ему завести часы, и теперь он не мог узнать, опоздал он или нет. Там, позади, в конце темной дороги, в невидимом доме спала женщина – почему бы не спать, раз она сделала все, чтобы он опоздал. Он оглянулся назад, в сторону дома – и в этой позе, с этой мыслью замер; замерли ум и тело, словно их одновременно выключили: ему показалось, будто между теней на дороге кто-то движется. Потом он подумал, что ему просто померещилось – что это, может быть, его мысли спроецировались, как тень на стену. «Но я надеюсь, что это он, – подумал он. – Хорошо бы, если он. Хорошо бы, он следил за мной и поглядел, как я сажусь в машину. Хорошо бы, он попробовал нас догнать. Попробовал бы остановить меня». Но на дороге он ничего не увидел. Она была пуста, исчерчена предательскими тенями. Потом он услышал вдалеке, со стороны города, звук мотора. Он стал вглядываться и вскоре различил свет фар.
Она была официанткой в плохоньком ресторанчике на одной из глухих улиц города. Взрослый с первого взгляда понял бы, что ей уже за тридцать. Но Джо, вероятно, казалось, что ей не больше семнадцати – из-за ее миниатюрности. Она не только ростом была мала, она была худа, как ребенок. Но взрослый заметил бы, что миниатюрность эта – не от природной хрупкости, а от какой-то внутренней порчи в душе, хрупкость, в которой никогда не было ничего молодого, в чьих линиях юность и не живала. Волосы у нее были темные. Лицо ее с рельефным костяком всегда было опущено, словно голова на плечах сидела неправильно, с наклоном. Глаза ее напоминали пуговичные глаза игрушечного зверька – их взгляд мало было бы назвать жестким, хотя жесткости в нем не было.
И подступился он к ней только потому, что она была маленькая – словно это могло или должно было уберечь ее от плотоядных рыщущих мужских глаз, увеличить его шансы. Если бы она была крупной, он бы не отважился. Он подумал бы: «Бесполезно. У нее уже есть парень, мужчина».
Началось это осенью, когда ему было семнадцать лет. День был будний. Обычно они приезжали в город по субботам, на весь день, и привозили еду с собой – холодный обед в корзинке, купленной и хранившейся специально для этого. На этот раз Макихерн поехал повидаться с юристом – с намерением закончить дела и вернуться домой к обеду. Но когда он вышел на улицу, где ждал Джо, было почти двенадцать. Он появился, глядя на свои часы. Затем он поглядел на городские часы и, наконец, на солнце – с выражением досады и возмущения. С тем же выражением он поглядел на Джо; открытые часы лежали у него на ладони, а в глазах было холодное недовольство. Он словно впервые изучал, оценивал юношу, которого воспитывал с младенческих лет. Потом он повернулся. «Пойдем, – сказал он. – Теперь уж ничего не поделаешь».
Город стоял на разветвлении железной дороги. Даже в будни на улицах толпились мужчины. Весь дух города был мужской, транзитный: город, где даже женатые люди бывали дома урывками и по праздникам, где мужчины жили отдельной, сокровенной жизнью, разворачивавшейся в далекой среде, а во время коротких наездов домой их ублажали, как меценатов в театре.
Джо впервые видел заведение, куда его привел Макихерн. Это был ресторанчик на глухой улице: грязная узкая дверь между двумя грязными окошками. Он не сразу понял, что это ресторан. Вывески не было; не слышалось ни звуков, ни запахов кухни. Глазам его предстала длинная деревянная стойка с рядом табуретов, крупная блондинка за витриной с сигарами напротив входа и у дальнего конца стойки – группа мужчин, которые ничего не ели и, повернувшись, как по команде, уставились на вошедших сквозь табачный дым. Никто не проронил ни звука. Все смотрели на Джо и Макихерна так, словно дыхание оборвалось вместе с разговором, и даже дым сигарет оборвался и теперь плавал как попало, под собственной тяжестью. Мужчины были не в комбинезонах – все в шляпах, и лица, как на подбор, ни молодые, ни старые, ни сельские, ни городские. Они имели вид людей, которые только что сошли с поезда и завтра опять уедут, людей без адреса.
Сидя на табуретах за стойкой, Джо и Макихерн ели. Джо поел быстро, потому что Макихерн ел быстро. Даже за едой этот человек сидел с какой-то оскорбленной чопорностью. Еду он заказал простую – которую готовят наскоро и наскоро едят. Но Джо знал, что скупость здесь ни при чем. Скупость, возможно, привела их сюда, а не в другое место, но еду эту он заказал потому, что хотел поскорее уйти. Не успев положить нож и вилку, Макихерн слез с табурета и сказал: «Идем». У витрины с сигарами Макихерн расплатился с латунноволосой. Было в ней нечто неподвластное возрасту: воинственная, диамантово-неуязвимая почтенность. Она не удостоила их взглядом – даже когда они входили, даже тогда, когда Макихерн протянул ей деньги. Так же, не глядя, она быстро и точно отсчитала сдачу, ссыпав на стекло монеты чуть ли не раньше, чем Макихерн протянул свою бумажку; за фальшивым блеском внимательно уложенных волос, внимательного лица в ней была четкость каменной львицы, стерегущей портал, и почтенность свою она выставляла как щит, за которым могли сбиваться в кучку праздные, сомнительные люди в шляпах набекрень, с косо влипшими в рот сигаретами. Макихерн проверил сдачу, и они вышли на улицу. Он опять стал смотреть на Джо. Он сказал: «Ты у меня запомни это место. Есть на свете места, куда мужчине можно зайти, а мальчику, юноше твоих лет, вход заказан. Вот это – такое место. Может, тебе вообще не следовало сюда заходить. Но повидать такое надо – чтоб ты знал, чего избегать и сторониться. Тем более что я находился рядом и мог объяснить и предостеречь. И обед здесь дешев».
– А чего тут такого? – спросил Джо.
– Это – дело города, не твое. Ты же просто запомни мои слова: я тебе не разрешаю ходить сюда без меня. А моей ноги здесь больше не будет. В другой раз, рано не рано, а обед мы привезем с собой.
Вот что он увидел в тот день, быстро глотая еду рядом с несгибаемым, безмолвно негодующим человеком, с которым они сидели у середины длинной стойки, начисто отрезанные от всех – и от латунноволосой женщины с одного края, и от группы мужчин – с другого, и от официантки, чьи большие, чересчур большие руки расставляли тарелки и чашки, а скромно потупленное лицо выглядывало из-за стойки на высоте чуть больше детского роста. Потом они с Макихерном вышли. Он не рассчитывал когда-либо вернуться сюда. И не потому, что ему запретил Макихерн. Просто ему не верилось, что жизнь занесет его сюда еще раз. Он как бы сказал себе: «Эти люди мне чужие. Я вижу их, но не понимаю, что они делают и почему. Слышу их, но не понимаю, что они говорят, почему говорят и кому. Я знаю, что-то тут есть, кроме еды, питания. Но что – не знаю. И никогда не узнаю».
И это ушло с поверхности сознания. В следующие полгода он изредка ездил в город, но ресторана не видел, мимо не проходил. Мог бы. Но как-то не думал об этом. Может быть, просто не чувствовал нужды. Мысли – может быть, безотчетно порой – выливались в картину, отстаивавшуюся, отстоявшуюся: длинная, пустая и какая-то сомнительная стойка; неподвижная, хладноликая, буйноволосая женщина будто сторожит ее с краю; с другого – мужчины с притягивающимися головами, в шляпах набекрень, дымят и дымят, закуривая и бросая сигарету за сигаретой; и официантка, женщина с ребенка ростом, снует между кухней и залом с ношей посуды, каждый раз становясь досягаемой для мужчин, которые наклоняются к ней, что-то говорят сквозь табачный дым, шепчут, как бы потешаясь или торжествуя победу, и лицо ее задумчиво, скромно, потуплено, словно она не слышит. «Не знаю даже, что они ей говорят», – думал он, с мыслью Не знаю, может, то, что они говорят ей, годилось бы и для ушей проходящего мимо ребенка и верилось Я не знаю еще, что в миг сна веки замыкают в темнице глаз ее лицо, скромное, задумчивое; трагическое, печальное и молодое; ждущее, осиянное смутной туманной волшебной зарей молодого желания. Что есть уже для любви пища: что во сне я знаю теперь, почему отверг и ударил ту негритянку три года назад, что и она должна это знать и гордиться, гордиться и ждать
Так что он не рассчитывал снова ее увидеть, ибо любовь молодых сыта такою же крохой надежды, как и желания. Он, по всей вероятности, не меньше был удивлен своим поступком и тем, что в поступке обнажилось, чем был бы удивлен Макихерн. Это произошло в субботу, уже весной. Ему недавно исполнилось восемнадцать. Макихерн опять поехал повидать юриста. Но на этот раз он подготовился. «Я пробуду здесь час, – сказал он. – Можешь погулять, посмотреть город». Как и тогда, он глядел на Джо пристально, оценивающе, как и тогда – с легким раздражением справедливого человека, вынужденного смирять свою справедливость ради здравого смысла. «На, – сказал он. Он открыл кошелек и вынул монету. Десятицентовую. – И постарайся не дарить первому же, кто согласится их взять. Странное дело, – с раздражением сказал он, глядя на Джо, – ну прямо не может человек научиться ценить деньги, пока швырять их не научится. Будешь здесь через час».
Он взял монету и отправился прямо в ресторан. Даже в карман ее не спрятал. Он поступил так без всякого обдуманного плана, почти невольно, словно его действиями управляли ноги, а не голова. Горячую маленькую монету он сжимал в кулаке, как ребенок. Он открыл затянутую сеткой дверь и вошел неловко, споткнувшись о порог. Блондинка (она словно не шевельнулась за эти полгода, пряди не сдвинула в жесткой, яркой, волнисто-латунной прическе, не переменила даже платья) наблюдала за ним из-за витрины с сигарами. Мужчины – все такие же, в шляпах набекрень, с сигаретами в зубах, пропахшие парикмахерской, – наблюдали за ним, сидя у дальнего края стойки. Среди них находился хозяин. Джо увидел, заметил его впервые. Как и другие мужчины, хозяин был в шляпе и курил. Он был невысокий, ненамного выше Джо, и сигарета у него торчала в углу рта, – словно заткнутая туда, чтобы не мешать разговору. У этого человека, невозмутимо прищурившегося за курчавым дымком сигареты, которая курилась беспризорно, без приложения рук, а догорев, выплевывалась и растаптывалась каблуком, Джо переймет одну из его повадок. Но не теперь. Это произойдет позже, когда жизнь завертится с такой быстротой, что приятие подменит собой и познание и убеждения. Теперь же он только смотрел на человека, который прислонился к стойке с другой стороны, – человека в грязном фартуке, нацепленном так, как разбойник с большой дороги нацепил бы накладную бороду. Приятие пришло позже, вместе со всею суммой надругательств над доверчивостью: эти двое – как муж и жена; их заведение – как место, где едят, с чередой привозных официанток, неумело разносящих тарелки с едой, самой дешевой и незамысловатой, только бы название ресторана оправдать; и он принимал и потреблял все без разбора во время недолгой бурной гулянки – с наивным восторженным изумлением, как молодой жеребчик на укромном пастбище усталых профессиональных кобылиц – обобранный безымянными, несчитанными мужчинами.
Но это было впереди. Джо подошел к стойке, сжимая в кулаке монету. Он был уверен, что мужчины умолкли, наблюдают за ним – ибо не слышал ничего, кроме яростного шипения сковород за кухонной дверью, – и думал Она там. Вот почему я ее не вижу Он потихоньку влез на табурет. Он был уверен, что все наблюдают за ним. Что смотрит блондинка из-за витрины с сигарами, что смотрит хозяин, перед лицом которого совсем, должно быть, застыла ленивая струйка дыма. Потом хозяин произнес одно короткое слово. Джо знал, что он не пошевелился и не дотронулся до своей сигареты. «Бобби», – сказал он.
Мужское имя. Это не было мыслью. Возникло мгновенно, целиком Ее нет. Вместо нее взяли мужчину. Выкинул деньги – правильно он сказал Ему казалось, что теперь нельзя уйти; если он поднимется, блондинка его остановит. Ему казалось, что мужчины у края стойки понимают это и смеются над ним. И он неподвижно сидел на табурете, опустив глаза, сжав в кулаке монету. Он не видел официантку, пока на стойке перед его глазами не появились две большие руки. Он увидел узор на ее платье, нагрудник и две мосластые руки, лежавшие на краю стойки так неподвижно, как будто они тоже были предметами, принесенными ею с кухни. «Кофе с пирожным», – сказал он.
Ее голос прозвучал понуро, пусто. «Лимонное какао шоколадное».
Судя по тому, с какой высоты раздавался голос, эти руки просто не могли принадлежать ей. «Да», – сказал Джо.
Руки не шевельнулись. В голосе ничего не шевельнулось. «Лимонное какао шоколадное. Какое». Со стороны они, должно быть, выглядели странно. Друг против друга, разделенные темным, заляпанным, сальным, до гладкости вытертым прилавком, они были немного похожи на молящихся: юноша с деревенским лицом, чисто, по-спартански одетый, в чьем облике от скованности появилось что-то немирское, невинное, и женщина перед ним, понурая, застывшая в ожидании, настолько маленькая, что и ей как будто сообщился тот же отпечаток – мира не плотского. Лицо у нее было худое, заострившееся, скулы – обтянутые, под глазами темные круги. Глаза, полуприкрытые веками, казалось, лишены глубины и даже не отражают света. Нижняя челюсть выглядела слишком узкой, чтобы вместить подкову зубов.
«С какао», – сказал Джо. Сказал его язык, потому что ему тут же захотелось отказаться от этих слов. У него было всего десять центов. Но он так крепко держал монету, что забыл, что их всего десять. Ладонь, сжимавшая монету, потела, мокла. Он был уверен, что мужчины опять наблюдают за ним и смеются. Он их не слышал и не смотрел на них. Но был уверен в этом. Руки исчезли со стола. Потом вернулись, поставив перед ним тарелку и чашку. Теперь он посмотрел на нее – на лицо. «Почем пирожное?» – сказал он.
«Пирожное десять центов». Она просто стояла перед ним за стойкой, ее большие руки опять лежали на темном дереве, и фигура ее по-прежнему выражала только усталость и ожидание. Она ни разу не взглянула на него. Он сказал слабым, отчаянным голосом: «Я, кажется, не хочу кофе».
Она не шевелилась. Потом большая рука оторвалась от стойки и взяла чашку с кофе; рука и чашка исчезли. Он сидел неподвижно, тоже потупясь; ждал. И наконец услышал. Не хозяина. Женщину за витриной с сигарами.
– В чем дело? – сказала она.
– Он не хочет кофе, – сказала официантка. Ее голос, речь удалялись, как будто вопрос настиг ее на ходу. Голос был глухой, тихий. Блондинка тоже говорила тихо.
– Он что, не заказывал кофе? – спросила она.
– Нет, – сказала официантка тем же ровным голосом, удалявшимся, уходившим. – Я не поняла.
Когда он вышел, когда душа скорчилась от унижения и горя и нестерпимого желания незаметно прошмыгнуть мимо холодного лица женщины за табачной витриной, он был уверен, что больше не захочет и не сможет видеть официантку. Он не мог поверить, что найдет в себе силы снова увидеть ее или хотя бы снова кинуть взгляд на эту улицу, на грязную дверь даже издали; но не думал еще Это ужасно – быть молодым. Ужасно. Ужасно Когда подходила суббота, он выискивал, придумывал причину не ехать в город, и Макихерн присматривался к нему – пока еще без особого подозрения. Джо убивал дни усердной работой, слишком усердной; Макихерн наблюдал за работой с подозрением. Но ничего не мог отсюда понять, заключить. Работать не возбранялось. Это позволяло Джо сладить и с ночами – ибо он слишком уставал, чтобы не спать. А со временем даже отчаяние, горе и стыд притупились. Он не перестал вспоминать и вновь переживать случившееся. Но теперь оно поистерлось, как сиплая, заигранная пластинка, сжевывающая голоса и узнаваемая лишь по рисунку мелодии. И, наконец, даже Макихерн вынужден был смириться. Он сказал:
«Я наблюдал за тобой последнее время. И прямо не знаю – либо мне глазам своим не верить, либо ты и вправду признал наконец то, что Господь благоволил отпустить на твою долю. Но я не дам тебе возгордиться после моего хорошего отзыва. У тебя будет время и случай (и желание тоже, не сомневаюсь) заставить меня пожалеть о своих словах. Снова погрязнуть в лени и праздности. Однако награда положена человеку свыше, равно как и наказание. Видишь телку? С этого дня она – твоя собственность. Смотри, чтоб мне не пришлось об этом пожалеть».
Джо поблагодарил его. Теперь он мог посмотреть на телку и сказать вслух: «Это принадлежит мне». Он посмотрел на нее и – опять не подумал, а возникло мгновенно, целиком: Это не подарок. Это даже не обещание – это угроза и подумал: «Я его не просил. Он сам дал. Я его не просил», зная Видит Бог, я ее заработал
Месяц спустя. В субботу утром.
– Я думал, тебе разонравилось ездить в город, – сказал Макихерн.
– Еще разок съездить – не велика беда, – сказал Джо. В кармане у него было полдоллара. Ему их дала миссис Макихерн. Он попросил пять центов. Она заставила его взять полдоллара. Он взял, положил на ладонь с холодным презрением.
– Ну что ж, – сказал Макихерн. – И работал ты старательно. Но город – дурная привычка для того, кому еще надо выбиться в люди.
Ему не пришлось убегать, хотя он не остановился бы и перед этим – даже если бы пришлось применить силу. Но Макихерн облегчил ему задачу. Джо отправился в ресторан, быстро. Теперь он вошел не споткнувшись. Официантки не было. Возможно, он заметил, обратил внимание, что ее нет. Он остановился у витрины с сигарами, за которой сидела блондинка, и положил на витрину полдоллара. «Я должен пять центов. За чашку кофе. Я сказал, кофе с пирожным, а не знал, что оно – десять центов. Я должен вам пять центов». Он не смотрел в глубину зала. Там сидели мужчины в шляпах набекрень, с сигаретами. Там стоял хозяин – в грязном фартуке; Джо наконец услышал его слова, пропущенные мимо сигареты:
– Чего там? Чего ему надо?
– Он говорит, что должен Бобби пять центов, – ответила женщина. – Хочет отдать Бобби пять центов. – Она говорила тихо. Хозяин говорил тихо.
– Господи спаси, – сказал он.
Джо казалось, что все в зале обратилось в слух. Он слышал не слыша; видел не глядя. Он уже шел к двери. Полудолларовая монета лежала на стеклянной витрине. Хозяин, хоть и был далеко, заметил ее – он сказал:
– А это за что?
– Он говорит, что должен за чашку кофе, – объяснила женщина.
Джо уже подходил к двери.
– Слушай, малый, – окликнул его хозяин.
Джо не остановился.
– Верни ему деньги, – сказал хозяин ровным голосом, все еще не двигаясь. Дым сигареты, должно быть, поднимался ровно перед его лицом, не потревоженный ни малейшим движением. – Отдай обратно, – сказал он. – Не знаю я, какая у него игра. Только с нами это не пройдет. Верни ему деньги. Шел бы ты к себе на ферму, селянин. Может, там уговоришь девочку за пять центов.
И вот он уже на улице, и полудолларовая монета купается в поту, потеет в руке, большая, как тележное колесо. Смех гнал его. Джо вышел за дверь под смех мужчин – преследуемый смехом. Смех подхватил его и понес по улице; потом улетел дальше, замирая, оставив его на земле, на тротуаре. Перед ним стояла официантка. Она была в темном платье и в шляпе, шла быстро, потупясь и увидела его не сразу. И снова, как в тот раз, когда она поставила перед ним кофе с пирожным, она на него даже не смотрела – раз взглянув, все поняла. Она сказала:
– А-а. Вы пришли отдать мне деньги. При них. И они над вами посмеялись. Надо же.
– Я думал, вам самой пришлось заплатить… Я думал…
– Надо же. Может, хватит об этом? Хватит?
Стоя лицом к лицу, они не смотрели друг на друга. Их можно было принять за двух монахов, встретившихся в саду в часы созерцания.
– Я просто подумал, что…
– Где вы живете? – сказала она. – В деревне? Надо же. Как вас зовут?
– Не Макихерн, – сказал он. – Кристмас.
– Кристмас? Это ваша фамилия? Кристмас! Надо же.
В отрочестве и позже он и еще четверо или пятеро ребят ходили по субботам на охоту или на рыбалку. Девушек он видел только в церкви, по воскресеньям. Девушки ассоциировались с воскресеньем и церковью. Поэтому он не мог их замечать: это было бы – даже для него – отречением от ненависти к религии. Но между собой они говорили о девушках. Может быть, кое-кто из них (например, тот, который договорился тогда с негритянкой) знал. «Они все хотят, – сказал он остальным. – Но иногда не могут». Остальные этого не знали. Они не знали, что все девушки хотят, а тем более что бывает время, когда они не могут. Они представляли себе дело иначе. Но, признавшись, что им неизвестно последнее, они тем самым признались бы, что не имели случая убедиться в первом. Поэтому они слушали, что говорил тот. «Это у них бывает раз в месяц». Он описал, как представляет себе физическую сторону события. Возможно, он знал. Во всяком случае, рассказ был достаточно живописным, достаточно убедительным. Если бы он стал описывать это как душевное состояние, о котором можно только гадать, они бы его не слушали. Но он развернул картину физическую, фактическую, доступную обонянию и даже глазу. Это тронуло их: временная и жалкая беспомощность того, что дразнило неисполнимые желания; гладкий прекрасный сосуд, обитель хотения, обреченного с неотвратимой регулярностью становиться жертвой периодической грязи. Так он излагал это, и остальные пятеро молча слушали, поглядывая друг на друга вопросительно и заговорщицки. В следующую субботу Джо не пошел с ними охотиться. Макихерн думал, что он отправился на охоту, потому что ружья дома не было. А Джо прятался в хлеву. Он просидел там весь день. В следующую субботу он опять ушел с ружьем, но один, рано, до того, как за ним забежали ребята. Он не охотился. В конце дня меньше чем в трех милях от дома он убил овцу. Он наткнулся на стадо в укромной лощине, подкрался и застрелил ее из ружья. Потом, с пересохшим ртом, дрожа и озираясь, стал на колени и окунул руки в теплую кровь издыхающего животного. Так он преодолел это в себе, превозмог. Он не забыл того, что рассказывал приятель. Просто примирился с этим. Обнаружил, что может с этим жить. Словно сказал себе, отбросив логику, со спокойствием отчаяния Ладно. Пусть это так. Но не для меня. Не в моей жизни, не в моей любви И вот прошло три или четыре года, и это было забыто, как забывается факт, уступив однажды настойчивости ума, отказывающегося признать его и истинным и ложным.
Он встретился с официанткой в понедельник ночью – через день после той субботы, когда пытался отдать деньги за чашку кофе. Веревки у него еще не было. Он вылез в окно, спрыгнул с трехметровой высоты на землю и прошел пять миль до города. Он совсем не думал о том, как будет возвращаться к себе в комнату.
Он пришел в город и встал на перекрестке, где она просила его ждать. Перекресток был тихий; он явился слишком рано и думал Надо помнить об этом. Надо, чтобы сама мне показала, что делать, как и когда. Надо, чтоб она не догадалась, что я не знаю и должен узнать от нее
Он ждал ее больше часа. Так рано он явился. Она пришла пешком. Подошла и стала перед ним, по-прежнему терпеливо и выжидательно, по-прежнему не поднимая глаз, с видом человека, вырвавшегося из тьмы.
– Вы уже тут, – сказала она.
– Раньше никак не мог. Пришлось ждать, пока они лягут. Боялся, что опоздаю.
– Вы давно тут? Долго ждали?
– Не знаю. Бежал почти всю дорогу. Боялся, что опоздаю.
– Бежали? Все три мили?
– Пять миль. Не три.
– Надо же. – Они умолкли. Стояли, как две тени, лицом к лицу. Спустя год с лишним, вспомнив эту ночь, он вдруг понял и сказал себе Будто ждала, что я ее ударю – Да-а, – сказала она.
Он начал потихоньку дрожать. Он ощущал ее запах, запах ожидания, спокойного, мудрого, чуть усталого – думал Она ждет, чтобы я начал, а я не знаю – как Даже ему самому его голос показался дурацким.
– Наверно, поздно уже.
– Поздно?
– Я подумал – может, вас ждут. Не ложатся, пока вы…
– Ждут… Ждут… – Голос ее утих, замер. Они стояли, как две тени; она сказала, не шевелясь: – Я живу с Мейм и Максом. Вы их знаете. По ресторану. Вы должны были их запомнить, когда хотели отдать эти пять центов… – Она засмеялась. В ее смехе не было веселья, не было ничего. – Подумать только. Представляю, как вы пришли туда, с пятью центами. – Она перестала смеяться. Но и это не означало, что секунду назад ей было весело. Вновь послышался тихий, жалкий, понурый голос: – Я сегодня ошиблась. Я что-то забыла. – Может быть, она ждала от него вопроса – что? Но он не спросил. Он просто стоял, и тихий, падающий голос не проникал в сознание. Он забыл об убитой овце. Он слишком долго прожил с тем, что рассказал ему опытный приятель. Слишком давно очистился убийством овцы, чтобы память об этом сохранилась живой. Поэтому он сначала не понял, что она пытается сказать. Они стояли на углу. Это было на краю города, где улица переходила в дорогу, от правильных, отмеренных лужаек убегавшую к голым полям и разбросанным домишкам – маленьким, дешевым домишкам, из которых складываются предместья таких городов. Она сказала: – Слушайте. Я сегодня нездорова. – Он не понял. Ничего не ответил. Возможно, ему и не надо было понимать. Возможно, он и так ожидал какой-нибудь каверзы от судьбы, думая: «Больно уж все хорошо – не может такого быть»; и обгоняла мысль Сейчас она исчезнет. Ее не станет. А я лежу в кровати, дома, и вовсе не выходил оттуда Ее голос продолжал: – Я забыла, какой это день месяца, когда сказала вам «в понедельник вечером». Может – от неожиданности, что вас встретила. Тогда, на улице в субботу. В общем, забыла, какой это день. А вспомнила, только когда вы ушли.
Он говорил так же тихо, как она.
– Очень нездоровы? А дома у вас нечего принять, лекарства какого-нибудь?
– Принять… – Голос ее замер. Она сказала: – Надо же. – И вдруг сказала: – Уже поздно. А вам еще четыре мили идти.
– Я уже прошел. Я уже здесь. – Голос его был тих, спокоен, безнадежен. – Наверно, времени много, – сказал он. Затем что-то произошло. Не глядя на него, она почувствовала перемену раньше, чем услышала в его погрубевшем голосе: – Что у вас за болезнь?
Она молчала, не двигалась. Потом сказала, глядя в землю:
– У вас никогда не было девушки. Ручаюсь, что не было. – Он не отвечал. – Не было? – Он не отвечал. Она шагнула к нему. Дотронулась до него – впервые. Взяла его за руку, легонько, обеими руками. Глядя на нее сверху, он видел силуэт головы – опущенной, как будто от рождения неправильно сидевшей на шее. Она объяснила ему – запинаясь, нескладно, теми единственными словами, какие ей были известны. Но он уже это слышал. Он уже бежал назад, мимо убитой овцы, очистительной жертвы: к тому дню, когда он сидел на берегу ручья – не столько удивленный или обиженный, сколько возмущенный. Рука, которую она держала, освободилась рывком. Она не верила, что он хотел ее ударить; она предполагала другое. Но результат не стал от этого другим. Провожая взглядом фигуру, тень, растворявшуюся в темноте, она думала, что он бежит. Она еще слышала его шаги, когда он пропал из виду. Она не сразу пошла назад. Стояла в той же позе, неподвижно, потупясь, словно ожидая удара – который уже был нанесен.
Он не бежал. Но шел быстро – и не к дому, стоявшему в пяти милях отсюда, а прочь от него, по-прежнему не задумываясь о том, как проникнуть обратно в комнату, из которой он вылез через окно. Он быстро шел по дороге, потом свернул в сторону и прыгнул через изгородь на вспаханную землю. На поле что-то росло. Дальше был лес, деревья. Он дошел до леса и углубился в чащу твердых стволов, ветвями крытую глушь, давящую тишиной, давящую запахом, непроглядную. В беспросветности тяжкого знания, как в пещере, он словно видел уходящий вдаль ряд мягкоконтурных ваз, выбеленных лунным светом. И ни одна не была целой. Каждая была с трещиной, и из каждой трещины сочилось что-то жидкое, зловонное, мертвенного цвета. Он прикоснулся к дереву. Он уперся в ствол руками, видя перед собой вереницу освещенных луной ваз. Его вырвало.
К вечеру следующего понедельника он успел запастись веревкой. Он ждал на том же углу; он опять явился рано. Наконец увидел ее. Она подошла к нему.
– Я думала, вы не придете.
– Да? – Он взял ее за руку и потащил по дороге.
– Куда мы идем? – спросила она. Он молча продолжал ее тащить. Ей приходилось бежать рысцой, чтобы поспеть за ним. Она трусила неуклюже: животное, которому мешало то, что отличало его от животных: каблуки, платье, миниатюрность. Он потащил ее прочь от дороги – к изгороди, которую перепрыгнул неделю назад. – Подождите… – сказала она. Слова выскакивали отрывисто. – Забор… Я не могу… – Когда она нагнулась, чтобы подлезть под проволоку, которую он перешагнул, платье зацепилось. Он наклонился и рванул его с треском.
– Новое куплю, – сказал он. Она не ответила. Она покорилась рукам, которые не то тащили, не то несли ее между каких-то растений, по бороздам, к лесу, в чащу.
Аккуратно свернутую веревку он держал у себя на чердаке, за той же отставшей доской, за которой миссис Макихерн держала свою мелочь – только веревка была засунута поглубже, куда миссис Макихерн не могла дотянуться. Идею он позаимствовал у нее. Порой, когда старики храпели у себя внизу, он размышлял над этим парадоксом. Даже хотел открыться ей, показать, как он прячет орудие греха, научившись у нее, воспользовавшись ее же идеей и хранилищем. Но он знал, что единственным ее желанием будет желание помочь ему – чтобы он продолжал грешить, а она помогала ему хранить это в секрете; что в конце концов при помощи многозначительных сигналов и шепота она разведет такую таинственность, что Макихерн поневоле заподозрит неладное.
Так он начал красть – таскать деньги из тайника. Очень возможно, что не она толкнула его на это, что о деньгах она с ним не говорила. Возможно даже, он не понимал, что платит деньгами за удовольствие. Просто он много лет наблюдал, как миссис Макихерн прячет деньги в определенном месте. Потом у него самого появилось что прятать. Он прятал в самое безопасное место, какое знал. И каждый раз, когда он засовывал или вынимал веревку, на глаза ему попадалась жестянка с деньгами.
В первый раз он взял пятьдесят центов. Он немного поколебался, взять ему пятьдесят или двадцать пять. Взял все же пятьдесят – ему как раз столько было нужно. На эти деньги он купил лежалую, засиженную мухами коробку конфет – у человека, которому она досталась за десять центов в магазинной лотерее. Конфеты подарил официантке. Это был его первый подарок. Он дал ей коробку так, будто никому до него в голову не приходило что-нибудь ей дать. Когда она взяла большими руками эту обшарпанную, пестро размалеванную коробку, на лице ее было несколько странное выражение. Она сидела на кровати – дело происходило в ее спальне, в домике, где она жила с мужчиной по имени Макс и женщиной по имени Мейм. Как-то вечером, примерно за неделю до этого, Макс к ней зашел. Она раздевалась – сидя на кровати, снимала чулки. Он вошел с сигаретой в зубах и прислонился к комоду.
– Богатый фермер, – сказал он. – Джон Джейкоб Астор[19] с сеновала.
Она чем-то прикрылась и продолжала сидеть, неподвижно, потупясь.
– Он мне платит.
– Чем? Он что – не промотал еще свои пять центов? – Он посмотрел на нее. – Обслуживаем землепашцев. Для этого я тебя вез из Мемфиса. Теперь остается только жратву раздавать бесплатно.
– Я это – в свободное время.
– Еще бы. Запретить я не могу. Мне просто смотреть на это противно. Пацан, долларовой бумажки в глаза не видел. А в городе навалом денежных ребят – я понимаю, эти бы хоть ухаживали как люди.
– А может, он мне нравится. Об этом ты не подумал?
Макс разглядывал ее – макушку неподвижной, опущенной головы, руки, лежавшие на коленях. Он курил, прислонясь к комоду.
– Мейм! – сказал он. И, подождав немного, повторил: – Мейм! Поди сюда. – Стены были тонкие. Немного погодя в передней послышались неторопливые шаги блондинки. Она вошла. – Слыхала? – сказал мужчина. – Говорит: может, он мне нравится больше всех. Ромео и Джульетта. Мать моя!
Блондинка посмотрела на темную макушку.
– Ну и что?
– Ничего. Прелесть. Макс Конфрей представит вам мисс Бобби Аллен, подружку малолетнего.
– Выйди, – сказала женщина.
– Сей момент. Я просто занес ей сдачу с пяти центов. – Он вышел. Официантка не шевелилась. Блондинка подошла к комоду и прислонилась к нему, глядя на ее опущенную голову.
– Он тебе платит хоть? – спросила она.
Официантка не шевелилась.
– Да. Платит.
Блондинка смотрела на нее, прислонясь к комоду, как перед этим Макс.
– Ехать сюда из самого Мемфиса. Тащиться в такую даль, чтобы давать бесплатно.
Официантка не шевелилась.
– Максу же это не мешает.
Блондинка смотрела на опущенную голову. Потом повернулась и отошла к двери.
– Да уж, постарайся, чтоб не мешало, – сказала она. – Это дело недолговечное. Маленькие городишки долго такого не терпят. Я-то знаю. Сама в похожем выросла.
С пестрой, дешевой коробкой в руках она сидела на кровати – сидела так же, как во время разговора с блондинкой. Только не блондинка, а Джо теперь смотрел на нее, прислонясь к комоду. Она засмеялась. Она смеялась, держа в мосластых руках размалеванную коробку. Джо наблюдал за ней. Наблюдал за тем, как она встает и, потупясь, проходит мимо него. Она вышла за дверь и позвала Макса по имени. Джо видел Макса только в ресторане – в шляпе и грязном фартуке. К тому же он вошел сейчас без сигареты. Он сунул Джо руку.
– Как жизнь, Ромео?
Джо пожал ему руку, еще не совсем понимая, кто это.
– Меня зовут Джо Макихерн, – сказал он. Блондинка тоже пришла. Ее он тоже впервые видел вне ресторана. Он видел, как она вошла в комнату, наблюдал за ней, наблюдал за тем, как официантка открывает коробку. Она протянула ее вошедшим.
– Джо мне подарил, – сказала она.
Блондинка скользнула по коробке взглядом. Она даже не шевельнула рукой.
– Спасибо, – сказала она. Мужчина тоже взглянул на коробку, не пошевелив рукой.
– Так, так, так, – сказал он. – Смотри, как Рождество иногда затягивается. А, Ромео?
Джо отодвинулся от комода. Он впервые попал в этот дом. Он смотрел на мужчину чуть озадаченно и примирительно, но без тревоги – наблюдал за его непроницаемым монашеским лицом. Но ничего не сказал. Сказала официантка:
– Если не нравится, можешь не есть. – Он следил за Максом, следил за его лицом, слушая голос официантки – понурый голос: – Ни тебе… никому это не мешает… В свободное время…
Он не смотрел ни на нее, ни на блондинку. Он следил за Максом – по-прежнему мирно и с недоумением, но без испуга. Теперь говорила блондинка; казалось, они говорят о нем и при нем, но на своем языке, зная, что ему не понять.
– Пойдем, – сказала блондинка.
– Мать моя, – сказал Макс. – Только я хотел поднести Ромео.
– А он хочет? – спросила блондинка. Даже когда она обратилась к Джо, можно было подумать, что она еще разговаривает с Максом. – Хотите выпить?
– Не мучай его неизвестностью, – помнишь, что было в тот раз? Скажи, что бесплатно.
– Не знаю, – сказал Джо. – Никогда не пробовал.
– Мать моя, – сказал Макс. – Ничего не пробовал бесплатно. – Он ни разу не посмотрел на Джо после того, как поздоровался. Опять они говорили о нем и отпускали замечания на его счет так, как будто их язык был ему непонятен.
– Пошли, – сказала блондинка. – Пошли же.
Они ушли. Блондинка вообще ни разу не взглянула на него, а Макс, не глядя, ни разу не выпустил его из поля зрения. Потом их не стало. Джо стоял у комода. Посреди комнаты стояла официантка – потупясь, с открытой коробкой в руке. Комната была тесная, затхлая, пропахшая духами. Джо попал сюда впервые. Он не верил, что когда-нибудь окажется здесь. Шторы были задернуты. На проводе висела голая лампочка; вместо абажура была пришпилена страница из журнала, побуревшая от жара.
– Ничего, – сказал он. – Ладно. – Она молчала и не шевелилась. Он думал о темноте снаружи, о ночи, где они раньше оставались вдвоем. – Пойдем, – сказал он.
– Пойдем? – переспросила она. Тогда он посмотрел на нее. – Куда? Зачем? – Он все еще не понимал. Он смотрел, как она подходит к комоду и ставит на него коробку. У него на глазах она начала раздеваться – срывать с себя одежду, швырять на пол.
Он сказал:
– Здесь? Прямо здесь? – Он впервые видел голую женщину, хотя жил с ней уже месяц. Но до сих пор он даже не знал, что не знает, какое зрелище может ему открыться.
В ту ночь они разговаривали. Лежали на кровати и разговаривали в темноте. Вернее, разговаривал он. И все время думал: «Господи. Господи. Так вот это что». Он тоже лежал голый, рядом с ней, трогал ее и говорил о ней. Не о том, где она родилась и чем занималась, а о ее теле – словно никто еще такого не делал, ни с ней и ни с кем другим. Словно, говоря, разузнавал о женском теле с любопытством ребенка. Она рассказала ему о болезни первой ночи. Теперь его это не потрясло. Подобно наготе и телесной форме это было чем-то не существовавшим, не виданным до него. Поэтому и он рассказал ей то, что знал. Рассказал о том, что было с негритянской девушкой на лесопилке три года назад. Он рассказывал тихо и умиротворенно, лежа с ней рядом, трогая ее. Наверное, он даже не понимал, слушает она или нет. Потом он сказал:
– Ты заметила, какая у меня кожа, волосы? – и ждал ее ответа, медленно водя рукой.
Она ответила тоже шепотом:
– Да. Я думала, может, ты иностранец. И уж точно, не из наших краев.
– И даже не так. Не просто иностранец. Тебе не догадаться.
– А кто? Как это – не просто?
– Угадай.
Они говорили тихо. Было тихо, глухо, ночь уже изведана, желание, томление – позади.
– Не могу. Кто ты?
Рука его двигалась тихо и спокойно по ее невидимому боку. Он ответил не сразу. Не то чтобы он разжигал ее любопытство. Просто он как бы еще не надумал говорить дальше. Она снова спросила. Тогда он сказал:
– Во мне есть негритянская кровь.
Потом она лежала совершенно неподвижно; но это была другая неподвижность. Он же как будто не замечал этого. Он тоже лежал спокойно, и рука его медленно двигалась вверх-вниз по ее боку.
– Что? – сказала она.
– Наверно, во мне есть негритянская кровь. – Глаза его были закрыты, рука двигалась медленно и без устали. – Не знаю. Но думаю – есть.
Она не пошевелилась. Но сказала тотчас же:
– Врешь.
– Вру так вру, – сказал он не шевелясь, но рука продолжала гладить.
– Не верю, – сказал в темноте ее голос.
– Не веришь – не верь, – сказал он; рука продолжала гладить.
В следующее воскресенье он взял еще полдоллара из тайника миссис Макихерн и отдал официантке. Через день или два у него появились основания думать, что миссис Макихерн заметила пропажу и подозревает его. Потому что она подстерегала его, покуда не уверилась – и он эту уверенность почувствовал, – что Макихерн им не помешает. Тогда она сказала: «Джо». Он остановился и посмотрел на нее, зная, что она на него смотреть не будет. Не глядя на него, она сказала ровным и вялым голосом: «Я знаю, молодому человеку, когда взрослеет, нужны деньги. Больше, чем па… чем мистер Макихерн тебе дает…» Он смотрел на нее, пока ее голос не затих, не замер. Видимо, ждал, когда он затихнет. И тогда ответил:
– Деньги? На что мне деньги.
В следующую субботу он заработал два доллара, переколов соседу дрова. Он наврал Макихерну, куда он собирается, где он был и чем занимался. Деньги отдал официантке. Макихерн узнал про дрова. Возможно, он решил, что Джо припрятал деньги. Может быть, так ему сказала миссис Макихерн.
Ночи две в неделю Джо проводил с официанткой в ее комнате. Первое время он не представлял себе, чтобы это было доступно еще кому-нибудь, кроме него. Возможно, он верил до самой последней минуты, что только для него и ради него сделано такое исключение. И, по всей вероятности, до последней минуты думал, будто Макса и Мейм надо задабривать – не потому, что у него какие-то отношения с официанткой, а потому, что он ходит в дом. В доме, однако, он их больше не видел, хотя знал, что они здесь. Полной же уверенности, что им известно о его пребывании здесь – или появлениях после того случая с конфетами, – у него не было.
Обычно они встречались на улице и не торопясь шли к ней или куда-нибудь в другое место. Возможно, он до последней минуты думал, что этот порядок заведен им. И вот однажды вечером она не пришла на место встречи. Он ждал, пока часы на башне суда не пробили двенадцать. Тогда он отправился к ней. Раньше он так не делал, хотя и не мог бы припомнить, чтобы она запрещала ему приходить туда без нее. Все же в эту ночь он отправился к ней, ожидая, что дом будет погружен в темноту и сон. Дом был погружен в темноту – но не спал. Он знал это – знал, что за темными шторами в ее комнате не спят и что она там не одна. Откуда знал – он сам не мог бы сказать. И никогда не признался бы в этой уверенности. «Это просто Макс, – думал он. – Это просто Макс». Но не верил в это. Он знал, что в комнате с ней – мужчина. Две недели он с ней не встречался, хотя знал, что она его ждет. Затем пришел вечером на угол; появилась и она. Ни слова не говоря, он ударил ее кулаком, чувствуя, по чему ударил. Теперь он знал то, во что до сих пор не мог поверить. Она вскрикнула. Он ударил еще раз. Она прошептала: «Не здесь. Не здесь». Затем он увидел, что она плачет. Он никогда не плакал, сколько помнил себя. Он плакал, ругал ее и бил. Потом она обняла его. Тогда даже причины бить ее не стало. «Ну что ты, что ты, – приговаривала она. – Что ты, что ты».
В ту ночь они так и остались на перекрестке: не ушли с дороги и не пошли гулять. Они сидели на поросшем травой откосе и разговаривали. На этот раз говорила она – рассказывала. На долгий рассказ не набралось. Теперь ему стало понятно то, что он знал, оказывается, с самого начала: ресторан, бездельники с сигаретами, которые начинали подпрыгивать, когда гости заговаривали с официанткой, и сама она – беспрерывно снует взад-вперед, понурая, жалкая. Он слушал ее голос, а в нос ему, заглушая запахи земли, бил запах безымянных мужчин. Голова ее во время рассказа была опущена, руки неподвижны на коленях. Он, конечно, не видел этого. Ему и не нужно было видеть.
– Я думала, ты знал, – сказала она.
– Нет, – сказал он. – Не знал, наверно.
– Я думала, знал.
– Нет, – сказал он. – Не знал, наверно.
Через две недели он начал курить, щуря глаза от дыма, и пить – тоже. Пил вечерами с Максом и Мейм, иногда в компании еще трех-четырех мужчин и обычно одной или двух женщин – случалось, и городских, но чаще – тех, которые приезжали из Мемфиса и в качестве официанток проводили неделю или месяц за стойкой, где целый день праздно сидели мужчины. Он не всегда знал, как зовут собутыльников, но научился заламывать шляпу не хуже их; вечерами за спущенными шторами в столовой у Макса он сдвигал ее набекрень и говорил с другими об официантке, даже при ней, – громким пьяным отчаянным юношеским голосом, называя ее своей курвой. Время от времени на машине Макса он возил ее за город на танцы, всегда с предосторожностями – чтобы это не дошло до Макихерна. «Не знаю, из-за чего он больше взбесится, – говорил он ей, – из-за тебя или из-за танцев». Однажды им пришлось уложить его в постель, мертвецки пьяного, – в доме, куда он прежде и попасть не мечтал. Утром официантка отвезла его домой – до рассвета, чтобы не заметили. А днем Макихерн наблюдал за ним с угрюмым, ворчливым одобрением.
– Впрочем, у тебя еще будет случай заставить меня пожалеть об этой телке, – сказал Макихерн.
9
Макихерн лежал в кровати. В комнате было темно, но он не спал. Он лежал рядом с миссис Макихерн, полагая, что она спит, и думал быстро и напряженно, думал: «Надевал костюм. Но когда. Не днем, потому что он у меня на глазах, кроме субботних дней после обеда. Однако в любую субботу после обеда он может зайти в хлев, снять и спрятать подобающую одежду, которую ему велено носить, и напялить то, что пригодно и потребно только для греховодничанья». И теперь он как будто знал, как будто ему сказали. Это означало, что костюм носили тайком, то есть, надо полагать, – ночью. А если так, то какая еще могла быть цель у парня, кроме разврата? Сам он никогда в жизни не развратничал, и не было случая, чтобы он согласился слушать человека, рассказывающего о разврате. Тем не менее после получаса напряженных размышлений он знал о проделках парня почти столько же, сколько мог бы рассказать сам Джо, – за исключением имен и мест. Весьма возможно, что, даже услышав о них из уст самого Джо, он не поверил бы, – ибо у этой породы людей бывают такие же твердо установившиеся представления о механике, драматургии зла, как и о механике добра. Так что фанатизм и прозорливость сошлись в одно, только фанатизм чуть припаздывал: когда Джо, спускаясь по веревке, тенью мелькнул мимо облитого лунным светом окна, Макихерн не сразу узнал его, – а может быть, не поверил своим глазам – хотя веревка висела у него прямо перед глазами. А пока он подошел к окну, Джо успел отвести и закрепить веревку и уже направлялся к хлеву. Наблюдая за ним из окна, Макихерн испытывал чистое, праведное возмущение – вроде того, что должен испытывать судья, видя, как подсудимый, которому грозит высшая мера, наклоняется и плюет на рукав приставу.
Притаившись в тени деревьев на полдороге между домом и большаком, он видел Джо на перекрестке. Он тоже услышал машину, увидел, как она подъехала, остановилась и как Джо сел в нее. Возможно, его и не интересовало, кто еще сидел в машине. Возможно, он уже знал и хотел только увидеть, в каком направлении они поедут. Возможно, он верил, что и это знает, поскольку машина могла поехать куда угодно, подходящих мест вокруг было сколько угодно, и к любому вела дорога. Ибо, по-прежнему кипя чистым и праведным негодованием, он уже повернул назад и быстро шел к дому – словно верил, что еще более великое и чистое негодование поведет его, и даже сомневаться в своем чутье ему будет не нужно. В ковровых шлепанцах, без шляпы, в ночной рубашке, заправленной в брюки, со спущенными подтяжками, он направился прямо к стойлу, оседлал свою большую старую сильную белую лошадь, и тяжелым галопом выехал на дорогу, и поскакал к большаку, хотя миссис Макихерн окликала его из кухонной двери, когда он выезжал со двора. Тем же медленным тяжеловесным галопом он устремился по большаку, вместе с животным напряженно клонясь вперед, подобно какому-то грозному воплощению скорости, хотя сама скорость отсутствовала – словно при этой холодной, непреклонной, несокрушимой убежденности в собственном всемогуществе и в собственном ясновидении, вселившейся в них обоих, ни скорость, ни знание адреса не были нужны.
С той же самой скоростью он прискакал прямо к месту, которое искал и нашел посреди целой ночи и чуть ли не целой половины округа, хотя оно было не так уж и далеко. Не проехав и четырех миль, он услышал впереди музыку, а потом увидел у дороги освещенные окна однокомнатного здания школы. Он знал, где находится школа, но знать о том, что там состоятся танцы, ему было неоткуда и незачем. И все же он прискакал прямо к ней и въехал в рощицу, запруженную тенями пустых машин, колясок, оседланных лошадей и мулов, и соскочил на землю чуть ли не раньше, чем остановилась лошадь. Он даже не привязал ее. Соскочил и в ковровых шлепанцах, со спущенными подтяжками, круглоголовый, выставив короткую, тупую, возмущенную бороду, побежал к открытой двери и открытым окнам, где играла музыка и при керосиновом свете в какой-то планомерной кутерьме мельтешили тени.
Входя в комнату, он думал, наверно, – если только думал в этот момент, – что его направлял и подвигает теперь сам воинственный архангел Михаил[20]. По-видимому, зрение его не притупилось ни на миг от внезапного света и суматохи, когда, протискиваясь между тел с повернутыми к нему головами и оставляя за собой волну изумления и робкий еще шумок, он бежал к парню, которого усыновил по собственной доброй воле и старался воспитать так, как считал правильным. Джо танцевал с официанткой и еще не видел его. Женщина видала его только раз, но, наверно, запомнила – а может быть, одного взгляда на его лице теперь было достаточно. Она замерла, на лице ее появилось выражение, очень похожее на ужас, и Джо, увидев это, обернулся. Когда он обернулся, Макихерн уже был рядом. Макихерн и сам видал эту женщину только раз, да и в тот раз, наверное, не смотрел на нее – точно так же, как не желал слушать разговоры мужчин о блуде. Однако он направился прямо к ней, не обращая пока внимания на Джо. «Прочь, Иезавель!» – сказал он. Голос его прогремел в изумленном молчании, среди изумленных лиц под керосиновыми лампами, в тишине оборвавшейся музыки, в мирной лунной ночи молодого лета. «Прочь, потаскуха!»
Наверное, он не замечал того, что двигается быстро, что говорит громко. Наверное, самому ему казалось, что он стоит – справедливый и скалоподобный, чуждый спешки и гнева – и вокруг него дрянь слабого человечества томится в долгом вздохе ужаса перед посланцем разгневанного карающего Престола. И, наверно, даже не его рука ударила в лицо парня, которого он держал под своим кровом, питал и одевал с младенческих лет, – и когда лицо нырком ушло от удара и снова вернулось на место, оно, наверно, не было лицом того ребенка. Однако это его не удивило, ибо не детское лицо занимало его, но лицо Сатаны, которое также было ему знакомо. И когда, вперясь в это лицо, он твердо шел к нему, занесши руку для удара, очень может быть, что шел он в исступленном, самозабвенном восторге мученика, уже сподобившегося отпущения, навстречу стулу, который обрушил на его голову Джо, – в небытие. Наверно, небытие его удивило – но не сильно и не надолго.
Потом все унеслось от Джо, ревя, замирая, и он стоял посреди комнаты с разбитым стулом в руке, глядя на приемного отца. Макихерн лежал на спине. Теперь он выглядел вполне умиротворенным. Казалось, он спит: круглоголовый, неукротимый даже в покое, и даже кровь на его лбу стыла спокойно и мирно.
Джо тяжело дышал. Слышал это – и что-то еще, тонкое, пронзительное, далекое. Слушал долго, пока не узнал голос, женский голос. Посмотрел, увидел: двое мужчин держат ее, она извивается, бьется, волосы свалились на лоб, белое искаженное лицо уродливо, по-дикарски заляпано краской, рваная дырка рта, брызжущая криком. «Обозвал меня потаскухой!» – визжа, вырывалась из рук мужчин. «Старая сволочь! Пустите! Пустите!» Голос перестал выговаривать слова, снова сорвался в визг; извивалась, билась, тянулась укусить руки мужчин, боровшихся с ней.
Держа разбитый стул, Джо пошел к ней. Сбившись кучками у стен, на него глядели люди: девушки в разномастной топорщившейся одежде, в чулках и туфлях, выписанных по почте; мужчины, молодые люди в стоявших колом костюмах, тоже почтовой подгонки, с заскорузлыми расплющенными руками и выражением глаз, уже выдававшим потомственных созерцателей бесконечной борозды и сонного мулячьего зада. Джо побежал, размахивая стулом. «Пустите ее!» – сказал он. Она сразу перестала биться и всю свою визгливую ярость обратила на него – словно только сейчас его увидела, осознала, что он тоже здесь.
«А ты! Притащил меня сюда! Ублюдок, дубье деревенское! Ублюдок ты. Сволочи такие, что один, что другой. Напустил его на меня, а я сроду не видала…» Джо как будто и не нападал ни на кого в отдельности, и лицо его под занесенным стулом было совершенно спокойно. Мужчины отступили от официантки, отпустили ее, но она продолжала дергать руками, словно еще не почувствовала этого.
«Уходи отсюда!» – закричал Джо. Он крутился, размахивая стулом, но лицо его по-прежнему было совершенно спокойным. «Назад!» – сказал он, хотя никто не сделал к нему ни шага. Все умолкли, оцепенели, как человек, лежавший на полу. Джо размахивал стулом, пятясь к двери. «Ни с места! Говорил, что убью когда-нибудь! Говорил ему!» Он размахивал стулом и со спокойным лицом пятился к двери. «Никому не двигаться», – сказал он, беспрерывно водя глазами по лицам, которые можно было принять за маски. Потом он швырнул стул, повернулся и выскочил за дверь, на землю, залитую мягким и пятнистым лунным светом. Официантку он догнал, когда она садилась в машину. Он запыхался, но голос его тоже звучал спокойно; лицо было как у спящего, только дышал он так, что было слышно. «Езжай обратно в город, – сказал он. – Я буду там, как только…» По-видимому, он не отдавал себе отчета ни в том, что говорит, ни в том, что происходит; когда женщина вдруг повернулась в двери машины и стала бить его по лицу, он не шевельнулся, и голос его звучал по-прежнему: «Ну да. Правильно. Буду, как только…» Потом он повернулся и побежал, а она еще продолжала молотить по воздуху.
Он не мог знать, где Макихерн оставил лошадь да и здесь ли она вообще. И все же он прибежал прямо к ней, словно и ему передалась крепкая вера приемного отца в безотказность хода вещей. Он вскочил на лошадь и повернул к большаку. Машина уже выехала на дорогу. Он видел, как уменьшались и пропали ее красные огни.
Старая сильная рабочая лошадь возвращалась домой коротким ровным галопом. Юноша на ее спине сидел легко, балансировал легко, сильно клонясь вперед, ликуя, наверно, как Фауст, – что отбросил раз и навсегда все зароки, что освободился наконец от чести и закона. В движении тек навстречу приятный резкий запах конского пота – серный; обдувал невидимый ветер. Он закричал громким голосом: «Сделал все-таки! Сделал все-таки! Говорил им, что сделаю!»
Он свернул с большака и под лунным светом, не сбавляя хода, прискакал к дому. Он думал, что в доме будет темно, но темно не было. Он не мешкал: секретная веревка стала теперь такой же частью изжитой жизни, как честь, надежда, как надоедливая старуха, которая тринадцать лет была одним из его врагов – и теперь не спала, дожидаясь его. Свет горел в ее и Макихерна спальне, а она стояла на пороге, в ночной рубашке, с шалью на плечах. «Джо?» – сказала она. Он быстро шел по передней. Лицо у него было такое, каким его увидел Макихерн из-под опускавшегося стула. Возможно, она еще не могла его разглядеть. «Что случилось? – сказала она. – Папа уехал на лошади. Я слышала…» Тут она разглядела его лицо. Но отступить уже не успела. Он ее не ударил; его рука прикоснулась к ней не грубо. Просто торопливо – спеша убрать ее с дороги, от двери. Он откинул ее в сторону, как полог на двери.
«Он на танцах, – сказал Джо. – Отойди, старуха». Она повернулась, одной рукой сжимая шаль, другую приложив к двери, и смотрела ему вслед, пока он шел через комнату и взбегал по лестнице к себе на чердак. На ходу он оглянулся. Тогда она увидела, как сверкнули в свете лампы его зубы. «На танцах, слышишь? Только не танцует». Он глядел назад, скалясь на лампу; отдернулся, продолжая смеяться и бежать, исчезая на бегу, исчезая наверху со смехом – сперва голова, потом тело, – словно вбегал очертя голову во что-то, стиравшее его без следа, как с доски – рисунок мелом.
Она шла за ним, карабкалась по лестнице; она двинулась за ним почти сразу, едва он прошел мимо, – словно то же властное побуждение, которое увело ее мужа, вернулось в дом с приемным сыном и от него передалось ей. Она тащилась вверх по тесной лесенке, цепляясь одной рукой за перила, другой – за шаль. Она ничего не говорила, не окликала его. Она была как дух, послушный приказу отсутствующего повелителя. Джо не зажег лампу. Но комнату наполнял раздробленный свет луны – хотя, пожалуй, и без него она бы разобрала, что делает Джо. Она держалась на ногах, опираясь о стену, шарила по стене рукой и наконец, добравшись до кровати, опустилась на нее, села. На все это ушло немало времени, так что, когда она посмотрела на свой тайник, Джо уже приближался к кровати, куда свет луны падал прямо, и она увидела, как он опрокидывает над кроватью жестянку, сгребает рукой маленькую кучку монет и бумажек и запихивает руку в карман. Только тогда он посмотрел в ту сторону, где сидела она – чуть отвалившись назад, опираясь на руку, придерживая шаль другой. «Я их у тебя не просил, – сказал он. – Запомни. Не просил – боялся, что дашь. Я их сам взял. Не забывай это». Он начал отворачиваться еще до того, как закончил фразу. Она смотрела, как он выходит на свет, бьющий снизу по лестнице, и спускается. Он скрылся из виду, но она еще слышала его. Потом услышала, как он быстро идет по передней, немного погодя опять услышала лошадь, пущенную вскачь, и немного погодя топот лошади замер.
Когда часы пробили где-то час, Джо, погоняя старую изнуренную лошадь, ехал по главной улице города. Лошадь давно уже тяжело дышала и спотыкалась, но он заставлял ее бежать, мерно колотя по крупу тяжелой палкой. Это был не хлыст: это был обрезок метловища, торчавший прежде в клумбе миссис Макихерн подпоркой какому-то растению. Хотя лошадь еще бежала галопом, перемещалась она немногим быстрей пешехода. Так же устало и ужасающе медленно поднималась и падала палка, но юноша на спине лошади по-прежнему клонился вперед, словно не знал, что лошадь изнемогла, или будто подавал, посылал вперед обессилевшее животное, чьи медленные копыта стучали мерно и глухо в пустоте кружеволунной улицы. Они – всадник и лошадь – представляли собой странное зрелище: словно лупой времени растянут был этот упрямый, заторможенный бег по улице к тому перекрестку, где он ждал когда-то – послушный побуждению, быть может, менее властному, но не менее нетерпеливый и более молодой.
А лошадь уж и не бежала на негнущихся ногах, она дышала глубоко и надсадно; каждый вздох – как стон. Палка взлетала и падала; по мере того, как замедлялся ход лошади, удары учащались в обратной пропорции. Но лошадь все замедляла ход, ее вело к обочине. Джо тянул повод, бил ее, но она дотащилась до обочины и стала, дрожа, в яблоках лунного света, свесив голову, дыша так, что похоже было на человечий голос. А всадник все клонился вперед, в стремительной позе, и бил лошадь по крупу. Если бы не мелькание палки и не стон животного, их можно было бы принять за конную статую, сошедшую с пьедестала и застывшую в позе крайнего изнеможения на тихой пустой улице, покрытой разводами и пятнами лунной тени.
Джо спешился. Он зашел вперед лошади и начал дергать ее, словно надеялся сдвинуть одной только силой, а затем вскочить в седло. Лошадь не двигалась. Он упорствовал; казалось, он склонился к лошади. И опять застыли изваяниями замученное животное и юноша, друг против друга, почти соприкасаясь головами – как будто молились, или прислушивались, или держали совет. Потом Джо поднял палку и принялся бить по неподвижной лошадиной голове. Бил упорно, пока не сломалась палка. Продолжал бить обломком чуть длиннее ладони. Но то ли понял, что не причиняет боли, то ли рука наконец устала, потому что вдруг бросил палку, повернулся рывком и быстро зашагал прочь. Он не оглядывался. Уменьшаясь, мелькая в белой рубашке между тенями, он расстался с лошадиной жизнью так бесповоротно, как будто ее никогда не существовало.
Он миновал перекресток, куда приходил на свидания. Если он вообще заметил, подумал что-нибудь, то сказал, наверно Господи, как давно. Как давно это было Улица сворачивала на гравийную дорогу. Ему оставалось пройти почти милю, поэтому он побежал – не быстро, но собранно, ровно, чуть опустив голову, словно разглядывал дорогу, которую толок ногами, работая локтями, как тренированный бегун. Выбеленная луной дорога петляла между новых, беспорядочно разбросанных ужасных домишек, в каких селятся люди предместий, вчера приехавшие ниоткуда, завтра уезжающие невесть куда. Все дома были темны, кроме того, к которому он бежал.
Он поравнялся с домом и свернул с дороги, бегом, топая гулко и мерно в ночной тиши. Может быть, ему уже виделась официантка, ожидающая его в темном дорожном платье, в шляпе, с собранным чемоданом (как они уедут, на чем отправятся, он, наверное, ни разу не задумался), может быть – и Мейм с Максом, скорее всего неодетые: он – без пиджака, а то и просто в нижней рубашке, она – в голубом кимоно; оба – хлопотливые, веселые, шумные, как положено при проводах. По существу, он вообще ни о чем не думал – ведь он даже не сказал официантке, чтобы она готовилась к отъезду. Может быть, ему казалось, что он ей говорил или что она сама должна догадаться, поскольку его прошлые действия и планы на будущее представлялись ему простыми и понятными для всех. Может быть, ему казалось даже, будто он успел объяснить официантке, когда она садилась в машину, что едет домой за деньгами.
Он взбежал на крыльцо. До сих пор, даже в золотые его деньки в этом доме, ему всегда хотелось как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть с дороги под защиту крыльца и в самый дом, где его ждали. Он постучался. Как он и предвидел, в ее комнате горел свет, в передней – тоже; сквозь зашторенные окна доносились голоса, в которых он уловил скорее беспокойство, чем веселье; но он и это предвидел, думая Наверно, думают, что я не приду. Чертова кляча. Чертова кляча Он опять постучал – громче, взялся за ручку, подергал, прижавшись лицом к завешенному стеклу двери. Голоса смолкли. Из дома не доносилось ни звука. Два света – озаренная штора в ее окне и матовая занавеска на двери – горели ярко и ровно, будто в доме все умерли, как только он тронул ручку. Он опять постучал, почти без паузы; он еще стучал, когда дверь (ни тени не упало на занавеску, ни шага не послышалось за ней) внезапно и беззвучно распахнулась под его рукой. Он уже шагнул через порог, словно его притянуло дверью, когда из-за нее возник Макс и преградил дорогу. Он был полностью одет, даже в шляпе. «Кого я вижу», – сказал он. Голос его был негромок, и все получилось так, будто он втащил Джо в прихожую, захлопнул дверь и запер ее раньше, чем Джо успел осознать, что он в доме. Однако его голос опять звучал как-то двусмысленно – сердечно будто бы и совершенно пусто, без тени удовольствия или веселья – как нечто исключительно внешнее, вроде личины, из-за которой он наблюдал за Джо, отчего и раньше Джо смотрел на Макса со смешанным чувством недоумения и гнева. «А вот наконец и наш Ромео, – сказал он. – Король Бийл-стрит». Потом он заговорил чуть громче, а «Ромео» произнес совсем громко. «Заходи, гостем будешь».
Джо уже шел к знакомой двери, опять почти бежал – если этот бег вообще прерывался. Он не слушал Макса. Он никогда не слышал о Бийл-стрит[21] – этих трех-четырех кварталах Мемфиса, по сравнению с которыми Гарлем – кинодекорация. Он ничего не замечал. И вдруг увидел в глубине передней блондинку. Он не понял, как она появилась в передней, – когда он входил, ее не было. И вдруг оказалось, что она тут. Она была одета, в темной юбке, и в руке держала шляпу. А рядом с ним, за открытой дверью, в темной комнате, был сложен багаж – несколько чемоданов. Может быть, он их не видел. А может, взглянув, увидел на миг, и мелькнуло быстрее мысли Я не думал, что у нее так много И, может быть, тогда он впервые подумал, что ехать-то им не на чем, подумал Как же я все это унесу? Но не остановился, уже поворачивал к знакомой двери. И только прикоснувшись к ней, почувствовал, что за нею мертвая тишина, тишина, создать которую – он уже знал это в свои восемнадцать лет – один человек не может. Но не остановился и, наверно, не почувствовал даже, что передняя снова опустела, что блондинка снова исчезла, неслышно, незаметно для него.
Он открыл дверь. Теперь он бежал – то есть так, как забегает человек далеко вперед себя и своего знания в тот миг, когда он остановится точно вкопанный. Официантка сидела на кровати – он не раз видел ее в этой позе. Как он и ожидал, она была в темном платье и в шляпе. Она сидела потупясь и даже не взглянула на открытую дверь, и в неподвижной руке ее, огромной и уродливой на темном платье, дымилась сигарета. В тот же миг он увидел второго мужчину. Раньше он с ним не встречался. Но сейчас он этого не сознавал. Это он вспомнил позднее – так же, как сваленный в темной комнате багаж, на который он взглянул мельком, не поспевая зрением за мыслью.
Незнакомец тоже сидел на кровати и курил. Шляпа у него была нахлобучена на лоб, так что даже рот находился в тени. Он был не старый, но и не молодой. Они с Максом были точно братья – в том смысле, в каком любые двое белых, забредших в африканскую деревню, могут показаться туземцам братьями. Его лицо, вернее, подбородок, на который падал свет, было неподвижно. Смотрит на него незнакомец или нет, Джо не знал. И что Макс стоит у него прямо за спиной – тоже не знал. И слышал их голоса, не понимая, о чем они говорят, даже не прислушиваясь Спроси его
Почем он знает Возможно, он слышал эти слова. Но скорее – нет. Скорее всего они пока что значили для него не больше, чем шорох насекомых за плотно завешенным окном или сложенные чемоданы, на которые он посмотрел, но пока еще их не видел Бобби говорит, он сразу смылся
А может, он знает. Попробуем выяснить хотя бы, от чего мы бежим
Хотя Джо не пошевелился с тех пор, как вошел, он все еще бежал. Когда Макс тронул его за плечо, он обернулся так, как будто его остановили на полном ходу. Он и не подозревал, что Макс в комнате. Он посмотрел на Макса через плечо с досадой, чуть ли не с бешенством.
– Давай потолкуем, паренек, – сказал Макс. – Ну, что там?
– Где – там? – сказал Джо.
– Со стариканом. Как думаешь, укокал его? Только начистоту. Ты же не хочешь, чтоб Бобби влипла?
– Бобби, – сказал Джо, думая Бобби. Бобби Он повернулся, снова побежал; на этот раз Макс схватил его за плечо, хотя не грубо.
– Ну так? – сказал Макс. – Ну, мы же тут все свои. Укокал его?
– Укокал? – сказал Джо раздраженно, сдерживая нетерпение, как человек, которого донимает расспросами ребенок.
Заговорил незнакомец:
– Ну, которого ты стулом огрел. Умер он?
– Умер? – сказал Джо. Он перевел взгляд на незнакомца. При этом он опять увидел официантку и опять побежал. Но на этот раз он действительно двигался. Он совершенно забыл об обоих мужчинах. Он подошел к кровати, выдергивая что-то из кармана с восторженным и победоносным выражением лица. Официантка на него не смотрела. Она не посмотрела на него ни разу за все время, но он скорее всего упустил это из виду. Она так и не пошевелилась, сигарета еще дымилась у нее в руке. Неподвижная рука была безжизненной, большой и бледной, как мясо, недавно брошенное на сковородку. Опять кто-то схватил его за плечи. На этот раз оказалось – незнакомец. Незнакомец и Макс стояли плечом к плечу и смотрели на Джо.
– Не тяни волынку. Если смарал старика, так и скажи. Это, знаешь, не долго будет секретом. Глядишь, всплывет через какой-нибудь месячишко.
– Сказано вам, не знаю! – ответил Джо. Он глядел то на одного, то на другого с раздражением, но пока без злобы. – Я его ударил. Он упал. Я ему говорил, что он у меня дождется. – Он глядел то на одно, то на другое лицо – бесстрастные, почти неразличимые. Он начал дергать плечом, за которое его ухватил незнакомец.
Заговорил Макс:
– Так чего ты сюда пришел?
– Чего я… – сказал Джо. – Чего я сюда… – повторил он упавшим голосом, возмущенно переводя взгляд с одного лица на другое, но еще смиряя злобу. – Чего я пришел? Я пришел за Бобби. Вы что… ведь я домой ездил, взять денег на женитьбу… и после этого вы… – И снова он начисто забыл о них, выкинул их из головы. Он вырвался и повернулся к женщине – опять не помня ничего, гордясь и торжествуя. Вероятно, в этот миг обоих мужчин выдуло из его жизни, как два клочка бумаги. Вероятно, он даже не заметил, как Макс отошел к двери и крикнул, и через секунду появилась блондинка. Он нагнулся над кроватью, где неподвижно и понуро сидела официантка, склонился над ней, выгребая из кармана ей на колени и на кровать свалявшуюся массу бумажек и монет. – Вот! Смотри что. Смотри. Достал. Видишь?
А потом ветер снова налетел на него, как три часа назад в школе, среди остолбенелых людей, которых он не замечал. Официантка вскочила, толкнув его снизу, он выпрямился от удара и стоял спокойно в каком-то полусне, спокойно глядя, как она собирает скомканные и рассыпанные деньги и швыряет их, спокойно глядя на ее искаженное лицо, на кричащий рот, на глаза, которые тоже кричали. Он один из всех казался себе спокойным, невозмутимым, один лишь его голос был спокоен настолько, что проникал в сознание: «Значит, ты не хочешь? – говорил он. – Значит, ты не хочешь?»
Было очень похоже на то, что творилось в школе: ее держали, она вырывалась и визжала, всклокоченная голова тряслась и дергалась, а лицо и даже рот, напротив, были неподвижны, как у покойника.
– Сволочь! Паразит! Впутал меня в такую историю – а я с тобой как с белым человеком! Как с белым!
Но для него, наверное, это было все еще просто шумом, никак не проникавшим в сознание, – просто долгим порывом ветра. Он просто смотрел на нее, на лицо, которого никогда прежде не видел, и говорил спокойно (вслух или нет – он сам не знал), с тягостным недоумением: Я же ради нее убил. Я даже украл ради нее – словно только что услышал, узнал об этом, словно ему только сейчас сказали, что он это сделал.
Затем и ее будто выдуло из его жизни долгим порывом ветра – как третий клочок бумаги. Он начал помахивать рукой, словно все еще держал разбитый стул. Блондинка уже довольно давно находилась в комнате. Он заметил ее впервые, без удивления – выросшую как из-под земли, неподвижную, в диамантовой своей невозмутимости вызывавшую такое же почтение, как непререкаемо поднятая белая перчатка полисмена, – и хоть бы волосок выбился. Теперь голубое кимоно было надето поверх темного дорожного платья. Она тихо сказала:
– Заберите его. И давайте уходить. Тут скоро будет полиция. Они узнают, где его искать.
Возможно, Джо совсем не слышал ее, так же как визг официантки:
– Он мне сам сказал, что он нигер! Паразит! Пускать задаром эту негритянскую морду, чтобы из-за него же связаться с деревенской полицией. На деревенской танцульке.
Возможно, он не слышал ничего, кроме долгого ветра, когда, размахивая рукой так, словно рука еще сжимала стул, бросился на двоих мужчин. Должно быть, он даже не знал, что они сами двинулись на него. Потому что в каком-то исступленном восторге, подобно приемному отцу, он бросился прямо на кулак незнакомца. Возможно, он не ощутил ни первого, ни второго удара, но незнакомец дважды попал ему в лицо, прежде чем он рухнул навзничь и застыл, как тот, кого он сам поверг недавно. Он не потерял сознания – потому что глаза его были открыты и тихо смотрели на них. В глазах не было ни боли, ни удивления – ничего. Но, видимо, он не мог пошевелиться; он просто лежал с выражением глубокой задумчивости и тихо смотрел вверх на двоих мужчин и блондинку, все еще неподвижную, гладкую, лощеную, как литая статуя. Возможно, и голосов не слышал, а если слышал – они и сейчас значили для него не больше, чем ровное сухое гудение насекомых за окном:
Надо же – запаскудить местечко, о каком я мечтал всю жизнь
Нельзя ему с ними, паскудами, связываться
Да как ему удержаться? Если от первой-то ножницами отрезали
А он правда нигер? Что-то не похож
Он сам сказал Бобби ночью. Только думаю, она и сейчас знает про это не больше него. Эти деревенские выблядки кем хочешь могут оказаться
А мы узнаем. Сейчас поглядим, черная у него юшка или нет
Лежа тихо и покойно, Джо смотрел, как наклоняется незнакомец, приподнимает ему голову и снова бьет в лицо – на этот раз коротким резким ударом. Чуть погодя он лизнул губу, как ребенок – ложку на кухне. Он смотрел, как незнакомец отводит руку. Но она не ударила.
Хватит. Надо в Мемфис ехать
Еще разок Джо лежал тихо и смотрел на руку. Тут рядом с незнакомцем оказался Макс – тоже нагнувшись. Надо еще чуть-чуть пустить, чтобы знать наверняка
Точно. И пускай не волнуется. Это ему тоже бесплатно
Рука не ударила. Возле них оказалась блондинка. Она держала руку незнакомца за запястье. Хватит я сказала
10
Знание помнит, не сокрушаясь, тысячу диких безлюдных улиц. Они протянулись от той ночи, когда он лежал и слышал, как замер последний шаг, хлопнула последняя дверь (они даже свет не выключили), а он все лежал, тихо, навзничь, с открытыми глазами, и колба, висевшая над ним, сверкала больно и ровно, словно все в доме умерли. Он не знал, долго ли он лежал так. Он совсем не думал, не страдал. Возможно, он ощущал где-то внутри себя разорванный провод между волей и чувствительностью – два оголенных конца, лежащих порознь, разомкнутых, ждущих соединения, замыкания, чтобы он снова мог двигаться. Заканчивая приготовления к отъезду, они то и дело переступали через него, как люди, покидающие дом навсегда, переступают через вещь, которую решили бросить. Эй бобби эй детка вот твоя гребенка ты ее забыла а вот деньжата нашего ромео черт небось обчистил кассу воскресной школы по дороге теперь они боббины ты что не видала он сам ей отдал что значит широкая натура точно собери их детка считай в погашение кредита или подарок на память она что не хочет скажи пожалуйста вот беда вот незадача но не валяться же им тут пол сгноят дырку сделают они уже сделали одну дырку только велика не по деньгам да на такую никаких денег не хватит эй бобби эй детка правильно я заберу их для бобби ни черта ты не заберешь то есть я хотел сказать заберу для бобби половину не трожьте их паршивцы на что они вам это его деньги мать моя ему-то они на что он деньгами не пользуется они ему не нужны спроси у бобби нужны ли ему деньги за что мы платим ему дают задаром оставь их я сказала черта лысого они не мои чтоб я их оставлял они боббины и не твои кстати или ты тоже черт подери скажешь что он тебе задолжал что он и тебя имел в кредит за моей спиной оставь их я сказала да иди ты в самом деле тут всего-то по пятку зеленых на нос Затем над ним нагнулась блондинка – он тихо на нее смотрел, – задрала юбку, вытащила из чулка пачку денег, отделила одну бумажку, постояла, сунула ему в часовой кармашек брюк. Затем ее не стало давайте давайте отсюда ты сама еще не готова тебе еще надо это кимоно спрятать чемодан застегнуть да попудриться напоследок неси сюда мой чемодан и шляпу теперь иди или нет ты бери бобби и остальные чемоданы и идите в машину и ждите нас с максом думаете я вас тут оставлю одних чтобы вы и эту последнюю у него стянули а ну давайте марш отсюда
Затем они ушли: последний шаг, последняя дверь. Затем он услышал урчание машины, заглушившее шум насекомых; она гудела громче них, потом вровень, потом тише, пока не остались только насекомые. Он лежал под лампочкой. Он еще не мог двинуться – так же как глядел, ничего не видя, слушал, не понимая; концы провода еще не соединились, и он лежал покойно, время от времени по-детски облизывая губы.
Затем концы провода пришли в соприкосновение, замкнулись. Он не знал точно, в какую секунду это произошло, только вдруг почувствовал, что голова раскалывается, и медленно сел и, постепенно обретая себя, поднялся на ноги. Голова была дурная, комната шла кругом медленно и плавно, как мысли, и поэтому в мыслях возникло Еще нет Но боли он по-прежнему не ощущал – даже тогда, когда привалился к комоду и стал разглядывать в зеркале свое вспухшее, окровавленное лицо, трогать его. «Мать моя, – сказал он. – Ничего себе отделали». Он еще не думал, до сознания еще не поднялось Вроде надо уходить отсюда Вроде надо уходить отсюда Он пошел к двери, вытянув руки перед собой, точно слепец или лунатик. Он попал в переднюю, не заметив, как прошел через дверь, и очутился в другой спальне, надеясь – наверно, еще не думая, – что движется к выходу. Спальня тоже была тесная. Но казалось, она еще полна блондинкой и шершавые тесные стены пучатся от ее воинственной диамантово-невозмутимой почтенности. На голом комоде стояла пол-литровая бутылка виски, почти полная. Он выпил ее, медленно, совсем не ощущая жжения, держась за комод, чтобы держаться на ногах. Виски потекло в глотку, холодное, безвкусное, как кормовая патока. Он поставил бутылку, прислонился к комоду, опустив голову, ни о чем не думая, и ждал – может быть, безотчетно, а может, и вообще не ждал. Затем виски начало разгораться в нем, и он начал медленно покачивать головой, а мысли зашевелились заодно с медленным сворачиванием и выворачиванием внутренностей: «Надо уходить отсюда». Он вернулся в переднюю. Теперь голова прояснилась, не слушалось тело. Он вынужден был тащить его через всю переднюю к выходу, скользя по стене, и думал: «Ну, давай же, возьми себя в руки. Надо выйти». Думая Мне бы только выбраться на воздух, на холод, в прохладную темноту. Он наблюдал за тем, как шарят по двери его руки, и старался помочь им, сдержать и направить их. «Хоть двери не заперли, – подумал он. – Мать моя, я бы тогда до утра не выбрался. Ни за что бы окно не открыть – не вылезти». Наконец он отворил дверь, вышел и затворил дверь за собой – опять после препирательств с собственным телом, которое не желало утруждать себя этим и лишь по принуждению затворило дверь покинутого дома, где горели мертвым ровным огнем две лампочки, не ведающие, что дом покинут, и безразличные к этому, столь же безразличные к тишине и запустению, сколь безразличны они были к дешевым скотским ночам, к грязным, захватанным стаканам и грязным, заезженным постелям. Его тело стало покладистей, слушалось лучше. Он шагнул с темного крыльца в лунный свет и с окровавленной головой и пустым желудком, в которых горел и буянил хмель, вступил на улицу, протянувшуюся отсюда на пятнадцать лет.
Хмель со временем выветрился, сменился новым и снова выветрился, но улице не было конца. С той ночи сотни улиц вытянулись в одну – с незаметными поворотами и сменами ландшафта, с промежутками езды – то попутчиком, то зайцем, на поездах, на грузовиках, на телегах, где в двадцать, в двадцать пять, в тридцать лет он сидит с неподвижным, жестким лицом, в костюме (пусть грязном и порванном) горожанина, а возница не знает, кто он и откуда, и не смеет спросить. Улица вела в Оклахому и Миссури и дальше на юг, в Мексику, а оттуда обратно на север, в Чикаго и Детройт, потом опять на юг и, наконец, – в Миссисипи. Она растянулась на пятнадцать лет: она пролегла между ублюдочными варварскими фасадами нефтяных городишек, где он, в своей неизменной диагонали и легких туфлях, черных от бездонной грязи, ел с жестяных мисок грубую пищу, по десять – пятнадцать долларов порция, и платил из пачки банкнот толщиной с большую жабу, тоже перепачканной грязью, жирной и, казалось, неисчерпаемой, как золото, выделявшееся из нее. Улица пролегла среди желтых полей пшеницы, где желтые каленые дни труда сменялись тяжким сном в скирдах под холодной безумной луной и колкими сентябрьскими звездами; он был разнорабочим, шахтером, старателем, зазывалой игорного притона; он завербовался в армию, прослужил четыре месяца, дезертировал и не был пойман. И непременно, раньше или позже, улица пролегала через города, чьи названия не держались в памяти, через один и тот же, во всех городах одинаковый, квартал, где под темными, подозрительными сводами полуночи он спал с женщинами, платил им, если были деньги, а если не было, все равно спал, а потом говорил им, что он негр. Первое время, когда он был еще на Юге, это действовало. Получалось очень легко, очень просто. Рисковал он только тем, что его обругает женщина или бандерша, хотя, случалось, его избивали до потери сознания другие клиенты, и он приходил в себя где-нибудь на улице или в тюрьме.
Получалось это, пока он был на Юге или близко к Югу. Потому что однажды не получилось. Он поднялся с постели и сказал женщине, что он негр. «Ну? – удивилась она. – А я думала, опять какой-нибудь итальяшка». Она смотрела на него без особого интереса; потом, наверное, что-то увидела в его лице; сказала: «Ну и что? Выглядишь нормально. Видал бы ты, какого черного я перед тобой отпустила». Она смотрела на него. Теперь совсем застыв. «Слушай, ты где, по-твоему, находишься? Это что тебе – отель «Ритц»?» Тут она замолчала. Она смотрела на его лицо, потом стала медленно пятиться, уставясь на него, бледнея, разинув рот, чтобы закричать. Потом она закричала. Чтобы скрутить его, понадобились двое полицейских. Сначала они подумали, что женщина убита.
После этого ему стало тошно. Раньше он не знал, что есть такие белые женщины, которые готовы принять мужчину с черной кожей. Ему было тошно два года. Иногда он вспоминал, как хитростью или насмешкой заставлял белых назвать себя негром, чтобы подраться с ними, избить их или быть избитым; теперь он подрался с негром, который назвал его белым. Он жил уже на севере – в Чикаго, потом в Детройте. Он жил с неграми, сторонясь белых. Ел с ними, спал с ними – воинственный, замкнутый, способный выкинуть что угодно. Теперь он жил с женщиной, словно вырезанной из черного дерева. Ночами лежал рядом с ней без сна и вдруг начинал глубоко, тяжело дышать. Он делал это нарочно, чувствуя и даже наблюдая, как его белая грудь вздымается все круче и круче, пытаясь вобрать в себя темный запах, темное и непостижимое мышление и бытие негров, с каждым выдохом стараясь изгнать из себя кровь белого, мышление и бытие белого. А между тем от запаха, который он пытался сделать родным, ноздри его раздувались и белели, и все существо сводила судорога физического отвращения и духовного неприятия.
Он думал, что не от себя старается уйти, но от одиночества. А улица все тянулась: как для кошки, все места были одинаковы для него. И ни в одном он не находил покоя. Улица все тянулась в смене фаз и настроений, всегда безлюдная: видел ли он себя как бы в бесконечной последовательности аватар, среди безмолвия, обреченным движению, гонимым храбростью то подавляемого, то вновь разжигаемого отчаяния; отчаянием храбрости, которую надо то подавлять, то разжигать? Ему исполнилось тридцать три года.
Однажды улица приняла вид миссисипского проселка. Возле маленького города его ссадили с товарного поезда, шедшего на юг. Он не знал, что это за городок; ему было все равно, как он называется. К тому же он не видел его. Он обогнул его лесом, вышел на проселок, поглядел в одну сторону и в другую. Дорога была простая, грунтовая, но, как видно, наезженная. Он увидел несколько негритянских домишек, разбросанных вдоль нее, потом увидел, примерно в полумиле, дом побольше. Большой дом посреди рощицы, в прошлом, видимо, не без претензий на роскошь. Но теперь деревья нуждались в стрижке, а дом не красили много лет. Однако видно было, что в доме живут, а он не ел уже сутки. «Этот, пожалуй, сойдет», – подумал он.
Но он пошел туда не сразу, хотя день клонился к вечеру. Он повернулся к дому спиной и пошел в обратную сторону – в грязной белой рубашке, в вытертых диагоналевых брюках, потрескавшихся, запыленных городских туфлях, дерзко заломленной суконной кепке, обросший трехдневной щетиной. И все равно он не был похож на бродягу – по крайней мере на взгляд парнишки-негра, который шел ему навстречу, размахивая ведром. Он остановил парнишку.
– В том большом доме кто живет? – спросил он.
– Вон там вон? Мис Берден.
– Миссис Берден с мужем?
– Она без мужа. Она там одна живет.
– Ага. Старуха, что ли?
– Нет, сэр, мис Берден – она не старая. Но и не молодая.
– И живет одна. И что же – не боится?
– А кто ее обидит у нас в городе? Цветные по соседству за ней присматривают.
– Цветные за ней присматривают?
Тут паренек будто дверь закрыл между собой и мужчиной, который его расспрашивал.
– А кто ее тут обидит? Она никого не обижает.
– Похоже, – сказал Кристмас. – А в эту сторону далеко до другого города?
– Да миль, говорят, тридцать. Вы не пешком туда собрались, нет?
– Нет, – сказал Кристмас. Потом повернулся и пошел дальше. Паренек смотрел ему вслед. Потом тоже повернулся и пошел, покачивая ведро у выгоревшей штанины. Через несколько шагов он оглянулся. Человек, который расспрашивал его, продолжал идти, мерно, но не быстро. Паренек в выгоревшем, латаном, коротком комбинезоне пошел дальше. Он был босой. Вскоре он начал приплясывать, шаркая ногами, и рыжая пыль взлетала вокруг костлявых шоколадных щиколоток и коротких обтрепанных штанин комбинезона; он замурлыкал, ритмично, музыкально, но без мотива, на одной ноте:
Ври лучше меньше, Лучше больше знай. Хочешь светлой девочки – Выйди погулять[22].Лежа в густом кустарнике, метрах в ста от дома, Кристмас услышал, как где-то вдалеке часы пробили девять, потом десять. Перед ним, среди деревьев, угловатый и огромный, маячил дом. В одном окне наверху горел свет. Шторы были раздвинуты, и он видел, что горит там керосиновая лампа, а время от времени по дальней стене скользила человеческая тень. Но самого человека он ни разу не увидел. Немного погодя свет погас.
Дом был темен; он перестал на него смотреть. Он лежал в кустарнике, ничком на темной земле. Тьма в зарослях была непроглядная; она заползала под рубашку и брюки, плотная, прохладная, мозгловатая – словно солнце никогда не касалось этого воздуха, запутавшегося среди кустов. Он ощущал, как не знавшая солнца земля пробивается в него, медленно и жадно, сквозь одежду: в пах, в бедро, в живот, в грудь, в плечи. Лоб его опирался на скрещенные руки, и в ноздри тек сырой густой запах темной плодородной земли.
Он ни разу не оглянулся на темный дом. Он больше часа неподвижно пролежал в кустах и только тогда встал и вышел. Не таясь. Он не крался к дому, шел без особых предосторожностей. Он просто двигался тихо, словно это было его природным свойством, – огибая потерявшую границы громаду дома, направляясь к задней стороне, где должна быть кухня. Когда он задержался и постоял под окном, где потух свет, шуму от него было не больше, чем от кошки. В траве под ногами сверчки, которые умолкали от его шагов, окружая его островком тишины – как бы легкой желтой тенью своих тихих голосов, застрекотали снова и, когда он двинулся дальше, снова смолкли – с той же крохотной чуткой готовностью. Сзади к дому примыкал одноэтажный флигелек. «Это должна быть кухня, – подумал он. – Да, она самая». Он шел бесшумно, все время в островке чутко смолкших насекомых. В кухонной стене обозначилась дверь. Если бы он толкнул ее, то узнал бы, что она не заперта. Но он не толкнул. Он миновал дверь и остановился под окном. Прежде чем взяться за него, он вспомнил, что на окне, светившемся наверху, не было сетки.
Окно кухни было даже открыто и приперто палкой. «Это как надо понимать?» – подумал он. Он стоял под окном, положив руки на подоконник, дыша спокойно, не вслушиваясь, не спеша, словно спешить было некуда на этом свете. «Ну и ну. Вот это я понимаю. Ну и ну». Потом он влез в окно; его словно втянуло в темную кухню: тень, возвращавшаяся без звука и без движения во всеутробу безвестности и тьмы. Может быть, он думал о том, другом окне, в которое ему приходилось лазить, о веревке, на которую приходилось полагаться; может быть, не думал.
Скорее всего не думал – как кошка не думала бы о другом окне. И, подобно кошке, он тоже, казалось, видел в темноте, когда безошибочно направился к пище, будто зная, где она должна быть, – или руководимый силой, которая знала. Он ел из невидимой тарелки невидимыми руками невидимую пищу. Ему было безразлично, что есть. Он даже не сознавал, что чувствует и пытается вспомнить вкус еды, покуда челюсти его вдруг не замерли и мысли не отшвырнуло на двадцать пять лет назад по улице, мимо незаметных поворотов, отмеченных горькими поражениями и еще горшими победами; отбросило за поворот, где он стоял и ждал в первые страшные недели любви, ждал ту, чье имя он позабыл, – еще дальше назад, за пять миль от того поворота Сейчас узнаю. Я это где-то ел. Сейчас, сейчас и память отщелкивала, узнавала знаю, знаю больше того – слышу, слышу вижу я голову наклонил слышу нудный назидательный голос кажется он никогда не умолкнет будет бубнить и бубнить всегда и скосив глаза вижу упрямую круглую голову тупую бороду они тоже склонились а я думаю Как ему только есть не хочется и чую запах рот и язык плачут едкой солью ожидания глаза пробуют душистый пар над тарелкой «Горох, – сказал он вслух. – Мать моя, полевой горох с патокой».
Видимо, этим заняты были не только мысли – иначе он услышал бы звук раньше, ибо тот, кто издавал его, заботился о тишине и скрытности не больше, чем он сам под окном. А может, он и слышал. Но даже не шевельнулся, когда к кухне из дома стали приближаться мягкие шаги обутых в шлепанцы ног; потом, повернувшись внезапно – с внезапно вспыхнувшими глазами, – увидел под внутренней дверью слабый приближающийся свет. Открытое окно было рядом; шаг-другой – и он был бы там, но он не шевелился. Он даже не поставил миску. Даже не перестал жевать. Когда дверь открылась и женщина вошла, он так и стоял посреди комнаты с миской в руках и жевал. Она была в линялом халате и несла свечу, держа ее высоко, так что свет падал ей прямо на лицо – спокойное, серьезное, ничуть не встревоженное. При мягком свете свечи она выглядела лет на тридцать с небольшим. Она остановилась в дверях. Они смотрели друг на друга больше минуты, почти в одинаковых позах – он с миской, она со свечой. Он перестал жевать.
– Если вам нужна еда, вы ее найдете, – сказала она очень сухо, спокойным низковатым голосом.
11
При свече, в мягком свете, который лился сверху на мягкое нестянутое тело женщины, раздевшейся на ночь, ей можно было дать немногим больше тридцати. Увидев ее при дневном свете, он понял, что ей за тридцать пять. Позже она ему сказала, что ей сорок. «Что может означать и сорок один, и сорок девять, судя по тому, как она сказала», – подумал он. Но услышал он это не в первую ночь – много ночей прошло, прежде чем она сказала ему хотя бы, сколько ей лет.
Она вообще ему мало рассказывала. Разговаривали они мало и мимоходом – даже после того, как он стал гостем ее стародевичьей постели. Иногда ему начинало казаться, будто он с ней совсем не разговаривает, совсем ее не знает. Будто их две: одна – с которой он изредка видится днем и обменивается словами, ничего не говорящими, поскольку они не для этого и произносятся; и другая – с которой он лежит ночью, не видя ее и не разговаривая совсем.
Даже спустя год (он работал на деревообделочной фабрике) он видел ее днем только в субботу после работы и в воскресенье или зайдя в дом за едой, которую она готовила ему и оставляла на кухонном столе. Иногда она и сама заходила на кухню, но ни разу не оставалась там, пока он ел, а иногда, в первые четыре-пять месяцев его житья в хибарке, она встречала его у заднего крыльца, и они стояли и разговаривали, почти как незнакомые. Они всегда стояли: она – в одном из своих, видимо, бесчисленных, чистых ситцевых домашних платьев, иногда в деревенском чепце, он – в белой рубашке, теперь уже чистой, и диагоналевых брюках, по которым каждую неделю проходился утюг. Они никогда не присаживались, чтобы поговорить. Он только раз и видел ее сидящей – когда заглянул в окно на первом этаже и увидел, что она пишет. Потом он без любопытства заметил, сколько она получает и отправляет почты и что каждое утро она проводит какое-то время за обшарпанным, исцарапанным бюро в одной из почти нежилых, скудно обставленных комнат первого этажа и усердно пишет; прошел еще год, прежде чем он узнал, что получает она личные и деловые документы от полусотни отправителей, а посылает советы, деловые, финансовые и религиозные – директорам, попечителям, преподавателям, советы личные и практические – девушкам-студенткам и даже выпускницам десятка негритянских колледжей и школ на Юге. Время от времени она исчезала из дома на три-четыре дня, и, хотя при желании он мог видеть ее каждую ночь, год прошел, прежде чем он выяснил, что во время отлучек она посещает школы и беседует с преподавателями и учениками. Дела ее вел адвокат-негр в Мемфисе, который состоял в попечительском совете одной из школ и держал в своем сейфе, помимо завещания, написанную ее рукой инструкцию, как распорядиться ее телом после смерти. Узнав это, он понял отношение к ней города, хотя знал, что городу известно еще меньше, чем ему. Сказал себе: «Значит, здесь меня не потревожат».
Однажды ему пришло в голову, что она ни разу не пригласила его в самый дом. Он ни разу не был дальше кухни, куда заходил уже самовольно, осклабясь, с мыслью: «Сюда она уже не может меня не пустить. Сама небось знает». Да и на кухню он днем не ходил иначе как за едой, которую она готовила ему и оставляла на столе. А когда он входил в дом ночью, он входил, как в первую ночь; он чувствовал себя вором, грабителем, даже поднимаясь в спальню, где она его ждала. Даже спустя год он входил к ней так, словно каждый раз заново должен был лишать ее невинности. Словно каждая ночь ставила его перед необходимостью снова лишить ее того, чего давно лишил – или не смог лишить и никогда не сможет.
Иногда он так об этом и думал, вспоминая ее непокорную, без слез и жалоб, почти мужскую сдачу. Духовная уединенность, так долго не нарушавшаяся, что ее собственный инстинкт самосохранения принес ее в жертву; физически воплотившаяся в мужскую силу и стойкость. Раздвоение личности: с одной стороны – женщина, при первом взгляде на которую в свете поднятой свечи (а может быть, при первом звуке приближающихся ног в шлепанцах) перед ним мгновенно, как пейзаж при вспышке молнии, открылись виды на прибежище и удобную связь, если не наслаждение; с другой – мужские мускулы и мужской склад ума, воспитанного наследием и окружением, с которым он должен был биться до смертного часа. Не было женской нерешительности, не было стыдливости, скрывающей желание и намерение в конце концов уступить. Казалось, что боролся он с мужчиной, за предмет, не представляющий для обоих никакой ценности, боролся только из принципа.
Увидев ее после этого, он подумал: «Господи. Как плохо я знаю женщин, а думал, что знаю хорошо». Это было на следующий же день; глядя на нее, слушая ее, нельзя было представить себе то, о чем вот уже двенадцать часов знала память; думалось Под одеждой у нее не может быть такого, чтобы это могло случиться Тогда он еще не работал на фабрике. Почти весь день он пролежал – на койке, которую она дала ему, в хибарке, куда она пустила его, – с сигаретой в зубах, закинув руки за голову. «Господи, – думал он, – как будто я был женщиной, а она мужчиной». Но и это было не совсем так. Потому что она сопротивлялась до последней секунды. И все же сопротивление было не женское, не то сопротивление, которое ни один мужчина не может преодолеть, если оно не притворно, ибо женщины не соблюдают правил физической борьбы. Она же сопротивлялась честно, по правилам, которые говорят, что при определенном положении кто-то побежден, продолжает он сопротивляться или нет. В ту ночь он ждал, покуда свет не уплыл из кухни и затем не появился в ее комнате. Он пошел к дому. Пошел не с вожделением, а со спокойной яростью. «Я ей покажу», – сказал он вслух. Он не старался двигаться тихо. Вошел в дом нагло и стал подниматься по лестнице; она услышала его сразу. «Кто там?» – сказала она. Но в голосе ее не было тревоги. Он не ответил. Он поднялся по лестнице и вошел в комнату. Она была еще одета и, когда он вошел, обернулась к двери. Но ничего не сказала. Только смотрела на него, пока он шел к столу и, думая: «Сейчас побежит», – задувал лампу. Он прыгнул к двери, чтобы ее перехватить. Но она не побежала. Он нашел ее в темноте, на том же самом месте, где она стояла при свете, в той же позе. Он стал рвать с нее одежду. Приговаривал грубым, сдавленным, тихим голосом: «Я тебе покажу! Покажу, сука!» Она не противилась. Наверно, даже помогала ему, слегка изменяя положение конечностей, когда возникала нужда в последней помощи. Но тело ее в его руках было как труп – разве что не окоченевший. Однако он не отступался; и если руки его действовали грубо и настойчиво, то только от ярости. «Наконец-то хотя бы женщину из нее сделал, – думал он. – Теперь она меня ненавидит. Хотя бы этому ее научил».
Весь следующий день он опять пролежал в хибарке. Ничего не ел; даже не пошел на кухню посмотреть, не оставила ли она ему еды. Ждал заката, сумерек. «И отвалю», – думал он. Он думал, что больше ее не увидит. «Лучше отвалить, – думал он. – Не дам ей выгнать меня из хибарки. Хоть этого-то не допущу. Не бывало еще, чтобы белая баба меня выставила. Только черная раз турнула, прогнала меня». И он лежал на койке, курил, ждал заката. В открытую дверь он видел, как спускается солнце, растягивая тени, становится медным. Потом медное погасло в лиловом, в густых лиловых сумерках. Он услышал лягушек, и за открытой дверью полетели светляки, становясь все ярче по мере того, как темнело. Потом он встал. Все его имущество состояло из бритвы; сунув ее в карман, он был готов в дорогу – хоть в милю длиной, хоть в тысячу, куда бы ни повела эта улица с незаметными поворотами. Однако направился он к дому. Как будто почувствовав, что ноги несут его туда, он уступил, покорился, сдался, думая Ладно ладно, паря, плывя в сумраке к дому, к заднему крыльцу, к двери, которая никогда не запиралась. Но когда он потянул за ручку, дверь не открылась. В первый миг ни рука, ни сам он этому не поверили; он стоял тихо, еще не думая, глядел, как рука дергает дверь, слушал бряканье засова. Потом тихо повернулся. Еще не чувствуя гнева. Он пошел к кухонной двери. Ожидая, что и она заперта. Он не сознавал, что хочет этого, пока не увидел, что она открыта. Когда он обнаружил, что она не заперта, это было как оскорбление. Словно враг, которого он старался растоптать и опозорить, стоял перед ним, невозмутимый и невредимый, и разглядывал его задумчиво, с убийственным презрением. Войдя на кухню, он не направился к двери в дом – двери, где она стояла со свечкой в ту ночь, когда он впервые ее увидел. Он пошел прямо к столу, где она оставила ему еду. Ему незачем было видеть. Видели руки; тарелки были еще чуть теплые; он думал Выставила для нигера. Для нигера
Он словно издали наблюдал за своей рукой. Наблюдал, как она поднимает тарелку, заносит и держит над головой, а сам напряженно размышлял, глубоко и медленно дыша. Он услышал свой голос, прозвучавший громко, словно шла игра: «Ветчина», – и видел, как рука с силой швырнула тарелку в стену, в невидимую стену; выждал, пока смолкнет грохот, снова разольется тишина, и только тогда взял другую. Он держал ее на весу, принюхиваясь. На этот раз пришлось гадать. «Бобы или зелень? – сказал он. – Бобы или шпинат?.. Ладно. Будем считать, бобы». Он швырнул ее с силой, дождался, пока стихнет грохот. Поднял третью тарелку. «Что-то с луком», – сказал он, думая А приятно. Почему мне раньше не пришло в голову! «Бабий корм». Швырнул ее сильно, не торопясь, услышал грохот, подождал. Затем услышал новый звук: шаги в доме, приближаются к двери. «На этот раз она придет с лампой, – подумал он, и в голове мелькнуло Если бы оглянулся, увидел бы свет под дверью А рука в это время опять замахнулась тарелкой Сейчас она почти у двери «Картошка», – произнес он наконец рассудительно и твердо. Он не оглянулся – даже когда услышал, как за дверью отодвинули засов и как отворилась дверь, впустив свет туда, где он стоял, подняв над головой тарелку. «Да, это картошка», – сказал он вдумчиво, ничего не замечая вокруг, как ребенок, играющий сам с собой. Теперь он и услышал и увидел, как тарелка разбилась. Затем свет пропал; снова послышался зевок двери, снова стукнул засов. Он так и не оглянулся. Он взял следующую тарелку. «Свекла, – сказал он. – Все равно, я свеклу не люблю».
На другой день он устроился на деревообделочную фабрику. Он вышел на работу в пятницу. Последний раз он ел в среду ночью. Жалованье получил только в субботу вечером, проработав вторую половину дня сверхурочно. В субботу вечером он поел в городском ресторане – впервые за три дня. В дом он больше не наведывался. Первое время он даже не смотрел на него, когда шел к себе в хибарку или из хибарки. За шесть месяцев он протоптал собственную тропинку от хибарки к фабрике. Она пролегла прямо, как по нитке, минуя все дома, почти сразу углубляясь в лес, а из лесу – прямо к его рабочему месту у кучи опилок, и с каждым днем делалась все четче. В пять тридцать, когда раздавался гудок, он возвращался тропинкой к себе и, перед тем как пройти еще две мили до города, чтобы поесть, переодевался в белую рубашку и темные глаженые брюки, словно стыдясь своего комбинезона. А может, это был не стыд, хотя, вероятно, он так же не способен был понять, что это такое, как не способен был понять, что это не стыд.
Он уже не старался не замечать дома; но если и замечал, то невзначай. Сначала он думал, что она пошлет за ним. «Она первая подаст знак», – думал он. Но она не подавала знака; немного погодя он стал думать, что уже и не ждет этого. И все же, когда он в первый раз сознательно посмотрел на дом, в голову ему бросилась кровь и сразу отхлынула; тогда он понял, что все время боялся увидеть ее, боялся, что все это время она наблюдала за ним со спокойным и нескрываемым презрением; ему показалось, будто он потеет, будто он преодолел тяжкое испытание. «С этим покончено, – подумал он. – Теперь я с этим справился». И когда это действительно случилось, он не испытал потрясения. Возможно, он был подготовлен. Во всяком случае, когда он совершенно случайно взглянул туда и увидел ее на заднем дворе в сером платье и чепце, кровь не бросилась ему в голову. Он не мог понять, следила ли она за ним все это время, видела ли его, следит ли за ним сейчас или нет. «Ты меня не трожь, и я тебя не трону», – подумал он с мыслью Это мне приснилось. Этого не было. Нет у ней под одеждой такого, чтобы это могло случиться
Он поступил на работу весной. Однажды вечером, в сентябре, он вернулся домой, вошел в хибарку и замер от изумления. Она сидела на койке и смотрела на него. Сидела с непокрытой головой. Он еще ни разу не видел ее с непокрытой головой, хотя в темноте, на темной наволочке, ощущал присутствие массы волос, распущенных, но еще не встрепанных. Видеть же их ему еще не приходилось, и теперь он стоял, глядя только на волосы, а она наблюдала за ним; вдруг он сказал себе, в тот же миг сдвинувшись с места: «Она пытается Так и знал, что с проседью Пытается быть женщиной и не умеет». Думая, зная Пришла поговорить Два часа спустя они еще разговаривали, сидя бок о бок на койке в полной темноте. Она рассказала ему, что ей сорок один год, что она родилась и прожила всю жизнь в этом доме. Что ни разу не уезжала из Джефферсона больше чем на полгода – и то редко, тоскуя по дому, по обыкновенным этим доскам, гвоздям, земле, деревьям, кустам, составлявшим местность, которая была чужбиной для нее и ее родни; и даже сейчас, спустя сорок лет, когда она говорила, между смазанных согласных и тусклых гласных края, куда ее зашвырнула жизнь, говор Новой Англии слышался так же ясно, как в речи ее родных, которые никогда не покидали Нью-Гемпшира и которых она видела, может быть, раза три за всю жизнь, за свои сорок лет. Свет мерк, ровный, неумолчный, почти мужского тембра голос шел уже неведомо откуда, и Кристмас, сидя рядом с ней на темной койке, думал: «Она такая же, как все. Семнадцать им или сорок семь, но когда приходит пора сдаваться, они не могут обойтись без слов».
Калвин Берден был сыном священника, которого звали Натаниэль Беррингтон. Младший, десятый ребенок в семье, он сбежал из дому на корабле в возрасте двенадцати лет, еще не умея (или не желая, как думал отец) написать свое имя. Он совершил плавание вокруг мыса Горн в Калифорнию и перешел в католичество; год прожил в монастыре. Десятью годами позже он явился в Миссури с Запада. Через три недели после приезда он женился на девушке из гугенотской семьи, эмигрировавшей из Каролины через Кентукки. На другой день после венчания он сказал: «Пора, пожалуй, остепениться». И начал остепеняться в тот же день. Свадьба еще была в разгаре, а он уже предпринял первый шаг: официально объявил о своем отречении от католической церкви. Он сделал это в салуне, настаивая, чтобы все присутствующие выслушали его и высказали свои возражения; особенно он настаивал на возражениях, хотя их не было – то есть до тех пор, покуда его не увели друзья. На другой день он сказал, что говорит совершенно серьезно, что он не желает принадлежать к церкви лягушатников и рабовладельцев. Это было в Сент-Луисе. Он купил там дом и через год стал отцом. Тогда он сказал, что год назад порвал с католической церковью ради спасения души сына; мальчика же чуть ли не с пеленок он принялся обращать в веру своих новоанглийских предков. Унитарианской молельни поблизости не было[23], и английскую Библию Берден читать не умел. Зато у священников в Калифорнии он научился читать по-испански, и, как только ребенок начал ходить, Берден (теперь он называл себя Берденом, ибо, как пишется настоящая фамилия, он не знал, а священники научили его рисовать ее именно так – хотя веревка, нож и рукоять пистолета все равно ему были сподручней пера) начал читать ребенку привезенную из Калифорнии испанскую книгу, то и дело прерывая плавное, благозвучное течение мистики на иностранном языке корявыми экспромтами и рассуждениями, состоявшими наполовину из унылой и бескровной логики, которую он перенимал у отца нескончаемыми новоанглийскими воскресеньями, и наполовину из немедленной геенны и осязаемой серы, каким позавидовал бы любой проповедник-методист[24]. Они сидели в комнате вдвоем: высокий, худой, нордического вида мужчина и маленький смуглый живой мальчик, унаследовавший масть и сложение от матери, – словно люди двух разных рас. Когда мальчику было лет пять, Берден, заспорив с каким-то человеком о рабстве, убил его и вынужден был вместе с семьей бежать, покинуть Сент-Луис. Он уехал на Запад, «подальше от демократов»[25].
Поселок, где он обосновался, состоял из лавки, кузницы, церкви и двух салунов. Здесь Берден большую часть времени проводил в разговорах о политике – грубым громким голосом проклиная рабство и рабовладельцев. Слава его дошла и сюда, было известно, что он носит пистолет, и мнениям его внимали, по меньшей мере не переча. Время от времени, особенно субботними вечерами, он приходил домой, переполненный неразбавленным виски и раскатами собственных тирад. Тогда он твердою рукой будил сына (мать уже умерла, родив еще трех дочерей, как на подбор голубоглазых). «Либо я научу тебя ненавидеть два зла, – говорил он, – либо я с тебя шкуру спущу. Эти два зла – ад и рабовладельцы. Ты меня слышишь?»
«Да, – отвечал мальчик. – Тут не захочешь – услышишь. Ложись, дай мне поспать».
Он не был веропроповедником, миссионером. Если не считать нескольких незначительных эпизодов с применением огнестрельного оружия – к тому же без единого смертельного исхода, – он ограничивал себя кругом семьи. «Провались они все в свой закоснелый ад, – говорил он детям. – Но в вас четверых я буду вбивать возлюбленного Господа, покуда владею рукой». И делал это по воскресеньям. Каждое воскресенье, вымывшись, во всем чистом, – дети в ситце и парусине, отец в суконном сюртуке, оттопырившемся на бедре из-за пистолета, и в плиссированной рубашке без воротничка, которую старшая дочь отглаживала по субботам не хуже покойной матери, – они собирались в чистой, топорно обставленной гостиной, и Берден читал некогда позолоченную и разукрашенную книгу на языке, которого никто из них не понимал. Он продолжал это делать до тех пор, пока его сын не сбежал из дому.
Мальчика звали Натаниэлем. Он сбежал в четырнадцать лет и шестнадцать лет не возвращался, но два раза за это время от него приходили устные вести. Первый раз – из Колорадо, второй раз – из Мексики. Он не сообщал, что он делает в этих местах. «Все было благополучно, когда я уезжал», – сказал посланец. Это был второй посланец; дело происходило в 1863 году, и гость завтракал на кухне, заглатывая пищу с чинным проворством. Три девочки, старшие две – уже почти взрослые, прислуживали ему, стоя около дощатого стола в простых широких платьях, с тарелками в руках, слегка разинув рты, а отец сидел за столом напротив гостя, подперши голову единственной рукой. Другую руку он потерял два года назад в Канзасе, сражаясь в отряде партизанской конницы; борода и волосы его уже поседели. Но он был по-прежнему силен и сюртук его по-прежнему оттопыривала рукоятка тяжелого пистолета.
– Он попал в небольшую передрягу, – рассказывал приезжий. – Но когда я в последний раз о нем слышал, все было благополучно.
– В передрягу? – переспросил отец.
– Убил мексиканца, который говорил, будто он украл у него лошадь. Вы же знаете, как эти испанцы относятся к белым людям, даже когда они мексиканцев не убивают. – Приезжий отпил кофе. – Да ведь, пожалуй, без строгости там нельзя – столько овечек в страну понаехало, да и мало ли что… Покорно благодарю, – сказал он старшей дочери, которая выложила ему на тарелку стопку горячих кукурузных оладьев, – спасибо, хозяйка, я достану, достану до подливки. Люди говорят, что это вовсе и не мексиканца лошадь. Говорят, у него лошади сроду не было. Да ведь и испанцам приходится держать народ построже, когда из-за этих приезжих с Востока о Западе и так идет дурная слава.
Отец хмыкнул.
– Побожиться могу. Если была передряга, побожиться могу, что без него не обошлось. И скажите ему, – окончательно разъярился отец, – если он позволит этим желтопузым попам себя охмурить – на месте пристрелю, все равно как мятежника[26].
– Скажите ему, чтоб домой приезжал, – вмешалась старшая дочь. – Вот что ему скажите.
– Хорошо, хозяйка, – ответил приезжий. – Непременно скажу. Мне сейчас надо на Восток заехать, в Индиану. Но как вернусь, сразу его разыщу. Скажу непременно. Ах да, чуть не забыл. Он велел передать, что женщина и ребенок живы и здоровы.
– Чья женщина и ребенок? – сказал отец.
– Его, – ответил гость. – Еще раз покорно вас благодарю. И всего вам хорошего.
Перед тем как увидеться с ними, сын дал знать о себе в третий раз. В один прекрасный день они услышали, как он кричит перед домом – правда, где-то вдалеке. Это было в 1866 году. Семья еще раз переехала – еще на сто миль к западу, и сын, пока нашел их, потерял два месяца, катая взад-вперед по Канзасу и Миссури на тарантасе, под сиденьем которого валялись, как пара старых башмаков, два кожаных мешочка с золотым песком, новыми монетами и необработанными камешками. Когда сын с криком подъехал к обложенной дерном халупе, перед дверью на стуле сидел мужчина. «Вон отец, – сказал Натаниэль женщине, которая ехала рядом с ним. – Видишь?» Хотя отцу не было шестидесяти, зрение у него ослабло. Он только тогда узнал сына, когда тарантас остановился и сестры с криками высыпали из дома. Тут он поднялся и издал долгий трубный рев. «Вот мы и дома», – сказал Натаниэль.
Калвин не произнес ни единой фразы. Он только кричал и ругался. «Шкуру спущу! – ревел он. – Дочки! Ванги! Бекки! Сара!» Сестры уже были тут. В своих сборчатых юбках они словно вылетели из двери или выплыли, как шары в потоке воздуха, с пронзительными криками, тонувшими в трубном реве отца. Его сюртук – сюртук богача, или удалившегося на покой, или просто воскресный – был расстегнут, и он дергал что-то у пояса таким же движением и с таким выражением лица, с каким вытаскивал бы пистолет. Но он просто стаскивал с брюк единственной рукой свой кожаный ремень и через мгновение, размахивая им, ринулся сквозь голосистую вьющуюся стайку женщин. «Я тебя проучу! – ревел он. – Я тебе покажу, как убегать!» Ремень дважды хлестнул Натаниэля по плечам. Он успел хлестнуть дважды, прежде чем мужчины сцепились.
Это было вроде игры: смертельной игры, нешуточной забавы, игры двух львов, которая может кончиться, а может и не кончиться кровью. Они схватились, ремень повис: лицом к лицу, грудь в грудь стояли они – худой старик с сединой в бороде и светлыми глазами северянина и молодой, ничем на него не похожий, с крючковатым носом и белыми зубами, оскаленными в улыбке. «Перестань, – сказал Натаниэль. – Ты что, не видишь, кто смотрит на нас с тарантаса?»
До сих пор никто из них даже не взглянул в сторону тарантаса. Там сидела женщина и мальчик лет двенадцати. Отец только раз взглянул на женщину; на мальчика ему уже незачем было смотреть. Он только взглянул на женщину, и челюсть у него отвисла, словно он увидел привидение. «Евангелина!» – сказал он. Она была похожа на его покойную жену, как родная сестра. Сын, едва ли и помнивший свою мать, взял себе в жены женщину, которая была почти ее копией.
«Это Хуана, – сказал он. – С ней Калвин. Мы приехали домой, чтобы пожениться».
Вечером после ужина, уложив ребенка и женщину спать, Натаниэль стал рассказывать. Сидели вокруг лампы: отец, сестры, вернувшийся сын. У них там, объяснял Натаниэль, священников не было – одни попы, католики. «И вот, когда стало ясно, что она ждет чико[27], она начала поговаривать о попе. Но не мог же я допустить, чтобы Берден родился нехристем. Ну и начал кого-нибудь присматривать, чтобы ее ублажить. А тут то одно, то другое, – так я и не выбрался за священником; а потом мальчик родился, и спешить уже было некуда. А она все беспокоится – насчет попа и прочего, и тут как раз, годика через два, я услышал, что в Санта-Фе[28] в какой-то день будет белый священник. Ну, собрались мы, поехали – и поспели в Санта-Фе как раз, чтобы полюбоваться на пыль от дилижанса, который увозил священника. Ну, стали дальше ждать, и годика еще через два нам опять представился случай, в Техасе. А тут, как нарочно, я с конной полицией связался – помогал им уладить небольшую заваруху, когда там с одним помощником шерифа на танцах невежливо обошлись. А когда все кончилось, мы просто решили, что поедем домой и женимся по-человечески. Вот и приехали».
Отец сидел под лампой, худой, седой и строгий. Он слушал, но лицо его было задумчиво и выражало какую-то жарко дремлющую мысль, растерянность и возмущение. «Еще один чернявый Берден, бесово племя, – сказал он. – Люди подумают, у меня от работорговки дети. А теперь – он с такой же. Сын слушал молча и даже не пытался объяснить отцу, что женщина испанка, а не мятежница. «Проклятые чернявые недоростки – не растут, потому что гнетет их тяжесть Божьего гнева, чернявые, потому что грех человеческого рабства[29] травит им кровь и плоть». Взгляд у него был отсутствующий, фанатичный, убежденный. «Но теперь мы их освободили – и чернявых и белых, всех. Теперь они посветлеют. Через сотню лет опять сделаются белыми людьми. Тогда мы, может, пустим их обратно, в Америку». Он умолк в задумчивости, медленно остывая. «Ей-богу, – сказал он вдруг, – хоть и чернявый, а все равно у него мужская стать. Ей-богу, большой будет, в деда – не плюгавец вроде отца. Пускай мамаша чернявая и сам чернявый, а будет большой».
Все это она рассказывала Кристмасу, сидя с ним рядом на его кровати; в хибарке темнело. За час они ни разу не пошевелились. Теперь он совсем не видел ее лица, слушал вполуха; от голоса женщины его укачивало, как в лодке; неохватный, не вызывавший отзвуков в памяти покой навевал дремоту. «Его звали Калвином, как дедушку, и он был высокий, как дедушка, хотя смуглый в бабушкину родню и в мать. Мне она не была матерью: он мне единокровный брат. Дедушка был последним из десяти, отец был последним из двух, а Калвин был самым последним». Ему только что исполнилось двадцать лет, когда его убил в городе, в двух милях от этого дома, бывший рабовладелец и конфедератский офицер по фамилии Сарторис[30]; дело шло об участии негров в выборах.
Она рассказала Кристмасу про могилы – брата, деда, отца и двух его жен – на бугре, под виргинскими можжевельниками, на выгоне в полумиле от дома; слушая молча, Кристмас думал: «Ага. Поведет меня смотреть. Придется сходить». Но она не повела. После этой ночи, когда она сказала ему, где они и что он может пойти посмотреть на них, если хочет, она ни разу не заговаривала с ним о могилах.
– Впрочем, может, вы их и не найдете, – сказала она. – Потому что в тот вечер, когда деда и Калвина привезли домой, отец дождался темноты, похоронил их и скрыл могилы – сровнял холмики, забросал кустами и мусором.
– Скрыл? – сказал Кристмас.
В голосе ее не было ничего женственного, скорбного, мечтательного.
– Чтобы их не нашли. Не могли вырыть. И надругаться, чего доброго. – И с легким нетерпением продолжала: – Нас тут ненавидели. Мы были янки. Пришлые. Хуже, чем пришлые: враги. Саквояжники[31]. А она – война – была еще слишком свежа в памяти, и даже побежденные не успели образумиться. Подбивают негров на грабежи и насилие – вот как это у них называлось. Подрывают главенство белых. Думаю, полковник Сарторис прослыл героем в городе, когда убил двумя выстрелами из пистолета однорукого старика и мальчика, который не успел даже проголосовать в первый раз. Возможно, они были правы. Не знаю.
– Ну? – сказал Кристмас. – Они и так могли? Выкопать их уже убитых, мертвых? Когда же люди разной крови перестанут ненавидеть друг друга?
– Когда? – Ее голос пресекся. Потом она продолжала: – Не знаю. Не знаю, вырыли бы их или нет. Меня еще не было на свете. Я родилась через четырнадцать лет после того, как убили Калвина. Не знаю, на что тогда были способны люди. Но отец думал, что они на это способны. Поэтому скрыл могилы. А потом умерла мать Калвина, и он похоронил ее там же, с Калвином и дедушкой. Так что незаметно это стало чем-то вроде нашего семейного кладбища. Может быть, отец не собирался ее там хоронить. Я помню, мать (ее прислали по просьбе отца наши нью-гемпширские родственники вскоре после того, как умерла мать Калвина. Он ведь остался один. Думаю, если бы Калвин и дедушка не были здесь похоронены, он бы уехал), мать говорила, что отец совсем уже собирался уезжать, когда умерла мать Калвина. Но она умерла летом, и по жаре нельзя было везти ее в Мексику, к родным. И он похоронил ее здесь. Поэтому, наверно, здесь и остался. А может, потому, что начал стареть, и все, кто воевал в Гражданскую, тоже постарели, а негры в общем-то никого не убили и не изнасиловали. Словом, похоронил ее здесь. Эту могилу ему тоже пришлось скрыть – думал, вдруг кто-нибудь увидит ее и вспомнит про Калвина и дедушку. Не хотел рисковать, хотя все давно прошло и кончилось и поросло быльем. А на следующий год он написал нашему родственнику в Нью-Гемпшир. Он написал: «Мне пятьдесят лет. У меня есть все, чего она пожелает. Пришлите мне хорошую жену. Мне все равно, кто она, лишь бы хозяйка была хорошая и не моложе тридцати пяти лет». И послал в конверте деньги на билет. А через два месяца сюда приехала моя мать, и они в тот же день поженились. Скоропалительная была свадьба – для него. В первый раз – когда они с Калвином и матерью Калвина отыскали дедушку в Канзасе – ему, чтобы жениться, понадобилось двенадцать лет. Приехали они в середине недели, а свадьбу отложили до воскресенья. Устроили ее на воздухе, у ручья, зажарили бычка, поставили бочонок виски, и пришли туда все, кого им удалось позвать и кто сам прослышал. Собираться начали в субботу утром, а вечером приехал проповедник. Сестры отца весь день шили матери Калвина свадебное платье и фату. Платье они сшили из мучных мешков, а фату – из москитной сетки, которой хозяин салуна закрывал картину над стойкой. Сетку одолжили на время. Даже Калвину сделали что-то вроде костюма. Тогда ему шел тринадцатый год, и они хотели, чтобы он был шафером. Он не хотел. Накануне ночью он узнал, что ему предстоит, и на другой день (свадьбу хотели устроить часов в шесть или семь утра), когда все встали и позавтракали, обряд пришлось отложить – Калвин куда-то пропал. Наконец его отыскали, заставили надеть костюм, и свадьба состоялась – мать Калвина была в самодельном платье и москитной фате, а отец – в узорчатых испанских сапогах, которые он привез из Мексики, и с намазанными медвежьим салом волосами. Дедушка был посаженым отцом. Только, пока охотились за Калвином, он то и дело отлучался к бочонку, и когда подошла пора вести невесту, он вместо этого произнес речь. Пустился рассуждать о Линкольне и рабстве, и все допытывался, кто из присутствующих посмеет отрицать, что Линкольн для негров – все равно что Моисей для детей Израилевых и что Чермное море – это кровь, которая должна пролиться, чтобы черный народ достиг обетованной земли[32]. Унять его и возобновить церемонию удалось не скоро. После свадьбы молодые пробыли там с месяц. Но в один прекрасный день отец с дедушкой отправились на Восток, в Вашингтон, и приехали сюда, получив от правительства полномочия содействовать освобожденным неграм. Они все приехали в Джефферсон, кроме сестер отца. Две вышли замуж, младшая осталась жить с одной из них, а дедушка с отцом, Калвином и его матерью переехали сюда и купили дом. А затем случилось то, к чему они готовы были, наверно, с самого начала, и отец жил один, пока из Нью-Гемпшира не приехала моя мать. До этого они никогда друг друга не видели, даже на карточках. Они поженились в день ее приезда, а через два года родилась я, и отец назвал меня Джоанной, в честь матери Калвина. Думаю, что он и не хотел еще одного сына. Я плохо его помню. Он только раз запомнился мне как человек, как личность – это когда он повел меня смотреть могилы Калвина и дедушки. День был ясный, весной. Я, помню, не знала даже, зачем мы идем, но идти не хотела. Не хотела идти под деревья. Не знаю почему. Я же не могла знать, что там; мне было всего четыре года. Да если бы и знала, ребенка это не могло напугать. Наверное, что-то было в отце, как-то через него на меня подействовала эта роща. Он оставил какой-то отпечаток на роще, и я чувствовала, что, когда вступлю туда, отпечаток перейдет на меня и я никогда не смогу этого забыть. Не знаю. Но он заставил меня пойти и, когда мы там стояли, сказал: «Запомни. Здесь лежат твой дед и брат, убитые не одним белым человеком, но проклятием, которому Бог предал целый народ[33], когда твоего деда, и брата, и меня, и тебя не было и в помине. Народ, проклятый и приговоренный на веки вечные быть частью приговора и проклятья белой расе за ее грехи. Запомни это. Его приговор и Его проклятие. На веки вечные. На мне. На твоей матери. На тебе, хоть ты и ребенок. Проклятие на каждом белом ребенке, рожденном и еще не родившемся. Никто не уйдет от него». А я сказала: «И я тоже?» И он сказал: «И ты тоже. Прежде всего – ты». Я видела и знала негров, сколько себя помню. Для меня они были то же самое, что дождь, комната, еда, сон. Но после этого они впервые стали для меня не просто людьми, а чем-то другим – тенью, под которой я живу. Живем мы все, все белые, все остальные люди. Я думала о том, как появляются и появляются на свет дети, белые – и черная тень падает на них раньше, чем они первый раз вдохнут воздух. А черная тень представлялась мне в виде креста. И виделось, как белые дети, еще не вдохнув воздух, силятся вылезти из-под тени, а она не только на них, но и под ними, раскинулась, точно руки, точно их распяли на крестах. Я видела всех младенцев, которые появятся на свет, тех, что еще не появились, – длинную цепь их, распятых на черных крестах. Тогда я не могла понять, вижу я это или мне мерещится. Но это было ужасно. Ночью я плакала. Наконец я сказала отцу, попыталась сказать. Я хотела сказать ему, что должна спастись, уйти из-под этой тени, иначе умру. «Не можешь, – сказал он. – Ты должна бороться, расти. А чтобы расти, ты должна поднимать эту тень с собой. Но ты никогда не подымешь ее до себя. Теперь я это понимаю, а когда приехал – не понимал. Избавиться от нее ты не можешь. Проклятие черной расы – Божье проклятие. Проклятие же белой расы – черный человек, который всегда будет избранником Божьим, потому что однажды Он его проклял». Ее голос смолк. В неясном прямоугольнике раскрытой двери плавали светляки. Наконец Кристмас сказал:
– Я хотел у тебя спросить. Но теперь, кажется, сам знаю ответ.
Она не шелохнулась. Голос ее был спокоен.
– Что?
– Почему твой отец не убил этого… как его звать – Сарториса?
– А-а, – сказала она. Снова наступила тишина. За дверью плавали и плавали светляки. – Ты бы убил. Убил бы?
– Да, – сказал он сразу, не задумываясь. Потом почувствовал, что она смотрит в его сторону, как будто может видеть его. Теперь ее голос был почти ласков – так он был тих, спокоен.
– Ты совсем не знаешь, кто твои родители?
Если бы она могла разглядеть его лицо, то увидела бы, что оно угрюмо, задумчиво.
– Знаю только, что в одном из них негритянская кровь. Я тебе говорил.
Она еще смотрела на него: он понял это по голосу. Голос был спокойный, вежливый, заинтересованный, но без любопытства.
– Откуда ты знаешь?
Он ответил не сразу. Наконец сказал:
– Я не знаю. – И снова умолк; но она поняла по голосу, что он смотрит в сторону, на дверь. Его лицо было угрюмо и совершенно неподвижно. Он снова пошевелился, заговорил: в голосе зазвучала новая нотка, невеселая, но насмешливая, строгая и сардоническая одновременно. – А если нет, то много же я времени даром потерял, будь я проклят.
Теперь она тоже как будто раздумывала вслух, тихо, затаив дыхание, но по-прежнему не жалобясь, не зарываясь в прошлое:
– Я думала об этом. Почему отец не застрелил полковника Сарториса. Думаю – из-за своей французской крови.
– Французской крови? – сказал Кристмас. – Неужели даже француз не взбесится, если кто-то убьет его отца и сына в один день? Видно, твой отец религией увлекся. Проповедником, может, стал.
Она долго не отвечала. Плавали светляки, где-то лаяла собака, мягко, грустно, далеко.
– Я думала об этом, – сказала она. – Ведь все было кончено. Убийства в мундирах, с флагами и убийства без мундиров и флагов. И ничего хорошего они не дали. Ничего. А мы были чужаки, пришельцы и думали не так, как люди, в чью страну мы явились незваные, непрошеные. А он был француз, наполовину. Достаточно француз, чтобы уважать любовь человека к родной земле – земле его родичей – и понимать, что человек будет действовать так, как его научила земля, где он родился. Я думаю, поэтому.
12
Так начался второй период. Он словно свалился в сточную канаву. Словно из другой жизни оглядывался он на ту первую, суровую мужскую сдачу – сдачу суровую и тяжкую, как крушение духовного скелета, чьи ткани лопались с треском, почти внятным живому уху, – так что сам акт капитуляции был уже спадом, угасанием, как для разбитого генерала – утро после решающей битвы, когда, побрившись, в сапогах, отчищенных от грязи боя, он сдает свою саблю победителю.
Текло в канаве только ночью. Дни проходили как всегда. Он отправлялся на работу в половине седьмого утра. Он выходил из хибарки, не оглянувшись на дом. В шесть вечера он возвращался, опять не взглянув на дом. Мылся, надевал белую рубашку и темные отглаженные брюки, шел на кухню, где его ждал на столе ужин, садился и ел, так и не видя ее. Но он знал, что она в доме и что темнота, вползая в этот старый дом, надламывает что-то и растлевает ожиданием. Он знал, как она провела день; что и у нее дни проходили как обычно, словно и за нее дневную жизнь вел кто-то другой. Весь день он представлял себе, как она хозяйничает по дому, отсиживает положенный срок за обшарпанным бюро или расспрашивает, выслушивает негритянок, которые сходятся сюда со всего придорожья – тропинками, проторенными за много лет и разбегающимися от дома, как спицы от втулки. О чем они с ней говорили, он не знал, хотя не раз наблюдал, как они подходят к дому – не то чтобы тайком, но целеустремленно, чаще поодиночке, но иногда по двое, по трое, в фартуках, обмотавши головы платками, а то и в мужском пиджаке, наброшенном на плечи, а потом возвращаются восвояси по разбегающимся тропинкам, не спеша, но и не мешкая. Он вспоминал о них мельком, думая Сейчас она делает то. Сейчас она делает это но о ней самой думал немного. И был уверен, что днем она думает о нем не больше, чем он о ней. Но даже ночью в ее темной спальне, когда она настойчиво и подробно рассказывала ему о своих будничных дневных делах и настаивала, чтобы он рассказывал ей о своих, это было вполне в обычае любовников: властная и неутолимая потребность, чтобы будничные дела обоих были изложены в словах, слушать которые вовсе не обязательно. Поужинав, он шел туда, где она его ждала. Часто он не спешил с этим. Время шло, новизна второго периода притуплялась, обращаясь в привычку, и он стоял в дверях кухни, глядя в темноту, и видел – наверно, предугадывая, предощущая недоброе – ждавшую его дикую и пустынную улицу, которую избрал по собственной воле – думая Эта жизнь не для меня. Мне здесь не место
Сначала он был потрясен – жалким неистовством новоанглийского ледника, вдруг преданного пламени новоанглийского библейского ада. Возможно, он понимал, сколько в этом самоотречения: под властным бешеным порывом скрывалось скопившееся отчаяние яловых непоправимых лет, которые она пыталась сквитать, наверстать за ночь, – так, словно это ее последняя ночь на земле, – обрекая себя на вечный ад ее предков, купаясь не только в грехе, но и в грязи. У нее была страсть к запретным словам, ненасытное желание слышать их от него и произносить самой. Она обнаруживала пугающее, простодушное, детское любопытство к запретным темам и предметам – глубокий, неутомимый, научный интерес хирурга к человеческому телу и его возможностям. А днем он видел уравновешенную, хладнолицую, почти мужеподобную, почти немолодую женщину, которая прожила двадцать лет в одиночестве, без всяких женских страхов, в уединенном доме, в местности, населенной – и то редко – неграми, которая каждый день в определенное время спокойно сидела за столом и спокойно писала старым и молодым письма с советами духовника, банкира и медицинской сестры в одном лице.
В этот период (его нельзя было назвать медовым месяцем) Кристмас мог наблюдать на ней всю эволюцию женской любви. Вскоре ее поведение уже не просто коробило его – оно его изумляло, озадачивало. Ее припадки ревности застигали его врасплох. Опыта в этом у нее не могло быть никакого; ни причин для сцены, ни возможной соперницы не существовало – и он знал, что она это знает. Она будто изобретала это все нарочно – разыгрывала, как пьесу. Но делала это с таким исступлением, с такой убедительностью и такой убежденностью, что в первый раз он решил, будто у нее бред, а в третий – счел ее помешанной. Она обнаружила неожиданную склонность к любовным ритуалам – и богатую изобретательность. Она потребовала устроить тайник для записок, писем. Им служил полый столб ограды за подгнившей конюшней. Он ни разу не видел, чтобы она клала в тайник записку, но она требовала, чтобы он наведывался туда ежедневно; когда он проверял тайник, он непременно находил письмо. А когда, не проверив, лгал ей, оказывалось, что она уже расставила ловушки, чтобы поймать его на лжи. Она плакала, рыдала.
Иногда в записке она не велела ему приходить раньше такого-то часа – и это в дом, куда за многие годы не заглядывал ни один белый, кроме него, и где вот уже двадцать лет она проводила все ночи одна; целую неделю она заставляла его лазить к ней через окно. При этом она иногда пряталась, и он искал ее по всему темному дому, покуда не находил в каком-нибудь чулане, в нежилой комнате, где она ждала его, тяжело дыша, с горящими, как угли, глазами. То и дело она назначала ему свидание где-нибудь под кустами в парке, и он находил ее голой, или в изодранной в клочья одежде, в буйном припадке нимфомании, когда ее мерцающее тело медленно корчилось в таких показательно-эротических позах и жестах, какие рисовал бы Бердслей, живи он во времена Петрония[34]. Она буйствовала в душной, наполненной дыханием полутьме без стен, буйствовали ее руки, каждая прядь волос оживала, как щупальце осьминога, и слышался буйный шепот: «Негр! Негр! Негр!»
За шесть месяцев она развратилась совершенно. Нельзя сказать, что развратил ее он. Его жизнь при всех беспорядочных, безымянных связях была достаточно пристойной, как почти всякая жизнь в здоровом и нормальном грехе. Происхождение порчи было для него еще менее понятно, чем для нее. Откуда что берется, удивлялся он; но мало этого: порча перешла на него самого. Он начал бояться. Чего – он сам не понимал. Но он уже видел себя со стороны – как человека, которого засасывает бездонная трясина. В мысль это еще не сложилось. Пока что он видел перед собой только улицу – безлюдную, дикую и прохладную. Именно прохладную; он думал, иногда говоря себе вслух: «Надо уходить. Надо убираться отсюда».
Но что-то удерживало его – то, что всегда может удержать фаталиста: любопытство, пессимизм, обыкновенная инертность. Между тем связь продолжалась, все глубже и глубже затягивая его в деспотическое, изнурительное неистовство ночей. Вероятно, он понимал, что уйти не может. Во всяком случае, он никуда не уходил и наблюдал, как борются в одном теле два существа – словно две мерцающие под луной фигуры, которые по очереди топят друг друга и судорожно выныривают на поверхность черного, вязкого пруда. То – спокойная, сдержанная, холодная женщина первой фазы, падшая и обреченная, но даже в падении своем и обреченности почему-то остававшаяся неприступной и неуязвимой; то – другая, вторая, в яростном отречении от этой неуязвимости стремившаяся в черную бездну и в бездне вновь обретавшая физическую чистоту – ибо берегла ее так долго, что теперь уже не могла потерять. Иногда они обе всплывали на черную поверхность, обнявшись, как сестры; черная вода стекала с них. И тогда возвращался прежний мир: комната, стены, мирный несметный хор насекомых за летними окнами, где насекомые гудели уже сорок лет. Она смотрела на него дикими, отчаянными глазами, как чужая; глядя на нее, он мысленно перефразировал себя: «Она хочет молиться, но и этого не умеет».
Она начала толстеть.
Эта фаза не оборвалась, не закончилась кульминацией, как первая. Она вылилась в третью фазу так постепенно, что он не мог бы сказать, где завершилась одна и началась другая. Так лето переходит в осень, и осень неумолимо простирает на лето свою знобкую власть, словно тени при закате солнца; так в осени умирающее лето вспыхивает там и сям, словно пламя в угасающих углях. Это растянулось на два года. Он по-прежнему работал на фабрике, а в свободное время начал потихоньку продавать виски – очень осмотрительно, ограничиваясь несколькими надежными покупателями, ни один из которых не знал другого. Она не подозревала об этом, хотя запасы свои он прятал на ее земле и встречался с покупателями в лесу, за выгоном. Скорее всего она не стала бы возражать. Но и миссис Макихерн не стала бы возражать против потайной веревки; вероятно, ей и миссис Макихерн он не признавался по одной и той же причине. Размышляя о миссис Макихерн и о веревке, об официантке, которой он так и не сказал, где раздобыл для нее деньги, и, наконец, о нынешней любовнице и о виски, он готов был поверить, что продает виски не ради денег, а потому что обречен что-то скрывать от женщин, которые его окружают. Между тем ему случалось иногда увидеть ее и днем – издали, за домом: под чистым и строгим платьем жило и явственно шевелилось подпорченное, переспелое, готовое хлынуть гнилью при одном прикосновении, как порождение болота; она же ни разу не оглянулась ни на хижину, ни на него. И когда он думал о том, другом существе, которое жило только в темноте, ему казалось, что сейчас, при дневном свете, он видит всего лишь призрак кого-то, умерщвленного ночной сестрой, и призрак этот бродит бесцельно по местам былого покоя, лишенный даже способности стенать.
Разумеется, первоначальное неистовство второй фазы не могло длиться без конца. Сначала это был водопад; теперь – приливы и отливы. Во время прилива она могла почти обмануть и себя и его. Как будто сознание, что это всего лишь прилив, рождало в ней яростный протест и еще большее неистовство, которое втягивало и его и ее в физические эксперименты, совершенно уже невообразимые, сметало их обоих своим напором и несло неведомо куда, помимо воли. Она как будто понимала, что времени в обрез, что осень ее уже приближается – не зная еще, что именно эта осень означает. Тут действовал, казалось, один инстинкт: животный инстинкт и инстинктивное желание сквитать потерянные годы. Затем наступал отлив. И они, изнуренные и пресыщенные, валялись на суше, словно после утихшего мистраля, глядя друг на друга как чужие, безнадежно и укоризненно (он – со скукой, она – с отчаянием в глазах).
Но тень осени уже лежала на ней. Она заговорила о ребенке, словно инстинкт предупреждал ее, что настало время либо оправдываться, либо искупать. Она говорила об этом во время отливов. Первое время ночь всегда начиналась потопом, словно часы дневной разлуки подпирали иссякающий ручей, чтобы он хоть несколько мгновений мог изображать водопад. Но потом ручей стал слишком слаб даже для этого: теперь Кристмас шел к ней неохотно, как чужой, уже думая о возвращении; как чужой, уходил от нее, посидев с ней в темной спальне, побеседовав о ком-то третьем, тоже чужом. Он заметил, что теперь, словно сговорившись, они встречаются только в спальне, словно уже женаты. Ему больше не приходилось разыскивать ее по всему дому; ночи, когда он искал ее, а она, шумно дыша, голая пряталась в темном доме или в кустах запущенного парка, канули в прошлое, как тайник в заборном столбе за сараем.
Все кануло в прошлое: даже сцены, безупречно разыгрываемые сцены тайного безобразного сладострастия и ревности. Хотя теперь у нее были основания для ревности – если бы она об этом знала. Примерно раз в неделю он уезжал, якобы по делам. Она не знала, что дела у него – в Мемфисе, где он изменяет ей с женщинами – женщинами, которых покупают за деньги. Она этого не знала. Возможно, в нынешнем своем состоянии она бы и не поверила, не стала выслушивать доказательства, нисколько бы не огорчилась. Потому что теперь у нее вошло в обыкновение проводить большую часть ночи без сна и отсыпаться днем после обеда. Она не была больна; виновато было не тело. Она была здорова, как никогда; аппетит у нее был волчий, она прибавила килограммов двенадцать. Бессонницу рождало не это. А что-то в самой темноте, в земле, в умирающем лете: оттуда грозило ей что-то ужасное, но инстинкт убеждал ее, что ей это не повредит; это настигнет и вероломно предаст ее, но вреда не причинит: наоборот, она будет спасена, жизнь пойдет по-прежнему и даже лучше, станет менее ужасной. Ужасно было то, что она спасения не желала. «Я еще не готова молиться», – говорила она вслух спокойно, беззвучно, застыв с широко раскрытыми глазами, а лунный свет лился и лился в окно, затопляя комнату холодом непоправимости – безумных сожалений полный[35]. «Не принуждай меня сейчас молиться. Боже, милый, позволь мне еще немного побыть падшей». Вся ее прошлая жизнь, голодные годы представлялись ей серым туннелем, в дальнем и невозвратном конце которого вечным укором ныла, как три коротких года назад, ее голая, умерщвленная девственностью грудь. «Боже, милый, еще немного. Боже, милый, еще немного».
Так что теперь, когда он приходил к ней и они вяло, холодно, только по привычке совершали обряд страсти, она начинала говорить о ребенке. Сперва она рассуждала об этом отвлеченно, как о детях вообще. Возможно, это было всего лишь инстинктивной женской уловкой, околичностью, возможно – нет. Во всяком случае, он далеко не сразу сообразил – и был ошеломлен своим открытием, – что обсуждает она это всерьез, как нечто вполне осуществимое. Он тут же сказал «Нет».
– Почему? – спросила она. Она смотрела на него задумчиво. Он быстро соображал, думал Хочет замуж. Вот что. Ребенка хочет не больше, чем я. «Просто уловка, – соображал он. – Этого и надо было ожидать, как же я не подумал. Надо было год назад отсюда убраться». Но он боялся ей это сказать, боялся, чтобы слово «женитьба» не возникло между ними, не было произнесено вслух – прикидывал: «Может, она еще ничего не подумала, а я ей сам зароню эту мысль». Она наблюдала за ним.
– Почему – нет? – сказала она. И где-то у него мелькнуло В самом деле – почему? Покой и обеспеченность до конца дней. И никаких скитаний. А чем женитьба хуже теперешнего-то и он подумал: «Нет. Если поддамся, значит, напрасно прожил тридцать лет, чтобы стать тем, кем я решил стать». Он сказал:
– Если бы мы собирались иметь ребенка, я думаю, мы заимели бы его два года назад.
– Тогда мы не хотели.
– Мы и сейчас не хотим, – сказал он.
Это было в сентябре. Сразу после Рождества она сказала ему, что беременна. Она еще не успела договорить, а он уже решил, что она лжет. Теперь он сообразил, что ждал от нее этих слов уже больше трех месяцев. Но, посмотрев на ее лицо, он понял, что она не лгала. Поверил, что она знает, что не лжет. Он подумал: «Вот оно. Сейчас она скажет: женись. Но я по крайней мере могу вперед выскочить из дома».
Однако она не сказала. Она сидела на кровати неподвижно, сложив руки на коленях, потупив неподвижное лицо (лицо северянки и все еще старой девы: с четким костяком, длинное, худоватое, почти мужеподобное; в противоположность ему, ее полное тело выглядело как никогда сдобным и по-животному спелым). Она сказала – задумчиво, бесстрастно, словно о ком-то постороннем: «Полной мерой. Даже незаконным ребенком от негра. Хотела бы видеть папино лицо и Калвина. Теперь тебе самое время бежать, если ты надумал». Но она как будто не слушала собственного голоса, не вкладывала в слова никакого смысла: последний всплеск упрямого умирающего лета, когда осень предвестием полусмерти нагрянет на него. «Теперь все, – спокойно думала она. – Кончено». Все – кроме ожидания, пока пройдет еще месяц, чтобы убедиться окончательно; это она узнала от негритянок – что иногда только на третьем месяце можно сказать наверняка. Ей придется ждать еще месяц, следить по календарю. Она сделала на календаре отметку, чтобы не ошибиться; из окна спальни она наблюдала, как этот месяц истекает. Подморозило, кое-где пожелтели листья. Отмеченный в календаре день настал и прошел; для верности она дала себе еще неделю. Она не ликовала, поскольку другого и не ждала. «У меня будет ребенок», – спокойно сказала она вслух.
«Завтра уйду», – сказал он себе в тот же день. И подумал: «Уйду в воскресенье. Дождусь недельной получки – и до свиданья». С нетерпением стал ждать субботы, прикидывая, куда поедет. Всю неделю он с ней не встречался. Думал, что она его позовет. Заметил, что, входя к себе в хибарку и выходя, избегает смотреть на дом, как в первые недели. Он не видел ее совсем. Время от времени он видел негритянок, когда, укрывшись кое-как от осеннего холода, они шли привычными тропинками к дому или от дома, входили или выходили. Но и только. Наступила суббота, и он не уехал. «Подсоберу-ка еще деньжат, – думал он. – Если она меня не гонит, мне тоже не к спеху. Уеду в следующую субботу».
Он остался. Погода стояла холодная, ясная и холодная. Улегшись под бумажным одеялом в насквозь продуваемой хибарке, он думал о спальне в доме, с ее камином, широкими, пышными стегаными одеялами. Он готов был себя пожалеть, чего с ним никогда не случалось. «Могла хотя бы предложить мне другое одеяло», – думал он. Мог бы и сам купить. Но не покупал. А она не предлагала. Он ждал. Ждал, как ему показалось, долго. И вот однажды вечером, в феврале, он вернулся домой и нашел на койке ее записку. Короткую, почти приказ – явиться ночью в дом. Он не удивился. Он ни разу не встречал женщины, которая не образумилась бы рано или поздно, если не имела другого мужчины взамен. Теперь он знал, что завтра уйдет. «Вот чего я, наверно, дожидался, – подумал он. – Ждал, когда смогу отплатить». Он не только переоделся, но и побрился. Он собирался как жених, сам того не сознавая. В кухне стол для него был накрыт как обычно; за все время, что он с ней не виделся, об ужине она не забыла ни разу. Он поел и отправился наверх. Не спеша. «У нас вся ночь впереди, – думал он. – Ей будет о чем вспомнить завтра и послезавтра ночью, когда увидит, что в хибарке пусто». Она сидела у камина. И когда он вошел, даже не повернула головы.
– Подвинь себе стул, – сказала она.
Так началась третья фаза. Поначалу она озадачила его даже больше, чем первые две. Он ожидал пыла, молчаливого признания вины; на худой конец – сговорчивости, если он начнет ее обхаживать. Он готов был даже на это. Но встретила его чужая женщина, которая со спокойной мужской твердостью отвела его руку, когда он, окончательно потерявшись, попробовал ее обнять.
– Давай, – сказал он. – Если у тебя ко мне разговор. После этого разговор у нас лучше вяжется. Ребенку ничего не сделается, не бойся.
Она остановила его одним словом; впервые он взглянул на ее лицо: увидел лицо холодное, отрешенное и фанатическое.
– Понимаешь ли ты, – спросила она, – что попусту тратишь жизнь? – И он смотрел на нее окаменев, словно не мог поверить своим ушам.
До него не сразу дошел смысл ее слов. Она ни разу на него не взглянула. Она сидела с холодным, неподвижным лицом, задумчиво глядя в камин, и разговаривала с ним как с чужим, а он слушал ее оскорбленно и с изумлением. Она хотела, чтобы он взял на себя все ее дела с негритянскими школами – и переписку, и регулярные осмотры. Весь план у нее был продуман. Она излагала его в подробностях, а он слушал с растущим гневом и изумлением. Руководство переходит к нему, а она будет его секретарем, помощником: они будут вместе ездить по школам, вместе посещать дома негров; при всем своем возмущении он понимал, что план этот безумен. Но ее спокойный профиль в мирном свете камина был безмятежен и строг, как портрет в раме. Выйдя от нее, он вспомнил, что она ни разу не упомянула о ребенке.
Он еще не верил, что она сошла с ума. Он думал, что всему виной – беременность, что из-за этого она и дотронуться до себя не позволяет. Он попробовал спорить с ней. Но это было все равно что спорить с деревом, она даже возражать не стала – спокойно выслушала его и хладнокровно продолжала говорить свое, как будто он не сказал ни слова. Когда он встал наконец и вышел, он даже не был уверен, что она это заметила.
За следующие два месяца он видел ее только раз. День у него проходил как всегда, с той только разницей, что он вообще не приближался к дому и опять ел в городе, как в первые месяцы работы на фабрике. Но в ту пору – когда он только начинал работать – ему не приходилось думать о ней днем; он вообще едва ли о ней думал. А теперь он ничего не мог с собой поделать. В мыслях его она была все время, чуть ли не перед глазами стояла – терпеливо ждущая его в доме, неотвязная, безумная. В первой фазе он жил как бы на улице, на земле, покрытой снегом, и пытался попасть в дом; во второй – на дне ямы, в жаркой бешеной темноте; теперь он очутился посреди равнины, где не было ни дома, ни снега, ни даже ветра.
Теперь он начал бояться – он, которым владело до сих пор недоумение и еще, пожалуй, предчувствие недоброго, обреченность. Теперь у него был компаньон в торговле виски: новый рабочий по фамилии Браун, поступивший на фабрику ранней весной. Кристмас понимал, что этот человек дурак, но сначала думал: «Делать то, что я скажу, – на это по крайней мере ума у него хватит. Самому ему думать вообще не придется»; и лишь спустя какое-то время сказал себе: «Теперь я знаю, что такое дурак, – это тот, кто даже своего доброго совета не послушается». Он взял Брауна, потому что Браун был пришлый и была в нем какая-то веселая и шустрая неразборчивость и не слишком много отваги, зная, что в руках рассудительного человека трус, при всех его несовершенствах, может оказаться довольно полезным – для всех, кроме себя самого.
Он боялся, что Браун узнает про женщину в доме и по непредсказуемой своей глупости поломает ему все дело. Он опасался, что женщине, поскольку он ее избегал, взбредет в голову прийти как-нибудь ночью в хибарку. С февраля он виделся с ней только раз – когда пришел сказать, что в хибарке с ним будет жить Браун. Это было в воскресенье. Он окликнул ее, она вышла к нему на заднее крыльцо и спокойно его выслушала. «В этом не было нужды», – сказала она. Тогда он не понял, что она имела в виду. И только впоследствии в голове вдруг возникло – целиком, опять как отпечатанная фраза Она думает, я притащил его сюда, чтобы ее отвадить. Решила, будто я думаю, что при нем она побоится прийти в хибарку; что ей придется оставить меня в покое
Так эту мысль, этот страх перед возможным ее поступком он заронил в себе сам, думая, что заронил в ней. Ему казалось, что, раз она так думает, присутствие Брауна не только не отпугнет ее: оно побудит ее прийти в хибарку. Из-за того, что уже больше месяца она ничего не предпринимала, не делала никаких шагов к сближению, ему казалось, будто она способна на все. Теперь он сам лежал по ночам без сна. Но он думал: «Я должен что-то сделать. Что-то я, кажется, сделаю».
И он хитрил, старался улизнуть от Брауна и прийти домой первым. Всякий раз боялся, что застанет ее там. А подойдя к хибарке и обнаружив, что она пуста, испытывал бессильную ярость оттого, что должен бояться, врать, спешить, а она себе посиживает дома и только тем занята, что раздумывает, предать его сейчас или помучить еще немного. В другое время ему было бы все равно, знает Браун об их отношениях или нет. Скрытность или рыцарское отношение к женщине были не в его характере. Вопрос был практический, деловой. Его бы нисколько не смутило, если бы даже весь Джефферсон знал, что он ее любовник. Подпольное виски и тридцать – сорок долларов чистого дохода в неделю – вот из-за чего он не хотел, чтобы посторонние вникали в его частную жизнь. Это – одна причина. Другой причиной было тщеславие. Он скорей бы убил или умер, чем позволил кому-нибудь, все равно кому, узнать, во что превратились их отношения. Что она не только свою жизнь перевернула, но и его пытается перевернуть, сделать из него не то отшельника, не то миссионера среди негров. Он был уверен, что, если Браун хоть что-нибудь о них узнает, он неизбежно узнает и все остальное. И вот, подойдя наконец к лачуге, после всего этого вранья и гонки, и взявшись за ручку двери, он думал о том, как через секунду выяснится, что спешка была напрасной, а все же отказаться от этой предосторожности он не смеет, и люто ненавидел ее, стервенея от страха и собственного бессилия. Но однажды вечером он открыл дверь и увидел на койке записку.
Увидел, едва вошел – квадратную, белую, непроницаемую на темном одеяле. Суть письма, обещание, которое в нем содержится, были настолько для него очевидны, что он ни на миг об этом не задумался. Нетерпения он не испытывал; он испытывал облегчение. «Ну, все теперь, – подумал он, еще не взяв сложенной бумажки. – Теперь все пойдет по-старому. Кончено с разговорами о нигерах и детях. Образумилась. Это в ней перегорело, поняла, что ничего не добьется. Поняла теперь, что ей мужчину нужно, мужчину хочется. Мужчина ей нужен ночью; чем он занимается днем – не имеет значения». Тут он должен был бы понять, почему до сих пор не уехал. Должен был бы сообразить, что затаившийся квадратик бумаги держит его крепче кандалов и замка. Но об этом он не думал. Он видел только, что ему опять светит, что впереди – наслаждение. Только теперь будет спокойней. Они оба так захотят; кроме того, теперь на нее есть управа. «Дурацкие штучки, – думал он, держа в руках все еще не раскрытое письмо, – чертовы штучки дурацкие. Она так и есть она, а я так и есть я. И после всего, что было, – эти дурацкие штучки», – и представил себе, как они будут смеяться сегодня ночью – позже, после, когда настанет время спокойно поговорить и спокойно посмеяться – над всей историей, друг над другом, над собой.
Он так и не раскрыл записку. Он отложил ее, вымылся, побрился и переоделся, все время насвистывая. Не успел он закончить, как пришел Браун.
– Так, так, так, – сказал Браун. Кристмас ничего не ответил. Он смотрелся в зеркальце, прибитое к стене, и завязывал галстук. Браун стал посреди комнаты: высокий, сухощавый молодой человек, в грязном комбинезоне, со смуглым безвольно-миловидным лицом и любопытными глазами. Возле рта у него был тоненький шрам, белый, как нитка слюны. Немного погодя Браун сказал: – Кажись, ты куда-то налаживаешься?
– Да ну? – сказал Кристмас. Он не обернулся. Он насвистывал – монотонно, но не фальшивя – что-то минорное, жалобное, негритянское.
– Я думаю, мне уж не стоит мыться, – сказал Браун, – раз ты собрался.
Кристмас обернулся к нему:
– Куда собрался?
– Разве ты не в город?
– А кто тебе сказал? – спросил Кристмас. И отвернулся к зеркалу.
– Ага, – сказал Браун. Он смотрел Кристмасу в затылок. – Значит, надо понимать, у тебя – свои дела. – Он наблюдал за Кристмасом. – Ночь больно холодна, чтобы лежать на сырой земле, когда подстилки-то всего – худая девочка.
– Не может быть, – сказал Кристмас и продолжал насвистывать, сосредоточенно и неторопливо завязывая галстук. Потом повернулся, поднял и надел пиджак; Браун наблюдал за ним. Кристмас двинулся к двери. – До завтра, – сказал он. Дверь за ним не закрылась. Он знал, что Браун стоит на пороге и смотрит ему в спину. Но он не собирался заметать следы. Пошел прямо к дому. «Пускай смотрит, – подумал он. – Пускай проводит, если хочется».
Стол в кухне был для него накрыт. Прежде чем сесть, он вынул из кармана нераскрытую записку и положил рядом с тарелкой. Записка была без конверта, не запечатана и раскрылась сама собой, словно приглашая прочесть, настаивая. Но он в нее не заглянул. Он принялся за еду. Ел не спеша. Он уже почти кончил, как вдруг поднял голову и прислушался. Потом встал, беззвучно, как кошка, подкрался к входной двери и рывком распахнул ее. За порогом, прислонясь лицом к двери – вернее, к тому месту, где она была, – стоял Браун. Когда свет упал на его лицо, на нем был написан напряженный детский интерес; на глазах у Кристмаса он сменился удивлением, затем лицо отдернулось и приобрело нормальный вид. Голос у Брауна был торжествующий, но при этом тихий, осторожный, заговорщицкий, словно он уже принял сторону Кристмаса, заключил союз, не дожидаясь, когда его попросят, не вникая в суть дела – просто из солидарности с товарищем – или мужчиной вообще противу женщины.
– Так, так, так, – сказал он. – Значит, вот куда ты шастаешь по ночам. Прямо, можно сказать, под носом…
Не говоря ни слова, Кристмас ударил его. Удар получился несильный, потому что Браун уже пятился с невинным и радостным ржанием. От удара смех его пресекся; отпрянув, выпрыгнув из снопа света, Браун исчез в темноте, и оттуда опять послышался его голос, по-прежнему тихий, словно он даже теперь не хотел помешать планам товарища, но не спокойный – удивленный, испуганный: «Только ударь еще!» Кристмас наступал неторопливо и молча, Браун пятился; он был выше ростом, но долговязая его фигура, уже нелепо скомканная бегством, казалось, вот-вот рассыплется окончательно и, гремя, повалится на землю. Снова послышался его голос, высокий, полный испуга и недостоверной угрозы: «Только ударь еще!» На этот раз удар пришелся в плечо, когда он поворачивался. Браун пустился наутек. Он отбежал метров на сто, прежде чем замедлил шаги и посмотрел назад. Потом стал и обернулся. «Итальяшка желтобрюхий», – сказал он для пробы – и тут же дернул головой, словно не рассчитал громкости, произвел больше шума, чем хотел. Из дома не доносилось ни звука; кухонная дверь опять была темна, опять закрыта. Он повторил погромче: «Итальяшка желтобрюхий! Я тебе покажу, как валять дурака». Нигде ни звука. Холод. Он повернулся и, ворча, пошел к хибарке.
Вернувшись на кухню, Кристмас даже не взглянул на стол, где лежала непрочтенная записка. Прошел прямо к двери в дом, на лестницу. Начал подыматься не спеша. Он поднимался размеренно; увидел дверь в спальню, в щели под ней – свет, свет камина. Не спеша подошел к двери и взялся за ручку. Потом открыл ее и остановился как вкопанный. Она сидела за столом, под лампой. Он увидел знакомую фигуру, в знакомой строгой одежде – одежде, выглядевшей так, как будто ее сшили и дали носить безразличному к своей внешности мужчине. Потом увидел голову, волосы с проседью, стянутые в узел, тугой и уродливый, как нарост на больном суку. Она подняла голову, и он увидел очки в стальной оправе, которых она прежде не носила. Он стоял в дверях, все еще держась за ручку, и не двигался. Ему казалось, что внутри у себя он действительно слышит слова: Надо было прочесть записку. Надо было прочесть записку и думал: «Я что-то сделаю. Что-то сделаю».
Он все еще слышал это, когда стоял у заваленного бумагами стола, из-за которого она даже не поднялась, и слушал ровный холодный голос, склонявший его к чему-то немыслимому, и язык его повторял за ней слова, глаза смотрели на разбросанные загадочные бумаги, документы, а в мыслях вертелось плавно и праздно: что означает та бумажка? что означает эта? «В школу», – повторил его язык.
– Да, – сказала она. – Тебя примут. Любая из них примет. За мой счет. Можешь выбрать из них любую. Нам даже не придется платить.
– В школу, – повторил его язык. – В школу для нигеров. Мне.
– Да. А потом поедешь в Мемфис. Можешь изучать право в конторе Пиблса. Он тебя обучит. Тогда ты сможешь взять на себя все юридические дела. Все, что вот здесь, – все, чем занимается он, Пиблс.
– А потом изучать право в конторе нигера-адвоката, – сказал его язык.
– Да. Тогда я передам тебе все дела, все деньги. Целиком. Так что когда тебе самому понадобятся деньги, ты сможешь… ты сумеешь распорядиться; юристы знают, как это сделать, чтобы… ты поведешь их к свету, и никто не сможет обвинить или упрекнуть тебя, даже если узнают… даже если бы ты не вернул… но ты бы мог вернуть деньги, и никто бы даже не узнал…
– Нет – в негритянский колледж? к нигеру-адвокату? – произнес его голос спокойно и не как возражение даже – просто напоминая. Они не глядели друг на друга; она ни разу не взглянула на него с тех пор, как он вошел.
– Скажи им.
– Сказать нигерам, что я сам нигер?
Наконец она посмотрела на него. Лицо у нее было спокойное. Теперь это было лицо пожилой женщины.
– Да. Придется. Чтобы с тебя не брали денег. За мой счет.
Тут он будто приказал своему языку: «Хватит. Хватит молоть. Дай мне сказать». Он наклонился к ней. Она не шевелилась. Их лица почти соприкасались: одно – холодное, мертвенно-бледное, фанатичное, безумное; другое – пергаментное, издевательски и беззвучно ощерившееся. Он тихо сказал:
– Ты старая. Раньше я не замечал. Старуха. У тебя седина в волосах. – Она ударила его сразу, ладонью, не меняя позы. На шлепок пощечины его удар отозвался как эхо. Он ударил кулаком, потом под вновь налетевшим на него протяжным ветром сдернул ее со стула, притянул к себе, глядя в неподвижное, бестрепетное лицо – и понимание рушилось на него протяжным ветром. – Нет у тебя никакого ребенка, – сказал он. – И никогда не было. Ничего с тобой не случилось, кроме старости. Ты просто стала старая, и у тебя кончилось – и ни на что ты больше не годишься. Вот и вся твоя неисправность. – Он отпустил ее и ударил снова. Она повалилась на кровать, глядя на него, а он снова ударил ее по лицу и стоял над ней, выплевывая слова, которые она так любила когда-то слушать и говорила, что ощущает их там – шепотную, непотребную ласку. – Вот и все. Ты просто сносилась. Ты больше ни на что не годна. Вот и все.
Она лежала на боку, повернув к нему лицо с окровавленным ртом, и глядела на него.
– Лучше бы нам обоим умереть, – сказала она.
Он видел записку на одеяле, как только открывал дверь. Потом он подходил, брал ее и разворачивал. Полый заборный столб теперь вспоминался как что-то из чужих рассказов, как что-то из другой жизни, которой он никогда не жил. Потому что бумага, чернила, форма и вид были те же. Записки никогда не были длинными; не были длинными и теперь. Но теперь ничто не напоминало в них о немом обещании, о радостях, не облачимых в слова. Теперь они были кратки, как эпитафии, и сжаты, как команды.
Первое его побуждение было – не идти. Он думал, что у него не хватает духу пойти. Потом понял, что у него не хватает духу не пойти. Теперь он не переодевался. В пропотевшем комбинезоне он нырял в поздние майские сумерки и появлялся на кухне. Стол для него больше не накрывали. Иногда он смотрел на него, проходя мимо, и думал: «Господи. Когда же я мог сесть и спокойно поужинать?» И не мог вспомнить.
Он входил в дом и поднимался по лестнице. Еще по дороге слышал ее голос. Голос становился громче по мере того, как он поднимался и подходил к двери в спальню. Дверь – закрыта, заперта; монотонный голос слышался из-за нее. Он не мог разобрать слов; только монотонное гудение. У него не хватало духу разобрать слова. У него не хватало духу понять, чем она занята. И он стоял и ждал, и немного погодя голос обрывался, она отпирала дверь, и он входил. Проходя мимо кровати, он бросал взгляд на пол, ему казалось, что он различает отпечатки колен, и он сразу отводил глаза, как будто увидел смерть.
Обычно лампа еще не горела. Они не садились. Они опять разговаривали стоя, как два года назад – стоя в потемках, и голос ее заводил старую песню: «…ну тогда не в школу, если ты не хочешь… Можно обойтись без этого… О своей душе. Искупление…» И он, холодный, неподвижный, ждал, когда она закончит: «…ад… вечные, вечные муки…»
– Нет, – говорил он. И она выслушивала его так же спокойно, а он знал, что не переубедил ее, и она знала, что не переубедила его. Но ни он, ни она не сдавались; хуже того: не оставляли друг друга в покое; он даже не уходил. И стояли в тихой полутьме, населенной, словно потомством их, несметными тенями былых грехов и наслаждений, обратив друг к другу неподвижные, съедаемые мраком лица, усталые, опустошенные и непокорные.
Потом он уходил. И пока не хлопнула дверь, не лязгнул засов за спиной, до него доносился голос, монотонный, спокойный, отчаянный, говоривший о том и с тем, о чем и о ком у него не хватало духу узнать и догадаться. И три месяца спустя, в ту августовскую ночь, когда он сидел под деревьями заглохшего парка и слышал, как часы на суде в двух милях отсюда пробили десять, а потом одиннадцать, ум его уже был опрокинут спокойным убеждением, что он – безропотный слуга рока, в который, как ему казалось, он не верил. Он говорил себе Я должен был это сделать – уже в прошедшем времени – Я должен был это сделать. Она сама так сказала
Она сказала это две ночи назад. Он нашел записку и отправился к ней. По мере того как он поднимался по лестнице, монотонный голос делался громче, звучал громче и яснее, чем обычно. Когда он взошел наверх, он увидел почему. Дверь на этот раз была раскрыта, а она продолжала стоять на коленях у кровати и не поднялась при его появлении. Она не шелохнулась; голос ее не смолк. Головы она не склонила. Ее лицо было поднято почти гордо, словно сама эта каноническая поза унижения родилась из гордости, и голос ее в сумерках звучал спокойно – спокойно, невозмутимо, самоотреченно. Она как будто не замечала, что он вошел, покуда не закончила фразы. Тогда она обернулась.
– Стань со мной на колени, – сказала она.
– Нет, – сказал он.
– Стань на колени, – сказала она. – Тебе даже не надо будет говорить с Ним самому. Только стань на колени. Сделай только первый шаг.
– Нет, – сказал он. – Я ухожу.
Она не пошевелилась, смотрела на него снизу, через плечо.
– Джо, – сказала она, – ты останешься? Хоть это ты сделаешь?
– Да, – сказал он. – Я останусь. Только давай быстрее.
Она снова стала молиться. Она говорила тихо, все с той же гордостью унижения. Когда нужно было употребить особые слова, которым научил ее он, она их употребляла – произносила решительно и без запинки, разговаривая с Богом, как будто Он мужчина и находится в компании двух других мужчин. Она говорила о себе и о нем, как о двух посторонних людях, – голосом спокойным, монотонным, бесполым. Потом умолкла. Тихо поднялась. Они стояли в сумерках лицом к лицу. На этот раз она даже не задала вопроса; ему даже не пришлось отвечать. Немного погодя она тихо сказала:
– Тогда остается только одно.
– Остается только одно, – отозвался он.
«Теперь все сделано, все кончено», – спокойно думал он, сидя в черном кустарнике и слушая, как замирает вдали последний удар часов. Это было место, где он поймал ее, нашел два года назад, в одну из тех безумных ночей. Но то было в другие времена, в другой жизни. Теперь здесь была тишь, покой, и тучная земля дышала прохладой. В тишине роились несметные голоса из всех времен, которые он пережил – словно все прошлое было однообразным узором. С продолжением: в завтрашнюю ночь, во все завтра, которые улягутся в однообразный узор, станут его продолжением. Он думал об этом, тихо изумляясь: продолжению, несметным повторам – ибо все, что когда-либо было, было таким же, как все, что будет, ибо будет и было завтра будут – одно и то же. Пора настала.
Он поднялся с земли. Вышел из тени, обогнул дом и вошел на кухню. Дом был темен. Он не заходил в хибарку с раннего утра и не знал, оставила ли она ему записку, ждет его или нет. Однако о тишине он не заботился. Он как будто не думал о сне, спит она или нет. Он не спеша поднялся по лестнице и вошел в спальню. Почти сразу послышался ее голос с кровати:
– Зажги лампу.
– Для этого света не понадобится, – сказал он.
– Зажги лампу.
– Нет, – сказал он. Он стоял над кроватью. Бритву держал в руке. Но еще не открытую. А она больше ничего не сказала, и тогда его тело словно ушло от него. Оно подошло к столу, руки положили бритву на стол, отыскали лампу, зажгли спичку. Она сидела на кровати, спиной к изголовью. Поверх ночной рубашки на ней была шаль, стянутая на груди. Руки сложены поверх шали, прячутся в складках. Он стоял у стола. Они смотрели друг на друга.
– Ты станешь со мной на колени? – сказала она. – Я не прошу.
– Нет, – сказал он.
– Я не прошу. Это не я тебя прошу. Стань со мной на колени.
– Нет.
Они смотрели друг на друга.
– Джо, – сказала она, – в последний раз. Я не прошу. Запомни это. Стань на колени.
– Нет, – сказал он. И тут увидел, как руки ее разошлись и правая рука вынырнула из-под шали. Она держала старинный, простого действия капсюльный револьвер, длиной почти с небольшое ружье, только более тяжелый. Но его тень и тень ее руки на стене нисколько не колебались – обе чудовищные, и над ними чудовищная тень взведенного курка, загнутого назад и злобно настороженного, как головка змеи; курок тоже не колебался. И в глазах ее не было колебания. Они застыли, как черное кольцо револьверного дула. Но жару, ярости в них не было. Они были недвижны и спокойны, как сама жалость, как само отчаяние, как сама убежденность. Но он за ними не следил. Он следил за тенью револьвера на стене; следил, когда настороженная тень курка спорхнула.
Стоя посреди дороги с поднятой рукой в лучах приближающихся фар, он тем не менее не ожидал, что машина остановится. Но она остановилась – с почти комичной внезапностью, взвизгнув и клюнув носом. Машина была маленькая, старая и помятая. Когда он подошел к ней, ему показалось, что два молодых лица в отраженном свете фар плавают, как два блеклых и оторопелых воздушных шара – ближнее, девичье, бессильно откачнулось в ужасе. Но тогда Кристмас этого не заметил.
– Ну что, подвезете, куда сами едете? – сказал он. Они не произнесли ни звука, глядели на него с немым и непонятным ужасом, которого он не замечал. Тогда он открыл заднюю дверь и влез.
Когда он сел, девушка начала сдавленно подвывать, и вой с минуты на минуту обещал стать громче – когда страх, так сказать, наберется храбрости. Машина уже ехала; она словно прыгнула вперед, а юноша, не снимая рук с руля, не поворачивая головы, шипел девушке: «Тише! Замолчи! Это единственное спасение. Ты замолчишь или нет?» Кристмас и этого не слышал. Он сидел сзади и даже не подозревал, что впереди него царит ужас. Только мелькнула мысль, что больно лихо гонит парень по такому узкому проселку.
– Куда эта дорога? – сказал он.
Юноша ответил ему, назвав тот же город, который назвал ему негритянский парнишка три года назад, когда он впервые увидел Джефферсон. Голос у юноши был какой-то пустой, шелестящий.
– Вам туда, начальник?
– Ладно, – сказал Кристмас. – Да. Да. Годится. Мне это подходит. Вы туда?
– Конечно, – сказал юноша пустым, глухим голосом. – Куда скажете. – Снова девушка рядом с ним начала придушенно, вполголоса подвывать, как маленькое животное; снова юноша зашипел на нее, деревянно глядя вперед на дорогу, по которой мчалась, подскакивая, машина: – Тс-с! Тише. Тс-с! Тс-с! – Но Кристмас и тут ничего не заметил. Он видел только два молодых одеревенелых затылка на фоне яркого света, в который влетала, мелькая и болтаясь, лента дороги. Но и на них и на мелькающую дорогу он смотрел без всякого интереса; даже когда до него дошло, что юноша уже довольно давно разговаривает с ним, он остался безучастен; много ли они проехали и где находятся, он не знал. Теперь юноша говорил медленно, повторяя одно и то же, подыскивая слова попроще и стараясь произносить их раздельно и ясно, как будто объяснялся с иностранцем.
– Послушайте, начальник. Когда я тут сверну. Это просто короткая дорога. Срежем – и на хорошую дорогу. Я поеду напрямик. Тут можно срезать. Там дорога лучше. Чтобы нам быстрее доехать. Понимаете?
– Ладно, – сказал Кристмас. Машина неслась и подскакивала, кренясь на поворотах, взлетала на пригорки и низвергалась с них так, как будто из-под нее уходила земля. Столбы с почтовыми ящиками влетали в свет фар и мелькали мимо. Изредка попадался темный дом. Юноша говорил:
– Вот сейчас этот поворот, про который я вам говорил. Вот прямо здесь. Я туда сверну. Но это не значит, что мы съезжаем с дороги. Я просто возьму наискосок, там дорога лучше. Понимаете?
– Ладно, – отозвался Кристмас. Потом, неизвестно почему, сказал: – Вы, наверно, где-нибудь здесь живете.
Теперь заговорила девушка. Она резко обернулась – ее маленькое личико было серым от тревоги и ужаса, слепого крысиного отчаяния.
– Да! – крикнула она. – Мы оба! Вон там! И когда мой папа и братья… – Ее голос смолк, оборвался; Кристмас увидел, что ладонь юноши зажала ей рот, а она пытается отодрать ее; под ладонью придушенно булькал ее голос. Кристмас подался вперед.
– Здесь, – сказал он. – Здесь выйду. Здесь меня можете высадить.
– Это все ты! – тоже взвизгнул юноша, так же исступленно и отчаянно. – Если бы ты молчала…
– Останови машину, – сказал Кристмас. – Я вам ничего не сделаю. Я просто хочу выйти. – Снова машина резко затормозила, присев на передние колеса. Но мотор продолжал реветь, и машина прыгнула вперед раньше, чем он сошел с подножки; ему самому пришлось прыгнуть и пробежать несколько шагов, чтобы не упасть. При этом что-то тяжелое и твердое ударило его в бок. Машина уходила на предельной скорости, исчезала. До него долетал пронзительный вой девушки. Наконец машина пропала; снова опустилась темнота, и уже неосязаемая пыль, и тишина под летними звездами. Удар в бок, нанесенный неизвестным предметом, оказался довольно чувствительным; теперь Кристмас обнаружил, что предмет этот соединен с правой рукой. Он поднял руку и увидел, что в ней зажат старинный, тяжелый револьвер. Он не знал, что держит его; не помнил, как взял его и зачем. Но он был тут. «А я махал машине правой рукой, – подумал он. – Неудивительно, что они…» Он замахнулся, чтобы бросить револьвер, лежавший на ладони. Потом передумал, зажег спичку и осмотрел его под слабым, замирающим светом. Спичка догорела и погасла, но он как будто еще видел эту старинную штуку с двумя заряженными камерами: той, по которой курок ударил, но не взорвал заряда, и той, до которой очередь не дошла. «Для нее и для меня», – сказал он. Рука развернулась и бросила. Он услышал, как хрустнуло в кустах. Опять стало тихо. «Для нее и для меня».
13
Не прошло и пяти минут с тех пор, как деревенский заметил пожар, а люди уже начали собираться. Те, кто тоже ехал на субботу в город, тоже останавливались. Те, кто жил по соседству, приходили пешком. Это был район негритянских халуп, истощенных, замаянных полей, где целый наряд сыщиков не выискал бы и десятка людей любого пола и возраста – и тем не менее вот уже полчаса люди возникали как из-под земли, партиями и группами, от одного человека до целых семей. И все новые приезжали из города на блеющих разгоряченных машинах. Среди них прибыл и окружной шериф – толстый уютный человек добродушного вида и хитрого трезвого ума – и растолкал зевак, которые столпились вокруг трупа на простыне и глядели на него оторопело, с тем детским изумлением, с каким взрослые созерцают свой будущий портрет. Среди них попадались и янки, и белая голь, и даже южане, которые пожили на Севере и рассуждали вслух, что это – натуральное негритянское преступление, совершенное не негром, но неграми, и знали, верили и надеялись, что она вдобавок изнасилована: по меньшей мере раз до того, как ей перерезали горло, и по меньшей мере раз – после. Шериф подошел, взглянул на тело, а затем велел его убрать, спрятать несчастную от чужих глаз.
И теперь им смотреть было не на что – кроме как на место, где лежало тело, и на пожар. А вскоре никто уже не мог вспомнить точно, где лежала простыня, какой клочок земли закрывала, и смотреть оставалось только на пожар. Вот они и смотрели на пожар – с первобытным изумлением, которое пронесли с собой от зловонных пещер, где родилось знание, – словно вид огня был так же нов для них, как вид смерти. Затем браво прикатила пожарная машина, с шумом, звоном и свистками. Она была новенькая, красная, раззолоченная, с ручной сиреной и колоколом золотого цвета и невозмутимого, надменного, гордого тона. Мужчины и молодые люди без шляп висели на ней гроздьями – с тем поразительным пренебрежением к законам физики, которое отличает мух. Она была снабжена механическими лестницами, которые выскакивают на недосягаемую высоту при одном прикосновении руки, как шапокляки; только здесь им было некуда выскакивать. Ее пожарные рукава, свернутые чистенькими аккуратными кольцами, напоминали рекламы телефонного треста в ходовых журналах; но не на что было насадить их и нечего по ним качать. И мужчины без шляп, покинувшие свои прилавки и конторки, ссыпались с нее, включая даже того, который вертел сирену. Они подошли, им показали несколько разных мест, где якобы лежала простыня, и некоторые из них, уже с пистолетами в карманах, начали агитировать в том смысле, чтобы кого-нибудь казнить.
Но никого подходящего не было. Она жила так тихо, настолько не вмешивалась в чужие дела, что город, где она родилась и жила и умерла иноплеменницей, чужеземкой, был этим навсегда изумлен и оскорблен, и хотя она подарила им душевную масленицу, зрелище почище хлеба, они никак не могли простить ее, отпустить ее с миром, мертвую оставить в покое. Нет. Покой не так доступен. И вот они толклись, собирались кучками, веря, что пламя, кровь, тело, которое умерло три года назад и только что начало жить снова, вопиют об отмщении – не веря, что яростный восторг пламени и недвижность тела свидетельствуют, что достигнут берег, недоступный для человеческого вреда и боли. Нет. Потому что другое для веры слаще. Занятнее, чем полки и прилавки с давно знакомыми предметами, купленными не потому, что владелец мечтал о них, восхищался ими или радовался обладанию, а чтобы хитростью продать их ради барыша – а на предметы, которых еще не продал, и на людей, которые могли бы их купить, но еще не купили, поглядывает со злостью, а то и с негодованием, а то и с отчаянием. Занятнее, чем затхлые кабинеты, где ждут адвокаты, притаившись среди призраков давней лжи и вожделений, или где ждут доктора с хитрыми ножами и хитрыми снадобьями и внушают человеку – веря, что он им поверит, не обратившись к печатным наставлениям, – будто хлопочут только о том, чтобы в конце концов оставить себя без работы. Собирались и женщины, праздные, в яркой, а иногда и поспешно накинутой одежде, с потайным и горячим блеском в глазах и томящимися без пользы грудями (им смерть всегда была милей покоя), чтоб в неумолчный ропот Кто убил? Кто убил? впечатывать бесчисленными твердыми каблучками что-нибудь вроде Его еще не поймали? А-а. Не поймали? Не поймали?
Шериф тоже смотрел на пожар с удивлением и досадой: место преступления не доступно осмотру. Он еще не осознал, что обязан этой неудачей человеческому вмешательству. Виноват был огонь. Ему казалось, будто огонь самозародился специально для этой цели. Ему казалось, будто стихия, благодаря которой его предки смогли продержаться на земле так долго, что породили наконец его, вступила в сговор с преступлением. И вот он озадаченно и раздраженно расхаживал вокруг этого непростительного монумента, чьим цветом был цвет надежды и одновременно катастрофы, покуда не появился его помощник и не сказал ему, что обнаружил в хибарке недалеко от дома следы недавнего обитания. И тотчас же деревенский, который первым заметил пожар (он еще не доехал до города; его повозка не продвинулась ни на вершок с того места, где он слез с нее два часа назад, и теперь он толкался среди зрителей, встрепанный, с отупевшим, изнуренным и горячечным лицом, размахивая руками и не владея голосом, севшим почти до шепота), вспомнил, что, когда он ворвался в дом, там был человек.
– Белый? – спросил шериф.
– Да. Мотался по передней, как будто только что слетел с лестницы. Все не пускал меня наверх. Говорит, что уже ходил туда и никого там нет. А когда я спустился, его уже не было.
Шериф оглядел стоявших рядом.
– Кто жил в хибарке?
– Я и не знал, что там жили, – сказал помощник. – Нигеры небось. Послушать про нее – так она их, нигеров, и в дом могла пустить. Удивляюсь только, почему они раньше этого не сделали.
– Приведите мне нигера, – сказал шериф. Помощник и еще двое-трое привели ему нигера. – Кто жил в этой хибарке? – спросил шериф.
– Я не знаю, мистер Уатт, – сказал негр. – Я внимания не обращал. Я и не знал, что там люди жили.
– Давайте-ка его туда, – сказал шериф.
Вокруг шерифа, помощника и негра постепенно собирались неотличимые друг от друга лица с алчными глазами, в которых самые настоящие отпрыски пустого пламени уже подернулись дымком. Казалось, все пять их чувств соединились в одном органе глядения, как в апофеозе, а слова, носившиеся между ними, рождаются из ветра, воздуха Это он? Вот этот убил? Шериф поймал его. Шериф уже схватил его Шериф посмотрел на них.
– Уходите, – сказал он. – Все. Подите посмотрите на пожар. Если мне понадобится помощь, я вас позову. Давайте отсюда.
Он повернулся и повел помощников с негром к хибарке. Отвергнутые стояли кучкой позади и наблюдали, как трое белых с негром входят в хибарку и закрывают за собою дверь. А позади них, в свою очередь, пламя доедало дом, наполняя воздух гудением – не более громким, чем голоса, но совсем не таким ниоткудошным Если это он, то какого черта мы стоим и ждем. Убил белую женщину, черная сволочь… Ни один из них никогда не бывал в этом доме. При ее жизни они не позволяли женам к ней ходить. А когда были помоложе – мальчишками (кое у кого и отцы в свое время занимались тем же, кричали на улице ей вдогонку: «Негритянская хахальница! Негритянская хахальница!»
В хибарке шериф тяжело опустился на одну из коек. Вздохнул: человек-бочка, как бочка, грузный и неподвижный.
– Ну, я хочу знать, кто живет в этой хибарке, – сказал он.
– Я вам сказал, не знаю, – ответил негр. Он отвечал немного угрюмо, настороженно, с затаенной настороженностью. Он не спускал глаз с шерифа. Еще двое белых стояли у него за спиной, их он не видел. Он не оглядывался на них, даже украдкой. Он смотрел в лицо шерифа, как смотрят в зеркало. И, может быть, как в зеркале, увидел, что они начинают. А может, и не увидел, ибо если что и переменилось, мелькнуло в лице шерифа, то всего лишь мелькнуло. Но негр не оглянулся; только лицо его вдруг сморщилось, быстро и на один лишь миг, и вздернулись углы рта, оскалились, как в улыбке, зубы – когда ремень хлестнул его по спине. И тут же разгладилось, непроницаемое.
– Я вижу, ты не очень стараешься вспомнить, – сказал шериф.
– Я не могу вспомнить, потому что я не могу знать, – сказал негр. – Я живу-то совсем не тут. Вы же небось знаете, где у меня дом, белые люди.
– Мистер Бьюфорд говорит, что ты живешь вон там, прямо у дороги, – сказал шериф.
– У дороги мало ли кто живет. Мистер Бьюфорд, он же небось знает, где мой дом.
– Он врет, – сказал помощник. Это его звали Бьюфордом. Он и держал ремень – пряжкой наружу. Держал, изготовясь. Следя за лицом шерифа. Так легавая ждет приказа кинуться в воду.
– Может, врет; может, нет, – сказал шериф. Он созерцал негра. Под тяжестью его громадного, неповоротливого тела пружины кровати просели. – Он просто еще не понял, что я не шучу. Не говоря уже об этой публике, – у них ведь нет своей тюрьмы, чтобы спрятать его, если дело примет неприятный оборот. А если бы и была, они все равно не стали бы утруждаться.
Может быть, глаза его опять подали знак, сигнал; может быть – нет. Может быть, негр уловил это; может быть – нет. Ремень опять хлестнул, пряжка полоснула по спине.
– Еще не вспомнил? – сказал шериф.
– Там двое белых, – сказал негр. Голос у него был безучастный – ни угрюмости, ничего. – Не знаю, кто они такие и чего делали. Не наша это забота. Никогда их не видел. Просто слышал, люди говорили, что там живут двое белых. А кто они – нас не касается. Больше ничего не знаю. Хоть до смерти запорите. Больше ничего не знаю.
Шериф опять вздохнул.
– Хватит. Похоже, что так.
– Да это же, как его, Кристмас, который на фабрике работал, а другой – Браун, – сказал третий мужчина. – Да это бы вам в Джефферсоне кто угодно сказал – любого останови, от кого спиртным пахнет.
– И это похоже, что так, – сказал шериф.
Он вернулся в город. Когда толпа увидела, что шериф уезжает, начался общий исход. Как будто смотреть было больше не на что. Труп увезли, а теперь уезжал и шериф. Он будто увозил в себе, где-то внутри этой неповоротливой и вздыхающей туши, саму тайну: ту, что манила и воодушевляла их как бы намеком на что-то, кроме однообразной череды дней и разврата набитой утробы. И вот смотреть было больше не на что, кроме как на пожар; а его они уже наблюдали три часа. Они уже свыклись с ним, сроднились; он уже стал неотъемлемой частью их жизни, не только переживаний, – увенчанный в безветрии столбом дыма, неколебимым, как памятник, к которому можно вернуться в любую минуту. Поэтому, когда их караван достиг города, в нем было что-то от надменной чопорности похоронного кортежа: автомобиль шерифа – в голове, остальные – гудят и блеют позади, в тучах совместно поднятой пыли. На перекрестке возле площади их задержала на минуту повозка, остановившаяся, чтобы выпустить пассажира. Выглянув из окна, шериф увидел молодую женщину, вылезавшую из повозки медленно и осторожно – с неуклюжей осторожностью женщины на сносях. Затем повозка отъехала; караван двинулся дальше и пересек площадь, где кассир в банке уже вынул из сейфа конверт, который был оставлен ему на хранение покойной – с надписью: Открыть после моей смерти. Джоанна Берден. Когда шериф вошел к себе в кабинет, кассир уже ждал там с конвертом и его содержимым. Оно состояло из одного листка бумаги, на котором той же рукой, что и на конверте, было написано: Оповестить адвоката И. И. Пиблса – Бийл-стрит, Мемфис, Теннесси, и Натаниэля Беррингтона – Сент-Эксетер, Нью-Гемпшир. И больше ничего.
– Этот Пиблс – нигер-адвокат, – сказал кассир.
– Вон что? – сказал шериф.
– Ага. Что прикажете делать?
– Да, наверно, то, что в бумаге сказано, – ответил шериф. – Или, пожалуй, я сам это сделаю.
Он отправил две телеграммы. Ответ из Мемфиса был получен через полчаса. Другой пришел двумя часами позже; затем в течение десяти минут по городу разнесся слух, что нью-гемпширский племянник мисс Берден предлагает тысячу долларов за поимку убийцы. В девять вечера явился человек, которого увидел деревенский, когда вломился в горевший дом. Но они еще не знали, что он – тот самый. Он им этого не сказал. Они знали только, что человек, который недавно поселился в городе и был известен среди них как бутлегер Браун, да и бутлегер-то не первой руки, появился на площади очень взволнованный и спрашивал шерифа. И тогда все начало мало-помалу складываться. Шериф знал, что Браун как-то связан с другим человеком, другим приезжим – Кристмасом, о котором, хотя он прожил в Джефферсоне три года, было известно еще меньше, чем о Брауне; только теперь шериф выяснил, что Кристмас три года прожил в хибарке за домом мисс Берден. Браун желал высказаться, требовал, чтобы ему дали высказаться, громко и настойчиво; сразу стало ясно, что требует он, оказывается, тысячу долларов премии.
– Хочешь стать свидетелем обвинения? – спросил его шериф.
– Никем я не хочу стать, – возразил Браун грубо и хрипло, с несколько ошалелым видом. – Я знаю, кто убил, и скажу, когда получу деньги.
– Ты поймай того, кто убил, тогда получишь деньги, – сказал шериф. И Брауна отвели в тюрьму, для сохранности. – Только, думается, это лишнее, – сказал шериф. – Думается, пока тут пахнет этой тысячей, его отсюда не выкуришь. – Когда Брауна забрали – он все сипел, негодовал, размахивал руками, – шериф позвонил в соседний город, где держали пару ищеек. Собак обещали привезти ранним утренним поездом.
Когда печально забрезжило воскресное утро, над унылой платформой, где ждали тридцать или сорок человек, замелькали и, дрожа, остановились на несколько мгновений освещенные окна поезда. Поезд был скорый и не всегда останавливался в Джефферсоне. Он задержался ровно настолько, сколько надо было, чтобы выпустить двух собак: тысяча тонн дорогих и замысловатых изделий из металла со свирепым сверканием и грохотом ворвалась и уткнулась в почти оглушительную тишину, наполненную пустячными людскими звуками, чтобы изрыгнуть двух поджарых раболепных призраков, чьи вислоухие кроткие лица печально и приниженно смотрели на усталые, бледные лица людей, которые почти не спали с позапрошлой ночи и окружили собак в каком-то жутком и бессильном нетерпении. Казалось, скверна убийства распространилась и на все последующие действия, превратила их во что-то чудовищное, парадоксальное, противное и разуму и природе.
Когда шерифово ополчение миновало холодные головешки и золу пожарища и подошло к хибарке, солнце только что показалось. Собаки, то ли осмелев от солнечного света и тепла, то ли заразившись от людей лихорадкой погони, возле хибарки начали брехать и рваться. Нюхая шумно и в унисон, они взяли след и потащили на поводках человека. Пробежав бок о бок сотню метров, они остановились, начали яростно разрывать землю и отрыли ямку, где кто-то недавно закопал пустые консервные банки. Собак оттащили оттуда. Отвели подальше от хибарки и пустили снова. Собаки немного пометались, поскулили, а потом снова напали на след и припустили во весь дух, вывесив языки, капая слюной, таща, волоча за собой людей, которые бежали и честили их, – опять к хибарке, и там, расставя ноги, откинув головы, закатив глаза, залились перед пустой дверью страстно и самозабвенно, как два баритона в итальянской опере. Люди отвезли собак обратно в город – на машинах – и накормили. Когда они шли через площадь, в церквах уже медленно и мирно звонили колокола, а по улицам чинно двигались люди под светлыми зонтиками, с Библиями и молитвенниками в руках.
В эту ночь к шерифу приехал деревенский парень с отцом. Парень рассказал, как в пятницу ночью ехал на машине домой и как в нескольких милях от места преступления его остановил мужчина с пистолетом. Парень полагал, что его хотели ограбить и даже убить, и решил перехитрить этого человека – привезти его прямо к себе на двор, а там остановить машину, выскочить и позвать на помощь, но человек что-то заподозрил, велел остановить машину и вылез. Отец поинтересовался, сколько из этой тысячи долларов придется на их долю.
– Поймаете его – тогда поговорим, – ответил шериф.
Они разбудили собак, посадили в другую машину, парень показал, где человек вылез, и они пустили собак, которые сразу ринулись в лес и, со свойственным им безотказным чутьем на металл в любом виде, почти сразу нашли револьвер с двумя заряженными камерами.
– Старинный, капсюльный, такими в Гражданскую воевали, – сказал помощник. – Один капсюль надколот, но дал осечку. Как по-вашему, что он с ним делал?
– Спустите собак, – сказал шериф. – Может, их поводки беспокоят.
Так и сделали. Собаки очутились на свободе; через полчаса они потерялись. Не люди потеряли собак – собаки потеряли людей. Они были всего-навсего за речкой, за прибрежной грядой, и люди ясно их слышали. Они уже не лаяли, как прежде, уверенно, с гордостью и, пожалуй, удовольствием. Теперь они выли протяжно и безнадежно, а люди настойчиво их звали. Но животные, наверно, не слышали их. Оба голоса были различимы, и все-таки казалось, что этот колокольный униженный вой исходит из одной глотки, словно собаки сидят бок о бок. Так их и нашли немного погодя – в канаве, рядышком. К тому времени голоса их звучали почти по-детски. Там же отряд и остался, дожидаясь, когда рассветет и можно будет отыскать дорогу к машинам. Наступило утро понедельника.
Жара начала усиливаться в понедельник. Во вторник ночью темнота после знойного дня душна, неподвижна, томительна; едва переступив порог, Байрон чувствует, как ноздри его напрягаются и белеют от густого, затхлого запаха дома, где хозяйничает мужчина. А когда подходит Хайтауэр, запах рыхлого немытого тела и несвежего белья – выделений малоподвижной тучности, неопрятной сидячей жизни, пренебрегающей мытьем, – становится почти нестерпимым. Входя, Байрон думает, как думал уже не раз: «Это его право. Мне это, может, не подходит, а ему подходит, и это его право». И вспоминает, как однажды он, кажется, нашел ответ, словно его осенило, озарило: «Это – дух благости. Конечно, он кажется нам дурным, раз мы сами дурные и грешные».
И опять они сидят друг против друга в кабинете, разделенные столом, горящей лампой. Байрон опять сидит на жестком стуле, опустив лицо, неподвижно. Голос его сдержан, упрям – голос человека, который рассказывает что-то не только неприятное, но и не вызывающее доверия.
– Я хочу подыскать ей другое жилье. Где не так людно. Где она сможет…
Хайтауэр наблюдает за его склоненным лицом.
– Зачем ей переезжать? Если ей там удобно и в случае чего женщина рядом?
Байрон не отвечает. Он сидит неподвижно, потупясь; лицо его спокойно, упрямо; глядя на него, Хайтауэр думает: «Это потому, что так много событий. Слишком много событий. Вот в чем дело. Человек делает, порождает несравненно больше того, что может или должен вынести. Вот так он и узнаёт, что может вынести все. Вот в чем дело. Это и ужасно. Что он может вынести все, все». Он наблюдает за Байроном.
– И что же, весь этот переезд – только из-за миссис Бирд?
По-прежнему Байрон не поднимает головы, говорит все так же спокойно, упрямо:
– Ей нужно такое жилье, чтобы она чувствовала себя как дома. Ей не так уж много времени осталось, а в пансионе, где, можно сказать, мужчины… Комната, где ей будет спокойно, когда подойдет срок, а не такая, где всякий барышник или присяжный, которого черт занесет в коридор…
– Понимаю, – говорит Хайтауэр. Следит за лицом Байрона. – И вы хотите, чтобы я взял ее к себе. – Байрон собирается ответить, но тот продолжает; голос его тоже холоден, ровен: – Нет, это не годится, Байрон. Если бы тут была другая женщина, жила в доме. Стыдно, конечно – столько свободного места, и тишина. Понимаете, я о ней думаю. Не о себе. Мне-то все равно, что они скажут.
– Я не об этом прошу. – Байрон не поднимает глаз. Чувствует на себе взгляд священника. Думает Сам знает, что я не об этом. Знает. Это он так сказал. Я знаю, что он думает. Другого, пожалуй, я и не ожидал. Да и не с чего ему думать иначе, чем другие люди – даже обо мне – Ведь вы, наверно, сами понимаете.
Возможно, священник и понимает. Но Байрон не поднимает глаз, чтобы убедиться в этом. Он продолжает говорить скучным, монотонным голосом, потупя глаза, а Хайтауэр, выпрямившись чуть больше обычного, смотрит через стол на худое, дубленное непогодами, трудами высветленное лицо человека напротив.
– Я не собираюсь вас впутывать, потому что это не ваша печаль. Вы ее даже не видели и едва ли увидите. И его, наверно, не видели – чтобы это понять. Я просто подумал, что…
Его голос замирает. Священник, выпрямившись, смотрит на него через стол и ждет, но помощи не предлагает.
– Когда человек решает, чего не делать, тут, я думаю, он сам себе советчик. Но когда до делать доходит – тут, по-моему, стоит посоветоваться со всеми, с кем можно. А впутывать я вас не собираюсь. Насчет этого вы не беспокойтесь.
– Кажется, понимаю, – говорит Хайтауэр. Наблюдает за потупленным лицом. «Я уже вне жизни, – думает он. – Вот почему бесполезно соваться, вмешиваться. Даже если бы я и попробовал вернуться к жизни, он меня все равно не услышит – как не услышала бы та женщина и тот мужчина (да что уж там – как их ребенок)». – Но вы сказали, она знает, что он здесь.
– Да, – отвечает Байрон в раздумье. – Я думал, там-то уж у меня не будет случая причинить вред мужчине, или женщине, или ребенку. И не успела она прийти – все как есть ей выболтал.
– Я не об этом. Тогда ведь вы сами не знали. Я имею в виду остальное. Его и… этого… Как-никак три дня прошло. Она должна была узнать, независимо от вас. Должна была услышать за эти дни.
– Кристмаса. – Байрон не поднимает головы. – А как спросила она про белый шрамик возле рта, после этого я больше ничего не говорил. Вечером, когда в город шли, я всю дорогу боялся, что она спросит. И все придумывал, о чем бы еще с ней поговорить, чтобы она спросить меня не успела. Я-то думал, скрываю от нее – что он не просто сбежал и бросил ее в беде, а еще и имя переменил, чтобы она его не нашла, и хоть нашла она его, нашла она бутлегера, – а она, оказывается, сама это знала. Знала уже, что он негодяй. – И он говорит, как бы удивляясь вслух: – Мне и скрывать было незачем, врать гладко. Она как будто наперед знала, что я ей скажу и когда совру. Как будто сама уже об этом думала и не верила в это еще до того, как я сказал, и ничего тут особенного не было. Но какая-то часть в ней знала правду, ее бы я все равно не обманул… – Он запинается, мнется; священник, выпрямившись, смотрит на него через стол, помощи не предлагает. – Как будто она – из двух половин, и одна половина знает, что он прохвост. А другая половина верит, что если у мужчины и женщины должен родиться ребенок, то Господь позаботится, чтобы они были вместе, когда подойдет срок. Вроде если Бог печется о женщинах, то он и от мужчин их защитит. А если Господь не считает нужным, чтобы две половины эти встретились и вроде как… сличили… тогда и мне нечего хлопотать.
– Чепуха, – говорит Хайтауэр. Он смотрит через стол на застывшее, упрямое, аскетическое лицо – лицо отшельника, который долго жил в пустыне, где ветер носит песок. – Ей остается одно, только одно – вернуться в Алабаму. К родным.
– А по-моему, нет, – отвечает Байрон. Отвечает сразу, решительно, как будто только и ждал этих слов. – Обойдется без этого. По-моему, она обойдется без этого. – Но глаз не поднимает. Он чувствует на себе взгляд священника.
– А Бе… Браун знает, что она в Джефферсоне?
Можно подумать, что Байрон вот-вот улыбнется. Губа приподнялась, но веселья в гримасе нет, она слаба, как игра тени.
– Да нет, замотался совсем. С этой премией. Потеха прямо. Вроде того, как играть человек не умеет, а дует в трубу что есть мочи – думает, сейчас у него музыка получится. Каждые двенадцать – пятнадцать часов тащат его через площадь в наручниках – когда его никакими силами не прогонишь, хоть ищейками этими трави. Субботнюю ночь просидел в тюрьме, все толковал, что они его обжулить хотят с этой тысячей – представить, будто он помогал Кристмасу; потом уж Бак Коннер пришел к нему в камеру и пообещал вставить кляп, чтобы он замолчал и не мешал спать другим арестантам. Замолчал; а в воскресенье ночью, когда пошли с собаками, такой крик поднял, что пришлось им взять его с собой. Но у собак дело не пошло. А он кричит, собак ругает, отлупить их рвется за то, что следа не могут взять, и опять всем рассказывает, что он первый донес на Кристмаса и хочет только, чтоб все было честно, по справедливости, больше ничего – пока уж сам шериф не отвел его в сторонку поговорить. Что он ему там сказал, неизвестно. Может, пригрозил, что сейчас воротит его в тюрьму и в другой раз с собой не возьмет. Одним словом, он поутих немного, и пошли дальше. А в город вернулись только в понедельник, поздно ночью. Он еще был тихий. Может, притомился. Не спал сколько времени – и притом, говорят, все норовил вперед собак забежать, покуда шериф не пригрозил, что прикует его наручниками к помощнику, чтобы не выскакивал и собаки что-нибудь, кроме него, могли нюхать. Он еще в субботу, когда его посадили, был небритый, а теперь совсем оброс. На убийцу, наверно, больше похож, чем сам Кристмас. А уж Кристмаса клял – как будто тот из вредности спрятался, назло ему, чтобы он не получил своей тысячи долларов. На ночь его опять отвели в тюрьму и заперли. А сегодня с утра опять отправились и его с собой взяли – с собаками, по новому следу. Люди говорят, пока они из города не ушли, все время слышно было, как он скандалил.
– И вы говорите, она об этом не знает. Говорите, что скрыли это от нее. По-вашему, пусть лучше считает его мерзавцем, чем дураком – так?
Лицо Байрона опять застыло, уже не улыбается; он серьезен.
– Не знаю. Это было в воскресенье, позавчера ночью, когда я вернулся от вас домой. Я думал, она в постели, спит, а она сидела в гостиной и говорит мне: «Что такое? Что тут случилось?» Сам я на нее не смотрю, но чувствую, на меня смотрит. Я ей сказал, что нигер убил белую женщину. На этот раз я не соврал. И, видно, очень уж обрадовался, что врать не надо. Потому что и подумать ничего не успел, как брякнул: «И дом поджег». И только тут спохватился. Ведь сам ей дым показывал, сам говорил, что живут там двое, Браун и Кристмас. И чувствую, смотрит она на меня – ну вот как вы сейчас, чувствую, смотрите, – и говорит: «А как нигера зовут?» Можно подумать, сам Господь заботится, чтобы они узнали то, что им надо знать, – из мужского вранья, и без всяких расспросов. И не узнали того, чего им знать не надо – и притом даже не догадывались бы, что не узнали. Так что уверенно не могу сказать, что ей известно, а что неизвестно. Одно только знаю: я ей не объяснял, что тот, кого она ищет, донес на убийцу и сидит в тюрьме – когда не гонится с собаками за человеком, который подобрал его и пригрел. Этого я ей не рассказывал.
– И что же вы теперь собираетесь делать? Куда она хочет переехать?
– Туда хочет – там его ждать. Я ей сказал, что он отлучился – помочь шерифу. Так что я не совсем соврал. Она уже спрашивала, где он живет, и я ей сказал. А она говорит, раз это его дом, она должна жить там, пока он не вернется. Говорит, что он сам бы так захотел. Не буду же я ей объяснять, что этого-то как раз ему меньше всего на свете хочется. Она собиралась переехать сегодня же вечером, как только я с фабрики приду. Уже и узелок связала, и шляпу надела, только меня ждала. «Я было сама, – говорит, – пошла. Да побоялась, что дорогу не найду». Я говорю: «Ну да; только сегодня уже поздно, лучше завтра», а она говорит: «Раньше чем через час не стемнеет. А дотуда всего две мили, так ведь?» Я говорю: «Давайте подождем, я сперва должен спросить разрешения», – а она: «У кого спросить? Разве это не Лукаса дом?» И, чувствую, смотрит на меня; потом говорит: «Вы, по-моему, сказали, что там Лукас живет», – а сама смотрит; потом спрашивает: «А что это за священник, к которому вы все ходите советоваться обо мне?»
– И вы ей позволите там поселиться?
– Может, так лучше. Она там будет жить отдельно, подальше от всяких разговоров, пока не кончится эта история.
– Значит, она решила, и вы не будете ее удерживать. Не хотите удерживать.
Байрон не поднимает глаз.
– Это, можно сказать, и в самом деле его дом. Другого такого, я думаю, у него в жизни не будет. Браун ей…
– Одна, в лачуге, и вот-вот родит. А ближайшее жилье – за полмили, негритянские домишки. – Он наблюдает за лицом Байрона.
– Я об этом думал. Есть способ, можно так сделать, чтобы…
– Что сделать? Как вы ей обеспечите там уход?
Байрон отвечает не сразу; глаз не поднимает. Но когда начинает говорить, в голосе – упорство.
– Кое-что можно и тайком делать – а не во зло, ваше преподобие. Все равно, как это людям покажется.
– Я не думаю, Байрон, чтобы вы были способны на что-нибудь очень уж злое, как бы это ни показалось людям. Но возьметесь ли вы сказать, где именно кончается зло и начинается его видимость? На какой грани между делом и видимостью останавливается зло?
– …Не во зло, – говорит Байрон. Он слегка пошевелился; он говорит так, как будто тоже просыпается: – Я надеюсь, что нет. По моему разумению, я хочу поступить правильно.
«Это, – думает Хайтауэр, – первый раз, что он мне солгал. Солгал кому бы то ни было, мужчине или женщине, возможно даже – самому себе». Он смотрит через стол на упрямое, серьезное лицо, которое так ни разу и не повернулось к нему. «А может быть, это еще не ложь, раз он сам не понимает, что это ложь?» Он говорит:
– Прекрасно. – Говорит с напускной резкостью, которая так не вяжется с его лицом, с дряблым подбородком и черными пещерами глаз. – Значит, все решено. Вы отведете ее туда, в его дом, позаботитесь, чтобы ей было удобно и чтобы ее не тревожили, пока все не кончится. А потом вы скажете этому человеку… Берчу, Брауну… что она здесь.
– И он сбежит, – говорит Байрон. Он не поднимает глаз, но кажется, что его захлестывает торжество, ликование – раньше чем он успевает сдержать и скрыть его, когда уже и пытаться поздно. В первое мгновение он даже не пытается его сдержать; тоже откинувшись на стуле, он впервые смотрит на священника – уверенно, смело, бодро. Тот отвечает ему пристальным взглядом.
– Так вот чего вы добиваетесь? – говорит Хайтауэр. На них обоих падает прямой свет лампы. В открытое окно льется жаркая роящаяся тишина бездыханной ночи. – Подумайте, что вы делаете. Вы пытаетесь встать между мужем и женой.
Байрон овладел собой. На лице его уже нет торжества. Но он твердо смотрит на старшего. Возможно, пытается овладеть и голосом. Но еще не может.
– Они еще не муж и жена, – говорит он.
– Она тоже так думает? Вы полагаете, и она так скажет? – Они смотрят друг на друга. – Ах, Байрон, Байрон. Чего стоит десяток невнятных слов у алтаря перед прочностью женской натуры? Перед ребенком?
– Ну, может, он и не сбежит. Если получит эти деньги, премию. На тысячу долларов напьется, пожалуй, так, что будет способен на все – даже жениться.
– Ах, Байрон, Байрон.
– А что, по-вашему, мы… я должен делать? Что вы посоветуете?
– Уезжайте из Джефферсона. Совсем. – Они смотрят друг на друга. – Нет, – говорит Хайтауэр. – Вам не нужна моя помощь. Вам уже помогает кто-то посильнее меня.
Байрон молчит. Они смотрят друг на друга, упорно.
– Кто помогает?
– Дьявол, – говорит Хайтауэр.
«Да, дьявол и о нем печется», – думает Хайтауэр. Он на полпути к дому, под локтем у него висит нагруженная корзинка. «И о нем. И о нем», – думает он, шагая. Жарко. Он в рубашке и темных брюках – высокий, тонконогий, с тощими костлявыми руками и плечами; дряблый обвислый живот выглядит противоестественно, как беременность. Рубашка белая, но несвежая; воротник замусолен, как и белый, небрежно завязанный галстук из батиста; лицо два или три дня не брито. Панама замусолена, а из-под нее высовываются край и уголки грязного платка, поддетого по случаю жары. Он возвращается с покупками, за которыми дважды в неделю ходит в город; там, худой, оплывший, в седой щетине, в очках, туманящих темные глаза, с траурными ногтями, пропахший запахом сидячей жизни и немытого мужского тела, он вошел в душистый, заваленный снедью магазин, где покупает всегда, расплачиваясь наличными.
– Ну, напали наконец на след этого нигера, – сказал хозяин.
– Негра? – сказал Хайтауэр. Он замер – как раз в ту секунду, когда засовывал в карман сдачу.
– Да этого… ну – убийцы. Я всегда говорил, что-то тут не то. Не белый он. Что какой-то он не такой. Но разве людям чего докажешь, покуда…
– Напали на след? – сказал Хайтауэр.
– А как же, черт подери. Ведь этот дурак даже не скумекал убраться из округа. Тут шериф весь округ обзвонил, чтоб его искали, а эта черная сво… хм, сидит у него под самым носом.
– И они его… – Он оперся на прилавок поверх своей нагруженной корзинки. Он чувствовал, как ребро прилавка врезается ему в живот. Прилавок казался прочным, устойчивым; было похоже скорей, что сама земля слегка покачивается, хочет тронуться. Потом она тронулась, медленно и без спешки, словно ее отпустили, и пошла вниз, все быстрей и круче, но каким-то хитрым способом, ибо обманутому глазу мерещилось, будто невзрачные полки с рядами консервных банок, засиженных мухами, и сам продавец за прилавком не движутся – коварное, оскорбительное, обманчивое чувство. А он думал: «Не буду! Не буду! Я купил непричастность. Я заплатил за нее. Я заплатил».
– Его еще не поймали, – сказал хозяин. – Но поймают. Сегодня утром, затемно еще, шериф привез собак к церкви. Меньше чем на шесть часов от него отстают. Представляете, этот болван не придумал ничего лучше… как есть нигер, по одному по этому видно… – Затем Хайтауэр услышал: – На сегодня – все?
– Что? – сказал он. – Что?
– Больше ничего не возьмете?
– Да. Да. Больше… – Он начал рыться в кармане, хозяин наблюдал за ним. Рука появилась на свет, все еще продолжая копошиться. Она наткнулась на прилавок и разроняла монеты. Хозяин задержал несколько штук, катившихся к краю.
– А это за что? – удивился хозяин.
– За… – Рука Хайтауэра копошилась в нагруженной корзинке. – За…
– Вы уже заплатили. – Хозяин наблюдал за ним с любопытством. – Это же сдача, которую я вам только что дал. С доллара.
– Ах, – сказал Хайтауэр. – Да. Я… я просто… – Торговец собрал монеты. Протянул ему. Рука покупателя, прикоснувшаяся к его руке, была холодна как лед.
– Все эта жара, – сказал хозяин. – Прямо изматывает человека. Может, посидите перед дорогой? – Но Хайтауэр, по-видимому, его не слышал. Он уже направился к двери, торговец смотрел ему вслед. Он вышел с корзинкой за дверь, на улицу, двигаясь скованно и осторожно, как по льду. Было жарко; жар струился от асфальта, размывая знакомые здания на площади как бы в ореоле, в живой и зыбкой светотени. Какой-то встречный заговорил с ним; он этого даже не заметил. Он шел, думая И о нем. И о нем. Шагал уже быстро, так что когда свернул наконец за угол, на пустую вымершую улочку, где его ждал пустой и вымерший дом, он уже сильно запыхался. «Все из-за жары», – твердила, объясняла ему поверхность сознания. Но все время, даже на тихой улочке, где едва ли кто останавливается теперь, чтобы взглянуть на вывеску и вспомнить, – там, откуда уже виден его дом, его убежище, под поверхностью сознания крутится, морочит, утешает: «Не буду. Не буду. Я купил непричастность». Уже – почти звучащими словами: настойчиво повторяет, оправдывает: «Я заплатил за это. Не торговался. Никто не посмеет это сказать. Я хотел лишь покоя; я уплатил их цену, не торговался». Улица зыбится и плывет; он в поту, но сейчас даже полуденный зной кажется ему прохладой. Затем пот, зной, марево – все мгновенно сплавляется в решимость, которая упраздняет всякую логику и оправдания, сжирает их, как огонь: Не желаю! Не желаю!
Он сумерничал у окна в кабинете и, увидев, как Байрон вошел в свет фонаря и вышел, вдруг подался вперед из кресла. Не от удивления, что видит Байрона здесь, в этот час. В первый миг, когда он только узнал фигуру, он подумал А-а. Я ожидал, что он сегодня придет. Это не в его натуре – потворствовать даже видимости зла. И встрепенулся он, подался вперед, еще не успев додумать: в ярком свете фонаря он узнал приближающуюся фигуру, а через мгновение решил, что ошибся, хотя был уверен, что ошибиться не мог, что это не кто иной, как Байрон, ибо тот уже заворачивал к калитке.
Сегодня Байрон – другой человек. Это видно по его походке, осанке; подавшись вперед, Хайтауэр говорит себе Как будто он научился гордости или дерзости Голова Байрона откинута, он идет быстро, расправив плечи; вдруг Хайтауэр говорит почти вслух: «Он что-то сделал. Предпринял». Подавшись к темному окну и прищелкивая языком, он наблюдает, как фигура стремительно уходит из поля зрения, направляясь к крыльцу, к двери, а еще через секунду слышатся шаги и стук. «А со мной не захотел поделиться, – думает он. – Я бы выслушал, не мешал бы ему думать вслух». Он уже идет по комнате, задерживается у стола, чтобы включить свет. Направляется к входной двери.
– Это я, ваше преподобие, – говорит Байрон.
– Я вас узнал, – говорит Хайтауэр. – Хотя на этот раз вы не споткнулись о нижнюю ступеньку. Вам не раз случалось бывать в этом доме, Байрон, но до нынешнего вечера еще ни разу не было так, чтобы вы не споткнулись о нижнюю ступеньку. – С такой ноты обыкновенно и начинались визиты Байрона: несколько деспотической шутливости и тепла, чтобы гость почувствовал себя непринужденно, а со стороны гостя – неуклюжей деревенской застенчивости, суть которой – учтивость. Порой Хайтауэру казалось, что он втягивает Байрона в дом одним рассчитанным вдохом, как будто на Байроне парус.
На этот раз Байрон входит, не дожидаясь, когда Хайтауэр закончит фразу. Входит без заминки, с этим своим новым выражением – средним между уверенностью и дерзостью.
– Думаю, вам еще хуже не понравится, когда я не спотыкаюсь, чем когда я спотыкаюсь, – говорит Байрон.
– Вы обнадеживаете меня или угрожаете, Байрон?
– Нет, это я не как угрозу, – говорит Байрон.
– Ага, – говорит Хайтауэр. – Другими словами, вы не оставляете мне надежды. Что ж, по крайней мере я предупрежден. Я был предупрежден, как только увидел вас под фонарем. Но рассказать о чем-то вы все-таки хотите. О том, что вы уже сделали, хотя и не сочли нужным говорить заранее.
Они идут в кабинет. Байрон останавливается перед дверью; обернувшись, смотрит снизу на лицо священника.
– Так вы знаете, – говорит он. – Уже слышали. – Он не отвернулся, но уже не смотрит на хозяина. – Что ж… – говорит он. – Язык, конечно, человеку не свяжешь. Даже женщине. Но все-таки хотелось бы знать, кто вам сказал. Не то что мне стыдно. И скрывать я от вас не хотел. Я вам сам собирался сказать, когда смог бы.
Они стоят перед дверью освещенной комнаты. Теперь Хайтауэр видит, что Байрон нагружен свертками и пакетами, судя по всему – с провизией.
– Что? – говорит Хайтауэр. – Что вы собирались мне сказать?.. Впрочем, входите. Может быть, я и сам уже знаю. Но я хочу посмотреть на ваше лицо, когда вы будете говорить. Я вас тоже предупреждаю, Байрон. – Они входят в освещенную комнату. В свертках еда: он слишком много сам перетаскал таких, чтобы не догадаться. – Располагайтесь, – говорит он.
– Нет, – отвечает Байрон. – Я к вам ненадолго. – И стоит, серьезный, сдержанный, с видом все еще сочувственным, но решительным, хотя и без самоуверенности, убежденным, без настойчивости – с видом человека, собирающегося совершить поступок, которого кто-то близкий не поймет и не одобрит и который сам он считает правильным, зная, что другой никогда с этим не согласится. Он говорит: – Вам это не понравится. Но по-другому нельзя. Мне хочется, чтобы и вы так думали. Но вы, наверно, не можете. Ну что ж, ничего не попишешь.
Хайтауэр сел и хмуро смотрит на него через стол.
– Что вы сделали, Байрон?
Байрон и говорит по-новому: коротко, сжато, не запинаясь, точными словами.
– Отвел ее туда сегодня вечером. Домик уже прибрал, навел чистоту. Она там устроилась. Она сама хотела. Другого такого дома у него никогда не было и не будет, и я думаю, она имеет право там жить, тем более что хозяин там пока не живет. Задержался, можно сказать, в другом месте. Я знаю, вам это не понравится. Вы можете назвать много причин, и все веские. Вы скажете – это не его хибарка, с какой стати ее туда пускать. Ну что ж. Может, и так. Но ни в штате, ни в целой стране не найдется человека, который бы сказал, что она не имеет на это права. Вы скажете, что в ее положении ей нужна рядом женщина. Что ж. Там есть негритянка, немолодая уже, так что рассудительная, – и живет меньше чем в двухстах метрах. Она может ее позвать, не вставая со стула или с кровати. Вы скажете – но она же не белая. А я вас спрошу, чего ей ждать от белых женщин в Джефферсоне, когда она будет рожать, если она недели еще в Джефферсоне не живет, а стоит ей поговорить с женщиной минут десять, как той уже известно, что она незамужняя и что, пока этот прохвост ходит по земле и она о нем хотя бы изредка слышит, она вообще не выйдет замуж. Много ли помощи она дождется от белых дам? Конечно, они позаботятся, чтобы ей было на чем лежать и чтобы рожала не у всех на виду, а в помещении. Я не об этом. И думаю, трудно спорить с человеком, который скажет, что лучшего она не заслуживает, коли, живот нагуливая, обходилась без помещения. Но ребенок-то не выбирал. А хоть бы и выбирал – будь я неладен, если любой несчастный малыш, которого ждет здесь то, что может ждать на земле… не заслуживает ничего лучше… ничего больше… Думаю, вы меня понимаете. Думаю, вы сами могли бы это сказать. – Хайтауэр наблюдает за ним из-за стола, а он говорит ровным, сдержанным тоном, и слова приходят сами, пока речь не коснулась чего-то слишком нового еще и неясного, где ведет уже только чутье. – И третья причина. Белая женщина, и живет совсем одна. Это вам не понравится. Не понравится больше всего.
– Ах, Байрон, Байрон.
Голос Байрона становится угрюмым. Но головы он не опускает.
– Я с ней в доме не живу. У меня палатка. И притом не очень близко. Как раз где я смогу ее услышать в случае чего. А на дверь я поставил засов. Пусть кто угодно приходит и когда угодно – увидит меня в палатке.
– Ах, Байрон, Байрон.
– Я знаю, у вас нет этого в мыслях, как у большинства из них. И сейчас тоже. Я знал, что вы поймете, даже если бы она и не была… если бы и без… Я понимаю, вы так говорите потому, что знаете, как другие на это посмотрят.
Хайтауэр опять сидит в позе восточного идола, держа руки параллельно на подлокотниках кресла.
– Уезжайте, Байрон. Уезжайте. Сейчас. Немедленно. Навсегда покиньте это место, это ужасное место, ужасное, ужасное место. Я вижу вас насквозь. Вы мне скажете, что впервые узнали любовь; а я вам скажу, что вы узнали надежду. И только; надежду. Предмет безразличен – для надежды, и даже для вас. У него только один конец – у пути, который вы выбираете: грех или женитьба. А на грех вы не пойдете. Вот в чем беда, да простит меня Бог. Для вас это будет, должно быть, либо женитьба, либо ничего. И вы будете добиваться женитьбы. Вы убедите ее; может быть, уже убедили – если бы только она это понимала, могла это допустить, – иначе почему же она согласилась остаться здесь и не пытается увидеть человека, которого разыскивала? Я не могу вам сказать: «Выбирайте грех», потому что вы не только возненавидите меня – вы передадите эту ненависть и ей. И я говорю: уезжайте. Сейчас. Немедленно. Ступайте и не оглядывайтесь назад. Только не это, Байрон.
Они смотрят друг на друга.
– Я знал, что вам это не понравится, – говорит Байрон. – Пожалуй, я правильно сделал, что не стал располагаться у вас в гостях. Но этого я не ожидал. Что вы тоже ополчитесь против женщины, которую опозорили и предали…
– Нельзя предать женщину, у которой есть ребенок; муж матери – отец он или нет – уже рогоносец. Оставьте себе хотя бы маленький шанс на удачу, Байрон. Если вы должны жениться, есть одинокие женщины, девицы, девушки. Это несправедливо, чтобы вы принесли себя в жертву женщине, которая уже выбрала раз, а теперь хочет отречься от своего выбора. Это неправильно. Нечестно. Бог не для этого создал брак. Создал? Женщины изобрели брак.
– В жертву? Я – жертва? Мне кажется, жертва…
– Только не на ней. Для таких, как Лина Гроув, всегда найдутся на свете двое мужчин, и имя им легион: Лукасы Берчи и Байроны Банчи. Но ни одна Лина, ни одна женщина не заслуживает больше одного. Ни одна женщина. Хорошие женщины мучаются с хамами, пропойцами и прочими. Но от какого хама какая женщина, хороша она или плоха, пострадала так, как страдают мужчины от хороших женщин? Скажите мне, Байрон.
Они беседуют тихо, без горячности, умолкая то и дело, чтобы взвесить слова собеседника, – как два человека, уже непоколебимые в своих убеждениях.
– Пожалуй, вы правы, – говорит Байрон. – Во всяком случае, не мне говорить, что вы ошибаетесь. Но и не думаю, чтобы вы могли так сказать, даже если я не прав.
– Да, – отвечает Хайтауэр.
– Если я не прав, – повторяет Байрон. – Так что пожелаю-ка я вам спокойной ночи. – И добавляет тихо: – Дорога туда неблизкая.
– Да, – соглашается Хайтауэр. – Я и сам, случалось, туда ходил. Мили, наверное, три.
– Две мили, – говорит Байрон. – Что ж. – Он поворачивается. Хайтауэр не двигается. Байрон поправляет пакеты, которые так и не выпустил из рук. – Пожелаю вам спокойной ночи, – говорит он, направляясь к двери. – Я думаю, в скором времени увидимся.
– Да, – говорит Хайтауэр. – Я чем-нибудь могу быть полезен? Вам что-нибудь нужно? Простыни и прочее?
– Большое спасибо. Думаю, ей хватит. Там уже было кое-что. Большое спасибо.
– Вы дадите мне знать? Если будут новости. Когда ребенок… С доктором договорились?
– Я об этом позабочусь.
– Но вы с ним уже говорили? Вы с ним условились?
– Я все устрою. И дам вам знать.
Его уже нет. Снова Хайтауэр наблюдает из окна, как он выходит на улицу и отправляется в свой двухмильный путь к окраине, со свертками еды в руках. Он скрылся из виду – ушел, выпрямившись, скорым шагом; такого шага обрюзглый и склонный к одышке старик, старик, слишком долго проживший сиднем, не выдержал бы. И жарким августовским вечером Хайтауэр наклоняется к окну, не чувствуя запаха, в котором живет, – запаха людей, живущих уже вне жизни, запаха усыхающей рыхлости и лежалого белья – как бы первого веяния могилы, и, прислушиваясь к шагам, которые, чудится ему, еще слышны, хотя он знает, что они давно смолкли, думает: «Благослови его Бог. Помоги ему Бог»; думает Молодость. Молодость. Что может сравниться с этим, ничто на свете с этим не сравнится. Он тихо думает: «Не надо мне было отвыкать молиться». И он уже не слышит шагов. Он слышит только несметный и неумолчный хор насекомых и, наклонившись над подоконником, вдыхая горячую крепкую всячину земных запахов, думает о том, как в молодости, молодым, он любил темноту, любил бродить и сидеть под деревьями ночью. Тогда почва, кора деревьев становились живыми, первобытными и воскрешали, навораживали неведомые и зловещие полувосторги-полуужасы. Он боялся этого. Он страшился; он любил, боясь. Но вот однажды, в семинарии, он понял, что больше не боится. Словно дверь куда-то захлопнулась. Он больше не боялся темноты. Он просто ненавидел ее; он бежал от нее – в стены, к искусственному свету. «Да, – думает он. – Нельзя мне было отвыкать молиться». Он отворачивается от окна. Одна стена кабинета заставлена книгами. Он останавливается перед ними, ищет и наконец находит нужную. Это – Теннисон. Затрепанный, с загнутыми уголками. Книга у него – с семинарских времен. Он садится к лампе и раскрывает ее. Переход недолог. И скоро в изящном галопе слога среди худосочных дерев и вяленых вожделений стремительно, плавно, покойно накатывает на него обморочная истома. Это лучше, чем молиться, не затрудняя себя думами вслух. Это – как слушать в соборе евнуха, поющего на языке, которого даже не нужно понимать.
14
– Там в хибарке кто-то есть, – сказал шерифу помощник. – Не прячется – живет там.
– Поди посмотри, – сказал шериф.
Помощник сходил и вернулся.
– Женщина. Молодая женщина. И расположилась, похоже, надолго. А Байрон Банч в палатке обосновался: от нее – как отсюда примерно до почты.
– Байрон Банч? – говорит шериф. – Что за женщина?
– Не знаю. Нездешняя. Молодая. Все мне рассказала. Я еще порога не переступил, как она начала рассказывать – словно речь заготовила. Словно уже привыкла рассказывать, втянулась. И думаю, правда привыкла, пока шла сюда откуда-то из Алабамы, мужа разыскивала. Он якобы вперед уехал устраиваться на работу, а она за ним собралась, и по дороге ей говорили, что он здесь. А в это время вошел Байрон, говорит – я вам все расскажу. Говорит, что вам собирался рассказать.
– Байрон Банч, – повторяет шериф.
– Да, – подтверждает помощник. – Говорит, она ждет ребенка. И ждать ей недолго.
– Ребенка? – говорит шериф. Он смотрит на помощника. – Из Алабамы. Да откуда угодно. Ты мне про Байрона Банча такого не рассказывай.
– А я и не собираюсь, – говорит помощник. – Я не говорю, что он от Байрона. По крайней мере Байрон не говорит, что от него. Я вам рассказываю то, что он мне сказал.
– А-а, – говорит шериф. – Понятно. Почему она тут. Так значит – от кого-то из этих двоих. От Кристмаса. Так?
– Нет. Байрон и про это рассказал. Увел меня из дому, чтобы она не слыхала, и все выложил. Говорит, что собирался пойти и рассказать вам. Это – от Брауна. Только фамилия его не Браун. Лукас Берч. Байрон мне все рассказал. Как этот Браун или Берч бросил ее в Алабаме. Сказал ей, что едет искать работу и жилье, а потом ее вызовет. Но срок уже подходит, а от него ничего нет – ни где он, ни что он, – и она решила больше не ждать. Отправилась пешком, по дороге спрашивала, не знает ли его кто. А потом кто-то сказал, что есть такой парень, не то Берч, не то Банч, не то еще как-то, работает на строгальной фабрике в Джефферсоне, и она явилась сюда. Приехала на телеге в субботу, когда мы были на месте убийства, пришла на фабрику, и оказывается, он – не Берч, а Банч. А Байрон говорит, он не подумавши сказал ей, что муж ее – в Джефферсоне. А потом, говорит, она приперла его к стенке и заставила сказать, где Браун живет. Но что Браун или Берч замешан с Кристмасом в этом убийстве, он ей не сказал. Сказал только, что Браун отлучился по делам. И правда – чем не дело? А уж работа-то – точно. В жизни не видел, чтобы человек так сильно хотел тысячу долларов и столько ради нее терпел. Словом, она сказала, что дом Брауна, наверно, и есть тот самый, который Лукас Берч обещал ей приготовить, и переехала сюда ждать, когда Браун освободится от этих самых дел, для которых он отлучился. Байрон говорит, он не мог ей помешать – не хотел ей правду говорить о Брауне после того, как, можно сказать, наврал. Он будто бы еще раньше хотел к вам прийти и сказать, только вы его опередили, он ее и устроить как следует не успел.
– Лукас Берч? – говорит шериф.
– Я и сам удивился, – отвечает помощник. – Что вы думаете с ними делать?
– Ничего, – говорит шериф. – Я думаю, они там никому не помешают. Дом не мой – не мне их и выгонять. И, как ей Байрон правильно сказал, Берч, или Браун, или как там его, пока что будет довольно сильно занят.
– А Брауну вы скажете про нее?
– Пожалуй, нет, – отвечает шериф. – Это не мое дело. Я не занимаюсь женами, которых он бросил в Алабаме или где-нибудь еще. Я мужем занимаюсь, которым он, кажется, обзавелся у нас в Джефферсоне.
Помощник гогочет.
– Вот ведь, действительно, – говорит он. Потом остывает, задумывается. – Если он свою тысячу не получит, ведь он, поди, просто умрет.
– Умрет – вряд ли, – отвечает шериф.
В три часа ночи, в среду, в город на неоседланном муле приехал негр. Он вошел к шерифу в дом и разбудил его. Явился он из негритянской церкви в двадцати милях отсюда, прямо с еженощного радения. Накануне вечером посреди гимна сзади раздался страшный грохот, и прихожане, обернувшись, увидели человека, стоявшего в дверях. Дверь была не заперта и даже не затворена, но человек, по-видимому, рванул за ручку и так хватил дверью о стену, что звук этот прорезал слаженное пение, как пистолетный выстрел. Затем он быстро двинулся по проходу между скамьями, где оборвалось пение, к кафедре, где священник замер, так и не разогнувшись, не опустив рук, не закрыв рта. Тогда они увидели, что он белый. В густом пещерном сумраке, еще более непроглядном от света двух керосиновых ламп, люди не могли рассмотреть пришельца, пока он не достиг середины прохода. Тут они увидели, что лицо у него не черное, и где-то завизжала женщина, а сзади люди повскакали и бросились к двери; другая женщина, на покаянной скамье[36], и так уже близкая к истерике, вскочила и, уставясь на него белыми выпученными глазами, завопила: «Это дьявол! Это сам сатана!» И побежала, не разбирая дороги. Побежала прямо к нему, а он на ходу сшиб ее кулаком, перешагнул и пошел дальше, среди ртов, разинутых для крика, среди пятящихся людей, прямо к кафедре и вцепился в священника.
«А его никто не задевал, даже тут, – рассказывал гонец. – Все очень быстро получилось, никто не знал, кто он такой, и откуда, и чего ему надо. Женщины кричат, визжат, а он как схватит брата Биденбери за глотку и – с кафедры его тащить. Мы видим, брат Биденбери говорит с ним, успокоить его хочет, а он брата Биденбери трясет и бьет по щекам. Женщины визжат, кричат, и даже не слыхать, чего ему брат Биденбери говорит – только сам он его не трогал, не ударил, ничего, – тут к нему старики, дьяконы подошли, хотели поговорить, и он брата Биденбери выпустил, развернулся и старого Папу Томпсона, восьмой десяток ему, сшиб прямо под покаянную скамью, а потом нагнулся, как схватит стул, как замахнется – они и отступили. В церкви кричат, визжат, к дверям бегут. А он повернулся, влез на кафедру – а брат Биденбери пока что с другого края слез – и встал, сам грязный с головы до ног, лицо черным волосом заросло, и руки поднял, как проповедник. И как начал оттуда Бога ругать, прямо криком ругается, громче, чем женщины визжат – а люди Роза Томпсона держат. Папы Томпсона дочки сына, в нем росту шесть футов, и бритва в руке открытая, а он кричит: «Убью. Пустите, братцы. Он дедушку ударил. Убью. Пустите. Прошу, пустите», – а люди на улицу лезут, по проходу бегут, топочут, в дверь прут, а он на кафедре ругает Бога, а люди Роза Томпсона оттаскивают, а Роз все просит: пустите! Но Роза мы все-таки из церкви вытащили и спрятались в кустах, а он все кричит и ругается на кафедре. Потом он замолчал, и мы видим – подошел к двери, стоит. Тут Роза опять пришлось держать. Он, видно, услышал галдеж, когда Роза не пускали, потому что засмеялся. Стоит там в дверях, свет загораживает и смеется во всю глотку, а потом обратно начал ругаться, и видим, схватил ножку от скамейки и замахнулся. И слышим, хрясь одна лампа, в церкви потемнело, а потом слышим, другая хрясь, и совсем темно, и самого его не видать. А там, где Роза держали, опять загалдели, кричат шепотом: «Вырвался», – и слышим, Роз обратно к церкви побежал – тут дьякон Вайнс мне и говорит: «Убьет его Роз. Сигай на мула и ехай за шерифом. Расскажи все, как видал». А его никто не задевал, начальник, – сказал негр. – Как его и звать-то – не знаем. Не видели его отродясь. А Роза держать старались. Да ведь Роз – большой, а он его дедушку – кулаком, а у Роза бритва в руке открытая, и он не очень смотрел, кто еще ему под руку попадется, когда обратно в церковь рвался, к белому. А держать Роза мы старались, ей-богу».
Вот что он рассказал шерифу – ибо рассказал то, что знал. Он ускакал сразу: он не знал, что, пока он рассказывает об этом, негр Роз лежит в хижине по соседству с церковью без сознания, ибо когда он кинулся в темную уже церковь, Кристмас из-за двери проломил ему ножкой скамьи череп. Он ударил только раз, сильно, с яростью, целясь по звуку бегущих ног и по широкой тени, ринувшейся в дверь, и сразу услышал, как она рухнула на опрокинутые скамейки и затихла. И сразу же выпрыгнул из церкви на землю и замер в свободной стойке, все еще держа ножку скамьи, спокойный, даже не запыхавшийся. Ему было прохладно, он не потел; темнота веяла на него прохладой. Церковный двор – белесый серп утоптанной земли – был окружен кустарниками и деревьями. Он знал, что кустарник кишит неграми: он ощущал их взгляды. «Смотрят и смотрят, – думал он. – И не знают даже, что не видят меня». Он дышал глубоко; он обнаружил, что прикидывает ножку на вес, как бы примеряясь, по руке ли, словно никогда ее не держал. «Завтра сделаем на ней зарубку», – подумал он. Потом аккуратно прислонил ножку к стене и вынул из кармана рубашки сигарету и спички. Чиркнув спичкой, он замер и стоял, чуть повернув голову, пока разгорался крохотный желтый огонек. Услышал стук копыт. Услышал, как он начался, затем участился и постепенно утих. «На муле, – сказал он негромко. – В город, с хорошими новостями». Он закурил, бросил спичку и стоял, вдыхая дым, чувствуя прикованные к крохотному живому угольку взгляды негров. Хотя он простоял там, пока не докурил сигарету, он был начеку. Прислонившись спиной к стене, он держал в правой руке ножку скамьи. Он докурил сигарету до самого конца и щелчком отбросил ее подальше к кустам, где чуял притаившихся негров. «Держите бычка, ребята», – вдруг раздался в тишине его громкий голос. Притаившись в кустах, они видели, как сигарета, мигая, упала на землю и продолжала там тлеть. Но как он ушел и куда направился, они не видели.
На другое утро, в восемь часов, приехал шериф со своим отрядом и ищейками. Один трофей они захватили сразу, хотя собаки не имели к этому отношения. Церковь была пуста; все негры куда-то пропали. Люди вошли в церковь и молча оглядели картину разгрома. Потом вышли. Собаки сразу напали на чей-то след, но прежде чем отправиться дальше, помощник заметил на стене засунутый в трещину доски клочок бумаги. Попал он сюда, по-видимому, не случайно и, когда его развернули, оказался разорванной оберткой от сигарет, на внутренней, белой стороне которой было что-то написано. Написано коряво – то ли неумелой рукой, то ли в темноте – и немного. Одна непечатная фраза, адресованная шерифу, без подписи. «Что я вам говорил?» – сказал один из спутников шерифа. Он был небрит и грязен, как и беглец, которого они до сих пор не видели, лицо – напряженное и ошалелое от возмущения и неудач, голос – хриплый, словно в последнее время он долго кричал или говорил без умолку.
– Я вам все время говорил! Говорил ведь!
– Что говорил? – произнес шериф холодным, спокойным тоном, обратив на него холодный, спокойный взгляд и не выпуская из руки записку. – Когда говорил? – Тот смотрел на шерифа возмущенно, с отчаянием, в таком расстройстве, когда уже нет человеческих сил терпеть; глядя на него, помощник подумал: «Ведь просто умрет, если не получит свою премию». Рот у того беззвучно открылся, и на озлобленном лице выразились озадаченность, изумление, будто он не мог поверить своим ушам. – И я тебе говорил, – продолжал шериф скучным, тихим голосом, – если тебе не нравится, как я веду дело, можешь подождать в городе. Тебе там есть где подождать. И охолонуть, а то ты больно разгорячился на солнце. Говорил я тебе или нет, а? Отвечай.
Тот закрыл рот. Отвел глаза, как будто с невероятным усилием; и с невероятным усилием выдавил из пересохшего горла:
– Да.
Шериф грузно повернулся и скомкал бумажку.
– Постарайся, чтобы это больше не вылетело у тебя из головы – сказал он. – Если только есть откуда вылететь. – Их окружали спокойные, внимательные лица, освещенные утренним солнцем. – А мне в этом, если хотите знать, сам Господь Бог велит сомневаться. – Кто-то гоготнул. – Ладно шуметь, – сказал шериф. – Пошли. Пускай собачек, Бьюф.
Пошли с собаками – по-прежнему на поводках. Они сразу взяли след. След был хороший, легко различимый из-за росы. Беглец, по-видимому, и не пытался его скрыть. Они разглядели даже отпечатки его колен и ладоней там, где он опустился, чтобы попить из родника.
– Сколько видел убийц, – сказал помощник, – хоть бы у одного было понятие о людях, которые за ним погонятся. А что собак можем взять, ему, болвану, и в голову не приходит.
– Мы каждый день напускаем на него собак, начиная с субботы, – сказал шериф. – И до сих пор не поймали.
– То были остывшие следы. До нынешнего дня у нас не было хорошего свежего следа. Но сегодня он дал маху. Сегодня будет наш. Может, еще до обеда.
– Поживем – увидим, – сказал шериф.
– Увидите, – сказал помощник. – След прямой, как железная дорога. Становись да иди по нему. Вон, глядите, даже подошвы видны. Этот болван не догадался даже сойти на дорогу, в пыль, где много других следов, и собаки бы его не учуяли. Часам к десяти собачки доберутся до конца этого следа.
Что они и сделали. Вскоре след резко повернул под прямым углом. Он вывел их на дорогу, собаки, пригнув головы, провели их немного по дороге и свернули на обочину, откуда шла тропинка к хлопковому сараю в поле неподалеку. Они забрехали громкими мягкими раскатистыми голосами, начали тянуть, кружить, рваться, скуля от нетерпения.
– Ну, болван! – сказал помощник. – Сел отдохнуть: вон его следы – каблуки эти рубчатые. Он не больше чем в миле от нас! Вперед, ребята!
Двинулись дальше: собаки – натянув ремни и гавкая, люди – за ними рысцой. Шериф обернулся к небритому.
– Ну, имеешь возможность отличиться: беги вперед, хватай его, и тысяча – твоя, – сказал он. – Чего же ты?
Тот не ответил; всем сейчас было не до разговоров, запыхались – особенно после того, как, пройдя с милю за собаками, которые по-прежнему тянули и гавкали, они свернули с дороги и по тропе, змейкой взбегавшей на холм, вышли на кукурузное поле. Здесь собаки умолкли, но прыти у них не убавилось, а даже наоборот; люди уже бежали. За высокой, в человеческий рост, кукурузой стояла негритянская хибарка.
– Он здесь, – сказал шериф, вытаскивая пистолет. – Осторожней, ребята. Он тоже будет с пистолетом.
Маневр был проделан хитро и искусно: вытащив пистолеты, скрытно окружили дом, шериф, за которым следовал помощник, метнулся к хибарке и, несмотря на тучность, ловко прилип к стене в мертвом пространстве между окнами. Распластавшись по стене, он обежал угол, пинком распахнул дверь и впрыгнул с пистолетом наготове в хибарку. Там находился негритенок. Он был в чем мать родила и что-то жевал, сидя в холодной золе очага. По-видимому, он был один, хотя через секунду из внутренней двери появилась женщина и, разинув рот, выронила чугунную сковородку. На ней были мужские туфли, в которых один из отряда опознал туфли беглеца. Она рассказала им про белого человека – о том, как на рассвете у дороги он выменял у нее свои туфли на мужнины чеботы, которые были на ней. Шериф слушал.
– Это было прямо возле хлопкового сарая, так? – спросил он. Она сказала «Да». Он вернулся к своему отряду, к рвущимся с ремней собакам. Он глядел на собак, люди сперва задавали ему вопросы, а потом замолчали и только наблюдали за ним. Наблюдали, как он засунул пистолет в карман, а затем повернулся и пнул собак, каждую по разу, крепко. – Отправьте этих чертовых подхалимов в город, – сказал он.
Однако шериф был исправным служакой. Он знал не хуже своих людей, что вернется к хлопковому сараю, где, по его представлениям, все это время прятался Кристмас, – хотя знал уже, что когда они туда придут, Кристмаса не будет. Чтобы оттащить собак от хибарки, пришлось повозиться, и стояло уже яркое десятичасовое пекло, когда они осторожно, искусно, бесшумно окружили хлопковый сарай и внезапно, по всем правилам, но без особой надежды, нагрянули туда с пистолетами – и захватили врасплох удивленную и перепуганную полевую крысу. Тем не менее шериф еще располагал собаками – они вообще не желали приближаться к сараю; не желали уйти с дороги, упирались и вылезали из ошейников, магнетически оборотив головы к хибарке, откуда их только что уволокли. Двум мужчинам пришлось потрудиться на совесть, чтобы доставить их к сараю, но стоило чуть-чуть отпустить ремни, как они вскочили, будто по команде, и дернули вокруг сарая прямо по отпечаткам подошв беглеца в высоком и еще не просохшем от росы бурьяне с теневой стороны – дернули обратно к дороге, вскидываясь, налегая на ошейники, и проволокли двух мужчин метров пятьдесят, прежде чем им удалось, накинув ремни на деревца, застопорить собак. На этот раз шериф их даже не пнул.
Наконец гвалт и крики, шум и ярость погони[37] замирают, остаются за слухом. Шериф не угадал; когда люди с собаками проходили мимо сарая, Кристмаса там не было. Он задержался там только для того, чтобы зашнуровать чеботы: черные башмаки, черные башмаки, пропахшие негром. Кажется, они вырублены из железной руды тупым топором. Глядя на свою грубую, жесткую, корявую обувь, он произнес сквозь зубы: «Ха». Он словно увидел, как белые наконец загоняют его в черную бездну, которая ждала и пыталась проглотить его уже тридцать лет – и теперь наконец он действительно вступил в нее, неся на щиколотках четкую и неистребимую мерку своего погружения.
Светает, занимается утро: сера и пустынна, обмирает окрестность, проникнутая мирным и робким пробуждением птиц. Воздух при вдохе – как ключевая вода. Он дышит глубоко и медленно, чувствуя, как с каждым вздохом сам тает в серой мгле, растворяется в тихом безлюдье, которому неведомы ни ярость, ни отчаяние. «Это все, чего я хотел, – думает он со спокойным и глубоким удивлением. – Только этого – тридцать лет. Кажется, не так уж много прошено – на тридцать лет».
Со среды он спал мало, и вот наступила и прошла еще одна среда, но он этого не знает. Теперь, когда он думает о времени, ему кажется, что тридцать лет он жил за ровным частоколом именованных и нумерованных дней и что, заснув однажды ночью, проснулся на воле. После побега, в пятницу ночью, он сначала пытался, по старой памяти, вести счет дням. Однажды, заночевав в стогу и лежа без сна, он видел, как просыпается хутор. Перед рассветом он увидел, как в кухне зажглась желтым лампа, а потом в серой еще тьме услышал редкий, гулкий стук топора и шаги – мужские шаги среди звуков пробуждающегося скота в хлеву по соседству. Затем почуял дым и запах пищи, жгучий, жестокий запах, и начал повторять про себя С тех пор не ел. С тех пор не ел – тихо лежа в сене, дожидаясь, чтобы мужчины поели и ушли в поле, пытаясь вспомнить, сколько дней прошло с того ужина в пятницу, в джефферсонском ресторане, покуда название дня недели не стало казаться важнее, чем пища. Так что, когда мужчины наконец ушли и он спустился, вылез на свет бледно-желтого лежачего солнца и подошел к кухонной двери, он даже не спросил поесть. Он собирался. Чувствовал, как выстраиваются в уме грубые слова, протискиваются к языку. А потом к двери подошла тощая, продубленная женщина, поглядела на него, и он по ее испуганному, ошалелому взгляду понял, что она его узнала, и, думая Она меня знает. И досюда дошло услышал свой тихий голос: «Скажите, какой сегодня день? Я просто хотел узнать, какой сегодня день».
– Какой день? – Лицо у нее было такое же тощее, как у него, тело такое же тощее, такое же неутомимое и такое же измочаленное. Она сказала: – Пошел отсюда! Вторник! Пошел отсюда! Мужа позову!
Он тихо сказал: «Спасибо», – как раз когда хлопнула дверь. Потом он бежал. Он не помнил, как побежал. Одно время он думал, будто бежит к какой-то цели, которая вдруг вспомнилась в самом беге, так что уму нет нужды трудиться и вспоминать, зачем он бежит – ибо бежать было нетрудно. Даже совсем легко. Он сделался совсем легким, невесомым. Даже на полном ходу ему казалось, что ноги шарят по нетвердой земле медленно, легко и нарочно наобум – пока он не упал. Он не споткнулся. Просто повалился – все еще думая, что он на ногах, что еще бежит. Но он лежал – ничком в мелкой канавке на краю пашни. Потом вдруг сказал: «Надо бы встать». Когда он сел, оказалось, что солнце, на полпути к полудню, светит на него с противоположной стороны. Сперва он подумал, что просто повернулся кругом. Потом понял, что уже вечер. Что когда он упал на бегу, было утро, а сейчас, хотя ему показалось, что он сел сразу, – уже вечер. «Заснул, – подумал он. – Больше шести часов проспал. Наверно, уснул на бегу и сам этого не заметил. Вот что со мной было».
Он не удивился. Время, промежутки света и мрака давно перепутались. Любой миг мог прийтись на любую пору; каждая отсекалась двумя движениями век, без переходов. Он понятия не имел, когда перейдет от одного к другому, когда обнаружит, что спал, не помня, как ложился, когда обнаружится, что он идет, не помня, как проснулся. Иногда ему казалось, что ночь сна – в сене, в канаве, под покинутой кровлей – сменяется другой ночью без дневного промежутка, без просвета, во время которого видишь, куда бежишь; что на смену дню приходит другой день, заполненный тревогой и бегством, без ночи между ними, без всякого промежутка для отдыха – словно солнце не садилось, а повернуло над горизонтом и по той же дуге покатилось вспять. Уснув на ходу или даже за питьем – на четвереньках, у родника, он никогда не знал, что откроется его глазам в следующее мгновение – солнечный свет или звезды.
Первое время он был постоянно голоден. Он подобрал и съел гнилой, червями издырявленный плод; иногда он заползал в поле, пригибал и обгладывал спелые початки кукурузы, твердые, как терка. Он постоянно думал о еде, воображал разные блюда, пищу. Думал о том ужине, ждавшем его на кухне три года назад, и, заново переживая неторопливый уверенный замах своей руки перед тем, как пустить тарелку в стену, корчился в муках сожаления и раскаяния. Но в один прекрасный день голод пропал. Это произошло неожиданно и мирно. Он остыл, успокоился. Однако он знал, что есть должен. Он заставлял себя съесть гнилой плод, твердый початок; жевал медленно, не чувствуя вкуса. Он поедал их в громадных количествах, расплачиваясь за это приступами кровавого поноса. И сразу же его вновь обуревал голод, позыв к еде. Но теперь он был одержим не едой, а необходимостью есть. Он пытался вспомнить, когда он ел в последний раз по-человечески, горячую пищу. По ощущениям припоминал какой-то дом, хибарку. Дом или хибарку, белых или черных – он не мог вспомнить. Затем, сидя тихо, с выражением блаженной озадаченности на изможденном, больном, заросшем лице, он почуял негра. Застыв (он сидел спиной к дереву у родника, откинув голову, сложив руки на коленях, с измученным и покойным лицом), он чуял и видел негритянскую еду, негритянскую пищу. Это было в комнате. Он не помнил, как попал туда. Но все в комнате дышало бегством и внезапным ужасом, словно люди бежали отсюда недавно, вдруг, в страхе. Он сидел за столом, ждал, ни о чем не думал – в пустоте, в молчании, дышавшем бегством. Потом перед ним оказалась еда, появилась вдруг между длинными проворными черными ладонями, которые тоже удирали, не успев опустить тарелку. Ему чудилось, будто среди звуков жевания, глотков он слышит, не слыша, вой ужаса и горя – тише вздохов, раздававшихся вокруг. «Тогда это было в хибарке, – подумал он. – И они боялись. Брата своего боялись».
Той ночью им овладело странное желание. Он лежал – на пороге сна, но не спал, и, казалось, не испытывал в сне нужды – точно так же, как склонял свой желудок к приему пищи, которой тот как будто не желал и в которой не нуждался. Желание было странное – в том смысле, что он не мог установить ни истоков его, ни мотивов, ни подоплеки. Он обнаружил, что пытается вычислить день недели. Как будто только сейчас наконец у него появилась настоятельная и срочная потребность вычеркнуть истекшие дни из тех, что отделяли его от цели, от определенного дня или поступка – так, чтобы не получилось нехватки или перебора. И с этой потребностью на уме он провалился в беспамятство, которое заменяло ему теперь сон. Когда он проснулся на росно-сером рассвете, потребность эта была настолько отчетливой, что уже не казалась странной.
Светает, занимается утро. Он встает, сходит к роднику и вынимает из кармана бритву, помазок, мыло. Но свет еще слишком слаб, чтобы отчетливо разглядеть свое лицо в воде, поэтому он садится у родника и ждет, пока не развиднеется окончательно. Затем он взбивает на лице холодную обжигающую пену, терпеливо. Рука дрожит; несмотря на срочность дела, он охвачен истомой и должен подгонять себя. Бритва тупа; он пробует править ее на башмаке, но кожа залубенела и мокра от росы. Он бреется – с грехом пополам. Рука дрожит; получается не очень чисто, несколько раз он режется и останавливает кровь холодной водой. Он прячет бритвенные принадлежности и уходит. Шагает напрямик, пренебрегая более легким путем – по грядам. Вскоре он выходит на дорогу и возле нее садится. Это – тихая дорога, она и появляется тихо, и тихо исчезает, бледная пыль ее размечена лишь узкими и редкими следами колес да копытами лошадей и мулов, и лишь кое-где – отпечатком человеческой ступни. Он сидит у дороги, без пиджака, в рубашке, некогда белой, и брюках, некогда глаженых, а теперь замусоленных и заляпанных грязью, с изможденным лицом в кустиках щетины и пятнах запекшейся крови, медленно дрожа от усталости и холода, но поднимается солнце и согревает его. Немного погодя из-за поворота выходят два негритенка, приближаются. Не видят его, пока он их не окликает; они останавливаются как вкопанные, глядят на него бело-выпученными глазами. «Какой нынче день?» – повторяет он. Они не говорят ни слова, глядят на него. Он слегка двигает головой. «Идите», – говорит он. Они идут. Он не провожает их взглядом. Сидит, как будто созерцая место, где они стояли, – словно, уйдя, они всего лишь вышли из двух раковин. Он не видит, что они бегут.
Затем, сидя там, потихоньку согреваясь на солнце, он незаметно для себя засыпает, ибо следующее, что доходит до него, – это оглушительное громыхание, дребезжание разболтанного дерева и железа и топот копыт. Открыв глаза, он видит вылетающую за поворот, из виду вон, телегу, озирающихся на него седоков и руку возницы с кнутом, который взлетает и падает. «Тоже узнали, – думает он. – И они, и та белая. И негры, у которых я ел тогда. Любой из них мог бы меня схватить, если им этого хочется. Ведь им же всем этого хочется: чтобы меня схватили. Только они сперва убегают. Все хотят, чтобы меня схватили, а когда я выхожу к ним и хочу сказать: Вот я. Да я бы сказал. Вот я. Я устал. Я устал бежать. Устал нести свою жизнь как корзинку с яйцами они убегают. Будто есть правила, как меня ловить, а поймать меня так – будет не по правилам».
И он опять уходит в кусты. Теперь он настороже и слышит повозку раньше, чем она появляется перед глазами. Он не показывается, пока повозка не поравнялась с ним. Тогда он выступает вперед и говорит: «Эй». Повозка останавливается – рывком вожжей. Голова негра поворачивается – тоже рывком; его лицо тоже делается изумленным, затем, с узнаванием, приходит ужас.
– Какой нынче день? – говорит Кристмас.
Негр пялится на него, разинув рот.
– Ч-что вы сказали?
– Какой нынче день? Четверг? Пятница? Какой? День какой? Я ничего тебе не сделаю.
– Пятница, – говорит негр. – Господи Боже мой, пятница.
– Пятница, – говорит Кристмас. Снова дергает головой. – Езжай.
Кнут хлещет, мулы рвут с места. Эта повозка тоже опрометью уносится из виду, под взмахи кнута. Но Кристмас уже повернулся и снова вошел в лес.
Снова путь его прям, как линия геодезиста, которой все равно – что холм, что топь, что лощина. Но он не спешит. Он движется, как человек, знающий, где он есть, и куда ему надо, и сколько у него времени, точно, до минуты – чтобы туда попасть. Как будто он желает увидеть родную землю во всех ее видах – в первый и в последний раз. Он вырос и возмужал на природе, чьи силы определили и внешность его и склад ума, но, как не умеющий плавать матрос, не узнал, каков ее настоящий облик и какова она на ощупь. Вот уже неделю он крался и скрывался по укромным ее местам, но по-прежнему чужд был самим непреложным законам, которым должна повиноваться земля. Он идет ровным шагом, и поначалу ему кажется, будто от этого – от того, что он смотрит и видит, – на душе у него так тихо, мирно, покойно; но вдруг его осеняет. Он ощущает в себе сухость, легкость. «Мне больше не надо беспокоиться о еде, – думает он. – Вот в чем дело».
К полудню он прошел восемь миль. Он выходит на широкую гравийную дорогу, на шоссе. Теперь, когда он поднимает руку, повозка останавливается спокойно. На лице парнишки-негра, который правит ею, – ни изумления, ни испуга, как у тех, узнавших.
– Это куда дорога? – спрашивает Кристмас.
– В Мотстаун[38]. Я туда еду.
– Мотстаун. И в Джефферсон едешь?
Парнишка чешет в затылке.
– Не знаю, где это. В Мотстаун еду.
– Ага, – говорит Кристмас. – Ясно. Ты, значит, нездешний.
– Да, сэр. Мы отсюда через два округа живем. Третий день в дороге. А в Мотстаун еду за теленком годовалым, папа его купил. Вы хотите в Мотстаун?
– Да, – отвечает Кристмас. Он влезает на сиденье рядом с парнем. Повозка трогается. «Мотстаун», – думает он. Джефферсон всего в двадцати милях. «Теперь можно дать себе передышку, – думает он. – Семь дней я не давал себе передышки, так что теперь, пожалуй, можно». Он думает, что, раз он сидит, его, может быть, укачает, и он уснет. Но он не спит. Ни сна нет, ни голода, ни даже усталости. Он – где-то между и среди них, парит, качаясь в такт повозке, без дум, без чувств. Он потерял счет времени и расстоянию; проходит, может быть, час, может быть, три. Парнишка говорит:
– Мотстаун. Вон он.
Он глядит и видит дым на небосклоне за незаметным поворотом; он снова выходит на нее – на улицу, которая тянулась тридцать лет. Улица была мощеная, где ходить надо быстро. Она описала круг, а он так и не выбрался из него. Хотя в последние семь дней мощеной улицы не было, он ушел дальше, чем за все тридцать лет. И все же так и не выбрался из круга. «И все же за эти семь дней я побывал дальше, чем за все тридцать лет, – думает он. – Но так и не вырвался из этого круга. Так и не прорвал кольцо того, что уже сделал, и никогда не смогу переделать», – тихо думает он, сидя в повозке, а в передок под ним упираются чеботы, черные чеботы, пропахшие негром: метка на щиколотках, ясная и неистребимая мерка черного прилива, всползающего по его ногам, от ступней и все выше, как всползает смерть.
15
В городе Мотстауне, где в ту пятницу схватили Кристмаса, жила старая чета по фамилии Хайнс. Они были совсем старые. Они жили в домике с верандой, в негритянском районе; как и на что – город не знал, поскольку жили они в очевидной и грязной нищете и полном безделье: Хайнс, насколько было известно, за последние двадцать пять лет ни разу регулярно не работал.
Они появились в Мотстауне тридцать лет назад. В один прекрасный день соседи обнаружили его жену, поселившуюся в маленьком домике, где Хайнсы с тех пор и жили, хотя первые пять лет хозяин приезжал домой только раз в месяц, на субботу и воскресенье. Скоро стало известно, что он занимает какую-то должность в Мемфисе. Какую именно – никто не знал, поскольку он уже тогда был человеком непонятным – ему можно было дать и тридцать пять и пятьдесят, а взгляд его, холодно горевший фанатизмом и слегка обезумелый, не располагал к расспросам, любопытству. Оба они городу представлялись слегка помешанными – нелюдимые, землистого цвета, мелкие рядом с большинством остальных людей, словно экземпляры другой породы, разновидности, – однако после того, как Хайнс окончательно осел в Мотстауне и стал жить в своем домике вместе с женой, его лет пять или шесть приглашали для разных случайных работ, которые были ему по силам. Но потом он покончил и с этим. Город сперва удивлялся, на что же они теперь будут жить, но потом забыл об этом и думать – и точно так же, узнав впоследствии, что Хайнс ходит пешком по округу и служит в негритянских церквах и что время от времени можно наблюдать, как негритянки входят в дом пожилой четы с черного хода, неся, по-видимому, какую-то провизию, а выходят с пустыми руками, город опять немного поудивлялся, а потом забыл. Либо забыл, либо простил безобидному старику Хайнсу то, за что затравил бы молодого. Решил просто: «Они свихнулись; свихнулись на почве негров. Может, они янки», – и на этом успокоился. А может быть, не Хайнсу простил его преданность делу спасения негритянских душ, но самому себе – безразличие к тому, что старики принимают милостыню от негров, ибо таково уж счастливое свойство ума – забывать то, чего не может переварить совесть.
И вот двадцать пять лет старая чета не имела видимых средств к существованию, а город закрывал глаза на негритянок и на завернутые миски и кастрюли – при том, что некоторые из этих мисок и кастрюль, по всей вероятности, брались прямо из кухонь белых, где негритянки стряпали. Возможно, и это объяснялось забывчивостью ума. Так или иначе, город ничего не замечал, и вот уже двадцать пять лет старики жили в глуши замшелого своего уединения, словно пара мускусных быков, забредших сюда с Северного полюса, или бесприютных реликтовых зверей из доледниковой эпохи.
Жену почти никогда не видели, зато муж, известный под прозвищем дядя Док, был привычной фигурой на площади: грязный старичок, лицо которого еще хранило следы то ли храбрости, то ли буйности – то ли духовидец, то ли законченный эгоист, – без воротничка, в грязной синей парусиновой одежде, с тяжелой самодельной палкой, чья рукоять была отполирована ладонью до ореховой темноты и стеклянной гладкости. Сначала, когда он занимал должность в Мемфисе, он во время ежемесячных побывок рассказывал немного о себе – не просто с самоуверенностью независимого человека, а с важностью, как будто в свое время, и не так уж давно, он был человеком более чем независимым. Никакой приниженности потерпевшего в нем не было. В нем была скорее уверенность человека, который некогда имел власть над меньшими, а затем добровольно и по причинам, на его взгляд, не подлежащим обсуждению и для чужого разумения недоступным, изменил свою жизнь. Но рассказы его, при всей их внешней связности, звучали вздором. Поэтому уже тогда считалось, что он слегка помешан. И не то чтобы создавалось впечатление, будто, рассказывая одно, он старается скрыть другое. Просто его рассказы не умещались в рамки, которые, по мнению его слушателей, были (должны быть) границами человеческих возможностей. Временами они начинали думать, что прежде он был священником. Потом он рассказывал им о Мемфисе в туманных и величественных выражениях, как будто всю жизнь занимал там важный – но так и не обозначенный им – административный пост. «Ну да, – говорили в Мотстауне за его спиной, – он там командовал на железной дороге. Стоял на переезде с красным флагом, когда проходил поезд». Или: «Он – большой газетчик. Собирает газеты из-под лавок в парке». В лицо ему этого не говорили – даже самые дерзкие, даже те, кто шел на любой риск, дабы поддержать свою репутацию остряка.
Потом он потерял работу в Мемфисе – или бросил ее. Однажды в субботу он приехал домой, а в понедельник не уехал. После этого он целыми днями околачивался в центре, на площади – неразговорчивый, грязный, с яростным, отпугивающим выражением в глазах, которое люди объясняли безумием; застарелой свирепостью веяло от него, как душком, как запахом; тлевшей, словно уголь в золе, напористой протестантской фанатичностью, которая состояла когда-то на четверть из страстной убежденности и на три четверти – из кулачной отваги. Поэтому, когда стало известно, что он ходит по округу, обычно пешком, и проповедует в негритянских церквах, люди не удивились; не удивились даже тогда, когда узнали, что он проповедует. Что этот белый, чуть ли не целиком зависевший от щедрот и милостыни негров, ходит в одиночку по отдаленным негритянским церквам и прерывает службу, чтобы взойти на кафедру и резким, неживым своим голосом, а порою и с яростной непристойной бранью проповедовать им смирение перед всякой более светлой кожей, проповедовать превосходство белой расы, выставляя себя – непроизвольный, изуверский парадокс – образцовым ее представителем. Негры думали, что он – ненормальный, Богом ушибленный или Богом отмеченный. Они, вероятно, не слушали, что он говорит, и мало что понимали. Возможно, они принимали его за самого Бога, поскольку Бог для них – тоже белый и поступки у него – тоже не совсем понятные.
В тот день, когда имя Кристмаса впервые разнеслось по улице и мальчишки вместе со взрослыми – лавочниками, конторщиками и прочей досужей и любопытной публикой, среди которой преобладали деревенские в комбинезонах, – бросились бежать, Хайнс был в центре города. Он тоже побежал. Но быстро бежать он не мог, а потом ничего не мог увидеть из-за сомкнувшихся плеч. Тем не менее он пытался, не уступая в грубости и напоре любому из присутствовавших, пробиться к шумной, колышущейся кучке людей и, словно вспомнив былую буйность, следы которой читались на его лице, когтил чужие спины, а потом просто колотил по ним палкой, и когда люди наконец обернулись, узнали его и схватили – вырывался и опять норовил стукнуть тяжелой палкой.
«Кристмас? – кричал он. – Они говорят, Кристмас?»
«Кристмас! – крикнул в ответ один из тех, которые держали его, тоже с искаженным лицом. – Кристмас! Белый нигер из Джефферсона, что женщину убил на прошлой неделе!»
Хайнс свирепо глядел на него, и в беззубом его рту чуть пенилась слюна. Потом он снова стал вырываться, яростно, с руганью: хилый, мелкий старичок с легкими, по-детски хилыми косточками пытался отогнать их палкой, пытался пробить себе дорогу в середину толпы, где стоял пленник с окровавленным лицом. «Постой, дядя Док! – говорили они, удерживая его. – Постой, дядя Док. Его поймали. Он не уйдет. Ну, постой».
Но он бил их и вырывался, жидким, надтреснутым голосом выкрикивая брань, пуская слюни, а те, кто держал его, тоже напрягались, словно удерживали маленький шланг, который мечется от чрезмерного напора. Из всей группы один пойманный был спокоен. Хайнса держали, он бранился, в его старые хилые кости и веревочки мышц вселилась ртутная ярость ласки. В конце концов он вырвался, прыгнул вперед, ввинтился в гущу людей и вылез – лицом к лицу с пленником. Тут он замер на миг, злобно глядя пленнику в лицо. Этот миг был долгим, однако раньше, чем старика успели схватить, он поднял палку и ударил пленника и хотел ударить еще, но тут его наконец поймали и стали держать, а он исходил бессильной яростью, и на губах его легкой и тонкой пеной вскипала слюна. Рта ему не заткнули. «Убейте выблядка! – кричал он. – Убейте. Убейте его».
Через полчаса двое мужчин привезли его домой на машине. Один правил, другой поддерживал Хайнса на заднем сиденье. Лицо его, заросшее щетиной и грязью, теперь было бледно, а глаза закрыты. Его вынули из машины и понесли на руках через калитку по дорожке из трухлявого кирпича и цементной шелухи к крыльцу. Теперь его глаза были открыты, но совершенно пусты, они закатились под лоб, так что виднелись только нечистые синеватые белки. Он совсем обмяк и не шевелился. Когда они подходили к крыльцу, дверь отворилась, вышла его жена, закрыла дверь за собой и стала смотреть на них. Они догадались, что это его жена, поскольку вышла она из дома, где жил он. Один из мужчин, хотя и местный, никогда ее прежде не видел.
– Что случилось? – сказала она.
– Ничего страшного, – ответил первый мужчина. – У нас там в городе переполох был изрядный, да еще эта жара – вот он и сдал. – Она стояла перед дверью, словно не пуская их в дом, – приземистая, толстая женщина с круглым, непропеченным, мучнисто-серым лицом и тугим узелком жидких волос. – Только что поймали этого нигера Кристмаса, который женщину в Джефферсоне убил на прошлой неделе, – пояснил мужчина. – Ну и дядя Док немного переволновался.
Миссис Хайнс уже отворачивалась, словно собираясь открыть дверь. И, как сказал потом мужчина своему спутнику, вдруг замерла, будто в нее попали камушком.
– Кого поймали? – сказала она.
– Кристмаса, – сказал мужчина. – Нигера этого, убийцу. Кристмаса.
Она стояла на краю крыльца, обернув к ним серое, застывшее лицо. «Как будто заранее знала, что я ей скажу, – говорил мужчина своему товарищу, когда они возвращались к машине. – Как будто хотела, чтобы это оказался он и в то же время – не он».
– Какой он из себя? – спросила она.
– Да я и не разглядел толком, – сказал мужчина. – Его малость раскровянили, пока ловили. Молодой парень. А на нигера не больше моего похож. – Женщина смотрела на них, смотрела сверху. Хайнс, поддерживаемый с двух сторон, уже сам стоял на ногах и тихо бормотал, словно пробуждаясь ото сна. – Что прикажете делать с дядей Доком? – спросил мужчина.
На это она просто не ответила. Как будто мужа своего не признала, – сказал потом мужчина своему товарищу.
– Что они с ним сделают? – спросила она.
– С ним? – повторил мужчина. – А-а. С нигером. Это в Джефферсоне решат. Он – тамошний, ихний.
Серая, застывшая, она смотрела на них откуда-то издалека.
– Они подождут до Джефферсона?
– Они? – переспросил мужчина. – А-а, – сказал он. – Ну, если Джефферсон не будет особенно тянуть. – Он перехватил руку старика поудобнее. – Куда нам его положить? – Тут женщина зашевелилась. Она спустилась с крыльца и подошла к ним. – Мы вам втащим его в дом, – сказал мужчина.
– Я сама втащу, – ответила она. Они с Хайнсом были одного роста, но она – плотнее. Она подхватила его под мышки. – Юфьюс, – сказала она негромко. – Юфьюс. – И мужчинам, спокойно: – Пустите. Я держу.
Они отпустили его. Старик уже мог кое-как идти. Они смотрели ему вслед, пока старуха не ввела его на крыльцо и в дом. Она не оглянулась.
– Даже спасибо не сказала, – заметил второй мужчина. – Назад бы его увезти да в тюрьму посадить вместе с нигером – а то больно хорошо он его знает.
– Юфьюс, – сказал первый. – Юфьюс. Пятнадцать лет мне невдомек, как его звать-то по-настоящему. Юфьюс.
– Пойдем. Поехали обратно. Не пропустить бы чего.
Первый продолжал смотреть на дом, на закрытую дверь, за которой исчезла пара.
– Она его тоже знает.
– Кого знает?
– Да нигера. Кристмаса.
– Пошли. – Они вернулись к машине. – И с чего этот черт приперся к нам в город, за двадцать миль от места, где убил, и по главной улице стал шататься, чтоб его узнали. Жалко, не я его узнал. Мне бы эта тысяча во как пригодилась. Всегда мне не везет.
Машина тронулась. Первый все еще оглядывался на слепую дверь, за которой скрылись супруги.
А они стояли в прихожей маленького домика, темной, тесной и зловонной, как пещера. Обессилевший старик все еще пребывал в полуобморочном состоянии, и то, что жена подвела его к креслу и усадила, легко было объяснить заботой и целесообразностью. Но возвращаться к двери и запирать ее, как она сделала, – в этом никакой нужды не было. Она подошла и встала над ним. На первый взгляд могло показаться, что она просто смотрит на него, заботливо и участливо. Но потом посторонний наблюдатель заметил бы, что ее трясет и что она усадила его в кресло либо для того, чтобы не уронить его на пол, либо для того, чтобы держать его пленником, покуда к ней не вернется дар речи. Она нагнулась к нему: грузная, приземистая, землистого цвета, с лицом утопленницы. Когда она заговорила, ее голос дрожал, дрожала и она, силясь овладеть им; вцепившись в ручки кресла, где полулежал ее муж, она говорила сдержанным дрожащим голосом: «Юфьюс. Слушай меня. Ты меня послушай. Я к тебе раньше не приставала. Тридцать лет к тебе не приставала. Но теперь ты скажешь. Я должна это знать, и ты мне скажешь. Что ты сделал с ребенком Милли?»
Весь этот долгий день они гудели на площади и перед тюрьмой – продавцы, бездельники, деревенские в комбинезонах; толки. Они ползли по городу, замирая и рождаясь снова, как ветер или пожар, покуда среди удлинившихся теней деревенские не начали разъезжаться на повозках и пыльных машинах, а городские не разбрелись ужинать. Потом толки оживились, разгорелись с новой силой – в семейном кругу за столом, при участии жен, в комнатах, освещенных электричеством, и в отдаленных домиках среди холмов, под керосиновой лампой. А назавтра, славным, тягучим воскресным днем, сидя на корточках в чистых рубашках и нарядных подтяжках, мирно попыхивая трубками перед деревенскими церквами или в тенистых палисадниках, возле которых стояли и ждали упряжки и машины гостей, покуда женщины собирали на кухне обед, они рассказывали все сначала: «Он похож на нигера не больше моего. Но, видно, сказалась-таки негритянская кровь. Можно подумать, прямо наладился, чтобы его поймали, как жениться налаживаются. Ведь он еще неделю назад от них утек. Не подожги он дом, они бы, пожалуй, и через месяц не узнали про убийство. Да и теперь бы на него не подумали, если бы не этот Браун, через которого нигер виски продавал, а сам белым прикидывался – и виски, и убийство, все на Брауна хотел свалить, а Браун сказал, как было.
А утром вчера явился в Мотстаун, средь бела дня, в субботу, когда кругом полно народу. Зашел в белую парикмахерскую, все равно как белый, и они ничего не подумали, потому что похож на белого. И даже когда чистильщик заметил, что на нем башмаки чужие, велики ему, все равно ничего не подумали. Постригся, побрился, уплатил и пошел – и прямо в магазин, купил там рубашку новую, галстук, шляпу соломенную – и все на краденые деньги, той женщины, которую убил. А потом стал по улицам разгуливать средь бела дня, прямо как хозяин – разгуливает взад-вперед, а люди идут себе и ничего не знают; тут-то Холидей его и увидел, подбежал, цоп его и говорит: «Не Кристмасом ли тебя звать?», а нигер говорит – да. И даже не думал отпираться. Вообще ничего не делал. Вообще себя вел ни как нигер, ни как белый. Вот что главное-то. Почему они так взбесились. Нате вам – убийца, а сам вырядился и разгуливает по городу – попробуйте, мол, троньте, – когда ему бы прятаться, в лесу хорониться, драпать, грязному да чумазому. А он будто и знать не знает, что он убийца, тем паче – нигер.
И вот, значит, Холидей (а разволновался – как-никак тысячей пахнет, и пару раз уже по морде съездил нигеру, и тут нигер первый раз себя нигером показал – стерпел и не сказал ни слова: по нем кровь, а он стоит, смурной, тихий), Холидей держит его и орет, как вдруг вылезает этот старикан, Хайнс, дядей Доком его кличут, и давай нигера палкой лупцевать, покуда двое его не утихомирили и домой на машине не увезли. И никто так и не понял, правда знает он нигера или нет. Приковылял туда и визжит: «Его зовут Кристмас? Вы сказали, Кристмас?» – протолкался, глянул на нигера и давай его палкой охаживать, и вид у него такой, будто он не в себе. Пришлось его оттаскивать, а он глаза закатил, слюнявится и садит палкой по чем попало, а потом вдруг раз – и сомлел. Ну, двое там отвезли его домой на машине, жена вышла, отвела его в дом, а эти двое вернулись в город. Они не поняли, чего это на него нашло, чего он так разволновался, когда нигера поймали, но, думали, дома он отойдет. И надо же, полчаса не прошло, а он опять тут как тут. И уже совсем сумасшедший: стоит на углу и орет на каждого прохожего, трусами обзывает, потому что не вытащат черного из тюрьмы и не повесят на месте, без всяких Джефферсонов. А лицо нехорошее, как будто из сумасшедшего дома сбежал и знает, что долго погулять ему не дадут – опять схватят. Говорят, еще проповедником был.
Он кричал, что имеет право убить нигера. Почему – не сказал, до того распалился и ополоумел, что говорить не мог толком, а остановить его да спросить не так-то просто. Вокруг него уж целая толпа собралась, а он кричит, что это его право решать, жить нигеру или нет. И люди уже начали подумывать, что, может, место ему – в тюрьме, с нигером, но тут жена пришла.
Есть такие, кто тридцать лет в Мотстауне живет и ни разу ее не видел. Никто и не признал ее, покуда она с ним не заговорила, потому что, если кто ее и видел раньше, то всегда возле домика, в Негритянской слободе, где они живут, в хламиде какой-нибудь да шляпе, что за ним донашивала. А тут она приоделась. Платье малиновое шелковое, шляпа с пером, в руках зонтик – подошла к толпе, где он вопил и разорялся, и говорит: «Юфьюс». Тут он кончил орать, взглянул на нее – а палка еще поднята, дрожит в руке – и рот разинул, слюни пускает. Она его под руку. Многие боялись подойти к нему из-за палки; он кого хочешь в любую минуту может огреть – и не нарочно даже, сам не заметит. А она зашла прямо под палку, взяла его под руку и отвела, где стул стоял перед магазином, посадила на стул и говорит: «Сиди тут, пока я не вернусь. Чтоб ни с места. И перестань орать».
И перестал. Как миленький. Сидит, где посадили, а она даже не оглянулась. Это все заметили. Наверно – потому что ее никогда нигде не видели, кроме как дома или возле дома. А он – такой бешеный старикашка, что связываться с ним – вперед лишний раз подумаешь. Одним словом, все удивились. Никто не думал, что им командовать можно. Похоже было, она что-то такое про него знает и ему надо ее опасаться. Сел он, это, на стул, как она велела, куда только крик и важность подевались, голову повесил, руки на палке большой трясутся, и слюни потихоньку изо рта пускает, на рубашку.
Она прямо в тюрьму пошла. А там уже большая толпа, потому что из Джефферсона дали знать, что за нигером выехали. Прошла, прямо сквозь них, в тюрьму и говорит Меткафу:
– Я хочу видеть человека, которого поймали.
– Зачем вам его видеть? – Меткаф спрашивает.
– Я его не побеспокою, – говорит. – Я только хочу посмотреть на него.
Меткаф ей говорит, что тут полно народу, которые хотят того же самого, и он, мол, понимает, что она не собирается устраивать ему побег, но он всего-навсего надзиратель и не может никого пускать без разрешения шерифа. А она стоит перед ним в малиновом своем платье – и до того тихо, что даже перо не кивнет, не шелохнется.
– Где, – говорит, – шериф?
– Наверно, у себя, на месте, – Меткаф говорит. – Найдите его и получите у него разрешение. Тогда сможете увидеть нигера.
Думает, сказал – и дело с концом. Видит, повернулась она, вышла вон, прошла сквозь толпу перед тюрьмой и – обратно по улице, к площади. Теперь перо кивало. Он, наверно, видел, как оно кивало по-над оградой. А потом он увидел, как она через площадь перешла к суду. Люди не знали, по какому она делу – Меткаф-то не успел им сказать, что было в тюрьме, – ну, и просто смотрели, как она идет в суд, а потом Рассел рассказывал, что он сидел у себя, поднял случайно голову, а в окошке, за барьером – эта шляпа с пером. Он не знал, долго ли она стояла и ждала, пока он голову поднимет. Он говорил, росту в ней как раз чтобы заглянуть через барьер, так что вроде у нее и тела не было никакого. Как будто подкрался кто-то и подвесил воздушный шарик с нарисованным лицом, а сверху шляпу смешную надел – вроде как эти мальчишки в комиксах[39]. Она говорит:
– Мне нужно видеть шерифа.
– Его тут нет, – Рассел говорит. – Я его помощник. Чем могу служить?
А она стоит и не отвечает. Потом спрашивает:
– Где его найти?
– Он дома, наверно, – Рассел говорит. – Много работал эту неделю. И ночами приходилось – помогал джефферсонской полиции. Наверно, домой пошел, вздремнуть. А я, случайно, не могу вам… – А ее, говорит, уже и след простыл. Он говорит, что выглянул в окно и видел, как она перешла площадь и свернула за угол, туда, где шериф живет. И никак, говорит, не мог сообразить, откуда она, кто такая.
Шерифа она так и не нашла. Да и все равно уже поздно было. Шериф-то ведь был в тюрьме, только Меткаф ей этого не сказал, а едва она от тюрьмы отошла, как приехали полицейские из Джефферсона на двух машинах и вошли в тюрьму. Подъехали быстро и вошли быстро. Но уже слух разнесся, что они там, и перед тюрьмой сотни две человек собралось – мужчин, ребят и женщин, и вышли оба шерифа, и наш стал речь держать – просил людей уважать закон, а он, дескать, и джефферсонский шериф оба обещают, что над нигером учинят суд скорый и справедливый; а из толпы кто-то и говорит: «На хрен вашу справедливость. Он с белой женщиной справедливо обошелся?» И тут они закричали и сгрудились, как будто не перед шерифами стараются друг друга перекричать, а перед покойницей. А шериф все так же тихо им говорит, что он, мол, под присягой дал им обещание, когда они его выбрали, и его как раз хочет сдержать. «Я убийцам-нигерам, – говорит, – сочувствую не больше любого другого белого у нас в городе. Но я принес присягу, и, клянусь Богом, я ее выполню. Мне неприятности не нужны, но я от нее не отступлю. Так что вы это учтите». И Холидей там же, с шерифами. Он больше всех распинался за порядок и чтобы не поднимать бузы. «Ага-а, – кто-то кричит, – конечно, тебе не хочется, чтобы его линчевали. Но для нас-то он тысячи долларов не стоит. Для нас он тысячи выеденных яиц не стоит». А шериф тут быстренько говорит: «Ну и что ж, что Холидей не хочет убийства? А мы разве хотим? Наш ведь гражданин получит премию: деньги ведь здесь разойдутся, в Мотстауне. А если бы кто из джефферсонских ее получил? Разве не так, друзья? Посудите сами». А у самого голос тонкий, прямо кукольный: такой даже у большого мужчины бывает, когда он не просто перед народом говорит, а поперек того, что народ уже решил наполовину…
Однако это их как будто убедило, хотя знают, что ни Мотстаун, ни другой город этих денег не увидят как своих ушей, если они Холидею достанутся. А все-таки поостыли. Народ – он чудной. Не может держаться чего-нибудь одного, ни в мыслях, ни в деле, если ему все время новых резонов не выставлять. А потом, хоть и выстави ему новый резон, он все равно передумает. Словом, они не то чтобы отступились; можно сказать, до этого толпа вроде как изнутри наружу перла, а теперь поперла снаружи внутрь. И шерифы это поняли, но опять-таки поняли, что и это ненадолго, потому что быстренько шмыгнули в тюрьму и тут же обратно – непонятно даже, когда они там повернуться успели, – и нигер уже между них, а позади пять или шесть помощников. Они, наверное, все время держали его за дверью, наготове, потому что вышли сразу – нигер между них, насупившись, наручниками к джефферсонскому шерифу примкнут; и толпа в один голос: «Хааааааааааааааах».
Сделали такой как бы проход вдоль улицы, к первой машине джефферсонской – мотор уже работает, за рулем человек сидит – шерифы, даром времени не тратя, повели его, а тут – опять она, старуха эта, миссис Хайнс. Сквозь толпу протолкалась. А сама такая маленькая, что людям только перо видать – медленно так подпрыгивает, – кажется, если бы и не мешал никто на дороге, все равно не могла бы скоро идти, но и остановить – ничем не остановишь, как трактор. Протолкалась и – в проход, где люди расступились перед шерифами с нигером; пришлось им остановиться, чтобы ее не затоптать. Лицо – как шмат замазки, шляпа набок сбилась, перо на глаза свесилось – его откинуть надо, чтобы смотреть не мешало. А ей не до того. Стоит перед ними и смотрит на нигера, не дает пройти. Ни слова не сказала, как будто ей только одно было нужно, ради этого только людей беспокоила, для этого нарядилась и в город пришла: чтобы разок взглянуть на нигера. Потом повернулась, обратно зарылась в толпу, а когда машины с нигером и с полицией джефферсонской уехали и люди оглянулись, ее уже не было. Потом все опять на площадь пошли, а дяди Дока на стуле, где она его усадила и велела ждать, тоже нету. Но на площадь не все ушли. Многие на месте остались, на тюрьму смотрят, как будто нигера только тень оттуда вышла.
Думали, что она дядю Дока домой забрала. А было это перед магазином Доллара, и Доллар говорит, что видел, как она вернулась сюда еще до толпы. Говорит, дядя Док с места не двинулся, так и сидел на стуле, как она его посадила, покуда она не пришла: тронула его за плечо, он встал, и они вместе ушли, Доллар сам это видел. Он говорит, вид у дяди Дока был такой, что ему только дома и сидеть.
А она его вовсе не домой увела. Немного позже люди видели, что его, оказывается, и вести не нужно было. Как будто они с ней хотели одного и того же. Одного и того же – но по разным причинам, и каждый знал, что у другого причина другая и что, если один повернет дело по-своему, для другого это опасно. Как будто оба понимали это без слов и следили друг за другом, и еще – как будто оба понимали, что ей виднее, как к делу приступить.
Пошли они прямо в гараж, где Салмон держит свою прокатную машину. Договаривалась она. Сказала, что хотят съездить в Джефферсон. Ей, наверно, и в голову не приходило, что Салмон может запросить больше, чем по четверти доллара с носа, потому что, когда он сказал три доллара, она его переспросила, словно ушам своим не поверила. «Три доллара, – Салмон говорит. – Дешевле не могу». Стоят рядом, но дядя Док не вмешивается, как будто ему и дела нет, как будто знает, что ему беспокоиться нечего: она его все равно туда доставит.
«Нет, – она говорит, – у меня таких денег».
«А дешевле у вас никак не получится, – Салмон говорит. – Разве что поездом. Там билет – пятьдесят два цента».
А она уже прочь пошла, и дядя Док за ней, как собака.
Это было часа в четыре. До шести их видели на скамейке во дворе суда. Они не разговаривали: как будто и забыли, что вдвоем. Сидят себе рядышком, а она, значит, – приодевшись, в парадном платье. И, может, ей просто приятно, что приоделась и что в городе субботний вечер провела. Может, ей это все равно, что другому – на денек в Мемфис съездить.
Сидели, пока шесть не пробило. Тогда встали. Люди, которые видели, говорят, что она ему ни слова не сказала; просто поднялись разом, словно две птички с ветки – и не поймешь, какая какой сигнал подала. Дядя Док чуть позади шел. Перешли площадь и свернули на улицу, которая к станции ведет. Люди знали, что никаких поездов еще три часа не будет, и думали: неужели они и вправду на поезде куда-то собрались – но старики еще похлеще отчудили. Зашли в маленькое кафе возле станции и поужинали – а ведь за все время, что они в Джефферсоне живут[40], их не то что в кафе – на улице ни разу не видели вместе. А она его вон куда повела; может, боялись, что пропустят поезд, если в город пойдут есть. Пришли туда – еще половины седьмого не было, – сели на табуреточки у стойки и едят, что она заказала, с дядей Доком даже не посоветовавшись. Она у хозяина спросила, когда поезд на Джефферсон, он ей сказал, что в два часа ночи. «Будет, – говорит, – сегодня в Джефферсоне суматохи. Вы можете взять машину в городе и будете в Джефферсоне через сорок пять минут. Зачем вам поезда ждать до двух часов ночи». Подумал, что они, наверно, приезжие; объяснил ей, как в город пройти.
А она ничего не сказала; доели, заплатила ему – пять центов и десять центов, по одной вынула из тряпицы, а тряпицу – из зонтика, а дядя Док тут же сидит и ждет – лицо дурное, как у лунатика. Потом ушли, и хозяин думал, что послушали его и решили взять в городе машину, а потом выглянул и видит, идут они через запасные пути к станции. Хотел было окликнуть, да не окликнул. «Думаю, – говорит, – может, я ее не понял. Может, им девятичасовой нужен, который на юг».
Когда пассажиры начали собираться и билеты на девятичасовой покупать – коммивояжеры, бездельники всякие и прочая публика, – они сидели на скамейке в зале ожидания. Кассир говорит, когда он возвращался с ужина в полвосьмого, то заметил, что в зале ожидания кто-то сидит, но особенно не приглядывался, а потом она подошла к окошку и спрашивает, когда пойдет поезд на Джефферсон. А он занят был в это время – глаза только поднял и сказал: «Завтра», от работы не отрываясь. Но потом, говорит, что-то заставило его опять посмотреть, а из окошка лицо это круглое на него смотрит, перо, конечно, сверху, и говорит ему:
– Дайте мне на него два билета.
– Этот поезд пойдет только в два часа ночи, – кассир говорит. Тоже ее не признал. – Если вам поскорее нужно в Джефферсон, то пойдите лучше в город и наймите машину. Дорогу в город найдете?
А она, значит, стоит, пяти– и десятицентовые отсчитывает из тряпицы; выдал он ей два билета, а потом в окошко глянул мимо нее, дядю Дока увидел и понял, кто она такая. И, говорит, публика на девятичасовой собралась, поезд пришел и отправился, а они все сидят. А дядя Док, говорит, все такой же – не то сонный, не то одурманенный, не поймешь. Поезд, значит, уехал, а люди не все разошлись. Остались некоторые, в окно заглядывали, а то и в зал входили посмотреть, как дядя Док с женой сидят на лавке, покуда кассир свет не выключил в зале ожидания.
Но некоторые все равно не ушли. Все в окошко заглядывали, смотрели, как они в темноте сидят. Может, перо видели и голову седую дяди Дока. И тут дядя Док начал просыпаться. Не то чтобы удивляться, куда он попал или что вроде попал не туда, куда нужно. А просто встрепенулся, как будто долго ехал накатом, а теперь пришла пора мотор включить. Слышно было, как она ему говорит: «Шшш. Шшш», – а потом его голос прорывается. Так и сидели, покуда кассир свет не включил и не сказал им, что двухчасовой подходит, – она ему: «Шшш. Шшш», – как ребенку, а дядя Док выкрикивает: «Скотство и омерзение! Омерзение и скотство!»
16
На стук свой не получив никакого ответа, Байрон спускается с крыльца, огибает дом и входит в огороженный задний дворик. Он сразу видит кресло под шелковицей. Это парусиновый шезлонг, латаный, линялый, до того провисший от долгого употребления, что кажется, даже пустой, он бесплотно обнимает обрюзглое, рыхлое тело хозяина; приближаясь, Байрон думает, что в неодушевленном этом кресле, запечатлевшем в себе бездействие, праздность, убогую оторванность от мира, отображается и даже как-то содержится суть самого человека. «Которого я опять побеспокою», – думает он, по обыкновению своему чуть вздернув губу, – думает Опять? Прошлое-то беспокойство, оно даже ему теперь покажется ерундой. И опять в воскресенье. Хотя почему бы и воскресенье не захотело ему отомстить – раз воскресенье тоже людьми придумано
Он подходит к креслу сзади и заглядывает. Хайтауэр спит. На выпуклом его брюшке, там, где белая рубашка (сегодня она чистая и свежая) надулась над поношенными черными брюками, лежит обложкой кверху раскрытая книга. Руки Хайтауэра сложены на книге мирно, благостно. Рубашка старомодная, с плиссированной, но небрежно заглаженной грудью и без воротничка. Рот его открыт, дряблая мякоть лица оттекла от круглого отверстия, где виднеются темные нижние зубы, и от точеного носа, который один лишь не тронут возрастом, разрухой лет.
Байрон смотрит сверху на спящее лицо, и кажется ему, будто бежал, отрекся человек от собственного носа, который хранит непреклонную гордость и мужество над раздрызгом поражения, как забытый флаг над уничтоженной крепостью. И опять свет, отражение неба за листвой шелковиц, заливает, белит линзы очков, так что Байрон не замечает, когда у Хайтауэра открываются глаза. Он видит только, что сомкнулись губы, и – движение сложенных рук перед тем, как Хайтауэр сел. «Да, – говорит священник, – да? Кто это?.. А, Байрон».
Байрон смотрит на него сверху, лицо у него очень серьезное. Но на этот раз сочувствия в нем нет. В нем нет ничего, кроме спокойствия и решимости. Он произносит без всякого выражения:
– Его вчера поймали. Вы, наверно, еще не слышали об этом, как об убийстве тогда не слышали.
– Поймали?
– Кристмаса. В Мотстауне. Он пришел в город и, как я понимаю, стоял там на улице, пока его не узнали.
– Поймали. – Хайтауэр уже сидит в кресле. – И вы пришли сказать мне, что его… Что они его…
– Нет. Ему пока ничего не сделали. Он пока жив. Он в тюрьме. Ничего не случилось.
– Не случилось. Вы говорите, ничего не случилось. Байрон говорит – ничего не случилось… Байрон Банч помог любовнику этой женщины продать товарища за тысячу долларов, и Байрон говорит, что ничего не случилось. Прятал женщину от отца ее ребенка, пока… Сказать ли мне – другой любовник, Байрон? Сказать? Или воздержаться от правды, если Байрон Банч ее скрывает?
– Если молва и правда – одно и то же, тогда, наверно, это правда. Особенно когда люди узнают, что я их обоих упрятал в тюрьму.
– Обоих?
– С Брауном. Хотя, наверно, большинство народу думает, что Браун способен убить или помочь в убийстве не больше, чем поймать того, кто убил, или помочь в поимке. Зато теперь они спокойно могут сказать, что Байрон Банч упрятал его в тюрьму для своего удобства.
– А-а, да. – Голос Хайтауэра, слабый и тонкий, слегка дрожит. – Байрон Банч, страж общественного блага и нравственности. Наследник, получатель премии, поскольку теперь она достанется морганатической жене… Сказать чьей? Внести ли Байрона и сюда? – Тут он начинает плакать – громадный и расслабленный, в провисшем кресле. – Я так не думаю. Вы же понимаете. Но это несправедливо – беспокоить, тревожить меня, когда я… когда я приучил себя держаться… они меня приучили держаться… Чтобы это пришло ко мне, настигло меня, когда я уже старик и примирился с тем, что они сочли… – Один раз он сидел перед Байроном, и пот катился по его лицу, как слезы; теперь же слезы катятся по дряблым щекам, как пот.
– Я знаю. Это нехорошо. Нехорошо вас беспокоить. Я не знал. Я не знал, когда ввязывался в эту историю. А то бы я… Но вы духовное лицо. Вы не можете уклониться.
– Я не духовное лицо. И не по своей воле. Не забывайте этого. Не по своему выбору я перестал быть духовным лицом. Это произошло по воле – больше, чем по повелению – таких, как вы и как она, как тот, в тюрьме, и как те, кто посадил его туда, чтобы совершить над ним свою волю, как совершили надо мной, с глумлением и насилием, – хотя он создан тем же самым Богом, который создал их, и ими же самими доведен до того, за что они сегодня готовы растерзать. Выбор был не мой. Не забывайте этого.
– Знаю. Потому что человеку не так часто приходится выбирать. Вы выбрали еще раньше. – Хайтауэр смотрит на него. – Вам дано было выбирать до того, как я родился, и вы выбрали, когда ни меня, ни ее, ни его не было на свете. Вот когда вы выбрали. И, по-моему, хорошие так же должны расплачиваться за свой выбор, как дурные. Так же, как она, как он, как я. Так же, как все они, остальные, как та, другая женщина.
– Другая женщина? Еще одна женщина? Неужели на шестом десятке мою жизнь должны поломать и мой мир нарушить – две пропащие женщины?
– Эта другая – уже не пропащая. Она пропадала тридцать лет. Но теперь нашлась. Она – его бабушка.
– Чья бабушка?
– Кристмаса, – говорит Байрон.
Дожидаясь, наблюдая за улицей и калиткой из темного окна кабинета, Хайтауэр слышит далекую музыку, как только она начинается. Он не сознает, что ожидал ее, что каждую среду и воскресенье, вечером, сидя у темного окна, он ждет, когда она начнется. Когда она начнется, он знает почти с секундной точностью, не прибегая к помощи часов. Часами он не пользуется и не нуждается в них вот уже двадцать пять лет. Он живет, отмежевавшись от механического времени. Но именно поэтому ни разу его не упустил. Как будто из подсознания возникая, без участия воли, кристаллизуются несколько неизменных состояний, которыми управлялась и упорядочивалась его прошлая жизнь в действительном мире. Не обращаясь к часам, он может сразу сообразить, где именно он был бы и что делал бы между двумя мгновениями, отмечавшими начало и конец воскресной утрени, и воскресной вечерни, и ночной службы в среду; когда именно он входил бы в церковь, когда именно с расчетом подводил бы к концу молитву или проповедь. И вот, прежде чем сумерки погаснут окончательно, он говорит себе Сейчас они собираются, медленно подходят по улицам и сворачивают, здороваясь друг с другом: группами, парами, поодиночке. И в самой церкви непринужденно переговариваются тихими голосами; дамы помахивают и чуть шелестят веерами, кивая друзьям, которые идут по проходу. Мисс Карудерс (она была его органисткой и умерла почти двадцать пять лет назад) тоже среди них; скоро она встанет и поднимется на хоры Воскресная вечерняя служба. Ему всегда казалось, что в этот час человек ближе всего к Богу – ближе, чем в любой другой час за все семь дней. Только тут – из всех церковных собраний – есть что-то от покоя, в котором – обетование и цель Церкви. Тут очищаются сердце и ум, если им дано очиститься; неделя и всяческие ее беды кончены, подытожены, искуплены строгим и чинным неистовством утренней службы; грядущая неделя и всяческие ее беды еще не родились, сердцу покойно пока, ласковой прохладой веет на него вера и надежда.
Сидя у темного окна, он будто видит их. Вот они собираются, входят в дверь. Почти все уже здесь. И он начинает говорить: «Сейчас. Сейчас», чуть подавшись вперед; и вот, словно по его сигналу, начинается музыка. Глубокая, раскатистая, разносится в летней ночи мелодия органа, слитная и широкая, воспаряет смиренно, словно сами освобожденные голоса принимают позы и формы распятий; восторженно, величественно и проникновенно набирает звучность. Но даже теперь в музыке слышится что-то суровое, неумолимое, обдуманное, и не столько страсти в ней, сколько жертвенности, она просит, молит – но не любви, не жизни, их она запрещает людям, – как всякая протестантская музыка, в возвышенных тонах она требует смерти, словно смерть – благо. Словно одобрившие ее и возвысившие свои голоса, чтобы восхвалить ее в своей хвале – воспитанные и взращенные на том, что восхваляет и символизирует их музыка, они самой хвалой своей мстят тому, на чем взращены и воспитаны. Он слушает, и слышится ему в этом апофеоз его собственной истории, его земли, племенного в его крови: народа, который его породил и окружает, который не способен ни пережить наслаждение или беду, ни уклониться от них – без свары. Наслаждение, восторг, кажется, для него невыносимы: он спасается от них в буйстве, в пьянстве, в драке, в молитве; от бед – тоже, в таком же буйстве, по-видимому неискоренимом. Так стоит ли удивляться, что их религия заставляет людей казнить себя и друг друга? думает он. Ему слышится в музыке объявление и освящение того, что им уготовано сделать завтра и о чем они уже знают. Ему кажется, что прошлая неделя пронеслась как бурный поток, а грядущая неделя, которая наступит завтра, – пропасть, и сейчас, на кромке обрыва, поток исторгнул единый, слитный, зычный, суровый крик – не оправдание, но последний салют перед тем, как низринуться в бездну – и не Богу вовсе, а обреченному человеку за решеткой, который слышит их и две другие церкви, и казня которого они тоже воздвигнут крест. «И сделают это с радостью», – говорит он в темное окно. Он ощущает, как сжимаются его губы и вздуваются желваки на челюстях от какого-то предчувствия, от чего-то еще более ужасного, чем смех. «Ибо пожалеть его – значило бы допустить, что они сомневаются в себе, сами надеются на жалость и нуждаются в ней. Они сделают это с радостью, с радостью. Вот почему это так ужасно, ужасно, ужасно». Затем, подавшись вперед, он видит, как к дому подходят трое людей и сворачивают в калитку – силуэтами, против уличного фонаря, между теней. Он уже узнал Байрона и теперь смотрит на тех двоих, которые следуют за ним. Он понимает, что это мужчина и женщина, но если бы не юбка, они были бы почти неразличимы: одного роста и одинаковой ширины, вдвое плотнее обыкновенного мужчины или женщины, они похожи на двух медведей. Он начинает смеяться, еще не приготовясь к тому, чтобы оборвать смех. «Байрону – только пестрый платок на голову и серьги», – думает он и смеется, смеется беззвучно, стараясь совладать с собой, потому что сейчас постучит Байрон и надо будет открыть ему дверь.
Байрон вводит их в кабинет – приземистую женщину с совершенно неподвижным лицом, в багровом платье и шляпе с пером, с зонтом в руке, и мужчину, невероятно грязного и, должно быть, невероятно старого, с козлиной бородкой, пожелтелой от табака, и безумными глазами. Входят они не робко, но как-то по-кукольному, словно их приводит в движение примитивный пружинный механизм. Из них двоих женщина выглядит более уверенной или по крайней мере более здравой. И хотя ее действия отмечены скованностью, тупым автоматизмом, кажется, что она пришла сюда с определенной целью или по крайней мере неясной надеждой. Старик же – и Хайтауэру это ясно с первого взгляда – находится в прострации, словно не сознает и ничуть не интересуется, где он; но при этом в нем таится подспудная взрывчатость – он в забытьи и вместе с тем настороже.
– Это она, – тихо говорит Байрон. – Это миссис Хайнс.
Они стоят без движения: женщина – точно достигнув цели долгого путешествия, в незнакомом месте, среди незнакомых лиц – ждет, тихо, окоченело, как раскрашенное каменное изваяние; и мужчина – спокойный, отсутствующий, но подспудно яростный и очень грязный. Оба они как будто и не взглянули на хозяина – ни с любопытством, ни равнодушно. Он жестом предлагает сесть. Байрон подводит женщину к стулу, и она садится осторожно, не выпуская зонтика. Мужчина садится сразу. Хайтауэр занимает свое место за столом.
– О чем она хочет со мной говорить? – спрашивает он.
Женщина не шевелится. Видимо, она не слышала. Она выглядит как человек, который совершил трудное путешествие за чем-то обещанным, а теперь опустил руки и ждет.
– Это он, – говорит Байрон. – Преподобный Хайтауэр. Скажите ему. Скажите то, что желали ему сообщить. – Она смотрит на Байрона, но лицо ее ничего не выражает. Если за этим кроется бессловесность, то дар речи сведен на нет неподвижностью самого лица; если надежда или стремление, то их не видно и тени. – Скажите ему, – говорит Байрон. – Скажите, почему вы пришли. Зачем приехали в Джефферсон.
– Потому что… – говорит она. Голос ее неожиданно низок, почти груб, хотя и негромок. Она как будто сама не ожидала, что речь ее окажется такой шумной; она умолкает, словно в изумлении перед собственным голосом, и переводит взгляд с одного лица на другое.
– Расскажите, – говорит Хайтауэр. – Постарайтесь рассказать.
– Потому что я… – Снова голос смолкает, обрывается, словно изумившись самому себе – хотя он по-прежнему негромок. Кажется, что эти три слова – препятствие, которого ее голос не может преодолеть; почти заметно, как она заставляет себя их обойти. – Я так и не видела, как он ходит своими ножками, – говорит она. – Тридцать лет его не видела. Чтобы он ходил своими ножками или мог выговорить свое имя…
– Скотство и омерзение! – вдруг произносит старик. Голос у него высокий, пронзительный, сильный. – Скотство и омерзение! – Затем он умолкает. Из сомнамбулического и настороженного своего забытья он выкрикивает, внезапно и исступленно, как шаман, три слова – и все.
Хайтауэр смотрит на него, затем на Байрона. Байрон тихо объясняет:
– Он – ребенок их дочери. Он, – легким движением головы указав на старика, который впился в Хайтауэра горящим бешеным взглядом, – он взял его сразу после рождения и унес. Она не знала, что он с ним сделал. Не знала даже, жив он или нет, покуда…
Старик опять прерывает их, с той же ошеломляющей внезапностью. Но на этот раз он не кричит: теперь его голос так же спокоен и рассудителен, как у самого Байрона. Он говорит ясно, только немного отрывисто:
– Да. Старый Док Хайнс забрал его. Бог помог старому Доку Хайнсу, так что старый Док Хайнс тоже помог Богу. И Бог свою волю возвестил через уста детишек. Детишки ему кричали «Нигер! Нигер!» перед Богом и перед людьми тоже, волю Божью говорили. А старый Док Хайнс сказал Богу: «Но этого мало. Они, детишки, промеж себя и похуже обзываются, чем нигером», и Бог сказал: «Ожидай и доглядывай, потому что некогда мне возиться с развратом и скотством на вашей земле. Я отметил его и теперь сделаю так, чтобы люди знали. А тебя ставлю караульщиком и хранителем моей воли. Тебе велю следить и надзирать за этим». – Голос его обрывается. Не замирает постепенно, а просто прекращается – точно иглу с граммофонной пластинки сняла рука человека, который не слушал запись. Хайтауэр переводит взгляд с него на Байрона – тоже почти горящий.
– Что это? Что это значит? – говорит он.
– Я хотел устроить так, чтобы она пришла и поговорила с вами без него, – говорит Байрон. – Да оставить его было негде. Она говорит, что должна за ним следить. Вчера в Мотстауне он подстрекал людей, чтобы его линчевали – не зная даже, в чем тот провинился.
– Линчевали? – говорит Хайтауэр. – Линчевали его внука?
– Так она говорит, – ровным тоном отвечает Байрон. – Говорит, что он и сюда за этим приехал. И ей тоже пришлось ехать, чтобы ему помешать.
Опять начинает говорить женщина. Возможно, она слушала. Но лицо ее так же мертво, лишено выражения, как и вначале; безжизненный ее голос раздается внезапно, почти как голос старика.
– Он пятьдесят лет такой. Больше пятидесяти, пятьдесят – это сколько я с ним мучаюсь. Он и до того, как мы поженились, все время дрался. И в ту ночь, когда родилась Милли, его посадили за драку. Вот что мне пришлось от него терпеть. Он говорил, что должен драться, потому что он ростом меньше других людей, и они хотят им помыкать. Это у него от суетности и гордыни. Но я говорила, что это в нем – от дьявола. И что когда-нибудь дьявол нападет на него врасплох и скажет: «Юфьюс Хайнс, я пришел за данью». Вот что я ему сказала на другой день после того, как Милли родилась, и я головы не могла поднять от слабости, а его опять только что выпустили из тюрьмы. Я ему так и сказала: ведь это Бог его предостерегает и знак подает: в тот самый день и час, когда у него родилась дочка, он сидел в тюрьме, и это – знамение небесное, что не доверяет ему Господь воспитывать свою дочь. Знамение Господа свыше, что город (он тогда кондуктором был на железной дороге) ничего ему не приносит, кроме вреда. И он тогда сам это понял, потому что это было знамение, и мы в городах больше не селились, а потом он сделался мастером на лесопилке и хорошо зарабатывал, потому что не называл еще имени Господа Бога всуе и в гордости, чтобы дьявола в себе извинить и оправдать. Так что ночью, когда Лем Буш по дороге домой из цирка проехал на повозке мимо и не остановился, и Милли с ним не было, и Юфьюс вошел в дом и повыкидывал вещи из ящика в комоде, чтобы добраться до пистолета, я сказала: «Юфьюс, это дьявол в тебе говорит. Не из-за того, что Милли нужно выручать, ты сейчас распалился», – а он сказал: «А хоть и дьявол. А хоть и дьявол», – и ударил меня, и я лежу на кровати, смотрю… – Она умолкает. Но – на падающей интонации, словно завод вышел на половине пластинки. Снова Хайтауэр переводит с нее на Байрона гневно-изумленный взгляд.
– Я то же самое слышал, – говорит Байрон. – Тоже сперва было трудно разобрать, что к чему. Они жили при лесопилке, где он был мастером, в Арканзасе. Девушке тогда было лет восемнадцать. Как-то ночью мимо лесопилки проезжал цирк – в город. Стоял декабрь, дожди все время, и под одним фургоном проломился настил моста, от них неподалеку; пришли к ним люди, разбудили его и попросили тали, чтобы вытащить фургон…
– Бабья плоть, омерзение Господне! – вдруг выкрикивает старик. Затем его голос стихает, слабнет, как будто он только хотел привлечь внимание. Он опять говорит быстро, речь его убедительна, туманна, фанатична, и он опять рассказывает о себе в третьем лице. – Он знал. Старый Док Хайнс знал. Он уже видел на ней, у ней под одежей, бабью примету Господнего омерзения. Он пошел, надел плащ, зажег фонарь, вернулся, а она уже стоит в дверях, тоже в плаще, и он сказал: «Ступай обратно, ложись», а она сказала: «Я тоже хочу пойти», и он сказал: «Ступай обратно в комнату и ложись», и она ушла, а он пошел и взял в цеху большие тали и вытащил фургон. Чуть ли не до зари работал и думал, что послушалась отцовского приказа, Господом данного. Но надо было знать. Надо было знать бабью плоть, омерзение Господне; надо было знать скотство и мерзость в ходячем облике, уже смердящем в глазах Господних. Чтобы старый Док Хайнс поверил россказням, будто он мексиканец. Когда старый Док Хайнс видел на морде его черное проклятие Господа Всевышнего. Чтобы россказням этим…
– Что? – говорит Хайтауэр. Говорит громко, словно надеясь своим голосом заглушить старика. – Что это значит?
– Парень был из цирка, – объясняет Байрон. – Она ему сказала, что парень мексиканец, – дочь сказала, когда он ее догнал. Может быть, сам парень ей так сказал. А он, – опять показывая на старика, – как-то узнал, что в парне – негритянская кровь. Может, ему другие из цирка сказали. Не знаю. Он и не обмолвился ни разу, откуда ему известно, – как будто это не имеет значения. Да, пожалуй, и не имело – после того, что случилось в следующую ночь.
– В следующую ночь?
– Видно, она все-таки ушла в ту ночь, когда застрял цирк. Он говорит, что ушла. По крайней мере так он себя повел, – если бы он этого не знал и если бы она не сбежала, он бы ничего такого не сделал. Потому что на другой день она отправилась в цирк с соседями. Он ее отпустил – не знал еще, что она уходила прошлой ночью. И когда она садилась к соседу в повозку, нарядившись по-выходному, он тоже еще ничего не подозревал. Но ночью, когда сосед возвращался, он их ждал и слышал, как повозка проехала мимо, словно и не собиралась останавливаться, чтобы высадить девушку. Он выбежал, окликнул их, и сосед остановил повозку, но девушки там не было. Сосед сказал, что она распрощалась с ними возле цирка и хотела заночевать у другой девушки, которая жила милях в шести от города, и сосед удивлялся, как же Хайнс этого не знал – ведь, когда она садилась в повозку, у нее был саквояж. Хайнс саквояжа не видел. И она, – Байрон показывает на каменноликую женщину; непонятно, слушает она его или нет, – она говорит, что вел его дьявол. Она говорит, что он не больше нее знал, где девушка, однако вернулся в дом, взял пистолет, сшиб ее на кровать, когда она попробовала его остановить, оседлал лошадь и ускакал. И она говорит, что он выбрал единственный короткий путь, который годился, угадал в темноте – единственный из пяти или шести, которым можно было их догнать. При том, что знать он не мог, какой дорогой они поехали. Но знал. Нашел их, как будто с самого начала знал, где они будут, как будто сам с тем человеком, про которого девушка сказала, что он мексиканец, уговорился там встретиться. Как будто знал. Тьма была кромешная, и даже когда он нагнал коляску, он все равно бы не мог определить, что нужна ему именно эта. Но поскакал прямо за ней – за первой коляской, которую увидел ночью. Подъехал к ней с правой стороны, нагнулся и в кромешной тьме, не говоря ни слова, на скаку, схватил человека, который мог оказаться и посторонним, и соседом, и кем угодно – ведь он его в глаза никогда не видел. Схватил его одной рукой, а другой – приставил к нему пистолет и застрелил, а девушку привез домой, посадив ее сзади на лошадь. Коляску и убитого оставил на дороге. Между прочим, опять шел дождь.
Он умолкает. И сразу начинает говорить женщина, будто только и ждала в нетерпеливом оцепенении, чтобы Байрон умолк. Она говорит тем же неживым, ровным голосом: два голоса монотонно чередуются – строфой и антистрофой[41]; два бесплотных голоса рассказывают, как во сне, о чем-то, содеянном в краю без расстояний[42] – людьми без крови:
– Я лежала на кровати и слышала, как он вышел, а потом услышала, как вывел лошадь из конюшни и мимо дома проскакал. Я лежала одевшись и смотрела на лампу. Керосин выгорал, потом я встала, отнесла ее на кухню, заправила, нагар с фитиля сняла, а потом разделась и легла, при лампе. А дождь все шел, и было холодно, потом я услышала – лошадь вернулась на двор, у крыльца остановилась, я встала, накинула шаль и слышу – входят в дом. Вперед Юфьюса шаги, потом Милли, прошли по передней к двери, и Милли в дверях стоит – лицо и волосы от дождя мокрые, новое платье все в грязи, а глаза закрыты, и тогда Юфьюс ударил ее, и она упала на пол, лежит, а в лице не переменилась ни капли – какая стояла, такая лежит. А Юфьюс – в дверях, тоже мокрый, грязный, и говорит мне: «Дьяволу, ты сказала, прислуживаю. Вот я привез тебе дьявола посев. Спроси, что она в себе носит. Спроси у ней». А я до того уж устала и озябла… говорю ему: «Что случилось?» – а он сказал: «Поди туда да посмотри в грязи – увидишь. Ее он, может, и обманул, что он мексиканец. Но меня-то он не обманул. Да и ее не обманывал. Нужды не было. Ты сказала тогда, что придет ко мне дьявол за данью. Он и пришел. Проститутку родила мне жена. Но он хотя бы помог, как умел, когда пришла пора рассчитаться. Он указал мне дорогу и направил пистолет верно».
Вот я и думала порой, что дьявол одолел Бога. Оказалось, что у Милли будет ребенок, и Юфьюс начал искать врача, который бы это исправил. Я думала, он найдет, и порой казалось, что пусть уж останется как есть, раз мужчине с женщиной надо жить на земле. А порой я надеялась, что он найдет, – до того я намучилась, пока суд тянулся, а хозяин цирка пришел и сказал, что человек тот действительно был не мексиканец, а с негритянской кровью, как Юфьюс все время говорил, – словно дьявол шепнул ему, что он нигер. А Юфьюс опять брал пистолет и говорил, что добудет врача живого или мертвого, и уходил, и пропадал неделями, и люди про это знали, а я все уговаривала Юфьюса уехать, потому что ведь только этот из цирка сказал, что он нигер, и, может, он точно не знал, а потом ведь он тоже уехал и едва ли нам снова встретится. Но Юфьюс уезжать не хотел; у Милли уже срок подходит, а Юфьюс со своим пистолетом все ищет доктора, который бы согласился. А потом я услышала, что он опять в тюрьме; что он ходил по церквам, по молитвенным собраниям в тех местах, где пробовал найти врача, и на одном молитвенном собрании встал и взошел на кафедру и сам начал проповедовать, кричать против негров, чтобы белые люди поднялись и всех их убили, и люди в церкви заставили его замолчать и сойти с кафедры, а он угрожал им пистолетом, прямо в церкви, пока не пришла полиция и не забрала его, и он первое время был как помешанный. И узнали про то, как он избил доктора в другом городе и сбежал, успел скрыться. Так что, когда он вышел из тюрьмы и вернулся домой, Милли уже ждала ребенка со дня на день. И я подумала, что он отступился, признал наконец волю Божью – потому что дома не скандалил и даже когда детские вещи нашел, что мы с Милли приготовили, все равно ничего не сказал, спросил только, скоро ли. Каждый день спрашивал, и мы думали, что он отступился, что, может быть, по церквам походивши да в тюрьме посидевши, смирился он, как той ночью, когда Милли родилась. И вот подошел срок, разбудила меня ночью Милли и говорит, что началось, я оделась и велела Юфьюсу идти за доктором, он оделся и пошел. А я собрала что нужно, и ждем, и уж пора бы Юфьюсу с доктором воротиться, а его все нет, еще подождала – вот-вот, кажется, доктор должен прийти; вышла на крыльцо и вижу: на верхней ступеньке Юфьюс сидит с ружьем на коленях и говорит мне: «Ступай обратно в дом, проституткина мать», – я говорю: «Юфьюс», – а он поднял ружье и сказал: «Ступай обратно в дом. Пускай дьявол сам соберет свою жатву: он ведь сеял». Я хотела выйти черным ходом, а он услышал, обежал с ружьем круг дома, стволом меня ударил, и я пошла обратно к Милли, а он за дверью в передней стоял, чтобы Милли видеть, пока она не умерла. Тогда он подошел к кровати, посмотрел на ребеночка и поднял его, выше лампы поднял, будто ждет, увидеть хочет, кто верх возьмет – Господь или дьявол. А я до того замучилась, сижу у кровати, а на стене перед глазами – тень его, рук его тень и мальчика, высоко на стенке. И подумала я тогда, что Господь одолел. А теперь не знаю. Положил он мальчика в постель рядом с Милли и ушел. Слышу, в переднюю дверь вышел, встала я тогда, плиту затопила, молока согрела…
Она умолкает; грубый заунывный голос замер. Смотрит на нее через стол Хайтауэр: застывшая, каменноликая женщина в багровом платье с тех пор, как вошла в комнату, ни разу не пошевелилась. Потом она снова начинает говорить, не двигаясь, почти не шевеля губами, словно она кукла, а говорит чревовещатель в соседней комнате.
– И пропал Юфьюс. Хозяин лесопилки тоже не знал, куда он девался. Нанял другого мастера, но меня пока из дома не выгнал, потому что где Юфьюс, не знаем, а уже зима подходит, и у меня ребенок на руках. И где Юфьюс – про то я знала не больше мистера Гилмана, пока письмо не пришло. Из Мемфиса, а в нем – почтовый перевод и ни слова. Так что я опять ничего не узнала. А потом, в ноябре, пришел еще перевод, и опять без письма. А я до того замучилась… а потом за два дня до Рождества вышла на задний двор дров наколоть, возвращаюсь домой – а мальчика нет. От силы на час отлучилась и, кажется, должна была бы видеть, как он вошел и вышел. А не заметила. Только записка лежит от Юфьюса – на подушке, которую с краю подкладывала, чтобы мальчик не скатился с кровати… и до того я измучилась. Все ждала, а после Рождества приехал Юфьюс и ничего мне не объяснил. Сказал только, что мы переезжаем, и я подумала, он ребенка вперед увез, а теперь за мной вернулся. И не говорит, куда мы едем, только – что недалеко, а я с ума схожу, волнуюсь, как там без нас ребенок, а он все равно не говорит, и я прямо думала, никогда не доедем. Потом приехали, а мальчика нет, я ему: «Говори, что ты сделал с моим Джо. Говори сейчас же, – а он посмотрел на меня, как той ночью на Милли смотрел, когда она лежала и умирала, и говорит: «Это омерзение Господне, и я орудие его воли». А на другой день пропал, и я не знала, куда он девался, а потом пришел еще перевод, и на другой месяц Юфьюс приехал домой и сказал, что работает в Мемфисе. И я поняла, что он спрятал Джо где-то в Мемфисе, и подумала – хорошо хоть так, хоть он там за ним присмотрит, раз уж я не могу. Знала, что надо ждать, покуда Юфьюс сам не пожелает сказать мне, и каждый раз думала, что, может быть, в другой раз он возьмет меня с собой в Мемфис. И ждала. Шила, костюмчики делала для Джо, все, бывало, подготовлю к приезду Юфьюса, все, бывало, допытываюсь, годятся ли они моему Джо и как он там, здоров ли, а Юфьюс ничего не говорил. Сядет, бывало, с Библией и начнет читать, громко – а слушаю-то я одна, – громко читает, кричит прямо, будто думает, не верю я тому, что в Библии сказано. Пять лет ничего мне не говорил, и я не знала даже, отвозит он мальчику, что я нашила, или нет. А спрашивать боялась, не хотела его сердить, думаю, ладно хоть он там, где Джо, раз уж меня нету. Пять лет прошло, и вот является он раз домой и говорит: «Мы переезжаем», – и я подумала, что теперь-то я его увижу; если был грех, думаю, мы сполна за него расплатились, и я даже Юфьюса простила. Потому что думала, на этот раз мы наконец-то едем в Мемфис. Только не в Мемфис мы поехали. В Мотстаун. Через Мемфис проезжать пришлось, и уж как я его упрашивала. Первый раз за все время просила. Просила – хоть на минуту, на секунду; не потрогать, не поговорить – так просто. А Юфьюс не позволил. Мы даже со станции не вышли. Сошли с поезда и семь часов другого поезда ждали, со станции не выходя, и приехали в Мотстаун. А Юфьюс больше не поехал в Мемфис на работу, и я немного погодя сказала: «Юфьюс», он на меня посмотрел, а я говорю: «Я пять лет ждала и никогда к тебе не приставала. Можешь ты хоть раз сказать мне, жив он или нет?» А он сказал: «Нет его в живых», и я спросила: «Нет в живых на свете или только для меня? Пускай, если только для меня. Скажи мне хоть это, ведь я пять лет к тебе не приставала», а он сказал: «Ни для тебя его нет в живых, ни для меня, ни для Бога, ни для всего света Божья – нет в живых и никогда не будет».
Она снова умолкает. С тихим безнадежным изумлением смотрит на нее из-за стола Хайтауэр. Байрон тоже неподвижен, голова его слегка опущена. Они трое – как три береговых камня, обнаженных отливом, – они, но не старик. Сейчас он слушал почти внимательно, со свойственной ему способностью мгновенно переходить от полного внимания, когда он все равно, кажется, не слышит, к полуобморочному забытью, когда взгляд его, по-видимому обращенный внутрь, стесняет человека так, будто он держит его рукой. Вдруг он разражается кудахтающим смехом, бодрым, громким, безумным; невероятно старый, невероятно грязный, он начинает говорить:
– Это был Господь. Это он был. Старый Док Хайнс тоже пособил Богу. Господь сказал старому Доку Хайнсу, что делать, и старый Док Хайнс сделал. Тогда Господь сказал старому Доку Хайнсу: «Теперь следи. Следи, как исполняется моя воля». И старый Док Хайнс следил и слышал из уст детишек, Божьих сирот, куда он вложил свои слова и разумение, когда они сами разуметь не могли, потому что безгрешные, даже девочки, греха и скотства не познавши: «Нигер! Нигер!» – из уст детишек невинных. «Что я тебе говорил?» – сказал Господь старому Доку Хайнсу. «А теперь я постановил мою волю на исполнение, и я ухожу. Нет тут больше такого греха, чтобы мне с ним вожжаться, потому что какое мне дело до блудодейства потаскухина, ежели и оно для моей цели служит», а старый Док Хайнс спросил: «Как это – и блудодейство потаскухино для вашей цели служит?», а Господь сказал: «Жди, увидишь. Ты думаешь, случайно я послал молодого доктора, чтобы он нашел омерзение мое, в одеяло завернутое, на крыльце в ночь под Рождество? Ты думаешь, случайно начальница была тогда в отлучке, чтоб молодые потаскухи могли назвать его Кристмасом, над сыном моим кощунствуя? И теперь я ухожу, потому что наладил мою волю исполняться, а тебя оставляю здесь доглядывать». И старый Док Хайнс – он ждал и доглядывал. Из котельни Господней доглядывал за ними, детишками, и дьявольское семя ходячее, незнаемое между них, землю сквернило, и слово то на нем сбывалось. Потому что с другими детишками он больше не играл. Все сам по себе – стоит тихонько, и тогда понял старый Док Хайнс, понял, что слушает он тайное предупреждение о Божьей каре, и сказал ему старый Док Хайнс: «Почему ты не играешь с другими детишками, как раньше?» – а он молчит, и старый Док Хайнс сказал ему: «Потому что нигером кличут?» – а он молчит, и старый Док Хайнс сказал ему: «Ты думаешь, ты нигер, потому что Бог лицо твое отметил?» – а он сказал: «А Бог – тоже нигер?» – и старый Док Хайнс сказал ему: «Он – Господь Бог сил гневных, воля его сбудется. Не твоя и не моя, потому что ты и я для его цели и его отмщения служим». И он пошел прочь, а старый Док Хайнс глядел, как он внемлет и слушает карающую волю Божью, и увидел старый Док Хайнс, как следит он за нигером, что по двору работал, и ходит за ним во время работы, покуда нигер ему не сказал: «Ты чего за мной надзираешь, мальчик?» – а он спросил: «Как вышло, что ты нигер?» – и нигер сказал: «Кто сказал тебе, что я нигер, белая сопливая рвань?» – а он говорит: «Я не нигер», а нигер говорит: «Ты еще хуже. Ты сам не знаешь, кто ты есть. И еще того больше – никогда не узнаешь. Будешь жить, умрешь, и все равно не узнаешь», а он говорит: «Бог не нигер», а нигер говорит: «Тебе лучше знать, кто такой Бог, потому что один Бог знает, кто ты сам такой». Но Бог не сказал, его там не было, потому что он наладил свою волю исполняться, а доглядывать оставил старого Дока Хайнса. С той самой первой ночи, когда он в святую годовщину сына своего наладил ее исполняться, он поставил старого Дока Хайнса доглядывать. Холодная ночь была, и старый Док Хайнс стоял в темноте как раз за углом, чтобы видеть крыльцо и выполнение воли Божьей, и видел, как этот доктор молодой пришел в разврате и блудодействе и встал, и нагнулся, и поднял омерзение Господне, и внес его в дом. А старый Док Хайнс, он шел за ним, он видел и слышал. Он видел, как они одеяло разворачивали – молодые потаскухи те, святую годовщину Господню осквернявшие гоголь-моголем ромовым и водкой, пока начальницы не было. И она, Иезавель докторская, была орудием Господним, она сказала: «Назовем его Кристмасом», и другая сказала: «Кристмас – а еще? Кристмас – а дальше как?», и Бог велел старому Доку Хайнсу: «Скажи им», и все они, скверной дыша, поглядели на старого Дока Хайнса и загалдели: «А-а, это дядя Док. Посмотри, дядя Док, что нам Дед Мороз принес и положил на ступеньки», а дядя Док сказал: «Его зовут Джозеф», и тогда перестали смеяться, поглядели на старого Дока Хайнса, и Иезавель та сказала: «Откуда вы знаете?» – а старый Док Хайнс сказал: «Так сказал Господь», и тогда они обратно засмеялись и загалдели: «И в Писании так: Кристмас, сын Джо[43] – Иосифа, значит. Джо, сын Джо. Джо Кристмас», они сказали: «За Джо Кристмаса», – и хотели заставить старого Дока Хайнса тоже выпить за омерзение Господне, но он ихнюю чашу оттолкнул. Ему надо было только ждать и доглядывать, и он ждал, и пришел срок Господень выйти злу из зла. Прибежала Иезавель докторская от ложа похоти своей, смердящая грехом и страхом. «Он спрятался за кроватью», – говорит, и старый Док Хайнс сказал ей: «Сама пользовалась этим мылом надушенным, искусительным – себе на погибель, Господу во омерзение и поругание. Сама и наказание понесешь», а она сказала: «Вы можете с ним поговорить. Я видела, как вы разговаривали. Вы могли бы его убедить», и старый Док Хайнс сказал ей: «Нет ему дела до блуда твоего, а мне и подавно», а она говорит: «Он донесет, и меня уволят. Я буду опозорена». Воняя похотью и блудом, стояла перед старым Доком Хайнсом, и воля Божья исполнялась над ней, потому что осквернила дом, где Бог приютил своих сирот. «Ты – ничто, – сказал старый Док Хайнс. – Ты и все потаскухи. Вы орудие гневной цели Божьей, а без нее малая птица не упадет на землю[44]. Ты орудие Бога, все равно как Джо Кристмас и старый Док Хайнс». И она пошла прочь, а старый Док Хайнс, он ждал и доглядывал, и в скором времени она опять пришла, и лицо у ней было как у лютого зверя пустынного. «Я его пристроила», – говорит, и старый Док Хайнс сказал: «Как пристроила?» – потому что никакой новости старому Доку Хайнсу она не принесла, потому что Господь не таил своей цели от избранного своего орудия, и старый Док Хайнс сказал: «Ты послужила предреченной воле Божьей. Теперь ступай с миром и пакости до Судного дня» – и лицо у ней было как у лютого зверя пустынного, и засмеялась раскрашенной грязью поганой над Господом. И пришли, и забрали его. Старый Док Хайнс видел, как его увезли в коляске, и пошел обратно ждать Бога, и Бог пришел и сказал старому Доку Хайнсу: «Теперь и ты ступай. Ты мою работу исполнил. Нет здесь больше зла, кроме бабьего зла, и не стоит оно того, чтобы избранное мое орудие за ним доглядывало». И старый Док Хайнс ушел, когда Господь велел ему уйти. Но с Господом связь держал и сказал ему ночью: «А ублюдок, Господи?» – и Господь сказал: «Он еще ходит по моей земле», и старый Док Хайнс держал связь с Господом и сказал ему ночью: «А ублюдок, Господи?» – и Господь сказал: «Он еще ходит по моей земле» – и старый Док Хайнс держал связь с Господом, и однажды ночью он бился, и боролся, и воззвал громко: «А ублюдок, Господи? Чувствую! Чувствую клыки и когти зла!» – и Господь сказал: «Это – он, ублюдок. Твои труды еще не кончены. Он – скверна и мерзость на земле моей».
* * *
Музыка в далекой церкви давно смолкла. В открытое окно доносятся только мирные и несметные звуки летней ночи. За столом сидит Хайтауэр, больше чем когда-либо напоминая неуклюжего зверя, которого обманом и хитростью удержали от бегства, а теперь обложили – те самые, кто обманул и перехитрил его. Остальные трое сидят, обратив к нему лица, почти как судьи. Двое из них тоже неподвижны: женщина, каменноликая и терпеливая, как скала, и старик, выгоревший, как фитилек безжалостно задутой свечки. Байрон один кажется одушевленным. Его лицо опущено. Может быть, он разглядывает свою руку, лежащую на коленях; большой и указательный пальцы ее медленно трутся друг о друга, как бы раскатывая что-то, и кажется, будто он наблюдает за ними задумчиво и увлеченно. Услышав Хайтауэра, Байрон понимает, что священник обращается не к нему, да и ни к кому из присутствующих в комнате.
– Чего они ждут от меня? – произносит он. – На что рассчитывают, надеются – что я, по их мнению, могу сделать?
В ответ – ни звука; ни старуха, ни старик, по-видимому, не слышали. Байрон и не предполагал, что старик услышит. «Ему помощь не нужна», – думает он. «Ему-то нет. Ему мешать нужно», – думает он, вспоминая полуобморочное и вместе с тем маниакально-напряженное забытье, в котором вот уже двенадцать часов – с тех пор как они встретились – пребывает старик, таскаясь с места на место за своей женой. «Ему мешать нужно. Не ей одной, пожалуй, повезло, что он такой беспомощный». Он наблюдает за женщиной. И произносит тихо, почти ласково:
– Продолжайте. Скажите ему, чего вы хотите. Он хочет знать, чего вы от него хотите. Скажите ему.
– Я думала… – начинает она. Она говорит не шелохнувшись. Голос у нее не столько неуверенный, сколько скрипучий, точно его вынуждают произносить что-то, лежащее за пределами речи, – то, что можно только знать, чувствовать. – Мистер Банч сказал, что может быть…
– Что? – спрашивает Хайтауэр. Он говорит резко, нетерпеливо, несколько визгливым голосом; он тоже не пошевелился и сидит, откинувшись, в кресле, руки – на подлокотниках. – Что? Что может быть?
– Я думала… – Голос снова замирает. За окном – ровное гудение насекомых. Голос раздается снова, невыразительный, тусклый; при этом она сидит, тоже чуть опустив голову, словно прислушивается, внимательно и тихо, к собственному голосу: – Он – мой внучек, моей дочери сынок. Я только подумала, что если бы я… если бы он… – Байрон тихо слушает, думая Чудно, ей-богу. Можно подумать, они как-то поменялись. Как будто это у него должны повесить внука-нигера Голос продолжает: – Я знаю, нехорошо беспокоить чужого человека. Но вам посчастливилось. Холостой, одинокий мужчина, у него спокойная старость, он не знает горя любви. Но вы, наверно, все равно не поймете, даже если бы я складно могла сказать. Я только подумала – если бы хоть на один день сделалось так, как будто этого не было. Как будто люди никогда не знали его за человека, который убил… – Голос снова смолкает. Она не пошевелилась. Кажется, она прислушивается к молчанию так же, как раньше прислушивалась к своему голосу – с тем же интересом, так же тихо, без удивления.
– Продолжайте, – говорит Хайтауэр высоким нетерпеливым голосом, – продолжайте.
– Ведь когда я его видела, он ни ходить, ни говорить еще не умел. Тридцать лет я его не видела. Я не говорю, что он не сделал того, про что люди рассказывают. Что он не должен пострадать за это, как заставил страдать людей, которые любили и потеряли близких. Но если бы его хоть на денек могли отпустить. Как будто ничего этого еще не случилось. Как будто люди ничего еще против него не имеют. И было бы так, как будто он просто уехал надолго, стал за это время взрослым и вернулся. Если бы стало так хоть на один день. А после я бы не вмешивалась. Если он это сделал, то не мне защищать его от наказания. Только на один день, понимаете? Как будто он уехал надолго, вернулся и рассказывает мне про то, как ездил, и ни одна живая душа не держит против него зла.
– А-а, – говорит Хайтауэр высоким, пронзительным голосом. Он не двигается, костяшки рук, сжавших подлокотники кресла, побелели от напряжения, но видно, как под одеждой его начинает бить медленная сдерживаемая дрожь. – Вон что, – говорит он. – Всего-то. Это так просто. Просто. Просто. – Он, очевидно, не может остановиться. – Просто. Просто. – Сначала он говорил тихо; теперь он повышает голос. – Чего они от меня хотят? Что я теперь должен сделать? Байрон! Байрон! Чего им теперь от меня надо? – Байрон встал. Он стоит у стола, положив руки на крышку, лицом к Хайтауэру. Хайтауэр по-прежнему не шевелится, только дрожь все сильнее сотрясает его дряблое тело. – Ах да. Как же я не догадался. Ведь просить будет Байрон. Как же я не догадался. Это дело припасено для нас с Байроном. Давайте, давайте. Выкладывайте. Что же вы оробели?
Байрон смотрит на стол, на свои руки на столе.
– Нехорошо получается. Нехорошо получается.
– А-а. Соболезнования? Не поздновато ли? Соболезнования мне или Байрону? Давайте же, выкладывайте. Чего вы от меня хотите? Ведь это вы – я понимаю. Я понял сразу. Ах, Байрон, Байрон. Какой режиссер в вас пропадает.
– Вы, наверно, хотели сказать – коммивояжер, торговый агент, маклер, – говорит Байрон. – Нехорошо. Я сам знаю. Можете мне не говорить.
– Но я же не ясновидящий, как вы. Вы, кажется, заранее знаете, что я вам скажу, а сами не говорите того, что хотели бы довести до моего сведения. Чего вы от меня хотите? Чтобы я признал себя виновным в этом убийстве? Да?
По лицу Байрона пробегает обычная гримаса – слабая, сардоническая, усталая, невеселая.
– Да почти что. – Затем его лицо разглаживается; оно очень серьезно. – Нехорошо об этом просить. Бог свидетель, я это понимаю. – Он наблюдает за своей рукой, движущейся медленно, механически и бесцельно по крышке стола. – Помнится, я вам раз говорил, что быть хорошим – даром не дается, так же как быть плохим; за это тоже надо платить. И как раз хорошие люди не могут отказаться платить, когда им подают счет. Не могут потому, что заставить их платить никак нельзя – они вроде честных картежников. Плохие люди могут отказаться; потому-то никто и не ждет от них, что они расплатятся сразу или вообще когда-нибудь. А хорошие не могут. Может быть, хорошим приходится дольше расплачиваться, чем плохим. Но с вами это не в первый раз, ведь вы уже заплатили раз по счету вроде этого. Теперь не должно быть так же плохо, как тогда.
– Продолжайте. Продолжайте. Что же я должен сделать?
Байрон задумчиво следит за своей рукой, движущейся медленно и безостановочно.
– Он ведь так и не сознался, что убил ее. А улик у них – только слова Брауна, цена им – грош. Мы могли бы сказать, что он был у вас в ту ночь. И каждую ночь – когда Браун якобы видел, как он шел к большому дому и входил в него. Люди вам поверят. Все равно поверят. Они скорее поверят такому о вас, чем тому, что он жил с ней, как муж с женой, а потом убил ее. И вы уже старый. Теперь они с вами ничего страшного не сделают. А ко всему остальному, что они могут сделать, я думаю, вы уже привыкли.
– А-а, – говорит Хайтауэр. – Конечно. Конечно. Они поверят. Это будет очень просто и очень хорошо. Для всех хорошо. Тогда он вернется к людям, которые из-за него пострадали, а Брауна без премии можно будет запугать, чтобы он признал ребенка своим, а потом – опять сбежал, и уже навсегда. И останутся только она и Байрон. Поскольку я – всего лишь старик, которому посчастливилось дожить до старости, не познавши горя любви. – Его сотрясает непрерывная дрожь; он поднял голову. В свете лампы лицо его лоснится, будто намасленное. Искаженное и перекошенное, оно блестит в свете лампы; пожелтелая, застиранная рубашка, которая утром была свежей, мокра от пота. – Не потому, что я не могу, не осмелюсь, – говорит он, – потому что я не желаю! Не желаю! Слышите? – Руки его отрываются от подлокотников. – Потому что я не желаю это делать! – Байрон не шевелится. Его рука замерла на столе; он смотрит на Хайтауэра и думает Не мне он кричит. Похоже, он знает, что убедить ему надо кого-то другого, кто ближе к нему, чем я Потому что Хайтауэр уже кричит: – Я не желаю! Не желаю! – Кулаки его подняты, по лицу течет пот, дряблые, отвисшие складки желто-серой кожи раздвинулись, обнажив гнилые стиснутые зубы. Вдруг его голос раздается еще громче. – Вон! – вопит Хайтауэр. – Вон из моего дома! Вон из моего дома! – И он падает лицом на стол, выбросив вперед кулаки. Выходя в дверь следом за стариками, Байрон оглядывается и видит, что Хайтауэр так и не пошевелился, его лысая голова и сжатые в кулаки руки лежат в озерке света под абажуром настольной лампы. Гудение насекомых за открытым окном не смолкло, не прервалось ни на миг.
17
Это было в воскресенье ночью. Утром Лина родила. Заря еще только занималась, когда Байрон прискакал на муле к дому, откуда вышел не далее как шесть часов назад. Он спрыгнул на землю и сразу побежал по узкой дорожке к темному крыльцу. Несмотря на спешку, ему кажется, что он хладнокровно наблюдает себя со стороны: он думает, угрюмо, без удивления: «Байрон Банч принимает младенца. Если бы я увидел это недели две назад, я бы глазам своим не поверил. Я бы сказал, что они врут».
Окно, за которым он шесть часов назад оставил священника, было темно. На бегу ему вспомнилась лысая голова, стиснутые кулаки, дряблое тело, навалившееся грудью на стол. «Вряд ли он много спал сегодня, – подумал Байрон. – Хотя и не изображает… не изображает… – Он не мог произнести про себя слово «повитуха», которое непременно употребил бы Хайтауэр. – Пожалуй, не обязательно мне об этом думать, – размышлял он. – Если человек бежит от пистолета или на пистолет, ему тоже некогда рассуждать, как это называется – трусостью или храбростью».
Дверь была не заперта. Вероятно, он знал, что так и будет. Он ощупью пробирался по передней, нисколько не заботясь о тишине. Он ни разу не заходил дальше комнаты, где в последний раз видел хозяина, лежавшего грудью на столе под ярким отвесным светом лампы. Однако он подошел к нужной двери так уверенно, как будто знал или видел ее или как будто его вели. «Хайтауэр бы так сказал, – думал он в темноте, подгонявшей его и лишенной ориентиров. – И она тоже. – Он имел в виду Лину, которая лежала сейчас в хибарке, мучаясь родами. – Только того, кто ведет, они назвали бы по-разному». Еще не войдя в комнату, он услышал храп Хайтауэра. «Как будто не очень-то и огорчился, в конце концов, – подумал он. И тут же поправил себя: – Нет. Это неправильно. Несправедливо. Ведь я и сам так не думаю. Я же знаю: он спит, а я не сплю только потому, что он старик и не может выдержать столько, сколько я».
Он подошел к кровати. Невидимый хозяин издавал глубокий храп. В нем слышалась полная и окончательная капитуляция. Не изнеможение, а именно капитуляция, словно он разжал кулак, где собраны вместе гордость, надежда, страх и тщеславие – сила, позволяющая человеку держаться либо за поражение, либо за победу, сила, в которой и заключается Я ЕСТЬ и отказ от которой чаще всего оборачивается смертью. Стоя возле кровати, Байрон опять подумал Бедняга. Бедняга Ему казалось, что если он сейчас нарушит сон старика, это будет самой болезненной раной из всех, что он нанес ему. «Но ведь это не я жду, – подумал он. – Бог свидетель. Потому что, наверное, он тоже наблюдает за мной последнее время, как все остальные, смотрит, что я сделаю дальше».
Он тронул спящего, не грубо, но решительно. Храп Хайтауэра оборвался; большое тело вскинулось под рукой Байрона.
– Да? – сказал он. – Что? Что такое? Кто это?
– Это я, – сказал Байрон. – Опять Байрон. Ну, вы проснулись?
– Да. Что…
– Да, – сказал Байрон. – Она говорит, пора. Срок подошел.
– Она?
– Скажите, где свет… Миссис Хайнс. Она с ней. Я иду за врачом. Но боюсь опоздать. Я оставлю вам мула. Дотуда, я думаю, вы сможете доехать. Та книга еще у вас?
Кровать под Хайтауэром скрипнула.
– Книга? Какая книга?
– С которой вы у нигеров ребенка принимали. Я просто хотел вам напомнить, на тот случай, если она вам понадобится. Если я с врачом не поспею вовремя. Мул – за воротами. Он знает дорогу. А я пойду в город за врачом. Постараюсь привести его поскорей. – Он повернулся и пошел. Он слышал, чувствовал, что Хайтауэр садится на кровати. Посреди комнаты он задержался, чтобы отыскать свисавшую с потолка лампочку и включить ее. Когда она загорелась, он уже шел к двери. Он не оглянулся. За спиной раздался голос Хайтауэра: «Байрон! Байрон!» Он не остановился, не ответил.
Светало. Он быстро шел по пустой улице, под редкими и бледнеющими фонарями, около которых еще кружилась и толклась мошкара. Но свет прибывал; когда он вышел на площадь, фасады с восточной стороны четко обозначились в небе. Он быстро соображал. С врачом он не условился. И теперь на ходу, со страхом и злостью, как настоящий молодой отец, проклинал себя за эту возмутительную и преступную халатность. И все же тревога его была не совсем отцовская. За ней стояло что-то другое, в чем он пока не мог разобраться. Заслоненное необходимостью спешить, оно как будто притаилось в уме, готовясь выскочить, запустить в него когти. Но пока что он думал так: «Надо решать быстро. Говорят, того негритенка он принял как надо. Но тут другое дело. Надо было сделать это на прошлой неделе, заранее повидаться с врачом, чтобы не объясняться теперь, в последнюю минуту, не бегать от дома к дому, не искать того, кто согласится, кто поверит небылицам, которые мне придется плести. Черт подери, неужели же человек, который понаторел во вранье, как я за последнее время, не сумеет соврать так, чтобы ему всякий поверил – и мужчина и женщина. Но я, похоже, не сумею. Видно, не для меня эта работа – складно врать». Он шел быстро, шаги звучали гулко и одиноко на пустынной улице; решение уже было принято, хотя он этого не сознавал. Для него тут не было ничего нелепого или комического. Решение слишком быстро возникло и слишком прочно укоренилось в его уме к тому времени, когда он его осознал; ноги уже выполняли решение. Они несли Байрона к дому того самого врача, который опоздал на роды в негритянской семье, где акушерствовал Хайтауэр, вооружившись бритвой и книгой.
Врач опоздал и на этот раз. Байрону пришлось ждать, пока он оденется. Человек уже пожилой и суетливый, он был не слишком доволен тем, что его разбудили в такой час. Потом ему пришлось искать ключи от машины, хранившиеся в несгораемом ящике, ключ от которого тоже удалось найти не сразу. А сломать замок он Байрону не позволил. Так что, когда они подъехали к хибарке, восток уже золотился и вот-вот должно было выглянуть шустрое летнее солнце. И снова двое мужчин, постаревшие за это время, столкнулись в дверях лачуги, и профессионал опять проиграл любителю – ибо, ступив на порог, врач услышал крик младенца. Капризно сощурясь, врач посмотрел на священника.
– Ну-с, доктор, – сказал он, – напрасно Байрон меня не предупредил, что уже вызвал вас. Я бы спал себе спокойно. – Он протиснулся мимо священника в дверь. – Кажется, теперь у вас получилось удачнее, чем в прошлый раз, когда мы консультировались. Только вид у вас такой, будто вам самому нужен доктор. Или просто чашка кофе. – Хайтауэр что-то ответил, но врач уже двинулся дальше, не слушая его. Он вошел в комнату, где на узкой складной койке лежала незнакомая молодая женщина, изнуренная и бледная, а рядом старуха в багровом платье, тоже ему незнакомая, держала на коленях ребенка. На другой койке в темном углу спал старик. Увидев его, доктор сказал про себя, что он похож на мертвеца – так глубок и покоен был его сон. Но увидел он старика не сразу. Он подошел к старухе, которая держала ребенка. – Так, так, – сказал он. – Байрон, наверно, очень волновался. Он не сказал мне, что вся семья будет в сборе, даже дедушка и бабушка. – Старуха посмотрела на него. Он подумал: «Она не больше него похожа на живого человека, даром что сидит. И кажется, не соображает даже, что она мать, а уж что бабушка – тем более».
– Да, – сказала старуха. Она смотрела на него снизу, припав к ребенку. Тут он увидел, что лицо у нее не глупое, не бессмысленное. Оно показалось ему покойным и вместе с тем ужасным, как будто покой и ужас давным-давно кончились и сейчас возродились вместе. Но главное, что бросилось ему в глаза, – это ее поза, в которой было что-то от камня и вместе с тем от припавшего к земле зверя. Старуха показала головой на спящего старика; врач в первый раз задержал взгляд на его койке. Она прошептала лукаво, но еще встревоженно, не совсем оправившись от ужаса: – Я его обманула. Сказала, что в этот раз вы придете с черного хода. Я его обманула. А вы уже здесь. Теперь вы сможете помочь Милли. А я присмотрю за Джо. – Затем все это исчезло. У него на глазах жизнь, одушевление вдруг погасли, стерлись с ее лица, и оно сделалось таким тупым и застывшим, как будто ничего подобного в нем и быть не могло; теперь ее глаза смотрели на доктора вопросительно, с тупой, немой озадаченностью, и она согнулась над ребенком так, словно он пытался его утащить. Возможно, это движение разбудило младенца; он вскрикнул. Затем и озадаченность исчезла. Сплыла легко, как тень, и несуразная, с деревянным лицом старуха задумчиво уставилась на ребенка.
– Это Джо, – сказала она. – Сыночек моей Милли.
А Байрон, остановившись перед дверью, за которой скрылся врач, услышал этот крик, и с ним произошло что-то страшное. Ночью миссис Хайнс вызвала его из палатки. Голос у нее был такой, что он чуть ли не на бегу натянул брюки и, пробежав мимо миссис Хайнс, которая даже не разделась на ночь, влетел в хибарку. Тут он увидел ее и замер. Миссис Хайнс стояла рядом, что-то говорила; наверно, он отвечал, тоже что-то говорил. Во всяком случае, он оседлал мула и уже скакал к городу, а все еще видел ее на кровати – ее лицо, когда она, приподнявшись на локтях и воя от безысходного ужаса, смотрела на свое тело, прикрытое простыней. Видел все время, пока будил Хайтауэра, пока помогал собираться врачу, а между тем когтистая тварь в его душе таилась и ждала своей минуты, и мысли бежали так быстро, что ему некогда было задуматься. Вот в чем дело. Слишком быстро, чтобы задуматься – покуда они с врачом не подошли к хибарке. И тут, когда он остановился перед дверью хибарки и услышал крик младенца, с ним произошло что-то страшное.
Теперь он понял, что за когтистая тварь таилась в его душе, пока он шел по пустынной площади, разыскивая врача, с которым не удосужился сговориться заранее. Теперь он понял, почему не сговорился. Потому что не верил – пока миссис Хайнс не вызвала его из палатки, – что ему (ей) врач понадобится, понадобится непременно. Как будто за эту неделю его глаза привыкли к ее животу, а ум все равно не верил. «Нет, я верил, знал, – подумал он. – Иначе зачем я все это проделывал – бегал, врал, надоедал людям?» Но ему было ясно, что поверил он только после того, как, пробежав мимо миссис Хайнс, заглянул в хибарку. Когда голос миссис Хайнс прервал его сон, он знал, в чем дело, что случилось. Он встал и второпях прикрылся, как комбинезоном, спешкой, зная, зачем разбужен, зная, что вот уже пять ночей он ждал этого. И все же не веря. Он понимал теперь, что, подбежав к хибарке и заглянув туда, он ожидал увидеть ее сидящей; может быть, ожидал, что она встретит его в дверях, такая же, как всегда, – безмятежная, неподвластная времени. Но, едва притронувшись к двери, он услышал то, чего никогда прежде не слыхал. Жалобный вой, громкий, звучавший страстно и вместе с тем униженно, как будто она обращалась к чему-то на языке, невнятном ни Байрону, ни другим мужчинам. Затем он прошел в дверь мимо миссис Хайнс и увидел ее на койке. Он еще никогда не видел ее в постели и думал, что когда (или если) ему представится такой случай, она будет напряженна, собранна, может быть, слегка улыбнется и, уж во всяком случае, заметит его присутствие. Но когда он вошел, она на него даже не взглянула. Она как будто даже не заметила, что дверь открылась и в комнате есть кто-то или что-то еще, кроме нее и того, к чему она обращала свой жалобный вой – речь, непонятную для мужчины. Она была укрыта до подбородка, но приподнялась на локтях, вытянув вперед шею. Волосы ее рассыпались, глаза были похожи на две дыры, губы белы, как подушка под головой, и в этой встревоженной позе, словно разглядывая изумленно и недоверчиво очертания своего тела под простыней, она снова издала громкий, обиженный, жалобный вопль. Миссис Хайнс уже склонилась над ней. Она обернула к нему деревянное лицо над багровым плечом. «Идите, – сказала она. – Идите за врачом. Уже началось».
Он не помнил, как шел к конюшне. Только вдруг очутился там и уже ловил мула, вытаскивал седло, накидывал ему на спину. Он действовал быстро; мысли же текли неторопливо. Теперь он понял почему. Теперь он понял, что неспроста мысли текли плавно и неторопливо: так разливают по морю жир, когда разыгрывается шторм. «Если бы я тогда понял, – думал он. – Если бы я тогда понял. Если бы тогда до меня дошло». Думал, не шевелясь, с сожалением и отчаянием. «Да. Я бы повернул и поехал прочь. Ехал бы и ехал, бог знает куда, бог знает сколько, до скончания века». Но он этого не сделал. Он проскакал мимо хибарки, а мысли текли плавно и ровно, и он еще не знал почему. «Только бы дом миновать, только бы не услышать, как она опять закричит, – думал он. – Только бы дом миновать до того, как опять услышу». С этим его вынесло на дорогу; маленькое жилистое животное набрало ход, масло мысли растекалось ровно и плавно: «Сперва к Хайтауэру. Мула оставлю ему. Не забыть напомнить ему про врачебную книгу. Не забыть», – растекалось масло, неся его к тому месту, где он на скаку спрыгнул с мула и побежал к дому Хайтауэра. Теперь его занимало другое. «Это я сделал», – думал он Даже если не удастся найти настоящего врача. Это вынесло его на площадь и там покинуло; он ощущал ее, притаившуюся, когтистую, думая Даже если я не найду настоящего врача. Потому что я никогда не верил, что он понадобится. Я не верил – вскачь неслось в уме, парной упряжью парадокса соединенное с необходимостью спешить, пока они со стариком доктором искали ключ от несгораемого ящика, чтобы достать ключ от машины. Наконец они его нашли, и необходимость спешить на время совпала с движением, с быстрой ездой по пустынной дороге, под пустынным рассветным небом – или, может быть, он просто взвалил всю действительность, весь ужас, весь свой страх на доктора, как обычно делают люди. Так или иначе, это привело его назад, к хибарке, где он и доктор вылезли из машины и подошли к двери, за которой еще горела лампа: то был последний просвет покоя, за которым на него обрушился удар, и когтистая тварь набросилась сзади. Он услышал крик младенца. И тогда понял. День разгорался быстро. Он тихо стоял, окруженный прохладным покоем, пробуждающейся тишиной, – маленький, неприметный человек, на которого ни разу в жизни не оглянулись на улице – ни мужчина, ни женщина. Теперь он понимал, что все это время что-то охраняло его, мешая поверить, – верой охраняло. Со строгим, суровым изумлением он думал Как будто, пока миссис Хайнс меня не позвала, пока я не услышал ее, не увидел ее лицо, не увидел, что Байрон Банч для нее сейчас – нуль, – до тех пор я как будто не понимал, что она не девушка И он подумал, что это ужасно, но это еще не все. Было что-то еще. Он не опускал головы. Он неподвижно стоял под разгоравшимся небом, и мысль тихо шла дальше Значит, и это припасено для меня, как говорит преподобный Хайтауэр. Теперь я должен сказать ему. Должен сказать Лукасу Берчу И в этом уже не было горького спокойствия. Это было что-то вроде страшного и неисцелимого отчаяния подростка Ведь до сих пор я даже не верил, что он такой. Как будто я и она и все остальные, кого я в это втянул, были не нами, а просто кучей слов, которые ничего не значат, а сами-то мы все гнули и гнули свое и никакой нехватки слов не чувствовали. Да. Ведь я до сих пор не верил, что он – Лукас Берч. Что был такой Лукас Берч на свете.
«Удачнее, – говорит Хайтауэр, – удачнее. Не знаю, такая ли уж это удача». Но врач уже вошел в хибарку. Задержавшись еще на секунду, Хайтауэр наблюдает через плечо за группой у койки, слышит бодрый голос врача. Старуха сидит тихо, но Хайтауэру кажется, что не далее как секунду назад отнимал он у нее младенца, чтобы она не выронила его в припадке немого и яростного ужаса. И немота не могла скрыть ярости, когда старуха выхватила ребенка чуть ли не из материнского тела, высоко подняла на руках и, пригнувшись, грузная, похожая на медведицу, свирепо воззрилась на старика, спавшего на койке. Он уже спал, когда пришел Хайтауэр. Казалось, он совсем не дышал, а возле койки, на стуле, пригнувшись, сидела старуха. Она напоминала скалу, нависшую над пропастью, и в первый миг Хайтауэр подумал Она его уже убила. На этот раз вовремя приняла меры предосторожности Потом ему было не до нее; старуха находилась рядом, но он не замечал этого, пока она не выхватила еще бездыханного младенца и не подняла вверх, впившись в спящего на другой койке старика взглядом тигрицы. Потом новорожденный вдохнул воздух и закричал, и старуха будто откликнулась – тоже на неведомом языке, дико и торжествующе. Пока он боролся с ней, отнимая ребенка, чтобы она его не выронила, лицо у нее было почти маниакальное. «Поглядите, – сказал он. – Смотрите! Он спит. На этот раз он его не унесет». А она все смотрела на него, немо, по-звериному, словно не понимая человеческой речи. Но ярость, торжество ушли с ее лица: она хрипло скулила, пытаясь отнять у него ребенка. «Только поосторожнее, – сказал он. – Поосторожнее, ладно?» Она кивнула, скуля, тихонько щупая ребенка. Но руки у нее не дрожали, и он отдал ей ребенка. И теперь она сидит, держа его на коленях, а опоздавший врач стоит возле койки, разговаривает бодрым ворчливым голосом и что-то быстро делает руками. Хайтауэр отворачивается, выходит и осторожно, по-стариковски спускается со сломанной приступки на землю, будто в дряблом его брюшке спрятано что-то смертоносное и гремучее, как динамит. Уже не заря – утро на дворе: встало солнце. Он остановился, озирается; зовет: «Байрон». Ответа нет. Потом он видит, что мула, который был привязан неподалеку к заборному столбу, тоже нет. Он вздыхает. «Так, – думает он. – В довершение всех обид, которые я терплю от Байрона, я должен две мили идти пешком до дома. Это недостойно Байрона, ненависти. Впрочем, деяния наши часто нас недостойны. А также мы – своих деяний».
Он медленно бредет к городу – худой мужчина с брюшком, в замусоленной панаме и грубой бумажной ночной рубахе, кое-как заправленной в черные брюки. «Хорошо еще, что я не слишком поторопился и надел туфли», – думает он. «Я устал, – думает он с досадой. – Устал и не смогу заснуть». Он думает об этом с досадой, устало, в ритме шагов – и сворачивает в свою калитку. Солнце уже высоко, город проснулся; там и сям тянет дымом – готовят завтрак. «Самое малое, что он мог бы для меня сделать, – думает он, – после того как не оставил мне мула, это поехать вперед и растопить у меня печку. Раз уж он считает, что двухмильная прогулка полезна мне для аппетита».
Он идет на кухню и растапливает плиту – медленно, неумело, так же неумело, как в первый день, двадцать пять лет назад; потом ставит кофе. «И опять лягу, – думает он. – Хотя уверен, что не засну». Но он замечает, что мысли у него сварливые, как мирное нытье сварливой женщины, которого не слушает даже она сама; тут он обнаруживает, что готовит себе по привычке обильный завтрак, и замирает на месте, прищелкивая языком, как бы от неудовольствия. «Я должен был бы чувствовать себя хуже», – думает он. Но вынужден признать, что этого нет. Он стоит, высокий, мешковатый, заброшенный, в своей заброшенной и запущенной кухне, держа в руке чугунную сковородку с тусклой пленкой вчерашнего жира – и волна, прилив чего-то, почти горячего, почти торжества, накатывает на него. «Я им показал! – думает он. – Жизнь еще дается в руки старику, а они опаздывают. Им достаются лишь последки, как сказал бы Байрон». Да, это – тщеславие и суетная гордость. Но медленно спадающей горячей волне все равно, она глуха к укорам. Он думает: «Ну и что? Ну и что ж, что я их испытываю – торжество и гордость? Ну и что?» Но тепло, волна, по-видимому, и к этому безразличны, не нуждаются в поддержке; не остужает их и вещественность апельсина, яичницы и подрумянившегося хлеба. А он, глядя на грязные пустые тарелки на столе, говорит уже вслух: «Честное слово. Я их даже мыть сейчас не буду». И в спальню не идет, хотя ночью не выспался. Он подходит к двери и заглядывает туда, все еще согреваемый ощущением цели и гордостью, думает: «Ну, это если бы я был женщиной. Женщина бы так и сделала – легла бы в постель». Он идет в кабинет. Он движется, как человек, имеющий перед собой цель, – он, который двадцать пять лет совсем ничего не делал от того мгновения, когда просыпался, и до того, когда засыпал опять. И книга, которую он берет теперь, – не Теннисон: он и здесь выбирает мужскую пищу. Это «Генрих IV»[45]. И, выйдя на задний двор, он ложится в провисший шезлонг под шелковицей – плюхается тяжело и с размаху. «А поспать мне не удастся, – думает он, – потому что скоро явится Байрон и опять разбудит. Впрочем, узнать, какое еще дело он для меня придумал, – это, может быть, и стоит сна».
Он засыпает быстро, почти сразу, с храпом. Если бы кто-нибудь подошел и заглянул в кресло, то увидел бы под двумя сияющими осколками неба в очках невинное, мирное и уверенное лицо. Но никто к нему не подходит, хотя когда он просыпается – почти шесть часов спустя, – ему кажется, что его кто-то звал. Он порывисто садится, кресло под ним скрипит. «Да? – говорит он. – Да? Что такое?» И хотя никого нет, он озирается, как бы ожидая и прислушиваясь, с тем же волевым и уверенным выражением лица. И радость в нем тоже не остыла. «А я надеялся, что просплюсь и остыну, – думает он и сразу поправляет себя: – То есть нет. Не надеялся, конечно. Я хочу сказать – боялся. Итак, я все же сдался, – думает он молча, не шевелясь. Потом потирает руки, сперва – легонько, чуть виновато. – Все же сдался. И я себе позволю. Да. Может быть, и это для меня припасено. И я не буду противиться». И он говорит про себя Ребенка принял я. В мою честь еще никого не называли. И я ведь знаю случаи, когда благодарная мать называла его в честь доктора, который помогал ей разрешиться. Впрочем, есть ведь Байрон. Право первенства, конечно, за ним. Ей придется рожать еще, и не одного – он вспоминает молодое, сильное тело, даже там, в родовых муках, сиявшее мирным бесстрашием Не одного. Многих. В этом будет ее жизнь, ее судьба. И, мирно повинуясь ей, доброе племя заселять будет добрую землю; из крепких этих чресл без спешки и суеты произойдут мать и дочь. Но теперь – порожденные Байроном. Бедный малый. Хоть и заставил меня возвращаться пешком
Он входит в дом. Бреется, снимает ночную рубаху и надевает ту, что носил вчера, потом – воротничок, батистовый галстук и панаму. Дорога до хибарки занимает меньше времени, чем оттуда домой, хотя идет он лесом, где ходьба тяжелее. «Надо делать это почаще, – думает он, чувствуя перемежающийся свет, жар солнца, жестокий, животворный запах земли и леса, громкую тишину. – И от этой привычки тоже нельзя было отказываться. Но, может быть, они теперь обе возобновятся, пусть даже это неравноценно молитве».
Он выходит из леса на дальний край выгона, который начинается у хибарки. За хибаркой он видит купу деревьев, где стоял сгоревший дом, но черных и немых головешек, которые были некогда досками и балками, отсюда не видно. «Несчастная женщина, – думает он. – Несчастная, бесплодная женщина. Не дожить всего недели до той поры, когда счастье вернулось в эти места. Когда счастье и жизнь вернулись на эти бесплодные, загубленные земли». И видятся, чудятся ему призраки тучных нив и щедрой плодоносной черной жизни в этой стороне, грудные крики, плодовитые женщины, голые детишки в пыли перед дверьми; и опять – большой дом, шумный, оглашаемый дискантовыми криками потомства. Он подходит к хибарке. Не стучится; уже отворяя дверь, спрашивает веселым, раскатистым голосом:
– Можно доктору войти?
В хибарке только мать и дитя. Она лежит высоко на подушках, ребенок – у груди. Хайтауэр входит в тот миг, когда она прикрывает голую грудь простыней, глядя на дверь без всякой тревоги, но внимательно, и лицо у нее ясно и приветливо, будто она сейчас улыбнется. У него на глазах это выражение гаснет.
– А я думала… – произносит она.
– Вы думали, это кто? – говорит, рокочет он. Подходит к койке и смотрит на нее, на крохотное сморщенное терракотовое личико ребенка, которое будто подвешено – спящее и лишенное тела – к ее груди. Скромно и безмятежно она подтягивает простыню повыше, а лысый, худой мужчина с брюшком стоит над ней, и его ласковое лицо светится торжеством. Она смотрит на ребенка.
– За ним прямо не угонишься. Думаю, уже заснул, кладу его, а он опять кричит, опять подносить надо.
– Нехорошо, что вы тут одна, – говорит он. Оглядывается. – А где…
– Она тоже ушла. В город. Она этого не сказала, но я знаю, что туда. Он улизнул, а она, когда проснулась, спросила меня, где он, я сказала – ушел, и она пошла за ним.
– В город? Улизнул? – Потом он тихо произносит: – А-а. – Лицо его сделалось серьезным.
– Она за ним весь день следила. А он за ней. Я видела. Притворялся, будто спит. Она и думала, что спит. Ну и сморило ее после обеда. Прошлую-то ночь совсем не отдыхала, а как пообедала, села на стул и задремала. А он следил за ней, встал потихоньку со своей койки, моргает мне, гримасы строит. Пошел к двери, а сам все моргает через плечо, гримасы строит, и на цыпочках – за порог. Я его не останавливала и ее будить не стала. – Она смотрит на Хайтауэра широко раскрытыми, серьезными глазами. – Боялась. Разговор у него чудной. И смотрит как-то не так. Вроде моргает и гримасы строит не для того, чтобы я ее не будила, а будто показать хочет, что со мной будет, если разбужу. Я и забоялась. Ну и лежала тут с маленьким, а вскорости она сама встрепенулась. Тут я и поняла, что засыпать-то она не хотела. Проснулась она словно уже на ходу, когда к его койке бежала, – и трогает ее, словно не верит, что он ушел. Стоит возле койки и по одеялу хлопает, словно ищет, не потерялся ли он где под одеялом. А потом на меня посмотрела, раз только. И не моргала, гримас не строила, но лучше бы уж, кажется, моргала. И спросила меня, я сказала, тогда она надела шляпу и ушла. – Она смотрит на Хайтауэра. – И рада я, что ушла. Нехорошо, верно, так говорить, после всего, что она для меня сделала. Да ведь…
Хайтауэр стоит над койкой. Он как будто не видит ее. Лицо его очень серьезно; кажется, что оно постарело на десять лет, пока он тут стоял. Или стало выглядеть так, как должно выглядеть, а когда он входил в комнату – было чужим самому себе.
– В город, – говорит он. Тут его глаза оживают, снова начинают видеть. – Что ж, теперь ничего не поделаешь, – говорит он. – Кроме того, люди в городе… нормальные… найдется же там несколько человек… Почему вы рады, что они ушли?
Она опускает взгляд. Ее рука движется около головы ребенка, не прикасаясь к ней, – жест инстинктивный, ненужный и, по-видимому, неосознанный.
– Она ко мне добра была. Мало сказать добра. Маленького держит, чтобы я отдохнуть могла. Все время бы его держала, сидя на этом вот стуле… Вы уж меня извините. И сесть-то вас не пригласила. – Она смотрит на него, пока он подтаскивает к койке стул и садится. – Сидит так, чтобы его видеть, а он на койке, притворяется, будто спит. – Она внимательно смотрит на Хайтауэра; в глазах ее вопрос. – Все время зовет его Джо. Когда имя у него совсем не Джо. А она все время… – Она следит за лицом Хайтауэра. В ее глазах – озадаченность, вопрос, сомнение. – Все время говорит про… Путает она чего-то. Я и сама порой путаюсь – послушаешь ее… а как не слушать-то… – Ее глаза, ее слова нащупывают что-то, растерянно ищут.
– Путает?
– Все время говорит про него, как будто его папа – этот… который в тюрьме, этот мистер Кристмас. Она все твердит, и я путаться начинаю, иногда прямо не могу… прямо сама путаюсь и тоже думаю, что папа его – этот мистер… мистер Кристмас… – Она наблюдает за ним; кажется, что она совершает над собой какое-то мучительное усилие. – Знаю же, что это не он. Понимаю, что глупость. Все потому, что она твердит и твердит, а я не совсем, что ли, окрепла и сама начинаю путаться. И страшно…
– Что?
– Не нравится мне, что путаюсь. И боюсь, запутает она меня совсем – вроде как говорят, если глаза скосишь к носу, так потом и останешься… – Она смотрит в сторону. Не шевелится. Чувствует, что он наблюдает за ней.
– Вы говорите, ребенка зовут не Джо. А как его зовут?
Она не сразу переводит взгляд на Хайтауэра. Потом поднимает глаза. И отвечает – слишком быстро, слишком легко:
– Я его еще не назвала.
И он понимает – почему. Он будто видит ее впервые с тех пор, как вошел. Впервые замечает, что волосы ее недавно расчесаны и лицо тоже как-то посвежело, и видит наполовину прикрытые простыней, словно она сунула их туда впопыхах при его появлении, гребень и осколок зеркала.
– Когда я вошел, вы кого-то ждали. Причем – не меня. Кого вы ждали?
Она не отводит взгляда. В лице ее не заметно ни притворства, ни простодушия. Нет в нем также спокойствия и безмятежности.
– Ждала?
– Вы ждали Байрона Банча? – Она по-прежнему не отводит взгляда. Лицо у Хайтауэра серьезное, твердое, ласковое. Но есть в нем та безжалостность, какую ей случалось видеть на лицах хороших людей, ей встречавшихся, – обычно мужчин. Он наклоняется и кладет ладонь на ее руку, которая поддерживает тельце ребенка.
– Байрон – хороший человек, – говорит он.
– Да, я это знаю не хуже других. Наверно, даже лучше.
– И вы хорошая женщина. Будете ей. Я не хочу сказать… – быстро поправляется он. И умолкает. – Я не хотел сказать…
– Я понимаю, – говорит она.
– Нет. Не это. Это не важно. Это пока ничего не значит. Все зависит от того, как вы потом этим распорядитесь. Собой. Другими. – Он смотрит на нее; она не отводит взгляда. – Отпустите его. Прогоните от себя. – Они смотрят друг на друга. – Дочь моя, отошлите его. Вы, наверно, почти вдвое его моложе. Но прожили вы вдвое больше его. Он вас никогда не догонит, никогда не сравняется с вами – он потерял слишком много времени. И это – его ничто – так же непоправимо, как ваше все. Он так же бессилен вернуться вспять и что-то сделать, как вы – отменить сделанное. У вас мальчик – не от него, от другого мужчины. В его жизнь войдут двое мужчин и только третья часть женщины, а он заслуживает хотя бы того, чтобы в его жизнь, тридцать пять лет не занятую ничем, вторглись – если уж должны вторгнуться – без двух свидетелей. Прогоните его.
– Не мое это дело. Он свободен. Спросите его. Я его не держу.
– В том-то и дело. Вы, вероятно, не удержали бы его, если бы старались. В том-то и дело. Если бы вы умели за это взяться. Впрочем, если бы вы умели, вы не лежали бы тут на койке с грудным ребенком. Так вы не хотите прогнать его? Не хотите сказать ему решительно?
– Больше, чем сказала, я не могу сказать. Я ему пять дней назад сказала «нет».
– «Нет»?
– Он хотел, чтобы мы поженилась. Сразу же. А я сказала «нет».
– А сейчас бы вы сказали «нет»?
Она смотрит на него с твердостью.
– Да. И сейчас бы сказала.
Он вздыхает, большой, мешковатый; лицо у него опять усталое, безвольное.
– Я вам верю. Вы будете говорить это, пока не убедитесь… – Он опять смотрит на нее; опять его взгляд внимателен, пристален. – Где он, Байрон?
Она смотрит на него. Немного погодя тихо отвечает:
– Не знаю. – Она смотрит на него; внезапно лицо ее становится пустым, словно его покидает что-то, придававшее ему физическую определенность, твердость. В нем нет и тени притворства, настороженности или опаски. – Он приходил сегодня утром, часов в десять. Не вошел. Подошел к двери, стоит и смотрит на меня. Я ведь его не видела с прошлой ночи, а он мальчика не видел, и я ему говорю: «Зайдите, посмотрите на него» – а он поглядел на меня и говорит, все оттуда же, из-за двери: «Я пришел узнать, когда вы хотите с ним увидеться», я говорю: «С кем?» – а он говорит: «Им, наверно, придется послать с ним помощника шерифа, но я сумею уговорить Кеннеди, чтобы он его отпустил», я говорю: «Кого?» – он говорит: «Лукаса Берча», я говорю: «Да» – а он говорит: «Сегодня вечером? Вас устроит?» – и я сказала: «Да», и он ушел. Постоял там, а потом ушел. – Она плачет, и Хайтауэр смотрит на нее с тем отчаянием, которое охватывает мужчину при виде женских слез. Она сидит выпрямившись, держа ребенка у груди, и плачет – не громко и не горько, но с терпеливым и безнадежным смирением, не пряча лица. – А вы меня пытаете, сказала ли я «нет», а я уже сказала «нет», а вы все пытаете, а он уже ушел. И я его больше не увижу.
Он продолжает сидеть, и она наконец опускает голову; тогда он поднимается и, положив руку на ее склоненную голову, думает Слава Богу, Боже, помоги мне. Слава Богу, Боже, помоги
В лесу он набрел на тропинку к фабрике, которую протоптал Кристмас. Он не знал, что она существует, и теперь, поняв, куда она ведет, в ликовании своем воспринимает это как добрый знак. Он верит Лине, но хочет получить подтверждение ее словам – просто ради удовольствия еще раз это услышать. Когда он приходит на фабрику, времени только четыре часа. Он наводит справки в конторе.
– Банч? – переспрашивает счетовод. – Вы его здесь не найдете. Он сегодня утром уволился.
– Знаю, знаю, – говорит Хайтауэр.
– Семь лет работал, даже субботними вечерами, а сегодня утром пришел и сказал, что увольняется. Никаких объяснений. Вечно с ними так, с этими деревенскими.
– Да, да, – подхватывает Хайтауэр. – Однако они славные люди. И мужчины славные, и женщины. – Он выходит из конторы. Дорога в город ведет мимо строгального цеха, где работал Байрон. Он знаком с мастером Муни. Остановившись рядом с ним, он говорит: – Я слышал, Байрон Банч у вас больше не работает?
– Да, – отвечает Муни. – Уволился нынче утром. – Но Хайтауэр не слушает; люди в комбинезонах наблюдают за потрепанным, странно сложенным, малознакомым господином, который разглядывает с восторженным любопытством стены, доски, загадочные механизмы, чье устройство и назначение он не способен понять и даже заучить. – Если он вам нужен, – продолжает Муни, – я думаю, вы найдете его в городе, в суде.
– В суде?
– Да. Сегодня заседает большой суд присяжных. Срочно созван. Чтобы вынести обвинение убийце.
– Да, да, – говорит Хайтауэр. – Значит, его нет. Так. Славный молодой человек. Всего хорошего, всего хорошего, джентльмены. Всего вам хорошего. – Он идет дальше, и люди в комбинезонах смотрят ему вслед. Руки он сцепил за спиной. Он шагает, спокойно и грустно размышляя: «Бедняга. Бедный малый. Нет и не может быть оправдания человеку, отнимающему у другого жизнь, и меньше всего – должностному лицу, доверенному слуге своих сограждан. И если на это всенародно уполномочивают слугу закона, который знает, что его жертва – называйте эту жертву как угодно – ему зла не причиняла, чего же ждать тогда от обыкновенного человека, который убежден, что его жертва причинила ему зло». Он идет уже по своей улице. Вскоре показывается забор, вывеска; затем среди густой августовской листвы – дом. «Итак, он отбыл, не зайдя ко мне попрощаться. После всего, что он для меня сделал. Принес мне. Да: дал, вернул мне. Можно подумать, что и это было припасено для меня. Но теперь уж, наверно, – все».
Но это – не все. Для него припасено кое-что еще.
18
Когда Байрон пришел в город, выяснилось, что он не сможет увидеться с шерифом до полудня – шериф все утро будет на заседании суда. «Вам придется подождать», – сказали ему.
– Хорошо, – сказал Байрон. – Я умею.
– Что умеете? – Но он не ответил. Выйдя от шерифа, он встал под портиком, обращенным к южной стороне площади. Над узкой, вымощенной плитами галереей поднимались к сводам каменные колонны со следами многих непогод и жующих табак поколений. Под ними, размеренно и неутомимо, с бесцельной сосредоточенностью, напоминая монахов на монастырском дворе, прохаживались (а среди них стояли неподвижно или что-то цедили друг другу сквозь зубы сравнительно молодые мужчины, горожане – частью знакомые Байрону конторщики, адвокаты и даже торговцы, вдруг сделавшиеся похожими благодаря одинаковому выражению властности в облике, как у полицейских в штатском, которых не очень заботит, высовывается из-под штатского полицейский или нет) деревенские в комбинезонах и, тихо беседуя между собой о деньгах и урожае, тихо поглядывали наверх, где суд присяжных при закрытых дверях готовился отнять жизнь у человека, которого мало кто из них видел и знал в лицо, – за то, что он отнял жизнь у женщины, которую еще того меньше знали и видели. На площади выстроились повозки и запыленные машины, привезшие их в город, а по улицам и магазинам бродили стайками приехавшие с ними жены и дочери – медленно и тоже бесцельно, как скот или облака. Байрон стоял там довольно долго, не шевелясь, ни к чему не прислоняясь, и хотя он прожил в городе семь лет, имя и лицо этого щуплого человека были знакомы деревенским еще меньше, чем имя и лицо убийцы или убитой.
Но Байрон об этом не думал. Теперь ему было все равно, хотя какую-нибудь неделю назад он чувствовал бы себя по-другому. Тогда он не стоял бы здесь, где всякий может увидеть его и, чего доброго, узнать Байрон Банч – пожал, чего не сеял, хлопотал о чужой девке, пока ее милый добывал тысячу долларов. И ничего за это не получил. Байрон Банч – охранял ее доброе имя, когда она выкинула это доброе имя на помойку, помогал родить пригульного ребенка в тишине и покое, взял на себя все расходы, и за это ему позволили послушать детский крик. Не получил ничего, кроме разрешения привести к ней обратно другого мужчину, когда он выколотит свою тысячу, и Байрон станет не нужен. Байрон Банч «Теперь я могу уехать», – подумал он. Он начал глубоко дышать. Он чувствовал, что дышит глубоко, словно каждый раз тело пугалось, что при следующем вдохе оно недоберет воздуха, и случится что-то ужасное, и что в любой миг он может взглянуть на свою грудь – дышит ли – и не увидит никакого движения, как в динамитном патроне, когда он только начинает, напрягается для вот Вот ВОТ, а форма, наружность палочки не меняется; что прохожие, глядя на него, не замечают перемены: щуплый человек, на котором не задержишь взгляда, а взглянув, никогда не поверишь, что он мог сделать столько, сколько сделал, и чувствовать столько, сколько чувствовал; который верил, что там, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, у него не будет случая причинить себе горе.
Он шел среди людей. «Мне надо куда-то уехать», – думал он. Он мог шагать в такт: «Мне надо куда-то уехать». Это поможет ему идти. Он все еще повторял эти слова, когда подошел к пансиону. Его комната выходила на улицу. Еще не осознав, что он смотрит в ту сторону, он уже отвел взгляд. «Еще увижу, как кто-нибудь читает или курит в окне», – подумал он. Он вошел в коридор. После солнечного утра глаза ничего не видели. Он чувствовал запах влажного линолеума, мыла. «Все еще понедельник, – подумал он. – Я уж и забыл. Может, это – следующий понедельник. По всему похоже, что так». Он не дал знать о себе голосом. Глаза понемногу привыкли к темноте. Послышались шлепки швабры, то ли в конце коридора, то ли на кухне. Затем в прямоугольнике света – задней двери, тоже открытой, – показалась наклоненная голова миссис Бирд, а затем, силуэтом, вся фигура, двигавшаяся по направлению к нему.
– Так, – сказала она, – это мистер Байрон Банч. Мистер Байрон Банч.
– Я, – сказал он, думая: «Только толстая женщина, у которой забот в жизни разве что на это ведро наберется, не постарается быть…» Опять он не смог придумать слово, которое Хайтауэр наверняка бы знал и произнес не задумавшись. «Видно, я без него не только сделать ничего не могу – я и думать не могу без его помощи». – Я… – сказал он. И стоял там, не в силах даже объяснить, что пришел попрощаться. «Может, и нет, – размышлял он. – Когда человек прожил в комнате семь лет, его не выселяют в один день. Только вряд ли это помешает ей сдать комнату другому». – Я, кажется, задолжал вам за комнату, – сказал он.
Она смотрела на него: строгое, располагающее лицо, и нельзя сказать, что недоброжелательное.
– За что задолжали? – удивилась она. – Я думала, вы устроились. Переселились на лето в палатку. – Она смотрела на него. И тут наконец сказала. Она сделала это мягко и деликатно – в меру возможности: – Мне уже заплатили за эту комнату.
– А-а, – сказал он. – Ну да. Понятно. Ну да. – Он спокойно взглянул на чистую, застланную линолеумом лестницу, истертую в числе прочих и его ногами. Три года назад, когда настелили новый линолеум, он первым из жильцов поднялся по ней наверх. – Да, – сказал он. – Тогда мне, пожалуй, надо…
Она ответила и на это, сразу, без недоброжелательства:
– Я уже все сделала. Все, что вы оставили, собрала в ваш саквояж. Он у меня в комнате. Но если хотите, можете сами подняться и посмотреть.
– Нет. Я думаю, вы собрали все до… Ну, я, пожалуй…
Она наблюдала за ним.
– Эх вы, мужчины, – сказала она. – Неудивительно, что у женщин не хватает на вас терпения. Даже в шалопутстве меры не знаете. А мера-то, по правде сказать, – наперсток. И думаю, не приспособь вы какую-нибудь женщину себе на подмогу, вас бы всех до единого мальцами десятилетними уволокли бы в рай.
– По-моему, у вас нет причин говорить про нее плохо, – возразил он.
– Пусть так. А на что они? Женщине, чтобы другую бранить, причин не требуется. Спору нет, все эти разговоры по большей части идут от женщин. Но если бы соображения у вас было не как у мужчины, а побольше, вы бы знали: если женщина что и говорит, у ней это ничего не значит. Это мужчины принимают свои разговоры всерьез. И если кто имеет что-нибудь против нее и вас, то вовсе не женщины. Ведь всякой женщине понятно, что нет у ней причин плохо к вам относиться – даже если забыть про ребенка. И не только к вам – пока что к любому другому мужчине. Не с чего ей. Разве вы со священником, да и все остальные мужчины, которые про нее знают, не сделали для нее все, чего она только пожелать могла? С чего бы ей плохо относиться? Скажите на милость.
– Да, – промолвил Байрон. Он уже не смотрел на нее. – Я пришел…
Она ответила и на это, прежде чем он договорил:
– Вы, наверно, скоро от нас уедете. – Она наблюдала за его лицом. – Что они там надумали, нынче утром в суде?
– Не знаю. Они еще не кончили.
– Известное дело. Потратят времени, трудов и денег казенных прорву, чтобы разобраться там, где нам, женщинам, хватило бы десяти минут в субботний вечер. Надо же быть таким дураком. Конечно, в Джефферсоне по нем скучать не будут. Как-нибудь без него проживем. Но надо же быть таким дураком: подумать, будто мужчине от убийства женщины больше проку, чем женщине от убийства мужчины… Другого, наверно, теперь отпустят.
– Да. Наверно.
– А ведь сначала думали, что он ему помогал. И теперь отдадут ему тысячу долларов – показать, что, мол, зла на тебя не держим. А тогда они смогут пожениться. Ведь так примерно, нет?
– Так. – Он чувствовал, что она наблюдает за ним без недоброжелательства.
– Вот я и думаю, что скоро вы от нас уедете. Думаю, как бы сказать, сыты вы Джефферсоном, а?
– Да вроде того. Думаю подаваться…
– Джефферсон, конечно, городок хороший. Но не такой хороший, чтобы вольный человек вроде вас не нашел себе другого, где тоже можно время переводить на баловство и огорчения… А саквояж, если надо, можете оставить здесь, пока не соберетесь.
Он подождал до полудня, а потом еще немного. Подождал, пока шериф, по его представлениям, не закончил обед. И тогда пошел к шерифу домой. Он не стал входить. Он ждал у дверей, пока шериф не вышел – толстый человек с маленькими мудрыми глазками, упрятанными в толстое неподвижное лицо, как две чешуйки слюды. Они пошли рядышком, в тень, под дерево. Скамейки не было; на корточки, вопреки обыкновению (оба выросли в деревне), они тоже не сели. Шериф спокойно выслушал человека – спокойного, невысокого человека, который семь лет был для города не особенно интересной загадкой, и семь дней – чуть ли не бельмом на глазу.
– Понятно, – сказал шериф. – Вы считаете, что им пора пожениться.
– Не знаю. Это его дело и ее. Но думаю, надо бы ему пойти ее проведать. По-моему – самое время. Вы можете послать с ним помощника. Я ей сказал, что он вечером придет. А что они там решат – это дело его и ее. Не мое.
– Само собой, – сказал шериф. – Не ваше. – Он смотрел на Байрона сбоку. – А вы-то что собираетесь делать, Байрон?
– Не знаю. – Он тихонько возил ногой по земле и наблюдал за ней. – Думаю податься в Мемфис. Года два об этом подумываю. Может, уеду. А чего в этих маленьких городишках?
– Конечно. Мемфис город неплохой, если любишь городскую жизнь. Опять же семья на вас не висит, тащить за собой некого. Будь я одинокий да лет на десять помоложе, я бы, наверно, так же сделал. Да и устроился бы, глядишь, получше. Надо понимать, вы прямо сейчас собираетесь?
– Наверно, скоро. – Он поднял голову, потом снова опустил. Сказал: – Утром уволился с фабрики.
– Само собой, – сказал шериф. – Я догадываюсь, что вы не успели бы пройти такой конец с двенадцати, а к часу вернуться обратно. Ну, кажется… – Он замолчал. Он знал, что к вечеру присяжные вынесут Кристмасу обвинительный приговор, а Брауна – или Берча – отпустят на все четыре стороны, с условием явиться в будущем месяце на суд в качестве свидетеля. Хотя, на худой конец, обойдутся и без него, ибо Кристмас не отпирался, и шериф предполагал, что он признает себя виновным, чтобы остаться в живых. «Да и не вредно будет нагнать на сукина сына страху хоть раз в жизни», – подумал он. И продолжал: – Ну что ж, это можно устроить. Вы правы, я, конечно, пошлю с ним помощника. Хотя он и не сбежит, пока есть надежда сорвать часть премии. При том что он не знает, кто его там встретит. Он этого еще не знает.
– Да, – подтвердил Байрон. – Не знает. Не знает, что она в Джефферсоне.
– Ну что ж, так и сделаем – отправим его с помощником. Зачем – не скажем: отправим, и все. А может, сами хотите его проводить?
– Нет, – сказал Байрон. – Нет. Нет. – Но продолжал стоять.
– Так и сделаем. Вас уже, наверно, к тому времени не будет. С помощником его и наладим. В четыре, годится?
– Очень хорошо. Вы ей сделаете одолжение. Большое одолжение.
– А как же. Не я один – многие о ней заботились с тех пор, как она в Джефферсоне. Ну, я с вами не прощаюсь. Думаю, в Джефферсоне вас еще увидим. Не встречал я человека, чтобы пожил здесь, а потом уехал навсегда. Вот разве этот, который в тюрьме. Но он, думаю, признает себя виновным. Чтобы остаться в живых. Хотя все равно уедет из Джефферсона. Не сладко сейчас старухе, которая признала в нем внука. Когда я шел домой, старик ее был в городе, кричал и скандалил, людей обзывал трусами за то, что не вытащат его из тюрьмы на расправу. – Он начал пофыркивать. – Лучше бы поостерегся, не то доберется до него Перси Гримм со своим войском. – И сразу посерьезнел. – А ей несладко. Вообще женщинам. – Он посмотрел на Байрона сбоку. – Нам тут многим пришлось несладко. А все же возвращайтесь-ка вы поскорее. Может быть, в другой раз Джефферсон обойдется с вами поласковее.
В четыре часа того же дня, спрятавшись в укромном месте, он видит, как неподалеку останавливается машина и помощник шерифа с человеком, известным под фамилией Браун, выходят из нее и направляются к хибарке. Браун сейчас без наручников, и Байрон видит, как они подходят к двери и помощник вталкивает Брауна в дом. Потом дверь за Брауном закрывается, а помощник садится на ступеньку и достает из кармана кисет. Байрон поднимается на ноги. «Теперь можно ехать, – думает он. – Теперь можно». Прятался он в кустах на лужайке, где прежде стоял дом. За кустарником, невидимый ни из хибарки, ни с дороги, привязан мул. К вытертому седлу приторочен сзади потрепанный желтый чемодан, не кожаный. Байрон садится на мула и выезжает на дорогу. Он не оглядывается назад.
В мирном, клонящемся заполудне тянется вверх по холму мягкая рыжая дорога. «Ну, холм я выдержу, – думает он. – Холм я могу выдержать, человек может». Кругом покой и тишина, обжитое за семь лет. «Похоже, что человек может выдержать почти все. Выдержать даже то, чего он не сделал. Выдержать даже мысль, что есть такое, чего он не в силах выдержать. Выдержать даже то, что ему впору упасть и заплакать, а он себе этого не позволяет. Выдержать – не оглянуться, даже когда знает, что оглядывайся не оглядывайся, проку все равно не будет».
Склон все подымается; гребень. Байрон никогда не видел моря и поэтому думает: «Край, а за ним – как будто ничего. Как будто перевалишь через него – и дальше поедешь никуда. Где деревья выглядят и зовутся не деревьями, а чем-то другим, и люди выглядят и зовутся не людьми, а чем-то другим. А Байрону Банчу, ему там тоже не надо быть или не быть Байроном Банчем. Байрон Банч со своим мулом не будут ничем, когда понесутся вниз, а потом раскалятся, как преподобный Хайтауэр говорил про камни, что носятся в пространстве и, раскалясь от быстроты, сгорают, и даже пепел ихний не долетает до земли».
Но за гребнем холма вырастает то, чему и полагается там быть: деревья как деревья, страшная и утомительная даль, сквозь которую, гонимый кровью, он должен влачиться во веки веков от одного неизбежного горизонта земли до другого. Исподволь вырастают они, не грозно, не зловеще. То-то и оно. Им нет до него дела. «Не знают и знать не хотят, – думает он. – Как будто говорят: Ну хорошо. Ты говоришь, страдаешь. Хорошо. Но, во-первых, почему тебе верить на слово? А во-вторых, ты только говоришь, что ты Байрон Банч. И, в‑третьих, ты просто тот, кто называет себя Байроном Банчем сегодня, сейчас, сию минуту… Раз так, – думает он, – чего ради я лишу себя удовольствия оглянуться и не выдержать этого?» Он останавливает мула и поворачивается в седле.
Он не предполагал, что отъехал так далеко и что гребень – на такой вышине. Мелкой чашей, простершись до другой гряды холмов, где раскинулся Джефферсон, лежат под ним некогда обширные владения того, что семьдесят лет назад называлось плантаторским домом. Но теперь плантация раздроблена бестолочью негритянских лачуг, лоскутами огородов и пустырями, изъязвленными эрозией и заросшими дубняком, лавром, хурмой и шиповником. А точно посередке все еще стоит дубовая роща, как стояла, когда строили дом, только дома теперь там нет. Отсюда не видно даже шрамов пожарища; и ни за что бы не угадать, где был дом, если бы не дубы, да не развалина-конюшня, да не хибарка позади, к которой устремлен его взгляд. Четко, покойно стоит она под послеполуденным солнцем, похожая на игрушку; как игрушечный, сидит на приступке помощник шерифа. Байрон смотрит, и вдруг, как по волшебству, из-за хибарки появляется мужчина, уже бегущий, выбегающий из задней части хибарки – а помощник шерифа, ни о чем не подозревая, спокойно сидит перед дверью. Первое мгновение Байрон тоже сидит неподвижно, полуобернувшись в седле, и смотрит, как крохотная фигурка улепетывает по голому склону за хибаркой, к лесу.
И тут его как будто обдает холодным крепким ветром. Ветер свиреп и вместе с тем кроток; как мякину, сор или сухие листья, срывает и уносит он всю страсть и все отчаяние, безнадежность и горькую напрасную игру воображения. И кажется, тот же порыв отшвыривает назад его самого, опять порожнего, – отвеяв от всего, чего в нем не было две недели назад, когда он с ней еще не встретился. Желание этой минуты – больше чем просто желание: это убеждение, спокойное и твердое; еще не успев осознать, что мозг протелеграфировал руке, он свернул с дороги и скачет по гребню, который параллелен пути беглеца, уже скрывшегося в лесу. Он даже не назвал про себя имя этого человека. Он ни на секунду не задумался о том, куда человек бежит и почему. Ему не приходит в голову, что Браун опять удирает, как он сам предсказывал. Если бы он задумался, то решил бы, наверно, что Браун занят – на свой странный манер – каким-то совершенно законным делом, касающимся его и Лины отъезда. Но он совсем об этом не думал; он совсем не думал о Лине; не вспомнил о ней ни на миг, будто отроду не видел ее лица и не слышал имени. Он думает: «Я заботился о его женщине, я помог ей родить его ребенка. И теперь могу сделать для него еще одно дело. Я не могу их поженить, потому что я не священник. И, наверно, не смогу его догнать, потому что он далеко оторвался. И отлупить его, наверно, не смогу, потому что он больше меня. Но могу попытаться. Попытаться я могу».
Когда помощник шерифа зашел за ним в тюрьму, Браун сразу спросил, куда его поведут. В гости, ответил помощник. Браун замер, обернув к нему миловидное, притворно смелое лицо.
– Не к кому мне в гости ходить. Я тут чужой.
– Ты везде будешь чужой, – сказал помощник. – Даже дома. Пошли.
– Я американский гражданин, – возразил Браун. – У меня тоже есть права, хоть и не ношу жестяной звезды на помочах.
– Ну да, – сказал помощник шерифа. – А чем, по-твоему, я сейчас занимаюсь? Помогаю тебе вступить в свои права.
Браун просиял:
– Они что… Они хотят заплатить…
– Премию? Ну да. Я тебя сам сейчас сведу в то место, где ты получишь свою премию, если не раздумал.
Это охладило Брауна. Но он пошел, хотя и приглядывался к помощнику шерифа подозрительно.
– Что это вы всё с вывертом делаете-то? – сказал он. – В тюрьме меня держите, пока эти гады стараются меня обскакать.
– Не вылупилось, думаю, еще такого гада, чтобы в чем-нибудь тебя обскакал, – ответил помощник. – Пошли. Нас там ждут.
Они вышли из тюрьмы. На солнце Браун заморгал, озираясь по сторонам, потом дернул головой, по-лошадиному кося через плечо. У обочины ждала машина. Браун посмотрел на нее, а потом на помощника, очень серьезно, очень недоверчиво.
– Куда это мы едем? – спросил он. – С утра вроде мне и пешком недалеко было идти до суда.
– Уатт дал машину, чтобы легче было премию везти обратно, – пояснил помощник. – Залезай.
Браун хрюкнул.
– Чего это он вдруг захлопотал насчет моих удобств? И в машине пожалуйте, и без наручников. И один несчастный охранник, чтобы я не сбежал.
– Я тебе бежать не мешаю, – ответил помощник шерифа. Он замер на миг, еще не тронув машину с места. – Прямо сейчас хочешь?
Браун уставился на него угрюмо, озлобленно, оскорбленно, подозрительно.
– Ясно, – сказал он. – На арапа берет. Я, значит, сбегу, а он тогда сам хапнет тысячу долларов. Сколько из них он тебе обещал?
– Мне? Мы с тобой получим поровну, тютелька в тютельку.
Еще секунду Браун враждебно таращился на помощника. Потом выругался, бессильно и зло, неизвестно в чей адрес.
– Давай, что ли, – сказал он. – Ехать так ехать.
Они поехали на место пожара и убийства. То и дело, почти через равные промежутки, Браун дергал головой – как неоседланный мул, бегущий по узкой дороге от автомобиля.
– Мы зачем сюда едем?
– За твоей премией, – отвечал помощник шерифа.
– Где же я ее получу?
– Вон в той хибарке. Там она дожидается.
Браун окинул взглядом черные угли, некогда бывшие домом, хибарку, где он прожил четыре месяца, потрепанную непогодами, беспризорно дремлющую на солнце. Лицо у него было хмурое и настороженное.
– Что-то тут нечисто. Этот Кеннеди… думает, нацепил жестяную бляху, так можно плевать на мои права…
– Шагай, – сказал помощник шерифа. – А не понравится тебе премия, так я тебя жду, отвезу обратно в тюрьму, когда пожелаешь. Когда пожелаешь, в любую минуту. – Он подтолкнул Брауна вперед, распахнул дверь хибарки, втолкнул его внутрь, закрыл за ним дверь и сел на ступеньку.
Браун услышал, как за ним захлопнулась дверь. Он еще двигался вперед по инерции. И вдруг, не успев окинуть комнату быстрым, лихорадочным, всеохватывающим взглядом, которому словно не терпелось обшарить все углы, он стал как вкопанный. Лине было видно с койки, что белый шрамик возле рта бесследно исчез, словно прихлынувшая кровь сдернула шрам с лица, как белье с веревки. Она не проронила ни звука. Она лежала высоко на подушках, глядя на него трезвым взглядом, в котором не было ничего – ни радости, ни удивления, ни укора, ни любви, между тем как на его лице, словно издеваясь над предательским белым шрамиком, сменяли друг друга ошарашенность, возмущение и, наконец, форменный ужас, а загнанные глаза шныряли по пустой комнате. Ей было видно, как он усилием воли осадил их, словно пару напуганных лошадей, и стал заворачивать, чтобы они встретились с ее глазами.
– Так, так, – сказал он. – Так, так, так. Ты смотри – Лина. – Она видела, как он старается выдержать ее взгляд, удерживает свои глаза, словно лошадей, – понимая, что если они опять понесут, то он пропал, второй раз он их не повернет, не остановит. Она почти видела, как его ум кидается туда и сюда, загнанно, в ужасе, ища, что бы сказать языку, голосу. – Ей-богу – Лина. Да, брат. Значит, ты получила мое письмо. Я, как приехал, сразу тебе послал, в прошлом месяце, как устроился, – думал, потерялось… Этот малый, не знаю, как его звать, он сказал, что возьмет… С виду был ненадежный, да пришлось понадеяться, а потом подумал, когда дал ему десять долларов тебе на дорогу… – Его голос замер, только в глазах не унималось отчаяние. И она по-прежнему видела, как мечется, мечется его ум, и без жалости, без всякого чувства наблюдала за ним серьезным, немигающим, невыносимым взглядом, наблюдала, как он тычется, шарахается, юлит, покуда наконец остатки гордости – плачевные остатки гордости, усохшей до желания оправдаться, – не покинули его, лишив последнего прикрытия. И тогда она заговорила. Голос ее был тих, спокоен, холоден.
– Поди сюда, – сказала она. – Поди. Я ему не дам укусить тебя.
Он наконец сдвинулся с места, но – на цыпочках. Она заметила это, хотя уже не следила за ним. Она это знала, так же как знала, что сейчас он неуклюже и боязливо, с почтительной робостью подошел к ней и спящему ребенку. Но знала, что робеет он не перед ребенком и не из-за него. Она знала, что в этом смысле он ребенка даже не заметил. И все еще видела, чувствовала, как мечется, мечется его ум. Будет притворяться, что ему не страшно думала она У него хватит совести соврать, что он не боится, все равно как раньше хватило совести бояться из-за того, что врал
– Так, так, – сказал он. – Ну ты смотри, в самом деле, ребенок.
– Да, – отозвалась она. – Может, сядешь? – Стул, который придвинул Хайтауэр, все еще стоял возле койки. Браун давно его заметил. Для меня приготовила подумал он. И снова выругался, беззвучно, затравленно, с яростью Ух, гады. Ух, гады Но на лице его, когда он сел, ничего не отражалось.
– Да, брат. Вот мы и опять. Прямо как я задумал. Я бы все уже для тебя приготовил, да вот замотался с делами. Ой, забыл совсем… – Он опять судорожно, по-лошадиному, покосился через плечо. Лина на него не смотрела. Она сказала:
– Тут есть священник. Он меня уже навещал.
– Замечательно, – проговорил он. Голос был громкий, сердечный. Но сердечность казалась такой же недолговечной, как тембр, – прекращалась вместе со звуком слов, не оставляя после себя ничего, даже ясно выраженной мысли, чтобы услышать или принять на веру. – Просто замечательно. Вот только развяжусь с этими делами… – Глядя на нее, он произвел рукой неопределенное обнимающее движение. Лицо у него было пустое и бессмысленное. Глаза смотрели вкрадчиво, настороженно, скрытно, а в глубине их таилось все то же отчаяние загнанного животного. Но она на него не глядела.
– Ты на какой теперь работе? На строгальной фабрике?
Он следил за ней.
– Нет. Уволился оттуда. – Его глаза следили за ней. Казалось, глаза – не его и не имеют отношения ни к нему самому, ни к тому, что он делает и говорит. – Батрачить по десять часов в день, как паршивому нигеру? У меня тут наклюнулось дельце поденежней. Не то что это крохоборство – по пятнадцать центов в час. А как закончу, развяжусь там кой с какими мелочами, так мы с тобой сразу и… – Его глаза скрытно, напряженно, пристально наблюдали сбоку за ее опущенным лицом. Она опять услышала слабый резкий звучок, когда он дернул головой. – Ой, забыл совсем…
Она не пошевелилась. Сказала:
– Когда это будет, Лукас? – и услышала, ощутила мертвую тишину, мертвую неподвижность.
– Что когда?
– Сам знаешь. Про что ты говорил. Там, дома. Если бы я одна, все было бы ничего. Я никогда не обижалась. Но теперь другое дело. Теперь я имею право волноваться.
– А-а, это, – сказал он. – Это-то. Это ты не волнуйся. Дай мне только кончить дело, до денег добраться. Они мои законно. Пусть только эти гады попробуют… – Он осекся. Он уже повысил голос, словно забыл, где находится, или размышлял вслух. Теперь заговорил тише: – Ты не думай – я все сделаю. Главное, не волнуйся. Я ведь тебя еще ни разу не заставил волноваться, так ведь? Скажи.
– Да. Я никогда не волновалась. Я знала, что ты меня не подведешь.
– Конечно, знала. А эти гады… эти… – Он поднялся со стула. – Ой, забыл совсем… – Она не посмотрела на него и ничего не сказала, но он продолжал стоять, глядя на нее все тем же загнанным, отчаянным и наглым взглядом. Она как будто удерживала его тут и как будто знала это. И – отпустила его, сознательно, добровольно.
– Так у тебя, наверно, сейчас делов много.
– Честно говоря, да. Столько всякого навалилось, и еще эти гады… – Теперь она смотрела на него. Видела, как он поглядел на окно в задней стене. Потом он оглянулся на закрытую дверь. Потом поглядел на нее, на серьезное ее лицо, в котором либо ничего не отражалось, либо, наоборот, отражалось все – все, что можно знать. Он понизил голос: – У меня тут враги. Эти люди не хотят мне отдать, чего я заработал. Вот мне и надо… – И опять она точно удерживала его, толкая его и испытывая на ту последнюю ложь, против которой восставали даже его плачевные остатки гордости; удерживала не веревкой, не рогаткой, но чем-то таким, от чего его ложь отлетала легковесно, как сор или листья. Но она не сказала ни слова. Только наблюдала, как он идет на цыпочках к окну и бесшумно открывает его. Потом он оглянулся. Возможно, он считал, что теперь он в безопасности, что сумеет выскочить в окно раньше, чем она дотронется до него рукой. А может быть, заговорили жалкие остатки стыда, как раньше – гордости. Потому что, когда он оглянулся на нее, с него как будто спала на миг защитная шелуха вранья и пустословия. Он произнес почти шепотом: – Там на дворе человек. За дверью караулит. – И вылез в окно, без звука, в один прием, как длинная змея. Из-за окна донесся короткий слабый звук – это он бросился бежать. И только тут она вышла из неподвижности – вздохнула тяжело, один раз.
– Теперь мне опять подыматься, – сказала она вслух.
Браун выходит из лесу к железнодорожной полосе отчуждения запыхавшись. Но – не от усталости, хотя за двадцать минут он покрыл почти две мили, и дорога была не легкой. Это скорее злобное пыхтение спасающегося бегством зверя, а сейчас, когда он стоит перед пустынным полотном, поглядывая то налево, то направо, он и лицом напоминает зверя, который спасается в одиночку, особняком от собратьев, не желая их помощи, надеясь только на свои мускулы, и, остановившись на миг, чтобы перевести дух, ненавидит каждое дерево, каждую попавшуюся на глаза былинку, как заядлого врага, ненавидит самое землю, на которой стоит, сам воздух, которого ему не хватает.
Он вышел на железную дорогу в нескольких сотнях метров от того места, куда метил. Это – вершина подъема, и товарные составы с юга вползают сюда с неимоверным трудом, чуть ли не медленнее пешехода. Невдалеке от него двойная блестящая нить колеи будто обрезана ножницами.
Он стоит в лесу перед полосой отчуждения, спрятавшись за редкой изгородью деревьев. Стоит с видом человека, занятого лихорадочными и безнадежными расчетами, словно обдумывая последний отчаянный ход в уже проигранной игре. Стоит еще немного, будто прислушиваясь, потом поворачивается и снова бежит, лесом, вдоль полотна. Кажется, он точно знает, куда ему нужно; вскоре ему попадается тропинка, он сворачивает на нее, по-прежнему бегом, и наконец выскакивает на прогалину, где стоит негритянская лачуга. Он подходит к ней спереди, уже шагом. На крыльце сидит и курит трубку старуха негритянка, голова ее обмотана белой тряпкой. Браун не бежит, но дышит тяжело, часто. Стараясь умерить дыхание, обращается к ней.
– Здорово, бабуся, – говорит он. – Кто тут есть живой?
Старуха вынимает трубку.
– Я есть. А вам кого надобно?
– Записку в город послать. По-быстрому. – Он задерживает дыхание, пока говорит. – Я заплачу. Есть тут кому сбегать?
– Самим-то верней, коли такая спешка.
– Сказано тебе, заплачу! – повторяет он с каким-то терпеливым остервенением, сдерживая дыхание и голос. – Доллар, если живо отнесет. Есть тут, кто хочет заработать доллар? Ребята есть?
Старуха курит, глядя на него. Глаза на древнем, черном, непроницаемом лице созерцают его с отрешенностью небожителя, но отнюдь не милостиво.
– Доллар, стало быть?
Он отвечает неописуемым жестом – нетерпения, сдержанной ярости и чего-то, похожего на безнадежность. Он уже готов уйти, но его останавливает голос негритянки:
– Никого тут нет, я одна и ребятишек двое. Да они небось малы для вас.
Браун оборачивается:
– Чего малы? Всего-то нужно, чтобы по-быстрому записку отнесли к шерифу и…
– К шерифу? Это вы не туда попали. Чтобы они по шерифам болтались – не допущу. Мой-то нигер до того с шерифом подружился, что погостить у него вздумал. Да так домой и не вернулся. Вам бы еще где поискать.
Но Браун уже уходит. Пока что не бежит. Бежать еще не надумал; сейчас он вообще не способен думать. Бессильная ярость в нем граничит с экстазом. Он будто зачарован дивной, сверхъестественной какой-то безотказностью нечаянных своих провалов. И само то, что он так исправно обеспечен ими, как бы даже возвышает его над ничтожными человеческими желаниями и надеждами, которые ими упраздняются и сводятся на нет. Поэтому негритянке приходится крикнуть дважды, прежде чем он услышит и обернется. Она не сказала ни слова, не пошевелилась: просто окликнула его. Она говорит:
– Вот этот вам отнесет.
Возле крыльца, точно из-под земли выросши, стоит негр – то ли взрослый дурачок, то ли долговязый переросток. Лицо у него черное, застывшее и тоже непроницаемое. Они стоят и глядят друг на друга. Вернее, Браун глядит на негра. Глядит ли негр на него, ему не понять. И это тоже славно и логично и как нельзя кстати: что его последняя надежда и спаситель – скотина, у которой едва ли достанет умственных способностей найти город, не то что нужного человека. Снова Браун делает рукой неописуемый жест. Он рысью бежит назад, к крыльцу, хватаясь за карман рубашки.
– Отнеси записку в город и притащи ответ, – говорит он. – Сумеешь? – Но не ждет, что тот скажет. Вытащив из кармана замусоленную бумажку и огрызок карандаша, он нагибается над краем крыльца и на глазах у старухи старательно и торопливо выводит:
Вату Кенеди
Пожал 100 дайте тому кто ето принисет маи Деньги про песью 1000 за прступника Крсмса токо завирните в бумагу остаюс ваш
Он не подписывается. Он хватает записку с крыльца и пожирает ее взглядом, а старуха все смотрит на него. Он пожирает взглядом безобидную грязненькую бумажку и усердные торопливые каракули, в которые ухитрился вложить всю свою душу, а также жизнь. Потом он пришлепывает ее к крыльцу и выводит не подписываюс сами знаите Кто, складывает ее и протягивает негру.
– Отдай шерифу. Больше никому. Найдешь его?
– Если шериф его раньше не найдет, – вставляет старуха. – Дайте ему. Сыщет, если тот живой. Бери свой доллар, малый, да ступай.
Негр уже двинулся прочь. Теперь останавливается. Просто стоит, ничего не говоря, ни на кого не глядя. На крыльце сидит негритянка и, покуривая, смотрит сверху на слабое хищное лицо белого: лицо миловидное, как будто даже открытое, но усталостью – уже не просто физической – преображенное в маску затравленной лисы.
– Я думала, вам к спеху, – говорит она.
– Да, – отвечает Браун. Он вынимает из кармана монету. – На. А если за час принесешь мне ответ, получишь еще пять.
– Ступай, нигер, – приказывает старуха. – А то до завтра проканителишься. Вам сюда ответ принести?
Еще мгновение смотрит на нее Браун. Затем осторожность, стыд – все покидает его.
– Нет. Не сюда. Принеси вон на ту горку. Пойдешь по шпалам, я тебе крикну. И буду следить за тобой все время. Учти это. Понял?
– Вы не сомневайтесь, – вмешивается негритянка. – И записку отнесет, и ответ вам принесет, если его не задержат. Ступай.
Негр уходит. Но его задерживают – не далее как в полумиле от дома. Это – еще один белый, он ведет мула.
– Где? – произносит Байрон. – Где ты его видел?
– Только что. Вон там вон, дома. – Белый идет дальше, с мулом. Негр смотрит ему вслед. Записку он белому не показал, потому что белый не просил показать записку. Может быть, белый не знал, что у него есть записка, поэтому и не попросил ее показать; может быть, негр так и думает, потому что на лице его изображается неимоверная подспудная работа. Затем лицо проясняется. Он кричит. Белый оборачивается, замирает.
– Теперь его там нет, – кричит негр. – Он сказал, буду ждать у путей на горке.
– Благодарю, – говорит белый. Негр идет своей дорогой.
Браун вернулся на линию. Теперь он не бежал. Он говорил себе: «Не сделает он. Не сумеет. Я же знаю, он его не найдет, не получит их, не принесет сюда». Имен он не называл, не произносил про себя. Теперь ему казалось, что все они – и негр, и шериф, и деньги, все – просто фигурки, вроде шахматных, неожиданно и беспричинно передвигаемые туда и сюда Противником, который знает его ходы наперед и произвольно заводит новые правила, причем не для себя, а только для него. Перед концом подъема, когда он свернул с железной дороги и углубился в кусты, отчаянию его уже не было границ. Теперь он шел не спеша, параллельно полотну, строго соблюдая дистанцию, как будто ничего другого в мире, по крайней мере для него, не существовало. Он выбрал место, откуда мог незаметно наблюдать за дорогой, и сел.
«Да знаю ведь, что он не сделает, – думает он. – Я даже не жду его. Если бы я увидел, что он возвращается с деньгами в руках, я бы все равно не поверил. Он нес бы их не мне. Я бы сам это понял. Я бы знал, что это ошибка. Я бы сказал ему Ступай себе. Ты ищешь не меня, кого-то другого. Ты ищешь не Лукаса Берча. Нет, брат, Лукас Берч не заслужил этих денег, этой премии. Он ничего ради них не сделал. Ничегошеньки Он начинает смеяться; сидит неподвижно на корточках, опустив усталое лицо, и смеется. «Так-то, брат. Лукас Берч хотел одного – справедливости. Справедливости, больше ничего. Пусть он сказал этим гадам, кто убийца и где его искать, – они ведь не захотели. Не захотели, потому что пришлось бы отдать Лукасу Берчу деньги. Справедливости». Затем он говорит вслух, хриплым, плачущим голосом:
– Справедливости. Больше ничего. Только своих прав. А эти паразиты с жестяными бляхами… все до одного присягу давали – защищать американских граждан. – Он говорит хрипло, чуть не плача от злобы, отчаяния и усталости: – Гад буду, от этого прямо большевиком можно сделаться.
Поэтому он не слышит ни звука, пока Байрон не произносит у него за спиной:
– Встань на ноги.
Длится это недолго. Байрон знал, что так и будет. Но он не колебался. Он просто крался вверх по склону, пока не увидел сидящего Брауна; тут он остановился, глядя на согнутую, беззащитную сейчас фигуру. «Ты больше меня, – думал Байрон. – Но мне наплевать. У тебя передо мной все преимущества. Но мне и на это наплевать. Ты дважды за девять месяцев выбросил то, чего у меня не было ни разу за тридцать пять лет. А теперь я знаю, что меня измордуют, но мне наплевать и на это».
Длится это недолго. Браун, развернувшись, обращает себе на пользу даже то, что пойман врасплох. Он не способен поверить, что человек, застигнув врага сидящим, позволит ему встать на ноги – даже если враг слабее его. Сам бы он так не сделал. И что слабый поступил так, как не поступил бы он, – это было хуже, чем оскорбление, это была насмешка. И он дрался с еще большим остервенением, чем если бы Байрон напал на него сзади, – бился со слепой и отчаянной храбростью загнанной в угол крысы.
Длилось это меньше двух минут. Потом Байрон тихо лежал в потоптанном и поломанном подлеске, кровь тихо текла по его лицу, и треск в подлеске слышался все дальше, все тише, тонул в безмолвии. Теперь он один. Он не чувствует особенной боли, но что еще лучше – не чувствует острой нужды куда-то идти или что-то делать. И просто лежит, и кровь сочится потихоньку, и он знает, что немного погодя пора будет вернуться в мир, во время.
Ему неинтересно даже, куда девался Браун. Сейчас ему незачем думать о Брауне. Ум его снова занят неподвижными фигурами, вроде уволенных в отставку игрушек детства, сваленных как попало и тихо пылящихся в забытом чулане, – Браун; Лина Гроув; Хайтауэр; Байрон Банч, – мелкие, никогда не жившие вещицы, которыми он играл в детстве, а потом сломал и забыл. Так он и лежит, когда раздается свисток паровоза у переезда в полумиле от него.
Свисток его пробуждает; вот мир и вот время. Он садится, медленно, неуверенно. «По крайней мере я ничего не сломал, – думает Байрон. – То есть он мне ничего не сломал». Уже пора: уже время, и в нем – движение, расстояние. «Да. Надо двигаться. Надо на новое место – поискать, во что бы еще ввязаться». Поезд приближается. Паровоз задышал отрывистей и натужней, как будто почувствовал подъем; наконец Байрон видит дым. Он ищет в кармане платок. Платка нет, поэтому он отрывает от рубашки подол и осторожно прикладывает к лицу, прислушиваясь к коротким отрывистым хлопкам отработанного пара за самым гребнем подъема. Он переходит к краю кустарника, откуда видна колея. Паровоз уже показался и движется на него, выбрасывая раздельные тяжелые клубы черного дыма. Он производит впечатление ужасающей неподвижности. И все-таки движется, лезет с ужасающим упорством по склону, вползает на гребень. Стоя на опушке леса, с мальчишеским восторгом (а быть может, и завистью), вынесенным из деревенского детства, он следит за тем, как приближается паровоз, трудится, ползет мимо. Проползает; его глаза следят за ним, провожают по очереди вагоны, достигшие гребня, как вдруг, во второй раз за нынешний день, словно по волшебству, перед ним возникает бегущий человек.
Даже теперь он не понимает, куда нацелился Браун. Он слишком глубоко погрузился в одиночество и покой, чтобы любопытствовать. Он просто стоит и видит, как Браун бежит к поезду, ссутулясь, воровато хватается за железную лестницу в конце вагона, вспрыгивает и исчезает из виду, точно всосанный пустотой. Поезд набирает скорость; Байрон наблюдает, как приближается вагон, где исчез Браун. Вагон проходит; прицепившись к нему сзади, между ним и следующим вагоном, стоит Браун и, вытянув шею, вглядывается в кустарник. Они видят друг друга одновременно: два лица, одно – кроткое, невзрачное, в крови, и другое – осунувшееся, затравленное, искаженное беззвучным в грохоте поезда криком, расходятся как бы по несмежным орбитам, минуют друг друга, подобно призракам. Байрон все еще не думает. «Господи Боже милостивый, – говорит он с детским восторженным изумлением, – до чего же ловко сиганул на поезд. Сразу видно – не впервой». Он совсем не думает. Как будто движущаяся стена закопченных вагонов – плотина, и за нею – мир, время, надежда невероятная и определенность неоспоримая, ждут, даря ему последние мгновения покоя. Так или иначе, когда проходит последний вагон, уже разогнавшись, мир накатывает на него исполинской волной. Она слишком стремительна и огромна для мерок времени и расстояния; поэтому той же тропой не вернуться, и он долго ведет мула под уздцы, прежде чем вспоминает, что можно влезть на него и поехать. Он как будто давно и намного опередил себя, давно ждет у хибарки, чтобы догнать себя и войти. И тогда я стану там и… Он пробует снова: тогда я стану там и… Но дальше продвинуться не может. Он уже опять на дороге, навстречу, из города, едет повозка. Время – около шести. Он все еще не оставляет попыток Дальше, я чувствую, заколодило, но пускай: когда я открою дверь, и войду, и стану там. И тогда. Я. Посмотрю на нее. Посмотрю на нее. Посмотрю на нее… Тут голос повторяет:
– …видно, катавасия.
– Что? – спрашивает Байрон. Повозка остановилась. Она, оказывается, около него; мул стоит на месте. Мужчина на сиденье повозки снова говорит глухим обиженным голосом:
– Вот, черт, нескладно. Как раз когда мне домой ехать. И так запоздал.
– Катавасия? – переспрашивает Байрон. – Какая катавасия?
Человек разглядывает его.
– Посмотреть на ваше лицо, так подумаешь, что у вас своя была катавасия.
– Упал, – объясняет Байрон. – А что там в городе за катавасия?
– Я думал, вы слышали. С час примерно назад. Нигер этот, Кристмас. Кончили его.
19
В этот понедельник вечером, усевшись за ужин, город удивлялся не тому, как Кристмасу удалось бежать, а почему, вырвавшись на волю, он искал убежища в таком месте, зная, что там его наверняка настигнут, и почему, когда это произошло, он не сдался, но и не оказал сопротивления. Как будто замыслил и рассчитал в подробностях пассивное самоубийство.
Высказывалось множество догадок, объяснений, почему он в конце концов искал спасения в доме Хайтауэра. «Рыбак рыбака», – утверждали самые прыткие, непосредственные, вспоминая старые сплетни про священника. Другие полагали, что это чистая случайность; третьи доказывали, что он рассудил здраво, ибо никому и в голову не пришло бы искать его у священника, если бы кто-то не заметил, как он пробежал через задний двор на кухню.
У Гэвина Стивенса[46], однако, была другая теория. Он – окружной прокурор, выпускник Гарварда и член общества Фи-Бета-Каппа[47] – высокий нескладный мужчина с лохматой седеющей шевелюрой, одет всегда в мятый просторный темно-серый костюм и неразлучен с кукурузной трубкой. Род его – из старинных в Джефферсоне; его предки владели здесь рабами, а его дед знал (и тоже ненавидел и публично поздравил полковника Сарториса с их смертью) деда и брата мисс Берден. У него спокойная, непринужденная манера разговаривать с деревенскими, с избирателями и присяжными; летом его нередко можно видеть на веранде деревенской лавки среди людей в комбинезонах – он способен просидеть тут на корточках с обеда до вечера, беседуя с ними ни о чем на их наречии.
В этот понедельник вечером с девятичасового поезда сошел профессор Миссисипского университета[48] – однокашник Стивенса по Гарварду, приехавший на несколько каникулярных дней к приятелю в гости. Стивенса он увидел, как только сошел с поезда. Он решил, что Стивенс встречает его, но оказалось, что Стивенс, наоборот, провожает на поезд странную пожилую чету. Профессор разглядел маленького грязного старика с короткой козлиной бородкой, пребывавшего в каком-то сонном оцепенении, и старуху, должно быть его жену, – приземистое, расплывшееся существо с непропеченным лицом, над которым колыхалось грязное белое перо, в шелковом платье старомодного покроя и царственного угасающего цвета. Профессор приостановился, с любопытством и удивлением наблюдая, как Стивенс вкладывает старухе в руку, точно ребенку, два билета на поезд; подойдя поближе, профессор услышал, как Стивенс, все еще не замечавший его, напутствовал стариков, которых подсаживал в тамбур дежурный. «Да, да, – успокаивал их Стивенс, видимо, подводя итог предыдущему разговору, – завтра утром его отправят на поезде. Я за этим прослежу. Вам надо только распорядиться насчет похорон и кладбища. Отвезите дедушку домой и уложите в постель. Я позабочусь о том, чтобы мальчика утром отправили на поезде».
Потом поезд тронулся, Стивенс обернулся и увидел профессора. Он начал свой рассказ по дороге в город, а кончил, когда они сидели на веранде в доме Стивенсов – и подвел итог: «Кажется, я понимаю, почему он так поступил, почему в конце концов побежал искать спасения в доме Хайтауэра. Я думаю, из-за бабки. Она была у него в камере как раз перед тем, как его увели обратно в суд; она и дед – тот рехнувшийся старичок, который хотел учинить над ним расправу и для этого прибыл сюда из Мотстауна. Не думаю, чтобы старуха хоть сколько-нибудь надеялась спасти его, когда ехала сюда, – всерьез надеялась. По-видимому, она хотела только одного: чтобы он умер «как положено», по ее выражению. Был повешен, как положено, властью, законом; не сожжен, не искромсан, не затаскан до смерти толпой. Думаю, она приехала сюда специально, чтобы следить за стариком, чтобы он не оказался той вороной, которая накаркает грозу, – она не спускала с него глаз. То есть она, конечно, не сомневалась, что Кристмас ее внук, понимаете? Она просто не надеялась. Разучилась надеяться. Я представляю себе, что после тридцати лет простоя механизм надежды не запустишь, не стронешь с мертвой точки за одни сутки.
Но, видимо, когда под напором безумия и убежденности старика ей пришлось стронуться с места физически, ее незаметно захватило. Они явились сюда. Приехали ранним поездом, около трех часов ночи, в воскресенье. Она не пыталась увидеться с Кристмасом. Возможно – караулила старика. Впрочем, едва ли поэтому. Думаю просто, что механизм надежды не успел заработать к тому времени. Едва ли он мог заработать до тех пор, пока здесь утром не родился ребенок – буквально у нее на глазах; опять-таки – мальчик. Матери ребенка она раньше не видела, отца не видела вообще и внука своего никогда не видела взрослым; так что для нее этих тридцати лет просто не стало. Они рассеялись как дым, когда закричал этот младенец. Больше не существовали.
Слишком быстро все это на нее навалилось. Слишком много действительности, которой не могли отрицать ее глаза и руки, и слишком много того, что надо принимать на веру, нельзя проверить руками и глазами; слишком много необъяснимого было в руках и перед глазами, и слишком внезапно потребовалось усвоить и принять это без доказательств. После тридцати таких лет она, наверно, очутилась в положении человека, который вдруг угодил из одиночки в комнату, полную незнакомых галдящих людей, и заметалась, ища способа уберечь рассудок – любого логичного образа действий, лишь бы он был в пределах ее возможностей, казался ей более или менее осуществимым. Пока не родился этот ребенок, что позволило ей отойти, так сказать, в сторонку, она была чем-то вроде куклы с механическим голосом, которую возил за собой на тележке этот Банч и давал ей сигнал, когда нужно говорить – как, например, вчера ночью, когда он повел ее рассказывать свою историю доктору Хайтауэру.
А она, понимаете, все еще шарила. Все еще пыталась найти для ума своего, который не очень-то, видимо, был загружен последние тридцать лет, что-нибудь такое, во что бы он поверил, признал действительным, настоящим. И думаю, что нашла она это именно там, у Хайтауэра – у человека, которому можно было все рассказать, который согласился ее слушать. Очень может быть, что там-то она и высказалась впервые. И очень может быть, что только тут сама впервые поняла, действительно уяснила свою историю целиком и в подлинности, одновременно с Хайтауэром. Поэтому стоит ли удивляться, что она на какое-то время перепутала не только детей, но и родителей – ведь в лачуге последних тридцати лет не существовало: этот ребенок и его отец, которого она никогда не видела, ее внук, которого она не видела с такого же грудного возраста, и его отец, тоже никогда для нее не существовавший, – все перепуталось. И когда надежда наконец ожила в ней – стоит ли удивляться, что она со свойственной этому типу возвышенной и безграничной верой в людей, которые суть добровольные рабы и слуги молитвы, сразу обратилась к священнику.
Вот о чем она говорила сегодня в камере с Кристмасом, после того как старик, улучив минуту, сбежал, а она погналась за ним в город и опять нашла его на углу, где он, совсем уже обезумев и осипнув, проповедовал самосуд, рассказывал людям про то, как взял под опеку дьявольское отродье, как вынянчил его для нынешнего дня. А может быть, она просто шла в это время из хибарки к внуку в тюрьму. Во всяком случае, как только она увидела, что аудиторию речи старика скорее развлекают, чем волнуют, она оставила его и направилась к шерифу. Он только что вернулся с обеда и долго не мог понять, чего она хочет. Она, наверно, показалась ему просто ненормальной – со всей этой историей, в этом своем нелепо-благопристойном воскресном платье и с планами побега на уме. Но в тюрьму он ее пустил – с помощником. Там-то, в камере, она, наверно, и сказала ему про Хайтауэра – что Хайтауэр может его спасти, намерен его спасти.
Я, конечно, не знаю, что она ему там говорила. Вряд ли кто-нибудь сможет воспроизвести эту сцену. И едва ли она сама знала, заранее обдумывала, что ему сказать, – ведь все было сказано и записано в ту ночь, когда она родила его мать, хранилось в памяти с незапамятных теперь уже времен, не подверженное забвению: забылись только слова. Может быть, поэтому он и поверил ей сразу, не усомнившись. Точнее – потому что она не раздумывала, как ему сказать и насколько правдоподобным, возможным или невероятным ему это покажется: что где-то, как-то, телом ли своим, присутствием или чем еще, этот старый изгой-священник оградит его – не только от полиции или толпы, но и от самого непоправимого прошлого; от невесть каких преступлений, которые вылепили и закалили его и в конце концов привели в камеру, где взгляд повсюду натыкается на тень грядущего палача.
И он ей поверил. Я думаю, отсюда и взялось у него не столько мужество, сколько пассивное терпение, чтобы углядеть, принять и вынести эту соломинку – чтобы вырваться в наручниках посреди запруженной народом площади и бежать. Но слишком много было набегано, слишком много гналось за ним. Не преследователей – своего: годы, поступки, дела, совершенные и упущенные, гнались за ним по пятам, шаг в шаг, дых в дых, стук в стук сердца, а сердце было одно. И убили его не только эти тридцать лет, которых она не знала, но и все те прошлые и позапрошлые тридцатилетия, которые загрязнили его белую кровь – или его черную кровь, как вам будет угодно. Но сперва, должно быть, он бежал веря; по крайней мере – надеясь. Только кровь не желала молчать, быть спасенной. Ни та, ни другая не уступали и не дали телу спасти себя. Потому что черная кровь погнала его сперва к негритянской лачуге. А белая кровь выгнала его оттуда, и за пистолет схватилась черная кровь, а выстрелить не дала белая. И это белая кровь толкнула его к священнику, это она, взбунтовавшись в последний раз, толкнула его, вопреки рассудку и действительности, в объятия химеры, слепой веры во что-то вычитанное в печатном Писании. И тут, мне кажется, белая кровь изменила ему. Всего на секунду, на миг – и черная вскипела в последний раз, заставив его наброситься на человека, в котором он чаял свое спасение. Это черная кровь вынесла его за черту человеческой помощи, вынесла в самозабвенном восторге из черных дебрей, где жизнь кончается раньше, чем остановилось сердце, а смерть – утоление жажды. А потом черная кровь снова его подвела – наверное, как всегда в решительные минуты жизни. Он не убил священника. Он только ударил его пистолетом, пробежал дальше и, скорчившись за столом, в последний раз восстал против черной крови, как восставал против нее тридцать лет. Он скорчился за опрокинутым столом и дал себя расстрелять – держа в руке заряженный пистолет и не выпустив ни одной пули».
В это время в городе жил молодой человек по имени Перси Гримм. Ему было лет двадцать пять, и он был капитаном национальной гвардии[49]. Он родился и прожил в городе всю жизнь, если не считать летних сборов. На европейскую войну он не попал по возрасту, но только в 1921 или 22-м году понял, что никогда этого родителям не простит. Его отец, торговец скобяным товаром, не понимал его. Он считал, что парень просто лодырь и вряд ли из него выйдет что-нибудь путное, – между тем как юноша переживал страшную трагедию: он не просто опоздал родиться, он опоздал на такую малость, что ему пришлось из первых рук узнать о том невозвратимом времени, когда ему следовало быть мужчиной, а не ребенком. И теперь, когда воинственные страсти поостыли, а те, кто горячился больше всех, и даже сами герои – те, кто служил и страдал, – стали поглядывать друг на друга косо, ему не с кем было поделиться, некому излить душу. Первая серьезная драка была у него с фронтовиком, который высказался в том смысле, что если бы он опять попал на войну, то дрался бы за немцев против Франции. Гримм тут же его одернул.
– И против Америки, значит? – сказал он.
– Если у Америки хватит дурости опять выручать французов, – ответил солдат. Гримм сразу его ударил; он был мельче солдата, ему еще не исполнилось двадцати. Исход был предрешен; даже Гримм, несомненно, понимал это. Но он держался до тех пор, пока сам солдат не попросил зрителей оттащить мальчишку. И шрамами, полученными в этом бою, он гордился так же, как впоследствии – самим мундиром, за честь которого безоглядно сражался.
Спас его новый закон о реорганизации армии[50]. Долгое время он словно плутал в темноте по болоту. И не только не видел впереди дороги – он знал, что ее нет. И тут вдруг перед ним открылась ясная и определенная жизнь. Потерянные годы, когда он не обнаруживал в школе способностей, когда он считался строптивым, лишенным честолюбия лентяем, канули в прошлое, были забыты. Жизнь, открывшаяся его глазам, несложная и бесповоротная, как голый коридор, навсегда избавляла его от необходимости думать и выбирать, и ноша, которую он взял на себя, была блестящей, невесомой и боевой, как латунь его знаков различия: возвышенная и слепая вера в физическую храбрость и беспрекословное повиновение, уверенность в том, что белая раса выше всех остальных рас, а американская раса выше всех белых, а американский мундир превыше всего человечества, и самое большее, чего могут потребовать от него в уплату за это убеждение и эту честь, – его собственная жизнь. По всем национальным праздникам, имевшим даже самый легкий военный аромат, он надевал капитанскую форму и являлся в город. И когда он шел среди штатских, сверкая снайперским значком (он был отличный стрелок) и нашивками на погонах, серьезный и подтянутый, на лице его было выражение воинственности и вместе с тем застенчивой мальчишеской гордости, и все, кто видел его, вспоминали ту драку с бывшим солдатом.
Он не состоял в Американском легионе[51], и это была вина родителей, а не его. Но в ту субботу, когда Кристмаса привезли из Мотстауна, он сразу отправился к командиру поста. Его мысль, его слова были до крайности просты и однозначны.
– Мы отвечаем за порядок, – сказал он. – Мы должны блюсти интересы закона. Закона и страны. Никто из штатских не вправе приговорить человека к смерти. И проследить за этим должны мы, солдаты Джефферсона.
– Откуда вы знаете, что у кого-то есть на этот счет другие планы? – спросил командир легиона. – Вы слышали такие разговоры?
– Не знаю. Не прислушивался. – Он не врал. Казалось, он слишком мало придает значения разговорам штатских, чтобы еще врать на этот счет. – Не в этом суть. Суть в том, будем ли мы, солдаты, носившие форму, первыми, кто заявит о своей позиции в этом деле. Покажем ли сразу людям, какова позиция правительства в таких делах. Покажем, что от них даже разговоров не требуется. – Его план был до крайности прост. Сформировать из поста легиона взвод под его началом, учитывая его воинское звание. – А не захотят, чтоб я ими командовал, – не надо. Пусть скажут, я буду заместителем. Или сержантом, или капралом. – И это были не пустые слова. Он не искал суетной славы. Он был слишком искренен. Настолько искренен, настолько лишен юмора, что командир легиона воздержался от насмешливого отказа, просившегося на язык.
– Я все-таки не вижу в этом необходимости. А если бы она и была, мы все равно обязаны действовать как гражданские лица. Я не могу использовать пост таким образом. В конце концов, мы уже не солдаты. А если бы я и мог, я едва ли бы захотел.
Гримм посмотрел на него, но не с гневом, а скорее как на букашку.
– А ведь вы когда-то носили форму, – произнес он как-то даже терпеливо. И добавил: – Надеюсь, вы своей властью не воспрепятствуете мне поговорить с ними? Как с частными лицами?
– Нет. Да и не в моей это власти. Но учтите – только как с частными лицами. На меня вы не должны ссылаться.
И тут Гримм сказал ему, что он о нем думает.
– А я и не собирался, – ответил он. И ушел.
Это было в субботу, часа в четыре. До конца дня он обходил магазины и конторы, где работали члены легиона, и к наступлению темноты ему удалось разжечь достаточно народу, чтобы набралось на хороший взвод. Он был сдержан, но неутомим и напорист; заразительно, по-пророчески одержим. Однако его добровольцы сходились с командиром поста в одном: официально легион должен быть ни при чем, – и, таким образом, без всякого сознательного намерения Гримм достиг первоначальной цели: теперь он мог быть командиром. Он собрал их перед самым ужином, разбил на отделения, назначил офицеров и штаб; у молодых, не побывавших во Франции, начал просыпаться должный боевой задор. Он обратился к ним с краткой сухой речью:
– …порядок… правосудие свершится… пусть люди видят, что мы носили американскую форму… И еще одно. – Тут он на минуту снизошел до фамильярности: командир полка, знающий своих людей по именам: – Это вам решать, ребята. Я сделаю, как вы скажете. Я думаю, было бы неплохо, если бы я ходил в форме, пока все не кончится. Пусть видят, что Дядя Сэм[52] не только душою с вами.
– Но его с вами нет, – живо возразил один из них; он был из той же породы, что и командир поста, который, кстати говоря, отсутствовал. – Правительства это дело пока не касается. Это может не понравиться шерифу. Это дело Джефферсона, а не Вашингтона.
– Сделайте так, чтобы понравилось, – сказал Гримм. – Чему служит ваш легион, как не защите Америки и американцев?
– Нет, – отвечал тот. – По-моему, нам лучше не устраивать из этого парада. Все, что надо, мы можем сделать и так. Даже лучше. Правильно, ребята?
– Хорошо, – согласился Гримм. – Будь по-вашему. Но каждому из вас понадобится пистолет. Осмотр стрелкового оружия – здесь через час. Всем явиться сюда.
– А что скажет Кеннеди насчет пистолетов? – спросил кто-то.
– Об этом позабочусь я, – сказал Гримм. – Явиться сюда с личным оружием ровно через час.
Он разрешил им разойтись. Он прошел через тихую площадь к кабинету шерифа. Шериф дома, сказали ему.
– Дома? – повторил он. – Сейчас? Что он может делать сейчас дома?
– Кушает, наверно. Такому большому мужчине надо кушать несколько раз в день.
– Дома, – повторил Гримм. В глазах его не было гнева; они смотрели так же холодно и бесстрастно, как перед тем – на командира легиона. – Кушает.
Он вышел быстрым шагом. Он снова пересек площадь, тихую, пустую площадь этого мирного городка в мирном округе, чьи жители мирно усаживались ужинать. Он отправился к шерифу домой. Шериф сразу сказал «нет».
– Чтобы пятнадцать – двадцать человек толклись на площади с пистолетами в карманах? Нет, нет. Не годится. Мне это не подходит. Не годится. Позволь уж мне тут распоряжаться.
Гримм еще секунду смотрел на шерифа. Потом он повернулся и быстрым шагом пошел прочь.
– Ладно, – сказал он. – Как хотите. Я вам не буду мешать, но и вы мне не мешайте. – В голосе его не было угрозы. Он звучал слишком сухо, слишком категорично, слишком бесстрастно. Гримм быстро удалялся. Шериф смотрел ему вслед; потом окликнул. Гримм обернулся.
– И свой оставь дома, – сказал шериф. – Слышишь? – Гримм не ответил. Пошел дальше. Шериф, нахмурясь, смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду.
Вечером, после обеда, шериф опять пошел в город, чего не делал уже много лет – разве только по какому-нибудь срочному, неотложному делу. Перед тюрьмой его встретил наряд гриммовских людей, в суде – другой, третий патрулировал близлежащие улицы. Шерифу сказали, что остальные, смена, собрались в хлопковой конторе, где служит Гримм: там у них караулка, штаб. Шериф застал Гримма на улице за поверкой караулов.
– Поди-ка сюда, парень, – сказал шериф. Гримм остановился. Но не подошел; шериф сам двинулся к нему. Толстой рукой похлопал его по заднему карману. – Я же тебе сказал, оставь его дома. – Гримм не отвечал. Он хладнокровно глядел на шерифа. Шериф вздохнул. – Ну что ж, раз ты упрямишься, придется назначить тебя специальным помощником. Но пистолет свой и показывать не смей, пока я тебе не скажу. Слышишь?
– Ну да, – сказал Гримм. – Конечно, вы не хотите, чтобы я вытаскивал пистолет, пока не будет надобности.
– Я говорю: пока я тебе не скажу.
– Ну да, – сразу ответил Гримм, бесстрастно и терпеливо. – А я что говорю? Не беспокойтесь. Я буду на месте.
Позже, когда город угомонился на ночь, когда опустел кинотеатр и позакрывались одна за другой аптеки, взвод Гримма начал расходиться. Он не возражал, он холодно наблюдал за ними; они конфузились, чувствовали себя неловко. Опять, сам того не ведая, он получил козырь. Сегодняшняя неловкость, чувство, что им далеко до его холодного рвения, заставит их завтра вернуться – хотя бы для того, чтобы доказать ему. Некоторые остались – все равно выходной; кто-то где-то раздобыл еще несколько стульев, и сели играть в покер. Игра шла всю ночь, хотя время от времени Гримм (сам он не играл и заместителю своему – единственному, кто тоже имел звание, соответствующее офицерскому, – не позволил) высылал наряд патрулировать площадь. Позже к ним присоединился дежурный из полиции, но и он не принял участия в игре.
Воскресенье прошло тихо. Весь день потихоньку играли в покер, изредка отрываясь для патрульных вылазок; тихо звонили церковные колокола, и прихожане собирались чинными, по-летнему пестрыми группами. На площади уже знали, что завтра будет заседать большой суд присяжных. Сам звук этих слов, наводивший на мысли о чем-то тайном и неотвратимом, о всевидящем и недреманном оке, которое скрытно следит за делами людскими, убеждал подчиненных Гримма в непритворности затеянного представления. Так неожиданно и прихотливо податлива бывает человеческая душа, что город, сам того не понимая, вдруг признал Гримма, стал взирать на него с уважением, пожалуй, даже с некоторым трепетом и изрядной долей веры, словно его предвидение, патриотизм, гордость за свой город и выпавшую им роль оказались живее и вернее, чем у них. Его люди, во всяком случае, признали это и усвоили; после бессонной ночи, тревоги, выходного дня, жертвенного отречения от собственной воли они были взвинчены до того, что, наверно, пошли бы ради него на смерть, если бы представился случай. Теперь их озаряли отблески мрачного, вселяющего трепет света, почти столь же явственные, как хаки, в котором их желал бы видеть, хотел увидеть Гримм, – словно всякий раз, вернувшись в караулку, они заново облачались в картинные, величаво-суровые лоскутья его видений.
Так прошла вся воскресная ночь. Игра в покер продолжалась. Предосторожности, скрытность, окружавшие ее, были отброшены. Теперь все делалось без стеснения, с безоблачной уверенностью, доходящей до бравады: ночью, когда на лестнице раздались шаги полицейского и кто-то из них сказал: «Берегись, военная полиция», они перекинулись твердыми, ясными, полными бесшабашной удали взглядами, и еще кто-то громко предложил: «Спустим гада с лестницы», а третий сложил губы и произвел допотопный звук. Так что наутро, когда стали подъезжать первые повозки и машины из деревень, взвод был опять сплочен. И теперь у них была форма. Их лица. В большинстве это были люди одного возраста, поколения, жизненного опыта. Но роднило их не только это. Глубокой и мрачной серьезностью веяло от них, когда они стояли в людском круговороте, серьезные, суровые, неприступные, и хмурыми пустыми глазами глядели на толпу, которая текла мимо и, что-то чувствуя, ощущая в них, но не понимая, глазела, замедляла ход, так что они все время были в кольце лиц, завороженных, бессмысленных и неподвижных, как коровьи морды, надвигавшихся и уплывавших, чтобы смениться новыми. И все утро гудели, замирали голоса, тихо спрашивали, отвечали: «Вон идет. Вон тот, молодой, с автоматическим пистолетом. Он у них командир. Уполномоченный офицер от губернатора. Он тут всем распоряжается. От шерифа сегодня ничего не зависит».
Позже, когда все было кончено, Гримм сказал шерифу:
– Что бы вам меня послушаться. Я бы вывел его из камеры под охраной целого отделения, – так нет, надо было отправлять его через всю площадь с одним помощником и даже наручниками к нему не примкнуть – да еще в такой толчее, где этот раззява Бьюфорд все равно бы побоялся стрелять, даже если бы умел с двух шагов попасть в ворота.
– Откуда же я знал, что он вздумает бежать, да еще прямо здесь? – ответил шериф. – Ведь Стивенс сказал мне, он хочет признать себя виновным, чтобы получить пожизненное.
Но было уже поздно. Все уже было кончено. Произошло это в центре площади, на полпути от тротуара к зданию суда, посреди толпы, густой, как в ярмарочный день, но Гримм узнал о побеге только тогда, когда услышал, как помощник шерифа дважды выстрелил в воздух. Он сразу понял, в чем дело, хотя сам находился в здании суда. Он отреагировал четко и мгновенно. Уже побежав на выстрелы, он крикнул через плечо тому, кто последние двое суток неотступно таскался за ним в качестве не то адъютанта, не то ординарца:
– Включи пожарную сирену!
– Пожарную сирену? – переспросил тот. – Зачем?
– Включи пожарную сирену! – крикнул через плечо Гримм. – Не важно, что они подумают. Лишь бы знали, что… – Он не докончил – исчез.
Он бежал среди бегущих, настигая и обгоняя их, потому что у него была цель, а у них не было, они просто бежали, – и черный тупой громадный пистолет разваливал перед ним толпу, как плуг. Они глядели на его строгое, напряженное, молодое лицо, обернув к нему белые лица, зияющие круглыми зубастыми дырами, и тянулся за ним долгий шелестящий звук, похожий на вздох: «…туда… побежал в ту сторону…» Но Гримм уже увидел помощника шерифа – тот бежал, подняв пистолет. Гримм кинул взгляд по сторонам и ринулся дальше; в гуще людей, сквозь которую, по-видимому, пришлось прокладывать себе путь помощнику шерифа с заключенным, всегдашний долговязый паренек в форме телеграфиста вел свой велосипед за рога, как послушную корову. Гримм сунул пистолет в кобуру, отшвырнул мальчишку в сторону и вскочил на велосипед – все это, ни на секунду не прервав движения.
На велосипеде не было ни звонка, ни рожка. Но люди как-то чувствовали приближение Гримма и расступались; и здесь, казалось, ему прокладывала путь убежденность, слепая и безоблачная вера в непогрешимость и правоту своих действий. Догнав бегущего помощника шерифа, он притормозил. Помощник повернул к нему потное лицо с разинутым от бега и крика ртом.
– Он свернул! – завопил помощник. – В проулок за…
– Знаю, – сказал Гримм. – Он в наручниках?
– Да! – ответил тот.
Велосипед рванулся вперед.
«Значит, быстро бежать он не может, – думал Гримм. – Скоро должен залечь. Хотя бы убраться с открытого места». Гримм стремительно свернул в проулок. Он проходил между двумя домами, по одной стороне тянулся тесовый забор. Тут впервые загудела сирена; протяжный вопль ее медленно нарастал и наконец словно взвился за пределы слуха – беззвучной дрожью, доступной лишь осязанию. Гримм несся вперед, и мысль его работала быстро, логично, с каким-то яростным и сдержанным восторгом. «Первым делом ему надо скрыться из виду», – думал он, оглядываясь по сторонам. По одну сторону пространство просматривалось, по другую стоял забор выше человеческого роста. Он неожиданно заканчивался воротами, за которыми был луг, а еще дальше – глубокий ров, городская граница. Макушки высоких деревьев, росших на дне, едва виднелись над землей. Во рву мог укрыться и развернуться полк. «Эх», – произнес он вслух. Не остановившись и не сбавив хода, он повернул и погнал по проулку обратно, на улицу, которую только что покинул. Вой сирены теперь замирал, падал, снова обращаясь в звук, и, вылетев по дуге на улицу, Гримм увидел на миг бегущих людей и мчащийся в его сторону автомобиль. Хотя он крутил педали изо всех сил, машина поравнялась с ним, люди высунулись, прокричали ему прямо в застывшее, устремленное вперед лицо: «Влезайте сюда! – крикнули они. – Сюда!» Он не ответил. Не взглянул на них. Машина пронеслась мимо, сбавляя ход; теперь он опять обогнал ее, стремительно, плавно и беззвучно; машина опять прибавила скорость и обогнала его; седоки, высунувшись, глядели вперед. Он тоже ехал быстро, беззвучно, со стремительной легкостью призрака, неумолимо и неуклонно, как колесница Джаггернаута[53] или Судьба. Позади снова заходилась сирена. Когда люди в машине опять оглянулись, его уже не было.
На полном ходу он свернул в другой проулок. Его спокойное окаменевшее лицо все еще светилось радостью исполненного желания, угрюмым весельем. Этот проулок был ухабистее первого и длиннее. Вылетев по нему на голый бугор, Гримм соскочил с велосипеда, который еще катился, заваливаясь набок, и глазам его открылся весь зев лощины на краю города, лишь в нескольких местах заслоненный негритянскими лачугами, торчавшими над самым краем. Гримм застыл – недвижный, одинокий и зловещий, как пограничный столб. Сзади, в городе, снова начал затихать вопль сирены.
Затем он увидел Кристмаса. Увидел вдали маленькую фигурку, которая вылезла из рва с сомкнутыми руками. Солнце отразилось от наручников беглеца – его руки вдруг сверкнули Гримму в глаза, как сигнал гелиографа[54], и ему почудилось, что даже отсюда слышно тяжелое, загнанное дыхание человека, который и сейчас не был свободен. Затем крохотная фигурка опять побежала и скрылась за ближайшей негритянской лачугой.
Гримм тоже побежал. Побежал стремительно, но в этом не было заметно ни спешки, ни усилий. Не было в нем и мстительности, бешенства, возмущения. Кристмас сам это увидел. Потому что был такой миг, когда они почти столкнулись лицом к лицу. Это случилось, когда Гримм на бегу повернул за угол лачуги. В тот же миг, как по волшебству, из заднего ее окна выпрыгнул Кристмас, и скованные руки засверкали над его головой, словно в огне. Мгновение они свирепо глядели друг на друга: один – еще приседая после прыжка, другой – на бегу, и тут же Гримма по инерции вынесло за угол. Но за это мгновение он заметил, что в руках у Кристмаса тяжелый никелированный пистолет. Гримм круто повернулся и, уже вытаскивая свой автоматический, кинулся обратно, за угол.
Мысль работала быстро, спокойно, с той же тихой радостью: «У него два выхода. Либо снова кинуться в ров, либо бегать от меня вокруг дома, пока один из нас не схватит пулю. А ров – с его стороны дома». Он отреагировал мгновенно. С предельной быстротой он устремился обратно за угол, откуда только что выскочил. Он сделал это так, словно был заговорен от пуль, или охраняем провидением, или знал, что Кристмас не будет ждать его там с пистолетом. Не останавливаясь, он обогнул следующий угол.
Теперь он был над рвом. Он резко остановился, замер. Над тупой холодной загогулиной пистолета лицо его излучало безмятежный неземной свет, как лица ангелов на церковных витражах. Он замер лишь на миг и тут же снова рванулся с места, с той же поджарой стремительностью, слепо послушный какому-то Игроку, двигавшему его по Доске. Он бежал ко рву. Он бросился вниз по заросшей кустами круче, но тут же повернулся, цепляясь руками за что попало. Теперь он увидел, что между землей и полом лачуги – полуметровый просвет. Раньше, впопыхах, он этого не заметил. Он понял, что дал Кристмасу фору. Что Кристмас все время следил за его ногами из-под дома. «Ты подумай», – сказал он.
Его порядком протащило по склону, прежде чем он сумел остановиться и снова полез наверх. Казалось, он неутомим, сделан не из плоти и крови – как будто Игрок, двигавший его, словно пешку, все время вливал в него новые силы. Без задержки, на том же усилии, которое вынесло его из рва, он уже бежал дальше. Он выбежал из-за лачуги вовремя: успел увидеть, как в метрах трехстах от него Кристмас перепрыгнул через изгородь. Гримм не выстрелил, потому что Кристмас устремился через маленький сад прямо к дому. На бегу он увидел, как Кристмас вскочил на заднее крыльцо и скрылся за дверью. «Ага, – сказал Гримм. – К священнику. К Хайтауэру».
Он не замедлил шагов, но, оставляя дом в стороне, побежал к улице. Машина, которая обогнала его и потеряла, теперь вернулась и была там, где ей полагалось быть, где ей предписал быть Игрок. Не дожидаясь его сигнала, она затормозила, и из нее вылезли трое. Гримм, не говоря ни слова, повернулся и побежал через садик в дом, где жил в одиночестве опозоренный священник, и те трое влетели за ним следом в переднюю и остановились, принеся с собой в затхлый келейный сумрак сверкание свирепого летнего солнца.
Она объяла их, вселилась в них – его бесстыдная свирепость. Осененные ею, бесплотно повисшие в воздухе лица, словно из-под нимбов, вперились в окровавленное лицо Хайтауэра, когда они наклонились и стали поднимать его с того места в передней, где на него налетел Кристмас, где поднятые вооруженные скованные руки беглеца, сверкнув огнем, как перуны в руках разъяренного мстительного бога, вершащего суд, обрушились на его голову. Преследователи поддерживали старика.
– В какой комнате? – сказал Гримм, тряся его. – Старик, в какой он комнате?
– Джентльмены! – сказал Хайтауэр. А потом: – Люди, люди!
– Старик, в какой он комнате? – гаркнул Гримм.
Преследователи поддерживали старика; в сумраке прихожей, после солнечного света, он с его лысым черепом и большим белым лицом, залитым кровью, тоже был ужасен.
– Люди! – закричал он. – Послушайте меня. Он был здесь той ночью. В ночь убийства он был со мной. Клянусь Богом…
– Черт возьми! – закричал Гримм, и голос его был чист и гневен, как голос молодого жреца. – Неужели все священники и старые девы в Джефферсоне стали подстилкой для этой желтопузой сволочи? – Он отшвырнул старика и кинулся дальше.
Казалось, он только и ждал, когда Игрок опять сделает им ход, и с той же безотказной уверенностью побежал прямо на кухню, к двери, открыв огонь чуть ли не раньше, чем увидел опрокинутый набок стол, за которым скорчился в углу комнаты беглец, и на ребре стола – жарко сверкавшие руки. Гримм выпустил в стол весь магазин, потом оказалось, что все пять пробоин можно прикрыть сложенным носовым платком.
Но Игрок еще не кончил. Когда остальные вбежали на кухню, они увидели, что стол отброшен в сторону, а Гримм склонился над телом. Когда они подошли посмотреть, чем он занят, они увидели, что человек еще не умер, а когда увидели, что делает Гримм, один из них издал придушенный крик, попятился к стене, и его стало рвать. Затем Гримм отскочил и отшвырнул за спину окровавленный мясницкий нож.
– Теперь ты даже в аду не будешь приставать к белым женщинам! – сказал он.
Но человек на полу не пошевелился. Он тихо лежал, в открытых глазах его выражалось только то, что он в сознании, и лишь на губах затаилась какая-то тень. Долго смотрел он на них мирным, бездонным, невыносимым взглядом. Затем его лицо и тело словно осели, сломались внутри, а из брюк, располосованных на паху и бедрах, как вздох облегчения, вырвалась отворенная черная кровь. Она вырвалась из его бледного тела, как сноп искр из поднявшейся в небо ракеты; в черном этом взрыве человек словно взмыл, чтобы вечно реять в их памяти. В какие бы мирные долины ни привела их жизнь, к каким бы тихим берегам ни прибила старость, какие бы прошлые беды и новые надежды ни пришлось читать им в зеркальных обликах своих детей – этого лица им не забыть. Оно пребудет с ними – задумчивое, покойное, стойкое лицо, не тускнеющее с годами и не очень даже грозное, но само по себе безмятежное, торжествующее само по себе. Снова из города, чуть приглушенный стенами, долетел вопль сирены, взвился в невероятном крещендо и пропал за гранью слуха.
20
Уже угасает прощально медный закатный свет; уже пустынна и готова за низкими кленами и низкой вывеской улица, обрамленная окном кабинета, как сцена.
Он помнит, как в молодости, когда он приехал в Джефферсон из семинарии, этот закатный медный свет казался почти слышимым, будто замирающий желтый обвал труб, замирающий в тишине и ожидании, откуда вскоре возникнут они. И не успевали еще смолкнуть трубы, а ему уже чудилось в воздухе зарождение грома – пока не громче шепота, слушка.
Но он никому об этом не рассказывал. Даже ей. Даже ей в те дни, когда ночами они любили друг друга, и стыда, отчуждения еще не было, и она знала, еще не успела забыть в отчуждении, тоске, а затем и безнадежности, почему он сидит перед этим окном, дожидаясь ночи, мгновения, когда ночь наступит. Даже ей, женщине. Этой женщине. Женщине (не семинарии, как прежде верилось): Страдательному и Безличному, сотворенному Богом, чтобы принять и хранить не только семя его тела, но и – духа, которое есть истина или настолько близко к истине, насколько он осмелится подойти.
В семье он был единственным ребенком. Когда он родился, отцу пошел шестой десяток, а мать уже двадцать лет тяжело болела. Со временем в нем укоренилось убеждение, что причиной этому – пища, которой ей пришлось довольствоваться в последний год Гражданской войны. Возможно, это и было причиной. Отец его не имел рабов, хотя был сыном человека, который в свое время владел рабами. Он тоже мог бы их иметь. Но хотя он родился, вырос и жил в тот век и в том краю, где иметь рабов было дешевле, чем не иметь, он не желал ни есть пищи, выращенной и приготовленной черными рабами, ни спать на постеленных ими простынях. Поэтому в войну, когда его не было дома, жена обходилась таким огородом, какой могла возделать сама или со случайной помощью соседей. А принимать от них помощь муж не разрешал ей по той причине, что она не могла ответить им услугой на услугу. «Бог подаст», – говорил он.
– Что подаст? Одуванчики и репьи?
– Тогда Он даст нам желудок, чтобы переварить их.
Он был проповедником. По воскресеньям он спозаранку уезжал из дома, но только через год отцу (это было до женитьбы сына), который был на хорошем счету в англиканской общине, хотя ни разу на памяти сына не переступил порога церкви, стало известно, куда он отлучается. Выяснилось, что сын – ему только что исполнился двадцать один год – каждое воскресенье ездит за шестнадцать миль служить в захолустной пресвитерианской молельне. Отец посмеялся. Сын слушал этот смех, как слушал бы брань или крики: равнодушно, с холодной почтительностью, без возражений. В следующее воскресенье он опять поехал к своей пастве.
Когда началась война, сын не пошел на нее в числе первых. Но и не оказался в числе последних. Он пробыл в армии четыре года, хотя из ружья не стрелял и вместо мундира носил темный сюртук, который приобрел на свадьбу, а потом надевал, отправляясь на проповедь. В нем он и вернулся в 65-м году, но с того дня, когда перед дверьми остановилась повозка и двое мужчин подняли его, внесли в дом и уложили на кровать, он больше не надевал сюртука. Жена спрятала его в сундук на чердаке. В сундуке он пролежал двадцать пять лет – до того дня, когда сын сына вынул его оттуда и расправил сукно, аккуратно сложенное руками, которых уже не было на свете.
Он вспоминает этот сюртук сейчас, сидя у темного окна в тихом кабинете и дожидаясь, когда отойдут сумерки, наступит ночь и загремят копыта. Медный свет уже потух; мир парит в зеленом затишье, окраской и плотностью напоминающем свет, пропущенный сквозь цветное стекло. Скоро пора будет сказать Теперь скоро. Скоро «Мне тогда было восемь лет, – думает он. – Шел дождь». Ему кажется, что он и сейчас слышит запах дождя, октябрьской земли в ее печальной сырости и сундука, зевнувшего затхло, когда он поднял крышку. Затем – аккуратно сложенный сюртук. Сначала он не понимал, что это, – с такой силой всколыхнулось воспоминание о руках покойной матери, трогавших эту ткань. Затем сюртук развернулся, медленно обвисая. Ему, ребенку, он показался немыслимо огромным, сшитым на великана; словно только оттого, что его носил один из них, самому сукну сообщились свойства исполинских и героических теней, маячивших среди дыма, грома и порванных знамен, которые завладели его сном и явью.
Сюртук был почти неузнаваем из-за заплат. Заплаты кожаные, грубо нашитые мужчиной, заплаты из конфедератского серого сукна[55], выгоревшего до цвета прошлогодних листьев, и одна, от которой захолонуло сердце: синяя, темно-синяя – из мундира Соединенных Штатов. При виде этой заплаты, немого и безымянного лоскута, мальчик, рожденный осенью материнской и отцовской жизни, ребенок, чей организм уже нуждался в неусыпной заботе швейцарских часов, тихо ликовал и ужасался, а потом хворал.
Вечером, за ужином, он не мог есть. Его отец, которому уже было под шестьдесят, поднимал голову и, встретив взгляд сына, видел в нем благоговение, ужас и что-то еще. Тогда он говорил: «Что с тобой стряслось?» А ребенок не мог ответить, не мог говорить, глядел на отца, и на детском его лице было такое выражение, как будто он глядит в преисподнюю. Ночью он не мог уснуть. Оцепенелый, лежал он в своей темной постели и даже не дрожал, а его единственный живой родственник, отец, с которым мальчика разделяло такое расстояние во времени, что его нельзя было измерить даже десятилетиями, такое, что оно лишило их даже внешнего сходства, – спал, отгороженный от него стенами, полами, потолками. На другой день ребенок снова мучился кишечными спазмами. Но он не говорил, в чем дело, – даже негритянке, которая вела хозяйство и была ему и матерью и нянькой. Постепенно силы к нему возвращались. И тогда он опять пробирался на чердак, открывал сундук, вынимал отцовскую одежду, и с ужасом и ликованием, со сладкой жутью трогая синюю заплату, спрашивал себя, убил ли отец того, из чьего мундира вырезана синяя заплата, и, еще больше ужасаясь, думал, до чего сильны и постоянны в нем жажда и боязнь узнать это. Однако на следующий же день, узнав, что отец поехал навестить одного из своих деревенских пациентов и едва ли вернется засветло, он шел на кухню и говорил негритянке: «Расскажи мне опять про деда. Сколько он убил северян?» И про это он слушал без страха. И даже без ликования: с гордостью.
Для сына же своего этот дед был бельмом на глазу. Сын ни за что бы так не сказал и не подумал; ни тому, ни другому и в голову не пришло бы пожелать себе другого отца или другого сына. Отношения у них были ровные: с сыновней стороны – бесстрастная, сухая, механическая почтительность, с отцовской – живой, открытый, грубовато-добродушный юмор, которому скорей недоставало остроумия, чем последовательности. Жизнь в их двухэтажном городском доме текла мирно, хотя в один прекрасный день сын раз и навсегда отказался есть пищу, приготовленную рабыней, которая растила его с пеленок. К неописуемому возмущению негритянки, он сам стряпал на кухне, сам подавал себе на стол и ел, сидя напротив отца, который неукоснительно и церемонно поднимал за его здоровье стакан кукурузного виски: сын и виски в рот не брал, ни разу в жизни не притрагивался.
В день свадьбы сына отец уступил ему дом. Когда молодожены приехали, он уже стоял на крыльце с ключами от дома. Он был в плаще и шляпе. Рядом лежали его вещи, а позади стояли двое его рабов: стряпуха-негритянка и его «малый», человек старше его годами и без единого волоса на голове, стряпухин муж. Он не был плантатором; он был юристом, обучившись юриспруденции примерно так, как потом сын – медицине: «навалясь да черту помолясь», по его выражению. Он уже купил себе домик в двух милях от города, у крыльца его дожидались дрожки, запряженные в одномастную пару, и пока его сын и сноха, которую он видел в первый раз, шли от ворот к дому, он стоял на крыльце, расставив ноги и сдвинув на затылок шляпу, – крепкий, грубоватый, красноносый мужчина с усами разбойничьего атамана. Он наклонился и поцеловал сноху, дохнув табаком и виски.
– По-моему, вы будете подходящей женой, – сказал он. Взгляд у него был дерзкий, но добрый. – Да и нужно-то нашему благочестивцу немного – лишь бы альтом умела петь пресвитерианские гимны, которые сам Господь на музыку не положит.
Он уехал на украшенных кистями дрожках вместе со своим имуществом – одеждой, большой оплетенной бутылью, рабами. Рабыня-стряпуха не осталась даже, чтобы приготовить новобрачным первый обед. Ее не предлагали в помощь – и от нее не отказывались. Отец при жизни в этом доме больше не появился. Ему были бы рады. И он и сын это понимали, хотя никогда не обсуждали вслух. А сноха – дочь благовоспитанных и многодетных родителей, которые не преуспели в жизни, в церкви, видимо, нашли замену тому, чего не хватало на столе, – любила его и опасливо, втихомолку им восхищалась: его ухарством, его грубоватой бесхитростной приверженностью нехитрым законам чести. Однако слухи о его проделках до них доходили: о том, как на другое лето после переезда за город он вмешался в затянувшееся радение, устроенное в соседней роще, и превратил его в неделю любительских конноспортивных состязаний, между тем как тощие и неистовые деревенские проповедники перед редеющей паствой призывали с сельского амвона проклятья на отпетую голову. Почему он не навещает сына и сноху, он объяснил как будто бы откровенно: «Вам будет скучно со мной, мне будет скучно с вами. И кто знает – не ровен час, соблазнит меня парень. Соблазнит старика – раем». Но причина была другая. Сын знал, что другая; хотя он первым восстал бы против такого поклепа, если бы услышал его из чужих уст, сам-то он знал, что у старика есть и чуткость и щепетильность.
Сын стал аболиционистом чуть ли не раньше[56], чем настроения эти, облекшись в слово, просочились с Севера. Впрочем, узнав, что республиканцы придумали для этого название, он стал называть себя совсем по-другому, ни на йоту не изменив при этом своих убеждений и повадок. Хотя ему еще не исполнилось тридцати, он отличался спартанской, не по годам, умеренностью, как это часто бывает с отпрысками не слишком привередливых данников случая и бутылки. Поэтому, может быть, он и ребенка завел только после войны, с которой вернулся другим человеком, «проветрившись», как сказал бы его покойный отец, от своей святости. Хотя за эти четыре года он ни разу не выстрелил из ружья, служба его не ограничивалась молитвами и проповедями перед войском по воскресным утрам. Когда он вернулся домой и, оправившись после ранения, стал практиковать как хирург и фармацевт, он делал лишь то, в чем напрактиковался на телах равно друзей и врагов, помогая врачам на фронте. Из всех поступков сына этот, пожалуй, отец одобрил бы больше всего: что сын обучился профессии на теле захватчика и разорителя родной земли.
«Но святость – неподходящее для него слово, – думает, в свою очередь, сын сына, сидя у темного окна, за которым смолкли трубы и мир парит в зеленом затишье. – Дед первым бы ополчился на того, кто охарактеризовал бы отца таким словом». Нет, это был своего рода возврат к тем суровым и не таким уж давним и забытым временам, когда человек в этой стране не настолько располагал собой и временем, чтобы расточать их зря, а ту малость, которой располагал, должен был защищать и охранять не только от природы, но и от людей, рассчитывая лишь на собственную стойкость и зная, что не будет вознагражден за нее – по крайней мере при своей жизни – покоем и досугом. Вот откуда шло у него осуждение рабства и собственного отца, кощунника и здоровяка. А то, что в войне за идею он деятельно участвовал на стороне людей, чьи принципы были противны его принципам, и не видел, не мог увидеть тут никакого противоречия, ясно показывало, что в нем совмещались два отдельных и цельных человека, один из которых жил по ясным законам – в мире, где не было места действительности.
Но другая его часть, жившая в действительном мире, здравствовала не хуже других и даже лучше многих. Он жил по своим принципам в мирное время и, когда началась война, не расстался с ними, жил по ним и там; когда надо было совершать богослужение мирным воскресным днем в тихой роще, он совершал его, ничем особенным не оснащенный, кроме собственной воли, убеждений и того, чему он научился по ходу дела; когда надо было спасать из-под обстрела раненых и лечить их без нужных инструментов, он спасал и лечил, опять-таки ничем не оснащенный, кроме собственной силы, смелости и того, чему он научился по ходу дела. А когда война была проиграна и другие вернулись домой, упрямо оборотив взор на то, что отказывались признать погибшим, он смотрел вперед и пытался извлечь из поражения хоть что-нибудь, применяя на практике вынесенный из него опыт. Он стал врачом. Одним из первых его пациентов была жена. Возможно, он спас ей жизнь. По крайней мере – дал возможность произвести на свет новую, хотя, когда родился сын, ей было за сорок, а ему пятьдесят. Сын этот вырос и возмужал среди призраков и бок о бок с духом.
Призраками были его отец, его мать и старая негритянка. Отец, который был священником без церкви и солдатом без врага, после поражения объединил то и другое и стал врачом, хирургом. Как будто те самые холодные и непоколебимые устои, которые позволили ему, так сказать, с честью продержаться между порохом и елеем, не были подорваны и опрокинуты, а облеклись мудростью. Словно в орудийном дыму, как в видении, ему открылось, что наложение рук надо понимать буквально. Словно в проповеди Христа ему открылось вдруг, что тот, у кого лишь дух нуждается в исцелении, немногого стоит, не заслуживает спасения. Это был один призрак. Вторым была мать, чей образ в его воспоминаниях, с начала и до конца, – истаявшее лицо, огромные глаза, россыпь темных волос на подушке и голубые, неподвижные, похожие на мощи, руки. Если бы в день ее смерти ему сказали, что он ее видел не только лежачей, он бы не поверил. Позже он вспоминал и другое – он вспоминал, как она ходила по дому, занималась хозяйством. Но в восемь, в девять и в десять лет она представлялась ему безногой – истаявшим лицом и глазами, которые с каждым днем становились все больше и больше, словно готовясь охватить все видимое, все живое одним ужасающим взглядом, полным страдания, безысходности и предчувствия смерти, да так, что если бы это наконец случилось, он бы услышал: это был бы звук, вроде крика. Перед ее смертью он уже чувствовал их сквозь все стены. Они были домом: он жил в них, в этом темном всеобъемлющем стойком отсвете угасающей жизни. Оба, и он и она, жили в них как два слабых зверька в норе, в пещерке, где время от времени появлялся отец – человек для них чужой, посторонний, почти опасный: так быстро здоровье телесное изменяет и преобразует дух. Он был не просто чужой: он был враг. От него пахло по-другому. Он говорил другим голосом, чуть ли не другими словами, словно обитал в другом окружении, другом мире; присевший возле кровати ребенок чувствовал, как пышет здоровьем и безотчетным презрением мужчина, который был так же бессилен и подавлен, как они.
Третьим призраком была негритянка, рабыня, уехавшая на дрожках в то утро, когда молодые пришли домой. Она уехала рабыней; рабыней и вернулась в 66-м году, только пешком, – громадная женщина, на чьем лице запечатлелись одновременно гневливость и спокойствие: маска черной трагедии между эпизодами. После смерти хозяина и до тех пор, пока она не уверилась наконец, что не увидит больше ни его, ни мужа – «малого», который пошел с хозяином на войну и тоже не вернулся, – она отказывалась покинуть загородный дом хозяина, оставленный на ее попечение. Сын явился туда после смерти отца, чтобы закрыть дом и забрать отцовское имущество, и предложил ее обеспечить. Она отказалась. Выехать тоже отказалась. Она развела небольшой огород и жила одна, ждала возвращения мужа, отказываясь верить слухам о его смерти. Это был только слух, неясный: будто бы после того, как хозяин погиб в налете ван-дорновской конницы на склады Гранта в Джефферсоне, негр был безутешен. Однажды ночью он исчез с бивака. Вскоре пошла молва о полоумном негре, который попадается конфедератским пикетам на самой линии фронта и каждый раз несет околесицу насчет пропавшего хозяина – якобы северяне держат его в плену, чтобы получить выкуп. Он ни на секунду не соглашался поверить, что хозяина убили. «Нет, сэр, – говорил он. – Массу Гейла не могли. Ни за что. Они бы побоялись убить Хайтауэра. Побоялись бы. Они его где-то спрятали, хотят вытянуть из него, где мы с ним спрятали хозяйкин кофейник и золотой поднос. Вот чего им надо». Каждый раз ему удавалось сбежать. Но однажды с федеральных позиций дошел рассказ о том, как негр напал на офицера северян с лопатой, и офицер, защищая свою жизнь, вынужден был его застрелить.
Негритянка долго в это не верила. «С такого дурака станется, – говорила она. – Да ведь дурак-то такой, что янки от своего не отличит – кого лопатой двинуть». Она твердила это больше года. Потом в один прекрасный день она появилась в доме сына – в том доме, который покинула десять лет назад и ни разу не навещала; свое имущество она несла в платке. Она вошла в дом и сказала:
– Вот я. Хватит у вас дров ужин приготовить?
– Вы теперь вольный человек, – сказал ей сын.
– Вольный? – повторила негритянка. Она говорила со спокойным, печальным презрением. – Вольный? Что в этой воле толку – что массу Гейла через нее убили, а Помп через нее таким дураком сделался, каким его сам Господь не мог сделать? Воля? Вы мне про эту волю не говорите.
То был третий призрак. С этим призраком ребенок («И сам тогда – ничуть не лучше призрака», – думает сейчас этот ребенок перед гаснущим окном) разговаривал о духе. Говорили без устали: ребенок – увлеченно, с полувосторгом-полуужасом, а старуха – с задумчивой и яростной скорбью и гордостью. Но ребенку это казалось просто тихим содроганием восторга. Он не видел ничего ужасного в том, что дед его, как ему говорили, «убивал людей сотнями», или в том, что негр Помп погиб, пытаясь убить человека. Ничего жуткого – потому что они были только духами, никогда не виданными во плоти, героическими, простыми и пылкими; отец же, которого он знал и боялся, – призраком, который никогда не умрет. «Поэтому, – думает он, – неудивительно, что я перепрыгнул через поколение. Неудивительно, что у меня не было отца и что я уже умер однажды ночью, за двадцать лет до того, как появился на свет. И что единственное для меня спасение – вернуться умирать туда, где моя жизнь прекратилась раньше, чем началась».
Поступив в семинарию, он часто думал о том, как расскажет это им, старшим, возвышенным и освященным людям, решавшим судьбы церкви, которой он добровольно себя отдал. Как он пойдет к ним и скажет: «Слушайте. Господь должен призвать меня в Джефферсон, потому что там кончилась моя жизнь, была остановлена пулей, в седле, на скаку, ночью на джефферсонской улице, за двадцать лет до того, как зачалась». Первое время он думал, что сможет это сказать. Верил, что они поймут. Ведь он пришел к ним, избрал церковную стезю – ради этой цели. Но этим вера его не исчерпывалась. Он верил и в церковь, во все, что от нее ветвилось и ею пробуждалось. Верил со спокойной радостью, что если есть на свете убежище, то это церковь; что если правда может жить нагой, без стыда и боязни, то – в семинарии. Когда он верил, что обрел призвание, его будущая жизнь представлялась ему незыблемой, во всех отношениях совершенной и невозмутимой, подобно чистой классической вазе[57], такая жизнь, где дух может родиться сызнова, укрытый от житейских бурь, и так же умереть – в покое, под далекий шум бессильного ветра, расставшись лишь с горстью истлевшего праха[58]. Вот что значило слово «семинария»: тихие и надежные стены, где стесненный покровами озабоченный дух вновь обучится безмятежности, чтобы без ужаса и тревоги созерцать свою наготу.
«Но в мире много есть того, что нашей правде и не снилось»[59], – мысленно перефразирует он, не насмешливо, не шутливо, однако и не без насмешки, не без шутливости, – спокойно. В сгущающемся сумраке его забинтованная голова как будто растет, становясь все призрачней. «Не снилось», – повторяет он про себя и думает: для того, наверно, и дана человеку изобретательность, чтобы в переломные минуты он мог измыслить образы и звуки, которые оградят его от правды. В одной ошибке ему по крайней мере не пришлось раскаиваться – он не открылся старшим. Не проучившись и года, он понял, какая это будет глупость. Больше того, хуже того: поняв это, он не потерял, а, наоборот, приобрел что-то, от чего-то спасся. И это приобретение окрасило сам лик и характер любви.
Она была дочерью одного из священников, преподавателей колледжа. И тоже – единственным ребенком, как он. Он сразу поверил, что она красавица, потому что слышал о ней еще до того, как ее увидел, а увидев – не разглядел за тем лицом, которое создал в своем воображении. Он не верил, чтобы она, прожив здесь всю жизнь, могла не быть прекрасной. Он разглядел ее лицо только через три года. К тому времени уже два года существовало дупло, где они оставляли друг другу записки. Если он и задумывался об этом, то думал, что идея возникла у них одновременно – не важно, кто первым на нее наткнулся, ее высказал. Но на самом деле идея шла не от нее и не от него, а от книги. Лица же ее он не видел вовсе. Не видел маленького овала, слишком резко сужавшегося к подбородку и омраченного недовольством (она была на год, два или три старше его, но он этого не знал и не узнал никогда). Не видел, что три года ее глаза наблюдают за ним, лихорадочно что-то рассчитывая, как глаза почти отчаявшегося игрока.
И вот однажды ночью он увидел ее, взглянул на нее. Неожиданно и грубо она заговорила о женитьбе. Без всяких предисловий, ни с того ни с сего. Они никогда не касались этой темы. Женитьба ему и в голову не приходила – даже само слово. Он допускал брак, потому что большинство преподавателей были женаты. Но для него это было не освященной и живой физической близостью мужчины и женщины, а мертвым отношением, перенесенным на живых и существующим вместе с ними: как две тени, скованные тенью цепи. Он к этому привык: он рядом с духом вырос. И вот однажды вечером она заговорила – неожиданно, грубо. Когда он понял наконец, что она подразумевает под избавлением от своей нынешней жизни, он не удивился. Он был слишком простодушен.
– Избавиться? – сказал он. – От чего избавиться?
– От этого! – сказала она. Впервые он увидел ее лицо, как живое лицо, как маску, за которой таились жажда и ненависть: искаженное, незрячее, ошалелое от страсти. Не глупое: просто незрячее, отчаянное. – От всего! Всего! Всего!
Он не удивился. Он сразу поверил, что она права, а сам он не понимал этого по наивности. Он сразу поверил, что его представления о семинарии с самого начала были ложными. Не совсем ложными, но ошибочными, неточными. Возможно, он и сам уже в них сомневался, только до сих пор этого не сознавал. Возможно, поэтому он и не сказал старшим, почему должен поехать в Джефферсон. Ей он еще год назад сказал, почему хочет, должен туда поехать и что намерен объяснить это им; она смотрела на него лихорадочным взглядом, которого он еще не замечал.
– По-твоему, – сказал он, – они меня не пустят? Не направят туда? Не сочтут это достаточным основанием?
– Конечно, нет, – ответила она.
– Но почему? Ведь это правда. Пусть глупая. Но правда. А для чего же церковь, как не для помощи тем, кто глуп, но хочет правды? Почему бы им меня не пустить?
– Будь я на их месте, я бы сама тебя не пустила, если бы ты привел такой довод.
– Да, – сказал он. – Понимаю. – Но, по существу, он не понимал, хотя верил, что она права, а он мог ошибаться. Поэтому через год, когда она вдруг заговорила с ним о женитьбе и избавлении в одних и тех же словах, он не удивился, не был уязвлен. Он лишь подумал спокойно: «Так вот она, любовь. Понимаю. Я и на этот счет ошибался», – думая, как думал прежде и будет думать опять, как случается думать каждому человеку: до чего ложной оказывается самая глубокая книга, если ее приложить к жизни.
Он полностью переменился. Они решили пожениться. Теперь он понимал, что с самого начала видел в ее глазах этот лихорадочный расчет. «Пожалуй, они правы, помещая любовь в книги, – спокойно думал он. – Пожалуй, только там ей и место».
В глазах ее еще было лихорадочное выражение, но теперь, когда планы определились и день был назначен, оно смягчилось, возобладал расчет. Теперь речь шла о том, как получить вызов в Джефферсон. «Надо взяться за дело немедленно», – сказала она. Он ответил ей, что взялся за дело в четырехлетнем возрасте; возможно, это была просто шутка, легкомыслие. Она отмела ее со страстным нетерпением, которому юмор чужд, пропустила мимо ушей и заговорила, словно сама с собой, о людях, которых надо будет повидать, улестить или припугнуть, разворачивая перед ним целую кампанию интриг и унижений. Он слушал. Даже слабая улыбка – легкомысленная, насмешливая, а может быть, обескураженная – не сошла с его лица. Он вставлял в ее рассуждения:
– Да. Да. Ясно. Понимаю, – как будто говорил Да. Понимаю. Теперь понимаю. Так это и делают, так и добиваются. Таковы правила. Теперь я понимаю
Когда демагогия, унижения, мелкая ложь разбежались по церковной иерархии кругами новой мелкой лжи, а затем и угроз в форме запросов и советов и вызов в Джефферсон был получен, он поначалу забыл, каким путем его добился. Не вспоминал, покуда не обосновался в Джефферсоне, – и уж во всяком случае, на последнем этапе путешествия, когда поезд мчал его к цели жизни, по местам, схожим с теми, где он родился. Но выглядели они совсем по-другому – хотя он знал, что разница – не по ту, а по эту сторону вагонного окна, к которому он почти прильнул лицом, как ребенок; да и у жены, сидевшей позади, было написано на лице, кроме обычной жажды и отчаяния, еще и что-то вроде интереса. Они были женаты меньше полугода. Поженились сразу после того, как он окончил семинарию. С тех пор он ни разу не видел на ее лице ничем не прикрытого отчаяния. Но ни разу не видел и страсти. И опять он думал, спокойно, без особого удивления и, пожалуй, даже без обиды Понимаю. Вот он каков. Брак. Да. Теперь я понимаю
Поезд мчался. Подавшись к окну, он глядел на убегавший назад ландшафт и говорил оживленным, по-детски счастливым голосом:
– Я давно бы мог поехать в Джефферсон, когда угодно. Но не поехал. Я мог поехать когда угодно. Ты знаешь, есть разница между случайностью в мирной жизни и на войне. Случайность на войне? Ах, это была просто отчаянность. Горстка солдат (он не был офицером, это, кажется, единственное, в чем сходились папа и старуха Цинтия: что дед не носил сабли, не размахивал саблей, когда скакал впереди) с жестоким мальчишеским легкомыслием затеяла такую лихую проделку, какой даже от них не ожидали войска, дравшиеся с ними четыре года. Проехать сотню миль по местам, где в каждой роще и деревеньке стоят биваком северяне, ворваться в гарнизонный город… я знаю саму улицу, по которой они въехали и выехали обратно. Я никогда ее не видел, но точно знаю, как она будет выглядеть. Я точно знаю, как будет выглядеть на этой улице дом, который мы купим и в котором будем жить. Не сразу, конечно. Сначала нам придется пожить в приходском доме. Но скоро – как только удастся… Выглянем в окно и увидим эту улицу и, может быть, даже следы подков или самих людей очертания в воздухе, – ведь воздух остался прежний, даже если исчезла та пыль, та грязь… Голодные, худые, с криками поджигают склады запасов, тщательно подготовленных для целой кампании, и уносятся. Никакого грабежа: не берут даже обуви и табаку. Я тебе говорю, эти люди не искали добычи и славы; это были просто мальчики, подхваченные колоссальной волной отчаянного житья. Мальчишки. Вот ведь что. Вот что прекрасно. Слушай. Попытайся себе представить. В этом – образ вечной юности и чистой страсти, которая создает героев. Которая выводит деяния героев на самую грань вероятного – и неудивительно поэтому, что их деяния должны вспыхивать время от времени, как пламя выстрелов в пороховом дыму, что сама их физическая кончина становится тысячеустой молвой, прежде чем они испустят последний вздох, – дабы парадоксальная правда не опорочила самое себя. Вот что мне рассказывала Цинтия. И я верю. Я знаю. Это слишком прекрасно, чтобы усомниться. Слишком прекрасно, слишком просто, чтобы это мог выдумать белый. Это мог бы выдумать негр. И если Цинтия выдумала, я все равно верю. Потому что даже факт не устоит перед этим. Не знаю, заблудился эскадрон деда или нет. Думаю, что нет. Думаю, они сделали это нарочно, как мальчишки, которые подожгли сарай врага и бегут, не прихватив даже щепки с крыши, засова с двери, и вдруг останавливаются, чтобы украсть несколько яблок у соседа, друга. Не забудь, они были голодные. Они три года голодали. Может быть, они к этому притерпелись. Во всяком случае, они только что предали огню тонны провианта, амуниции, табаку и спиртного, не взяв ничего, хотя приказа не грабить не было, и повернули восвояси; а фоном, задником – смятение и пламя, само небо, наверно, было охвачено огнем. Это прямо видишь, слышишь: гвалт, выстрелы, крики торжества и ужаса, топот копыт, деревья дыбятся в красном зареве, словно тоже застыв от ужаса, острые фронтоны домов – как зазубренный край рвущейся земли. А потом – место тесное: ощущаешь, слышишь во тьме, как осаживают разгоряченных лошадей, лязг оружия, громкий шепот, тяжелое дыхание, голоса еще звенят торжеством; позади проносятся вскачь остальные войска, горны трубят им сбор. Надо ощутить, услышать это, тогда увидишь. Увидишь до того, как треснет выстрел, короткую красную вспышку, и в ней – расширенные глаза, раздутые ноздри, закинутые морды потных лошадей, отблески на металле, худые белые лица живых пугал, позабывших, когда они ели досыта; возможно, некоторые уже спешились, возможно, кто-то уже влез в курятник. Все это ты видишь до того, как раздастся выстрел охотничьего ружья: и опять чернота. Всего один выстрел. «И ему, конечно, надо было угодить под пулю, – говорила Цинтия. – Кур воровал. Взрослый человек, сына оженил, пошел на войну северян убивать, а самого убили в курятнике, с пучком перьев в руке». Кур воровал. – Голос у него был высокий, по-детски восторженный. Жена уже схватила его за локоть: Тсссс! Тсссс! На тебя смотрят! Но он ее как будто не слышал. Его глаза, худое нездоровое лицо, казалось, излучали какой-то свет. – Вот именно. Они не знали, кто стрелял. Так и не узнали. Они не пытались выяснить. Это могла быть женщина, и вполне вероятно – жена конфедератского солдата. Мне хочется так думать. Это чудесно. Каждый солдат может быть убит в пылу сражения – оружием, одобренным повелителями и законодателями войны. Или – женщиной в спальне. Но – не из охотничьего ружья, не из дробовика, в курятнике. Так стоит ли удивляться, что этот мир населен преимущественно мертвыми? Конечно, когда Бог глядит на их потомство, ему не претит делиться своим с нами.
– Тише! Тссс! На нас смотрят!
Поезд уже вкатывался в город; за окном проплывали убогие предместья. Он все еще глядел туда – худой, слегка неопрятный человек, чье лицо еще хранило непотускневший отблеск его призвания, назначения, – и, тихо огораживая, окружая, остерегая нетерпеливое сердце, тихо думал, что рай, несомненно, должен быть схож видом и цветом с той деревушкой, пригорком, домом, о которых верующий говорит: «Это мое родное». Поезд остановился: медленно по коридору, задерживаясь, чтобы еще и еще раз взглянуть в окно, и – вниз по ступенькам, навстречу степенным, важным, рассудительным лицам: шушуканье, обрывки фраз, голоса – любезные, но пока не выносящие суждения, еще не потеплевшие и (скажем прямо) готовые осуждать. «Я признал это, – размышляет он. – Должно быть, я пошел на это. Но ничего больше, наверно, не сделал, да простит меня Бог». Земля почти совсем потонула во мгле. Ночь уже почти наступила. Забинтованная голова его перед открытым окном лишена полноты, плотности; неподвижная, она словно парит над двумя бледными кляксами рук, покоящихся на подоконнике. Он высовывается наружу. Он уже ощущает, как соприкоснутся сейчас два мгновения: одно, в котором – итог его жизни, обновлявшейся всякий раз на грани между тьмой и сумерками, и то остановившееся мгновение, из которого должно возникнуть скоро. Когда он был моложе, когда его сеть была еще слишком тонка, чтобы он мог ждать, он, случалось, обманывал себя в эту секунду и верил, что слышит их, хотя знал, что еще не пора.
«Быть может, я больше ничего и не делал в жизни, больше ничего не сделал», – думает он, думая о лицах: лицах стариков, конечно, не доверяющих его юности и ревнующих церковь, которую они отдавали в его руки почти так же, как отец выдает дочь; лицах, изборожденных простою совокупностью разочарований и сомнений, так часто представляющих собою оборотную сторону картины почтенных, но еще бодрых лет – сторону, между прочим, на которую модель, владелец картины вынужден смотреть, не может не смотреть. «Они свое сделали; они играли по правилам, – думает он. – Это я не справился, я преступил. Быть может, это – величайший общественный грех; да, быть может – нравственный грех». Мысль катится тихо, спокойно, плавно, выливаясь в спокойные образы, в которых нет ни назойливости, ни укора; нет в них и особого раскаяния. Он видит себя смутной тенью среди теней – парадоксальной, в ложном своем оптимизме и эгоизме уверовавшей, будто в той части церкви, которая больше всех заблуждается, истребляя мечту, – среди слепых страстей, воздетых рук и громких голосов он обретет то, чего не нашел в неотмирном апофеозе церкви на земле. И кажется ему, что он понимал это всегда: что разрушают церковь не те, кто в ней и наобум ищут чего-то вовне, и не те, кто вовне и наобум ищут чего-то в ней, но профессионалы, которые управляют ею, которые вынули колокола из ее звонниц. Ему видятся эти колокольни, бесчисленные, разбросанные в беспорядке, символически пустые, унылые, устремленные к небу не со страстью, не с восторгом, но клятвенно, угрожающе, обреченно. И церкви земли видятся ему как крепостной вал, как усаженная мертвыми острыми кольями средневековая баррикада: против истины и против мира в человеческой жизни, которая состоит в том, чтобы грешить и быть прощенным.
«И я это принял, – думает он. – Я не противился. Нет, я поступил хуже: я служил ей. Служил, используя ее для того, чтобы потворствовать своему желанию. Я приехал сюда, где меня ждали лица, на которых была написана растерянность, жажда и рвение, – ждали, чтобы поверить; я их не видел. Где поднятые руки тянулись к тому, что они надеялись от меня получить; я их не видел. Я приехал сюда с одним обязательством, быть может, первейшим обязательством мужчины, которое я добровольно взял на себя перед Богом; это обязательство и забота так мало значили для меня, что я даже не подозревал, что связан ими. И если я так с ней обошелся, тогда чего мне было ждать? Чего мне было ждать, кроме позора и отчаяния, и мог ли Господь не отвернуться от меня со стыдом? Быть может, в тот момент, когда я открыл ей не только всю силу своей жажды, но и то, что она никогда, никогда не поможет мне ее утолить, – быть может, в этот момент я стал ее соблазнителем и ее убийцей, орудием и виновником ее позора и смерти. Должны же быть, в конце концов, такие случаи, когда человек не может взвалить всю вину и ответственность на Бога. Должны быть». Мысль начинает замедляться. Она замедляется, как колесо, въехавшее в песок, когда оси, колеснице, движущей ее силе сопротивление еще не передалось.
Он словно видит себя среди лиц, всегда среди лиц, в кольце, в окружении, как будто видит себя на кафедре из задних рядов церкви или как будто он – рыба в аквариуме. Больше того: лица кажутся ему зеркалами, в которых он видит себя. Он знает их всех; он может прочесть в них свои поступки. В них отражается балаганная фигура – вроде скомороха, слегка ошалелого, шарлатана, который проповедует нечто худшее, чем ересь; с полным пренебрежением к тем, чьи подмостки он захватил, вместо распятого воплощения жалости и любви подсовывает развязного удальца, головореза, убитого из дробовика в мирном курятнике в минуту отдыха от привычных трудов – убийства. Колесо мысли замедляется; до оси это уже дошло, но самой колеснице еще не сообщилось.
Он видит, как на окруживших его лицах отражаются удивление, замешательство, потом гнев, потом страх, будто они заглянули за нелепое его скоморошество и увидели взирающий на него, а самому ему невидимый, последний и надмирный Лик, холодный и ужасный в своем бесстрастном всеведении. И он знает, что они видят больше этого: видят, как обязательство, оказавшееся ему не по плечу, превращено в его наказание; теперь ему кажется, что он сам разговаривает с этим Ликом: «Наверно, я взял на себя больше, чем мог выполнить. Но разве это преступление? Должен ли я быть наказан за это? Должен ли отвечать за то, что было мне не по силам?» А Лик: «Ты принял ее не для того, чтобы выполнить обещание. Ты взял ее из корысти. Как средство быть вызванным в Джефферсон; не для моих целей, для своих собственных».
«Это правда? – думает он. – Неужели и вправду так было?» Опять видит себя в ту пору, когда открылся позор. Он вспоминает то, что было почувствовано раньше, чем родилось, – то, что он прятал от собственного сознания. Видит, как пытался откупиться, словно подачкой, собственной выдержкой, стойкостью и достоинством, делая вид, будто слагает с себя сан по-мученически, хотя в эту самую минуту сердце прыгало от радости отречения, которую выдало лицо, когда он, загородившись Псалтирем, считал себя в безопасности, а фотограф подловил его сбоку.
Он словно наблюдает за собой: как внимательно, терпеливо и ловко разыгрывает он свои карты, делая вид, будто безропотно смиряется с тем, чего на самом деле желал еще до поступления в семинарию, хотя не признается себе в этом желании даже теперь. И все бросает, бросает подачки, как гнилые яблоки перед гуртом свиней: делится с мемфисской исправительной колонией скудными доходами с отцовского капитала; позволяет себя травить, позволяет вытащить себя ночью из постели, уволочь в лес и бить палками и, не стыдясь, ублажая свое сладострастно-терпеливое ego мученика, колет городу глаза своей миной, видом, своим Доколе, о Господи? и только дома, за дверью, сладострастно ликуя, снимает личину Ах. С этим покончено. Это позади. Это куплено и оплачено
«Но я тогда был молод, – думает он. – Мне тоже приходилось делать не то, что я мог, а то, что умел». Теперь мысль движется чересчур тяжело, ему полагалось бы это понять и почувствовать. Но колесница все еще не ведает, к чему приближается. «И в конце концов, я же расплатился. Я купил этот дух, хотя заплатил за него своей жизнью. А кто смеет мне запретить? Человек имеет право губить себя, коль скоро не вредит другим, коль скоро живет собой и сам по себе…» Он вдруг останавливается. Замирает, перестает дышать от испуга, близкого к настоящему ужасу. Теперь он сознает, что попал в песок; поняв это, он чувствует, как весь собирается внутри, словно для неимоверного усилия. Продвижение – все еще продвижение, но теперь новое неотличимо от только что пройденного: преодоленные пяди песка, налипшие на колеса, осыпаются с сухим шорохом, который еще раньше должен был бы послужить ему сигналом: «…открыл жене свою жажду, свое «я»… Орудие, принесшее ей позор и отчаяние…», и, хотя он даже не подумал этого, фраза возникает в черепной коробке целиком, позади глаз Я не хочу так думать. Я не должен так думать. Я не смею так думать Он сидит в окне, наклонившись над своими неподвижными ладонями, и начинает обливаться потом; пот выступает, как кровь, льется. Увязшее в песке колесо мысли выворачивается из этого мгновения с медленной неумолимостью средневекового орудия пытки, вздевая на себе выкрученные и раздробленные сочленения его духа, его жизни: «Если это так, если я – орудие, принесшее ей отчаяние и смерть, значит, я орудие кого-то другого. А я знаю, что пятьдесят лет я не был даже прахом: я был единственным мгновением темноты, в которой проскакал конь и грянул выстрел. И если я – свой дед в мгновение его смерти, тогда моя жена, жена его внука… растлитель и убийца жены моего внука, раз я не позволял внуку ни жить, ни умереть…»
Колесо, освободившись, словно срывается вперед с протяжным, похожим на вздох звуком. Он сидит неподвижно, в холодном поту; пот течет и течет. Колесо продолжает вертеться. Теперь оно катится быстро и плавно, потому что освободилось от груза, от колесницы, от оси, от всего. В зыбком затишье августа, куда сейчас вступит ночь, оно одевается, обволакивается слабым свечением, похожим на ореол. Ореол полон лиц. Лица не отмечены страданием, не отмечены ничем – ни ужасом, ни болью, ни даже укоризной. Они покойны, словно обрели избавление в апофеозе; среди них и его лицо. В сущности, они все немного похожи – смесь всех лиц, которые ему когда-либо приходилось видеть. Но он отличает их друг от друга: лицо жены; прихожан, которые отвергли его, которые с нетерпением и готовностью встречали его в тот день на станции; Байрона Банча; роженицы; и человека, которого звали Кристмас. Только это лицо неясно. Оно вырисовывается туманнее всех остальных – словно в мирных уже судорогах более позднего и нерасторжимого слияния. Затем он понимает, что это – два лица, которые как будто стремятся (но он знает, что стремятся или желают не сами по себе, а из-за движения и желания самого колеса) освободиться друг от друга, растаять и соединиться вновь. Но теперь он увидел – лицо другое, не Кристмаса. «Да ведь это… – думает он. – Я его видел недавно… Да ведь это… тот юноша. С черным пистолетом, как он называется… автоматическим. Тот, который… на кухне, где… убил… который стрелял…» И тут ему кажется, что какой-то последний адский поток внутри него прорвался и хлынул вон. Он будто наблюдает его, чувствуя, как сам отделяется от земли, становится все легче, легче, опустошается, плывет. «Я умираю, – думает он. – Надо молиться. Надо попробовать». Но не молится. Не пробует. «Когда все небо, вся высь полна напрасных, неуслышанных криков всех живых, что жили на земле – и до сих пор вопиют, как заблудившиеся дети, среди холодных и ужасных звезд… Я желал такой малости. Я просил такой малости. Казалось бы» Колесо вращается. Оно вертится стремительно, пропадая, не двигаясь с места, словно раскрученное этим последним потоком, который вырвался из него, опустошив его тело, – и теперь, сделавшись легче забытого листа, ничтожнее плавучего сора, опростанное и застывшее, оно сникло в окне, опустив на подоконник, лишенный плотности, руки, лишенные веса: настала пора для «Пора».
Они словно только и дожидались, когда он соберется с силами, чтобы вздохнуть, когда соберет последние остатки чести, гордости и жизни, чтобы подтвердить свое торжество и желание. Он слышит, как над сердцем нарастает гром, дробный и несметный. Как протяжный вздох ветра в древесных кронах, начинается этот гром, а затем вылетают они, теперь – на облаке призрачной пыли. Проносятся мимо, подавшись вперед в седлах, потрясая оружием, а над ними на жадно склоненных пиках трепещут ленты; бурля, с беззвучным гамом они прокатываются мимо, как вал, чей гребень усажен оскаленными лошадиными мордами и грозным оружием людей, словно выброшенные жерлом взорвавшегося мира. Они проносятся мимо и пропадают; пыль взвивается к небу, всасываясь в темноту, тая в ночи, которая уже наступила. Но он все сидит в окне, приникнув огромной и плоской головой в повязке к двум пятнам рук на подоконнике, и, кажется, все еще слышит их: дикое пение горнов, лязг сабель и замирающий гром копыт.
21
В восточной части штата живет человек, который занимается починкой и перепродажей мебели; недавно он ездил в Теннесси за старой мебелью, купленной по переписке. Поехал он на своем грузовике, и поскольку машина (это фургон с дверью в задней стенке) еще только обкатывалась, он не хотел ее гнать быстрее пятнадцати миль в час и, чтобы не тратиться на гостиницы, взял с собой снаряжение для ночевок на открытом воздухе. Возвратившись домой, он рассказал жене об одном приключении, на его взгляд, достаточно забавном, чтобы о нем стоило рассказать. Возможно, он нашел это приключение интересным и решил, что сможет рассказать о нем интересно потому, что они с женой люди еще не старые, и вдобавок он отсутствовал дома (благодаря весьма умеренной скорости, которой счел нужным себя ограничить) больше недели. Речь шла о двух людях, пассажирах, которых он подобрал по дороге; он называет город в Миссисипи, недалеко от границы с Теннесси.
«Решил заправиться, подъезжаю к станции и вижу, стоит на углу такая молоденькая, приятная с виду женщина – как будто ждет, чтобы кто-нибудь из проезжих предложил ее подвезти. Что-то в руках держит. Я сперва не заметил, что это такое, и парня не заметил, который с ней был, – покуда он не подошел и не заговорил со мной. Сперва я решил, что не заметил его, потому что он стоял отдельно. А потом вижу – это такой человек, что если он один на дне пустого бассейна будет сидеть, его и то не сразу заметишь. Подходит он, а я ему с места в карьер:
– Если вам в Мемфис нужно, то я не туда. Я еду через Джексон, Теннесси.
А он говорит:
– Прекрасно. Это бы нас устроило. Вы бы нас очень выручили.
Я говорю:
– А куда вы все-таки едете? – А он поглядел на меня, – вроде хочет быстренько что-нибудь выдумать, но, видно, врать не привык и знает, что вряд ли ему поверят. – Наверно, просто осматриваетесь? – говорю.
– Да, – говорит. – Вот именно. Просто путешествуем. Куда бы вы нас ни подвезли, все равно вы нас очень выручите.
Ну я и сказал ему, чтобы залезали.
– Надеюсь, вы меня не убьете и не ограбите. – Он пошел и привел ее. Тут я увидел, что на руках у ней ребенок, махонький, году нет. Он хотел было подсадить ее в кузов, а я говорю: – Отчего бы одному из вас в кабине не поехать? – Они поговорили немного, потом она залезла в кабину, а он пошел на заправочную станцию, вынес картонный чемодан – знаешь, такой, под кожу, – засунул в кузов и сам влез. И поехали – она в кабине, с ребенком на руках, и то и дело назад поглядывает, не выпал ли он там или еще чего.
Сперва я думал, они женаты. Да, в общем, и не думал ничего, только подивился, как это такая молодая статная девушка – и вдруг с ним сошлась. Ничего плохого в нем не было. Парень вроде хороший, работник, видно, – из тех, которые подолгу на месте держатся и прибавки не просят, покуда им разрешают работать. Вот такой примерно парень. Такой, что, кроме как на работе, он всегда где-то сбоку припека. Я себе представить не мог, чтобы кто-нибудь, какая-нибудь женщина запомнила, как спала с ним – не говоря уже о том, чтобы такое доказательство на руках имела».
И не стыдно тебе? спрашивает его жена. Говорить такое женщине. Они беседуют в темноте.
Я что-то не вижу, чтобы ты покраснела, говорит он. И продолжает:
«Я вообще об этом не думал, пока мы не остановились на ночевку. Она сидела со мной в кабине – ну, разговорились, как водится, и немного погодя узнаю, что пришли они из Алабамы. Она все говорила: «Мы пришли», и я, конечно, думал, что она – про того, который в кузове едет. И говорит, что они уже почти два месяца в дороге.
– Вашему мальцу, – говорю, – нет двух месяцев. Если я в цветах разбираюсь. – А она отвечает, что он родился три недели назад в Джефферсоне, и я говорю: – А-а, где нигера линчевали. Это, наверно, при вас еще было. – И тут она прикусила язык. Как будто он не велел ей про это разговаривать. Я понял, что он. Ну, едем дальше, а как смеркаться стало, я говорю: – Скоро будет город. Я в городе ночевать не останусь. Но если вы хотите завтра со мной ехать, я заеду за вами в гостиницу, часов в шесть, – а она сидит тихо, как будто ждет, что он скажет, и он немного погодя говорит:
– Я думаю – на что вам гостиница, когда в машине дом. – Я промолчал, а уже в город въезжаем, и он спрашивает: – А этот городок порядочный или так себе?
– Не знаю, – говорю. – Но думаю, пансиончик какой-нибудь здесь найдется.
А он говорит:
– Интересно, нет ли тут лагеря для туристов? – Я молчу, и он объясняет: – Чтобы палатку снять. Гостиницы эти дорогие – особенно если людям ехать далеко. – А куда едут, так и не говорят. Как будто сами не знают, а так, смотрят, куда им удастся заехать. Но я еще этого не понимал. А вот что он от меня услышать хочет, понял – и что сам он у меня об этом не попросит. Как будто, если Бог положил мне сказать это, я скажу, а если Бог положил ему пойти в гостиницу и заплатить, может, целых три доллара за номер, он пойдет и заплатит. И я говорю:
– Что ж, ночь теплая. Если вы не боитесь москитов и на голых досках в машине спать…
А он говорит:
– Конечно. Это будет прекрасно. Это было бы очень прекрасно, если бы вы ей разрешили. – Тут я заметил, что он сказал ей. И начинаю замечать, что он какой-то чудной, напряженный, что ли. Такой у него вид, будто сам себя накрутить хочет на какое-то дело, которое сделать охота, но боязно. И боится вроде не того, что ему худо будет, а вроде само дело такое, что он бы скорее умер, чем на него решился, если бы всех остальных путей не перепробовал и в отчаяние не впал. А я еще ничего не знаю. Никак в толк не возьму, что у них там за история. И если бы не ночевка с этими приключениями, я, думаю, так бы и расстался с ними в Джексоне, ничего не узнавши».
А что он сделать-то хотел? говорит жена.
Подожди, дойдет черед и до этого. Может, я тебе даже покажу. Он продолжает:
«Остановились мы у магазина. Я еще затормозить не успел, а он уже спрыгнул. Как будто боялся, что я его обгоню, а сам сияет прямо – как мальчишка, когда ему пообещаешь что-то сделать, и он торопится что-то сделать для тебя, пока ты не передумал. Рысцой забежал в магазин и возвращается со свертками, выше головы нагрузился – и я про себя говорю: «Э, брат. Ты, я вижу, совсем решил поселиться в машине и хозяйством обзавестись». Поехали дальше и скоро нашли подходящее место, я съехал с дороги, под деревья, а он выскакивает, бежит к дверце и помогает ей слезть, да так, как будто они с мальцом стеклянные. А лицо у самого все такое же, как будто он уже почти решился – не знаю, на что он там решился с отчаяния, – если только я или она чем-нибудь раньше не помешаем и если она по его лицу не поймет, что он с отчаяния на что-то решился. А на что – я и тогда еще не знал».
А на что все-таки? говорит жена.
Я же тебе только что показал. Пора, что ли, второй раз показывать?
Я, пожалуй, обойдусь. Но все-таки не понимаю, что тут смешного. И как он умудрился столько трудов и времени на это потратить?
А потому что они были не женаты, говорит муж. И ребенок-то был не его. Только я этого не знал. Я это только ночью понял, когда услышал их разговор у костра – они, наверно, думали, я не слышу. Это еще до того, как он совсем отчаялся. Но и тогда, думаю, отчаяния уже хватало. Просто решил попробовать в последний раз. Он продолжает:
«И вот, значит, бегает он туда-сюда, ночлег устраивает, за все хватается, а с чего начать, не знает, – такая суматоха, что прямо на нервы действует. Велел ему дров для костра притащить, а сам взял свои одеяла и постелил в машине. И уже зло берет, что с ними связался и что спать теперь придется прямо на земле, ногами к костру, без всякой подстилки. Так что вел себя, наверно, грубовато, ворчал; хожу, все налаживаю, а она сидит спиной к дереву, ребенка под шалью ужином кормит и все твердит, как ей совестно, что из-за нее такие неудобства, и хочет ночевать, сидя у костра, – она, мол, ни капельки не устала, целый день только ехала и ничего не делала. Потом он вернулся и волочит столько дров, что хватило бы быка зажарить, она ему что-то сказала, и он пошел, вынес из машины чемодан и достает оттуда одеяло. И началась у нас петрушка. Как у этой пары из комиксов, у этих двух французов, которые все кланяются[60] и расшаркиваются, друг друга вперед пропускают, – вот и мы так, делали вид, будто для того из дому уехали, чтобы дорваться на земле поспать, и каждый норовит разлечься побыстрей да поосновательней. У меня так и просилось на язык: «Ну ладно. Если хочешь спать на земле – валяй. Лично мне это нужно знаешь как?» Но все-таки, можно сказать, моя взяла. Вернее – наша взяла. Кончилось тем, что он постелил их одеяло в машине – как будто мы с самого начала не знали, что так и будет, – а мое мы расстелили у костра. Он-то по крайней мере, думаю, с самого начала знал, что так и будет. Если они действительно из самой Алабамы шли, как он говорил. Иначе зачем он столько дров натащил, если всего-то надо было кофе сварить да подогреть консервы. Потом мы поели, а потом я все узнал».
Что узнал – что он сделать хотел?
Нет пока еще. Вижу, у нее терпения было побольше, чем у тебя. Он продолжает:
«Значит, поели мы, и улегся я на одеяло. Устал; вытянуться было приятно. И подслушивать их или там делать вид, что сплю, я не собирался. А потом, они же сами попросили их подвезти, я их к себе в машину не заманивал. И если им захотелось поговорить при чужом, не отойдя в сторонку, – это их дело. Так мне и пришлось узнать, что они за кем-то охотятся – не то ловят его, не то ищут. Вернее сказать – она. И тут я говорю про себя: «А-а. Вот вам еще одна девица, которая решила в субботу ночью узнать то, про что мама, воскресенья дождавшись, у священника спрашивала». Имени его они не называли. И не знали, куда он от них сбежал. И я так понял, что если бы они знали, куда он направился, то его бы вины тут не было – этого, который бежал. Это я быстро понял. И вот, слышу, он ей толкует, что они так могут ездить из штата в штат, пересаживаться с грузовика на грузовик до конца дней и следов его не найдут, а она сидит себе с ребенком на бревне и слушает – тихо и вежливо, как каменная, и видно, уговорить ее или расшевелить – примерно так же просто. «Да, брат, – говорю я себе, – что она в голове, в кабине ехала, а ты в кузове сидел, на улицу сзади ноги свесив, – так порядок этот, видно, не сегодня у вас заведен». Но ничего, конечно, не сказал. Лежу, а они разговаривают – вернее, он разговаривает, негромко. И о женитьбе даже не поминает. Но говорил-то он, конечно, о ней самой, – а она себе слушает спокойно, как будто слышала уже не раз, и знает, что ей даже утруждаться не надо отвечать ему да или нет. И улыбается потихоньку. Только он этого не видел.
Потом он как будто сдался. Встал с бревна и ушел. Но лицо его я видел, когда он повернулся, – и понял, что сдаваться он даже не думает. Он просто сделал последнюю попытку и теперь до такого отчаяния себя накрутил, что готов был всем рискнуть. Так и хотелось ему сказать, что сейчас он решился на то, что надо было первым долгом сделать. Но, видно, у него были свои резоны. В общем, ушел в темноту, а она на месте сидит, лицо опустила и все еще потихоньку улыбается. И вслед ему даже не поглядела. Наверно, поняла, что ему хочется одному побыть и накрутить себя на то, что она ему, может, с самого начала советовала, только не словами – даме это, ясное дело, неудобно; даже такой даме, у которой семья завелась в субботу ночью.
Но скорее дело было и не в этом. А может, ей место или время показалось неподходящим, не говоря уже о зрителях. Словом, встала она немного погодя, посмотрела на меня – я, конечно, не шевелился – и влезла в машину, а немного погодя слышу, все там затихло – значит, спать улеглась. А я лежу – сна уже ни в одном глазу, – и довольно эдак долго. Но чувствую, он где-то близко – ждет, наверно, когда костер потухнет или когда я усну покрепче. И точно, только костер потух, слышу – подходит, тихо, как мышь, стал надо мной, смотрит сверху и слушает. Я – ни звука; не помню, может, всхрапнул ради него разик-другой. Короче говоря, направляется к машине, да так, как будто по яйцам ступает, а я лежу, смотрю на него и думаю про себя: «Эх, брат, если бы ты сделал это прошлой ночью, ты бы ночевал сегодня на шестьдесят миль южнее. А если бы позапрошлой ночью, я бы вас и вовсе не повстречал». И тут я немного забеспокоился. Не оттого забеспокоился, что он с ней может что-то сделать, чего она не хочет. По правде говоря, болел-то я за мужичонку. То-то и оно. Я не знал, как мне поступить, когда она закричит. Я знал, что она закричит, а если я вскочу и побегу к машине, это его спугнет, а если не побегу, он сообразит, что я не спал и следил за ним все время, и это его еще скорей спугнет. Только зря я беспокоился. Я мог бы это сразу понять, как только их увидел».
Я чувствую, ты и так не беспокоился, потому что знал уже, как она поведет себя в таком случае говорит жена.
Точно соглашается муж. Я не хотел, чтобы ты сама про это догадалась. Да-а. Я думал, что на этот раз хорошо запутал следы.
Ну, рассказывай. Что вышло?
А что может выйти с такой здоровой, рослой девушкой, когда ее не предупредили, что это всего-навсего он, а несчастный мужичонка и без того уже расплакаться готов, все равно как второй ребеночек? Он продолжает:
«Никакого крика не было, ничего. Я только видел, как он влез потихоньку в кузов и пропал, потом – наверно, до пятнадцати можно было медленно досчитать – ничего, потом слышу, такой вроде возглас удивленный – проснулась, значит, но только удивилась и недовольна слегка, но не испугалась нисколько – и негромко так говорит:
– Ай-ай-ай, мистер Банч. Как вам не совестно. Так ведь можно и ребенка разбудить. – И сам он из задней двери появился. Не быстро и совсем даже не своим ходом. Плюнь мне в глаза, если мне не показалось, что она подняла его и спустила обратно на землю, как этого ребеночка, если бы ему было, ну так, лет шесть, – и говорит: – Подите, ляжьте, поспите. Завтра нам опять ехать.
А мне прямо глядеть на него стыдно, – не дай Бог узнает, что хоть одна живая душа видела или слышала, какая у него вышла осечка. Плюнь мне в глаза, если мне вместе с ним не хотелось провалиться сквозь землю. Правда, я к земле ближе был. А он стоит там, как она его поставила. Костер уж совсем догорел, и я его еле вижу. Но знаю, как я бы там стоял и чувствовал себя на его месте. Голову бы опустил, как будто Судья сейчас скажет: «Введите его и поскорее повесьте». Но лежу – и ни звука, и чуть погодя слышу, он уходит. Слышу, кусты затрещали, как будто бросился напролом, очертя голову. Потом рассвело, а его все нету.
Ну, я ничего не сказал. Что тут скажешь? Я все-таки надеялся, что он объявится – стыдно или не стыдно, но из кустов выйдет. Развел я костер, начал завтрак готовить и немного погодя слышу, вылезает из грузовика она. Я не оглядываюсь. Но слышу, стоит так, как будто озирается, как будто угадать хочет по костру или по одеялу моему, тут он или нет. Я – ни слова, и она – ни слова. Пора уже вроде собираться и ехать. Но, думаю, не бросать же ее посреди дороги. И еще думаю – услышала бы моя жена, что я разъезжаю с хорошенькой деревенской девушкой и младенцем трех недель от роду – пускай она и говорит, что мужа разыскивает. Или теперь уже – обоих мужей. Поели мы, значит, и я говорю:
– Ну, путь у меня не близкий – надо собираться. – А она ни слова не говорит. Я на нее поглядел и вижу, лицо у нее спокойное, как ни в чем не бывало. Плюнь мне в глаза, если она хотя бы удивилась или чего-нибудь. Ну и положеньице. Что с ней прикажешь делать – а она уже и вещи собрала, и кузов веткой вымела, и уж чемодан этот картонный там, и у задней стенки одеяло сложено в виде подушки; и я говорю про себя: «Неудивительно, что ты обходишься. Когда они от тебя сбегают, ты просто подбираешь, что от них осталось, и идешь дальше».
Она говорит:
– Я, пожалуй, тут поеду, сзади.
– Малышу, – говорю, – будет тряско.
– А я его на руках подержу, – отвечает.
– Как хотите, – я говорю. И поехали, я из окошка высунулся, назад смотрю – все надеюсь, что он появится, пока мы за поворот не выехали. Нет как нет. Рассказывают про одного, которого поймали на вокзале с чужим ребенком. А у меня мало того, что ребенок чужой – еще и женщина, и в каждой машине, которая догоняет, мерещится свора мужей и жен, уж не говоря про шерифов. Мы уже подъезжали к границе Теннесси, и я решил – либо я этот новый мотор запорю, либо доберусь-таки до большого города, где найдется дамское благотворительное общество, чтобы ее туда сдать. А сам нет-нет да и оглянусь назад – вдруг он бежит за нами; а она сидит спокойненько, как в церкви, и ребенка держит таким манером, чтобы он и кушать мог и на ухабах не подскакивал. Нет, с ними тягаться бесполезно». Он лежит в постели и смеется. «Да, брат. Плюнь мне в глаза, если кто-то с ними может потягаться».
А что потом? Что она потом сделала?
А ничего. Сидит и едет и смотрит так, словно землю первый раз в жизни видит – дорогу, деревья, столбы телефонные. Она его и не видела, пока он к задней двери не подошел. Да ей и незачем было. Только ждать – и больше ничего. И она это знала
Его?
Ну да. Стоял на обочине, когда мы выехали за поворот. Стыдно не стыдно – а стоит, побитый, но упрямый – и спокойный притом, как будто накрутил и довел себя до последнего, последнее средство испробовал и знает теперь, что доводить себя больше не придется. Он продолжает:
«На меня он и не посмотрел. Я только затормозил, а он уже – бегом к задней двери, где она сидит. Обошел кузов и стал там, а она даже не удивилась.
– Я слишком далеко зашел, – он говорит. – И провалиться мне на этом месте, если я теперь отступлюсь. – А она смотрит на него, словно с самого начала знала, как он себя поведет, когда он сам об этом еще и не думал, – и, как бы он себя ни повел, всерьез это принимать не надо.
– А никто вам и не велел отступаться, – она говорит». Он смеется, лежа в постели, смеется долго. «Да, брат. С женщиной тягаться бесполезно. Ведь знаешь, что я думаю? Я думаю, она просто каталась. По-моему, у ней и в мыслях не было догонять того, кого они искали. И никогда она, по-моему, догонять не собиралась – только ему еще не сказала. Я думаю, она это первый раз в жизни так далеко от дома ушла, чтоб засветло не успеть вернуться. И благополучно в такую даль забралась, а люди ей помогают. Вот она, я думаю, и решила еще немного покататься, белый свет посмотреть – знала, видно, что как осядет теперь, так уж – на всю жизнь. Вот что я думаю. Сидит себе сзади, и он там при ней, и малыш – он даже кушать не перестал, все десять миль так и завтракал, чем тебе не вагон-ресторан? – а сама на дорогу глядит, любуется, как столбы да изгороди назад бегут, словно это – цирковой парад. Немного погодя я говорю:
– А вот вам и Солсбери.
А она говорит:
– Что?
– Солсбери, – говорю, Теннесси. – Оглянулся и на лицо ее посмотрел, а она уже как будто приготовилась и ждет, когда ее удивят, и знает, что удивление будет приятное. И, видно, так оно и случилось, как она ждала, и ей это подошло. Потому что она говорит:
– Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже – Теннесси».
Деревушка
Книга первая Флем
Глава первая
Французовой Балкой называлась часть плодородной речной долины в двадцати милях к юго-востоку от Джефферсона. Защищенная холмами и уединенная, обособленная, но четких границ не имеющая, лежащая на стыке двух округов и ни одному из них не подчиненная, Французова Балка когда-то была жалованным поместьем, ко времени войны Севера с Югом превратившимся в колоссальную плантацию, останки которой – выпотрошенный короб огромного дома, рухнувшие бараки для рабов и конюшни, террасы, укрепленные кирпичной кладкой, дорожки и заросшие сады – по-прежнему именовались усадьбой Старого Француза[61], хотя первоначальные границы поместья были обозначены теперь только на пожелтевших старинных планах, хранившихся в архиве финансового управления, размещенном в Джефферсоне, в здании окружного суда; и даже поля, в прошлом урожайные, кое-где давно уже вновь заполонила сплошь поросшая камышом непролазная кипарисовая чаща, некогда вырубленная их первым владельцем.
Вполне возможно, он был иностранец, хотя и не обязательно француз, поскольку для людей, пришедших после него и почти начисто уничтоживших следы его трудов, любой, в чьей речи угадывался нездешний призвук либо чья внешность или даже род занятий казался странным, был не иначе как француз, что бы ни утверждал он в отношении своей национальной принадлежности, подобно тому как их существеннее затронутые городской цивилизацией современники (вздумай он обосноваться, скажем, в самом Джефферсоне) окрестили бы его голландцем. Откуда он был родом на самом деле, теперь никто уже не имел и понятия, даже шестидесятилетний Билл Варнер, нынешний владелец большей части бывшего поместья, включая участок под разрушенной усадьбой. Потому что пропал, исчез тот иностранец, Француз тот, вместе с семьей, рабами, со всем своим великолепием. Его мечта, необъятные поля его плантации были раздроблены на части под мелкие, заложенные и перезаложенные захудалые фермы, и директора джефферсонских банков сперва из-за них между собой перегрызлись, а в конце концов продали Биллу Варнеру, так что все, что от Старого Француза осталось, – это русло реки, которое на протяжении почти десятка миль его рабы спрямили, дабы река не размывала земли, да еще скелет грандиозного дома, который его самозваные наследники уже лет тридцать растаскивали по частям, отдирая и отковыривая все, что только могли: ореховые балясины перил и опоры винтовых лестниц, дубовые половицы, которым лет через пятьдесят цены бы не было, вплоть до дощатой обшивки дома – и все на дрова. Забыто было даже имя иностранца, и от его гордыни не осталось ничего, кроме предания о земле, отвоеванной им у зарослей и покоренной, увековечившей позабытый титул, который те, кто явились позже, приехали в обшарпанных фургонах, верхом на мулах или даже пришли пешком со своими кремневыми ружьями, собаками и детьми, самогонными аппаратами и протестантскими молитвенниками, даже по складам прочесть не смогли бы, не то что правильно выговорить, и который не имел уже отношения ни к кому на всем белом свете; и вот не осталось ни его мечты, ни гордыни, прах, тлен и безымянная могила, а от всего предания – лишь сказка, упрямо твердящая о деньгах, зарытых им где-то в усадьбе, когда войска генерала Гранта хлынули в эти места по дороге на Виксберг[62].
Люди, ему унаследовавшие, пришли с северо-востока, через теннессийские горы, продвигаясь постепенно, каждый шаг отмеряя выношенным и выращенным поколением. Они пришли с Атлантического побережья, а прежде того из Англии, с болот Шотландии и Уэльса, и это видно по именам многих из них: Тэрпин и Хэйли, Уиттингтон, Маккалем и Марри, Леонард и Литтлджон, да и других тоже: Риддеп, Армстид, Доши – люди с такими именами сами собой, из ниоткуда, появиться не могут, поскольку никто, конечно же, не выбрал бы себе добровольно подобное прозвище. Не было у них ни рабов, ни дорогих комодов работы Файфа и Чиппендейла[63], – какое там, если у них что и было, так в большинстве своем они все свое имущество в состоянии были принести на собственных плечах, а зачастую и действительно принесли. Они заняли землю, понастроили лачуг в одну-две комнатенки, причем до покраски дело не доходило, переженились между собой и принялись плодить детей да пристраивать к своим лачугам клетушку за клетушкой, опять не утруждаясь покраской, но на большее их не хватало. Их потомки все так же растили хлопок в пойме, а кукурузу – у подножия холмов, из зерна гнали виски в запрятанных среди холмов укромных закутках и продавали, если не выпивали все сами. К ним направляли федеральных чиновников, но те исчезали. Кое-что из вещей пропавшего потом обнаруживалось – какая-нибудь фетровая шляпа, приличного сукна сюртук, пара городских штиблет, а глядишь, и пистолет даже – то у ребятишек, то у старика или старухи. Начальство из округа иначе как по поводу выборов туда не совалось. Они сами содержали свои церкви и школы, а их свадьбы, редкие прелюбодеяния и несколько более частые убийства – все это решалось между собой: сами себе судьи, сами себе палачи. Протестанты и демократы, они давали обильный приплод; негров среди местных землевладельцев не было ни одного, а чужие негры ни за что на свете не согласились бы пройти через Французову Балку после того, как стемнеет.
Главным человеком в этих местах сделался Билл Варнер, теперешний хозяин усадьбы Старого Француза. Он был крупнейшим землевладельцем и членом окружного совета в одном округе, мировым судьей в соседнем и уполномоченным по выборам в обоих, поэтому от него исходили если не законы, то по меньшей мере советы и поучения для местных жителей, которые отвергли бы такой термин, как представительство, если бы даже когда-нибудь о нем услышали, и приходили к Варнеру с намерением узнать не «что от меня требуется», а «как вы думаете, что бы вы от меня вздумали потребовать, если бы меня удалось заставить». Он был и фермером, и ростовщиком, и ветеринаром; судья Бенбоу из Джефферсона сказал однажды, что никогда он не встречал такого отменного учтивца средь всех, кто начинял избирательные урны иль мулам зубы рвал[64]. Почти вся хорошая земля в округе принадлежала Варнеру, а на остальную он держал закладные. Он был владельцем лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой и кузни – все это в самом поселке, – и местные жители считали для себя, мягко говоря, неосмотрительным делать закупки, или очищать хлопок, или дробить кукурузу, или подковывать тягло где-либо еще. Тощий как жердь и почти такой же длинный, с рыжеватой, тронутой сединой шевелюрой и усами и маленькими, колючими, яркого, невинно-голубого цвета глазками, он был похож на попечителя воскресной школы при методистской церкви, который по будням ездит на пассажирском поезде кондуктором или наоборот и который при этом владеет церковью, а может – железной дорогой, а может – и той и другой. Расчетливый и скрытный, он при этом обладал веселым нравом и раблезианским складом ума, по всей вероятности до сих пор оставаясь подверженным позывам пола (своей жене он сделал шестнадцать детей, хотя только двое из них жили дома, остальных поразбросало, кого замуж, кого в могилу, от Эль-Пасо до границы с Алабамой), и вихрастая его шевелюра, даже на седьмом десятке более рыжая, чем седая, тому порукой. Живой и энергичный, он в то же время был ленив: ничего не делал (всеми семейными предприятиями управлял сын) и посвящал этому все время, успевая выйти из дому и исчезнуть даже прежде, чем сын спустится к завтраку, и поди знай, куда старик направляется, при том что и он и старая разжиревшая белая кобыла, верхом на которой он разъезжал, могли попасться на глаза когда и где угодно на десять миль окрест, а весной, летом и ранней осенью хотя бы в месяц раз – кобыла привязана на выпасе у ближнего столба забора – любой мог видеть, как он сидит в самодельном кресле посреди лужайки, заглохшей под натиском дикого мелкокустья, в усадьбе Старого Француза. Кресло смастерил ему кузнец, до половины распилив посередине бочку из-под муки, а потом подровняв края и приколотив сиденье, и Варнер теперь посиживал в своем кресле, жуя табак или покуривая тростниковую трубку, для каждого прохожего держа в запасе острое словцо, приветливое, но без намека на приглашение к беседе, один, на фоне останков былой роскоши. Все полагали (как те, кто видел его там, так и те, кто об этом только слышал), что он в это свое уединение забирается, чтобы обдумать, как бы опять у кого-нибудь отобрать землю, лишив очередного должника права выкупа по закладной, поскольку одному лишь бродячему торговцу швейными машинками по имени Рэтлиф – человеку младше его более чем вдвое – он выдал некое подобие причины: «Люблю здесь посидеть. Все пытаюсь поставить себя на место того остолопа, которому все это вот было нужно… – он даже не шелохнулся, даже головой не повел в направлении затейливого лабиринта старых, уже сплошь проросших травой кирпичных дорожек, подымавшихся к колоннаде громадного полуразвалившегося фасада за спиной, – …которому все это нужно было, чтобы только есть там да спать». А потом добавил, так и не дав понять Рэтлифу, где под шуткой кроется зерно истины: «Одно время похоже было, что меня от всего этого избавят, растащат дочиста. Да народец-то у нас вишь какой: до того обленились, уже на лестницу не залезть, чтобы доски поотдирать, какие остались. Скорее в лес пойдут да дерево завалят – это им проще, чем глянуть выше собственного носа, где бы охапку дранки налущить на растопку. Все же, думаю, пускай как есть, так и стоит – что еще осталось. Пусть напоминает мне о моей ошибке. За всю жизнь это единственное, что купить-то я купил, а перепродать никому и не выходит».
Его сыну Джоди было уже лет тридцать – видный, цветущий мужчина с немного выпученными, вероятно из-за щитовидки, глазами, и не только не женатый, но прямо-таки источающий флюиды непреоборимого и незыблемого холостяковства, подобно тому как порой говорят, что от человека исходит дух святости или благородства. Крупный мужчина с намечающимся брюшком, которое лет через десять – пятнадцать обещало изрядно вырасти, пока что он ухитрялся выглядеть завидным кавалером. И зимою и летом, и в праздники и в будни он носил черный костюм добротного тонкого сукна (с сюртуком, правда, на время теплого сезона расставался), под которым неизменно белела рубашка без воротничка, застегнутая на шее массивной золотой запонкой. Впервые он надевал все это в день, когда костюм доставляли от джефферсонского портного, и с той поры носил его каждый день в любую погоду, пока не продавал кому-нибудь из негров, прилепившихся к дому Варнеров, заменяя следующим, так что чуть ли не в каждый воскресный вечер любой из его старых костюмов (либо целиком, либо представленный одной какой-нибудь частью) можно было встретить и тотчас же опознать на летних дорогах округа. В противоположность неизменно облаченным в комбинезоны окружающим, вид у него был не то чтобы похоронный, но торжественный, отчасти из-за присущих ему эманаций холостяковства, поэтому поглядишь на него и, несмотря на некоторую расплывчатость абриса и общую помятость, сразу видишь – вот он, неувядаемо бессмертный Первый Парень, апофеоз мужской исключительности, как порой за раздутым от водянки телом бывшего футболиста университетской команды 1909 года выпуска угадывается тень поджарого, неудержимого форварда. У родителей он из шестнадцати детей был девятым. Вел дела в лавке (номинальным владельцем которой все еще считался отец и в которой они с отцом занимались главным образом сделками по скупке просроченных закладных), на хлопкоочистителе тоже он распоряжался и за наделами арендаторов надзирал – инспектировал те разбросанные там и сям земли, которые сперва его отец, а потом оба они вместе напропалую скупали последние сорок лет.
Как-то под вечер он был в лавке, отматывал с барабана новую веревку, нарезал из нее постромки для плуга, сворачивая их и навешивая по-корабельному, аккуратными шлагами, на рядок гвоздей, вбитых в стену, и тут позади послышался стук, он обернулся и увидел в дверном проеме силуэт человека, ростом пониже среднего, в широкополой шляпе и сюртуке с чужого плеча, причем стоял этот человек со странной, прямо-таки деревянной неподвижностью.
– Ты Варнер? – сказал незнакомец голосом не то чтобы грубым, во всяком случае не намеренно грубым, а скорее как бы подзаржавевшим от редкого пользования.
– Ну, смотря который, – отозвался Джоди напористым и зычным голосом, но при этом довольно любезно. – Чем могу служить?
– Моя фамилия Сноупс. Слыхал, будто у вас сдается в аренду ферма.
– Да ну? – проговорил Варнер, становясь так, чтобы лицо пришельца оказалось повернуто к свету. – И где ж это ты такое слыхал? – Ферма была новая, только-только они с отцом ее приобрели, выкупив просроченную закладную, не прошло еще и недели, а этот ведь не из местных. Даже фамилия незнакомая.
Тот не ответил. Теперь Варнеру было видно его лицо: пара холодных, серых, матово-непроницаемых глаз под седеющими, сердито сдвинутыми бровями да короткая, стального цвета спутанная бороденка, густая и клочковатая, как овчина.
– А у тебя где раньше хозяйство было? – спросил Варнер.
– Западнее. – Краткость его ответа не означала ни резкости, ни пренебрежения. Просто это единственное слово приобрело в его устах завершенную и необратимую окончательность, словно он дверь за собой закрыл.
– В Техасе, что ли?
– Нет.
– Понятно. Просто отсюда к западу. Семья большая?
– Шестеро. – Теперь явной паузы дальше не предощущалось, но и торопливого перехода к следующему слову тоже не было. Однако высказано было не все. Это Варнер почувствовал еще прежде, чем тот же безжизненный голос завершил высказывание, казалось бы, нарочито противоречивое: – Парень и две девки. Жена и ее сестра.
– Это же только пятеро.
– И я, – сказал мертвый голос.
– Обычно хозяин не считает себя среди своих работников, – возразил Варнер. – Так вас пятеро или семеро?
– В поле могу шестерых вывести.
И опять тон Варнера не изменился, все такой же напористый, такой же любезный.
– Не знаю, стоит ли брать арендатора на этот год. Уже ведь май на носу. Я тут прикинул, может, и сам управлюсь – с поденщиками. Если вообще стану в этом году с ней возиться.
– Ну, согласен и так, – сказал пришлый.
Варнер поглядел на него.
– Абы как, лишь бы устроиться? – Ответа не последовало. Варнер даже не мог понять толком, смотрит тот на него или нет. – А платить сколько собираешься? За аренду-то.
– А сколько берешь?
– Треть и четверть, – объявил Варнер. – За провизией сюда, в лавку. Наличных не надо.
– Ясно. А потом на каждый доллар двадцать пять центов сверху.
– Правильно, – любезно согласился Варнер. Теперь он и совсем понять не мог, смотрит тот вообще куда-нибудь или нет.
– Согласен, – сказал пришлый.
Потом Варнер стоял на галерее лавки, где человек пять мужчин в комбинезонах, кто сидя, кто на корточках, пристроились со своими карманными ножами и обструганными палочками, и смотрел, как его посетитель, деревянно хромая, сошел с крыльца и, ни направо, ни налево не взглянув, выбрал среди привязанных под галереей запряженных в повозки и оседланных животных тощего незаседланного мула в драной плужной упряжи с веревочными вожжами, подвел его к ступенькам, неуклюже и деревянно на него вскарабкался и уехал, так и не поглядев ни разу по сторонам.
– Послушать, как он ногой топочет, подумаешь, что в нем сотни две фунтов, – сказал один из сидевших. – Кто таков, а, Джоди?
Варнер цыкнул зубом и сплюнул на дорогу.
– Сноупс его фамилия, – отозвался он.
– Сноупс? – удивился другой. – Надо же. Это он, стало быть. – Теперь не только Варнер, но и все остальные обернулись к говорившему – костистому человеку в линялом, но совершенно чистом, хотя и латаном комбинезоне, и даже свежевыбритому, с кротким, почти печальным выражением лица (пока не разглядишь сразу два выражения: преходящее – мирной и успокоенной неподвижности и постоянное – явной, хотя и едва проступающей усталой замотанности), а губы у него были нежные, хранившие, казалось, юношескую свежесть (пока не сообразишь, что этот человек, видимо, просто никогда в жизни не курил) – ни дать ни взять живой прообраз и олицетворение целого разряда мужчин, тех, что рано женятся, на свет производят одних дочерей и сами для своих жен не более чем старшие дочери. Звали его Талл. – Это же тот бедолага, что провел зиму со своим семейством в старом хлопковом амбаре у Айка Маккаслина. Он еще два года назад в ту историю был замешан – сарай тогда кто-то поджег у одного малого по фамилии Гаррис из округа Гренье.
– А? – вскинулся Варнер. – Что такое? Сарай поджег?
– Я разве говорю, что это его работа? – отозвался Талл. – Я говорю, он просто, похоже, в это замешан, как говорится.
– И сильно замешан?
– Гаррис добился, чтобы его арестовали и притащили в суд.
– Понятно, – сказал Варнер. – Обычное дело. Обознались слегка. Он для этого просто кого-то нанял.
– Это не доказано, – возразил Талл. – Так ли, этак ли, но если Гаррис и нашел потом какую зацепку, все одно было поздно. Его уж и след простыл. А потом, прошлой осенью, в сентябре, объявился у Маккаслина. И он и его домашние батрачили у Маккаслина поденно, на уборочной, и Маккаслин пустил их перезимовать в старом хлопковом амбаре, который у него в тот год пустовал. Вот все, что я знаю. А сплетен не пересказываю.
– Я тоже, – сказал Варнер. – Мужчине-то слава досужего сплетника не к лицу. – Он стоял над всеми, широколицый, благообразный, в официальном, хотя и замызганном черно-белом облачении: крахмальная, но засаленная белая сорочка и отвисшие на коленях неухоженные штаны – костюм одновременно торжественный и затрапезный. Коротко, но громко поцыкал зубом. – Так-так-так, – сказал он. – Сарай спалил. Так-так-так.
В тот же вечер за ужином он рассказал об этом отцу. За исключением несуразного, наполовину бревенчатого, наполовину дощатого строения, известного как гостиница миссис Литтлджон, единственным в тех местах домом, над первым этажом которого возвышался еще и второй, был дом Билла Варнера. Варнеры даже кухарку держали, которая была не только единственной прислугой-негритянкой, но и вообще единственным в тех краях человеком, находящимся у кого-либо в услужении. Она у них жила год за годом, но миссис Варнер по-прежнему не уставала повторять и сама, видимо, себя убедила в том, что кухарке нельзя доверить даже воды вскипятить без присмотра. Пока в тот вечер Джоди говорил с отцом, его мать, дородная, жизнерадостная, хлопотливая женщина, родившая шестнадцать детей, пятерых из них уже пережившая и все еще получавшая на ежегодной ярмарке призы за варенья и маринады, в запарке металась от стола на кухню и обратно, а его сестра, тихая полнотелая девочка с округлившейся уже в тринадцать лет грудью, опустив глаза, напоминавшие росистые оранжерейные виноградины, и по обыкновению чуть приоткрыв полные влажные губы, сидела за столом в мечтательно-печальном оцепенении молодой самодовлеющей женской плоти, причем чтобы не слушать, ей никаких усилий прилагать явно не требовалось.
– Ты договор с ним заключил уже? – спросил Билл Варнер.
– Даже не собирался, пока Вернон Талл не рассказал мне, что тот учинил. А теперь возьму, пожалуй, захвачу туда завтра бумагу, да пусть подпишет.
– Так, может, ты и дом ему покажешь, который спалить? Или хочешь ему на выбор оставить?
– Эт точно, – нимало не смутился Джоди. – Сейчас мы это тоже обсудим. – А потом и говорит (уже без шуток, без ложных шалопутных выпадов: удар – отбив – укол): – Все, что мне надо, это докопаться без дураков, что там с сараем. И потом, не один ли хрен, вправду это его рук дело или нет. С него хватит, если вдруг под самый сбор урожая он обнаружит, что я грешу на него. Слушай, давай вот как рассудим… – Он перегнулся через стол, набычившись, жилы вздуты, глаза выпучены. Мать только что выскочила на кухню, и оттуда слышалось, как она неугомонно и горласто распекает чернокожую кухарку. А дочь – та и вовсе не слушала. – Имеется надел земли, с которой то семейство, что им владеет, шиш чего получить собиралось, тем паче когда уже и время-то упущено. И тут появляется этот малый, арендует ферму из доли, а в тех краях, где он прежде пробавлялся, сарай спалили. Не важно, он подпалил сарай или не он, хотя проще будет, если мне удастся узнать точно, что без него там не обошлось. Главное вот что: сарай сгорел, пока он по соседству околачивался, и улик хватило, чтобы он почуял жареное и удрал. И вот он появляется и арендует эту землю, с которой мы всяко шиш чего получить собирались, по малой мере об этот год, и мы его довольствуем через лавку, все честь по чести. Он снимает урожай, и хозяин земли продает его, чин чином, деньги наготове, и арендатор приходит за своей долей, а хозяин ему и говорит: «А ну-ка, что это там поговаривают про тебя да про тот сарай?» И все. Только и забот. Что, дескать, там такое поговаривают про тебя да про тот сарай? – Отец и сын глядели друг на друга глаза в глаза – слегка выпученные, темные, без блеска у одного и голубые, маленькие и колючие у другого. – Что он на это скажет? Что ему остается, кроме как «Ладно, ваша взяла».
– Ну, а твой счет – в лавке-то, за провизию – поминай как звали?
– Эт точно. Тут на кривой не объедешь. Но, слушай-ка, худо-бедно человек просто так, за здорово живешь растит тебе урожай – это же стоит того, чтобы хоть покормить его, пока он работает… Обожди-ка. – Джоди помедлил, соображая. – Прах тебя дери, мы даже без этого обойдемся: он у меня пару трухлявых дранок на своем пороге найдет, да на них накрест спичку – как раз наутро после того, как с Божьей помощью управится с окучиванием, – и ему уже ясно: пиши пропало, пора уносить ноги. Это снимает со счета за провиант месяца два, а нам всего-то и хлопот, что принанять кого-нибудь урожай собрать. – Глаза в глаза они глядели друг на друга. Для одного из них дело было, что называется, в шляпе, он уже видел воочию результаты и говорил так уверенно, словно прошло уже по меньшей мере полгода. – Прах подери, ему и деваться некуда! Не огрызнется даже! Не посмеет!
– Гм, – произнес папаша. Из кармана незастегнутого жилета он достал прокуренную тростниковую трубку и принялся набивать ее. – Ты бы от таких лучше подальше держался.
– Оно конечно, – отозвался Джоди. Он взял из фарфоровой подставки на столе зубочистку и снова уселся. – Да ведь нехорошо же – сараи-то поджигать. А коли завелась у кого дурная привычка, будь любезен за нее и поплатиться.
Ни на следующий день он не пошел никуда, ни через день. Но на третий день, едва солнце к закату, оставив своего чалого дожидаться на привязи у одного из столбов галереи, он сидел в задней комнате лавки за шведской конторкой (выдвижная ее крышка целиком убиралась в заднюю стенку, открывая столешницу) – сгорбившись, черная шляпа на затылке, одна здоровенная, поросшая черными волосами ручища, тяжелая и неподвижная, как копченый окорок, придерживает бумагу, в другой перо, – сидел и выводил своим крупным, неспешным и развалистым почерком слова контракта. Через час, с подсушенным и аккуратно сложенным контрактом в заднем кармане, уже в пяти милях от поселка он осаживал коня рядом с остановившейся посреди дороги бричкой. Немилосердной своей участью потрепанная и облепленная засохшей, еще зимней грязью, она была запряжена парой лохматых лошадок, на вид таких же звероватых и необузданных, как горные козлы, и почти таких же низкорослых. В задок к ней был прилажен ящик из листового железа, размерами и формой вроде собачьей конуры, но разрисованный под сельский домик, с окошками, причем в каждом нарисованном оконце красовалась нарисованная женская головка, с бессмысленной ухмылкой склоненная над нарисованной швейной машинкой, – но вот конь стал, и Варнер с возмущенным и растерянным видом уставился на седока брички, который только что с невинной улыбкой, как бы между прочим, осведомился: «А что, Джоди, говорят, у тебя новый арендатор?»
– Прах тебя дери! – взвился Джоди. – Да не хочешь ли ты сказать, что он и еще что-нибудь спалил? Попался, и после этого – опять?
– Ну, – слегка замялся человек в бричке, – не знаю, ручаться бы не стал – тот ли он сарай поджег, другой ли, а может – и ни одного. Штука тут в том, что оба они загорелись, когда он более или менее поблизости болтался. Можно подумать, пожары тащатся за ним по пятам, как за другими собаки. – Он говорил мягко, с ленцой, ровным тоном – не сразу и заметишь, что проницательности в его голосе даже побольше было, чем насмешки. Это был Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок. Он жил в Джефферсоне, но колесил на своих кряжистых лошадках вдоль и поперек по четырем округам, везде таская за собой размалеванную собачью конуру, в которую как раз помещалась настоящая машинка. Потрепанная и замызганная, его бричка сегодня тут попадется, а завтра где-нибудь за два округа – крепкие разномастные лошадки пасутся себе на привязи в ближнем тенечке, а сам Рэтлиф, с его привлекательной, добродушно-понятливой физиономией, уже сидит в чистой синей рубахе с расстегнутым воротом среди мужчин, расположившихся на корточках у какой-нибудь придорожной лавки, либо в обществе женщин, среди провисших бельевых веревок, корыт и закопченных котлов для кипячения у ручья или колодца (все так же на корточках и все так же, по видимости, больше всех болтая, но на самом деле еще больше прислушиваясь, а насколько больше – это только впоследствии выяснялось), или на веранде домика, сидит себе уже благопристойно, в плетеном кресле – вежливый, приветливый, обходительный, остроумный и непроницаемый. Продавал он от силы машинки три в год, остальное время приторговывал землей и скотиной, подержанным хозяйственным инвентарем и музыкальными инструментами – в общем, всем, от чего хозяин не прочь избавиться, а заодно, вездесущий, как газета, разносил от дома к дому новости, с четырех округов собранные, да передавал из уст в уста кому какие надо поручения касательно свадеб и похорон, солений и варений, надежный, как почтовое ведомство. Никогда ни о ком не забудет, а знает всех – не то что людей, а каждого мула и собаку в окружности полусотни миль.
– Право слово, огонь будто по пятам бежал за его фургоном, покуда этот Сноупс ехал к дому, в который его де Спейн пустил – барахло на возу навалено так, словно у Гарриса – или где они там раньше жили – он только во двор фургон загнал да приказал всем этим котлам и кастрюлям: «Грузитесь!» – и тотчас кровати, стулья, печка и все прочее своим ходом в фургон попрыгали. Вроде и кое-как, а с толком, сноровисто, плотно, будто им это дело привычное – переезжать, да без всякой сторонней помощи. И этому Эбу, и сыну его, который постарше, Флем они его называли… Был у них и еще один, маленький такой, где-то я, помнится, его однажды видел. Вот его с ними не было. Теперь-то уж точно нет. Не иначе как забыли его покликать, чтобы вовремя, значит, из того сарая убрался. Ну так вот, Эб с Флемом на козлах сидят, а две девки здоровенные поставили на пол фургона стулья – и на стульях, а Сноупсова супруга и сестра ее вдовая – те сзади, на барахле, и всем будто наплевать на них – едут ли, нет ли, да и на мебель тоже. Ну, к дому подъехали, стали, Эб глянул на него и говорит: «В такой развалюхе я бы и свиней не поселил».
Осаживая коня, Варнер в бессловесном ужасе пучил глаза на Рэтлифа.
– Ну так вот, – продолжал Рэтлиф. – Только фургон стал, Сноупсова жена и эта вдовица вылезли и принялись разгружаться. А те две девки сидят себе на своих стульях, обе в праздничных платьях, не шелохнутся, знай сладенькой смолкой чавкают, покуда Эб, обернувшись, не прикрикнул на них, чтоб шли туда, где миссис Сноупс и ее сестрица с железной печкой в обнимку барахтаются. Шуганул он их (будто пару телок, которых колом бы треснуть, да жаль, все же деньги плачены), а сами сидят с Флемом, наблюдают, а эти девки, кровь с молоком, взяли в фургоне одна фонарь, другая веник, весь размочаленный, и опять стоят, но тут уж Эб с козел свесился да как щелкнет ту, что поближе, вожжой поперек зада. «А ну, – рявкнул, – шевелись, живо в дом, а после подсобишь мамане с печкой». Потом с Флемом вместе слезли и пошли проведать де Спейна.
– И прямо к тому сараю? – не удержался Варнер. – Прямо так сразу пошли и…
– Нет, нет. Это потом. С сараем это потом. Похоже, тогда-то они еще знать не знали, где и сарай стоит. Сарай сгорел, когда время пришло, все в свой черед, этого у Эба не отнимешь. А тогда они просто де Спейна проведать зашли, чисто по-дружески: ясно ведь, где поле, и ясно, что надо там начинать ковыряться – все же середина мая. Прямо как сейчас, – добавил он с ангельски невинным видом. – Потом, опять же, ходит слушок, будто он всегда свои арендные контракты заключает позже всех. – Сказал и даже не усмехнулся. Та же лукавая смуглая физиономия, приветливая и непроницаемая, и те же лукавые невозмутимые глаза.
– Короче! – нетерпеливо перебил Варнер. – Если он поджигает, как ты рассказываешь, то мне аж до Рождества не о чем волноваться. Ближе к делу. Что ему надо, чтобы начать чиркать спичками? Может, какие признаки вовремя угадать удастся.
– Ну так вот, – продолжал Рэтлиф. – Вышли они на дорогу – покуда миссис Сноупс и вдовица с печкой барахтаются, а девки стоят-прохлаждаются, одна с проволочной крысоловкой, другая с ночным горшком – и отправились к дому майора де Спейна, да не абы как, а свернули по боковой дорожке, где та куча навоза лежала, конского, да еще нигер говорит, будто Эб в нее нарочно вляпался. Кто его знает, может, нигер в окошко за ними следил. В общем, Эб проволок за собой это дело через все крыльцо, стучится, а когда нигер сказал ему, чтоб вытер ноги, Эб отпихнул его да и вытер (по словам того нигера) все, что еще оставалось, о стодолларовый ковер, стал посредине и орет: «Де Спейн! Эй! Де Спейн!» – пока жена де Спейна не вышла, на ковер посмотрела, потом на Эба и, не говоря худого слова, велела ему выйти вон. Тут и де Спейн пришел к обеду, и я так понимаю, что миссис де Спейн ему в загривок вцепилась, потому что и свечереть не успело, как он уже подъезжает к Эбову дому, и следом на муле нигер, ковер везет, а Эб сидит на табурете, косяк подпирает, и тут де Спейн ему: «Какого дьявола ты не в поле?» – а Эб говорит (не встал, ни чтоб даже зад оторвать): «Ну, может, завтра начну. У меня такого в заводе нет, чтобы переехать и в тот же день начинать горбатить», а тот вроде как не слышит: я так понимаю, миссис де Спейн здорово ему на загривок села, потому что он прямо окоченел там на лошади, только все повторяет: «Ну зараза, Сноупс, ну зараза», а Эб сидя отвечает: «Если б я так заботился о ковре, уж и не знаю, стал бы я его класть туда, где каждый кто ни попадя того и гляди натопчет».
Рэтлиф и теперь не усмехнулся. Сидел себе расслабленно в бричке, глядя лукавыми своими умными глазами, физиономия невозмутимая, смуглая от загара, чисто вымытая и выбритая, рубашка совершенно чистая, хоть и выцветшая, – и говорил тоном вполне серьезным, но с усмешливой потяжкой, а Варнерово набрякшее, кровью налитое лицо маячило сверху.
– В общем, Эб гаркнул через плечо в дом, выходит мордатая деваха, и Эб говорит: «Возьми вон у него ковер и вымой его». Ну, и на следующее утро нигер обнаружил этот ковер, скатанный и брошенный на крыльцо под дверью, и снова на крыльце натоптано, только теперь это просто грязь была, а потом, говорят, когда миссис де Спейн на сей раз ковер раскатала, де Спейну еще жарче стало, чем прежде, – нигер говорит, что эти-то вместо мыла кирпичной крошкой навоз оттирали, – так что еще до завтрака де Спейн был уже у Эба в воротах (как раз Эб с Флемом запрягали – а как же, в поле-то ехать) – сидит на своей кобыле злющий, точно встрепанная оса, черными словами кроет, причем не столько Эба, сколько все на свете ковры и весь конский навоз в совокупности, а Эб молчком, молчком, супонь застегнет, подпругу подтянет, пока наконец де Спейн не выложил, мол, ковер ему во Франции в сотню долларов обошелся и пускай, дескать, Эб готовит за него двадцать бушелей зерна – это с урожая-то, а Эб еще и не сеял. С тем де Спейн домой отправился. Он-то, поди, все это дело про себя уже и похерил. Он, поди, про себя думал, только бы от жены отвязаться, сбор кукурузы это когда еще, глядишь, и не вспомнил бы про эти двадцать бушелей зерна. Только Эбу такое не по нутру. Словом, в аккурат на следующий вечер – майор как раз, скинув башмаки, отдыхал в садовом гамаке из бочарных клепок, – а тут помощник шерифа заходит, мол, то да се, пятое-десятое, и в конце концов выкладывает, что этот Эб взял да подал на де Спейна в суд.
– Прах подери, – все бормотал Варнер. – Прах подери.
– Во-во, – отозвался Рэтлиф. – Вот и де Спейн примерно так же выразился, когда наконец в толк взял, что к чему. Ну и, значиц-ца, наступает суббота, фургон подъезжает к лавке, вылезает Эб, в пасторской черной шляпе и сюртуке – топ-топ-топ костяная нога – и к столу: ему еще (это дядя Бак Маккаслин сказал) полковник Джон Сарторис самолично ее прострелил, когда во время войны Эб его каурого жеребца украсть пытался, а судья и говорит: «Я рассмотрел вашу жалобу, мистер Сноупс, но вот не нашел я ничего, что бы в законах насчет ковров говорилось, тем паче насчет конского навоза. Но, думаю, надо ее удовлетворить, потому что двадцать бушелей – это для вас чересчур, недосуг вам будет – вы ж у нас человек занятой – собрать эти двадцать бушелей. Так что думаю стребовать с вас за порчу того ковра… зерна десять бушелей».
– Тут он сарай-то и поджег, – сказал Варнер. – Так-так-так.
– Не знаю, ручаться бы не стал, – сказал, нет, повторил Рэтлиф. – Штука тут в том, что в аккурат в ту же ночь сарай майора де Спейна загорелся, и все там пропало. Только – случись же так! – де Спейн как раз подоспел туда примерно об это же время, ну, потому что слыхал кто-то, как он по дороге шпарит. Я не к тому, что он подоспел настолько вовремя, чтобы тушить, но достаточно вовремя, чтобы обнаружить, что там и без него уже шустрит некто или нечто, и достаточно подозрительное, чтобы оправдать стрельбу, ну, он и жахнул, с кобылы не слезая, в это самое нечто разика три-четыре, пока оно буераками от него не оторвалось, где ему-то на лошади невпротык. Так и не может сказать, кто это был, потому что никакому зверю хромать не запретишь, ежели такое выйдет его желание, да и белой рубахой всякий ведь может обзавестись, правда, загвоздка в том, что, когда он примчался к Эбову дому (а долго он навряд ли задержался, судя по прыти, с которой, как тот парень слышал, он по дороге шпарил), Эба и Флема дома не оказалось – четыре бабы, и никого больше, да недосуг было де Спейну под кроватями шарить, потому что с сараем этим впритирку стоял амбар, крытый кипарисом и полный зерна. Ну, он махом назад, а там уже его негры бочки с водой подтащили, мешки из-под пакли намачивают, чтобы, значит, этот амбар обкладывать, и первый же, кого он углядел, это Флем – рубашечка белехонька, стоит, ручки в карманы, табак жует. «Вечер добрый, – это Флем ему. – Сенцо-то, ох, полыхает», а де Спейн с кобылы орет: «Говори, где папаша! Где этот…», а Флем этак спокойненько: «Если его тут нет поблизости, стало быть, домой пошел. Мы с ним оба враз выскочили, как полыхнуло». Ну так и без него знал де Спейн, и откуда они выскочили, и почему. Да что толку-то, ведь говорю же: если где двое собрались, так отчего ж не может меж ними один хромать, а другой белую рубаху напялить, а что в огонь один из них кинул, когда де Спейн увидел и пальнул первый раз, так это, видать, банка с-под керосина была. Ну так вот, значит, на следующее утро сидит он, завтракает – лицо в ожогах, брови спалил, да и волосы местами, а тут нигер входит, говорит, пришел к нему кто-то; перебирается он в кабинет, а это Эб, уже в своей пасторской шляпе и сюртуке, и фургон у него уже опять нагружен, только его-то Эб с собой в дом показывать не приволок. «Похоже, мы с вами не сойдемся, – это Эб говорит, – так что, чем зря собачиться, я, надо быть, нынче же утром и съеду». А де Спейн говорит: «А как же контракт?» А Эб говорит: «А я его расторгаю». А де Спейн так сидит и только повторяет: «Расторгаю. Расторгаю», а потом и говорит: «Да я б его к чертовой матери и еще сто таких же, да в тот сарай, чтоб он сгорел, лишь бы наверняка знать, ты это был или не ты, в кого я стрелял вчера ночью». А Эб говорит: «Подавайте в суд и разбирайтесь. В тутошних местах манера такая у судей: все решают в пользу истца».
– Прах подери, – тихонько пробормотал Варнер. – Прах подери.
– Тут развернулся Эб и поковылял своей костяной ногой обратно к…
– И спалил арендаторский дом, – подхватил Варнер.
– Нет, нет. Я ничего не говорю, может, он и поглядывал на него, как один тут вспоминает, словно бы с сожалением – ну, когда отъезжал. Но нет, ничего там больше ни с того ни с сего не загорелось. Ну, не тогда то есть. Я ведь не…
– Вот оно как, – перебил Варнер. – Говоришь, он еще и остатки керосина шваркнул в огонь, когда де Спейн начал палить в него. Так-так-так. – Лицо его налилось, вот-вот удар хватит. – И теперь угораздило меня как раз его-то изо всей местной шушеры и выбрать себе в арендаторы. – Он принялся смеяться. Вернее, принялся быстро повторять: «Ха. Ха. Ха», но это он только воздух так выдыхал через рот, ну, может, еще губы кривил, а глаза – нет, до глаз так дело и не дошло. Потом перестал. – Ладно, с тобой хорошо, а ведь мне недосуг. Подоспею, может, еще настолько вовремя, чтобы он от меня отвязался ну хоть за какой-нибудь гнилой закут из-под хлопка.
– Ну, пусть за сарай, но пустой хотя бы, – крикнул Рэтлиф ему вдогонку.
Час спустя Варнер снова осаживал заплясавшего жеребца, на этот раз у ворот, вернее – у проема в заборе из заржавленной и обвисшей проволоки. Сами ворота, вернее, то, что от них оставалось, сорванные с петель, лежали, завалившись на сторону, а из щелей между подгнившими планками лезла трава и всяческий бурьян, словно меж ребер брошенного скелета. Всадник дышал тяжело, но не от скачки. Напротив, едва приблизившись к цели настолько, что, по его расчетам, дым, если он был, уже был бы виден, стал все больше сдерживать коня. Тем не менее теперь, осадив коня перед дырой в заборе, Варнер дышал тяжело, его даже пот прошиб; сопя, он глядел на бесхребетно покосившуюся лачугу, вычерненную дождями и непогодой, как старый пчелиный улей, глядел на двор, голый, без единого деревца и кустика, и на лице Джоди отражалась быстрая и напряженная работа мысли, как у человека, который подбирается к неразорвавшемуся артиллерийскому снаряду.
– Прах подери, – снова тихо сказал он. – Прах подери. Три дня уже тут околачивается, и до сих пор даже ворота не починил. А я даже напомнить не смею. Не смею подать виду, будто знаю даже, что есть забор, на который их навешивают. – Он яростно передернул поводьями. – Пошел! – крикнул он коню. – Поторчишь тут подольше, еще и тебя подожгут.
Проезд (и не дорожка, и не тропа, просто два еле различимых параллельных колесных следа, исчезающих под заскорузлым бурьяном и молодью нынешней весенней травки) тянулся к шаткому, порастерявшему ступеньки крыльцу совсем нежилого на вид дома, за которым Джоди следил теперь настороженно, весь натянутый как струна, словно опасаясь засады. Он смотрел так пристально, что взгляд упускал детали. Внезапно в окне, где не было даже рамы, заметил голову в серой суконной кепке, причем не мог бы сказать, когда голова там появилась; показавшийся в окне жевал, и его нижняя челюсть двигалась размеренно и беспрерывно, каждый раз странно выпячиваясь вбок, а едва Джоди крикнул «Эй!» – голова снова исчезла. Только он собирался крикнуть снова, как увидел, что за домом в воротах участка возится какой-то человек, он двигался как деревянный, и Джоди тотчас же его узнал, хотя сюртука в этот раз на нем не было. Тут до слуха Джоди донеслись мерные клики заржавленного колодезного блока, а потом и два монотонных, неразборчиво-громких женских голоса. Заехав за угол, он увидел все разом: пару близко поставленных высоких столбов с перекладиной, словно макет виселицы, рядом две крупные, совершенно недвижимые девки, которые своим сонно-статичным единением с первого же взгляда наводили на мысль о скульптурной группе (тем более что обе говорили разом, обращаясь к кому-то далекому, а может, просто вещали в пространство, друг друга вовсе не слушая), и неподвижность их не нарушалась даже тем, что одна из них, перегнувшись и напряженно вытянув руки, ухватилась за колодезную веревку, точь-в-точь аллегорическая фигура, фрагмент резьбы, символизирующий некое невероятное физическое усилие, умершее в зародыше, хотя мгновение спустя блок снова начал издавать свой ржавый клик, но перестал почти тотчас же, и голоса тоже смолкли, как только вторая из девиц заметила Варнера, при этом первая теперь застыла в позе, противоположной предыдущей, с веревкой в опущенных руках, и оба скуластых, ничего не выражающих лица, медленно и согласно повернувшись, проводили его взглядами.
Он пересек лысый двор, весь в мусоре, оставленном прежними обитателями, – зола, глиняные черепки, консервные банки. У забора мужчине помогали еще две женщины, и вся троица уже заметила всадника, потому что он видел, как одна из женщин обернулась. Но сам глава семьи («Сволочь, душегуб колченогий», – подумал Варнер с бессильной яростью) ни глаз не поднял, ни даже трудов своих не прервал, пока Варнер не подъехал сзади к нему вплотную. Теперь уже обе женщины смотрели на Джоди. На одной была выгоревшая на солнце широкополая шляпа, на другой – некий бесформенный головной убор, который когда-то, должно быть, принадлежал все тому же мужчине, а в руке она держала полупустую ржавую банку гвоздей, гнутых и ржавых.
– Добрый вечер! – сказал Варнер, запоздало поймав себя на том, что чуть ли не кричит. – И вам, сударыни, добрый вечер!
Мужчина обернулся, неторопливо, в руке держа молоток – обе лапки гвоздодера отломаны, поржавевшая головка насажена на неструганое полено, – и снова взгляд Варнера наткнулся на холодные, непроницаемые агатовые глаза под свирепым сплетением бровей.
– Что ж, здорово, – сказал Сноупс.
– Дай, думаю, подъеду, спрошу, что вы решили, – заговорил Варнер, и снова чересчур громко; не совладать с собой, да и только. «Слишком много чего сразу в голове держать приходится, чтобы еще и за этим следить», – подумал он, одновременно начиная про себя произносить: «Прах подери». И снова: «Прах подери, прах, зола и пепел», будто самому себе напоминая, чем может обернуться малейшее ослабление бдительности.
– Дак что ж, остаемся, пожалуй, – раздалось в ответ. – Ну, дом, конечно… я бы в нем и свиней не поселил. Ну да как-нибудь управимся.
– Ничего себе! – вырвалось у Варнера. Это он на крик уже сорвался; ну и сорвался, плевать. Но больше он не кричал. Он больше не кричал, потому что больше не говорил ничего, потому что нечего тут больше было говорить, хотя в мозгу билось одно и то же: «Прах подери. Прах подери. Прах подери… Просто сказать «Уходи» и все – смелости не хватает, а спровадить куда-нибудь – так некуда мне их спровадить. Ведь даже под арест отправить его за поджог сарая не посмею: вдруг он и у меня сарай возьмет да запалит». Когда Варнер заговорил снова, тот, с молотком, начал было уже обратно к забору отворачиваться. Теперь он стоял вполоборота, глядя снизу на Варнера не то чтобы почтительно или хотя бы терпеливо, а просто выжидающе. – Ладно, – сказал Варнер. – Про дом можно и поговорить. Потому что зачем нам ссориться. Ссориться не надо. Если там что не так, вам только и делов, что зайти в лавку. Нет, не надо даже к лавке ходить: просто с кем-нибудь мне передайте, и я подъеду сам, без проволочки, одна нога там, другая здесь. Понятно? Вдруг что-нибудь, ну, не понравилось, так вы…
– Да когда ж я с кем ссорился, – отозвался тот. – У меня этих разных хозяев с тех пор, как начал землю пахать, штук пятнадцать было или двадцать, и ни с кем не ссорился. Как ссоры начнутся, так ухожу. Все? Больше ничего не надо?
«Все, – подумал Варнер. – Все». Он двинулся обратно: вновь этот двор, эта лысая и замусоренная мерзость запустения, вся в шрамах от кострищ, где среди обугленных по концам палок валялись почерневшие кирпичи, на которых когда-то кипятили в котлах белье и палили свиные туши. «Пусть мне никогда в жизни больше никакой удачи не будет, лишь бы эту беду пронесло!» – подумал он. Снова раздался скрип колодезного блока. На сей раз скрип при его приближении не прекратился, и оба скуластых лица – одно неподвижное, другое в непрестанном движении вниз-вверх, ритмичном, в лад не слишком музыкальным стенаниям блочного колесика, как под метроном, – опять, будто неразъемно склепанные и синхронизованные шарнирным механизмом, неспешно повернулись, следя за Варнером, как он, минуя дом, вступает на ту же едва приметную дорожку, ведущую к поломанным воротам, которые, конечно же, когда он в следующий раз сюда приедет, будут по-прежнему гнить в чертополохе. Контракт все еще лежал у него в кармане, составленный так обдуманно, так осторожно, с чувством такого удовлетворения, что теперь оно ему самому было в диковину – может, это происходило в каком-то другом времени, а скорее вообще не с ним, а с кем-то другим. Контракт все еще не подписан. «Можно включить туда пункт о пожаре, – подумал он. Но даже коня не придержал. – Запросто. А потом новый сарай этим контрактом крыть заместо дранки». И он не остановился. Час был не ранний, и он пустил коня свободной иноходью: так он до самого дома дотянет, если в холмах, когда подъемы пойдут, дать ему чуточку дух перевести, – а когда уже отмахал порядочно, вдруг заметил человека, прислонившегося к дереву у дороги, того самого, чье лицо до этого видел в окошке арендаторского дома. Только что дорога была пуста, и вот, откуда ни возьмись, уже стоит на опушке рощицы у обочины – та же суконная кепочка, та же размеренно жующая челюсть, – как из-под земли вырос, да у коня чуть ли не перед мордой, а вид при этом такой, словно он случайно здесь оказался, но об этой его повадке Варнер и вспомнит и задумается лишь много позже. Чуть было не проехав мимо, он потянул за повод. На крик теперь уже он не сорвался, его мясистое, крупное лицо было учтивым и настороженным.
– Привет, – сказал он. – Ты Флем, что ли? Я Варнер.
– Да ну? – отозвался тот. Потом сплюнул. Лицо у него было широкое и плоское. Глаза цвета болотной лужицы. Такой же полноватый, как и сам Варнер, но на голову покороче; в замызганной белой рубахе и серых дешевых штанах.
– Ты мне тут кстати встретился, – продолжал Варнер. – Говорят, у твоего отца бывали пару раз неприятности с хозяевами участков. Неприятности, которые могли плохо кончиться. – Тот продолжал жевать. – Может, ему каждый раз хозяева какие-нибудь вздорные попадались, не знаю. Не знаю и знать не хочу. Я что хочу сказать: ошибку – любую ошибку – можно ведь так исправить, что при этом в нормальных отношениях остаешься, ну, с тем, кто тебе что-нибудь поперек сделал. Разве не так? – Тот продолжал размеренно жевать. Лицо его было пустым, как поднявшееся над кастрюлей тесто. – Тогда ему не взбредет в голову, будто, чтобы утвердить свои права, он непременно должен сделать что-нибудь такое, после чего ему придется собирать манатки и назавтра же уносить ноги, – втолковывал Варнер. – И тогда не наступит день, когда в очередной раз он дернется туда-сюда – глядь, а уж и новых мест не осталось, куда удрать. – Варнер умолк. На этот раз он ждал так долго, что малый в кепочке в конце концов высказался, правда, у Варнера потом не было уверенности – может, и не потому, что так долго.
– Дак вон же, – говорит, – мест сколько всяких.
– Эт точно, – примирительно сказал Варнер, большой, благожелательный. – Но нельзя же их только бросать и бросать – пробросаешься! Тем более когда повод к этому такой, что, ежели с самого начала по-человечески разобраться да все ладком обговорить, все было бы тихо-мирно. И все бы можно было в пять минут уладить, если только нашелся бы рядом кто-то другой, чтоб взять того за руку, дескать, погорячился, дело житейское – бывают же люди просто горячие не в меру – взять его за руку да сказать ему: «Постой, хозяин против тебя зла не держит. Всего и делов – поговори с ним, все и выяснится. Я это точно знаю, потому что мне насчет этого слово дали». – Он опять подождал. – Особенно если бы парню – ну, о котором мы сейчас говорили, который взял бы того за руку и сказал все это, – глядишь, что-нибудь и перепало за то, что он того утихомирит. – Варнер снова замолчал. Немного погодя опять заговорил другой:
– А чего перепало бы?
– Ну, как чего? Работать на хорошем поле. Кредит в лавке. Земли побольше, если он чувствует, что может управиться.
– С земли ничего не перепадет. По мне, так и вообще, пожалуй, скорей бы от нее отделаться.
– Тоже верно, – согласился Варнер. – Допустим, он за другое какое дело хочет взяться – ну, этот парень, что мы говорили. Так ведь надо еще, чтобы помогли ему, дали подзаработать. И чего бы лучшего, чем…
– А лавка-то ваша, что ли?
– …лучшего, чем… – опять начал было Варнер. И осекся. – Что? – сказал он.
– Говорят, ваша лавка-то.
Варнер уставился на него. Теперь лицо Варнера уже не было учтивым. Оно было просто совершенно неподвижным, совершенно спокойным и внимательным. Он полез в нагрудный кармашек и достал сигару. Сам он не пил и не курил, будучи от природы наделен столь счастливой конституцией, что чувствовать себя лучше все равно некуда, а против собственного естества идти – как он, верно, сам бы выразился – только Бога гневить. Но он всегда носил их при себе две-три штуки.
– Держи сигару, – сказал он.
– Не употребляю.
– А жевать – жуешь, а? – попытался усмехнуться Варнер.
– Ну, бывает, и пожую, центов на пять, для вкуса. Одно дело жевать, соки вытягивать, но чтоб деньги огнем жечь – до этого не дошло.
– Эт точно, – сказал Варнер. Он поглядел на сигару, спокойно произнес: – Бог даст, до этого и не дойдет ни у тебя, ни у кого другого из ваших. – Он сунул сигару обратно в кармашек. С присвистом выдохнул. – Ну хорошо, – сказал он. – С осени. Сперва пусть он урожай соберет. – У Джоди никак не получалось уследить, когда тот смотрит на него, а когда нет, но теперь ему дано было пронаблюдать, как тот одну руку поднял, а другой с бесконечным пренебрежением стряхнул с рукава что-то пренебрежимо малое. Еще раз Варнер с силой выдохнул через ноздри. Теперь это прозвучало как вздох. – Ну хорошо, – сказал он. – Тогда со следующей недели. Потерпишь, что там осталось, или как? Но ты мне за это ручаешься.
Тот сплюнул.
– Ручаюсь за что? – проронил он.
Через две мили тени вокруг сомкнулись, и пали сумерки, уже такие краткие в конце апреля, и забелели деревца кизила среди других деревьев, более темных, – стоят, раскрыв воздетые ладони, словно монахини на молитве; и вот уже вечерняя звезда, уже козодой. Поспешая к яслям, конь бежал резво по вечернему холодку, как вдруг Варнер, потянув за повод, остановил его и так попридержал на добрую секунду.
– Прах тебя дери, – вслух произнес он. – Ведь он стоял-то в аккурат там, где его никто из дома не углядит.
Глава вторая
1
К поселку опять подъезжал Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок, правда, на этот раз вместо машинки у него в собачьей конуре содержался подержанный граммофон и новенький, еще в заводской проволочной связке, комплект зубьев для бороны, и первое, что Рэтлиф увидел, это старую белую кобылу, стоя на трех ногах подремывающую у столба ограды, а чуть погодя показался и сам Билл Варнер, который сидел все в том же домодельном кресле, на фоне взбегающих по склону заглохших лужаек и одичало разросшихся садов усадьбы Старого Француза.
– Добрый вечер, дядя Билл, – сказал Рэтлиф приветливо, обходительно, даже с почтением. – Говорят, вы с Джоди нового приказчика завели в лавке.
Колючие маленькие глазки Варнера внимательно на него поглядели из-под рыжеватых, слегка насупленных бровей.
– Уже разнеслось, стало быть, – отозвался он. – Со вчерашнего далеко ли бывал?
– Милях в семи-восьми, – сказал Рэтлиф.
– Ха, – сказал Варнер. – Куда же нам без приказчика!
Что верно, то верно. Всего-то и надо было, чтобы кто-нибудь утром пришел и отпер лавку, а на ночь снова запер – только от приблудных собак, поскольку ни бродяги, ни приблудные негры на Французовой Балке до ночи не задерживались. По правде говоря, и сам Джоди (а Билл-то уж всяко туда не показывался), бывало, по целому дню проводил вне лавки. Покупатели заходили, обслуживали сами себя и друг друга, складывая плату за товары, известную им с точностью до последнего цента, не хуже, чем самому Джоди, в сигарный ящичек, накрытый круглой проволочной корзиной из-под сыра, словно все в этой корзине – сигарный ящичек, замусоленные бумажные деньги и отполированные пальцами монетки – и впрямь попалось туда на сырную приманку.
– Ну, хоть будет кому теперь каждый день подметать – в лавке-то, – усмехнулся Рэтлиф. – Не каждый может похвалиться таким пунктом в своей страховке от пожара.
– Ха, – снова сказал Варнер.
Поднялся с кресла. Во рту у него был табак, и он вынул пережеванный комок, напоминавший клок мокрого сена, выкинул его и вытер ладонь о штанину. Подошел к изгороди, в которой по его распоряжению кузнец устроил затейливую калитку, действовавшую в точности как современный турникет, хотя ни кузнец, ни сам Варнер ничего похожего никогда не видывали, – только туда не монетку надо было бросить, а вынуть штифт на цепочке.
– Давай ты на моей кобыле к лавке поедешь, – предложил Варнер, – а я в твоей колымаге. Охота прокатиться с удобствами.
– А мы можем лошадь к бричке сзади привязать, а сами рядышком сядем, – отозвался Рэтлиф.
– Говорят тебе, на лошадь садись, – уперся Варнер. – Как раз и получится рядышком. Больно ты умный порой бываешь, как я погляжу.
– Да уж ладно, дядюшка Билл, чего там, – согласился Рэтлиф. И он попридержал колесо брички, помогая Варнеру взобраться, а сам сел на лошадь.
Они пустились в путь, Рэтлиф немного сзади, так что Варнер общался с ним через плечо, не оборачиваясь.
– А что, этот пожарник…
– Так не доказано же, – мягко возражал Рэтлиф. – Хотя в общем-то оно и плохо. Если уж приходится выбирать между убийцей и тем, на кого только думаешь, вдруг это он убил, то лучше выбрать убийцу. Хотя бы точно будешь знать, на каком ты свете. Не будешь ушами хлопать.
– Ладно, ладно, – прервал его Варнер. – Так как насчет этой жертвы оговора, этого облыжно опозоренного? Знаешь о нем что-нибудь?
– Да так, пустое, – слегка замялся Рэтлиф. – От людей чего только не услышишь. А я его лет восемь не видал. Когда-то у него еще один парнишка был, кроме Флема[65]. Меньшой. Теперь бы ему лет десять или двенадцать уже исполнилось. Не иначе как он у них где-нибудь при переезде затерялся.
– А от людей ты не услышал, может, у него за эти восемь лет совсем привычки переменились?
– Да уж, – сказал Рэтлиф. Пыль, поднятую копытами трех лошадей, подхватывал едва заметный ветерок и отдувал в сторону, на кустики дурнопьяна и собачьей ромашки, едва начинающие зацветать в придорожных канавах. – Восемь лет. А перед тем было еще пятнадцать, когда мы с ним почти что вовсе не встречались. Вырос-то я от него по соседству. То есть он года два жил там же, где я вырос. И он и мой отец оба арендовали фермы у старого Энса Холланда. Эб тогда был барышником. Как раз при мне вся его торговля лошадьми прогорела, и он подался в издольщики. По натуре-то он не сволочь. Озлился просто.
– Озлился, – повторил Варнер. Сплюнул. Потом заговорил язвительно, почти с презрением: – Приходит вчера Джоди, вечером, поздно. Я как увидел его, сразу понял. Ну точно как в те времена, когда он мальчишкой был – нашкодит, чувствует, что я назавтра все равно узнаю, была не была, думает, признаюсь сам. «А я, – говорит, – приказчика нанял». – «Зачем? – говорю. – Тебе что, Сэм башмаки по воскресеньям плохо начищает?» А он как заорет: «Да пришлось мне! Пришлось его нанять! Говорю тебе, пришлось!» – и без ужина спать пошел. Как ему спалось, не знаю. Не прислушивался. Но наутро вроде поспокойнее стал. Вроде как даже совсем успокоился. «А его, – говорит, – глядишь, и использовать можно». – «Отчего ж не использовать, – говорю. – Но против этого закон есть. Да и потом, почему бы тебе просто-напросто не раскатать все по бревнышку? После бы продали как строевой лес». Тут он на меня поглядел подольше. Но это он от нетерпения, скорей бы я рот закрыл – у него-то уж все было разложено по полочкам еще с вечера. «Давай, – говорит, – глянем на это дело вот как. Человек он независимый, может постоять за свои права и свои выгоды. И допустим, что его права и выгоды – это в то же время права и выгоды кое-кого другого. Скажем, ему выгодно то же, что и этому другому, который платит одному из его родичей жалованье, чтобы те не покушались на добро того, который платит; а это добро, то есть прибыль с него (и ты, говорит, не хуже меня это знаешь), так вот, с добра с этого прибыли все больше и больше, так что ему в охотку будет, тем паче что самому не надо напрягаться – ну, он же такой независимый…»
– С тем же успехом мог бы сказать «опасный», – подхватил Рэтлиф.
– Ну, – сказал Варнер. – Ну и?
Вместо ответа Рэтлиф говорит:
– А лавка ваша часом не на Джоди записана, нет? – А на это сам же и ответил, прежде чем Варнер успел рот раскрыть: – Да уж. Что зря воду в ступе толочь? Но вообще-то Джоди ведь только с Флемом спутался. Пока Джоди его не выгонит, может, папаша Эб…
– Хватит, – сказал Варнер. – Ты сам-то что об этом думаешь?
– То есть по правде что думаю?
– А за каким хреном, понимаешь ли, я перед тобой тут распинаюсь?
– Да то же думаю, что и вы, – мирно отозвался Рэтлиф. – Думаю, что я от силы двоих таких знаю, кто мог бы рискнуть шутки шутить с этой семейкой. И фамилия одного из них Варнер, но его не Джоди зовут.
– А второй кто? – спросил Варнер.
– А насчет второго ручаться пока рановато, – мягко сказал Рэтлиф.
2
Кроме Варнеровой лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой да кузни, настоящему ковалю в аренду отданной, кроме школы, церкви да трех-четырех десятков хибар, разбросанных в пределах слышимости школьного колокольчика и церковного колокола, в селении имелась общественная конюшня с каретной и выгоном да примыкающий к нему тенистый, хотя и вытоптанный двор, посреди которого вольготно расположилось несуразное, наполовину бревенчатое, наполовину дощатое строение, – местами двухэтажное, некрашеное, оно звалось гостиницей миссис Литтлджон и, в соответствии с вывеской (приколоченной к одному из деревьев у входа почерневшей от непогоды дощечкой со словами «НАЧЛЕГ N ПАНСЕОН»), давало пищу и приют заезжим скупщикам скота и коммивояжерам. Гостиницу опоясывала длинная веранда, где у стены в ряд вытянулись стулья. В тот вечер после ужина, оставив бричку и лошадей на конюшне, Рэтлиф сидел на веранде в компании пяти-шести мужчин, собравшихся из ближних домов. Они бы там собрались и в любой другой вечер, но нынче набежали, не дожидаясь, пока окончательно закатится солнце, сидели, то и дело поглядывая на чернеющий вход в лавку Варнера, подобно тому как народ сходится умиротворенно полюбопытствовать на холодеющий пепел после линчевания или на приставленную к стене лестницу и распахнутое окно после побега чьей-нибудь жены или дочки, а все потому, что в лавке, хозяин которой способен еще самостоятельно переставлять ноги и настолько еще в здравом уме, чтобы, считая деньги, себя не обсчитывать, завелся наемный белый приказчик – случай столь же неслыханный, как если бы на кухне у кого-нибудь из них завелась белая наемная кухарка.
– Ну, – один говорит, – насчет того, которого Варнер нанял, ничего не знаю. Но уж семейка! Когда у тебя в роду есть такой бешеный, чтобы то и дело у людей сараи поджигать, тут…
– Да уж, – сказал Рэтлиф. – Старина Эб по натуре-то не сволочь. Просто озлился.
Какое-то время помолчали. Они разместились по всей веранде, кто сидя, кто на корточках, невидимые друг другу. Уже почти совсем стемнело, только бледный зеленоватый отсвет на северо-западе небосклона напоминал об ушедшем солнце. Попискивал козодой, помигивали светляки, кружась между деревьев и над дорогой.
– Как озлился? – чуть погодя спросил все тот же голос.
– Так дело-то нехитрое. – Любезный и понятливый, Рэтлиф был, как всегда, наготове. – Эта история еще во время войны началась. Он тогда сидел себе, никого не трогал, не помогал никому, но и вредить ни тем ни другим не лез – барыш да лошади, а лошадей к политике никаким боком не пристегнешь, как вдруг один является, у которого и лошадей-то отродясь не водилось, и ни с того ни с сего – бабах ему в пятку. Ну, он и озлился. А потом еще та история с тещей полковника Сарториса, Розой Миллард,[66] с которой Эб вошел в долю по части лошадей и мулов – чинно-благородно, у него и в мыслях такого не было, чтоб чем-нибудь насолить хоть северянам, хоть южанам, одни лошади на уме да барыш, пока старая мисс Миллард не сунулась тому малому под пулю – он называл себя майором Грамби, – а после полковников сын Баярд с дядей Баком Маккаслином и с каким-то еще черномазым изловили Эба в лесу, и пошло-поехало: привязали его к дереву – или куда там они его привязали – и всыпали почем зря, хорошо как не двойной уздечкой, а кое-кто даже каленый шомпол поминает, но это по слухам. Словом, пришлось Эбу с Сарторисами расплеваться, и, говорят, изрядно он по лесам поскитался, пока полковник Сарторис постройкой своей железной дороги вплотную не занялся, так что можно было, значит, без опаски на свет Божий вылезти. Ну тут он еще больше озлился. Однако по крайности надежда у него еще оставалась кой-какая, лошадки, мол, барыш, то да се… А тут он возьми да и напорись на Пэта Стампера, а Пэт его от барышничества враз отвадил. Тут уж он и вовсе остервенел.
– Говоришь, он с Пэтом Стампером схлестнулся, да еще и уздечку сохранил – дома на стенку повесить? – изумился его собеседник.
Дело в том, что Стампера здесь знал каждый. Хоть и был он в ту пору еще жив, а уже успел стать легендой, и не только в тех краях, но по всем северным округам штата Миссисипи и в Западном Теннесси: большой, плечистый человек, с брюшком и в дорогой широкополой «стетсоновской» шляпе, надвинутой на глаза, цветом напоминавшей новенькое лезвие топора, он разъезжал из округа в округ в фургоне, груженном всем необходимым для кочевой жизни; лошади для него были тем же, что для шулера карты, и сама победа над достойным противником радовала его не меньше, чем полученный барыш; а помогал ему конюх-негр, артист Божьей милостью – скульптор, да и только: любой кусок конины, пока в нем еще жизнь теплится, он мог взять, укрыться с ним от посторонних глаз в пустом сарае или конюшне – были бы только четыре стены – и, как фокусник, выйти оттуда с таким зверем, что и мамка-кобыла не узнала бы, куда там прежнему владельцу; причем эта парочка, Стампер со своим негром, дошла до такого нечеловеческого согласия, что простым смертным и тягаться бесполезно – единое целое, о четырех руках и двадцати пальцах, а мозг общий, и разом в двух местах пребывает.
– Скажешь тоже – уздечку, – отозвался Рэтлиф. – Поквитались вчистую. Потому что если кого и обдурил Стампер, так разве только жену Сноупса. И то она этого так и не признала. Поплатилась-то она только тем, что самой пришлось в Джефферсон ехать, чтобы заполучить в конце концов сепаратор, а ей, может, и с самого начала было ясно, что рано или поздно этим кончится. Вовсе не Эб купил клячу у Пэта Стампера и продал ему две. Это все миссис Сноупс. Эб у них с Пэтом был просто вроде посредника.
Опять какое-то время помолчали. Потом все тот же голос:
– А откуда ты все знаешь? Не иначе как сам там был.
– Был, – ответил Рэтлиф. – Ездил с ним вместе в тот день за сепаратором. Жили мы примерно в миле друг от друга. Эб с моим папашей в ту пору оба состояли в арендаторах у старого Энса Холланда, так что я все время с Эбом вместе у него на конюшне околачивался. Я ведь насчет лошадок был вроде него – тоже как ненормальный. А он тогда еще не остервенел. В то время он жил со своей первой женой, той, что вывез из Джефферсона, а потом в один прекрасный день ее папаша подогнал фургон, погрузил ее туда вместе с мебелью и сказал Эбу, смотри, мол, явишься еще по эту сторону Уайтлифского моста – пристрелю, так и знай. Детей у них не было, а мне восьмой год шел, и я, бывало, что ни утро, зайду к нему да на целый день и застряну, сижу себе с ним рядышком на заборе ихнего участка, а соседи то и дело подойдут, глянут сквозь ограду – что он за клячу опять выменял на моток хозяйской колючей проволоки или на какую-нибудь ломаную борону, а Эб знай врет им (и врет ведь как раз в меру!) – насчет того, который ей год и много ли за нее отдал. По части лошадей он был как ненормальный, сам это признавал, но вовсе не в том смысле ненормальный, как на него тогда жена кричала – то есть в тот день, когда мы притащили кобылу Бизли Кемпа, запустили ее в загончик и к дому подались, – Эб еще башмаки снял на крылечке, чтоб ноги, значит, охолонули перед обедом, – а миссис Сноупс стоит в дверях и сковородкой размахивает, а Эб ей: «Ну Винни, полно, Винни, ну ты же знаешь, я ведь всегда был насчет хороших лошадей как ненормальный, и чего орать попусту. Благодари лучше Господа, что он, когда мне дал на лошадей глаз завидущий, наделил меня к нему и нюхом кой-каким по этой части, да и здравым суждением».
Потому что дело-то не в кобыле. И не в том дело, что его обжулили. Вовсе его никто не обжулил, потому что за лошадь Эб отдал Кемпу ломаный пропашник да отслужившую свое Энсову мельницу для сорго, тут даже у жены возражений не было, поменялся он себе не в убыток – все ж таки какая-никакая, а лошадь: мало что на ногах стоит, еще и от Кемпова двора до ихнего загона своим ходом доковыляла, потому как сама миссис Сноупс ему тогда сказала – ну, когда сковородкой еще замахивалась, – мол, шибко-то его на лошадях никому не облапошить – по той простой причине, что отродясь не водилось у него ничего стоящего, что можно было бы всучить кому-нибудь в обмен даже на ледащего одра. И не в том дело, что Эб забросил плуг на дальней деляне, от глаз жены подальше, сел в повозку и укатил окольными путями, с пропашником с этим да с мельницей, пока миссис Сноупс была в полной уверенности, что муж в поте лица пашет. Похоже, она уже знала то, чего ни я, ни Эб еще не знали: что кобыла эта попала к Бизли Кемпу от Пэта Стампера и что, едва коснувшись ее, Эб подцепил теперь Стамперову хворобу. Может, она и права была. Может, и впрямь Эб сам себя считал Пэтом Стампером холландовских полей, а то и всего Четвертого участка[67], хоть и знал он, что Стампер, даже в ответ на этакую дерзость, вряд ли к его забору припожалует мериться силами. А что, если на то пошло, так между прочим, пока он там сидел на крылечке, прохлаждая ноги, а на кухне шипела и постреливала грудинка, и мы только и ждали, как бы нам ее быстренько умять, чтоб поскорей выйти обратно к загону и на забор усесться, покуда все кому не лень полюбопытствовать подходят, какую он там опять дохлятину завел, – если на то пошло, так у Эба в ту пору не только здравого суждения по части барышничества было не меньше, чем у Пэта Стампера, но и самих лошадей за все те годы перебывало не меньше, чем у самого старика Энса. И если уж на то пошло, так пока мы там посиживали (а мы только и подвигались, когда тень от нас уползала), и брошенный плуг торчал в борозде на дальнем поле, а миссис Сноупс, все это видя из кухонного окошка, себе под нос ворчала: «Барышник, тоже мне! Сидит там, врет да похваляется перед кучкой никчемных олухов, аж глаза закатил, а у самого заместо хлопка и кукурузы на поле один бурьян да мышиный горошек, страшно туда и обед носить – змеи, поди, так и ползают!» – так вот, между прочим, Эб, бывало, глянет на свое приобретение, ну, которое выменял только что либо на почтовый ящик, либо на остатки семенного зерна, глянет, бывало, да и говорит сам себе: «А что? Это ж не просто лошадь, это ж почин: табунок у меня наклевывается – Бог ты мой, чудо какой табунок!»
Дело было в судьбе. Словно сам Бог надумал купить лошадь на те деньги, что у жены Сноупса были отложены на сепаратор. Правда, тут надо признать: когда Господь выбрал Эба своим торговым агентом, уж он в выборе не ошибся, у того так руки и чесались спроворить богоугодное дельце. Утром, перед тем как нам выехать, у Эба даже в мыслях не было запрягать кобылу Бизли Кемпа, потому что он понимал: вряд ли она за один день осилит все двадцать восемь миль до Джефферсона и обратно. Он собирался пойти в загон старого Энса и призанять у него мула в пару к своему, и он так бы и сделал, кабы не миссис Сноупс. Она его ела поедом, дескать, еще не хватало, чтобы такие мощи попусту во дворе красовались, пускай в город плетутся, а там, глядишь, может, удастся сбыть эту дохлятину – ну, хоть хозяину платной конюшни, чтобы к воротам приколотил заместо вывески. Так что это была вроде как самой миссис Сноупс идея – спровадить лошадь Бизли Кемпа в город. Ну вот мы ее и впрягли – когда я, значит, утром у них появился, – впрягли эту самую кобылу в фургон с мулом на пару. Перед тем мы два-три дня корм в нее чуть не силком пихали, чтобы по дороге не окочурилась, и вид у нее, пожалуй, стал поглаже против прежнего. Но все-таки выглядела она не ахти. Однако Эб рассудил, что это из-за мула, что, если б видно было только лошадь или только мула, все бы ничего, справное тягло, а вот поставишь ее с другой какой четвероногой тварью – и смотреть тошно. «Эх, кабы можно было, – говорит, – мула под фургон определить, чтоб тянуть тянул, а на глаза не совался, а лошадь пустить впереди одну, для виду!» Ну, Эб тогда ведь еще не озлился. Но уж все, что могли, мы сделали. Эб подумал было ей сольцы в зерно от души сыпануть, чтоб она воды напилась поболе – ребра хотя бы не так торчали, – да только знали мы, что тогда она и до Джефферсона не доковыляет, не то что назад домой, к тому же останавливаться пришлось бы у каждого ручья и колоды, чтобы сызнова ее подкачивать. Так что все, что могли, мы сделали. А могли мы только уповать на лучшее. Эб зашел в дом и появился в своем пасторском сюртуке, доставшемся ему еще от старой мисс Миллард (полковника Сарториса сюртук-то; Эб его до сих пор донашивает, вот уже лет тридцать), увязал в тряпицу те двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов кровных денежек, скопленных женой за четыре года, и мы поехали.
Насчет того, чтобы барышничать, мы и думать не думали. Насчет той кобылы – верно, подумывали, не придется ли нам ее вечером домой в фургоне везти, а Эбу самому в постромки на пару с мулом впрягаться. Ну так вот, вывел Эб упряжку из загона и по дороге пустил, этак бережно, потихоньку, полегоньку: как только ежели какой подъем, на котором текучая водица не удержится, мы тут же скок с повозки и рядом идем, и таким манером думали до самого Джефферсона дотянуть. День был погожий, жара; середина июля как-никак. А мы уже чуть не до Уайтлифской лавки доплелись, миля оставалась, причем Кемпова кобыла все так же – наполовину сама идет, наполовину едет, на дышле повиснув, а лицо у Эба все мрачней и мрачней становится с каждым разом, как лошадь ногами за дорогу цеплять начнет, и тут ни с того ни с сего глядим – кобыла вся в мыле. Голову задрала, ровно как ей раскаленную кочергу под нос сунули, и влегла в постромки – в первый раз, можно сказать, и дернула с тех пор, как Эб мула под хомут подставил и кнутом для разгона шевельнул, еще когда мы были дома, – и тут уж мы покатили под горочку да к Уайтлифской лавке: глаза у Кемповой кобылы побелели, точь-в-точь костяные грибки для штопки, крутит ими, хвостом машет, гривой трясет, только что дым из ушей не валит. Чтоб мне провалиться – такой конь-огонь вдруг из нее образовался, куда что девалось, вроде даже ребра торчать стали поскромней. А Эб, который только что собирался окольной дорогой проехать, чтобы у лавки не показываться, на козлах приосанился, будто у себя дома на заборе, где ему никакой Пэт Стампер не страшен, и давай Хью Митчеллу и всем остальным, кто на галерее сидел, заливать, будто лошадь эта из Кентукки. Хью Митчелл даже не улыбнулся. «Да уж, – говорит. – И то думаю, куда это она запропастилась. А вот, оказывается, в чем дело: все же Кентукки не ближний свет. Пять лет назад Герман Шорт сторговал ее у Пата Стампера за мула и таратайку, а Бизли Кемп отдал за нее прошлым летом восемь долларов. А ты сколько Бизли Кемпу заплатил? Пятьдесят центов?»
Тут все и решилось. Не в том дело, что Эб так уж потратился на эту кобылу, потому что отдал-то он, можно сказать, только остов пропашника, ведь мельница для сорго, во-первых, уже свое отслужила, а во-вторых, она была все равно не его. Германов мул с таратайкой тут тоже ни при чем. Дело в тех восьми долларах Бизли Кемпа, но не потому, что Эб позавидовал Герману – все-таки Герман отдал за них мула и таратайку. Кроме того, те восемь долларов никуда за границы округа не ушли, так что на самом-то деле совсем не важно, у кого они в кармане – у Бизли или у Германа. Тут главное, что приходит какой-то чужак, какой-то Пэт Стампер, и, здрасьте пожалуйста, йокнапатофские кровные доллары по рукам пошли! Когда меняешь лошадь на лошадь – это одно дело, тут крутись как умеешь, и сам черт тебе в помощь. Но когда из рук в руки переходят наличные деньги, это совсем другой коленкор. А когда приходит чужак и тут же доллары начинают прыгать из кармана в карман, это все равно как если к тебе в дом вломился грабитель и давай расшвыривать вещи, пусть даже он и не возьмет ничего. От этакого еще и вдвойне озвереешь. Так что речь шла не о том, чтобы просто сбыть эту кобылу обратно Пэту Стамперу. Главное тут было как-нибудь исхитриться и выудить у него обратно Кемповы восемь долларов. Это я и имел в виду, когда насчет судьбы говорил, что сама судьба заставила Пэта Стампера сделать привал под Джефферсоном как раз у той дороги, по которой мы ехали в тот день, когда отправились за сепаратором для жены Эба Сноупса, – у самой дороги расположиться со своим кудесником-негром, и в аккурат в тот день, когда Эб ехал в город и в кармане у него было двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов, а на руках поруганная честь науки и искусства йокнапатофского барышничества, вопиющая к отмщению.
Не помню в точности, когда и как мы обнаружили, что Пэт в Джефферсоне. Может, около Уайтлифской лавки. А может, Эб, в его тогдашнем расположении духа, не только естественно и неминуемо должен был встретиться со Стампером, но сама судьба и провидение Господне устроили ему эту встречу – иначе бы и до Джефферсона не добрался. Ну, словом сказать, едем дальше; всякий раз, как дорога на холм, вылезаем, чтоб этим восьми долларам Бизли Кемпа тянуть было полегче, рядом идем, а лошадь – ничего, влегает в хомут со всей мочи, хоть, правда, тянет-то все больше мул, причем Эб шагает по свою сторону фургона и на чем свет стоит поносит Пэта Стампера, и Германа Шорта, и Бизли Кемпа, и Хью Митчелла, а когда вниз дорога, Эб фургон жердиной притормаживает, чтоб хомутом кобыле уши не пооборвало, а заодно и всю шкуру наизнанку, как чулок, не вывернуло, и по-прежнему бранит Пэта Стампера, и Германа, и Бизли, и Митчелла, и так до тех пор, пока мы не добрались до моста на третьей миле, тут Эб с дороги поворотил в кусты, выпряг мула, взнуздал его вожжой, чтоб мне верхом ехать, и говорит, вот тебе, мол, четверть доллара, езжай в город, привези на десять центов селитры, на пять дегтя и еще крючок рыболовный, десятый номер, и быстро назад.
Так что до города мы добрались только под вечер. Поехали сперва к Стамперову лагерю, с ходу в него влетели – лошадь теперь на хомут наваливалась будь здоров как: глаз бешеный, чуть не как у самого Эба, пасть в пене, где Эб ей десны селитрой натер, на груди парочка царапин, вроде как от колючей проволоки, замазанных, как положено, дегтем, да еще ей Эб под кожу рыболовный крючок воткнул, в том месте, где вожжа, когда ее чуть приотпустишь, как раз слегка за этот крючок цепляет, а Стамперов черномазый уже тут как тут, подбегает, хвать за недоуздок, пока наша гнедая, не дай Бог, не своротила палатку, где почивал сам Пэт, а тут уже и Пэт собственной персоной выполз – кремовый «стетсон» на один глаз сдвинул, другим из-под шляпы посверкивает, а уж глаз – прям что твой новый плужный лемех: и цвет тот же, и столько же в нем тепла; Пэт вылез и стоит, большие пальцы за ремень засунув. «Ишь, – говорит, – какая у вас резвая лошадка».
«Уж так резвая, – Эб в ответ, – не знаю, куда, к черту, от нее и избавиться. Была не была, думаю, может, вы меня выручите, дадите что-нибудь взамен, чтобы до дому доехать, не свернув шею себе и мальцу». Потому как такой ход был единственно верным: с места в карьер объявить, дескать, сам не рад, но меняться вынужден, а не крутить вокруг да около в ожидании, пока Пэт сам предложит сделку. Пять лет уже Пэт не видел эту лошадь, вот Эб и решил, что шансов за то, что Пэт ее узнает, примерно столько же, сколько у взломщика узнать часы с цепкой, которая пять лет назад ненароком накрутилась ему на жилетную пуговицу. И потом, очень-то разорять Пэта Эб не собирался. Ну, возвратить йокнапатофскому барышничеству славы на восемь долларов – это конечно, но не ради наживы, а только защищая честь. И по-моему, уловка сработала. До сих пор думаю, что Эб обдурил Пэта, у того просто была уже задумка – что Эбу на обмен предложить, вот он и отказался меняться иначе как упряжка на упряжку, а не потому вовсе, что узнал кобылу Бизли Кемпа. А может, и нет, дело темное; кроме того, Эб был так занят тем, чтобы облапошить Пэта, что самого хоть голыми руками бери. Ну, тот черномазый выводит пару мулов, а Пэт стоит себе, пальцы за ремень засунуты, на Эба смотрит да табачок жует, медленно так, смачно, а Эб стоит, и лицо у него отчаянное, хоть и не испуганное пока еще, потому как понял он, что впутался куда серьезней, чем думал, и теперь надо либо переть, зажмурившись, напропалую, либо все к черту бросить – в фургон и ходу, пока Кемпова кобыла крючок из себя не выдернула. И тут Пэт Стампер показал, почему он Пэт Стампер. Если бы он принялся расписывать перед Эбом выгодность сделки, думаю, Эб все ж таки сыграл бы отбой. Но Пэт был не из тех. Облапошил Эба прямо как тот матерый медвежатник, который надул другого, просто-напросто не показав ему, где стоит сейф.
«Один хороший мул у меня есть, – говорит ему Эб. – Мне только от лошади надо избавиться. Давай менять лошадь на мула».
«Да мне-то твоя дикая кобылка тоже ни к чему, – Пэт отвечает. – Нет, я беру любую тварь, какая с ног не валится, при условии, что в торге и за мной слово будет. Но торговать у тебя одну эту лошадь я не собираюсь, потому что мне она нужна не больше, чем тебе. Что до меня, так я меняюсь только ради того мула. А эта вот моя пара – они и в масть друг другу, и под стать. Чохом мне за них втройне дадут против того, что я бы получил, продавая их порознь».
«Но все равно ж у тебя запряжка на продажу остается», – Эб говорит.
«Нет уж, – Пэт ему в ответ. – Давай за них настоящую цену – пара есть пара, и никаких. А хочешь одного мула – поищи в другом месте».
И снова Эб поглядел на мулов. Что ж, мулы как мулы. Не слишком хорошие, но и не слишком плохие. Поодиночке-то каждому из них до Эбова мула было далековато, но в паре они смотрелись получше, чем какой ни на есть, но один мул. Так что с Эбом все было ясно. С ним было все ясно еще с той самой минуты, как Хью Митчелл рассказал ему про восемь долларов. И, думается, Пэту Стамперу тоже было все ясно еще в тот самый миг, когда черномазый ухватил под уздцы лошадь, чтобы она палатку не своротила. Думается, уже тогда он почуял, что ему даже не надо будет особенно стараться обдурить Эба – знай только говори «нет» достаточно долго. Больше-то Пэт ничего и не делал: стоит себе, прислонившись к борту нашего фургона, пальцы за пояс сунуты, жует табак да наблюдает, как Эб сызнова за осмотр мулов принимается. И даже я понял, что Эб уже проторговался: думал, так себе, ручеек перейти – глядь, а там трясина оказалась, и теперь даже помедлить нельзя, чтобы поворотить назад. «Ладно, – говорит. – Беру».
В общем, вдел черномазый новое тягло в сбрую, и мы поехали в город. А мулы как будто бы и ничего себе. Пес буду, если мне не подумалось, что Эб из этой Стамперовой трясины сухим вышел – да я-то что, у Эба у самого, едва мы на дорогу выбрались и Стамперова палатка скрылась из глаз, физиономия стала, словно он дома на заборе сидит и всем вкручивает про то, что он-де насчет лошадей как ненормальный, но уж и не такой ненормальный, как кажется. Ну, не совсем, правда, физиономия у него расслабла, взгляд настороженный, посматривает все же, как там новые мулы. А мы уж в самый город въехали, времени к мулам приглядываться не оставалось, но, опять-таки, у нас еще вся обратная дорога была впереди.
«Пострели тебя горой, – Эб говорит, – коли они и до дому доковыляют, считай, что восемь долларов я отыграл, Бог свидетель!»
Но этот черномазый был артист! Потому что не придерешься, как перед Богом клянусь – мулы как мулы. На вид два обычных, не чересчур ладных мула, какие по всем дорогам повозки таскают. Ну, правда, я еще заметил за ними странную манеру с места трогать – этак рывками: сперва один рванет и осядет, потом второй рванет и осядет, и вот, когда мы уже на дорогу выехали и повозка вовсю раскатилась, одного из них как сглазили: вдруг стал поперек дороги заворачивать, словно в обратный путь собрался, хоть бы для этого ему через повозку переползти пришлось, но, опять же, Стампер говорил только, что мулы парные, под стать друг другу, а про то, что они когда-нибудь в паре работали, он и не заикался; так ведь они и в самом деле были под стать друг другу – в том смысле, что ни один из них понятия не имел, когда другой в путь двинется. Но Эб их выровнял, едем дальше, и только это мы начали на тот большой подъем взбираться – ну, который перед площадью, – как мулы вдруг пеной покрылись, точно как Кемпова кобыла перед Уайтлифской лавкой. Что ж, пена – эка невидаль, жарко все же. Я еще тогда как раз заметил, что дождь собирается: помнится, все смотрел за тяжелой, словно жаром пышущей тучей на юго-западе и думал, эх, прихватит нас дождичком – ни до дому не успеем, ни до Уайтлифской лавки, и вдруг глядь – повозка-то вверх перестала подвигаться и потихоньку начинает вниз пятиться, я обернулся и как раз застал момент, когда эти мулы оба поперек дороги в постромках стали и друг на друга поверх дышлины скалятся, а Эб пытается их выровнять и тоже скалится, как вдруг они выровнялись, и я, помнится, только и успел подумать, мол, хорошо, что они все же не к повозке мордами оказались, когда выровнялись. Потому как впервые в жизни они рванули одновременно, по крайности с тех пор, как перешли Эбу во владение, и с подъема на площадь мы вынеслись, что твой таракан из водостока, – повозка на двух колесах мчится, Эб вожжами шурует, приговаривает: «Ах задрыга! Ах задрыга!» – а из-под колес мамки да детишки с визгом и врассыпную; непонятно, как он только ухитрился заворотить на всем скаку в проулок позади лавки Кейна, а там – трах! – левыми колесами сцепились мы с другой повозкой, и только с помощью той, чужой упряжки, которая стояла на привязи, ему и удалось остановиться. Ну, тут толпа, конечно, набежала, помогли нам расцепиться, Эб подогнал повозку к заднему крыльцу Кейновой лавки и привязал мулов к столбу, да потуже, нос к носу, а тут еще все подходят, говорят: «Глянь-ка, это же Стамперовы мулы!» – а Эб уже часто дышать начал, и физиономия посерьезнела – окончательно, можно сказать, насторожилась. «Ну, – говорит, – теперь берем сепаратор – и домой».
Так что вошли мы в лавку, отдали Кейну тряпицу с деньгами миссис Сноупс, он сосчитал – двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов, выдал нам сепаратор, и мы двинулись назад, то есть туда, где повозку оставили. Нет, ну с повозкой-то все как раз в порядке было: повозка была на месте. Даже как-то многовато ее стало – повозки, стало быть. Помнится, мне ее борта в глаза кинулись и верхушки колес (Эб ее близко-близко, к самому погрузочному настилу приткнул), и люди в проулке, которых мне только выше пояса было видно, – их тоже раза в два-три поприбавилось, – и что это, думаю, людей многовато стало, да и повозки вроде как тоже, прямо как на картинке, под которой внизу подпись: «Что здесь неправильно нарисовано?», и тут Эб снова за свое: «Ах задрыга! Ах задрыга!» – и бечь норовит, свой конец сепаратора из рук не выпуская, к краю настила, чтоб под него заглянуть. В общем, мулы на месте оказались. Прилегли они там. Эб их накрепко привязал к самому столбу, одну веревку через оба мундштука продел, и вид был у наших мулов, как у двух чудаков, сговорившихся удавиться за компанию – нос к носу, головы к небу задраны, языки вывалились, глаза из орбит повылазили, шеи растянулись фута аж на четыре, а ножонки так пополам и сложились, как у подстреленных кроликов, – висят себе, болезные, покуда Эб не подскочил да не обрезал веревку карманным ножом. Ну, артист! И что он там такое им скормил, черт знает, но тютелька в тютельку хватило дотянуть до города и миновать площадь.
Ну, Эб, конечным делом, расстроился. До сих пор у меня перед глазами стоит, как он забился в угол, где Кейн держал плуги да культиваторы, с лица бледный, голос дрожит, и рука дрожит так, что еле отсчитал шесть монет из кармана. «Быстро! – говорит. – Марш к доку Пибоди и притащи мне бутылку виски». Ужасно расстроился. Теперь это была даже не трясина. Это был уже водоворот, а сил всего на последний рывок осталось. В два глотка осушил он эту пинту и бутылку в уголок пристроил аккуратненько, словно яйцо, и пошли мы обратно к повозке. Мулы были все там же, но на сей раз они стоя дожидались; мы погрузили сепаратор и помаленьку двинулись, а вокруг все в нас пальцами тычут, дескать, вон они, Стамперовы мулы. С лица Эб уже не бледным стал, а багровым, а солнце скрылось, но думается, он этого и не заметил даже. А мы все еще ничего не ели, но ему и это, пожалуй, тоже невдомек было. И провалиться мне, но Пэт Стампер словно бы и с места не трогался, стоял в воротах своего веревочного загона – шляпа набекрень, большие пальцы все так же за пояс заткнуты, и снова перед ним Эб, сидит на козлах своей повозки, пытаясь унять дрожь в руках, а мулы, которых он у Стампера выменял, стоят, понурившись, ноги враскоряку, и пыхтят, что твой паровой котел.
«Вот, – Эб говорит, – приехал за своей запряжкой».
«А в чем дело? – спрашивает Стампер. – Только не говори мне, что и эти для тебя чересчур резвые. По ним что-то не похоже».
«Ладно, – Эб говорит. – Ладно. Мне бы мою запряжку. Вот у меня четыре доллара. Четыре доллара тебе барыша, а мне бы назад запряжку».
«Нет у меня твоей запряжки, – Стампер отвечает. – Мне ведь твоя кобыла тоже была без надобности. Я ж говорил тебе. Ну, я ее и сбагрил».
Эб посидел чуток, подождал. Становилось прохладнее. Поднялся ветер, и в воздухе запахло дождем.
«Ну, так, значит, у тебя мул мой остался, – Эб говорит. – Ладно уж. Хоть мула давай».
«Чего ради? – Стампер в ответ, этак удивленно. – Эту запряжку хочешь на твоего мула выменять?» Эбу-то уж какое там торговаться! Расстроен был страшно, сидел, словно ничего не видя, а Стампер стоял этак вальяжно, облокотившись на кол загородки, и смотрел на него чуть ли не целую минуту. «Нет, – говорит. – Не надо мне этих мулов. Твой получше будет. Так я не меняюсь. – Он сплюнул, спокойно так, аккуратно. – Кроме того, я твоего мула свел в новую запряжку. С другой лошадкой. Хочешь глянуть?»
«Ладно, – Эб говорит. – Сколько?»
«Ты что, не хочешь даже поглядеть сперва?» – спрашивает Стампер.
Эб говорит: «Ладно». Ну, негр пошел, вывел Эбова мула и лошадь, маленькую вороную лошадку; еще помню, хоть солнца и не было, тучи одни, а как она лоснилась! – лошадка чуток побольше той, которую мы Стамперу сбагрили, и жирная, как свинья. Это я говорю просто чтоб понятно было – не так, как лошадь бывает жирная, а именно как свинья: в жиру вся до ушей, и тугая с виду, как барабан, – такая жирная, что еле шла, ноги переставляла так, словно они невесомые и словно она их вовсе под собой не чует. «С этакого-то жиру подохнет она, – Эб говорит. – И до дому не доберусь».
«Да я вот и то думаю, – Стампер в ответ. – Иначе стал бы я от нее избавляться!»
Эб говорит: «Ладно. Надо ее спробовать», – и полез из повозки.
«Спробовать?» – говорит Стампер.
Эб ни гугу. Осторожненько вылез из повозки и пошел к лошади, и ноги тоже осторожненько ставит, как не свои, будто у него тоже в ногах весу нет, как у той лошади. Недоуздок на ней уже был, Эб принял от черномазого повод и давай взбираться на лошадь.
«Стой, – Стампер ему говорит. – Ты чего это надумал?»
«Думаю ее спробовать, – Эб в ответ. – Мы с тобой сегодня уже разок махнулись не глядя». Стампер с минуту глядел на Эба, потом снова сплюнул и бочком, бочком начал назад отходить.
«Ладно, Джим, – это он негру. – Подсади его». Ну, подсадил негр Эба на лошадь, но сам даже отойти не успел вслед за Стампером, потому что едва Эб на лошадь насел всем весом, как она дернулась, будто у него из штанов электрический провод торчит. Лошадь закружилась волчком – со стороны поглядеть, совсем круглая стала, ни переду, ни заду, что твоя картофелина. Эба она сбросила, он брякнулся оземь, поднялся и снова подошел к лошади, а Стампер говорит: «Подсади его, Джим», и снова черномазый подсадил Эба на лошадь, она снова его шмякнула, Эб с каменным лицом поднялся и снова за недоуздок берется, но тут Стампер удержал его. Похоже, Эбу только того и надо было, чтоб лошадь его с маху оземь кидала, словно он пытался хотя бы синяками, костьми своими расплатиться за какую ни на есть животину, пусть полудохлую, лишь бы до дому довезла.
«Тебе что, жить надоело?» – спрашивает Стампер.
«Ладно, – Эб говорит. – Так сколько?»
«Пошли в палатку», – сказал Стампер.
Ну а я дожидался в повозке. Начало уже здорово задувать, а теплого мы ничего с собой не захватили. В повозке было, правда, несколько мешков из-под отрубей, которые миссис Сноупс велела нам захватить с собой – сепаратор в них завернуть, и я как раз оборачивал его мешками, когда черномазый вышел из палатки, а полог-то он приподнял, ну я и вижу: Эб там сидит и глощет прямо из горлышка. Потом негр вывел лошадь с таратайкой, Эб со Стампером вылезли из палатки, Эб вернулся к своей повозке и, на меня не глядя, сбросил с сепаратора мешки, отнес его в таратайку, сел сам, потом Стампер подошел, сел, и они уехали обратно в сторону города. Негр постоял, посмотрел на меня.
«Промокнете ведь, по дороге домой-то», – сказал он.
«Ну, пожалуй», – говорю.
«Может, перекусить хочешь, пока они там ездят? – предложил он. – У меня обед на плите».
«Нет, пожалуй», – сказал я. Так что он пошел обратно в палатку, а я дожидался в повозке. Дождь собирался хлынуть уже вот-вот. Помню, я еще подумал, что у нас зато теперь мешки высвободились – на себя набросить, чтобы не вымокнуть. Тут вернулись Эб со Стампером, причем Эб по-прежнему глядит все в сторону. Пошел прямо в палатку, и вижу, он там снова к бутылке присосался, но на сей раз сунул ее после того за пазуху. А потом черномазый подвел к повозке нашего мула и новую лошадь, запряг их, Эб вылез и забрался в повозку. Стампер и черномазый теперь уже вдвоем его подсаживали.
«А не лучше вожжи мальцу отдать?» – Стампер говорит.
«Нет, сам, – отвечает Эб. – Может, выменять у тебя лошадь мне и слабо, но уж совладать с ней как-нибудь сумею».
А Стампер ему: «Ну, давай. Кстати, кобылка эта еще себя проявит!»
Она и впрямь себя проявила, – усмехнулся Рэтлиф. Впервые он рассмеялся – тихонько, невидимый для слушателей, хотя они и так знали каждую его черточку, видели его будто воочию, несмотря на темень: вот он, непринужденно развалясь, откинулся на стуле в своей чистой выцветшей синей рубашке, лицо худое, загорелое, приветливое и лукавое, и на всем облике печать закоренелого холостяковства, та же, что и у Джоди Варнера, но в остальном они не были похожи, да и в этом не очень, поскольку то, что у Варнера было отражением дешевой и напыщенной фатоватости, у Рэтлифа шло от здорового целомудрия, как у послушника из монастыря двенадцатого века, какого-нибудь садовника, скажем, или виноградаря. – Да как проявила! Мы еще и мили не отъехали, а тут гроза, дождь как из ведра хлынул, и часа два мы тащились, съежившись под мешками из-под отрубей и поглядывая на лоснящийся круп новой лошади, такой толстой, что даже ноги она переставляла как не свои и все еще продолжала время от времени вздрагивать, даже под дождем передергиваясь словно от боли – в аккурат как тогда, когда Эб на нее всем весом в Стамперовом лагере взгромоздился, пока наконец не высмотрели мы какой-то старый сарай, чтоб в нем укрыться. То есть высмотрел-то я, потому как Эб к тому времени валялся пластом на настиле повозки, и дождь хлестал ему прямо в лицо, а я сидел на козлах и правил, глядя, как эта лоснящаяся вороная кобыла превращается в гнедую. Ну, ведь мне всего восемь лет было, и я даже с Эбом вместе дальше поворота дороги, проходившей мимо его участка, барышничать не хаживал. В общем, заворотил я под первый попавшийся навес и принялся трясти Эба. Дождь малость прохладил его, и он проснулся довольно трезвый. А тут еще быстрей трезветь начал. «Что, – говорит. – Что такое?»
«Лошадь! – кричу. – Она линяет!»
Он уже протрезвел окончательно. Мы оба выбрались из повозки, и у Эба аж глаза на лоб, потому что в постромках стояла гнедая кобыла, а засыпая, он на вороную таращился. Эб вытянул руку, словно вообще уже не верил, что это лошадь, и дотронулся до нее как раз в том месте, где вожжи время от времени по шкуре елозили – ну, разве что едва-едва касались, – куда он сам всем весом взгромоздился, когда пытался ее испробовать у Стампера, и тут лошадь как рванет, как сиганет назад! Еле я отскочить успел, а она в стенку врезалась, где я стоял только что, у меня аж волосы ветром шевельнуло. А после звук такой послышался, словно большущую велосипедную шину гвоздем продырявило. Этак «ф-фыш-ш-ш», и от Стамперовой лоснящейся, жирной вороной кобылы уже и вовсе ничего не осталось. Не в том смысле, что стоим мы с Эбом и на единственного мула любуемся, лошадь – она куда же денется? Только это была та же самая кобыла, на которой мы утром со двора выехали и за которую две недели назад отдали Бизли Кемпу мельницу для сорго и пропашник. Даже рыболовный крючок назад вернулся, все так же чуточку погнутый – это Эб ему жало развернул, Стамперов нигер разве что пересадил крючок немножко в другое место. А вот ниппель от велосипеда Эб только на следующее утро нашел – в складках шкуры у передней ноги был спрятан, вроде как под мышкой, в жизни не догадаешься, хоть двадцать лет за этой кобылой ходи.
Да, только на следующее утро, потому как до дому мы добрались, когда солнце давно уже встало, а мой отец сидел у Сноупсов, ждал, помаленьку зверея. Так что надолго я у них не задержался, только и успел заметить в дверях миссис Сноупс, где она, видать, тоже всю ночь прокуковала, и она нам с ходу: «Ну, где мой сепаратор?» – а Эб в ответ про то, что он всегда насчет лошадей был как ненормальный, что тут поделаешь, и только тогда уже миссис Сноупс заплакала. Я в то время торчал у них чуть не безвылазно, но ни разу еще не видал, чтобы она плакала. Она не из тех была, кто часто плачет, и плакала она с трудом, будто не знала, как это делается, будто слезы еле дорогу себе отыскивали; стояла на пороге в старом халате, даже лицо не пряча, и все твердила: «Насчет лошадей – понятно, ненормальный, но это разве лошадь? Это разве лошадь?»
В общем, отец меня уволок. Даже руку мне в сердцах вывернул, но когда я ему стал рассказывать про то, что вчера приключилось, пороть меня он раздумал. Но все же к Эбу я вернулся чуть ли не за полдень. Эб сидел на заборе загончика, я влез и уселся с ним рядом. Только загон теперь пустой был. Ни мула, ни лошади Бизли Кемпа. Но Эб ничего не говорит, и я тоже ничего не говорю, а немного погодя он вдруг спрашивает: «Ты завтракал?» Я сказал, что да, а он и говорит: «А я – нет еще». Ну, пошли мы в дом, а там, понятное дело, хозяйки нет как нет. Мне сразу так и представилось – Эб сидит на заборе, а она бежит под горку в своей шляпке, в шали, в перчатках – ну а как же! – входит в конюшню, седлает мула и взнуздывает Кемпову кобылу, а Эб все сидит и решиться не может – то ли пособить ей вызваться, то ли не стоит.
В общем, растопил я ему печку. В кухонных делах Эб не ахти какой умелец был, так что пока он сообразил, чего поесть на завтрак, было уже поздно, и мы решили просто побольше сготовить, разом чтобы и завтрак и обед; сготовили, поели, я вымыл посуду, и мы поплелись обратно к загончику. Плуг – распашник двухотвальный – так и торчал в борозде на дальнем поле; дальше-то пахать все одно тягла нет, разве что отправиться к старому Энсу призанять у него упряжку мулов, но это легче к гремучей змее идти занимать погремок; потом, опять-таки, видимо, Эб предел себе положил: все, мол, хватит с него волнений, во всяком случае на этот день. Так что просто сидели мы на заборе и смотрели на пустой загон. Просторным он никогда не был, этот загончик: в него одну лошадь запустишь – и то ей там тесновато будет. Но теперь он с виду был как весь Техас; и, главное, не успел я подумать про то, какой он пустынный, а Эб уже слез с забора, перешел на другую сторону загона и на сарайчик любуется, который у него к стене конюшни пристроен, – так вроде ничего сарайчик, ежели бы к нему еще пару подпорок да крышу подновить… «Следующий раз, – говорит, – надо будет племенной кобылой разжиться – табун молодняка заведу, стану растить мулов. А это вот как раз для жеребят сподручное помещение – ну, подлатать только малость». Потом возвратился, и снова сидим на заборе, а где-то уже под вечер подъезжает повозка. Смотрю – с высокими бортами, Клифа Одэма повозка-то, а на козлах рядом с Клифом миссис Сноупс, и мимо дома они прямо к загону правят. «Нет, – Эб говорит. – Не выгорело. Как же, станет он мелочиться!»
Мы в это время были за углом конюшни и оттуда смотрели, как Клиф подогнал повозку задом к помосту у ворот, а миссис Сноупс вылезла, сняла шаль, перчатки и через загон пошла к коровнику, вывела оттуда корову и повела к помосту, а Клиф говорит: «Давайте загоню ее в повозку. А вы покамест вожжи подержите». Но она даже не помедлила. Уставила на помосте корову мордой к повозке, зашла сзади, плечиком приложилась и в момент задвинула корову в повозку, покуда Клиф только еще с козел слезал. Потом Клиф водрузил на место задний борт, а миссис Сноупс шаль свою надела, перчатки, забрались они в повозку и укатили.
В общем, еще раз я ему растопил печку, чтоб ужин сготовить, и пора было мне домой: солнце уже почти что село. Возвратился на следующее утро, принес кувшин молока. Эб был на кухне, все еще с завтраком возился. Увидел молоко и говорит: «Это ты дельно сообразил. Как раз вчера я собирался попросить тебя молока у твоих призанять». И снова пошел готовить завтрак, потому как знал, что в такую рань она не воротится: ведь это что же будет – два раза по двадцать восемь миль меньше чем за двадцать четыре часа! Но тут слышим, опять едет повозка, и на сей раз миссис Сноупс воротилась с сепаратором. Только мы успели в конюшню податься, а она уже его в дом волокет.
«Ты вот что, – Эб говорит, – молоко-то у ней на виду оставил, нет?»
«Вроде бы, – отвечаю.
«Интересно, она к нему сразу бросится или сперва старый халат наденет? – А потом, с сожалением: – Эх, – говорит, – что ж я так с завтраком припозднился!»
Только, по-моему, она и на халат времени терять не стала, потому что тут же взвыл, зажужжал сепаратор. Жужжал он замечательно, на такой тонкой, высокой ноте, мощно и уверенно, точно ему этот галлон молока поразбросать – раз плюнуть. А потом смолк.
«Н-да, – нахмурился Эб. – Плохо дело: молочка у ней теперь только этот галлон».
«А чего, – говорю, – могу ей еще один принести завтра утром».
Но он меня не слушал, держал под наблюдением дом.
«Тебе, – говорит, – самое время сейчас подойти и в дверь глянуть».
Ну, я подошел, глянул. Она как раз сняла с плиты Эбову стряпню и по двум тарелкам раскладывала. Я и не думал даже, что она меня заметила, пока она не обернулась и не отдала мне эти тарелки. Вижу – ничего, лицо спокойное. Ну, озабоченное только, а так – ничего.
«Тебе, верно, тоже лишний раз подкрепиться не повредит, – это она мне, значит. – Но уж вы где-нибудь там во дворе поешьте. Я тут сейчас делом займусь, так что нечего у меня в ногах путаться».
В общем, возвращаюсь с тарелкой, сели мы есть под забором. Тут снова загудел сепаратор. А мне, стало быть, невдомек было, что он и второй раз тем же молочком не поперхнется. Думаю, Эбу тоже это невдомек было.
«Не иначе, Кейн ее надоумил, – говорит Эб, а сам жует вовсю. – А что – если ей его туда второй раз залить охота, так оно, видать, и второй раз не застрянет».
Потом сепаратор смолк, и она вышла к двери крикнуть нам, чтобы мы ей посуду помыть вернули, я отнес тарелки, поставил их на пороге, и мы с Эбом снова пошли и уселись на забор. Такое ощущение было, будто этим забором весь Техас обнесен и Канзас в придачу.
«Не иначе, подъехала она прямо к этой, драть ее передрать, палатке и сказала: «Вот тебе за твою запряжку, отдавай мой сепаратор, да живо, потому как мне ходом домой надо вертаться», – сказал Эб. А потом снова донесся перегуд сепаратора, и в тот же вечер мы сходили к старику Энсу выпросить какого-нибудь мула – добить то дальнее поле, но у того для Эба мулов больше не нашлось. Так что, чуть старый Энс попритих ругаться, двинулись мы восвояси и обратно на забор уселись. И точно: слышим – опять сепаратор. Все так же уверенно, вроде как это молоко по нем само летает, вроде как вообще все равно агрегату – раз перепустить через себя молоко или сто раз.
«Во – опять забрунжал, – сказал Эб. – Ты завтра-то не забудь еще галлон прихватить».
«Ясное дело», – отвечаю.
Посидели. Послушали. Ну, он ведь тогда еще не остервенел.
«Надо же, как она довольна, прямо не нарадуется», – это опять Эб сказал.
3
Бричка стала, и с минуту еще он в ней сидел, глядя на те же сломанные ворота, на которые глядел и Джоди Варнер, когда осаживал тут своего коня девять дней назад: тот же затравевший, поросший бурьяном двор, тот же вычерненный непогодой, покосившийся домишко – все та же мусорная мерзость запустения, которая теперь полнилась скукотливым покрикиванием двух голосов, достигшим его ушей прежде даже, чем он успел подъехать к воротам и остановиться. Голоса были молодые, и в перекличке их не было ни жалобы, ни брани, лишь неторопливая, весомая громогласность, причем даже то, что в них с трудом и не сразу угадывалась членораздельность осмысленной речи, казалось естественным, словно звуки исходили от двух огромных птиц; словно в объятое ужасом и оторопело застывшее уединение какой-нибудь недоступной и необитаемой пустыни или болота вторглись два последних уцелевших представителя исчезнувшей породы, пришли и поселились, терзая поруганную тишь нескончаемой перекличкой, которая, впрочем, смолкла, едва Рэтлиф возвысил голос. Через мгновение обе девки вышли к дверям и стали – дебелые, одинаковые, как две небывалых коровищи, – и на него уставились.
– С добрым утром, сударыни, – обратился он к ним. – А где папаня?
Они продолжали разглядывать его. Казалось, даже дышать перестали, но уж этого – знал Рэтлиф – быть не могло: для тел такой корпулентности и такого чудовищного, такого чуть ли не подавляющего здоровья воздух нужен, и как можно больше. На миг представилось ему, будто это две телки, нетели, и воздух им по колено, точно вода в русле, – угнули этак голову в бочажину, и от одного их вдоха уровень бесшумно и стремительно никнет, сходит на нет, обнажая изумленно обмершую придонную невидаль, кишащую вокруг копыт, вязнущих в илистом ложе. Тут девки произнесли в один голос, как слаженный хор:
– На поле, где ж еще!
«Да уж, – подумал Рэтлиф, трогаясь дальше. – Интересно, что ему там делать?» Ведь – насколько Рэтлиф знал Эба Сноупса – вряд ли у того может быть больше двух мулов. А одного из них Рэтлиф уже видел, как тот в загоне слоняется позади дома, да и с другим все было ясно – привязан к дереву позади лавки Варнера в восьми милях отсюда, потому что и трех часов не прошло, как он Рэтлифу на глаза попался, и все там же стоял, где Варнеров приказчик шестой день кряду привязывал его по приезде. На миг Рэтлиф даже придержал лошадей. «Бог ты мой, – подумал он без особого, впрочем, волнения. – Это ж как раз тот шанс, которого Эб вот уже двадцать три года дожидался – начать все заново, стряхнуть с себя стамперовский морок». И когда перед глазами наконец открылось поле и прорисовалась нескладная, кряжистая, низкорослая фигура позади плуга, влекомого парой мулов, Рэтлиф даже не удивился. И, не дожидаясь, когда на самом деле можно будет признать в них мулов, которые еще неделю назад принадлежали Биллу Варнеру, подумал, уже изменив мысленно форму глагола: «Не принадлежали, а принадлежат до сих пор. Ишь, хитрый черт! Вот так барышник: не клячу – человека на запряжку мулов променял».
У ограды Рэтлиф остановил бричку. Плуг дотащился до дальнего конца деляны. Пахарь заворачивал мулов, они мотали головами, разевали рты и, приседая под ударами кнута, которым он их с совершенно излишней жестокостью охаживал, сбивались с шагу. Рэтлиф критически наблюдал. «Все по-прежнему, – подумал он. – До сих пор с мулом или с лошадью обращается так, будто она ему кулак показала, прежде чем он слово успел сказать». Было ясно, что и Сноупс его тоже увидел и тоже узнал, хотя и не подал виду; запряжка уже выправилась и тянула обратно, изящные ноги мулов с узкими, как у оленей, копытцами торопко и нервно вскидывались, и черный отвал жирной земли падал с отполировавшегося плужного лемеха. Теперь Рэтлиф отчетливо видел, что Сноупс смотрит прямо на него: холодные блестки под неприветливым изломом нависающих бровей, прежних, сразу узнанных Рэтлифом даже через восемь лет, разве что чуть больше теперь поседевших, и еще раз Эб все с той же бессмысленной яростью дернул мулов, остановил их, плуг положил набок.
– Откуда ты взялся? – буркнул он.
– Да вот, прослышал, что вы здесь, дай, думаю, заверну по пути, – сказал Рэтлиф. – Давненько не виделись, а? Лет восемь.
Тот хмыкнул.
– А ты с виду все такой же тихоня. Годы с тебя как с гуся вода.
– Да уж, – отозвался Рэтлиф. – Кстати, насчет водички. – Он сунул руку под сиденье и добыл бутылку, налитую прозрачной жидкостью, похожей на воду. – Вот. Лучшее, что есть у Маккалема, – пояснил он. – На прошлой неделе гнали. Держите. – Он протянул бутылку. Эб приблизился к изгороди. Хотя их теперь не разделяло и пяти футов, все, что мог видеть Рэтлиф, это две холодные блестки под свирепой завесью бровей.
– Это мне?
– А кому же? Держите.
Тот не двигался.
– А с меня что за это?
– А ничего, – коротко сказал Рэтлиф. – Просто так. Глотните на пробу. Пойло что надо.
Тот взял бутылку. Рэтлифу показалось, будто в этот момент что-то во взгляде Сноупса переменилось. А может, тот просто на него глядеть перестал.
– До вечера обожду, – буркнул Сноупс. – В жару не пью больше.
– А в дождь? – ухмыльнулся Рэтлиф. Тут он заметил, что Сноупс отвел взгляд, хоть и не пошевелился, ни один мускул не дрогнул на его загрубелом, шишковатом, злом лице – стоит себе, держит бутылку, и все тут. – Вы, я смотрю, неплохо устроились, – принялся болтать Рэтлиф. – И ферма приличная, и в лавке Флем так притолочился, словно ему торговать на роду написано.
Теперь Сноупс, похоже, и слушать перестал. Встряхнул бутылку, поднял ее, на просвет поглядел, как это делают, чтобы по пузырькам проверить крепость.
– Надеюсь, все у вас здесь уладится.
Тут снова он увидел эти глаза, неукротимо-яростные и холодные.
– А тебе-то что – уладится у меня или нет?
– Ничего, – спокойно, вежливо отозвался Рэтлиф. Сноупс, избочившись, спрятал бутылку в бурьян под изгородью, вернулся к плугу и наставил его в борозду.
– Поди в дом, скажешь, пусть соберут тебе чего пообедать, – распорядился он.
– Да ладно, – отмахнулся Рэтлиф. – Мне надо в город ехать.
– Как знаешь, – коротко бросил тот. Накинул на шею свернутый единственный гуж и снова бешено хлестнул мулов; снова запряжка дернулась, мулы разевали пасти, скалились и приседали и сбились с шага, не успев с места тронуться. – А за бутылку спасибо, – обронил напоследок Эб.
– Да уж, – пробормотал Рэтлиф.
Плуг удалялся. Рэтлиф провожал его взглядом. «И ведь не сказал даже: «заходи»!» – подумал он. Подобрал вожжи.
– Ну, братцы-кролики, – проговорил он, – теперь айда в город по-быстрому!
Глава третья
1
В понедельник утром, когда Флем Сноупс явился на службу в лавку Варнера, на нем была с иголочки новая белая рубаха. Она еще и в стирке не побывала: штука ткани как лежала когда-то на полке, так и остались на материи складки да потемневшие от времени полосы – где ткань торчала сгибами из свертка, – чередующиеся, как на шкуре тигра. Не только от женщин, что приходили поглазеть на приказчика, но и от Рэтлифа (не зря он торговал швейными машинками: демонстрируя товар другим, и сам научился с машинкой управляться вполне прилично и даже, говорят, сам шил себе свои синие рубахи) не укрылось, что рубаху кроили и шили на руках, да и руки-то были корявые и непривычные. Флем ходил в ней всю неделю. К субботнему вечеру рубаха стала грязной, но в следующий понедельник он появился в другой точно такой же, вплоть до тигриных полос. К вечеру следующей субботы эта засалилась тоже, в тех же точно местах, что и прежняя. Как будто бы ее владелец, без году неделя в новом своем обиталище, попав в колею, задолго до его пришествия надежно проторенную всеми надобностями и привычками местной жизни, все-таки ухитрился с первого дня придать этой колее свой собственный, неповторимый по части пачканья рубашек выгиб.
Он приехал на тощем муле с жестяным бидончиком, притороченным к седлу, которое сразу опознали как собственность Варнеров. Мула он привязал к дереву позади лавки, а бидончик отцепил и поднялся на крыльцо, где, с Рэтлифом вместе, пребывало уже человек десять. Рта так и не раскрыл. А если и поглядел на кого в отдельности, то совсем скрытно, – пухлявый, приземистый малый, несколько рыхлый и не сразу определимого возраста – может, двадцать, а может, и все тридцать лет, – с широким малоподвижным лицом, на котором выделялся рот плотным шовчиком, в углах слегка запачканный табачной жвачкой, да глаза цвета болотной лужицы, да нос, пугающим внезапным парадоксом торчащий среди прочих деталей этого лица, маленький и хищный, вроде клюва какого-то мелкого стервятника. Как будто первоначально предназначавшийся ему нос первоначальный скульптор или мастеровой забыл приладить, и дело в столь незавершенном виде взял в свои руки некий адепт совершенно противоположной изобразительной манеры либо вконец обезумевший юморист, а может, кто-то, у кого времени только и хватило, чтобы влепить посреди лица как придется что-то свирепое, этакий отчаянный оградительный знак.
Со своим бидончиком Флем исчез в лавке, а Рэтлиф с компанией – кто сидя на скамье, кто примостившись на корточках – провели на крыльце весь тот день, наблюдая, как обитатели окрестностей – не только собственно деревенские, но и все те, кто жил в пределах пешего перехода, потянулись в лавку и парами, и поодиночке, и целыми группами – мужчины, женщины, дети: купить какую-нибудь ерунду, глянуть на нового приказчика и удалиться. Их вид не выражал враждебности, но предельную настороженность, готовую к испугу; так среди полудикого скота разносится весть о пришествии в стадо неведомого существа: в лавку входили, покупали муку, либо патентованное лекарство, или постромки для плуга, табак и разглядывали человека, даже имени которого они неделю назад не слыхали, а теперь вот без него не приобретешь и самого необходимого, потом удалялись так же молча, как пришли. Часов в девять на своем чалом подъехал Джоди Варнер и вошел в лавку. Оттуда послышался его рокочущий бас, причем в ответ не доносилось ни звука – с тем же успехом Варнер мог беседовать с самим собой. В полдень он вышел, взобрался в седло и уехал, тогда как приказчик за ним не последовал. Что Флем мог принести с собой в бидончике, всем и так было ясно, и они тоже – время обеденное – начали разбредаться, походя заглядывая в лавку и ничего там не видя. Если приказчик и принялся за свой обед, то предварительно спрятавшись. Еще не было и часу дня, а Рэтлиф уже вернулся: чтобы перекусить, ему и пройти-то пришлось какую-нибудь сотню ярдов. Другие тоже не заставили себя ждать и весь остаток дня посиживали на галерее, порой принимаясь степенно толковать о том о сем, пока весь прочий местный люд, живший в пределах пешего перехода, тянулся к лавке, платил свои пять – десять центов и разбредался кто куда.
К концу той первой недели поглядеть на чужака в лавку наведались все – не только те, кому в дальнейшем предстояло запасаться у него едой и мелочами по хозяйству, но даже некоторые из тех, кто с Варнерами никогда дела не имел и иметь не будет – мужчины, женщины, дети: младенцы, которых и за порог-то прежде никогда не выносили, старые и недужные, кого за порог, не будь такого случая, может, только раз бы и вынесли, – приезжали на лошадях и на мулах, верхом и целыми фургонами. Рэтлиф по-прежнему был на месте; старый граммофон и комплект девственно-новых зубьев для бороны по-прежнему валялся в его бричке, брошенной со вздыбленным, подпертым доскою дышлом, в вагончике миссис Литтлджон, там же, где томилась и пара его разномастных кряжистых лошадок, уже до осатанения застоявшихся, покуда их хозяин каждое утро наблюдал, как приказчик все на том же муле под чужим седлом подъезжает к лавке – все та же белая рубаха, понемногу становящаяся грязнее, все тот же брякающий бидончик с обедом, за поеданием которого никто его не заставал, – привязывает мула и отпирает лавку своим ключом, который в его руках увидеть как-то не ожидалось, ну, хоть не с первого же дня по крайней мере. Первый день миновал, за ним второй, смотришь, у него к приходу Рэтлифа и всех остальных уже и лавка открыта. К девяти подъедет на лошади Джоди Варнер, взберется по ступенькам, грубовато дернет подбородком в сторону честной компании и – в лавку, впрочем, кроме как в первое утро, более пятнадцати минут там не задерживаясь. Если Рэтлиф с приятелями и тешили себя надеждой вызнать, какие такие есть подводные течения в отношениях молодого Варнера с этим приказчиком – может, зацепка потайная или что, – то надежда эта не оправдалась. Побормочет только за стенкой гулкий басок, этак равнодушненько и, судя по ответному молчанию, по-прежнему беседуя словно с самим собой, потом они с приказчиком выйдут вместе к дверям, постоят там немножко, пока Джоди, закончив свои наставления, цыкнув зубом, не удалится, и когда кто-нибудь обернется снова к приказчику, глядишь, у дверей-то уж и нет никого.
Тут наконец в пятницу к вечеру Билл Варнер сам пожаловал. Скорее всего и Рэтлиф и все прочие как раз этого и дожидались. Ладно, дождались, но уж теперь никак не Рэтлиф, а разве только прочие могли еще питать последнюю надежду, что сейчас наконец что-нибудь выплывет. И все-таки, видимо, в результате один Рэтлиф не очень удивился, поскольку выплыло совсем не то, чего они, может, хотели бы: не работник в конце концов понял, кто у него хозяин, а Билл Варнер понял, кого взял в работники. Подъехал он на старой разжиревшей белой кобыле. Парень на верхней ступеньке встал с корточек, спустился и принял поводья, привязал лошадь, и Варнер спешился, взошел на галерею, а в ответ на общий уважительный гомон бодренько буркнул как раз в сторону Рэтлифа: «Чертово семя, по сю пору прохлаждаемся?» Еще двое освободили место на исковырянной ножами деревянной скамье, но сразу-то Варнер к ней не подошел. Сперва он подождал у распахнутой настежь двери, потоптался, почти как все прочие, шею по-индюшачьи чуть склонил, в дверь заглядывая – длинный, поджарый, – но разве только на миг и замешкался, потому что почти сразу как гаркнет: «Эй ты! Как тебя там? Флем. Принеси-ка мне моего табачку. Где взять, тебе Джоди показывал». Потом двинулся и подошел к парням, туда, где двое освободили для него место на исковырянной ножами деревянной скамье, сел и сам тоже вынул нож и только начал было веселой своей дьяконской попевкой загибать очередную скабрезную байку, как тут же (Рэтлиф даже шагов не услыхал) за плечом у него появился приказчик с табаком. Не прерываясь, Варнер взял брикет табака, отрезал от него зубок, большим пальцем защелкнул нож и вытянул ногу, чтобы спрятать его в карман, но тут замолк и сердито глянул вверх. Приказчик все так же стоял за его плечом. «Ну, – говорит, – чего еще?»
– А заплатить-то, – приказчик ему. На мгновение Варнер так и застыл: нога вытянута, зубок табака и брикет покромсанный в одной руке, в другой нож почти уже в кармане. Да и все призастыли, молча, внимательно разглядывая свои руки, или куда там у них, когда Варнер запнулся, были глаза направлены. – За табачок, – уточнил приказчик.
– А, – выдохнул Варнер. Сунул нож в карман и вытянул откуда-то из-под зада кожаный кошель, размерами, формой и цветом вроде баклажана, вынул из него пятицентовик и подал приказчику. Рэтлиф не слышал, как приказчик подходил, и как удалялся – тоже не услышал. Теперь понял почему. На приказчике была еще и пара теннисных тапок, новеньких, на резиновом ходу. – Так о чем бишь я? – спохватился Варнер.
– Только, значит, малый тот начинает комбинезон расстегивать… – с готовностью подсказал Рэтлиф.
На следующий день Рэтлиф уехал. Не то чтобы его с места погнала забота о заработке, о хлебе насущном. Он мог месяцами разъезжать по всему округу, переходя от стола к столу, и ни разу не притронуться к карману. Поманила его стезя, наезженный кочевой круговорот, излюбленная роль разносчика новостей и сплетен, удовольствие обмениваться ими, а ведь за эти две недели у него все их запасы истощились, до последней капли, пока он сидел тут, высматривал.
Только через пять месяцев он опять угодил во Французову Балку. Путь его простирался на четыре округа. Маршрут совершенно неизменный, допускавший лишь внутренние перестановки. За десять лет ни разу он не покидал пределы своих четырех округов, но тем летом очутился все-таки в один прекрасный день в Теннесси. И не просто на чужой земле оказался, но ощутил себя отрезанным от родного штата золотым барьером, стеной из резво и во множестве к нему ссыпающейся звонкой монеты.
Торговля у него в ту весну и лето ладилась бойко, местами даже чересчур. Сам себя на корню запродал: взамен доставленных машинок ему давали расписки в счет будущего урожая, а что удавалось наличными получить плюс наличность, вырученную от продажи всякой всячины (иногда он первый взнос от покупателей принимал натурой), прямым ходом оптовику из Мемфиса, в уплату за новые и новые машинки, которые он сам брал в кредит и снова вез, пристраивал, опять-таки в кредит, за расписки, которые вслед за покупателями подмахивал, пока не поймал себя на том, что так и прогореть недолго, обанкротиться, захлебнувшись собственным жадным азартом. Оптовик заявил права на свою долю в векселях, которым вышел срок. В ответ Рэтлиф, не мешкая, по своим должникам прошелся. Как всегда, он был обходителен, любезен, балагурил и, казалось, вовсе никого не подгонял, но уж вычистил их под метлу, ничего не скажешь, хотя хлопок едва только зацветал, и должен был пройти не один месяц, прежде чем в здешних местах заведутся хоть какие-то деньги. Набрать удалось несколько долларов, комплект подержанной тележной упряжи да кур, леггорнов белых, восемь штук. Оптовику он задолжал 120 долларов. Добрался до двенадцатого по счету должника, отдаленного родича, и обнаружил, что тот уже с неделю как погнал партию мулов в Колумбию (штат Теннесси), продавать на тамошней конской ярмарке.
Рэтлиф вскочил в бричку и следом, со всей своей тележной упряжью и курами. Тут замаячил шанс не только получить по долговой расписке (при условии, конечно, что успеешь перехватить этого родича, пока кто-нибудь, в свою очередь, не сбыл ему тоже каких-нибудь мулов), но, может, даже и денег призанять в количестве достаточном, чтобы ублажить оптовика. Четырьмя днями позже он добрался до Колумбии, где постоял, ошарашенный, секунду-другую и принялся оглядываться в счастливом недоумении первого белого охотника, который забрел в идиллическую глушь девственной африканской долины, где слоновой кости видимо-невидимо – живьем ходит, только стреляй и оттаскивай. Человеку, у которого справлялся о местонахождении многоюродного братца, продал одну машинку; с родичем вместе отправились ночевать в дом двоюродного брата жены этого родича, в десяти милях от Колумбии, там продал вторую. Три машинки продал за первые четыре дня, остался на месяц и продал их восемь штук, набрав 80 долларов наличными; на эти 80 долларов плюс упряжь плюс восемь кур купил мула, перегнал его в Мемфис и продал на придорожном аукционе за 135 долларов, отдал оптовику 120 и новые расписки в обмен на отказ от его (оптовика то есть) доли в старых миссисипских векселях и домой поспел как раз к сбору хлопка с двумя долларами пятьюдесятью тремя центами в кармане и при всех правах на двенадцать двадцатидолларовых векселей, по которым он получит сполна после того, как хлопок очистят и продадут.
Когда в ноябре он добрался до Французовой Балки, там уже все шло привычным порядком. Поселок смирился с существованием приказчика, хотя за своего и не признал – кроме Варнеров, пожалуй. Бывало, раньше Джоди какую-то часть дня проводил в лавке, а нет, так всегда где-нибудь неподалеку. Теперь же, как доложили Рэтлифу, завел обычай временами не появляться вовсе, и покупателям – а они у него из года в год были одни и те же и обслуживали себя главным образом самостоятельно, оставляя скрупулезно отсчитанную мелочь в сигарной коробке, прикрытой ящиком из-под сыра, – уже несколько месяцев приходилось по всякой ерунде иметь дело с человеком, даже имени которого полгода назад никто слыхом не слыхивал, который на все вопросы отвечал «да» или «нет» и прямо в лицо никому не глядел или, во всяком случае, не глядел достаточно долго, чтобы запомнить имя, шедшее с этим лицом в паре, но зато уж в вопросах, касающихся денег, ошибок не допускал. Джоди Варнер – тот допускал их то и дело. Как правило, естественно, в свою пользу, а если в кои-то веки и отпустит покупателя с неоплаченной катушкой ниток или жестянкой нюхательного табаку, то потом рано или поздно все равно свое возьмет. Все уже привыкли к этим его просчетам, большой беды в них не видя, тем более было известно, что, пойманный за руку, он их исправит, с грубоватым, искренним дружелюбием обратив все в шутку, причем у покупателя подчас закрадывались кое-какие сомнения в правильности счета в целом. Но и в этом беды не видели, поскольку при необходимости и бакалею, и шорные принадлежности можно было брать у него в кредит и с погашением не торопиться, хотя каждому ясно, что за эту щедрость и великодушие набегают проценты, заметные при конечном расчете или нет – не важно. А этот приказчик не допускал ошибок никогда.
– Чепуха, – сказал Рэтлиф. – Рано или поздно все равно кто-нибудь ущучит его. И за двадцать пять миль отсюда не сыщешь мужчину, женщину или ребенка, который не знал бы, что в этой лавке есть и что почем, не хуже любого из Варнеров, хоть Билла, хоть Джоди.
– Ха, – отозвался его собеседник, кряжистый, коротконогий человек с чернобровым смышленым лицом, некто Одэм Букрайт. – То-то и оно.
– Что, скажешь, так-таки никто его ни разу и не заловил?
– Ни разу, – проронил Букрайт. – И нашим это не нравится. А иначе кто бы чего говорил?
– Да уж, – согласился Рэтлиф. – Кто бы говорил?
– И с этим кредитом тоже, – сказал еще один – долговязый, с шишковатой, лысеющей, сонно клонящейся головой и светлыми близорукими глазами – звали его Квик, в его ведении была лесопилка. Этот высказался насчет кредита: дескать, выяснилось с ходу, что приказчик не хочет давать в долг ничего и никому. До того дошел, что наотрез отказался продлить кредит человеку, который влезал в долги и снова из них выкарабкивался чуть ли не каждый год вот уже лет пятнадцать, и Билл Варнер в тот вечер самолично примчался галопом на своей лоснящейся от жира, громко екающей нутром старушке кобыле и ворвался в лавку с воплем таким громким, что слышно было в кузнице через дорогу: «Ты что, прах тебя дери, забыл, чья это лавка, что ли?»
– Ну, мы-то не забыли, чья это лавка пока что, – сказал Рэтлиф.
– Или чьей эту лавку некоторые пока что считают, – подхватил Букрайт. – Все-таки в дом к Варнерам он покамест не перебрался.
Он это к тому, что приказчик жил теперь уже в поселке. Однажды субботним утром кто-то заметил, что позади лавки нет привязанного мула под седлом. По субботам лавка не закрывалась до десяти и дольше, вокруг нее всегда толклась куча народу, и несколько человек видели, как Флем потушил свет, запер двери и ушел, на своих двоих. А на следующее утро он, прежде не показывавшийся в поселке с субботнего вечера до утра в понедельник, появился в церкви, и те, кто его там увидел, так и замерли, не веря своим глазам. Кроме серой суконной кепки и серых штанов, на нем была не только чистая белая рубаха, но еще и галстук – фабричного производства, крошечный такой, бабочкой, из тех, что железненькой прицепкой застегиваются сзади. И длины-то в нем двух дюймов не набралось бы, зато единственный галстук во всей Французовой Балке и ее окрестностях, не считая того, в котором ходил в церковь сам Билли Варнер, причем Флем так и носил этот галстук, во всяком случае, точно такой же, с того воскресенья и до самой своей кончины (позже, когда он уже стал президентом банка в Джефферсоне, прошел слух, будто этих галстуков он заказал в свое время сразу партию оптом) – этакая крошечная, гадостно-плоская, потаенного зацепления нашлепка, вроде какого-то загадочного знака препинания на белом поле рубашки, придававшая ему тот же, что у Джоди Варнера, только возведенный в энную степень издевательски торжественный вид и с вопиющей настырностью заставившая всех, кто в тот день присутствовал, почувствовать его чужеродную сущность, физически оскорбительное вторжение, провозвестием которого прозвучала однажды на склоне весеннего дня поступь негнущейся ноги его папаши на настиле крыльца лавки. Флем отбыл на своих двоих; на следующее утро пришел в лавку снова пешком и снова при галстучке. К ночи всей округе стало известно, что с минувшего воскресенья он живет и столуется в доме у одного семейства, примерно в миле от лавки.
Билл Варнер давно вернулся к привычному укладу своего ленивого, но плодоносно-беспечального существования, а может, и не порывал с ним вовсе. Лавку он не навещал с начала июля, с самого Дня независимости[68]. А поскольку Джоди тоже в лавке не появлялся и в наступившем августовском вялом и застойном межсезонье, покуда не вызрел хлопок, делать было решительно нечего, то стало и впрямь похоже, будто все бразды и нити власти – не только в смысле владычества в лавке, но и по части извлечения доходов, самого, наконец, права собственности – прибрал к рукам приземистый субъект в неуклонно засаливающейся белой рубахе и до неуязвимости никчемном галстучке, тот самый, что высидел все эти бесхозно сиротеющие дни, молчаливо затаившись в опутанной густым хитросплетением теней пахучей внутренности всеми покинутой лавки, изрядно напоминая белесого, раздувшегося паука какой-нибудь всеядной, хотя и неядовитой породы.
А произошло это в сентябре. Вернее, началось, хотя сперва никто не понял, к чему дело клонится. Коробочки хлопка раскрылись, и начался их сбор. Однажды утром первый из тех, кто приехал сдавать хлопок, наткнулся в лавке на Джоди Варнера. Дверь хлопкоочистителя была распахнута: варнеровский кузнец Трамбл со своим подмастерьем и негром-кочегаром возились с локомобилем – осматривали его, проверяя перед началом сезона; тут из лавки появился Сноупс, прямиком пошел в сарай хлопкоочистителя и исчез из виду и, на какое-то время, из памяти тоже. И только когда вечером лавка закрылась, все вдруг поняли, что Джоди Варнер просидел в ней весь день. Но даже и этому не придали большого значения. Подумали, что Джоди сам же и послал приказчика присмотреть за открытием хлопкоочистителя – заленившись, переложил на него свою всегдашнюю обязанность и временно принял дела в лавке, благо там можно посидеть в холодке. Зато когда машина хлопкоочистителя запыхтела и начали прибывать первые груженые подводы, у всех словно глаза раскрылись. Потому что в лавке по-прежнему торчал Джоди, шаря по полкам и суетясь из-за медяков, тогда как приказчик весь день просидел на табурете, следя за балансиром весов, покуда подводы в очередь заезжали на них, перед тем как стать под всасывающую трубу хлопкоприемника. Прежде Джоди и здесь и там успевал. То есть в основном-то он посиживал у весов, предоставив безнадзорную лавку самой себе, – да она и так вечно стояла без присмотра, – правда, временами, единственно чтобы устроить себе передышку, он оставлял чей-нибудь воз на весах и уходил, и очередь застывала минут на пятнадцать или даже на сорок пять, пока он в лавке, хоть там и покупателей за это время могло ни одного не случиться, только зеваки, благодарные слушатели его трепотни. Ну так что ж, все и так шло как по маслу. А теперь, когда их стало двое, почему бы одному не посидеть в лавке, пока другой занят взвешиванием, и почему бы Джоди не передоверить взвешивание приказчику? Догадка холодом повеяла на них, когда…
– Вот оно, – сказал Рэтлиф. – Понял! Что Джоди торчит тут – это бы еще полбеды. А вот кто ему велел этак торчать-то? – Он поглядел на Букрайта, Букрайт на него. – Всяко не дядя Билл. И лавка и хлопкоочиститель чуть не сорок лет уже на пару работают, и всегда Джоди управлялся с ними в одиночку. А у дяди Билла не те годы уже, чтобы запросто менять привычки. Да уж. Хорошо, а вывод?
С галереи можно было наблюдать за обоими. Люди подъезжали на придавленных грузом подводах, выстраивали их вереницей на обочине, уткнув мулов мордами в задок впереди стоящей повозки, и ждали своей очереди поставить воз на весы, а потом под всасывающую трубу, спешиться и, намотав вожжи на подвернувшийся столбик, взойти на галерею, с которой видно было неподвижное, непроницаемое, непрестанно жующее лицо приказчика, царственно восседавшего перед балансиром весов, суконную кепку, крошечный галстук бабочкой, тогда как из лавки то и дело слышались отрывистые, ворчливые бурканья, которыми Варнер отзывался, когда покупатели вынуждали его проронить слово. То и дело кто-нибудь из наблюдателей сам заходил в лавку купить плитку табаку или жестянку с нюхательной засыпкой, в которых толком-то и нужда еще не приспела, либо просто хлебнуть водицы из можжевеловой бадьи. Дело в том, что в глазах Джоди появилось нечто, чего прежде не наблюдалось, – некая тень, не то досада, не то раздумье, не то затаенное предчувствие; еще все-таки не обида, но уже какая-то растерянность. Именно этот момент всем вспоминался позже, года два или три спустя, когда они говорили друг другу: «Это было, когда он Джоди обскакал», правда, Рэтлиф вносил поправку: «То есть ты хочешь сказать, когда до Джоди это доходить начало».
Но все это маячило еще где-то в будущем. А сейчас с галереи просто смотрели, наблюдали, ничего не упуская. Весь тот месяц каждый день с восхода и до заката воздух дрожал от быстрого стука локомобиля; подводы вереницей тянулись к весам и одна за другой подъезжали под трубу хлопкоприемника. То и дело приказчик через дорогу переходил к лавке, весь – и штаны, и кепка, и даже галстучек – облепленный клочками хлопка; фермеры, коротавшие время на галерее в ожидании своей очереди к трубе или к весам, смотрели, как он заходит в лавку, а через мгновенье оттуда доносился его голос – коротко и деловито что-то бормотнет, и все. Но уж теперь Джоди Варнер не выходил, как бывало, вместе с ним постоять чуток у дверей, и все взгляды следили только за широкой, коренастой фигурой приказчика – как его бесформенная, зловеще осанистая и безвозрастная спина удаляется к хлопкоочистителю. После того как хлопок собрали, пропустили через очиститель и продали, подошло время, когда Билл Варнер обычно рассчитывался со своими арендаторами и должниками. Прежде он делал это сам, один, не позволяя даже Джоди помогать себе. На этот раз он уселся за конторку перед железным сейфом, и тут же, у его колена, Сноупс – на ящике с гвоздями, листает гроссбух. В подземельной тесноте помещения, увешанного по стенам полками с консервами и заваленного всяческой хозяйственной утварью, а теперь еще и набитого терпеливыми, пропахшими землей людьми, которым только бы дождаться, послушно и почти безропотно принять любую плату, которую Варнер начислит им за год работы, Варнер и Сноупс напоминали белого купца и его попугайски натасканного подручного из туземцев где-нибудь в африканской фактории.
К благам цивилизации подручный приобщался быстро. Никто не знал, сколько платит ему Варнер, знали только, что Варнер в жизни никогда денег на ветер не бросал. Однако человек, который пять месяцев назад ездил на работу восемь миль туда и восемь обратно на тягловом муле в облезлом, бросовом седле, таская за собой жестяной бидончик с холодной вареной репой и горохом, – этот человек теперь не только способен был, словно какой-нибудь коммивояжер, оплачивать койку с бельем и накрытый стол, но еще и одолжил кому-то из односельчан изрядную сумму денег (с каким обеспечением и под какие проценты, об этом молва умалчивает), а к концу страды, прежде чем последний хлопок был пропущен через очиститель, все уже знали, что в любой момент у него можно занять какую угодно сумму от двадцати пяти центов до десяти долларов, если заемщик не поскупится на проценты. Следующей весной Талл, пригнав в Джефферсон гурт скота для отправки по железной дороге, зашел проведать заболевшего Рэтлифа – у того обострилось застарелое воспаление желчного пузыря, и он лежал у себя, в собственном доме, в котором хозяйство вела его вдовая сестрица. Талл рассказал Рэтлифу о том, что большое стадо захудалых беспородных коровенок, зимовавшее на ферме, которую папаша Сноупс и на другой год продолжал арендовать у Билла Варнера, за то время, пока Рэтлифа возили в больницу в Мемфис, делали ему операцию и пока он лежал дома, мало-помалу вновь обретая интерес к происходящему вокруг него, – это самое стадо постепенно и неуклонно росло, а потом вдруг в одну ночь исчезло, и его исчезновение совпало с появлением стада толстеньких чистокровных герефордовских коров совсем на другом пастбище, совсем в другом месте – на ферме, которую Варнер держал для себя, никому в аренду не отдавая, словно одно стадо, оземь грянувшись, перенеслось и перевоплотилось в другое, полностью и без потерь, разве что видом стало попригляднее и явно ценой подороже, и только позже стало известно, что коровы эти попали на Варнерово пастбище при помощи изъятия залога по просроченной закладной, номинально принадлежавшей Джефферсонскому банку. Букрайт и Талл оба наведывались к Рэтлифу и оба об этом рассказали.
– Может, они все это время в сейфе хранились? – слабо отозвался Рэтлиф. – А что Билл говорит – чьи они?
– Говорит, что Сноупса, – ответил Талл. – Он говорит: «Спроси этого пройдоху, с которым Джоди якшается».
– Ну, и ты спросил?
– Букрайт спрашивал. А Сноупс говорит: «Они на пастбище Варнера». А Букрайт ему: «Но Билл говорит, что они твои». А Сноупс отвернулся, сплюнул и говорит: «Они на пастбище Варнера».
По болезни Рэтлиф и еще кое-чего не видел. Только слышал – донесся до него подержанный слушок, правда, к тому времени Рэтлиф уже шел на поправку и в силах был сам домыслить, разобраться, что к чему, с его-то жадным до новостей, цепким умом, пока сидел, обложенный подушками, в кресле у окна, задумчивый и непроницаемый, следил за приходом осени, вдыхая крепкий, пьянящий дух октябрьских полдней, и представлял себе, как однажды весенним утром – этой, второй весной – некто Хьюстон, сопровождаемый по пятам собакой – великолепным гончим псом, огромным, в голубоватых подпалинах, – подвел лошадь к кузнице и увидел там незнакомца, который, склонившись над горном, пытался развести огонь, плеская жидкостью из ржавой жестянки, – молодой, ладно скроенный, мускулистый парень, – вот он обернулся, обнаружив доверчивое спокойное лицо с низким, по самые брови заросшим лбом, и сказал:
– Здрасьте. Чего-то никак мне огонь не разжечь. Плесну керосином, а он еще хуже гаснет. Глядите. – Он снова приготовился плеснуть из банки.
– Постой, – сказал Хьюстон. – Это у тебя точно керосин?
– Она на полке, вон там стояла, – ответил тот. – Похоже, как раз керосин в таких банках держат. Немножко ржавенькая, но, опять же, в жизни не слыхивал, чтоб даже ржавенький керосин гореть отказывался. – Хьюстон подошел, взял у него жестянку и понюхал. Парень смотрел на него. Породистый гончак сидел в дверях и смотрел на них обоих. – Что, разве не керосином пахнет?
– Дерьмом, – сказал Хьюстон. Он поставил жестянку обратно на закопченную полочку над горном. – Ты вот что. Выкинь из горна всю эту дрянь. Все равно сызнова разжигать придется. Где Трамбл?
Трамбл – это был кузнец, который заправлял в кузне вот уже почти двадцать лет, вплоть до того утра.
– Не знаю, – сказал парень. – Когда я пришел, тут никого не было.
– А ты что тут делаешь? Это он тебя прислал?
– Не знаю, – ответил парень. – Меня мой двоюродный брат на работу взял. Сказал мне, чтобы я пришел с утра и развел огонь и до его прихода сам справлялся. Но этим керосином плеснешь…
– А кто этот твой двоюродный брат? – спросил Хьюстон.
В ту же секунду изможденная старая кляча подтащила разболтанно погромыхивающую двухместную коляску, одно из колес которой не разваливалось только благодаря примотанным проволокой двум скрещенным рейкам; казалось, только инерция вращения удерживает его в целости и, стоит ему остановиться, – оно тут же рассыплется грудой щепок. В коляске сидел другой незнакомец – одетый словно с чужого плеча, тщедушный человечек с пронырливым хорьим лицом, который остановил коляску, так заорав на лошадь, как будто их разделяло по меньшей мере кукурузное поле, вылез из коляски и вошел в кузницу, уже вовсю болтая.
– …утречко, доброе утречко, – говорил он, шныряя маленькими острыми глазками. – Лошадку подковать надумали? Правильно, правильно: коню подкова – лучшая обнова. Справный жеребчик. Тут, правда, по дороге мне такая лошадка попалась – куда вашему-то! Ну ничего, любишь меня, люби моего коня, которому в зубы не смотрят, а кабы ему, сивому, да черну гриву, так был бы буланый. В чем дело? – сказал он парню в фартуке. Вдруг замер, но, казалось, продолжал неистово суетиться, словно позиция и пространственная наполненность его одежды никоим образом не давали возможности судить о том, что делает в ней его тело, если вообще оно все еще было в ней. – Ты что, еще и огня не развел? А ну-ка…
Он ринулся к полке; казалось, он перенесся к ней, нисколько не усугубив впечатления неистовой суеты, и, прежде чем кто-либо успел пошевельнуться, уже снял жестянку, понюхал и приготовился выплеснуть ее содержимое в горн. В последний миг Хьюстон все же перехватил его руку, отобрал жестянку и вышвырнул ее за дверь.
– Не успел у одного эту свинячью мочу отобрать, тут же другой лезет, – проворчал Хьюстон. – Что тут, к дьяволу, происходит? Где Трамбл?
– А, так вы насчет того, который раньше тут был? – сказал вылезший из коляски. – Ему прекратили аренду. Оно конечно: старый волк знает толк, зато новая метла метет добела. Теперь эту кузницу арендую я. Моя фамилия Сноупс. А. О. Сноупс. А это мой двоюродный брат, тоже Сноупс. Эк Сноупс его зовут.
– Плевать мне на то, как его зовут, – нимало не успокоился Хьюстон. – Он лошадь-то хоть подковать может?
И снова пришлый обернулся к парню в фартуке, заорав на него, как только что орал на лошадь:
– Живо-живо! Давай разводи огонь!
Понаблюдав немного, Хьюстон сам взялся за дело, и огонь разгорелся.
– Ничего, насобачится, – сказал пришлый. – Всему свой черед. Руки у него откуда надо растут, хоть сноровки той, может, и нет еще, но это ж всякий бык теленком был. Взялся за гуж – полезай в кузов. Где хотенье, там и уменье. Вот увидите, через день-другой приноровится и подкует любую лошадь не хуже хоть Трамбла, хоть кого угодно.
– Я сам своего коня подкую, – сказал Хьюстон. – Пускай он мехами поддувает. На это небось сноровки много не надо.
Но едва лишь подкова зашипела в лохани, пришлый вновь ринулся вперед. Не только Хьюстона, но и себя самого, казалось, захватив врасплох, он с хорьей верткостью метнулся – причем одежда болталась на нем настолько независимо и отдельно, что поймать, смирить можно было только сюртук, тогда как тело в нем все равно добьется своего, навредит, напортит, и в тот же миг, когда намерение воплощалось, весь яростный клубок энергии мгновенно разматывался, – вклинился между Хьюстоном и приподнятым копытом, нахлобучил подкову, вторым ударом молотка загнал гвоздь в живую мякоть и тут же полетел, как был, с молотком в руке, в усадочную лохань, отброшенный рванувшимся конем, которого Хьюстон вдвоем с парнем в фартуке в конце концов оттеснили обратно в угол и держали, пока Хьюстон не выдрал гвоздь и не отшвырнул его вместе с подковой туда же, в угол, потом свирепо выволок коня вон, а пес поднялся и спокойно занял положенное ему место в нескольких шагах позади хозяина.
– А Биллу Варнеру можете передать, если его это заботит, во что я черта с два теперь поверю, – крикнул на прощанье Хьюстон, – что коня подковывать я поведу в Уайтлиф.
Кузница была как раз напротив лавки, через дорогу. На галерее уже сидели несколько человек, и они видели, как Хьюстон, сопровождаемый своим царственно-спокойным, огромным псом, уводил коня. И для того чтобы взглянуть на одного из незнакомцев, им даже дорогу переходить не пришлось, поскольку тот, что поменьше ростом и постарше – одетый в сюртук, который будет казаться на нем чужим даже в день, когда, по, окончательной ветхости, разлезется у него на плечах, – тотчас подошел к лавке, поводя пронырливым остреньким личиком с пронзительно горящими, бегающими глазами. Поднимаясь по ступенькам, он уже запросто здоровался с собравшимися. Не умолкая, вошел в лавку, где продолжал свою трескотню, быструю и бессмысленную, словно не наделенное разумом существо, неведомо о чем болтающее само с собой в пустой пещере. Снова показался в дверях, продолжая болтать:
– Ну, джентльмены, старому стариться, новому расти. Конкуренция – двигатель торговли, и хоть выше лба уши не растут, но уж все в свой срок: придет времечко, вырастет из семечка, ведь у нашего мальчонки дай Бог каждому ручонки. Конечно, старый волк знает толк, зато новая метла выметет добела, причем старого пса новым штукам не научишь, а уж новый, молодой, да коли взялся с головой… Век живи, век возись, была бы охота – заладится работа. Ну да ладно: день долог, да час дорог, бездельники да балагуры огурцом телку зарезали. Разрешите откланяться, джентльмены.
Спустился, залез в коляску, по-прежнему тараторя, то поучая того, второго, который был в кузне, то обращаясь к своей костлявой кляче, – и все одним духом, без малейшей заминки, по которой можно было бы судить о том, кому в данный момент его слова адресованы. Он отъехал, все общество на галерее проводило его глазами абсолютно невозмутимо. К концу того дня все побывали в кузне, один за другим переходили дорогу – полюбопытствовать, что там еще за незнакомец завелся, поглядеть на его спокойное, невыразительное, доверчивое лицо, казавшееся всего лишь подставкой для соломенной копны, венчавшей череп, безобидное, словно узор по краю ковра. Кто-то пригнал фургон со сломанной осью. Новый кузнец сумел-таки починить ее, хотя на это у него ушло почти все утро, причем работал он не прерываясь, но словно спал на ходу, будто все, что в нем было живого, витало в неведомых далях, поглощенное каким-то другим, более интересным занятием, тогда как работа, которую выполняли его руки, совершенно его не занимала, вкупе с деньгами, за нее причитавшимися; озабоченный, косолапый, неуклюжий, он словно топтался на месте, но дело в конце концов сделал. В тот же день к вечеру появился Трамбл, прежний кузнец. Но если кто из сидевших на галерее надеялся, что появление человека, который до вчерашнего вечера считал себя на службе у общины, окажется занятным зрелищем, то таких ждало разочарование. Вдвоем с женой он проехал по поселку в фургоне, груженном домашним скарбом. На свою осиротевшую кузню он если и оглянулся, то этого никто не заметил – суровый крепкий старикан и хороший мастер, к которому вплоть до того дня никто особо не присматривался. Уехал, и больше его никогда не видели.
Несколькими днями позже на галерее стало известно, что новый кузнец живет в одном доме со своим двоюродным братцем (или кем они там друг другу приходились – толком-то степень родства так и осталась невыясненной), с этим Флемом, и спали они вдвоем на одной кровати. Еще через шесть месяцев кузнец взял в жены одну из дочерей хозяина, у которого оба жили и столовались. А через десять месяцев после этого он уже покачивал детскую коляску (когда-то, а может, и все еще принадлежавшую Биллу Варнеру, как и седло братца), толкал ее перед собой по воскресеньям, расхаживая по поселку в сопровождении пяти– или шестилетнего мальчика, сына от прежней жены, и, хотя ни о ней, ни об этом его сыне никто в поселке раньше не знал, сам факт их существования свидетельствовал о наличии в его личной жизни – интимной во всяком случае – проворства и действенной мощи гораздо больших, чем проявлялось на поверхности той стороны его бытия, которую можно назвать общественной. Но все это обозначилось позже. Нынче же можно было понять только, что в поселке появился новый кузнец, человек работящий, покладистый и даже великодушный, правда, страдающий некоторой рассогласованностью движений, из-за которой всякий замысел или проект, в чем-либо выпирающий за тесные границы его возможностей, был обречен: все распадалось, теряясь в нагромождении мертвых кусков дерева, ржавых железок и косных инструментов.
Два месяца спустя Флем Сноупс выстроил в поселке новую кузницу. То есть он, естественно, нанял для этого строителей, но сам почти безотлучно наблюдал за постройкой, лично присматривая за работами. Мало того, что это было первым из его начинаний в самом поселке, когда его, Флема непосредственное участие в деле стало явным и заметным, но к тому же впервые он не только признавал себя движущим началом, но и положительно это утверждал, спокойно и без обиняков заявляя, что его затея служит единственно тому, чтобы людям снова было где пристойным образом ремонтировать свою справу. Он закупил через лавку по себестоимости совершенно новую оснастку и нанял молодого фермера, который в перерывах между севом и сбором урожая подрабатывал, бывало, у Трамбла подмастерьем. И месяца не прошло, а новая кузница уже обслуживала всех прежних клиентов Трамбла, зато спустя три месяца Сноупс ее продал – вместе с клиентурой, репутацией и новой оснасткой – Варнеру, взамен получив старое помещение со старыми инструментами, которые он продал утильщику, перевез новую оснастку в старую кузню, а новую продал какому-то фермеру под коровник, причем даже за перевозку наковален и горна ему не пришлось платить, и к новому кузнецу пристроил своего родственника подмастерьем – ход, после которого даже Рэтлиф сбился со счета прибылей Сноупса. «Ну что ж, об остальном нетрудно догадаться», – сказал себе Рэтлиф, сидя у солнечного окошка, бледный, но в общем-то вполне поправившийся. Он словно бы видел воочию: внутренность лавки, вечер, дверь заперта изнутри, на столе горит лампа, в кругу света голова непрестанно жующего приказчика, тогда как Джоди Варнер возвышается над ним и даже присесть не в состоянии; при этом в глазах у него уже гораздо больше понимания, чем прошлой осенью, а сам он, вздрагивая и поеживаясь, говорит дрожащим голосом: «Хочу прямо и откровенно тебя спросить, и ответ мне нужен тоже простой и ясный. Сколько еще терпеть? До каких пор это будет длиться? Во сколько же обойдется мне уберечь от пожара один несчастный сенной сарай?»
2
После болезни вид у него был еще не ахти, когда, поставив в ближнем проулке бричку, запряженную парой низкорослых кряжистых лошадок, разжиревших и залоснившихся после целого года праздности, и груженную очередной запертой в собачью конуру машинкой, он сидел за стойкой маленького окраинного ресторанчика, которым владел на паях с компаньоном, хотя и не участвуя в деле непосредственно, но половину прибылей получая, – сидит, в руке чашечка кофе, а в кармане контракт на продажу пятидесяти коз одному северянину, который недавно занялся устройством козьего ранчо в западной части округа. То есть не совсем так: это был субконтракт, перекупленный из расчета по двадцати пяти центов за козу у первоначального подрядчика, который от северянина должен был получить по семьдесят пять центов за козу, но чуть не загубил дело. Рэтлиф перекупил у него контракт, потому что прослышал о стаде из пятидесяти с лишним коз, обретавшемся в довольно глухом углу округа неподалеку от поселка Французова Балка; первоначальному подрядчику это стадо найти не удалось, а Рэтлиф знал, где оно, и был уверен, что козы достанутся ему, как только он предложит их владельцу на равных разделить с ним прибыль.
Предстояло ехать на Французову Балку, хотя когда именно, он не знал и сам: все было никак не собраться. На Французовой Балке он уже год как не был. Ожидаемая поездка радовала его не только предвкушением ловкой сделки – что само по себе куда важней банальной выгоды, – он чувствовал счастливое волнение главным образом оттого, что встал наконец с постели, что может ехать куда заблагорассудится – пусть чуточку превозмогая слабость, зато как все: впивая солнышко и свежий воздух, свободно двигаясь, и разговаривая, и заключая сделки, причем немалая толика удовольствия состояла в том, что никуда он еще не поехал, и ничто на свете не в силах заставить его выехать прежде, чем он сам того пожелает. Слабости он уже почти не чувствовал, а просто роскошествовал, упиваясь блаженной истомой выздоровления, в каковом состоянии время, спешка, часы, минуты, у которых здоровое тело в рабстве и во сне и наяву, текут для выздоравливающего словно вспять – время лживо и раболепно ластится, потворствуя телесным радостям вместо того, чтобы неумолимо тащить за собой тело, как упирающегося колодника. Так он и сидел, отощавший, в чистой синей рубашке, ставшей вдруг очень свободной в вороте, но выглядел уже совсем здоровым: лицо словно отмылось, посвежело, но все еще хранило следы ровного коричневого загара, и на мысль о смертельной бледности ничто не наводило, напротив, посвежевшая матовость кожи источала здоровье, подобно незаметному, не имеющему запаха лесному цветку, распустившемуся вдогон зиме, прямо среди тающего снега, – так и сидел, баюкая в тонкой руке чашечку кофе и рассказывая трем-четырем слушателям о том, как прошла операция, своим всегдашним умудренным, ироническим тоном, причем болезни не под силу оказалось изменить его голос, разве что сделать чуть глуше, и тут вошли еще двое. Это были Талл и Букрайт. Из заднего кармана комбинезона у Букрайта торчал хлыст, намотанный на рукоять.
– Здорово, ребята, – сказал Рэтлиф. – Что-то вы рано.
– В смысле поздно, – отозвался Букрайт. Вдвоем с Таллом они подошли к стойке.
– Вчера только к вечеру дотащились, пригнали скот к сегодняшней отправке, – сказал Талл. – Так ты, стало быть, был в Мемфисе. Пожалуй, я даже соскучился.
– Мы все соскучились, – подтвердил Букрайт. – Почти что год я от жены ни разу не услышал про чью-нибудь новую машинку. А что там этот, в Мемфисе, у тебя вырезал?
– Бумажник, – улыбнулся Рэтлиф. – Не иначе как только затем он меня и усыпил сперва.
– Он сперва усыпил тебя, чтобы ты тут же не продал ему швейную машинку или мешок зубьев для бороны, пока он еще до ножа не дотянулся, – подхватил Букрайт.
Подошел буфетчик и придвинул к ним на тарелочках хлеб и масло.
– Мне жареной говядины, – сказал Талл.
– А мне не надо, – поморщился Букрайт. – Два дня уже эта говядина навозная перед глазами. Всю дорогу ее то из кукурузы, то с огородов гоняешь. Мне принесите ветчины и яичницу из шести яиц.
Он жадно набросился на хлеб. Рэтлиф слегка развернулся на табурете к нему лицом.
– Скучали, говоришь? – сказал он. – А я-то думал, у вас там на Французовой Балке столько новых жителей прибавилось, что пропади хоть дюжина торговцев швейными машинками, никто и не заметит. Сколько еще родственников притащил за собой этот Флем Сноупс? Двоих? Или только троих?
– Четверых, – коротко бросил Букрайт с полным ртом.
– Четверых? – переспросил Рэтлиф. – Это что же – тот кузнец, ну, не кузнец, а так – который кузницу себе приспособил, чтобы в холодке посидеть, покуда не приспеет пора идти домой в очередной раз за стол садиться, как его – Эк, что ли? И еще один – этот подрядчик, бизнесмен этот, менеджер…
– Он на будущий год собирается в школе учить, – тихонько проронил Талл. – Так говорят, во всяком случае.
– Нет, нет, – отмахнулся Рэтлиф. – Я про этого, который из Сноупсов. Ну тот, второй. А. О. Его еще Джек Хьюстон в лохань с водой швырнул тогда в кузнице.
– А это он и есть, – сказал Талл. – Говорят, он на будущий год в школе учить будет. Тот учитель, что раньше был, вдруг ни с того ни с сего сразу после Рождества съехал. Должно быть, тебе об этом тоже еще не говорили.
Но Рэтлиф уже не слушал. Ему было не до учителя, который съехал. Он уставился на Талла, от неожиданности даже утратив на миг ироническую мину.
– Что? – выдохнул он. – Учить в школе? Вот тот? Тот Сноупс? Тот, который появился в кузне в день, когда Джек Хьюстон… Погоди, Одэм, – растерянно помаргивая, говорил он, – я, конечно, болел, но вряд ли стал от этого хуже слышать.
Букрайт не ответил. Со своим хлебом он уже покончил, повернулся и взял кусок с тарелки Талла.
– Ты все равно его не ешь, – сказал он. – Сейчас скажу, чтобы нам еще принесли.
– Вот черт, – сказал Рэтлиф. – Будь я проклят, я ведь как увидел его, сразу понял, что тут что-то не так. Вот оно в чем дело. Он просто не на том фоне мне попался – кузница какая-то, пахота опять же… Учитель! Как это я не сообразил! Нашел себе единственное место на всем белом свете – а уж на Французовой Балке и подавно, где он не только может сыпать этими своими присловьями без передыху целый божий день, но еще и деньги за это получать. Вот черт, – повторил Рэтлиф. – Стало быть, Билл Варнер и это проворонил. Флем сожрал лавку, сожрал кузницу, а теперь и за школу принимается. Осталось только в дом к Варнеру забраться. Потом-то он, естественно, за вас примется, но с домом дядюшки Билла придется ему повозиться, потому что Билла…
– Ха! – кратко выдохнул Букрайт. Ломоть, взятый с тарелки Талла, он съел и снова позвал буфетчика: – Послушайте! Мне бы пирога кусок, пока ждать приходится.
– Какого пирога, мистер Букрайт? – спросил буфетчик.
– Какого-какого… съедобного, – ворчливо отозвался Букрайт.
– …потому что Билла из собственного дома выжить – поди попробуй, – продолжил Рэтлиф. – Тут он может крепко упереться. Так что смотрите, не пришлось бы Флему за вас за всех приняться раньше, чем у него намечено.
– Ха! – снова сказал Букрайт, неожиданно и жестко. Буфетчик придвинул к нему пирог. Рэтлиф поглядел на Букрайта.
– Не понял, – сказал Рэтлиф. – Что значит «ха»?
Букрайт сидел, держа на ладони у самого рта клин пирога. Повернул к Рэтлифу сведенное злостью, темное лицо.
– Как-то с неделю назад сижу я около кучи отходов у Квика на лесопилке. А его кочегар с еще одним черномазым перекидывают обрезки к бойлеру, к топке поближе. Ну, и болтают промеж собой. Кочегару нужно было где-то денег занять, а Квик, мол, не дает. «Иди к мистеру Сноупсу в лавку, – другой говорит. – Он одолжит тебе. Он мне уже два года как одолжил пять долларов, и с той поры всего и делов, что каждую субботу платить ему по десять центов. А про те пять долларов он и не заикается». – Тут Букрайт отвернулся и откусил пирога, чуть ли не половину сразу. Рэтлиф наблюдал за ним чуточку насмешливо, почти с улыбкой.
– Так-так-так, – сказал он. – Стало быть, он враз с вершка и с корешка покусывать взялся. В таком раскладе он, может, еще и не враз до белых людей доберется, которые вроде тебя – посередке.
Букрайт отхватил еще изрядный кус пирога. Буфетчик принес заказанную им и Таллом еду, и Букрайт запихал остатки пирога в рот. Талл принялся превращать свою говядину в мелкое крошево, словно собираясь кормить ребенка. Рэтлиф смотрел на них.
– А вы что же, так и сидите сложа руки? – сказал он.
– А чего зря ими размахивать? – хмыкнул Талл. – Все это не дело, конечно. Да ведь нам-то что.
– Ну, я бы, пожалуй, придумал что-нибудь, если бы сам у вас жил, – сказал Рэтлиф.
– Ага, – проворчал Букрайт. С ветчиной он расправлялся так же, как только что с пирогом. – И кончилось бы тем, что у тебя вместо твоей брички с лошадьми остался бы один галстук бабочкой. Цепляй на любое место.
– Да уж, – согласился Рэтлиф. – Может, ты и прав. – Он отвел взгляд от собеседника и взялся за ложечку, но тут же снова опустил ее. – Чего-то не пойму, сквозняки, что ли, чашку студят? – сказал он буфетчику. – Может, подогреешь немножко? А то еще замерзнет да лопнет, а мне потом за чашку тоже плати!
Буфетчик выплеснул из чашки гущу, налил горячего кофе и придвинул Рэтлифу. Тот бережно всыпал в нее ложечкой сахар, все еще храня то неопределенное выражение лица, которое можно назвать улыбкой за неимением более точного слова. Букрайт сделал из своей яичницы невероятную кашу и с хлюпаньем поедал ее ложкой. Оба они с Таллом ели торопливо, но Талл ухитрялся проделывать это со строгим и чопорным видом. Молча подчистили все с тарелок, встали, подошли к коробке из-под сигар и расплатились.
– Или теннисные тапочки, – добавил вдруг Букрайт. – Он-то их уже год как не надевает. Нет, – сказал он. – На твоем месте я, прежде чем отправляться туда, разделся бы догола. Чтоб не так холодом шибануло на обратном пути.
– Да уж, – послушно сказал Рэтлиф.
Когда они ушли, он вновь принялся за свой кофе, неспешно потягивая его и сразу трем или четырем слушателям досказывая про свою операцию. Потом он тоже встал, педантично расплатился за кофе и надел пальто. Стоял март, но врач велел ему с пальто пока не расставаться, и вот теперь он приостановился в проулке рядом со своей бричкой и низкорослыми крепкими лошадками, разжиревшими от праздности и лоснящимися новой весенней шерстью, – стоял и молча смотрел на ящик типа собачьей будки, со стен которого из-под облупившегося, размалеванного вялыми и опадающими, немыслимыми розанами бордюрчика смотрели на него зазывно улыбающиеся, поощрительно и безглазо манящие женские лица. Да, пора в этом году подкрасить; не забыть бы только.
«Это должно быть что-нибудь такое, что спалить можно, – подумал он. – И такое, что записано на его имя, чтоб все знали: имущество Флема. Да, – думал он, – если бы меня звали Билл Варнер, а моего компаньона Флем Сноупс, наверное, я позаботился бы о том, чтобы часть совместного имущества, по крайности та, что первой пострадает от пожара, была бы записана на его имя». Рэтлиф двинулся дальше, как следует застегнувшись. На всей улице единственный человек в пальто. Ну да ничего, на солнышке болезнь проходит быстро; должно быть, по возвращении в город пальто уже не понадобится. А вскорости и свитер, что под пальто, тоже снять можно будет: май, июнь… лето, долгие дни ласкового тепла. Он пошел дальше, совсем прежний, неизменившийся, разве что осунулся да побледнел немного, и дважды останавливался, чтобы сообщить двум встреченным знакомым, что да, да, чувствую себя хорошо, этот мемфисский врач – не знаю уж, случайно или намеренно, но вырезал он, должно быть, то, что следовало, – потом пересек площадь, на которую – мраморный, мрачный – исподлобья глядел солдат Конфедерации, поднялся на крыльцо здания суда и прямиком в контору финансового управления, где и нашел искомое: две сотни акров земли с постройками, записанные на имя Флема Сноупса.
К исходу дня он сидел в неподвижно застывшей бричке на узкой малопроезжей дороге между холмами, вглядываясь в фамилию на почтовом ящике. Столб, на котором висел ящик, был новенький, а ящик – нет. Исцарапанный и помятый, он был когда-то расплющен (должно быть, тележным колесом), а после снова выправлен, зато корявая надпись, обозначавшая имя владельца, была намалевана чуть ли не вчера. Она словно кричала – одними заглавными – МИНКСНОУПС, разлапистая, в потеках краски, без промежутка между словами, дугой заползающая кверху, через край, на крышку ящика, чтобы втиснулись последние буквы. У ящика Рэтлиф свернул – теперь на глубокую колею, которая вела к бесхребетно рассевшейся двухкомнатной лачуге – из тех, что без числа, затерянные в холмах, попадались ему на путях его странствий. Хижина была построена на пригорке; чуть ниже располагался замусоренный, устланный втоптанным в грязь навозом загончик и хлев, так покосившийся на склоне, что, казалось, дунешь на него – и завалится. Из хлева как раз выходил человек с подойником, и в тот же миг Рэтлиф почувствовал, что из дома за ним наблюдают, хотя никого видно не было. Он придержал лошадей. Слезать не стал.
– Добрый день, – сказал он. – Вы мистер Сноупс? Машинку вот привез вам.
– Чего привезли? – удивился вышедший из хлева. Он вошел в калитку и поставил подойник на приступку покосившегося крыльца. Роста он тоже был чуть ниже среднего, правда, тощий, со сросшимися густыми бровями. «Но глаза те же, – подумал Рэтлиф.
– Вашу швейную машинку, – добродушно пояснил он. Тут краешком глаза он увидел появившуюся на крыльце женщину – ширококостную, с жестким лицом и немыслимо желтыми волосами; она вышла легко и проворно, с изяществом, неожиданным даже при том, что женщина была босая. Из-за ее спины выглядывали двое белобрысых ребятишек. Но Рэтлиф на нее не взглянул. Смотрел за мужчиной, сохраняя мину учтивой предупредительности и добродушия.
– Что-что? – вмешалась женщина. – Швейную машинку?
– Нет! – сказал мужчина. Он тоже не смотрел в ее сторону. Направился к бричке. – Домой, домой ступай! – Женщина не обращала на него внимания. Она сошла с крыльца, причем быстрота и соразмеренность ее движений при ее росте казались странными. Она уставилась на Рэтлифа светлыми злыми глазами.
– Кто вас просил везти ее сюда? – спросила она. Теперь Рэтлиф смотрел на нее, все так же учтиво, добродушно.
– Неужто ошибка вышла? – проговорил он. – Еще в Джефферсоне я получил заказ – из Французовой Балки. Сказано: Сноупс. Я так понял, что это вы, поскольку, если бы ваш… двоюродный братец, да? – Из хозяев никто не проронил ни слова, молча глазели на него. – Флем. Если бы машинка понадобилась Флему, он бы дождался, пока я к нему в поселок заеду. Знает ведь, что я как раз завтра туда собираюсь. Да, надо было проверить. – Женщина засмеялась хрипло, невесело.
– К нему, к нему везите. Если Флем Сноупс что-нибудь заказал, что угодно, да коль оно больше пяти центов стоит, так уж не для того, чтобы псу под хвост отправить. А тем более отдать родичам. Везите ее в поселок.
– Говорят – ступай в дом, – повысил голос мужчина. – Давай-давай! – Женщина не повернула головы. Она упрямо длила свой хриплый смех, глядя в упор на Рэтлифа.
– Этот отдаст, как же! – повторила она. – Не на того напали! Недаром у него скота сотня голов, коровник свой и луг коровам для прокорму.
Мужчина повернулся и пошел на нее. Она стала к нему лицом и завопила, а дети спокойно смотрели на Рэтлифа, выглядывая из-за ее юбок, словно они глухие или пребывают в каком-то ином мире – не в том, в котором эта женщина вопила; смотрели, будто две собачонки.
– Что, скажешь, не так? – надрывалась она. – Тут сгниешь у него на глазах, подохнешь, а ему начхать, сам знаешь! Этот твой родственничек, которым ты так гордишься, потому что он работает в лавке и целый божий день в галстуке щеголяет! Ну-ка попроси у него хотя бы мешок муки – поглядим, что из этого выйдет. Ну-ка, попроси его! Может, он даст тебе свой старый галстук – чтобы ты тоже стал похож на Сноупса!
Мужчина упорно шел на нее. Он больше даже не говорил ничего. В сравнении с ней казавшийся тщедушным, он неумолимо шел на нее, шел как-то странно, избочившись, глядя внимательно, едва ли не с почтением, и она сдалась: круто повернувшись, пошла назад к дому, подталкивая перед собой жмущихся к ней ребятишек, которые продолжали, выворачивая шеи, оглядываться на Рэтлифа. Мужчина подошел к бричке.
– Говоришь, заказ прислал Флем? – проговорил он.
– Я сказал, что заказ с Французовой Балки, – ответил Рэтлиф. – А доставить велено Сноупсу.
– И кто же это такой шустрый у Сноупса на побегушках?
– Да так, приятель один, – добродушно ответил Рэтлиф. – Наверное, он ошибся. Вы уж извините. Эта колея на дорогу к Уайтлифскому мосту меня выведет?
– Если Флем просил оставить ее здесь, ну так здесь и оставьте.
– Я ж говорю, видать, ошибка вышла, прошу прощения, – сказал Рэтлиф. – Так по этой колее…
– Понятно, – сказал тот, второй. – Хотите сказать, что надо вперед задаток выложить. Сколько?
– В смысле за машинку?
– А о чем мы еще, интересно, толкуем?
– Десять долларов, – сказал Рэтлиф. – И расписку еще на двадцать через шесть месяцев. Это как раз будет после уборочной.
– Десять долларов? При том, что вам передали слово от…
– Давайте слова сейчас трогать не будем, – сказал Рэтлиф. – Поговорим о швейной машинке.
– А если пять?
– Нет, – добродушно сказал Рэтлиф.
– Ну ладно, – сказал тот, другой, отворачиваясь. – Составляйте расписку. – Он зашагал к дому.
Рэтлиф слез, обошел сзади бричку, отпер дверцу собачьей конуры и вытащил из-под новенькой машинки железный ящик. В нем хранилась ручка с пером, аккуратно заткнутая бутылочка чернил и стопка бланков. Пока он заполнял бланк, Сноупс вернулся, вдруг как из-под земли вырос рядом. Едва перо Рэтлифа остановилось, Сноупс придвинул к себе бланк, взял из рук Рэтлифа ручку, обмакнул перо и расписался – все одним махом, даже не прочитав, и сунул расписку назад Рэтлифу, вынув что-то из кармана, но Рэтлиф еще не видел – что, поскольку смотрел только на подписанный бланк, и лицо его сохраняло безмятежность. Он спокойно сказал:
– Как это – вы за Флема Сноупса подписались?
– Ну да, – ответил тот. – А что? – Рэтлиф молча смотрел на него. – А, понимаю. Вам надо, чтобы мое имя тоже было – вдруг кто-нибудь из нас отпираться вздумает. Ладно. – Он взял бланк, снова что-то написал на нем и снова отдал. – А вот вам ваши десять долларов. Теперь подсобите-ка мне с машинкой.
Но Рэтлиф и тут не пошевелился: то, что ему дали, – это были не деньги, а еще одна бумажка, в несколько раз сложенная, помятая и засаленная. Открыл; оказалась опять долговая расписка. На сумму десять долларов плюс проценты – чуть более чем трехлетней давности, выплата Айзеку Сноупсу или предъявителю по требованию, но не ранее чем через год после оформления, подпись – Флем Сноупс. Передаточная надпись на обороте, сделанная той же рукой, которая минуту назад нацарапала два имени на первой расписке (почерк Рэтлиф узнал сразу), подтверждала переход документа от Айзека Сноупса («+» за неграмотностью) Минку Сноупсу, а пониже, все той же рукой – свежая, подсушенная только что, может, промокашкой, а вернее всего, просто ветерком: от Минка Сноупса В. К. Рэтлифу; всю эту писанину Рэтлиф молча и внимательно изучал почти минуту.
– Все в порядке, – сказал тот, другой. – Мы с Флемом его двоюродные братья. Наша бабка завещала всем троим по десять долларов. Получить их мы должны были, когда самому младшему из нас – ему, стало быть, – стукнет двадцать один год. Флему понадобились деньги, и он занял их у Айзека вот под эту расписку. Потом – это недавно уже было – тому деньги самому понадобились, и я выкупил у него Флемову расписку. Теперь, если хотите что-нибудь уточнить – его цвет глаз или еще что, – можете сделать это лично, когда будете на Французовой Балке. Они там живут с Флемом вместе.
– Понятно, – сказал Рэтлиф. – Айзек Сноупс. И что, говорите, ему двадцать один есть уже?
– А если б не было, как бы он получил те десять долларов, которые одолжил Флему?
– Да уж, – отозвался Рэтлиф. – Только ведь это все-таки не наличные десять долларов…
– Послушайте, – сказал тот, другой. – Не знаю, к чему вы клоните, и знать не хочу. Но я дурачу вас не больше, чем вы меня. Если бы вы сомневались, что Флем оплатит первую расписку, вы бы ее не приняли. А если вы за ту первую расписку не опасаетесь, чего бы вам бояться этой – и сумма меньше, да и за ту же машинку, причем деньги по ней можно стребовать вот уже целых два года. Берите расписки и езжайте туда к нему. Отдайте ему, да и все тут. И еще передайте кое-что на словах. Скажите так: «От одного родича, который, чтобы не протянуть ноги, до сих пор в грязи копается, другому родичу, который из грязи вылез и хапнул сразу стадо коров и сенной сарай. Хапнул стадо коров и сенной сарай». Так ему и скажите. Лучше, если вы будете повторять это всю дорогу, чтобы уж точно не забыть.
– Не забуду, не бойтесь, – сказал Рэтлиф. – Ну, так эта колея выведет меня к Уайтлифскому мосту?
Ночь проведя у своих родственников (он сам был из этих мест), до Французовой Балки он добрался на следующий вечер, лошадок выпустил в загон к миссис Литтлджон, а сам пошел к лавке, где вся компания, которую он год назад, уезжая, оставил там, сидела на галерее – все те же, включая Букрайта.
– Ну что, ребята, – проронил Рэтлиф. – Я смотрю, все как положено, полный сбор.
– Букрайт говорит, будто этот, в Мемфисе, ежели чего у тебя и вырезал, так разве что бумажник, – сказал один. – Неудивительно, что только через год ты в себя пришел. Странно только, как ты потом-то в ящик не сыграл, когда за карман себя хвать, а там пусто.
– Ну, тут-то как раз я и ожил, – усмехнулся Рэтлиф. – Иначе до сих пор бы валялся.
Он вошел в лавку. Покупателей не было, и он медлить не стал, не подождал даже, пока освоятся в сумраке по-дневному суженные зрачки. Пошел сразу же к прилавку, вежливо приговаривая:
– Привет, Джоди. Привет, Флем. Не беспокойтесь, я сам, я сам.
Варнер, стоявший рядом с конторкой, за которой сидел приказчик, поднял глаза.
– Ого, поправился, – проговорил он.
– Некогда валяться, – сказал Рэтлиф, заходя за прилавок и открывая единственную застекленную витрину, где в беспорядке лежали шнурки, расчески, пачки табака, коробочки с лекарствами и дешевые сласти. – Может, оттого и поправился. – Он принялся выбирать леденцы в веселеньких полосатых обертках, придирчиво разглядывая, отвергая и снова роясь. В глубь лавки, где сидел, не поднимая глаз от конторки, приказчик, он даже и не взглянул ни разу. – А что дядюшка Бен Квик, не знаете – дома, нет?
– Да где ж ему еще-то быть? – удивился Варнер. – А только, если мне память не изменяет, машинку ты ему уже продал года два-три назад.
– Еще бы! – усмехнулся Рэтлиф, откладывая в сторону очередной леденец и вынимая из витрины другой. – Потому-то я и хочу, чтобы он был дома: чтобы близкие его в чувство привели, когда он упадет в обморок. На сей раз сам хочу у него кое-что купить.
– Чем он, к дьяволу, таким разжился, чтобы ради этого тебе не лень было в такую даль тащиться?
– Козой, – отозвался Рэтлиф. Теперь он пересчитывал леденцы, складывая их в кулек.
– Чем-чем?
– Еще бы! – продолжал веселиться Рэтлиф. – Ни в жисть не подумал бы, а? Так ведь больше-то ни у нас в Йокнапатофском, ни в округе Гренье ни у кого живой козы днем с огнем не сыщешь. Только у дядюшки Бена.
– Подумать не подумал бы, – сказал Джоди. – Но вообще-то непонятно, куда тебе коза?
– Куда мне коза? – проговорил Рэтлиф. Он подошел к сырному ящику и положил монетку в коробку из-под сигар. – В фургон запрягать. Как ваши-то все – дядюшка Билл, миссис Мэгги, здоровы ли?
– А! – поморщился Варнер. Отвернулся к конторке. Но Рэтлиф этого уже не видел: двигался дальше. Вернулся на галерею, всех оделяя конфетами.
– Доктор прописал, – пояснил он. – Видать, теперь мне снова пришлет счет, гони, мол, десять центов за совет на пять центов конфеток покушать. Да я, в общем, не против. А вот то, что он мне прописал сиднем сидеть, – это я очень даже против. – Лукаво и добродушно он оглядел сидевших на скамейке. Скамья, прибитая к стене рядом с дверью, прямо под окном, в длину была чуть больше, чем окно в ширину. Спустя секунду сидевший на краю скамьи встал.
– Ладно уж, – сказал он. – Садись давай. Болел ты или нет, все равно ведь будешь теперь полгода из себя немощного корчить.
– Должен же я хоть чем-то возместить эти семьдесят пять долларов, которые на лечение ухнули, – сказал Рэтлиф. – Хоть всеобщим уважением, что ли. А только вот зря это вы норовите меня на сквозняк усадить. Ну-ка, ребята, подвиньтесь чуток, дайте я в середку сяду.
Задвигались, освободили ему место в середине скамьи. Теперь он оказался прямо под открытым окном. Вынул из своего кулька леденец и принялся сосать его, заговорив вдруг нарочито тонким, жалобным голосом недавнего больного:
– Ох, и не говорите! Все бы так и лежал и лежал в постели, кабы не обнаружил, что бумажник исчез. Но вот когда я встал, тут только, по правде говоря, и испугался. Вот, говорю себе, валяюсь тут целый год брюхом кверху, а какой-нибудь пройдоха небось вовсю шурует – не только что Французову Балку, весь, поди, Йокнапатофский округ наполнил новенькими швейными машинками. Но Господь не выдаст – свинья не съест; едва я выкарабкался, как Всевышний – или, может, еще кто – ниспослал мне овна, прямо как Аврааму в Библии[69], во спасение Исаака. Вернее сказать, ниспослал он мне козовода.
– Кого? – переспросил кто-то.
– Козовода. Или козловода. Вы-то, видать, никогда и не слыхали о козловодах. Потому как в тутошних местах никто до этакого не додумался. И верно: без северянина не обошлось. Затесался один, а ему все это взбрело в голову еще где-то там – в Массачусетсе, или в Бостоне, или в Огайо, и вот явился аж в самый штат Миссисипи, а денег полный саквояж, купил себе две тысячи акров пустоши в пятнадцати милях к западу от Джефферсона – отборная, скажу я вам, землица, вся вверх тормашками, овраги да колючки, умудриться надо было такую выискать, – обнес ее десятифутовым забором, щелки не сыщешь, что твоя плотина, – и только это приготовился всем на удивление разбогатеть, как вдруг – бац! – коз ему не хватило.
– Вот трепло! – восхищенно сказал еще кто-то. – Где это видано, чтобы кому-нибудь не хватило коз!
– Кроме того, – неожиданно сердито вмешался Букрайт, – если хочешь, чтобы тебя и в кузнице было слышно, так проще нам всем просто встать да и перейти туда.
– Да уж, – протянул Рэтлиф. – Где вам понять, как славно глотку поразмять на просторе, – вы ж не лежали брюхом кверху в четырех стенах, где каждый, кому надоело тебя слушать, может встать и уйти, а ты за ним следом пойти не можешь. – Тем не менее он взял тоном ниже, неспешно продолжая высоким, внятным, насмешливым говорком: – В общем, ему не хватило. Не надо забывать, что он северянин. У них все не как у людей. В наших местах если кто-то вдруг надумает устроить козье ранчо, так это по единственной причине – что у него уже и так коз развелось видимо-невидимо. Просто провозгласит свою хибару, или свой огород, или свою спальню – словом, откуда ему там козлов никак не выгнать, – провозгласит все это козьим ранчо, и дело с концом. Но северянин – нет! Ежели он что-нибудь затеял, у него на это уже синдикат организован, все в книжечке пропечатано – все правила, честь по чести, и грамота на руках, с золотым тиснением, от нотариуса из Джексона, чтобы все, значит, понимали, дескать, так и так, у подателя сего в наличии двадцать тысяч коз, или сколько их у него – в общем, что козы – это козы. Никогда он ни с коз не начнет, ни с земли под ферму. Он начнет с листка бумаги и карандаша, сперва подобьет бабки в кабинете – столько-то коз на столько-то акров земли и такой-то длины надо загородку, чтобы не разбегались. Потом напишет в Джексон и получит себе грамоту, что разрешили ему иметь столько-то земли, и изгороди, и коз, и сперва купит землю, чтобы было что огораживать, обнесет землю изгородью, дабы если кто туда попался, то уж не сбежал бы, а потом только идет покупать то, ради чего огород городил. Так что сначала все шло как по писаному. Выбрал себе землицу, на которой сам Господь Бог вовек не додумался бы козье ранчо устраивать, прикупить ее безо всяких препон всего и делов-то – найти хозяев земли да втолковать им, что за нее и впрямь хотят отдать настоящие доллары, а уж изгородь и вовсе, можно сказать, сама собой выросла, потому как от него требовалось только сидеть посередке и денежки выкладывать. И тут выясняется, что ему только коз и не хватает. Прочесал всю округу вдоль и поперек и сверху донизу, собирая поголовье коз, которое в патенте обозначено, а иначе бы собственная грамота его во лжи уличила. А вот дудки! Как ни бился, все равно остается лишней изгороди как раз на полсотни коз. Выходит, это у него уже не на козье ранчо смахивает, а на чистое банкротство. Вынь да положь, стало быть, полсотни коз, а не то гони назад грамоту! Вот он и попался – из такой дали припереть, это надо же: Бостон! Штат Мэн![70] – и оплатить две тысячи акров земли и сорок четыре тысячи футов на ней забора, а теперь это злополучное вперед-приятие все к чертям собачьим из-за какого-то несчастного козьего выводка дядюшки Бена Квика, поскольку больше-то ни одного козла от Джексона и до границы с Теннесси нет как нет.
– А ты будто знаешь! – усомнился тот, первый.
– А кабы не знал, так неужто притащился бы в этакую даль, едва из постели поднявшись? – осадил его Рэтлиф.
– Ну так и полезай тогда без разговоров в бричку, чтоб, не ровен час, промашки не получилось, – сказал Букрайт. Он сидел, прислонясь к одному из столбиков галереи, лицом к окну, которое было за спиной у Рэтлифа. Рэтлиф мельком глянул на Букрайта, учтивый и загадочный под постоянной маской легкой насмешки.
– Да уж, – сказал он. – Ведь не первый день у него эти козы живут. Что ж, он, видать, еще месяцев шесть будет мной командовать: то делать не моги, а это делай непременно, не говоря уже о том, что за каждый совет счета приходят, – продолжал он, меняя тему непринужденно, но так основательно, словно – как с запозданием дошло до собравшихся – вдруг поднял над собою табличку с красной надписью «Молчим!» и бросил лениво-вежливый взгляд вверх, на вышедших из лавки Варнера и Сноупса. Сноупс молчал. Он пересек галерею и спустился с крыльца. Варнер запер дверь. – Не рановато закрываетесь, Джоди? – окликнул его Рэтлиф.
– Смотря что по-вашему «поздно», – грубовато отозвался Варнер. Последовал за приказчиком.
– А что, пора ужинать? – встрепенулся Рэтлиф.
– На твоем месте я быстренько пошел поел бы да и отправлялся закупать этих коз, – посоветовал Букрайт.
– Да уж, – сказал Рэтлиф. – А вдруг у дядюшки Бена завтра их еще пяток прибавится? Охохонюшки… – Он встал и застегнул пальто.
– Сперва иди закупи коз, – не унимался Букрайт. Снова Рэтлиф оглядел его, вежливый, непроницаемый. Посмотрел на остальных собравшихся. На Рэтлифа никто не глядел.
– Пожалуй, это подождет, – сказал он. – Из вас, ребята, кто-нибудь идет ужинать к миссис Литтлджон? – Потом проговорил изумленно: – Что это? – И все сразу поняли, что его поразило: с виду взрослый человек, но босой и в куцем выцветшем комбинезончике, под стать разве что четырнадцатилетнему мальчишке, шел по дороге мимо, волоча за собой на веревке деревянную чурку с двумя жестянками из-под нюхательного табака, прикрепленными к ней сверху, и в полном самозабвении глядел через плечо на пыль, которую эта чурка вздымала. Пройдя под галереей, он поднял голову; тут и лицо его предстало Рэтлифу: тусклые глаза, казавшиеся вовсе незрячими, слюняво раззявленный рот, окруженный пушком пробивающейся рыжеватой бородки.
– Этот тоже ихний, – сказал Букрайт все тем же резким, отрывистым тоном.
Рэтлиф во все глаза смотрел на это существо (штанины на толстых ляжках готовы лопнуть, лицо, повернутое через плечо назад, то и дело искажается немыслимыми гримасами, взгляд устремлен на волочащуюся чурку).
– А нам еще говорят, будто все мы по образу и подобию Божьему созданы, – сказал Рэтлиф.
– Да ведь, судя по тому, что вокруг творится, может, он-то как раз по подобию и создан, – вздохнул Букрайт.
– Не знаю, вряд ли я в это поверил бы, хоть бы и знал, что так оно и есть, – сказал Рэтлиф. – Говоришь, взял да и появился тут откуда ни возьмись?
– А что? – проронил Букрайт. – Не он первый.
– Да уж, – буркнул Рэтлиф. – Где-то ведь надо ему обретаться.
Существо, достигнув дома миссис Литтлджон, свернуло в ворота.
– Спит у нее в хлеву, – сказал кто-то еще. – Она его кормит. К работе приспособила. Кое-как умудряется с ним объясняться.
– Что ж, стало быть, хоть она создана по подобию Божьему, – сказал Рэтлиф. Обернулся; в руке по-прежнему зажат обсосанный леденец. Рэтлиф сунул его в рот и вытер пальцы о полу пальто. – Ну, так как насчет ужина?
– Езжай, закупай своих коз, – сказал Букрайт. – Еда подождет.
– Завтра, – отмахнулся Рэтлиф. – Может, у дядюшки Бена к тому времени их еще с полсотни прибавится. – «А может, и послезавтра, – подумал он, шагая на бронзовый зов возвещавшего ужин колокольчика миссис Литтлджон, разносившийся в хмельном холодке мартовского вечера. – Так что времени у него вдосталь. Пожалуй, я все как следует преподнес. Взял в расчет не только то, что он, на мой взгляд, обо мне знает, но и то, что, по его мнению, о нем знаю я, с учетом кое-какой неполноты моих сведений – все-таки целый год проболел, приотстал от науки и практики надувательства. Но Букрайт клюнул. Чуть наизнанку не вывернулся, лишь бы предостеречь меня. Пошел на все, что может и даже чего не может позволить себе один человек в делах другого».
В результате наутро он не только не поехал проведать владельца коз, но отправился за шесть миль в противоположную сторону и потратил целый день, пытаясь продать швейную машинку, которой даже не было у него с собой. Там же и переночевал, а до поселка добрался в самый разгар следующего утра, остановил бричку перед лавкой и привязал лошадок к тому же столбу, к которому был привязан чалый конь Джоди Варнера. «Ага, значит, он теперь и коня заграбастал, – подумал Рэтлиф. – Так-так-так». С брички слезать не стал.
– Ребята, кто-нибудь из вас не вынесет мне конфет, центов на пять? – крикнул он. – Не пришлось бы к дядюшке Бену через внучат подход искать.
Один из сидящих на галерее вошел в лавку и вынес ему конфеты.
– Вернусь к обеду, – пообещал Рэтлиф. – К тому времени с меня будет чего срезать еще одному нищему удальцу со скальпелем.
Путь его был недалек: чуть меньше мили до моста через реку и чуть больше мили после. Подъехал к аккуратному, ухоженному домику с большим хлевом и пастбищем позади него; увидел коз. Кряжистый старик, сидевший в одних носках на веранде, заорал:
– Здорово, В. К.! Вы что там все, у Билла Варнера, спятили, что ли, к дьяволу?
Рэтлиф, не слезая с брички:
– Ага, так, значит, он меня обставил.
– Пятьдесят коз! – орал старец. – Мне доводилось слышать, что иногда приплачивают центов по десять тому, кто сведет со двора двух-трех коз, но в жизни не слыхивал, чтобы их покупали, да еще по пять десятков.
– Он парень ушлый, – отозвался Рэтлиф. – Ежели купил чего-нибудь пять десятков, стало быть, знал, что столько ему и понадобится.
– Уж куда как ушлый. Но полсотни коз! Адово семя! У меня их и еще чуток осталось, хватит набить битком какой-нибудь курятник. Тебе что – тоже надо?
– Нет, – ответил Рэтлиф. – Нужны были только первые пятьдесят.
– А то я даром отдам. И даже приплачу четверть доллара, лишь бы освободил у меня пастбище от тех, что остались.
– Спасибо, – сказал Рэтлиф. – Придется отнести это за счет расходов на развлечения.
– Пятьдесят коз! – не унимался тот. – Оставайся, обедом накормлю.
– Спасибо, – отозвался Рэтлиф. – Похоже, на кормежку у меня ушло и так чересчур много времени. Во всяком случае, на сидение сиднем.
С тем он повернул назад, в поселок – сперва длинная миля, потом короткая, и крепкие, приземистые лошадки топотали совершенно расхлябанной, но резвой побежкой. Чалый верховой конь все еще стоял перед лавкой, люди все еще сидели на галерее, но Рэтлиф не остановился. Добрался до гостиницы, привязал лошадок к забору, вошел и сел на веранде, откуда была видна лавка. Из кухни уже доносились дразнящие запахи стряпни, и вскоре собравшиеся на галерее начали вставать и разбредаться (время к обеду), однако оседланный чалый все еще стоял. «Да, – думал Рэтлиф, – обошел он Джоди. Если чужак отобрал у тебя жену, все, что ты можешь сделать, чтобы унять обиду, это пристрелить его. Но – коня!..»
Позади раздался голос миссис Литтлджон:
– Я и не знала, что вы вернулись. И что же – будете обедать, нет?
– Да, мэм, – отозвался он. – Но сначала хочу наведаться в лавку. Одна нога тут, другая там.
Хозяйка вернулась в дом.
Он вынул из бумажника две расписки и, положив отдельно – одну во внутренний карман пальто, другую в нагрудный кармашек рубашки, – двинулся по дороге сквозь мартовский полдень, попирая полегшую пыль, вдыхая бездыханную, словно зависшую на солнечном луче полуденную неподвижность, поднялся по ступеням и пересек заплеванную табаком и исковырянную ножами опустевшую галерею. Лавка, точнее, внутренность ее, была похожа на пещеру: тьма и прохлада, запахи сыров и кож; глазам потребовалось добрых полминуты, чтобы приспособиться. Затем проявилась белая рубаха, серая кепка, крошечный галстук бабочкой, жующая челюсть. Флем воззрился на него.
– Твоя взяла, – произнес Рэтлиф. – Сколько?
Тот отвернул голову и сплюнул в ящик с песком под холодной печкой.
– По пятьдесят центов, – сказал он.
– Я заплатил по двадцати пяти за сам подряд, – сказал Рэтлиф. – А причитается мне по семьдесят пять. Лучше уж мне тогда порвать контракт и не тратиться на их доставку в город.
– Ладно, – сказал Сноупс. – Твое слово.
– Могу отдать за них вот это, – сказал Рэтлиф. И вытащил из кармана пальто первую из разобщенных расписок. И вот оно – мгновение, секунда, когда некое новое молчание, переполняющаяся неподвижность затронула это пустое лицо, это кургузое пухлявое тело за конторкой. На миг даже челюсть перестала жевать, хотя и принялась вновь за дело почти тотчас же. Сноупс взял бумагу и поглядел на нее. Потом положил ее на конторку, повернул голову и сплюнул в ящик с песком.
– По-твоему, эта расписка стоит пятидесяти коз, – произнес он. Это был не вопрос, это было утверждение.
– Да, – сказал Рэтлиф. – Потому что к ней прилагается еще кое-что на словах. Хочешь выслушать?
Тот, другой, глядел на него, двигая челюстью. В остальном он был совершенно неподвижен, словно и не дышал даже. Спустя мгновение он сказал: «Нет». Не спеша встал.
– Ну, ладно, – сказал он. Вынул бумажник из заднего кармана, добыл оттуда сложенную бумагу и подал Рэтлифу. Это была купчая от дядюшки Квика на пятьдесят коз.
– Спички не будет? – спросил Сноупс. – А то я некурящий.
Рэтлиф протянул ему спичку и смотрел, как тот поджег расписку и держал ее, пылающую, затем, еще всю в пламени, бросил в ящик с песком, а потом размял завиток пепла носком ботинка. Потом поднял взгляд; Рэтлиф не пошевелился. И тут настал второй момент, когда Рэтлифу показалось, что эта челюсть перестала жевать.
– Ну, – произнес Сноупс. – Что еще?
Рэтлиф вынул из кармашка вторую расписку. Тут он уже наверняка убедился, что жующая челюсть приостановилась. Целую минуту она не двигалась вовсе, пока широкое непроницаемое лицо висело словно воздушный шар над засаленной, обтрепавшейся бумажкой: осмотрена; и с оборота тоже; и еще раз. Шарообразное лицо вновь обратилось к Рэтлифу – абсолютно безжизненно, как-то даже бездыханно, словно тело, которое с ним сочленялось, непостижимым образом перешло на замкнутый цикл дыхания, с регенерацией собственного выдоха.
– Хочешь получить и по этой, – сказал Сноупс. Отдал расписку Рэтлифу. – Обожди-ка.
Через комнату он прошел к двери черного хода и вышел вон. «Новости!» – подумал Рэтлиф. Пошел следом. Приземистая, неповоротливая фигура, теперь уже вся залитая солнцем, двигалась к забору гостиницы. В нем были ворота. Рэтлиф смотрел, как Сноупс вошел в них и зашагал через выгон, к конюшне. Тут у Рэтлифа внутри разлилось что-то черное, захлестнуло удушьем, болью и тошнотой. «Как же это мне никто не сказал! – про себя выкрикнул он. – Кто-нибудь должен был предупредить меня!» И сразу вспомнилось: «Этот тоже «ихний». Черт! говорили ведь. Букрайт как раз и говорил! А все из-за болезни – провалялся, размяк, тоже мне…» Рэтлиф опять стоял рядом с конторкой. Он знал, что еще рано, услышать что-либо он еще не может, но в ушах стояло уже это шарканье об дорогу чурки на веревке, а тут он действительно его услышал, когда Сноупс вошел и обернулся, отступив в сторону, и чурка стукнула о деревянную ступеньку, о порог; неуклюжий детина в лопающемся на ляжках комбинезоне заслонил собой дверь, ввалился, поглядывая назад, через плечо, и чурка бухала, скреблась по полу, пока не застряла, ткнувшись в ножку прилавка, причем трехлетнее дитя с легкостью бы высвободило ее, наклонившись, тогда как идиот только остановился и принялся бессмысленно дергать веревку, при этом слезливо постанывая и подвывая разом и озабоченно и возмущенно, напуганно и удивленно, пока Сноупс не вызволил деревяшку, поддев ее носком ботинка. К конторке, где стоял Рэтлиф, они подошли вдвоем – опять эти гримасы, эта дергающаяся голова, этот слюнявый рот в туманном обрамлении мягкого золотистого пушка, эти глаза, в какой-то давний миг открывшиеся навстречу той изначальной несправедливости, для лицезрения которой человек не создан и которая, как лик Горгоны, раз и навсегда уничтожила, погасила в них всякую мысль.
– Скажи, как тебя зовут, – заговорил Сноупс. Существо глядело на Рэтлифа, непрестанно подергиваясь, пуская слюни. – Ну-ка, – повторил Сноупс, впрочем, довольно терпеливо. – Как тебя зовут?
– Айк Х’моуп, – хрипло выплевал идиот.
– Ну, еще раз.
– Айк Х’моуп. – Сказал и принялся смеяться, правда, почти сразу смех выродился во что-то иное, и Рэтлиф понял, что смехом эти клокочущие всхлипы никогда не были – хлюпающее безудержное квохтанье, самому идиоту неподвластное, несущееся очертя голову, волоча за собой сбитое дыхание, как пущенный наметом конь тащит на аркане до полусмерти затоптанную казачьим гульбищем жертву, да еще эти глаза над круглой дыркой рта, остановившиеся и слепые.
– Тихо! – прикрикнул Сноупс. – Тихо.
В конце концов он взял идиота за плечо, встряхнул его, и звук опал, лопнул, пузырясь и булькая. Сноупс развернул идиота к двери, подтолкнул напоследок, и тот послушно поплелся, оглядываясь через плечо назад, на свою деревяшку с двумя замызганными жестянками из-под табака, волочащуюся на конце грязной веревки, и снова чурка едва не зацепилась за ту же ножку прилавка, но на сей раз Сноупс поддел ее ногой прежде, чем она застряла. Громоздкий и неуклюжий, с вывернутой задом наперед головой (раззявленный рот и заостренные звериные ушки Фавна[71]), в лопающемся на немыслимых бабьих ляжках комбинезоне – он еще раз заслонил дверной проем и вышел. Сноупс затворил дверь, вернулся к конторке. Снова сплюнул в ящик с песком.
– Вот это и был Айзек Сноупс, – сказал он. – А я его опекун. Показать бумаги?
Рэтлиф не ответил. Все смотрел на расписку, лежавшую на конторке, куда он сам ее и положил, когда вернулся от двери, смотрел все с тем же неуловимым, спокойно-загадочным выражением, с каким тогда, четыре дня назад, в ресторанчике, глядел в свою чашку кофе. Он поднял расписку, все еще не взглянув на Сноупса.
– Стало быть, если я отдам ему его десять долларов, они попадут к тебе, как к опекуну. А если взыщу эти десять долларов с тебя, вексель опять у тебя на руках для продажи. Это уже третий раз будет. Так-так-так. – Он достал из кармана еще одну спичку и протянул ее вместе с распиской Сноупсу. – Говорят, ты тут сказал как-то, что огнем жечь деньги тебе не приходилось. Ну так вот тебе случай разок попробовать.
Вторая расписка тоже загорелась и, вся в пламени, порхнула в ящик, в заплеванном песке которого скрученным завитком пепла исчезла, как и предыдущая, под башмаком Сноупса.
Рэтлиф сошел с крыльца, вновь на полуденную солнечную рябь щербатой пыльной улицы; прошло едва ли минут десять. «Слава Богу, хоть научились люди быстро забывать то, что исправить у них кишка тонка», – сказал он себе по дороге. Пустынная улица переливалась зыбким маревом, мерцающим сквозь пыль и пятнистую цветень весны. «Н-да, – думал он, – эк меня эта подлая болезнь подкосила. Ведь все упустил, все напрочь. Ну ладно, может, поем, так полегчает». Однако, сидя один в обеденном зале перед тарелкой, которую придвинула ему миссис Литтлджон, есть он оказался не в состоянии. Только следил, как то, что он принял было за аппетит, отступает с каждым куском, который во рту превращался во что-то тяжелое и безвкусное, точно глина. Так что в конце концов Рэтлиф отпихнул тарелку и выложил на стол пять долларов – всю свою прибыль: тридцать семь пятьдесят, которые он получит за коз, минус двенадцать пятьдесят, уплаченные за контракт, да еще двадцать за первую расписку. Изгрызенным карандашом он прикинул проценты на десятидолларовый вексель за три года, да плюс сами эти десять долларов (тут дело другое, это его комиссионные за машинку, так что их нельзя считать реальным убытком), и добавил к пяти долларам недостающие деньги – засаленными банкнотами, истертыми монетками – до последнего цента. Миссис Литтлджон была на кухне, где готовила еду для посетителей, посуду она тоже сама мыла, а также и в комнатах прибирала, где спали съедавшие то, что она готовит. Рэтлиф положил деньги на стол возле раковины.
– Этот, как его там, Айк. Айзек. Говорят, вы его подкармливаете. Самому-то ему деньги вряд ли нужны. Так, может, вы как-нибудь…
– Хорошо, – отозвалась она. Вытерла руки о фартук, взяла деньги, аккуратно обернув мелочь банкнотами, и, с деньгами в руках, выпрямилась. Пересчитывать не стала. – Сберегу их для него. Не беспокойтесь. Сейчас в город едете?
– Да, – сказал он. – Хватит дурака валять. А то ведь заранее не скажешь, когда опять на этакого ретивого юнца нарвешься, которому с голодухи только и остается по живому резать.
Он пошел к двери, потом опять помедлил, на нее не глядя, все с тем же неуловимым, загадочным выражением лица, которое теперь улыбалось, язвительно, иронически.
– Хотелось бы, чтоб кое-что дошло до ушей Билла Варнера. Хоть в общем-то это не так и важно.
– Могу передать, – сказала миссис Литтлджон. – Если в двух словах, я запомню.
– Да ладно… – замялся Рэтлиф. – Но коли уж заговорили об этом… Так и передайте – дескать, Рэтлиф говорит, что ничего еще не доказано. Он поймет, о чем речь.
– Попробую запомнить, – кивнула она.
Он вышел и сел в бричку. Надобность в пальто на сегодня отпала, а в следующий раз и вовсе незачем будет его с собой брать. Дорога пришла в движение, поплыла под посверкивающими подковами низкорослых, пружинистых, как орешник, лошадок. «Просто я не допер чуток, – думал он. – На полпути успокоился. До того, что один Сноупс у другого запросто подожжет сарай при том, что оба это знают, – это я раскумекал, и это правильно. Но на том и заколодило. Так и не допер, что этот первый Сноупс может вдруг развернуться, затоптать огонь, да второго Сноупса еще и убытки оплатить заставит, при том, что опять-таки оба это знают».
3
Глазам тех, кто послеживал за приказчиком, открылась уже не очередная мелкая проделка, не просто кузнеца какого-то походя обобрали, нет, – налицо была прямая узурпация права наследования. Во время следующей уборочной страды приказчик не только восседал у весов хлопкоочистителя, но, когда происходил годовой расчет Варнера с арендаторами и должниками, сам Билл Варнер при этом даже не присутствовал. Не кто иной, как Сноупс, был облечен доверием делать то, чего Варнер родному сыну никогда не позволял, – да, не кто иной, как Сноупс, сидел один за конторкой, обложенный амбарными книгами и деньгами от проданной кукурузы и хлопка, подводил итоги, вычитал долги и арендную плату и каждому арендатору выплачивал причитающуюся ему долю оставшихся после вычетов денег, и, когда один или двое из них принялись было оспаривать его расчет (быть может, просто из принципа, как в давние времена, в бытность его новичком в лавке), приказчик даже не слушал, сидел себе в своей замызганной белой рубахе с крошечным галстуком бабочкой и ждал – пресловутый во рту табак, мутненькие неподвижные глазки, которые не поймаешь, хоть тресни, то ли глядят на тебя, то ли нет, – ждал, пока те замолчат, иссякнут, а потом, ни слова не говоря, брал карандаш и бумагу и доказывал им, что они не правы. Теперь уже не то, что прежде: бывало, Джоди Варнер этак с ленцой заявится в лавку, снабдит приказчика указаниями и наставлениями и уйдет: пусть, мол, приказчик дальше самостоятельно управляется; теперь бывший приказчик сам так же подходил, непринужденно шагая по ступенькам и на манер Билла Варнера кивком головы приветствуя собравшихся на галерее, и в лавку, и сразу же оттуда доносились его указания, деловитой лапидарностью доводящие до белого каления вконец потерявшегося, бычьим слепым безумием охваченного человека, который взял его к себе когда-то на службу и который, похоже, до сих пор не мог толком понять, что произошло. А после Сноупс уезжал и больше в тот день не появлялся: еще бы, ведь у разжиревшей старой белой кобылы Билла Варнера спутник теперь появился. А именно чалый – тот, на котором разъезжал, бывало, Джоди; теперь их – белую и чалого – нет-нет да и увидишь рядышком привязанными к какой-нибудь изгороди, покуда Варнер вместе со Сноупсом обозревают посевы хлопка и кукурузы, либо стада скота, или земельные границы; при этом Варнер – этакий живчик, хитрющий и бессовестный, как сборщик податей, деловито-ленивый раблезианец, а рядом тот, другой – рот табаком набит, руки в карманах неописуемо отвисших штанов, и время от времени задумчиво постреливает туда-сюда картечинами шоколадной слюны.
Как-то утром он появился в поселке с новеньким, плетенным из соломки баульчиком. Вечером перетащил его в дом к Варнеру. А через месяц после этого Варнер купил новую легкую коляску на ярко-красных колесах и с бахромчатым зонтичным верхом, и она целыми днями носилась по проселкам и полевым дорогам – в запряжке толстая белая лошадь и здоровенный чалый жеребец в новой, бронзовыми бляхами усыпанной упряжи, спицы сливаются, сплошной багряный блик над дорогой, – а разъезжали в ней Варнер и Сноупс, сидя бок о бок, в абсурдном и возмутительном для глаза единении мчались над взвихренным облаком легчайшей пыли, словно в увеселительном чаду какой-то непрекращающейся, бесконечной экскурсии. И вот однажды к вечеру тем же летом Рэтлиф снова подъехал к лавке и увидел на галерее человека, которого сперва не узнал, поскольку видел его всего раз, да и то два года назад, но если и замялся, то всего на миг, потому что почти тотчас крикнул: «Здорово. Ну, как машинка – работает?» – и продолжал сидеть с приветливым и совершенно непроницаемым видом, глядя на лютое, упрямое лицо с единой бровью, силясь вспомнить: «Клин? Блин? Шплинт? Имя такое, вроде клички… ах да – Минк».
– Здорово, – раздалось в ответ. – А как же! Не ты ли сам говорил, будто плохих не продаешь?
– Да уж это ясное дело, – сказал Рэтлиф, все так же вежливо-непроницаемо. Он вылез из брички, привязал лошадок к столбу галереи, взобрался на крыльцо и оказался в компании четверых мужчин, кто сидя, кто на корточках расположившихся по всей галерее. – Но я бы не совсем так это повернул. Я бы сказал, что Сноупсы плохих не покупают.
Тут он услышал перестук копыт и, повернув голову, увидел быстро приближающегося верхового, а рядом пса, породистого гончака, бегущего легко и мощно; всадником оказался Хьюстон; подъехал, прямо на ходу соскочил с коня, по-ковбойски забросил повод коню на холку и взбежал на галерею, а у столба, привалившись к которому сидел на корточках Минк Сноупс, остановился.
– Я полагаю, ты знаешь, где та твоя корова, – сказал Хьюстон.
– А то как же, – отозвался Сноупс.
– Хорошо, – сказал Хьюстон. Трепало и трясло его ничуть не больше, чем будь он бруском динамита. Он даже голос не повысил. – Ведь предупреждали тебя. А как по закону в этих местах положено, небось сам знаешь. Когда закончен сев, свою скотину надо держать за забором, иначе пеняй на себя.
– А сам-то, тоже мне, не мог такой забор поставить, чтоб корова не пролезла! – огрызнулся Сноупс.
После этого они принялись ругаться, обмениваясь репликами, вескими, краткими, но едва ли оригинальными, монотонно-одинаковыми, как удары или как пистолетные выстрелы; оба говорили разом, но с места не двигались, один все так же посреди крыльца, другой все так же на корточках у столба галереи.
– Ты еще дробовик возьми, – предложил Сноупс. – Чтобы от коров отбиваться.
После этого Хьюстон вошел в лавку, а расположившиеся на галерее продолжали сидеть или стоять совершенно невозмутимо, причем этот единобровый был не менее спокоен, чем остальные, и наконец Хьюстон опять вышел, ни на кого не глянув, прошагал мимо, вскочил в седло и с места в карьер умчался, пес за ним, высоко вскидывая голову, сильный, неутомимый, а еще через минуту-другую Сноупс тоже поднялся и ушел куда-то по дороге пешком. Потом один из оставшихся перегнулся и аккуратно через бортик галереи сплюнул в пыль, а Рэтлиф сказал:
– Что-то я недопонял насчет того забора. Что, корова Сноупса забрела на поле к Хьюстону?
– Ну да, – ответил тот, который перед тем сплюнул. – Он живет на бывшей Хьюстоновой земле. Теперь она Варнеру отошла. По закладной, стало быть: просрочил, ну и потерял.
– То есть он Биллу Варнеру задолжал, Хьюстон-то, – сказал другой. – А речь шла о заборах как раз на том самом участке.
– Да понятно, понятно, – отозвался Рэтлиф. – Значит, они это так просто. Для поддержания беседы.
– А ведь Хьюстон, похоже, не оттого распалился, что землю проворонил, – сказал третий. – Хотя, конечно, ему всякой искры довольно…
– Да понятно, понятно, – снова перебил Рэтлиф. – Не оттого, что проворонил, а оттого, до чего ее довели. Оттого, кому, выходит, дядюшка Билл ее в аренду сдал. Стало быть, в запасе у Флема еще хватает родичей. Однако этот, по всему видать, особого сорта Сноупс, вроде как аспид особого сорта гадюка. – «Так что от этого братца он еще натерпится», – подумал Рэтлиф. Подумать-то подумал, а вслух сказал (все так же мягко, вежливо, с непонятной усмешкой): – Вот интересно, где сейчас дядя Билл со своим напарником. Вы-то небось уже все ихние маршруты назубок выучили, а мне как-то все невдомек.
– Вообще-то мне сегодня утром коляска вместе с лошадьми попалась около усадьбы Старого Француза, – высказался четвертый из собравшихся. Он тоже перегнулся и аккуратно сплюнул через перильца галереи. Потом добавил, будто сперва запамятовал такую мелочь: – А на бочке-то, из-под муки, Флем Сноупс сидел…
Книга вторая Юла
Глава первая
Когда в лавку к ее отцу поступил приказчиком Флем Сноупс, Юла Варнер была ребенком, ей еще и тринадцати не исполнилось. Из шестнадцати детей младшая, малышка, впрочем, на десятом году догнавшая и превзошедшая ростом мать, теперь, в свои неполные тринадцать, она была крупнее чуть ли не любой взрослой женщины, и даже груди у нее уже не были парой маленьких, твердых, задорно оттопыренных конусочков, как у девочки-подростка или даже взрослой девушки. Напротив, ей, с ее формами, как раз бы воплощать символику древних дионисийских шествий[72]: мед в луче солнца, налитая гроздь, корчи мучительно обремененной лозы, кровоточащей под безжалостно и алчно топчущим твердым козлиным копытом. Казалось, она не только не была причастна к окружающему миру, но существовала в самодостаточном вневременном одиночестве, и дни ее шли друг за другом словно в пустоте, под непроницаемым для звуков стеклянным колпаком, где в мечтательном и самоуглубленном оцепенении, зачарованная и утомленная наследственной мудростью всех поколений зрелого млечного материнства, она прислушивалась к процессам роста в своем собственном теле.
Подобно отцу, она была неисправимой лентяйкой, хотя то, что у него выглядело беспорядочной и радостной праздностью, в ней проявлялось в виде направленной силы, непреоборимой и даже безжалостной. Вплоть до того, что по собственной воле она не передвигалась вовсе, кроме как из-за стола и за стол, из постели и в постель. Ходить научилась поздно. Ее возили в детской коляске – в здешних местах это было единственное и дотоле невиданное сооружение, неуклюжее и дорогое, а величиной с небольшой фургончик. С коляской она не порывала долго даже после того, как выросла настолько, что некуда стало девать ноги. Когда достигнута была стадия, на которой чуть еще, и только взрослый мужчина смог бы ее оттуда извлекать, состоялось ее насильственное отлучение от коляски. Тогда она облюбовала стулья. Не то чтобы она просилась непременно на руки, когда ей бывало нужно куда-нибудь переместиться, скорее дело обстояло так, словно с самого младенчества она уже знала, что нет такого места, куда бы ей было нужно, что никакое передвижение не ведет ни к чему новому или неведомому и любое место похоже на всякое другое, везде и всюду. Лет до пяти с половиной, в тех случаях, когда ей все-таки требовалось перемещаться (мать не решалась, уходя, оставлять ее дома одну), ее так и носил на руках их чернокожий слуга. Эта троица то и дело попадалась всем на улице поселка: миссис Варнер в воскресном платье и с шалью на плечах, а следом негр, ступающий не совсем уверенно под тяжестью своей длинноного свисающей, уже неоспоримо женственной ноши – этакое диковинное, одобренное дуэньей, похищение сабинянки[73].
Как водится, у нее были куклы. Она сажала их на стулья вокруг того, на котором устроилась сама, и там они пребывали, подавая не больше, но и не меньше признаков жизни, чем их хозяйка. В конце концов отец заказал для нее у кузнеца миниатюрную копию той коляски, в которой она провела три первые года жизни. Игрушечная коляска вышла довольно несуразной и к тому же тяжелой, но это была единственная кукольная коляска на всю округу – роскошь дотоле не только невиданная, но и неслыханная. Она складывала туда всех своих кукол, а сама усаживалась рядом на стул. Сперва ее принимали за умственно отсталую, думая, что она все никак не обретет ту тягу к игре в материнство, которая делает девочку маленькой женщиной, но вскоре стало ясно, откуда такое безразличие, – ведь чтобы приводить в движение игрушку, ей пришлось бы двигаться самой.
С младенчества лет до восьми она росла на стульях и пересаживалась с одного на другой только поневоле – когда ее с насиженного места сгоняла уборка в доме или когда звали поесть. По настоянию ее матери Варнер продолжал заказывать кузнецу миниатюрные предметы домашней утвари: маленькие метлы и швабры, маленькую, но настоящую кухонную плиту – в надежде, что игра, забава поможет приобретению полезных навыков, но все эти затеи влекли ее не больше, чем стакан спитого чая влечет старого пьяницу. Не было у нее ни товарищей по играм, ни закадычной подружки. Они не были ей нужны. Никогда не получалось у нее ни с кем того содружества, пусть иногда кратковременного, но пылкого, в котором две маленькие девочки подчас объединяются для тайных козней и интриг против своих сверстников-мальчишек, да и против всего мира взрослых. Ничто ее не занимало. С равным успехом она могла бы все еще оставаться в утробе. Она родилась как бы лишь наполовину, и умственное в ней каким-то образом оказалось не то полностью отделено от телесного, не то безнадежно с ним перепутано – словно на свет божий появилась либо только одна из двух ее ипостасей, либо та единственная, которая все-таки появилась, пришла в мир не столько в сопровождении, сколько будучи беременна другой, недостающей.
– Может, она хоть с мальчишками по деревьям лазать будет? – проронил как-то ее отец.
– Когда? – выдохнул Джоди (вспышка, проблеск, хотя и рожденный яростным раздражением). – Покуда она собирается, не будет ни одного желудя, что в ближние пятьдесят лет оземь стукнет, чтоб он дубом не стал, да чтоб не подгнил на корню и не сгорел бы в печках, прежде чем она на дерево влезть сподобится.
Когда ей исполнилось восемь, брат решил, что пора ей в школу. Родители, в общем, тоже были не прочь когда-нибудь отдать ее в обучение, главным образом, пожалуй, потому, что Билл Варнер, официально назначенный попечителем, был главным оплотом и властелином всей школьной жизни, которая, по мнению других здешних родителей, являлась, в сущности, не более чем еще одной из многих сторон его деловой активности, и, позже или раньше, Варнер сам не упустил бы хоть ненадолго, но определить свою дочь в школу, точно так же, как не упустил бы стребовать какой-нибудь должок со всеми набежавшими процентами вплоть до последнего медяка. Миссис Варнер не особенно была озабочена, пойдет в школу дочь или нет. Сама миссис Варнер была одной из лучших хозяек в округе, неутомимо посвящала себя дому и получала от этого истинное физическое наслаждение, не имеющее ничего общего с обыденным удовлетворением от собственной рачительности и бережливости, радовалась, складывая наглаженные простыни, и любовалась видом уставленных припасами полок, набитых картошкой погребов и тесно увешанных окороками и колбасами стропил коптильни. Читать не читала, хотя в пору выхода замуж и была способна разбирать написанное. С тех пор миссис Варнер не очень-то практиковалась в этом навыке и за последние сорок лет порастеряла последние его остатки, предпочитая с жизнью встречаться лицом к лицу, чтобы не только внимать былям и вымыслам, но иметь возможность и свое слово вставить, поделиться и своим суждением. Так что настоятельной нужды в обучении женщин грамоте миссис Варнер не видела. Была уверена, что правильные соотношения для кулинарных рецептов надлежит искать не на печатной странице, а на кончике столовой ложки, доверяясь только собственному вкусу и нюху, и что хозяйка, которая, пока не поучится в школе, не знает, сколько осталось денег, если из того, что было, вычесть то, что истрачено, никогда не научится быть хозяйкой.
Этаким поборником учености в восьмое лето младшей дочери чуть ли не насильственно вторгся не кто иной, как ее брат, Джоди, и три месяца спустя горько пожалел об этом. Не о том, что именно он настоял, чтобы она пошла в школу. Сожалел он о том, что все-таки уверен и, видимо, всегда будет уверен в необходимости того, за что ему теперь приходится платить столь дорогой ценой. Она, видите ли, отказывалась ходить в школу пешком. Ничего не имея против самих посещений школы, присутствия там, она просто-напросто не соглашалась ходить туда ножками. Школа была недалеко, менее чем в полумиле от дома Варнеров. И несмотря на это, все пять лет своего школьного обучения – все пять лет, которые, если выразить их в часах и возвести в степень постижения ею премудрости, свелись бы не к годам и не к месяцам даже, а к нескольким дням – ее возили и туда и оттуда. Другие дети, жившие втрое, вчетверо и впятеро дальше, ходили пешком туда и обратно в любую погоду, а ее возили. Ходить она просто-напросто отказалась, спокойно и безоговорочно. Не прибегала ни к слезам, ни к жалобам, не говоря уже о физическом сопротивлении. Сядет и сидит, не двигаясь, по видимости даже не думая, и при этом от нее исходит возмутительная и неуязвимая наглость, как от какой-нибудь строптивой кобылки-чистокровки, которая не доросла еще до того, чтобы представлять такую уж особую ценность, но через год-другой дорастет, а потому ее сбившийся с ног, разъяренный хозяин не смеет пройтись по ней плетью. Отец, как и следовало ожидать, поспешил умыть руки.
– Ну так пускай дома сидит, – отмахнулся он. – От нее и тут проку с гулькин нос, но, может, хоть научится чему-нибудь по части хозяйства, насмотрится, покуда со стула да на стул перелезает, от веника спасаясь. Нам-то ведь всего и надо, что уберечь ее от беды, пока не подрастет настолько, чтобы спать с мужчиной, не подведя под арест нас с ним обоих. А тогда, глядишь, замуж выдадим. Может, даже найдешь ей мужа, при котором и Джоди не угодит в богадельню. И тогда уж передали бы им и дом, и лавку, и всю прочую мерехлюндию, а мы с тобой поехали бы на эту ихнюю всемирную ярмарку, которую, говорят, в Сент-Луисе затевать собираются, и, коли по сердцу придется, заведем там себе лоток и станем жить в свое удовольствие.
Но брат требовал, чтобы она пошла в школу. По-прежнему она не соглашалась ходить пешком, сидела женственно-расслабленная, вялая, не двигаясь, не думая и, по видимости, даже не слушая, а над ее невозмутимой головкой громыхала битва матери с братом. Так что в конце концов негр, который прежде носил ее на руках следом за матерью, когда той случалось идти в гости, выкатывал семейный шарабан и отвозил ее за полмили в школу, а после ждал там с шарабаном в полдень и в три часа, после занятий. Так продолжалось недели две. Миссис Варнер положила этому конец: в самом деле, расточительство – все равно что понапрасну кипятить целый десятиведерный чан ради тарелки супа. Предъявила Джоди ультиматум: хочешь, чтобы твоя сестра ходила в школу, – будь любезен, позаботься о доставке сам. Миссис Варнер предложила, чтобы он, поскольку и так каждый день гоняет своего жеребца до лавки и обратно, сажал бы на него позади себя Юлу да и подвозил ее в школу и назад, – при этом дочь опять-таки сидела тут же, не думая и не слушая, а над ней ревело и грохотало, пока не замерло на той же мертвой точке; и вот снова утро, дочь на крыльце, сидит себе с недавно купленным ей для книжек дешевым клеенчатым портфельчиком на коленях, покуда брат, подогнав коня к перилам крыльца, не рявкнет на нее, чтоб не валандалась, садилась сзади. Он отвозил ее к школе, в полдень забирал оттуда и снова отвозил, а когда занятия кончались, уже ждал у выхода. Так продолжалось почти месяц. Тут Джоди надумал, что двести ярдов от школы к лавке она уж как-нибудь и сама пройдет, а там он ее встретит. К его удивлению, сестра не прекословила. Так продолжалось ровно два дня. На второй вечер братец примчал ее домой торопким аллюром, вне себя от возмущения и гнева ворвался в дом и, уже в прихожей налетев на мать, разразился криками.
– Ничего удивительного, что она так запросто согласилась ходить к лавке встречать меня! – орал он. – Расставь вдоль дороги на каждую сотню ярдов по мужику, так она бы и до дому добежала! Это же просто сучка какая-то! Кто бы ей на глаза ни попался, лишь бы в штанах, глядишь, она уже вся на мыло исходит. Прямо в нос шибает! Шибает в нос с десяти футов!
– Вздор, – проронила миссис Варнер. – И нечего меня донимать этим. Сам заставил ее в школу ходить, не я же! Помимо нее у меня восемь дочерей выросли, и ничего, в полном порядке. Но спорить не буду, может, и впрямь двадцатисемилетний холостяк в девках лучше меня разбирается. А коли надумаешь разрешить ей школу бросить, что ж, мы с отцом возражать не станем. Ты мне захватил той корицы?
– Нет, – сказал Джоди. – Забыл.
– Ты уж не забудь нынче хоть. А то я без нее пропадаю.
С тех пор она больше не ходила встречать Джоди у лавки. Брат снова ждал ее у дверей школы. И вот уже почти пять лет, как эта картина стала неотъемлемой частью жизни поселка, четыре раза в день и пять дней в неделю: на чалом жеребце разъяренный, кипящий гневом мужчина и девочка, в которой даже в одиннадцать, в десять и в девять лет как-то было всего многовато – многовато ноги, многовато груди, многовато зада, и вообще многовато женского, млечного, того плотского начала, которое в сочетании с неуклюжим клеенчатым портфельчиком, явно предназначенным для книжек ученице начальной школы, грубо и нарочито пародировало самое идею образования. Даже сидя позади брата на лошади, обитательница всей этой плоти вела, казалось, две совершенно отдельные и обособленные жизни, словно младенец у материнской груди. Первая Юла Варнер обеспечивала кровью и питанием этот зад, эти ноги и эту грудь; а была еще и другая Юла Варнер, которая просто обитала в них, которая шла туда, куда и они, поскольку так проще, ей было удобно в этом вместилище, но его заботы ее не волновали, подобно тому как бывает, когда вселяешься в дом, который не ты строил, но где мебель уже стоит и за аренду уплачено. В то первое утро Джоди Варнер пустил своего коня спорой рысью, чтоб побыстрее отделаться, но почти тотчас начал чувствовать за спиной все это тело – а оно даже на стуле, в неподвижности, будто нарочно выказывало вопиющее отвращение к прямым линиям, – начал чувствовать, как оно елозит всеми своими бескостными округлостями по его спине. И Джоди чудилось, будто не только горизонты поселка расстилаются перед ним, но весь окружающий населенный мир, который он обходит со своей солнцеподобной ношей, с этим изгибисто-переливчатым скоплением млечных эллипсов. С тех пор он пускал лошадь только шагом. А иначе и никак – с сестренкой, которая одной рукой цепляется за перекрестие его подтяжек или за хлястик сюртука, а в другой держит сумку с книжками; и вот мимо проплывает лавка, где, по обыкновению, был в сборе весь кворум местных мужчин – кто сидя, кто на корточках, – и веранда миссис Литтлджон, где не обходится без проезжего коммивояжера или барышника (а Джоди теперь полагал, даже уверен был, что ему известно, зачем они здесь, то есть какова истинная цель, ради которой их принесло сюда за двадцать миль из самого Джефферсона), и вот наконец школа, где остальные дети – в комбинезонах и платьицах из дешевого ситчика, босые, а если в башмаках, то чаще в стоптанных, отслуживших свое родителям и только после этого доставшихся им, – уже собрались, пройдя пешком в три, в четыре, а то и в пять раз дальше. Она сползает с коня, а ее брат еще с минуту медлит, весь закипая негодованием, глядит ей вслед, на эти бедра, которыми она уже совсем по-женски наладилась орудовать при ходьбе, сидит и размышляет в бессильной ярости, не лучше ли сразу вызвать учителя и тут же с ним разобраться, предупредить, пригрозить ему или даже пустить в ход кулаки, а может, оставить все как есть, подождать, пока случится то, что, по его, Джоди Варнера, убеждению, так или иначе непременно должно случиться. Все это повторялось у них сызнова в час дня, а в двенадцать и в три в обратном порядке, только Варнер при этом проезжал на сотню ярдов дальше, к скрытому мелкокустьем поваленному дереву. Дерево это повалил однажды ночью слуга-негр, пока Джоди, сидя на лошади, светил ему фонарем; подъехав к валежине и поджидая, когда сестра вскарабкается с нее на лошадь, Джоди на третий раз не выдержал, рявкнул: «Провал тебя побери, это что, обязательно – с таким видом лезть, будто вышины в коне все двадцать футов?»
Однажды он даже решил, что не следует ей верхом по-мужски ездить. Новшества хватило на один день, пока ему не случилось глянуть в сторону, и тут он обнаружил чуть позади себя невероятной длины, возмутительно округлую свисающую ногу, а между подолом платья и верхней кромкой чулка голую полоску бедра, показавшуюся ему столь же фундаментально, вопиюще обнаженной, как какой-нибудь купол обсерватории. То, что все это выставлено не нарочно, только усиливало его гнев. Он понимал, что ей просто безразлично, она, без сомнения, даже не знала, что выставляется напоказ, а если бы знала, все равно не потрудилась бы прикрыться. Он понимал, что даже на лошади, в движении, она сидит точно так же, как сидела бы дома на стуле или (это ведь тоже ясно) в школе на скамье, и, свирепея временами от беспомощности, спрашивал себя, как этот зад, постоянно подверженный давлению все нарастающего веса, может таким простым действием, как ходьба, так явно и недвусмысленно обнаруживать умопомрачительно и всемогуще роскошную текучую мягкость; сидит себе, даже на лошади, в движении, такая не то чтобы самоуглубленная, но загадочная, зачарованная чем-то непонятным, никакого отношения к плоти, к мякоти не имеющим, – сидит себе, исходя этим возмутительным ощущением бытия, существования, и вся наружу, вся будто вовне надетых на нее покровов, причем она не только не могла с собой ничего поделать, но даже нисколько о том не заботилась.
Школу она начала посещать на восьмом году жизни, а на четырнадцатом, вскоре после Рождества, прекратила. Без сомнения, она бы доучилась до конца и в тот год, и на следующий, а там, глядишь, прихватила бы и еще год-другой безо всякого продвижения в науках, да подвела школа – в январе того года закрылась. Закрылась, потому что исчез учитель. Вдруг, на ночь глядя, никому ничего не сказав, скрылся. Ни жалованья не получил за полугодие, ни своих скудных, почти монашеских пожитков не забрал из неотапливаемой пристройки с односкатной крышей, где в жалкой комнатушке прожил шесть лет.
Его фамилия была Лэбоув. Он появился из соседнего округа, где его совершенно случайно нашел сам Билл Варнер. Прежде на должности учителя держали старика, который уже и от природы имел склонность выпить лишку, да еще ученики своим неподчинением изрядно ему в этом увлечении споспешествовали. Девчонки не питали уважения ни к его мыслям и знаниям, ни к способу преподавания; мальчишки тоже его не уважали, но не из-за педагогической несостоятельности, а вследствие неспособности заставить их подчиняться или хотя бы просто вести себя прилично, – в этом отношении ситуация очень быстро перешла из стадии мятежа в какое-то сплошное буколическое италийское празднество с травлей шелудивого беззубого медведя.
Таким образом, все, не исключая и учителя, знали, что в следующем полугодии его здесь не будет. А будет или не будет на следующий год действовать школа – этим никто особенно озабочен не был. Школа была их владением. Они сами когда-то построили школьное здание, сами платили учителю и посылали туда своих детей разве что тогда, когда тем дома было нечего делать, так что занятия в школе происходили только в промежутке между уборочной и посевной – с середины октября и по конец марта. Насчет замены учителя ничего не предпринимали, пока однажды летом Варнеру не случилось отправиться по делам в соседний округ, где он припозднился и попал ночевать в убогую фермерскую лачужку с полом из горбыля, стоявшую на унылом и бесплодном холме. Войдя в дом, он увидел невероятно древнюю старуху, сидевшую у остывшего очага с вонючей глиняной трубкой во рту, причем на ногах у старухи красовались впечатляюще огромные мужские ботинки несколько нездешнего, чтобы не сказать экзотического, вида. Однако Варнер не обратил бы на них внимания, если бы сзади не раздалось пошаркивание и постукивание и, обернувшись, он не увидел бы девочку лет десяти в совершенно чистом, хотя и ветхом пестрядевом платьице и в таких же, как у старухи, башмаках, разве что еще побольше размером. Прежде чем Варнер следующим утром отбыл, углядел он и еще три пары таких же ботинок, теперь уже определив их как доселе невиданный и даже неслыханный вид обуви. Хозяин разъяснил ему их назначение.
– Что? – удивился Варнер. – Бутсы? Футбол?
– Игра такая, – сказал Лэбоув. – В нее играют в университете.
Он пояснил. Это все старший сын. Сейчас его дома нет: устроился на пилораму, зарабатывает деньги, чтобы вернуться в университет, где проучился уже один летний семестр полностью и следующий – осенний – наполовину. Как раз осенью там и играли в игру, для которой нужны такие ботинки. Сын захотел выучиться на учителя; так, во всяком случае, он сказал, когда в первый раз уехал в университет. В общем, он решил поступить учиться. Отец в этом смысла не видел. Ферма в порядке, рано или поздно перейдет к сыну и всегда его прокормит. Но сын настаивал. Будет, дескать, подрабатывать на мельницах и лесопилках и скопит достаточно, чтобы посещать летние курсы и выучиться хотя бы на учителя, поскольку больше-то на летних курсах ни на кого и не учат. Сможет даже возвратиться в конце лета домой – помочь с уборкой урожая. Так что заработал он денег («Причем повкалывать пришлось не то что на ферме, – заметил Лэбоув-старший. – Но парню уже почти двадцать один было. Становиться ему поперек дороги поздно, даже если б я пошел на это») и записался на летний семестр, а он у них восемь недель длится, так что парень в августе должен был домой вернуться, но не тут-то было. Накатил сентябрь, а его все нет. Никто толком не знал, где он, правда, стариков это не столько обеспокоило, сколько озадачило – досада взяла, слегка возмутились даже: бросил их одних в самую страдную пору – хлопок надо собирать и очищать; да и с кукурузой, пока в закрома ссыплешь, забот хватает… В середине сентября пришло письмо. Мол, собирается и дальше в университете оставаться, на всю осень. Нашел там себе работу, урожай чтоб без него собирали. Что за работа подвернулась, не сообщил, и отец счел, что подразумевается опять какая-нибудь пилорама, поскольку в его представлении учеба ни с какими доходными предприятиями не сопрягалась, и больше от сына вестей не поступало вплоть до октября, когда пришла первая посылка. В ней было две пары этих чудных башмаков с шишками на подошвах. Третья пара прибыла в начале ноября. Последние две пришли сразу после Дня благодарения, под самый декабрь, итого пять пар, хотя народу в семье семеро. Так что носят их все подряд, берет каждый, кто найдет свободную пару, будто это зонтики, – то есть из четырех пар, подправил себя Лэбоув. Престарелая дама (это была бабушка старшего Лэбоува) сразу как схватила из коробки самую первую пару, так уже и не отпускает – никому не дает надевать. Видать, ей нравится, как шипы по полу цокают, когда она качается в кресле. Минус одна – четыре пары осталось. Так что теперь дети ходят в школу обутыми, а придя домой, ботинки снимают, на случай, если кому-нибудь понадобится на улицу. В январе сын появился дома. Рассказал про эту свою игру. Всю осень он играл в нее. За то, что он в нее играл, ему разрешили остаться в университете на весь осенний семестр. А башмаки им выдают бесплатно, чтобы в них играть.
– Да как же он умудрился сразу шесть пар заполучить? – с удивлением пробормотал Варнер.
Этого Лэбоув не знал. «Может, в тот год им эти башмаки девать было некуда?» – предположил он. В университете сыну выдали еще и свитер – хороший свитер: толстый, теплый, темно-синий, с большой красной буквой «М» на груди. Прабабка захватила себе и свитер тоже, несмотря на то что он ей был непомерно велик. Надевала его по воскресеньям, и зимой и летом; в ясную погоду восседала в нем рядом с внуком на козлах фургона по дороге в церковь, и геральдическая змейка, багряная – цвета стойкости и отваги, – огнем горела на солнце, а в ненастье, когда старушка, оставшись дома, сидела в кресле, раскачиваясь и посасывая погасшую короткую трубку, та же буква «М», пускай устало распрямившаяся, но все такая же багряная, такая же удалая, украшала ее иссохшую грудь.
– Так вот, стало быть, где он теперь, – сказал Варнер. – В футбол играет.
Но Лэбоув это предположение отмел. Нет, теперь сын на пилораме. Подсчитал, что, пропустив летний семестр и за это время подработав, он сможет отложить достаточно денег, чтобы оставаться в университете, пусть даже его перестанут держать там за футбольные заслуги, и, таким образом, целый год будет учиться в настоящем университете, а не на летнем отделении, где и учат-то всего лишь на школьных учителей.
– А я думал, это как раз то, что ему надо, – сказал Варнер.
– Нет, – разуверил его Лэбоув. – Это все, чему учат на летних курсах. Я скажу сейчас, только вы не смейтесь. Говорит, что хочет стать губернатором.
– Да уж, – сказал Варнер.
– Я ж говорил, смеяться будете.
– Нет, – проговорил Варнер. – Я не смеюсь. Губернатором. Так-так-так. Следующий раз как увидите его, ежели согласится на годик-другой отложить свое губернаторство да поработать в школе, скажите, чтоб заехал на Французову Балку и повидался со мной.
Это было в июле. Возможно, Варнер на самом деле и не ожидал, что Лэбоув к нему приедет. Однако к заполнению вакансии никаких шагов больше не предпринимал, хотя едва ли он мог позабыть о школе: не говоря уже о его обязанностях попечителя, у человека родное дитя через год или около того готово было приступить к учению. Однажды в начале сентября, уже под вечер, Билл Варнер лежал, скинув сапоги, в гамаке из бочарных клепок, подвешенном меж двух деревьев у дома, как вдруг заметил идущего к нему через двор человека, которого он никогда прежде не видел, но узнал тотчас: из себя не то чтобы тощий, но жилистый, волосы длинные, прямые и жесткие, как конский хвост, скулы широкие, индейские, взгляд серых, спокойных глаз тяжел и строг, длинный нос мыслителя, правда, с высоким, фигурным вырезом ноздрей, выдававшим гордеца, а тонкие губы говорили о глубоко запрятанном жестоком честолюбии. Лицо присяжного оратора, человека, неколебимо уверенного в силе слова, возводящего ее в принцип, во имя которого, если понадобится, стоит отдать жизнь. Тысячу лет назад таким мог быть монах, воинствующий фанатик, повернувшийся ко всему миру непреклонной своей спиной, с истинной радостью удалившийся в пустыню и проведший остаток дней и ночей в спокойствии, ни разу не дрогнув, ни на секунду в себе не усомнившись – не ради спасения человечества, которое ему в высшей степени безразлично и страдания которого не вызывают в нем ничего, кроме презрения, но ради удовлетворения своих собственных безудержных и неутолимых глубинных притязаний.
– Я пришел сказать, что в этом году не смогу преподавать в вашей школе, – заговорил он. – Нет времени. Так вышло, что мне можно остаться в университете на целый год.
Варнер, не вставая:
– Этот год. А как насчет следующего?
– Насчет пилорамы тоже есть договоренность. Опять наймусь туда на следующее лето. Или еще куда-нибудь.
– Что ж, дело, – отозвался Варнер. – Но я тут вот что придумал. Школу-то вплоть до первого ноября открывать не обязательно. Можете оставаться покуда в Оксфорде[74] и играть в свою игру. А потом приедете, откроете школу и начнете занятия. Можете сюда взять книжки из университета, чтоб не отстать от курса, а на те дни, когда понадобится сыграть в эту игру, возвращайтесь в Оксфорд и играйте, и пусть они там проверяют, продвинулись вы в своих книжках или нет, выучили что-нибудь или нет, или что им там от вас надо. Потом вернетесь в школу, и даже если на денек-другой задержитесь – не важно. Дам вам лошадь, которая дорогу одолеет часов за восемь. Отсюда и сорока миль до Оксфорда нету. А в январе, когда понадобится сдавать экзамены – про это мне ваш отец говорил, – школу можете запереть и отправляйтесь, да и сидите там, покуда не разделаетесь с ними. А потом в марте школьников по домам распустили – и ступайте себе до следующего полугодия, хоть по самый конец октября, если нужно. Когда университет всего в сорока милях, вряд ли так уж трудно не отстать от курса, если по-настоящему хочешь. Ну как?
Варнер почувствовал, что на какое-то время собеседник перестал его видеть, хотя взгляда не отводил и глаза его по-прежнему были открыты. Лэбоув стоял совершенно неподвижно, в безукоризненно чистой белой сорочке, материал которой от многократных стирок уже стал похож на противомоскитную сетку, в непарных сюртуке и брюках, тоже абсолютно чистых, причем сюртук был ему маловат, и Варнер догадывался, что другим приличным костюмом стоявший перед ним парень не обзавелся, да и этот-то приобрел только потому, что пришел к выводу – может, сам, а может, и с чьей-то подачи, – что негоже в университетскую аудиторию в комбинезоне соваться. Стоял перед Варнером, погруженный не в недоверчиво-радостные мечтания и надежды, но в некую всепоглощающую ярость, а его жилистое тело было не то что выковано под ударами извне, но как бы отформовано и прокалено чем-то бьющим изнутри, как пламя из горна.
– Ладно. Буду здесь первого ноября, – сказал он, уже поворачиваясь уходить.
– А узнать, сколько платить собираются, не надо?
– Надо, – сказал Лэбоув, приостанавливаясь.
Варнер сказал. Он (Варнер и есть Варнер) так и не пошевельнулся в гамаке, так и лежал со сложенными крест-накрест ногами в носках домашней вязки.
– Насчет игры этой… – проронил он, – играть-то вам нравится?
– Нет, – сказал Лэбоув.
– Говорят, это почти все равно что настоящая драка.
– Да, – все так же односложно сказал Лэбоув и в почтительном ожидании замер, глядя на сухопарого хитрого старика, в прочувствованной праздности возлежащего без сапог на скрепленных проволокой бочарных клепках, на того, кто даже его, Лэбоува, словно уже заклеймил печатью своего собственного несокрушимого убеждения в абсолютной несущественности той или иной секунды, любой их совокупности и теперь держит, заставляя тратить время на размышления о том, чего тот никому не рассказывал, да и нечего тут рассказывать, не важно теперь уже все это. А начиналось это год назад, как раз под конец летних курсов. По окончании занятий он собирался вернуться домой: обещал отцу помочь с уборкой урожая. Но когда учиться оставалось совсем чуть-чуть, подвернулась работа. Сама, можно сказать, с неба свалилась. До той поры, когда хлопок можно будет собирать и запускать в очистку, оставалось еще две или три недели, с жильем у него было все улажено (живи хоть до середины сентября), поэтому расходов больших не предвиделось. Так что почти все заработанное пойдет ему в чистую прибыль. Решил поработать. Требовалось ровнять землю под футбольное поле. Он тогда не знал, что такое футбольное поле, да и знать не хотел. Для него это была просто возможность зарабатывать каждый день по столько-то долларов, и он, бывало, даже лопату не опускал, когда приходили на ум холодные и язвительные соображения насчет того, что это за игра такая, для которой приготовить землю куда сложней, да и дороже гораздо, чем приготовить ту же землю под стоящий какой-нибудь посев: в самом деле, чтобы посев оправдал такие затраты времени и денег, надо как минимум золото выращивать. Так что, когда в сентябре, еще прежде чем работы закончились, полем начали пользоваться, он все еще насмехался, не любопытствуя нисколько, к тому же заметил, что появившиеся там молодые люди даже не в игру эту играли, а только упражнялись. Он на них поглядывал. Возможно, он поглядывал на них пристальнее или по крайней мере чаще, чем ему самому казалось, и при этом в его лице, в глазах мелькало что-то такое, о чем он даже и не подозревал, потому что однажды под вечер один из них (как уже выяснилось, этой игре их обучал платный инструктор) сказал ему:
«Ты, верно, думаешь, что сможешь делать это лучше? Ладно. Идем, попробуешь». В тот вечер в сухой и пыльной сентябрьской темнотище он сидел на крыльце у тренера, в который раз спокойно и терпеливо отвечая «нет».
– Не буду же я залезать в долги ради какой-то игры! – сказал он.
– Да тебе и не придется, еще не хватало! – убеждал тренер. – За твое обучение будет уплачено. Спать можешь у меня наверху; будешь задавать корм лошади и корове, доить будешь, топить печку; харчами обеспечу. Ну, неужто не понимаешь?
Лицо его выдать не могло, поскольку было темно, и вряд ли что-то проявилось в его тоне. А все-таки тренер сказал:
– Понятно. Ты в это не веришь.
– Нет, – сказал он. – Не верю, чтобы кто-нибудь меня всем обеспечил только за то, что я буду играть в какую-то игру.
– А ты попробуй и увидишь сам. Давай – останешься, будешь играть, и посмотрим, когда с тебя деньги начнут требовать.
– А когда начнут, мне можно будет просто взять и уйти?
– Да, – сказал тренер. – Даю слово.
В результате он в тот же вечер написал отцу, что не приедет помогать с уборкой урожая, а если понадобится вместо него добавочный работник, вышлю, мол, деньги. Ему выдали форму, и в тот же день, точь-в-точь как в предыдущий, когда он играл еще в рабочем комбинезоне, один из игроков не сразу смог подняться, и тут новичку все растолковали: силовые приемы, грубость, правила, а он слушал и терпеливо пытался разграничить, разобраться: «А все-таки как же я донесу мяч до той линии, если позволю им поймать себя и сбить с ног?»
Он этого не рассказывал. Просто стоял у гамака, в своих чистых непарных одеждах, собранный и серьезный, кратко и спокойно отвечая «да» или «нет» на вопросы Варнера, пока в голове вереницей проносились скомканные обрывки совсем уже ненужных воспоминаний о том, что было и кончилось, осталось позади и никакого значения не имеет, подобно всей той осени, тоже мелькнувшей как во сне, свернувшейся, сжатой в комок. В ледяной чердачной комнате он вставал в четыре утра, растапливал печки в пяти домах пятерых преподавателей и возвращался кормить и доить скотину. Потом лекции, ученость и мудрость, по капле выделенная из всего, во что когда-либо проникала человеческая мысль, – сами увитые плющом стены, аудитории, строгие, как монастырские залы, напоены ею, сочатся в изобилии, только вбирай, впитывай сколько хочешь, сколько позволят способности и жажда знаний; вечером тренировки (вскоре ему разрешили через день пропускать их, и освободившимися вечерами он сгребал листья на пяти дворах), а еще надо наносить угля и дров, чтобы было чем назавтра топить печки. Потом опять корова, а потом, в пальто, которое дал ему тренер, с лампой сидеть за книжками в своей чердачной неотапливаемой клетушке, пока не заснешь прямо над страницей. И так пять дней, по нарастающей, вплоть до субботней кульминации: перебегать с этой никчемной, дурацкой дыней в руках через бессмысленное мельтешение белых линий. И все же в эти-то как раз секунды, при всем своем презрении, при всем закоснелом скептицизме и преданности суровому спартанскому наследию – в эти-то секунды он и жил, неистовый и свободный, попирая ногами землю, весь в скорости, среди ударов, хриплого дыхания и хватких рук, подстегиваемый переменчивым ревом набитых битком трибун, но даже и тут сохранял язвительно-недоверчивое выражение лица. Еще эти башмаки…
Варнер глядел на него, заложив руки за голову.
– Еще эти башмаки… – вновь заговорил Варнер. «Это потому, что так я и не перестал сомневаться: продлится все это после очередной субботы или не продлится», – мог бы ответить Лэбоув. Но не ответил, просто стоял, спокойно опустив руки, глядя на Варнера. – Их, надо думать, там было всегда навалом?
– Ну, покупали их партиями. Всегда были на любой размер.
– Во-во, – подхватил Варнер. – Надо думать, всего-то и требовалось – сказать, жмет, мол, старая пара или там потерялась…
Лэбоув не отвел взгляда. Стоял, спокойно глядя в глаза человеку в гамаке.
– Я знаю, сколько стоят бутсы. А вот от тренера я все добивался, что с них проку. Для университета. Что проку с гола. С выигрыша.
– Понятно. Новую пару вы брали, только когда выигрывали. И домой прислали пять пар. Сколько раз вы играли?
– Семь, – сказал Лэбоув. – Из них один раз никто не выиграл.
– Понятно, – повторил Варнер. – Что ж, вам, надо думать, домой пора, выйти хоть засветло… А лошадь я вам подыщу, к ноябрю-то.
Школу Лэбоув открыл на последней неделе октября. И не успела неделя кончиться, как он кулаками усмирил мятежную вольницу, доставшуюся в наследство от предшественника. В пятницу вечером, на той самой лошади, которую обещал ему когда-то Варнер, он проскакал сорок с лишним миль от Оксфорда, утром сходил на лекции, вечером сыграл в футбольном матче, в воскресенье проспал до полудня и к полуночи был во Французовой Балке, лежал на койке с сенником в нетопленой комнатушке под крышей на один скат. Комнатку эту он снимал у одной вдовы, в доме рядом со школой. Имущество у него было такое: бритва, непарный сюртук с брюками (его официальный костюм), две рубашки, пальто, подаренное тренером, два тома Коука и Блэкстоуна[75], том сенатских отчетов штата Миссисипи, Гораций[76] и Фукидид[77] в подлиннике (подарок к Рождеству от профессора классической словесности, в доме которого он по утрам топил печку), да еще лампа, ярче которой в поселке никогда не видывали. Сверкающая никелем, с манометрами, поршнями и клапанами, она так царственно сияла у него на дощатой столешнице, что было само собой ясно: эта вещь дороже всех остальных его пожитков, вместе взятых, и люди сходились по вечерам за много миль, специально чтобы поглазеть на ее яростное ровное сияние.
К концу той первой недели он уже всем примелькался: алчный рот, выбритые до синевы щеки, бесчувственные, застывшие глаза, напряженное некрасивое лицо, словно фотомонтаж: Вольтер пополам с пиратом елизаветинских времен[78]. Его тоже стали называть профессором, несмотря на то что выглядел он как раз на свой возраст (двадцать один год) и несмотря на то что в школе была единственная комната, в которой бок о бок теснились ученики всех возрастов – от шестилетних малышей до девятнадцатилетних взрослых балбесов, признающих только кулачный метод установления профессорского диктата, – и всех ступеней подготовки – от едва затвердивших азбуку до начинающих постигать начатки простых дробей. Всех и всему обучал он, и только он. Ключ от школы всегда лежал у него в кармане, совсем как у купца ключ от лавки. По утрам отпирал школу и подметал там; мальчишек сообразно с силой и возрастом свел в команды по заготовке дров и воды и в конце концов – увещеваниями, насмешками, поношением и просто силой – все-таки добился от них толку; по временам помогал им, не с тем, однако, чтобы показать пример, а высокомерно извлекая из этого некое самодостаточное физическое удовольствие: радостно выжигал в себе излишки энергии. Иногда безжалостно оставлял старших мальчишек после уроков, собою загораживал дверь, запирал ее и первым оказывался у раскрытого окна, когда вся братия туда устремлялась. Заставлял мальчишек лазать с ним на крышу – то дранку перестелить, то что-нибудь еще сделать, тогда как раньше все эти заботы брал на себя Билл Варнер, как попечитель, а прежний педагог лишь изводил его жалобами и просьбами. По ночам прохожим бросалось в глаза яростное мертвое сияние патентованной лампы в окне пристройки, где учитель корпел над своими книгами, которые он не то чтобы так уж любил, скорее сознавал, что должен их читать, поглощать и усваивать, и с тем же высокомерным усердием, с каким колол дрова, он выжимал из книг все досуха, соизмеряя ускользающие секунды невозвратимого времени с перевернутыми страницами, кропотливый и неутомимый, как гусеница-листоедка.
Каждую пятницу он брал из загона Варнера жеребца, сильного, будто свитого из железных тросов, с головой, похожей на молоток, седлал его и гнал туда, где наметили следующий матч, либо на станцию, чтобы добраться поездом, порой едва успевая к началу игры – только форму натянет, и сразу свисток судьи. Но в понедельник утром он неизменно был уже снова в школе, пусть даже подчас это означало, что от четверга до понедельника он проводил в постели всего одну ночь, субботнюю. После приуроченной ко Дню благодарения игры Миссисипского университета с сельскохозяйственным колледжем фото Лэбоува появилось в мемфисской газете. Он был сфотографирован в форме и – по этой причине, во всяком случае – для жителей поселка, вряд ли узнаваем. Но имя значилось его, и было оно вполне узнаваемо, только вот газету он в обратный путь с собой не захватил. Никто не знал, чем он там по выходным занимается, знали только, что у него есть какая-то работа в университете. Да кому все это было интересно! Он был уже вроде как свой, и, хотя звание «профессора» предполагало некую исключительность, это была исключительность как бы женская, действующая только в мире женщин, подобно титулу его преподобия. Хотя вообще-то «профессору» не возбранялось выпить, пить с ним вместе никто не стал бы, и, хотя в разговоре с ним соблюдалась не совсем та же осмотрительность, каковая требовалась перед лицом священника, все-таки позволь он себе в том же роде ответить, того и гляди, лишился бы к следующему полугодию должности, и он это понимал. Свое положение он принимал таким, как оно есть, и даже сам старался во всем соответствовать ожиданиям поселян – мрачновато-основательный, не то чтобы зазнавшийся и не так уж агрессивно-педантичный – просто серьезный и собранный.
Среди семестра, во время промежуточных экзаменов, он неделю пробыл в университете. Вернулся и убедил Варнера устроить площадку для баскетбола. Изрядную часть работы проделал сам, со старшими ребятами, и научил их этой игре. В конце следующего года их команда побеждала всех, кого бы ни выискивали они, с кем бы ни встречались на площадке, а еще через год – сам в числе игроков – он вывез команду в Сент-Луис, и там они, как были, босиком и в комбинезонах, вчистую выиграли первенство долины Миссисипи.
Привез своих ребят домой и счеты с поселком на том покончил. Без пяти минут магистр гуманитарных наук и бакалавр права, за три года прослушавший весь курс. Предстояло в последний раз отсюда уехать – с книгами, с прекрасной лампой, с бритвой и с дешевой репродукцией картины Альма-Тадемы[79], подаренной ему на второе Рождество тем же профессором классической словесности, – вернуться в университет к чересполосице занятий по теоретическим дисциплинам и практике права – одно за другим, с раннего утра и до вечера. Читать теперь приходилось в очках; выходя из одной аудитории и направляясь к следующей, он подслеповато щурился на свету – в тех же непарных сюртуке и брюках, единственной его приличной одежде, пробирался сквозь толпу, одетую так, как он, пожалуй, нигде и не видывал, пока не попал сюда: смеющиеся юноши и девушки, они даже не сквозь него смотрели, а просто не видели, обращая на него внимания не больше, чем на столбы с электрическими фонарями, которых, впрочем, до того как приехать сюда два года назад, он и впрямь прежде не видывал. Движется, бывало, сквозь толпу студентов и все с тем же выражением лица, что и во время матча, когда внизу, изгвазданные шипами, выпархивают из-под ног белые полосы, поглядывает на девушек, пришедших сюда явно с целью подыскать себе мужей, и на молодых людей, чьи цели ему были и вовсе неведомы.
А потом настал день, когда вместе с другими он стоял во взятой напрокат мантии и шапочке, и ему выдали туго скрученный пергаментный свиток, размерами не больше свернутого календаря и подобно календарю содержавший все эти три года: изгвазданные, продранные шипами белые полосы, ночи на неутомимом коне, другие ночи, которые он просидел – в пальто, обогреваясь только своей лампой, – над книгами, расправляя и переворачивая страницы мертвых спряжений. Двумя днями позже, в присутствии однокурсников, взошел на кафедру настоящего суда в Оксфорде, и его приняли в адвокаты. И все. Достиг слияния мечты с реальностью – вечером на банкете в обеденном зале гостиницы, где за шумным столом председательствовал городской судья в окружении преподавателей права и всяких других вершителей студенческих судеб. Это было преддверие того мира, в который он с такими трудами пробивался вот уже три года – четыре, если считать тот первый, когда цель была еще не видна. Оставалось только сидеть все с тем же застывшим на лице язвительным недоверием и ждать, когда замрет отзвук последней словесной виньетки, заглушенный последними рукоплесканиями, а потом встать и выйти из зала и двигаться дальше – вперед, в том направлении, которое избрал давно, по меньшей мере года три назад, только вперед, без колебаний, без оглядки. Но он не смог. Даже при том, что первый сорокамильный рывок к свободе (ведь понимал, ведь сам так говорил!), к достоинству и самоуважению был уже сделан, он все-таки не смог. Вернуться, должен вернуться, назад, в замкнутый круг, повинуясь притяжению одиннадцатилетней девчонки, которая даже на переменке, посиживая, как кошка, с прижмуренными от солнца глазами на школьном крыльце и доедая холодную сладкую картофелину, создавала вокруг себя ощущение раскованной телесной нестесненности, точь-в-точь как богини его Гомера и Фукидида: одновременно распутные и непорочные, девственницы и вместе с тем матери воинов, зрелых мужчин.
В то утро, когда брат впервые привез ее в школу, Лэбоув только воскликнул про себя: «Нет. Нет. Не надо. Не надо ее здесь оставлять!» В школе он тогда преподавал всего лишь год, точнее – полугодие из пяти месяцев, еженедельно прерывавшееся ночными поездками в Оксфорд и обратно, да еще с двухнедельным перерывом на экзаменационную сессию в январе, но тем не менее не только вытащил школу из хаоса, в котором ее оставил предшественник, но и придал занятиям некое подобие порядка. Один, без помощника, в единственной комнате, где не было даже перегородки, он тем не менее подразделил учеников по их способностям и подготовке и привел занятия в какую-то систему, не только подчинившую себе школьников, но и завоевавшую в конце концов их признание. Однако не был он ни горд, ни даже доволен. Доволен был только тем, что это все-таки прогресс, движение, и пусть их познания не бог весть как расширятся, но уж порядку и дисциплине он их научит. Потом однажды утром, оторвавшись от корявой классной доски, он увидел личико восьмилетней девочки, рослой, как четырнадцатилетняя, с формами женщины двадцати лет, причем, едва переступив порог, она привнесла в унылую, полутемную, выстуженную обитель суровых отправлений протестантского начального образования влажное дуновение сладостного весеннего соблазна, языческого всепобеждающего преклонения перед верховным культом изначального лона.
Он только раз на нее взглянул и уже увидел то, что ее брату уготовано было узнать последним. Увидел, что она не только не будет учиться, но и нет в учебниках, да и вообще в книгах нет никакого необходимого ей знания – ей, уже от рождения всем оснащенной не только для сражений, для противоборства, но и для преодоления всего, чем ни надумает ей преградить дорогу изобретательная судьба. Увидел дитя, чей облик следующие два года ему предстояло наблюдать с чувством, принятым поначалу за раздражение, и только: девочка восьми лет и уже настолько взрослая, что стадия женского созревания у нее началась и завершилась не иначе как еще в материнской утробе, и вот теперь, даже и не самоуглубленная, но зачарованно-безмятежная, она покорялась понуждающим к движению внешним силам всего лишь с тем, чтобы переместить из одних четырех стен в другие это свое осязаемо застывшее ожидание, пронизывающее и объемлющее всю массу дней неубыстряемо-медлительно вызревающего времени, когда придет – кто бы он ни был – тот мужчина, чье имя, чье лицо пока ей неведомо, невиданно, и вломится, и все нарушит. Пять лет предстояло учителю наблюдать, как ее каждое утро доставляет в школу брат, после ухода которого девчонка продолжает сидеть так же, там же, чуть ли не в той же позе, как брат ее оставил, и ее сложенные на коленях руки часами покоятся, словно два никак с нею не связанных дремлющих тела. Когда все-таки удавалось привлечь ее внимание, она отвечала «не знаю», а если учитель настаивал – «мы этого еще не проходили». Так, будто ее мускулы, вся ее плоть недоступны ни усталости, ни скуке, или словно она, как истый символ дремлющего девства, наделена жизнью, но не чувственным ее восприятием и только ждет, пока явится брат, этот снедаемый ревностью жрец-евнух, и заберет ее.
Каждое утро она появлялась со своим клеенчатым портфелем, в котором если и носила что-нибудь, кроме печеного сладкого картофеля (жевала его на переменках), то Лэбоув этого не замечал. От одного того, как она шла по проходу между рядами, деревянные скамьи и парты сами собой превращались в священную рощу Венеры, а все до единого представители мужского пола – от мальчишек, едва вступивших в пору возмужания, до взрослых парней по девятнадцать-двадцать лет, из которых один уже был мужем и отцом, и любой мог от восхода до заката перепахать десять акров земли, – все до единого бросались в драчливое соперничество, докучливые в своем стремлении затмить всех остальных жертвенным рвением. Иногда по пятницам в школе устраивались вечеринки, где ученики могли предаваться дразнящим забавам отрочества под присмотром учителя. Она не принимала участия в забавах и тем не менее была их центром. Посиживала у печки в точности так же, как сидела на уроках, рассеянно и равнодушно поглядывая, безмятежная среди буйства, взвизгов и топота, и при этом именно она подвергалась сразу дюжине поползновений сразу в дюжине темных уголков и закуточков и под дюжиной разных пестрядевых и ситцевых платьиц. В своем классе она была не из лучших и не из худших, причем первое не потому, что не желала учиться, второе не потому, что она дочь Варнера, от которого зависела вся школа, а потому, что уже на следующий день после ее прихода не оставалось ни лучших, ни худших. К концу года вообще не осталось младшего класса, из которого ее можно было бы перевести в следующий, а все по той причине, что невозможно было ей оказаться ни в начале, ни в конце чего бы то ни было, наделенного жизнью, живой кровью. Все вокруг нее свертывалось, на манер пчелиного роя, в какой-то ком с единственной выделенной точкой, и именно она была этой точкой, этим центром, вокруг нее роились, ее домогались, тогда как она, оставаясь безмятежной и недоступной, по видимости, даже не замечала происходящего, спокойно низводя и попирая всю плодоносную цепь человеческих раздумий и мучений, которая зовется знанием, образованием, премудростью, одновременно предельно непристойная и неприкосновенная: царица, матка.
Он наблюдал это два года, все еще принимая свое чувство за раздражение, и только. В конце второго года предстояло закончить университет, получить свои два диплома. После этого все, конец. Единственная причина его работы в школе отпадет и исчезнет. Цель достигнута, замысел воплощен, ну а цена – что ж, не самым меньшим испытанием были эти ночные поездки за сорок миль в университет и обратно, ведь он, верный обычаям и традиции фермеров-пахарей, ради забавы на лошадь не садился. Тогда можно будет отправиться дальше, поселок отринув, забыть о нем навсегда. Первые шесть месяцев он был в своей решимости уверен, следующие восемнадцать только уверял себя в ней. Особенно легко не только самоуверения, но и сама решимость давались издали, когда он уезжал из поселка в университет на последние два месяца весеннего семестра и следующие за ними восемь недель летнего, в который он кусками упихивал свой четвертый учебный год, да потом еще во время тех восьми недель, что в школе считались его каникулами, а проходили на пилораме, хотя в деньгах он теперь не нуждался (до окончания университета и так бы хватило), но лучше иметь в кармане побольше, когда, в последнюю дверь выйдя, встанешь на трудную прямую дорогу: ведь тут уже ничего нет между тобой и твоей высшей целью, кроме тебя самого; да еще в те шесть недель осени, когда каждую субботу под вечер изгвазданные белые линии выпархивали из-под ног и кругом весь воздух вопил и выл в истерике, а он – вот в эти скоротечные секунды он как раз и жил: свободный, яростный, сосредоточенный, при всем своем недоверии.
Потом однажды он обнаружил, что почти два года лгал сам себе. Произошло это после возвращения в университет во вторую весну, примерно за месяц до выпуска. Официально он от места в школе не отказался, хотя, покидая поселок месяц назад, не сомневался в окончательности отъезда: в самом деле, они с Варнером определенно договорились, что он нанимается учителем только для того, чтобы дотянуть до диплома. В общем, думал, что уезжает навсегда. До выпускных экзаменов оставался месяц, потом адвокатская стажировка, и двери перед ним раскроются. Ему даже должность пообещали на поприще, им самим избранном. Потом однажды вечером – ему это было как снег на голову – зашел он в обеденный зальчик своего пансиона, и тут хозяйка выходит и говорит: «Хочу вот угостить вас. Смотрите, что принес мне зять», – и ставит перед ним тарелку. Там была сладкая картофелина, печеная, единственная, и пока хозяйка ахала: «Да что с вами, мистер Лэбоув, вы не заболели?» – он уже успел встать и выйти. Попав наконец к себе в комнату, он почувствовал, что должен отправляться сейчас же, не откладывая, пешком так пешком. Он видел ее воочию, чувствовал даже ее запах – вот она сидит там, ест свою картофелину, спокойно жует, ужасающая в своей способности держаться так, будто она не только ненароком оказалась вся вовне своего платья и ничего не может с этим поделать, но словно она голая и даже не догадывается об этом. Теперь он понял, что вовсе не школьным крылечком, а его мыслями она завладела, неотступно пребывая в них все эти два года, что вовсе это был не гнев, не раздражение, а ужас и что врата, которые он воздвиг перед собой как цель, были не целью, а рубежом спасения, – так человек, в минуту опасности избравший бегство, бежит не ради приза, а стремясь вырваться из чреватых смертью пределов.
Но до конца он все-таки тогда не сдался, хотя и произнес впервые вслух: «Нет, не вернусь». Прежде эти слова произносить нужды не было, поскольку до той поры он был убежден, что уйдет. Что ж, по крайней мере он еще мог себя уверять в этом, ведь вслух сказать – уже много значит, и только на этом одном он дотянул до выпуска, до адвокатских испытаний и перетерпел банкет. Перед самым началом торжества к нему подошел один из таких же, как он, неофитов. Мол, после банкета все едут в Мемфис для более углубленного и менее формального ликования. Он понимал, что это означает: напьются в гостинице, а после – не все, но уж кое-кто непременно – прямым ходом в бордель. Он отказался – не потому, что дорожил невинностью, и не потому, что не было денег на подобного рода траты, а потому, что до самого конца все надеялся, как истый выходец из низов все еще хранил в себе чисто эмоциональную, совершенно безосновательную веру в образование, в белую магию латыни на дипломном пергаменте – чувство, в сущности, такое же, как вера старого монаха в свой деревянный крестик. Потом последний спич отзвучал, потонув в рукоплесканиях, в шарканье стульев; дверь открыта, дорога ждет, но он знал, что не сделает по ней ни шагу. Подошел к парню, который звал в Мемфис, и изъявил согласие. Вместе с остальными сошел в Мемфисе с поезда и спокойно спросил, где здесь бордель.
– Вот черт! – попробовал урезонить его один из их компании. – Неужто не потерпишь? Давай сперва хотя бы в гостиницу определимся.
Терпеть он не стал. Вызнал адрес и пошел один. Решительно постучал в неподобающую дверь. Проку не жди. Да и не ждал он. Было в нем то, без чего невозможно изведать до конца ни бесстрашия, ни страха: умение в критический момент взглянуть на себя со стороны и вообразить картину своего поражения (что само по себе чревато неудачей и бедой). «По крайней мере хоть моя невинность будет ни при чем, когда она меня с презрением отвергнет», – твердил он себе. Наутро выпросил у своей ночной подружки листок дешевой линованной бумаги из блокнота и конверт (розовый, еще слегка пахнущий духами) и написал Варнеру, что остается в школе на следующий год.
Он там остался еще на три года. За это время сделался и впрямь монахом: унылый школьный домишко, чахлый маленький поселок был его горой Галилейской, его Гефсиманией и – он сам понимал это – его Голгофой[80] тоже. Учитель превратился в этакого искушаемого плотью анахорета былых времен. Нетопленая каморка в пристройке была его кельей, тощий сенник, брошенный прямо на дощатый пол, – ложем из камней, на которое он падал ниц, зимними ночами в стальную стужу обливаясь потом – голый, закоченевший, стиснутые зубы, лицо ученого, волосатые ноги фавна. Потом наставал день, он подымался, одевался, что-то ел, даже не чувствуя вкуса. Он и прежде особого внимания еде не уделял, но теперь подчас не мог вспомнить, ел он сегодня или нет. Потом выходил, отпирал школу, садился за свой стол и ждал, когда она пройдет между рядами парт. Давным-давно уже закрадывалось в голову: не жениться ли на ней, подождать, когда подрастет, да и – чем черт не шутит – посвататься к ней, попытаться, но эту мысль он отбросил. Во-первых, ему вовсе не нужна жена, сейчас по крайней мере, а возможно, и никогда нужна не будет. К тому же не в жены он ее хотел заполучить, она ему нужна была на один раз, как человеку с гангренозной рукой или ногой нужен только один удар топора, чтобы хоть как-то уцелеть. Но он бы заплатил и эту цену, лишь бы освободиться от наваждения, да только знал он: никогда этому не бывать, и не только потому, что отец не согласится, а из-за нее самой – было в ней нечто, в корне отрицающее меновую стоимость любой посвященной ей отдельно взятой жизни, любой способности к поклонению, нечто, низводящее к смехотворному пустяку любой отпущенный отдельному человеку запас так называемой любви. Он чуть ли не воочию видел, кто когда-нибудь станет ее мужем. Карлик, гном – ни желез, ни желания, – и физически он будет в ее жизни значить не больше, чем имя владельца на форзаце книги. Ну вот, снова книги, все опять из книг, слепой, непропечатавшийся шрифт, уже заманивший его черт-те куда, мертвое подобие картины: Венера и Вулкан[81], калека, который не обладает ею, а просто владеет, тупо, по праву сильного, за счет голой власти – той, что дают деньги, богатство, побрякушки, цацки, точно как он владел бы… нет, не картиной, не статуей, а, например, полем. Вот оно перед глазами: прекрасная тучная земля, плодоносная почва, податливая и недосягаемая и недоступная как раз ему – тому, кто заявил на нее свои права, – лежит, в полном о нем забвении, вбирая в себя вдесятеро против того количества живого семени, какое способен скопить и исторгнуть за всю свою жизнь владелец, и производя в тысячу раз больше, чем владелец смел даже надеяться собрать и сохранить.
Так что это отброшено. Но все же он не уезжал. Не уезжал ради того, чтобы, дождавшись окончания последнего урока, когда все разойдутся и школа опустеет, иметь возможность встать и со спокойной обреченностью в лице подойти к той самой скамье, положить ладонь на вытертую деревяшку, нагретую под тяжестью ее тела, или даже встать на колени и лицом прильнуть к сиденью, заключить в объятия бесчувственное дерево, потереться, нежась, о него щекой, пока еще в нем чудится тепло. Он сошел с ума. И понимал это. Временами даже бывало, что ему не хотелось любить ее, а хотелось мучить, ранить, увидеть брызнувшую, хлынувшую кровь, сверху смотреть, как это безмятежное лицо исказит неизгладимая мета ужаса и боли, хотелось оставить на нем свою неизгладимую мету, а после этого смотреть, как оно даже лицом быть перестает. Потом наваждение покидало его. Он изгонял из себя беса, и сразу они менялись с нею местами. Теперь уже он во прахе у ее ног, а в вышине над ним это лицо, даже в четырнадцать лет дышавшее усталым знанием, которого ему никогда не обрести, – всего этого пресыщения, всей этой отрыжки порочного опыта. Перед этим знанием он как ребенок. Как дева, юная и невинная, вне себя от растерянности, сбитая с толку и попавшая в тенета не опыта и зрелости соблазнителя, но слепых и безжалостных сил в ней самой, которые, как она вдруг поняла, дремали в ней годами, а она даже не подозревала об их существовании. И к этой умудренности, простертый ниц, он униженно взывал: «Покажи, что делать. Повелевай мною. Я сделаю все, что ты скажешь, что угодно, лишь бы познать то, что тебе ведомо». Он сошел с ума. И понимал это. Он понимал, что рано или поздно что-то произойдет. И понимал, что так или иначе, но именно он будет разбит и уничтожен, пусть даже он пока и не догадывается о том, где пролегла та единственная роковая трещинка в его броне, трещинка, которую она найдет безошибочно и инстинктивно, не успев даже осознать, насколько велика была опасность. «Опасность? – подумал, нет, выкрикнул он. – Опасность? Не для нее опасность, а для меня. Мне страшно оттого, что я могу сделать, но не за нее страшно, потому что ни один мужчина не может сделать ничего такого, что причинило бы ей вред. А за себя, из-за того, что тогда будет со мной».
Потом однажды под вечер он обрел свой топор. И продолжал рубить с доходящим чуть ли не до оргазма наслаждением в болтающихся нервах и сухожилиях гангренозной конечности еще долго после того, как обрушился первый неловкий удар. Сперва ни звука. Последние шаги уже затихли, и дверь хлопнула в последний раз. Как она вновь отворилась, он не услышал. Хотя что-то все-таки заставило его поднять приникшее к теплому сиденью лицо. Она была опять в классе, стояла, глядя на него. Он чувствовал, что она не только узнала место, у которого он преклонил колени, но и поняла почему. Возможно, в этот миг он осознал, что она всегда все понимала, потому что он тотчас заметил, что она не боится, не смеется над ним, а просто ей все равно. К тому же она не догадывалась, что стоит лицом к лицу с человеком, решившимся на убийство. Она спокойно отпустила ручку двери и прошла между рядами парт к доске, туда, где стояла печка.
– Джоди еще нету, – сказала она. – Там холодно. А зачем вы под парту залезли?
Он встал. Она шла не останавливаясь, со своим клеенчатым портфелем, который таскала с собой уже пять лет, но дома едва ли открывала, разве что с тем, чтобы положить туда холодную сладкую картофелину. Он двинулся к ней. Она остановилась, глядя на него.
– Не надо бояться, – сказал он. – Не надо бояться.
– Бояться? – отозвалась она. – Чего? – Она отступила на шаг, потом застыла, глядя ему в глаза. Она не боялась. «Этого она тоже еще не проходила», – подумал он, а потом что-то яростное и холодное, будто он что-то утратил и сам же от утраченного отрекался, пронзило его, хотя и не отразилось на лице, слегка даже улыбающемся, печальном, измученном и обреченном.
– То-то и оно, – сказал он. – В том-то и дело. Не боишься. Этому придется тебе научиться. Уж этому-то я тебя научу.
Однако он уже научил ее кое-чему иному; правда, выяснить это ему предстояло только через минуту-другую. Она действительно кое-чему научилась за пять лет в школе, и теперь ей предстояло держать по этому предмету экзамен и сдать этот экзамен. Он шел на нее. Она стояла не двигаясь. Потом оказалась в его руках. Он налетел так быстро и безжалостно, словно она держала мяч или словно у него был мяч, а она стояла между ним и последней белой полосой, которую он ненавидел и до которой должен был добраться. Он налетел на нее, и два тела сшиблись и закружились в едином неистовом вихре, потому что она даже не попыталась увернуться, не говоря уже о сопротивлении. Казалось, она на миг подпала под гипноз, пораженная этим неожиданным мягким соударением, большая, неподвижная, глаза почти вровень с его глазами, – все это тело, которое всегда было как бы вовне покровов и, даже не ощущая этого, превращало в приапический сумбур[82] то, чему, ценой трех лет долготерпения, жертвенного самобичевания и непрестанной борьбы со своей собственной неумолимой кровью, он купил себе право посвятить жизнь – тело такое текучее и бескостное, словно какое-то заколдованное, нерастекающееся молоко.
Потом это тело собралось для яростного и безмолвного сопротивления, в котором даже тогда он был вполне способен распознать не страх и даже не отвращение, а просто досаду и удивление. Она была сильной. Он знал это заранее. Он и хотел этого, ждал этого. Они яростно схватились. Он все еще улыбался, даже бормотал: «Так-то вот! Давай-давай. Поборемся. В том-то и беда: мужчина и женщина вечно борются. Ненавидят. Убить, но только так, чтобы убитый на веки вечные понял, что она или он мертв. Не так, чтобы он лег спокойно мертвым, потому что с той поры и навсегда в могиле оказались бы двое, а эти двое никогда не смогут мирно улечься вместе, и порознь они – ни один из них – не смогут улечься и успокоиться, пока живы». Он обхватил ее не крепко, так, чтобы лучше чувствовать яростное сопротивление костей и мускулов, слегка придерживал, не давая добраться до его лица. Она не издала ни звука, несмотря на то что брат, никогда не опаздывавший за ней заехать, наверняка был уже у дверей школы. Лэбоув об этом не думал. Наверное, ему это было безразлично. Придерживал ее, по-прежнему с улыбкой, бормоча обрывочную мешанину из греческих и латинских стихов и миссисипско-американских непристойностей, как вдруг ей удалось высвободить одну руку, и локоть с силой поддел его под подбородок. Он пошатнулся; прежде чем он вновь обрел устойчивость, полновесный удар другой руки пришелся ему в лицо. Он отшагнул назад, споткнулся о скамью, повалился и повалил скамью на себя. Юла стояла над ним, дыша глубоко, но без одышки и даже не растрепавшаяся.
– Нечего меня лапать, – сказала она. – Вы, старый безголовый всадник, Икабод Крейн![83]
Когда затихли звуки ее шагов и затворяемой двери, в тишине громко раздалось тиканье дешевых часов, которые он привез из своей комнаты в университете, звуки падали с металлическим дребезгом, как дробинки в жестяное ведро, но, прежде чем он начал подниматься, дверь снова отворилась, и он, сидя на полу, опять глядел, как она идет, возвращается по проходу.
– Где тут моя… – начала она, но тут же увидела, подхватила с пола портфель и снова повернулась к выходу. Опять он услышал, как хлопнула дверь. «Значит, она ему еще не сказала», – подумал Лэбоув. Он знал ее брата. Тот не стал бы медлить, отвозить ее сперва домой, явился бы тотчас, наконец-то во всеоружии правоты после пяти лет ни на чем не основанной бешеной уверенности. Что ж, на худой конец хотя бы это. Пусть не с нею: слов нет – с нею сорвалось, но это было бы от той же самой плоти, то же телесное, живое тепло и та же кровь, хотя бы под ударом: некий пароксизм, вроде оргазма, катарсис, ну хоть бы что-нибудь – хотя бы это. С тем он и поднялся, подошел к своему столу, сел и повернул часы циферблатом к себе (до этого они стояли под углом, чтобы можно было следить за временем с того места у доски, где он обычно выслушивал ответы учеников). Расстояние между школой и варнеровским домом было ему известно, а на коне он достаточно поездил в университет и обратно, так что не составляло труда прикинуть время поездки верхом. «Назад небось галопом бросится», – подумал он. Отмерил расстояние, которое должна пройти минутная стрелка, и сидел, смотрел, как она подползает к выбранной им отметке. Потом оторвал взгляд и оглядел единственное сравнительно свободное пространство в комнате, где стояла печка и доска на козлах. Печку не сдвинешь, доску – другое дело. Но даже и тогда… А может, лучше встретить брата во дворе: иначе кто-то может пострадать. Потом ему пришло в голову, что это как раз и требуется – чтобы кто-то пострадал, – и тут он спокойно спросил себя: «Кто?» – и ответил сам себе: «Не знаю. Все равно». Тут он снова уставился на циферблат. И даже когда минул целый час, он все еще никак не мог поверить, что его постигла последняя и окончательная катастрофа. «Наверное, он стережет меня в засаде, залег с револьвером. Но где? Какая засада? Какая еще ему засада удобнее этой?» – а перед глазами уже была она, как она войдет опять завтра утром, спокойная, безмятежная, уже все забывшая, со своей холодной картофелиной, которую на переменке съест, сидя на солнечном крылечке, похожая на какую-нибудь из нецеломудренных и, может, даже неизвестно от кого понесших во чреве богинь, вкушающих хлеб бессмертия на солнечном склоне Олимпа.
И вот он поднялся, собрал свои книги и бумаги, которые вместе с часами уносил в свою голую комнатенку каждый вечер и приносил каждое утро обратно, сунул их в стол, задвинул ящик, носовым платком вытер столешницу, двигаясь неторопливо, но методично, с невозмутимым лицом завел часы и поставил их опять на стол. Пальто, которое футбольный тренер подарил ему шесть лет назад, висело на гвозде. Секунду он глядел на пальто, но все же встал, взял его, и даже надел, и вышел из комнаты, наконец опустевшей, из комнаты, где все-таки всегда и было и будет впредь слишком много народу; где с того самого первого дня, когда брат привел в класс эту ученицу, всегда было слишком многолюдно и тесно, да и в любой комнате, где бы она ни очутилась, где бы ни провела она времени достаточно, чтобы вздохнуть, даже в одиночестве будешь чувствовать себя так, словно тебе тесно.
Едва он вышел, сразу же увидел чалого жеребца на привязи у столба перед лавкой. «Ну правильно, – спокойно подумал он. – Естественно, не будет же он всюду таскать револьвер с собой, да и дома хранить под подушкой тоже не очень-то к месту. Конечно. В том-то и дело. Тут-то он револьвер и держит», – продолжал убеждать себя учитель, говоря себе, что ее брату, возможно, нужны свидетели, как нужны они ему самому, и с лицом теперь уже трагически спокойным направился к лавке. «Вот, пусть это будет доказательством, – кричал он про себя. – Доказательством в глазах и в сознании всех живущих, что случилось то, чего не случилось. И это лучше, чем ничего, хоть меня уже и не будет, чтобы убедиться, что люди поверили. И в сознании всех живущих это застрянет на веки вечные, тем более неискоренимо, что только двоим ведомо иное, и один из этих двоих будет мертв».
День был серым, плотности и цвета железа, один из тех безветренных студенисто-окоченелых дней, чересчур мертвенных даже для того, чтобы разрешиться снегом, таких дней, когда даже свет не меняется, а появляется из ничего на рассвете и, испустив дух, без перехода растворяется в темноте. Поселок будто вымер: запертые ставнями и примолкшие хлопкоочиститель с кузней, почерневшая от непогоды лавка; о наличии жизни напоминал лишь неподвижно стоявший конь, да и то не потому, что шевелился, а потому, что с виду напоминал нечто заведомо признанное живым. Но в лавке-то наверняка люди есть. Он их воочию видел: в тяжелых башмаках и сапожищах, в комбинезонах и грубых рабочих куртках, оттопыренных толщей всяческого надетого под них утепления, – угнездились небось вокруг ящика с песком, на рябой поверхности которого, тяжело раскорячившись, стоит печка, пышет добрым, сильным жаром, имеющим даже свой запах – мужской, почти монастырский, сгустившийся дух зимней отрешенности от женского начала, дух прицельных табачных плевков, выгорающих на железных боках печки. Добрый жар; можно войти в него – и не с сурового бесплодного мороза, но из самой жизни: ступенька за ступенькой подняться, шагнуть через порог и за пределы бытия. Конь поднял голову и смотрел на него, пока он проходил мимо. «Нет, не тебе, – сказал он коню. – Тебе стоять снаружи, здесь стоять, в стороне от крови, которой суждено пролиться. А мне вот надо идти». Он взошел по ступенькам, пересек истертые множеством каблуков доски галереи. На затворенной двери висел наполовину содранный плакат с рекламой патентованного средства: чье-то лицо, самодовольное, бородатое, лицо человека удачливого, живущего где-то далеко, с женой, с детьми, в богатом доме и вне досягаемости для страстей и кровной мести, того, кому не надо даже умирать, чтобы, распятую кнопками на двери, оставить по себе память, вездесущую и нетленную в десяти тысячах ликов, изодранных и выцветающих на десяти тысячах потемневших под дождями некрашеных дверей, стен и заборов, увешанных ими по всей стране наперекор погодам – от дождя и лютой наледи до летней палящей жары.
Потом, уже взявшись за ручку двери, готовый нажать на нее, он помедлил. Однажды (ну да, конечно, он ехал тогда играть в футбол: он и на поезд иначе как для этого ни разу не садился, разве что в тот раз – добраться до Мемфиса) он сошел на унылую станционную платформу. В дверях вокзала вдруг поднялась какая-то суматоха. Послышались вопли, ругань, из дверей выбежал негр, за ним, с криком, белый мужчина. Негр, пригибаясь, повернулся, очевидцы отпрянули, и белый выстрелил из тупого пистолета в негра. Запомнилось, как негр, схватившись за живот, упал ничком, потом вдруг перевернулся на спину, стал вытягиваться, словно пытаясь добавить целый ярд к своему росту; на изрыгающего ругань белого мужчину набросились, обезоружили, паровоз свистнул, и поезд потихоньку тронулся; железнодорожник в форме выскочил из толпы и побежал за поездом и, уже с подножки, все продолжал глядеть назад. А еще запомнилось, как он сам расталкивал толпу, машинально пользуясь футбольными приемами, пробился и смотрел на негра, а тот недвижимо лежал на спине, все так же держась за живот, с закрытыми глазами и совсем мирным лицом. Потом какой-то человек – врач, а может, станционный служащий, это осталось неясным, – опустившись на колени, склонился над негром. Он пытался разнять негру руки. Никаких внешних признаков сопротивления не было, просто ладони и все целиком руки негра под прикосновениями этого доктора или дежурного по станции сделались словно чугунными. Негр ни глаз не открыл, ни его мирное выражение лица не изменилось, он только сказал: «Да что ж это вы, белые люди, делаете. Вы ж меня застрелили». Но в конце концов руки негру расцепили, и запомнилось, как с него стаскивали куртку, комбинезон, под которым был какой-то драный полувоенный френч, оказавшийся старой шинелью, обрезанной по бедра чем-то острым, как видно бритвой; под шинелью была рубаха и штатские брюки. Когда брюки расстегнули, пуля выкатилась на платформу, чистая, не окровавленная. Он отпустил ручку двери, снял пальто и перебросил его через руку. «По крайней мере с этим хлопот не доставлю», – подумал он, открыв дверь и ступая через порог. Сначала показалось, что комната пуста. Печь в ящике с рябым песком, вокруг печи бочонки из-под гвоздей и перевернутые ящики; слышался даже душный запашок выгорающего табачного плевка. Но никого не было, никто не сидел на бочонках и ящиках, и, когда спустя секунду он увидел одутловатую, сердито насупленную физиономию ее брата, поднявшегося ему навстречу со своего места за конторкой, на мгновение им овладела досада и возмущение. Пришло в голову, будто Варнер нарочно очистил помещение, всех отослал прочь специально, чтобы лишить его последней поддержки, не допустить возможности утверждения его победы, которую приходится покупать ценой собственной жизни; и вдруг он ощутил в себе яростное, просто бешеное нежелание умирать. Резко пригнувшись, ступил в сторону, уже увертываясь, рыская в поисках какого-нибудь оружия, пока Варнерово лицо вздымалось над конторкой выше, выше, словно желтушная луна.
– Ну, что вам еще надо? – заговорил Варнер. – Сказано же вам два дня назад, что стекла еще не завезли.
– Стекла? – эхом отозвался Лэбоув.
– Да приколотите там пару досок, – продолжал Варнер. – Вы что думаете, я специально поеду в город, только чтобы вам за шиворот не надуло?
Тут он вспомнил. Стекла побили во время рождественских праздников. Временно он заколотил окно досками. И совсем забыл об этом. И о том, что ему говорили два дня назад про обещанные стекла, тоже забыл, как и о том, что сам о них справлялся. А теперь и вовсе – стекла, рамы – все это вылетело из головы. Тихо выпрямился и встал, с пальто через руку, и даже угрюмое, недоверчивое лицо перед ним словно пропало из виду. «Да, – спокойно подумал он. – Да. Понятно. Она ему вовсе ничего не сказала. И не забыла даже. А просто не поняла, что случилось то, о чем следовало бы сообщить». Варнер все еще говорил, значит, кто-то ему все же ответил.
– Ну, так что же вам тогда нужно?
– Гвоздь нужен, – проговорил он.
– Ну так возьмите. – Лицо Варнера уже исчезло, растворилось в темноте над конторкой. – Молоток занесете потом…
– Молоток мне не нужен, – сказал он. – Нужен только гвоздь.
Тот дом, где в неотапливаемой пристройке он прожил теперь уже шесть лет со своими книгами и яркой лампой, был между лавкой и школой. Проходя мимо, он на него даже не взглянул. Вернулся к школе, затворил и запер дверь. Обломком кирпича вогнал гвоздь в стену около двери и повесил на него ключ. Школа была у дороги на Джефферсон. А пальто было уже при нем.
Глава вторая
1
Всю ее четырнадцатую весну и пришедшее следом долгое лето юнцы пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет, учившиеся с нею в школе, да и не учившиеся тоже, роились вокруг нее, словно осы вокруг спелого персика, на который были похожи ее пухлые влажные губы. Ребят было около дюжины. Из них сплотилась группа, тесная, однородная и шумливая, и в этой группе она была неподвижной осью, этаким постоянно и непрерывно что-то жующим центром. Были в их компании и еще три-четыре девочки, не столь заметные, хотя нарочно ли она их держала при себе для фона, было не ясно. Все эти девочки были меньше ее ростом, хотя, как правило, годами старше. Казалось, то изобилие, что снизошло на нее еще в колыбели, дав ей возможность затмить всех вокруг чертами лица и формами тела, гладкостью кожи и великолепием волос, на том не успокоилось, нет, надо было вконец уничтожить всех ее возможных соперниц, подавив их окончательно уже просто размерами, объемом, весом.
Ребята собирались по меньшей мере раз в неделю, порою чаще. Сойдутся, бывало, в церкви воскресным утром и сядут в ряд, заняв две соседние скамьи, и вскоре эти две скамьи стали их признанным местом, с согласия как паствы, так и священника, – все равно что класс или какой-нибудь изолятор. Встречались они и на общественных вечеринках, происходивших в пустовавшем помещении школы, которой предстояло почти два года служить только для развлечений, пока не дождались нового учителя. Приходили уже все вместе; в играх, где требовалось разбиваться на парочки, неизменно выбирали кого-нибудь из своих, при этом мальчишки паясничали, безжалостно-насмешливые и громогласные. Больше всего это напоминало еженедельную встречу масонов, ненароком очутившихся где-нибудь в Африке или Китае. Вместе и уходили, тесной шумливой гурьбой шагали по залитой светом луны и звезд дороге, провожали этот драгоценный центр всей компании до ворот отцовского дома и разбредались. Если между мальчишками и случались потасовки из-за того, кому именно провожать ее до дому, об этом никто не знал, тем более что никто не видел, чтобы ее откуда-нибудь провожал кто-то один; впрочем, она и вообще куда бы то ни было ходила только в случае полной невозможности уклониться.
Встречались они и на церковных празднествах, крещениях и разного рода пикниках по всей округе. В тот год предстояли выборы, и в промежутке между окончанием сева и началом прополки и окучивания происходили не только церковные сходки и спевки по первым воскресеньям каждого месяца, но и предвыборные пикники. Теперь коляску Варнеров каждое воскресенье видели среди других экипажей то у церковной ограды, то на опушке рощицы, где женщины накрывали длинные дощатые столы, расставляя всевозможную холодную снедь, которой хватило бы на неделю, тогда как мужчины в это время стояли вокруг наспех сколоченных трибун, слушая речи кандидатов в окружное начальство, в сенат штата и в конгресс, а молодежь группками и парочками слонялась по всей рощице, и едва только удавалось заманить девиц куда-нибудь в уединенный уголок, тут же начинались неловкие попытки юношеского приставания и соблазнения. Речей она не слушала, столов не накрывала и гимнов не пела. Только и делала, что сидела в окружении двух, трех или четырех своих невзрачных подружек, словно ядро безысходности всей их шумливой компании: ядро, центр, средоточие – здесь, как и на прошлогодних школьных вечеринках, она источала тот же дурман брезжущего материнства, однако лапать себя все так же не позволяла, и, несмотря на зазывно-попустительскую ауру, внутри которой она как бы и дышала и ходила (чаще, впрочем, просто сидела), в ней ощущалось некое бескомпромиссное целомудрие, непоколебимое даже в атмосфере всеобщего возбуждения, частенько перехлестывавшего предательскую грань между протестантским религиозным воодушевлением и чувственной горячкой. Она как будто в самом деле знала, какой миг, какая секунда ей предуготована, и пусть с этим еще не связывалось ни имени, ни лица, но она уже ждала этой своей секунды, а не той, когда позовут есть, как казалось со стороны.
Потом опять-таки собирались они и дома у девочек. Встречи эти, разумеется, назначались заранее, и, конечно же, вся подготовка была делом рук ее подружек, хотя понимала ли она, что ее приглашают специально, чтобы пришли мальчики, – это из ее поведения никто вывести бы не взялся. Иногда она к подружкам в гости ездила с ночевкой, бывало, и на два-три дня. Ходить по вечерам на танцы, которые устраивались в поселковой школе либо в других школах или лавках по соседству, ей не разрешалось. Добиться позволения она никогда и не стремилась: брат запретил это, к тому же в довольно резкой форме, еще прежде, чем кто-либо мог понять, станет она туда проситься или нет. Однако против поездок в гости брат ничего не имел. Даже сам доставлял ее туда и обратно на том же коне, на котором прежде возил в школу и из школы, и тратить время на это его понуждали те же соображения, по которым когда-то ей не позволялось ходить одной к нему навстречу от школы к лавке и из-за которых он по-прежнему кипел мрачным негодованием фанатика, убежденного в необходимости своей борьбы, и все так же он одолевал милю за милей, ощущая спиной мягкие прикосновения млечных округлостей, причем рука, цепляющаяся за перекрестие его подтяжек, одновременно держала и клеенчатый ученический портфель с ночной рубашкой и зубной щеткой, захваченными по настоянию матери, а над ухом неумолчно раздавалось тихое чавканье; зато, осадив коня перед домом, куда она ехала в гости, он отводил душу: «Да перестань ты наконец жевать эту проклятую картофелину! Живо слезай, мне ведь работать надо!»
В начале сентября в Джефферсоне проводилась ежегодная окружная ярмарка. Вместе с родителями дочь поехала в город и четыре дня прожила в пансионе. Все ее мальчики и трое девочек были уже там и ждали ее. Пока отец осматривал коней, мулов и сельскохозяйственные орудия, а мать – неугомонная хлопотунья – сновала между рядов выстроенных по ранжиру кувшинов, банок и фигурных пирогов, дочь все в тех же прошлогодних платьях, только с подолу выпущенных, целый день либо бродила, непрестанно что-нибудь жуя, от тира к качелям да от качелей к эстраде, окруженная шумной ватагой грубоватых и задиристых юнцов, либо раз за разом, не слезая и все время жуя, каталась на каруселях, верхом на деревянных лошадках, обнажив до середины бедра длинные, как у олимпийской богини, ноги.
Когда ей стало пятнадцать, вокруг уже увивались мужчины. И роста соответствующего, и работу выполняющие с мужчинами наравне – восемнадцати-, девятнадцати– и двадцатилетние, те, кому в то время и в тех местах полагалось посматривать на девушек уже с мыслями о женитьбе, – что до нее, то лучше бы смотрели на других, что до них самих, то им бы чуть ли не любую. Но о женитьбе они не помышляли. Их тоже было около дюжины – тех, кто, улучив мгновенье, выбрав какой-то миг этой второй весны, миг, так и не замеченный братом, ворвался в ее бесперебойно-гладкую орбиту, словно пронесшийся табун диких жеребчиков, безжалостно разметавший ребятню из ее прошлогоднего вчера. Ее брату еще повезло, что в том году пикники не устраивались так часто, как в прошлое, предвыборное лето; нынче он разъезжал со всей семьей в коляске, угрюмый, чуть не клокочущий от ярости, распаренный в своем мешковатом суконном костюме с крахмальной рубашкой без воротничка, и теперь, словно онемев от изумления, больше на сестру даже не рявкал. Миссис Варнер под его нажимом стала следить, чтобы дочь носила корсет. И каждый раз, когда он видел ее вне дома, одну или на людях, он ощупывал ее, проверяя, выполняется ли распоряжение матери.
Сам отказываясь посещать церковные спевки и крещения, брат вместо себя заставлял присутствовать там родителей. Так что молодым людям было предоставлено то, что можно назвать свободой действий, только по воскресеньям. Всем скопом они набивались в церковь, приехав на лошадях и мулах, которых только накануне вечером выпрягли из плуга, а с завтрашней зарей снова в него впрягут, и ждали там прибытия Варнеров. Только так она и встречалась прошлогодним приятелям-юнцам: на дорожке от коляски к церковной двери, неловкая и зажатая в корсете и выпущенном с подолу платье, оставшемся еще с прошлого года, с детства, – мелькнет на мгновение и исчезнет, поглощенная новой толпой, набежавшей и обездолившей их. А не пройдет и года, как утром у крыльца появится воскресный щеголь, взрослый кавалер в сияющей лаком пролетке, запряженной выездным породистым жеребцом или кобылой, и оттеснит уже и этих ее ухажеров. Но это на будущий год, а пока продолжалась все та же суматоха, сдержанная, правда, рамками если не в точном смысле слова приличий, то по крайней мере благоразумия и уважения к святости храма и воскресного дня, свистопляска вожделения, взятого на поводок, как берут псов, рвущихся к сучке, которая еще и возрастом щенок и смысла в их намерениях явно не угадывает; все так же они друг за другом проходили в церковь, рассаживаясь на одном из задних рядов, откуда видна была золотисто-медовая головка, скромно склоненная между голов ее родителей и брата.
После церковной службы брат уходил (сам, говорят, за кем-то ухаживал), и весь долгий сонный день потертые постромками мулы дремали у варнеровской изгороди, пока их владельцы сидели на веранде, упрямо и бессмысленно соревнуясь, кто кого пересидит, туповатые, горластые, обманутые в своих надеждах и начинающие злиться – не друг на друга, а на самое девушку, при том, что ее-то явно не заботило, сидят они там или нет, явно она даже не догадывалась об этом их состязании. Люди постарше мимоходом на них поглядывали: с полдюжины ярких воскресных рубах с красными и аквамариновыми резинками на рукавах; бритые затылки, загорелые шеи, волосы напомажены, штиблеты начищены, лица грубые и простецкие, а в глазах память о неделе тяжкого труда на поле, оставшейся позади, и предчувствие такой же недели впереди; и среди них девушка, как неподвижный центр, – с телом, которое просто не умещалось в детском платьице, словно ее, объятую сном, ночным паводком вынесло из рая, и случайные прохожие нашли и прикрыли чем попало это тело, все еще спящее. Так они и сидели, будто на привязи, ярясь и свирепея от тщетной быстротечности секунд, а тени удлинялись, слышны уже становились лягушки и козодой, и светляки, зажигаясь, скользили в воздухе над ручьем. Потом выходила хлопотливая миссис Варнер, что-то говорила, загоняла, не переставая тараторить, всю ораву в дом закусить холодными остатками плотного обеда, рассаживала под лампой, вокруг которой вилась мошкара, и они сдавались. Уходили всем скопом, рассерженные, но сохраняющие благопристойность, влезали на своих послушных мулов и лошадей и ехали в яростном бессловесном единении с полмили к броду через ручей, там спешивались, привязывали лошадей и мулов, и дрались на кулаках ожесточенно и молча, смывали кровь в ручье, снова садились верхом, и разъезжались каждый в свою сторону – ссадины на костяшках пальцев, разбитая губа, синяк под глазом, – и, отрешившись на какое-то время от ярости и неудовлетворенности, даже от желания, ехали под холодной луной через засеянные поля.
К третьему лету потертые постромками мулы уступили место рысакам и пролеткам. Теперь уже эти юнцы, которых она за год переросла и отбросила, с утра по воскресеньям ждали ее во дворе у церкви лишь для того, чтобы еще раз бессильно и горестно убедиться в своем поражении: пролетка вся блестит, чуть только пылью припорошена, в запряжке лоснящаяся кобыла или жеребчик в наборной упряжи с медными бляхами, а у того, который правит, все это его собственное – взрослый мужчина, сам себе голова, и уж никогда на льдистом рассвете отец не потащит его с чердачной лежанки доить коров и поднимать чужую зябь, а у них-то папаши вовсю еще – и по закону, а частенько и по праву сильного – вольны были карать и миловать. И вот в этой пролетке девушка, та, что в прошлом году – по крайней мере в некотором смысле – принадлежала им, а теперь переросла их, ускользнула вместе с прошлым отшумевшим летом, научившись в конце концов ходить так, чтобы не было заметно корсета под шелковым платьем, в котором она выглядела не девчонкой шестнадцати лет, одетой как двадцатилетняя, а тридцатилетней женщиной, одетой в платьице шестнадцатилетней сестренки.
В ту шестнадцатую весну выдался такой день (то есть, точнее говоря, конец дня и вечер), когда появились сразу четыре пролетки. Четвертая была одного коммивояжера, взятая напрокат. В поселок он попал случайно – заблудился и во Французову Балку заехал спросить дорогу, причем не знал даже, есть ли там лавка, а приехал на потрепанной колымаге, какие давали внаем приезжим на джефферсонском конном дворе. Увидел лавку, остановился и попытался приказчику, Сноупсу, сбыть что-то из своих товаров, но живенько понял, что дело у него не выгорит. Был он из городских – моложавый, с городскими манерами и по-городскому самоуверенный и настырный. Тут же выведал у завсегдатаев галереи, кто настоящий владелец лавки да где живет, и отправился домой к Варнеру, там, естественно, постучался и то ли был принят, то ли нет, уж этого знать никому не дано. Две недели спустя возвращается, в той же таратайке. На этот раз даже не попытался ничего продавать Варнеру; позднее стало известно, что он у Варнеров ужинал. Это было во вторник. В пятницу снова вернулся. Теперь он правил лучшим экипажем, какой только можно было получить в джефферсонской конюшне – конь светлой масти, нарядный шарабан, – и был не только при галстуке, но и в белых фланелевых брюках, каковое одеяние во Французовой Балке видели в первый раз. Впрочем, и в последний, да и недолго пришлось любоваться: он поужинал с Варнерами, вечером повез дочку на танцы в какую-то школу за восемь миль и исчез. Домой дочку отвез кто-то другой, а наутро, уже при свете дня, конюх нашел коня и пролетку привязанными к воротам конного двора в Джефферсоне, и тем же вечером ночной дежурный по станции уже рассказывал, как какой-то напуганный и избитый человек в испакощенных кремовых брюках покупал билет на утренний поезд. Поезд шел на юг, хотя про того коммерсанта было известно, что живет он в Мемфисе, где у него впоследствии обнаружились жена и дети, но об этом во Французовой Балке никто не знал, да и не интересовался.
Так что оставались трое. Эти вертелись постоянно, какой-то каруселью, неделю за неделей, воскресенье за воскресеньем, а обездоленные банкроты прошлого лета поджидали с утра у церкви, только чтобы пронаблюдать, который из троих на этот раз подаст ей руку, помогая вылезти из пролетки. И когда она садилась обратно в экипаж, они все еще стояли там, ждали, не заголится ли ее нога, а порой, притаившись чуть подальше у дороги, вдруг злобной сворой выскакивали из кустов, и тогда вслед пролетке неслась непристойная брань, а взбаламученная пыль забивала орущие глотки. Время от времени под вечер кто-нибудь один, или двое, или трое из них, проходя мимо варнеровского дома, примечал, как бы и не глядя, коня с пролеткой у ограды, и Билла Варнера, дремлющего в своем деревянном гамаке, подвешенном в тени под деревьями, и окна гостиной с запертыми ставнями, затворенными, по местному обычаю, для защиты от жары. А то еще затаятся, бывало, в темноте, частенько с кувшином бесцветного самогонного виски, как раз там, куда не достает свет из дома, или лавки, или школы, посматривая на освещенный дверной проем и окна, где маячат силуэты танцующих пар, движениями напрочь не попадающие в лад со вскриками и стенаниями скрипок. Однажды они с гиканьем выпрыгнули из густой тени на залитую луной дорогу, прямо под колеса пролетки, отчего лошадь взвилась на дыбы и понесла, но седок, вскочив на ноги, принялся охаживать их кнутом, с хохотом глядя на их прыжки и увертки. Не братец, а эти слинявшие мертвые шкурки прошлого лета, именно они, изошедшие в яростных и тщетных усилиях, если не угадали, то, во всяком случае, заподозрили, что пролетка-то все время одна и та же. Потому что Джоди уже почти год как бросил привычку поджидать в прихожей, чтобы в тот момент, когда сестра, одетая, пойдет к стоящему у ворот экипажу, схватить ее за руку и, грубой ладонью ощупав ей спину, словно она лошадь и он проверяет, как зажили потертости от седла, сердито удостовериться, надела она корсет или нет.
Эта пролетка принадлежала юноше по фамилии Маккэрон, жившему милях в двенадцати от поселка. Он был единственным сыном вдовы, которая сама выросла одна у отца, состоятельного землевладельца. Росла без матери, а в девятнадцать лет сбежала из дому с обходительным, самоуверенным и острым на язык красавцем, появившимся непонятно зачем и словно из ниоткуда. Пробыл он в их краях около года. Занимался, похоже, главным образом игрой в покер в задней комнатке какой-нибудь лавки или конюшни и всегда выигрывал, но совершенно честно – в этом никаких сомнений не возникало. Все женщины сходились на том, что муж из него получится непутевый. Мужчины говорили, что мужем, каким бы то ни было, он станет разве что под дулом дробовика, но даже и с такой позиции вряд ли кто-нибудь из них решился бы взять его в зятья, поскольку чувствовалось, что его влечет ночь – не ночные тени, а яркий исступленный свет, который их порождает, сама извращенность бессонной жизни. Но однажды ночью Элисон Хоук выбралась из дома через окно второго этажа. Не было там ни лестницы, ни водосточной трубы, ни связанной из простынь веревки. Говорят, она выпрыгнула, а Маккэрон поймал ее на руки, и любовники на десять дней исчезли, а потом вернулись, причем все эти десять дней старик Хоук просидел с заряженным дробовиком на коленях, а Маккэрон вошел к нему, оскалив зубы в улыбке, которую, однако, все остальное его лицо никак не подтверждало.
Всем на удивление, он стал не только пристойным мужем, но и зятем тоже. Мало что соображая в сельском хозяйстве, он и не прикидывался, будто это дело ему по душе, однако для тестя стал чем-то вроде распорядителя, запоминая устные инструкции старого хозяина не лучше, разумеется, чем диктофонная запись, зато, благодаря способности легко сходиться с людьми и даже верховодить ими (ведь не у всех язык так хорошо подвешен), он добился того, что негры-поденщики его слушались и уважали, и не за официальный статус хозяйского зятя, и даже не за умение ловко стрелять из револьвера, а за веселый, хоть и слегка неуравновешенный нрав и славу удачливого игрока. Однако он даже не выходил по вечерам из дома и совсем забросил покер. Кстати, никто впоследствии так и не выяснил, чья была идея торговать скотом – его или тестя, но не прошло и года, как он, к тому времени сам став отцом, уже вовсю скупал по всей округе скот и каждые два-три месяца сгонял его на станцию, а оттуда по железной дороге отправлял в Мемфис. Так прошло лет десять; за это время тесть умер и все состояние завещал внуку. А тут и Маккэрон отправился в последнюю свою поездку. Спустя две ночи после его отъезда один из погонщиков подскакал к дому и разбудил его жену. Маккэрон погиб, а соседи так толком и не узнали, как это случилось, но, по всей видимости, его застрелили в игорном притоне. Жена оставила девятилетнего сына на попечение слуг-негров и отправилась за телом в простом фермерском фургоне, привезла и похоронила на холме, поросшем дубами и можжевеловыми деревьями, рядом со своими родителями. Сразу же разнеслась сплетня, недолго, впрочем, продержавшаяся, – о том, что его застрелила женщина. Слух тут же угас (обсуждать было нечего: вот, дескать, чем он в это время занимался – и все), но осталась легенда о деньгах и драгоценностях, которые он будто бы за эти десять лет выигрывал и по ночам относил домой, где при содействии жены замуровывал в печную трубу.
Сын, Хоук, в свои двадцать три года выглядел старше. Виной тому отцовское выражение самоуверенности на лице, впрочем, открытом и довольно привлекательном. При этом в его лице сквозило что-то неприятное, заметно было, что он очень избалован, хотя бросалась в глаза не так заносчивость, как нетерпимость, которой в отцовском лице не было. И юмором его лицо не освещалось, недоставало спокойной самоиронии, а может быть и ума, хотя отцовскому лицу всего этого хватало в избытке, а вот лицу того, кто после побега дочери мог просидеть десять дней с заряженным дробовиком на коленях, наверное, не хватало. В детстве единственным его приятелем был мальчонка-негр. Пока хозяйскому сыну не исполнилось десять, негритенок спал с ним в одной комнате, на сеннике, брошенном на пол. Негритенок был на год старше. Когда одному было шесть, а другому семь лет, он победил негритенка в честной кулачной схватке. Впоследствии у них установилась такса, по которой он платил негру из своих карманных денег за право выпороть его маленьким жокейским хлыстиком, впрочем, не очень больно.
В пятнадцать лет мать определила его в закрытую военную школу. Не по годам развитой и ловкий, он быстро схватывал все, что могло ему пригодиться, и за три года набрал достаточно зачетных баллов, чтобы поступать в колледж. Мать выбрала ему сельскохозяйственный. Он поехал и провел в городе целый год, даже не подав документы, в то время как мать пребывала в уверенности, что он изо всех сил одолевает положенную на первом курсе премудрость. Следующей осенью он все-таки поступил, проучился пять месяцев, а потом произошла некая скандальная история с женой одного из младших преподавателей, после чего ему предоставили возможность тихо исчезнуть. Он возвратился домой и следующие два года провел, делая вид, будто помогает матери вести дела на ферме, – теперь у матери была хлопковая плантация. Означало это, что каждый день он некоторое время болтался туда-сюда верхом, надев для этого еще налезавшие на его маленькие ноги парадные сапоги для верховой езды, которые остались у него еще со времен учебы в военной школе, – первые такого рода сапоги, появившиеся в округе. Пять месяцев назад он случайно проезжал через Французову Балку и увидел Юлу Варнер. На него-то и ополчились, вдохновленные победой над мемфисским коммивояжером, прошлогодние юнцы, слезшие с потертых постромками мулов, чтобы защитить идею девства, в которую ни они, ни ее брат, по-видимому, не верили, хотя и не смогли ее развенчать на деле, как это, видимо, не удавалось и рыцарям в старину. По двое-трое выходили на разведку, слонялись вдоль варнеровского забора, смотрели, когда и по какой дороге отъезжает пролетка. Ехали следом или, опередив, уже ждали в одном из тех мест, куда хозяин этой пролетки спешил на топот каблуков о настил пола и пиликанье скрипочек, и уже ходил у них по рукам кувшин самогонного виски, а потом они тащились сзади иногда до самого дома, иногда, не доезжая, разбредались: уж больно долог путь по ночным дорогам через лунные или безлунные спящие поля; копыта кобылицы ступают в пыль, как в мягкую медлительную вату, и лошадь еле переставляет ноги – вожжи намотаны на кнутовище, вставленное в гнездо в передке повозки, – а попадется по дороге брод – она сторожко, медленно зайдет в воду и, никем не понукаемая, примется пить, купая морду и пофыркивая на колеблющиеся отражения звезд, роняя струи воды с поднятой морды, и снова начнет пить, а может только фыркать в воду, как это делают утолившие жажду лошади. Ни окрик, ни подергивание вожжей – ничто не понуждает лошадь идти дальше, так она там и стоит, долго, слишком долго… Однажды ночью на движущуюся пролетку попытались напасть, выскочив из придорожных теней, какие-то парни, но, встреченные ударами кнута, разбежались, потому что единого плана у них не было, лишь общий неуправляемый порыв ярости и тоски. Через неделю после этого, когда лошадь и пролетка стояли на привязи у забора Варнеров, они налетели, вопя и гремя кастрюлями, из-за угла неосвещенной веранды, и Маккэрон к ним сразу вышел, спокойный и собранный, появившись не с крыльца, а из-под деревьев, где у Варнера висел деревянный гамак, двоих или троих из них окликнул по имени и выругал их своим приятным, с неторопливой манерой растягивать слова, говорком, да еще вдобавок предложил двоим из них – на их выбор – выйти потолковать с ним на дороге. Заметили, что в опущенной руке он держал револьвер.
Потом ему сделали предупреждение по всей форме. Могли бы сообщить ее брату, но не сообщили, однако не потому, что брат скорее всего на этих же доносчиков и налетел бы с кулаками. Точно как учитель Лэбоув, они бы этому только обрадовались, восприняли бы с истинным наслаждением. Как для Лэбоува, для них это была бы по крайней мере та же плоть, живая и теплая, которая под их ударами покрылась бы синяками, царапинами, обагрилась бы кровью, а этого, подобно Лэбоуву, они как раз и жаждали, осознанно или нет. Здесь дело в том, что от идеи рассказать ему их защищало то обстоятельство, что вся их ярость будет тогда растрачена на орудие возмездия, а не на самого преступника, поэтому лучше уж обидчика, нанесшего им смертельное оскорбление, они встретят сами, надев на кулаки боксерские перчатки. И они послали Маккэрону предупреждение по всей форме в письменном виде, и все подписались. Один из них съездил как-то ночью за двенадцать миль к дому его матери и прицепил записку к двери. На следующий день негр Маккэрона, теперь уже тоже взрослый мужчина, доставил им пять отдельных ответов и ушел от преследования с окровавленной головой, но без сколько-нибудь серьезных увечий.
Однако еще почти целую неделю Маккэрону удавалось водить их за нос. Они пытались перехватить его одного в пролетке – либо по дороге к Варнерам, либо когда он от них возвращался домой. Но его кобыла бегала чересчур резво, к тому же их запуганные пахотные мулы от нее шарахались и не могли ей противостоять, а по опыту предшествующих попыток парни знали, что, попробуй они остановить ее пешими, Маккэрон прямо по ним проедет, стоя в пролетке и с глумливым оскалом охаживая их свищущим кнутом. Кроме того, у него был револьвер, и они достаточно были о молодом Маккэроне наслышаны, чтобы знать, что с револьвером он никогда не расставался с тех пор, как ему исполнилось двадцать один. К тому же и у него ведь были кое-какие претензии к тем двоим, которые избили его посланника-негра.
Так что в конце концов пришлось им подстеречь Маккэрона в пролетке с Юлой, устроив засаду у брода, где кобыла останавливалась напиться. Никто так толком и не узнал, что произошло. Невдалеке от брода стоял дом, но криков и шума на сей раз не было, только наутро при свете дня на четырех из пяти физиономий обнаружились ссадины, царапины да не хватало нескольких зубов. А пятый – один из тех двоих, от которых досталось негру, – все еще лежал без сознания в ближнем доме. Кому-то попалась на глаза рукоятка от кнута. Она вся была в засохшей крови и в налипших волосах, а позже, спустя несколько лет, один из нападавших рассказал, что кнутовищем орудовала девушка: выскочив из пролетки, она рукояткой кнута сдерживала натиск троих нападавших, тогда как ее спутник противопоставил рукоятку револьвера тележной спице и кастету остальных двоих. Это и все, что когда-либо стало известно, причем пролетка добралась до дома Варнеров без существенного опоздания. Из кухни, где Билл Варнер в ночной рубахе ел персиковый пирог, запивая его пахтаньем, было слышно, как вернувшиеся прошли в ворота и поднялись на веранду, тихонько перешептываясь, по заведенному у Юлы с ее молодыми людьми обыкновению воркуя практически ни о чем (во всяком случае, отец так думал), а после вошли в дом и по коридору прямиком к кухонной двери. Взгляду Варнера предстало открытое, привлекательное лицо, приветливый, решительный оскал, который с некоторой натяжкой можно было бы назвать улыбкой, хотя и не чересчур почтительной, заплывший глаз, длинный рубец на скуле и рука, бессильно свисающая вдоль тела.
– Он на что-то налетел в темноте, – объяснила дочь.
– Вижу, – отозвался Варнер. – Похоже, это что-то его еще и лягнуло в отместку.
– Ему надо воды и полотенце, – проговорила дочь. – Возьми вон там, – указала она и пошла к выходу. – Я на минутку. – В кухню, на яркий свет, так и не вышла.
Варнеру было слышно, как она взбегает по ступенькам и ходит по своей комнате наверху, но он о ней уже позабыл. Поглядел на Маккэрона и увидел, что зубы у того оскалены вовсе не в улыбке, а скорее в гримасе боли, да и потный он весь. Едва увидев все это, Варнер о его лице тоже сразу забыл.
– Говоришь, налетел на что-то, – буркнул он. – А пиджак снять можешь?
– Могу, – ответил тот. – Я, понимаете, кобылу свою ловил. А там дровина торчала.
– Ну и поделом тому, кто кобылу, да еще хорошую, держит в дровяном сарае, – заметил Варнер. – У тебя же рука сломана.
– Понятно, – сказал Маккэрон. – Вы, кажется, ветеринар? Не думаю, чтоб человек от мула сильно отличался.
– Это уж точно, – поддержал его Варнер. – А по уму так большинство и до мула не дотягивает.
Вошла дочь. Варнер опять слышал ее шаги на лестнице, однако не заметил, что теперь она была уже в другом платье – не в том, в котором выходила из дому.
– Ну-ка, тащи сюда мой кувшин с виски, – приказал он.
Кувшин хранился у него под кроватью, там она его и нашла. Вернулась с кувшином. Маккэрон сидел теперь, положив обнаженную руку на кухонный стол. Один раз, сидя все так же прямо и напряженно, он потерял сознание, но ненадолго. После этого он только скрипел зубами и потел, пока Варнер все не закончил.
– Налей ему еще и поди разбуди Сэма, чтоб отвез его домой, – распорядился Варнер. Но Маккэрон заявил, что не надо его ни домой отвозить, ни здесь спать укладывать. В третий раз он приложился к кувшину и вместе с девушкой вернулся на веранду, а Варнер доел пирог, допил пахту, снес кувшин на место и лег спать.
И вышло так, что ни у отца, ни у брата, в ком уже пятый или шестой год жизнь только и держалась благодаря упрямой нацеленности на предотвращение зла, которая так и не переросла стадию подозрений, но вдруг расцвела махровым цветом, вырвалась окончательным осознанием ситуации тем более пугающей, что самые неослабные старания всегда были бессильны доказать ее возможность, – и вот ни у того ни у другого не зародилось ни малейших предчувствий. Варнер и сам отхлебнул из кувшина, задвинул его обратно под кровать, туда, где круглая проплешина в пыли отмечала положенное ему от века место, и лег спать. С привычной легкостью войдя в состояние не омрачаемого даже храпом детски счастливого сна, он не слышал, как дочь поднялась по лестнице, чтобы снова переменить платье, теперь уже со следами ее собственной крови. Кобыла, коляска, всего этого уже и след простыл, хотя Маккэрон по дороге домой еще раз, уже в пролетке, потерял сознание. На следующее утро врач обнаружил, что кость, накануне должным образом вправленная, несмотря на лубки, снова сместилась, концы чуть ли не наружу торчат, так что надо вправлять заново. Но Варнеру-папаше, славному тощему верзиле, прожженному хитрецу, все это было невдомек – спал себе за двенадцать миль в кровати, под которой хранился его кувшин виски, причем тут даже не важно, мог он читать в женском сердце вообще и в сердце дочери в частности или не мог, поскольку никак он не способен был предвидеть, что она не только пойдет на такое, но сама же и поможет, собственной рукой поддерживая покалеченное плечо.
Спустя три месяца, когда пришло время щегольским коляскам и резвым холеным лошадкам больше не показываться у варнеровского забора, Билл Варнер заметил это последним. И пролетки и молодые люди, которые в них разъезжали, исчезли в одну ночь, пропали не только из Французовой Балки, но и вообще из ближней округи. Хотя один из троих знал точно, кто виноват, а двое других, вместе взятые, знали двоих невиновных, все трое бежали скрытно, выбирая окольные дорожки и для скорости захватив с собой только то, что поместилось в чересседельных сумках или в каком-нибудь впопыхах захваченном чемоданишке. Один из них бежал потому, что Варнеры, как ему казалось, неминуемо с ним что-нибудь сделают. Двое других бежали, потому что знали: с ними Варнеры не сделают ничего. Потому что Варнеры, в свою очередь, теперь уже должны бы тоже знать из единственного неоспоримого источника, от самой девушки, что те двое невиновны и, таким образом, попадают в разряд отбросов прошлого, чешуек вчерашнего дня, отмерших и сброшенных в пучину страстной и извечной тоски и сожалений, забытые и причисленные к никчемным деревенским мальчишкам, которые самим фактом своего преследования ставили неудачников вровень со счастливцем, пусть нелепо и незаслуженно, но все же увенчивали их чужими лаврами. Теперь их бегство было последней отчаянной попыткой заявить как бы претензии на вину, которой за ними не было, стяжать славу и стыд за ту порчу, которая не ими причинена.
В общем, когда от дома к дому потихоньку стала расползаться весть о том, что Маккэрон и двое других исчезли, а Юлу Варнер постигло то, что всякая другая на ее месте (кроме нее самой – теперь это выяснилось) сочла бы несчастьем, последний, кто узнал об этом, был отец – человек здравый, всегда с иронией относившийся ко всяким отвлеченностям, в том числе и к идее женской добродетели, отказываясь ее воспринимать иначе как сказку, выдуманную для одурачивания молодых мужей, подобно тому как иные отказываются верить в беспроцентную ссуду или в действенность молитвы; о нем было хорошо известно, что он – как в прошлом, так и до сих пор еще – отводил значительную долю своей жизни на то, чтобы перед самим собой отстаивать истинность своей точки зрения, и в те дни как раз занят был интрижкой с женой одного из своих арендаторов, женщиной лет сорока пяти. Ей он прямо и без околичностей заявил, что слишком стар, чтобы шастать ночами хоть по чужим домам, хоть по своему собственному. В результате она встречалась с ним по вечерам, под предлогом поисков гнезд несушек забираясь в чащу кустарника у ручья вблизи ее дома, и в этом осененном покровительством Пана уединении[84], как рассказывал один четырнадцатилетний мальчишка, чьей привычкой стало подсматривать за ними, Варнер даже шляпы не снимал. И вот он оказался последним, кто услышал об этом, и, пробужденный повелительным голосом жены ото сна в деревянном гамаке, где полеживал в носках, торопливо устремился к дому – длинный, с болтающимися руками, не совсем еще проснувшийся, без сапог перебежал двор и ринулся в прихожую, а миссис Варнер, стоя в просторном старом халате и кружевном ночном чепце, в котором любила прикорнуть после обеда, гневливо и обеспокоенно, голосом, перекрывавшим рев и рыканье сына, доносившиеся из комнаты дочери наверху, кричала:
– У Юлы будет ребенок! Ступай наверх и дай тому дурню по шее!
– Будет что? – задохнулся Варнер. Но не остановился. Поспешил дальше, миссис Варнер за ним, по лестнице вверх и в комнату, из которой последние пару дней дочь почти не выходила, даже поесть не спускалась, страдая тем, что Варнер, если бы утрудил себя хоть единой мыслью на эту тему, определил бы как расстройство желудка на почве переедания, возможно, накопленного постепенно и вдруг кумулятивно проявившегося после шестнадцати лет надругательства над долготерпением организма.
Она сидела на стуле у окна, распустив волосы и кутаясь в яркий шелковистый пеньюар, выписанный ей недавно из Чикаго по почте. Брат стоял рядом, нависая над ней, тряс ее за плечо и орал:
– Который из них? А ну, говори, который!
– Не пихайся, – отвечала она. – Мне и так нехорошо.
Медлить Варнер и тут не стал. Он вклинился между ними и плечом отодвинул Джоди.
– Оставь ее в покое, – сказал он. – И вообще марш отсюда!
Джоди повернул к отцу побагровевшее лицо.
– Как это оставь в покое? – возмутился он. И злобно хохотнул, без всякой веселости, глаза выпученные, белые от бешенства. – В том-то и беда, что и так уже слишком много ее оставляли в покое, без надзора! Все на меня одного! Я-то знал, чем дело кончится. Еще пять лет назад я вас предупреждал обоих. Все без толку. Вам было лучше знать. А теперь вот – полюбуйтесь! Смотрите, чего вы добились! Но она у меня запоет! Клянусь Господом Богом, я все равно узнаю, чья это работа. И тогда уж я…
– Ладно тебе, – сказал Варнер. – Что случилось-то?
На миг, а может и на целую минуту, Джоди, казалось, лишился дара речи. Глаза его свирепо сверкали. Стоял с таким видом, словно последние остатки воли уходят у него на то, чтобы не взорваться тут же на месте.
– И он еще спрашивает, что случилось, – наконец проговорил сын изумленным и недоверчивым шепотом. – Он спрашивает, что случилось! – Одним махом он развернулся и, с рукой, все еще выброшенной вверх жестом отчаянного отречения, ринувшись прочь, налетел прямо на мамашу, которая еще едва только в дверь вошла и, открыв рот, рукой держалась за вздымающуюся грудь, чтобы, как только отступит одышка, разразиться речью. Джоди был весом фунтов двести, да и миссис Варнер, при своих пяти футах роста, весила почти столько же. Все-таки он умудрился как-то протиснуться мимо нее в дверь, и, пока она безуспешно пыталась схватить его, Варнер-старший ужом проскользнул следом.
– Останови этого дурня! – вскричала она, бросаясь за Варнером-старшим и Джоди, с грохотом несущимися вниз по лестнице в комнату на первом этаже, которую Варнер до сих пор называл своим кабинетом, несмотря на то что вот уже два года, как там на раскладушке спал приказчик Сноупс, и в этой комнате Варнер настиг наконец Джоди, когда тот склонился над выдвинутым ящиком неуклюжего (а в наши дни бесценного, хотя Варнер и не знал этого) орехового секретера, доставшегося Варнеру еще от деда, и шарил там среди высохших коробочек хлопчатника, гороховых стручков, пряжек от лошадиной сбруи, патронов и старых бумаг в поисках револьвера. В ближнем к секретеру окне мелькнула негритянка-повариха: она бежала к своей лачужке, закутав голову фартуком, как это заведено у негритянок, когда на их глазах скандалят белые господа. Сэм, ее муж, торопливо шел следом, правда помедленнее, и как раз оглянулся на дом, когда Варнер и Джоди одновременно его увидели.
– Сэм! Седлай моего коня! – рявкнул Джоди.
– Эй, Сэм! – закричал Варнер. Теперь они оба держались за револьвер – четыре сплетенные руки, безнадежно застрявшие в приоткрытом ящике. – Не вздумай прикасаться к коню! Марш назад сию минуту!
Шаги миссис Варнер забухали по коридору. Револьвер выпростался, и оба, не расцепляя сплетенных рук, на шаг отступили, глядят, а она уже в дверях – рука по-прежнему прижата к тяжело вздымающейся груди, а лицо, обычно оживленное и самоуверенное, теперь рассерженно побагровело.
– Придержи его, пока я за поленом сбегаю, – хватая ртом воздух, проговорила она. – Сейчас я ему задам! Я с ними разберусь с обоими! Одна брюхо нагуляла, другой орет, ругаются, шумят, когда я только собралась прилечь.
– Давай, – отозвался Варнер. – Тащи быстро.
Она вышла; казалось, вихрем гневливого раздражения ее так и вынесло, вышвырнуло за дверь. Варнер завладел наконец револьвером и отшвырнул Джоди к секретеру (несмотря на свои шестьдесят лет, отец все еще был сильным, на удивление быстрым и жилистым, к тому же действовал спокойно и здраво, тогда как сын был весь во власти слепой ярости), потом выбросил револьвер за дверь, запер ее на ключ и вернулся, почти не запыхавшись.
– Ты что это, к дьяволу, задумал?
– Ничего! – выкрикнул Джоди. – Для тебя, может быть, честь семьи – пустой звук, а для меня нет. Мне надо голову перед людьми высоко держать, а ты как знаешь.
– Ха! – сказал Варнер. – То-то ты ее так высоко задрал, что сам себе, того и гляди, на шнурок от ботинка наступишь.
Джоди, сопя, глядел на него.
– Будь я проклят, – сказал он. – Может, она и не скажет, но уж я найду кого-нибудь поразговорчивей. Я их всех троих разыщу. Мне…
– Зачем? Из любопытства, что ли? Чтобы вызнать, кто из них тискал ее, а кто нет?
Снова Джоди надолго онемел. Стоял, привалившись к секретеру, огромный, как бык, разъяренный и обессиленный, действительно глубоко уязвленный и страдающий, но не от унижения, нанесенного дому Варнеров, а от личной обиды. По коридору снова затопали шаги миссис Варнер, тяжелые, хоть и была она в одних носках; послышались удары поленом в дверь.
– Эй, Билл! – закричала она. – Отвори сейчас же!
– Ты что, вообще ничего предпринимать не намерен? – проговорил Джоди. – Так-таки и ничего?
– А что тут сделаешь? – удивился Варнер. – Да и кому? Не понимаешь, что ли: ведь эти кобели сейчас уже на полпути в Техас! Ты-то сам где бы сейчас был на их месте? Да и я, хоть и в моем возрасте – если бы шлялся по всем крышам да лазил куда ни попадя, где бы я был сейчас? Не хуже меня знаешь где: как раз там же, где и они – драл бы с коня третью шкуру. – Он подошел к двери и отпер ее, причем миссис Варнер со злости так оглушительно и беспрерывно барабанила поленом в дверь, что явно не услышала, как ключ повернулся в замке. – А теперь ступай на конюшню и там посиди, пока не приостынешь. Пусть Сэм тебе червей накопает, и отправляйся полови рыбку. Уж если нашей семье понадобится забота о том, чтобы от людей глаза не прятать, так предоставь это дело мне. – Он надавил на ручку двери. – Будь оно все неладно! Этакий крик и тарарам из-за того, что какую-то сучку наконец кобель настиг. А ты что думал – так она всю жизнь и будет только водичку через это место сцеживать?
Это было в субботу под вечер. Наутро в понедельник те семеро, что расселись на корточках по всей галерее, видели, как приказчик – Сноупс этот самый – пешком идет по дороге со стороны варнеровского дома, а за ним кто-то еще, с чемоданом. Флем явно приоделся: вдобавок к серой суконной кепке да крошечному галстуку бабочкой на нем был еще и сюртук, а немного погодя обитатели галереи разглядели, что чемодан в руке у того, кто шел за приказчиком, – тот самый плетеный баул, который год назад, новеньким, Сноупс отнес как-то под вечер в дом к Варнеру и там оставил. Потом все стали смотреть на человека с баулом. Обнаружилось, что за приказчиком, как собачонка, поспешал мужчина ростом чуть поменьше Флема, но с фигурой точно таких же очертаний. Словно отличие одного от другого – оптический обман, просто-напросто следствие законов перспективы. На первый взгляд даже лица их были одинаковыми, пока оба не поднялись по лестнице. Тогда оказалось, что лицом этот второй и в самом деле, конечно, вылитый Сноупс, однако от первого хотя и в рамках родственного сходства, но все же неуловимо отличается, как некая неожиданная вариация на тему уже ставшего для всех привычным облика: в данном случае лицо незнакомца было не то что меньше, но все его черты были собраны как-то теснее, чем у Флема, стянуты к центру как бы не сами по себе, не по внутреннему побуждению, а словно их сжали одним быстрым движением чьей-то чужой руки; лицо было подвижное, смышленое и не столько насмешливое, сколько безоглядно и напропалую веселое, с блестящими, настороженными и блудливыми глазками, как у белки или бурундука.
Поднявшись по лестнице, они прошли с этим своим баульчиком через галерею. Сноупс, не переставая жевать, приветственно дернул подбородком, точь-в-точь как Билл Варнер, и они вошли в лавку. Немного погодя из кузницы напротив вышли еще трое мужчин, так что, когда через час подъехала коляска Варнеров, народу поблизости от галереи собралось уже человек десять. Лошадьми правил негр, Сэм. Рядом с ним на переднем сиденье стоял невероятных размеров потрепанный чемоданище, с которым еще мистер и миссис Варнер когда-то ездили на свой медовый месяц в Сент-Луис, и с тех пор если кому из Варнеров приходилось путешествовать, то этот чемодан неизменно их сопровождал; даже дочери, выходя замуж, брали его с собой, а потом присылали назад пустым, будто официальное уведомление о том, что медовый месяц кончился и пора с небес на землю, – словно символ, воплощающий собой прощальный привет от щедрой и самозабвенной страсти, подобно тому как отпечатанные пригласительные билеты возвещали ее многообещающую зарю. Варнер, с заднего сиденья, где он возвышался рядом с дочерью, обратился ко всем сразу с приветствием безразлично-невнятной скороговоркой. Вылезать не стал, и наблюдатели с галереи спокойно глянули разок на неподвижную маску под вуалью, опущенной с праздничной шляпки, и сразу невозмутимо отвели глаза – пусть воскресное платье, пусть даже зимнее пальто – однако, даже не глядя, увидели, как Сноупс вышел из лавки с плетеным баульчиком в руке и влез на переднее сиденье рядом с огромным чемоданом. Коляска двинулась. Один раз Сноупс обернулся и сплюнул через колесо. Плетеный баул он держал на коленях, словно гробик на похоронах ребенка.
На следующее утро Талл и Букрайт возвратились из Джефферсона, куда они гоняли очередной гурт скота на железную дорогу. К вечеру того же дня вся округа была в курсе дальнейшего хода событий, начиная с того, что в понедельник под вечер Варнер с дочерью и приказчиком посетили банк, где Варнер снял со счета значительную сумму; Талл указывал даже цифру – триста долларов. Букрайт предположил, что это должно означать полтораста, потому что Варнер даже со своих собственных операций удержит в свою пользу не меньше чем процентов пятьдесят. Оттуда варнеровская коляска отправилась к зданию суда, в нотариальную контору, и усадьба Старого Француза перешла во владение Флема и Юлы Сноупс (Варнер). Рядом помещался кабинет мирового судьи, и там они зарегистрировали брак.
Рассказывая, Талл часто помаргивал. Откашлялся.
– Сразу после церемонии жених и невеста выехали в Техас, – сказал он.
– Итого уже пятеро, – сказал некто по имени Армстид. – Ну ничего, говорят, в Техасе места много.
– Зато и народу прибавляется, – присовокупил Букрайт. – Не пятеро, а шестеро.
Талл кашлянул. Он все еще часто моргал.
– Мистер Варнер и за это ведь тоже заплатил сам, – проговорил он.
– За что за это? – спросил Армстид.
– За брачное свидетельство, – сказал Талл.
2
Она хорошо его знала. Она знала его настолько хорошо, что ей уже не надо было даже на него смотреть. Знала она его еще со времен ее четырнадцатого лета, когда стали говорить, будто он «обскакал» ее брата. Ей этого не говорили. Да ей и говорить-то без толку. Ей вообще это было ни к чему. Она видела его почти каждый день, поскольку в ее пятнадцатое лето он начал навещать Варнера дома, приходил обычно после ужина, сидел с ее отцом на веранде, слушал и помалкивал, аккуратно сплевывая табачную жвачку через перила. Иногда по воскресеньям под вечер он заходил, садился на корточки спиной к дереву рядом с гамаком из бочарных клепок, в котором без сапог, в одних носках, полеживал ее отец, и все так же молча слушал, жевал табак; ей он был виден с того места на веранде, где она сидела в окружении ошалелой ватаги тогдашних своих воскресных поклонников. К тому времени она уже научилась узнавать тихое посвистывание его теннисных тапочек на половицах веранды; не вставая и даже не поворачивая головы к дверям, она, бывало, только оповещала отца: «Папа, тот человек пришел!» – а вскоре уже просто – «он»: «Папа, он пришел», хотя изредка она называла его «мистер Сноупс», и тон ее при этом был такой же, как если бы она говорила «мистер Пес».
На следующее лето, ее шестнадцатое, она не только не смотрела на него, она его просто не видела, потому что теперь он жил в том же доме, ел за тем же столом и по всяческим нескончаемым делам – своим и ее отца – ездил на верховом коне ее брата. Проходил мимо нее в прихожей, где брат придерживал ее, одетую, готовую выйти к ожидающей пролетке, не пуская, пока злобно не удостоверится тяжелой, корявой рукой, надела ли она корсет, но и тут она его не видела. За столом она сидела с ним лицом к лицу дважды в день, потому что завтракала она одна, на кухне, в тот час уже весьма не раннего утра, когда мать в конце концов умудрялась ее разбудить, хотя, едва сон прошел, добиться от нее, чтобы она села за стол, труда не составляло; из кухни ее изгоняла негритянка или мать, и она выходила с последним недоеденным печеньем в руке, при этом вид у нее – немытое лицо в богатом уборе распущенных волос, неряшливые и не всегда чистые одеяния, кое-как наброшенные по дороге от постели к завтраку за кухонным столом, – был такой, словно ее спугнул с ложа преступной любви наряд полиции, и тут она сталкивалась и расходилась с ним в прихожей (он забегал в полдень перекусить), но всегда он был для нее как пустое место. И вот однажды ее втиснули в праздничное платье, остальные ее вещи – безвкусные пеньюары и ночные рубашки, выписанные из города по почте, дешевые и несуразно большие туфли, а также все, что у нее было из предметов туалета, – сунули в невероятных размеров раздвижной чемоданище, посадили ее в коляску, отвезли в город и выдали замуж – за него.
Вечером в тот понедельник Рэтлиф тоже был в Джефферсоне. Он видел, как они втроем пересекли площадь от банка к зданию суда, и двинулся следом. Проходя мимо двери нотариальной конторы, видел их там внутри; подождав немного, он мог бы проследить их переход в кабинет к мировому судье, мог бы стать свидетелем бракосочетания, но не сделал этого. Ему это было не нужно. Он уже знал, что воспоследует, а потому сразу отправился на станцию, где часок подождал прихода поезда, и не ошибся: увидел в вестибюле плетеный баул и огромный раздвижной чемоданище, и в их соседстве уже не было ничего странного, ничего невероятного; еще раз перед ним проплыло похожее на маску спокойное и прекрасное лицо под полями праздничной шляпки, уже в окне набиравшего ход вагона, оно глядело в никуда, и это было все. Проживи он в самой Французовой Балке всю ту весну и лето, и то он не смог бы узнать больше: маленькое затерянное сельцо, тонкая ниточка домиков, ничем не примечательная, безвестная, и все-таки по воле случая именно она приняла одно-единственное божественное семя из выплеска, вслепую исторгнутого расточительным обитателем Олимпа, и даже не подозревала об этом, даже вширь не раздалась, однако выносила, и наконец – роды: яркое краткое лето, сперва стадия центростремительная, когда три пролетки, запряженные великолепными лошадьми, сменяя одна другую, становились к забору из узкого штакетника либо колесили по близлежащим дорогам от дома к дому, от лавки к лавке и от школы к церкви, куда народ собирался кто ради развлечения, а кто пытаясь хоть как-то забыться, и вдруг в одну ночь пролеток как не бывало – стадия центробежная: пролетки исчезли, остался тощий, развинченно слоняющийся по дому в хлопчатобумажных носках хитрый, безжалостный старик, удивительной пышности девушка с красивым, похожим на неподвижную маску лицом и жабоподобное существо, ростом едва доходящее ей до плеча, – вот они снимают деньги со счета, оплачивают брачное свидетельство, билет на поезд, и вот уже слух об этом, в который все сразу возжаждали поверить, рожденный завистью и вековечной неутолимой тоской, пошел от хижины к хижине, зашелестел шепотом над корытами с постирушкой и забытым на столах шитьем, от фургона на дороге к проезжему всаднику и от верхового к пахарю над застывшим в борозде плугом, – слух, легенда и затаенная мечта всех на белом свете мужчин, способных ко греху, – и даже юнцов, только лишь грезящих о порче, на которую они еще не способны; больных и увечных, потеющих на ложе бессонницы, желающих сотворить грех и бессильных к нему; одряхлевших, оскопленных старостью, но все еще ползающих по земле, тогда как даже на венках их пожелтевших побед и листья и цветы давно рассыпались, стали бесплодным прахом, да и сами они, эти ходячие мумии, для всего мира живых были не менее мертвыми, чем если бы лежали, замурованные в подземных склепах, а не прятались за неуязвимо-благолепным ситчиком все тех же юбок, опекаемые бабушками чужих внуков; легенда, таящая в себе намек на пагубные победы и на поражения, исполненные немыслимого великолепия, – да и как сказать, что лучше: ощущать эту надежду, эту мечту и легенду как нечто будущее или по воле рока опрометью бежать от той же мечты и легенды, оставив ее в прошлом. Сохранилась даже одна из пролеток – тех самых. Ее нашли пару месяцев спустя, и Рэтлиф ее видел под навесом конюшни в нескольких милях от поселка, где пролетка стояла пустая, со вздыбленными оглоблями и покрывалась пылью; куры облюбовали ее себе под насест и мало-помалу обгаживали, испещряя когда-то нарядный лак полосами своего беловатого известкового помета, пока осенью, когда после сбора урожая у всех завелись деньги, отец бывшего ее владельца не продал ее батраку-негру, после чего ее видели в год по нескольку раз, когда она проезжала по поселку, и, может быть, узнавали, а может, и нет; тем временем ее новый владелец женился, стал обзаводиться семьей, потом поседел, дети разлетелись кто куда, и пролетка уже не блистала, а ее колеса пришлось одно за другим укреплять прикрученными к ним проволокой бочарными клепками, и наконец изящные колеса исчезли вместе с клепками, как будто прямо на ходу перевоплотившись в уже не новые, но крепкие колеса от фургона, диаметром чуть поменьше прежних, отчего появился крен, и крен этот потом тоже менялся от сезона к сезону вместе с переменами общего обличья пролетки, запрягаемой теперь все более тщедушными и хромоногими лошаденками или мулами в порванной и скрепленной кусками проволоки и веревок упряжи, словно владелец десять минут назад запряг этот экипаж и вывел с какой-то потайной свалки в последний прощальный пробег, причем эта лебединая песнь, этот апофеоз скорби, благодаря печальной недооценке возможностей старой пролетки, всякий раз оказывался не последним.
Но когда Рэтлиф вновь поворотил своих выносливых низкорослых лошадок к Французовой Балке, Букрайт и Талл давным-давно уже возвратились и все рассказали. Настал уже сентябрь. Коробочки хлопка раскрылись, и пух от него носился по полям; самый воздух пропах хлопком. По дороге взгляду Рэтлифа открывались все новые и новые поля, где сборщики, застыв внаклонку в нескончаемых волнах лопающихся коробочек, казались неподвижными, словно сваи в пенных волнах прибоя, и длинные полупустые мешки змеились за ними, как задубевшие на морозе флаги. Горячий воздух был упруг и бездыханен – последняя судорожная потуга обреченного, умирающего лета. Подковы маленьких лошадок часто-часто посверкивали в пыли, а Рэтлиф сидел, расслабленно отдаваясь бегу брички, держа приотпущенные вожжи в одной руке, – невозмутимое лицо, взгляд непроницаемо-загадочный, мечтательный и насмешливо-вопрошающий: он вспоминал, он все еще видел их всех перед собой – в банке, в суде, на станции; похожее на маску спокойное и прекрасное лицо за стеклом поехавшего в сторону вагонного окна проплыло перед ним еще раз, и все кончено. «Но это ведь ничего, – уверял он себя, – это ведь просто телка, мясная телка, и не более, а этого добра вдосталь и вчера было, и завтра будет тоже. Нехорошо, конечно, что все так понапрасну, и не то что она Сноупсу без надобности, а пропала ведь – для всех пропала, и для меня в том числе… Да только так ли уж без надобности?» – вдруг подумал он, и вновь это лицо на миг предстало перед глазами, словно ожил в памяти не только тот вечер, но даже поезд, сам поезд, который сделал свое дело, появившись в нужный час, хоть потом он и исчез, сгинул, как не бывало, – и все его тяжелые, громоздкие вагоны, и паровоз. Снова Рэтлиф вгляделся в это лицо. Оно и раньше не было трагичным, а теперь даже обреченным не было, ибо сквозь него проглядывало очередное бренное воплощение извечного врага мужской половины рода человеческого – вот же в чем дело! А что до красоты, то опять-таки – в руке налетчика кинжалы и пистолеты подчас тоже сияют очень даже нарядно; и, пока он вглядывался, пропащий спокойный лик исчез. Унесся быстро, словно вагонное окно куда-то отступает, тоже превращаясь в призрачную частичку все тех же мертвых сброшенных оболочек центростремительной стадии метаморфоз, и вот уже остался только плетеный баул, крошечный галстучек да непрестанно жующая челюсть…
Пока, вконец измаявшись, не подступили они к самому Князю.
«Сир, – говорят, – он ни в какую. Уперся, и хоть ты тресни!»
«Что?!» – ревет Князь.
«Говорит, уговор дороже денег. Дескать, как условились, он все выполнил, честь по чести, а теперь отдавайте ее назад – мол, по закону положено. А мы ее найти не можем. Запропастилась куда-то. Где мы только не смотрели! И то сказать, не шибко она была из себя большая да заметная, так мы уж и обращались с ней с осторожностью небывалой. Запечатали в спичечный коробочек асбестовый, а коробок в особый ящичек положили, отдельно. А когда ящичек отперли, нет ее там. И коробок лежит, и печать на месте. Да только нет ничего в коробочке, разве что вроде как засохшее пятнышко с краю. А он вот пришел теперь ее назад требовать. Опять же на вечные муки нам его как отправить – без души-то?»
«Проклятье! – ревет Князь. – Выдайте ему какую-нибудь из завалящих. Мало, что ли, душ к нам лезет, да еще в дверь молотят, скандалы устраивают, а что городят – черт не разберет, даже письма показывают от конгрессменов, о которых мы и слыхом не слыхивали. Выдайте ему какую-нибудь из этих».
«Да мы пробовали, – отвечают. – Не берет. Чужого, говорит, не возьму, а нужно ему свое, кровное, ни больше и ни меньше, мол, закон есть закон. Сам, говорит, все как по писаному выполнил и от вас жду, чтобы честно – дескать, уж кто-кто, как не вы».
«Ну так пусть проваливает тогда на все четыре стороны. Скажите, что ошибся адресом. Что у нас на него дела не заведено. Скажите, что его расписка потерялась, если и была когда-нибудь. Скажите, что у нас тут был потоп, оледенение – что угодно».
«Да не уйдет он без этой своей…»
«Прогоните его. Вышвырните вон!»
«А как вышвырнешь? Он законом прикрывается».
«Ишь ты, – Князь говорит, – тоже мне законник доморощенный выискался. Понятно. Вы вот что, – говорит, – дело это кончайте. А меня нечего беспокоить!» И он уселся поудобнее, бокал свой поднял и сдул с него пламя, словно решил, что они уже ушли. Да только не ушли они.
«Как кончать?» – спрашивают.
«Как? Взяткой! – ревет Князь. – Взяткой! Не вы ли только что мне твердили, какой он большой законовед? И что – теперь думаете, он вам вручит расписку в получении?»
«Это мы пробовали, – говорят. – Взяток он не берет».
Тут Князь в кресле своем выпрямился и ну распекать их, да с издевкой, язык-то у него жгучий, слова не даст вставить: мол, вы что думали, раз взятка, так непременно кругленькая сумма чистоганом да на ушко обещание протащить в Сенат, и пошел, и пошел, а они стоят и молча слушают – Князь как-никак! Правда, затесался там один из тех, кто помнил еще папашу нынешнего Князя. Качал, бывало, Князя на колене, когда тот был еще мальчишкой; как-то раз даже сделал ему маленькие вилы и выучил его ими пользоваться – для начала на китайцах, полинезийцах и всяких там итальяшках практиковались, пока у того руки не окрепли, чтобы как следует управляться с белыми людьми. Тому все это пришлось не по вкусу, привстал он, поглядел на Князя и говорит: «Ваш отец, между прочим, однажды допустил и большую промашку, но никто его этим не попрекал. Впрочем, остер был топор, да и сук зубаст».
«А вам, стало быть, попреки от тупого достаются?»
Совсем было рассвирепел Князь, но тоже ведь помнил он былые денечки, когда старый черт любовно и горделиво улыбался, глядя на его неуклюжие мальчишеские придумки с вулканическими бомбами размером с воздушный шар, с кусками горящей серы и прочими подобными штуковинами, а вечерами хвалился перед старым Князем, каким, дескать, малыш сметливым растет и до чего он сегодня додумался – такого перцу задал этим своим китаезам и итальяшкам, что и взрослым прежде в голову не приходило. Так что Князь сменил гнев на милость, разрешил старику сесть и говорит:
«Что вы ему предлагали?»
«Наслаждения».
«И что же?»
«У него свои есть. Говорит, что человеку, который только жует, любая плевательница подходит».
«Ну. А еще?»
«Суетные радости».
«Ну, и?..»
«Тоже свои. Даже сюда полный чемодан притащил, специально по заказу сделанный – весь из асбеста, и застежки на нем тугоплавкие».
«Так чего же ему тогда не хватает? – орет Князь. – Что ему нужно? Может, рай?» А старик этак смотрит на него, и сперва Князь подумал: видно, не забыл еще про разнос. Но оказалось, не в том дело.
«Нет, – старик говорит. – Ему нужен ад».
И тут на какое-то время в этом величественном тронном зале, украшенном штандартами изодранных в битвах дымов от сожженных древних мучеников, воцарилась тишина, только и слышно было, что шипенье сковородок, да приглушенно доносились неумолчные вопли подлинных христиан. Но уж Князь-то был весь в папашу – плоть от плоти. Вмиг и ленивая изнеженность и язвительная ухмылка – куда что только подевалось, словно явился им старый Князь собственной персоной.
«Введите его, – говорит. – И оставьте нас».
И вот ввели его в зал, все вышли и затворили двери. Одежда на нем еще слегка дымилась, но он, правда, тут же пообтряс где что затлело. Подходит к трону, во рту жвачка, а в руке все тот же плетеный баульчик.
«Ну?» – говорит Князь.
Он голову отвернул и сплюнул, а плевок только пола коснулся и сразу отскочил, взвился колечком синего дыма.
«Я, – говорит, – к вам насчет той души».
«Это мне уже доложили, – Князь говорит. – Но у тебя нет души».
«А разве это моя вина?» – говорит.
«А разве моя? – говорит Князь. – Ты что думаешь, это я тебя сотворил?»
«А то кто же» – говорит.
Тут уж Князю деваться было некуда, и Князь это сам понимал. Так что решил Князь лично взяться за его подкуп. Развернул перед ним все искушения, наслаждения и блаженства; слаще музыки лилась речь Князя, когда он в подробностях описывал их. Но тот даже жевать не перестал, стоит себе и баульчик держит. Тогда Князь говорит: «Гляди!» – и на стену указывает, тот смотрит, а там они как пошли, как пошли одно за другим, и чем дальше, тем пуще, а для наглядности вроде как это с ним самим происходит, даже то, до чего никогда бы своим умом не додумался, и наконец иссякли – все, вплоть до самых невообразимых. Но он только голову отвернул и вновь очередной плевок табачной жвачки об пол щелкнул, а Князь откинулся опять на троне в растерянности и гневе необычайном.
«Так что ж тогда тебе надо? – Князь говорит. – Тебе что надо? Рай?»
«Да я как-то на него не рассчитывал, – отвечает. – А что – он ваш, что вы его предлагаете?»
«А чей же еще?» – Князь говорит. И тут Князь чувствует, что тот попался. Вообще-то Князь с самого начала знал, что тот у него в руках, еще с тех пор, как ему сообщили: приперся, мол, и с порога права качать начал; Князь даже перегнулся через подлокотник и в пожарный колокол – блям! – чтобы старик, значит, своими ушами слышал и своими глазами видел, как он с нахалом расправится, а потом опять выпрямился на троне, поглядел на того сверху вниз – стоит себе с плетеным баульчиком – и сказал: «Ты признаешь и даже сам настаиваешь на том, что тебя создал я. Из этого следует, что твоя душа с самого начала принадлежала мне. А следовательно, когда ты предложил ее в залог как обеспечение твоей расписки, ты распорядился тем, что тебе не принадлежит, и тем самым возложил на себя ответственность за…»
«Да будто я против этого когда спорил!» – тот говорит.
«…за преступное деяние. Так что бери свой чемодан и… – Тут Князь замешкался. – А? – говорит. – Что ты сказал?»
«Да будто, – говорит, – я против этого когда спорил!»
«Против чего? – Князь говорит. – Против чего спорил?» Но только слов этих совсем не слышно, едва губами Князь шевелит, а сам все вперед клонится, и вот пол этот раскаленный ему уже колени жжет, а руками он, себя не помня, за горло хватается и тащит, рвет, слова оттуда вытягивает, будто картофелины из запекшейся земли выковыривает.
«Ты кто такой?» – хрипит и воздух ртом ловит, задыхается, глаза выпучил и на того снизу смотрит, а тот уже на троне со своим плетеным баульчиком расположился, и над ним языки пламени, яркие, словно корона.
«Бери себе рай! – вопит Князь. – Твой он! Твой!» – И тут с ревом поднимается ветер и с ревом опускается тьма, а Князь ползет через весь зал, когтями пол царапает, скребется в запертую дверь, вопит…
Книга третья Долгое лето
Глава первая
1
Оставив бричку, Рэтлиф глядел, как Варнер выехал со двора на своей старой белой кобыле, которая свернула по улице вдоль загородки, и уже издали было слышно, как в брюхе у нее ёкает, раскатисто и гулко, словно орган гудит.
«Значит, он снова верхом, – подумал Рэтлиф. – Пришлось, видно, раскорячиться, не пешком же ходить. Значит, и это у него отняли. Мало того, что он сделал дарственную на землю, уплатив два доллара за регистрацию, купил билеты в Техас и наличные денежки выложил, так нет же, пришлось и новую коляску отдать вместе с кучером, только бы как-нибудь сплавить из лавки и из дому этот крошечный галстук бабочкой».
Лошадь, как видно, сама остановилась, поравнявшись с бричкой, где сидел Рэтлиф, скромный, сдержанный и грустный, словно приехал выразить соболезнование в дом покойника.
– Какое несчастье, – тихо сказал он.
Он не хотел уязвить Варнера. Он не думал о позоре его дочери, да и вообще о ней не думал. Он говорил о земле, об усадьбе Старого Француза. Никогда, ни на один миг он не мог поверить, что усадьба ничего не стоит. Он поверил бы этому, достанься она кому-нибудь другому. Но раз уж сам Варнер купил ее и оставил за собой, даже не пытаясь продать или еще как-нибудь сбыть с рук, – значит, тут что-то есть. Он не допускал и мысли, что Варнер может когда-нибудь попасть впросак: если он что купил, значит, дал дешевле, чем всякий другой, а если не продает, значит, знает своему добру настоящую цену. На что Варнеру эта усадьба, Рэтлиф не понимал, но Варнер ее купил и не хотел продавать, и этого было довольно. И теперь, когда Варнер наконец расстался с ней, Рэтлиф был убежден, что он взял за нее настоящую цену, ради которой стоило ждать двадцать лет, или, во всяком случае, цену немалую, пусть даже не деньгами. А принимая в соображение, кому Варнер отдал усадьбу, Рэтлиф приходил к выводу, что он сделал это не ради выгоды, а поневоле.
Варнер словно прочел его мысли. Сидя на лошади, он хмуро супил рыжеватые брови и блестящими колючими глазками исподлобья глядел на Рэтлифа, который и по духу, и по складу ума, и с виду годился ему в сыновья скорее, чем любой из собственных его отпрысков.
– Значит, по-твоему, одной печенкой этому коту глотку не заткнуть? – сказал он.
– Разве что внутри будет веревочка с узелком запрятана.
– Какая такая веревочка?
– Не знаю, – сказал Рэтлиф.
– Ха! – сказал Варнер. – Нам не по пути?
– Не думаю, – сказал Рэтлиф. – Я отсюда прямо в лавку. – «Разве только ему тоже взбрела охота посидеть там, как бывало», – подумал он.
– И я туда же, – сказал Варнер. – Разбирать тяжбу, будь она трижды неладна. Между этим окаянным Джеком Хьюстоном и другим, как бишь его… Минком. Из-за его паршивой коровы, чтоб ей околеть.
– Так, значит, Хьюстон подал в суд? – сказал Рэтлиф. – Неужто Хьюстон?
– Да нет же. Просто Хьюстон держал корову у себя. Продержал ее все прошлое лето, а Сноупс помалкивал, ну, Хьюстон кормил корову всю зиму, и нынешней весной и летом она тоже паслась на Хьюстоновом выгоне. А на прошлой неделе этот Сноупс вдруг надумал забрать корову, не знаю уж зачем, видно, решил ее зарезать. Взял веревку и пошел на выгон. Стал ловить свою корову, а Хьюстон увидел это и остановил его. Говорит, пришлось даже револьвером пригрозить. А Сноупс увидел револьвер и говорит: «Стреляй, чего же ты. Знаешь ведь, что я-то безоружный». И тогда Хьюстон ему на это: «Ладно, черт с тобой, давай положим револьвер на столб загородки, сами встанем по разные стороны у ближних столбов, сосчитаем до трех, кто вперед добежит, тому и стрелять».
– Отчего ж они так не сделали? – спросил Рэтлиф.
– Ха, – хмыкнул Варнер. – Ладно, поехали. Мне бы поскорей отвязаться. Дел и так по горло.
– Езжайте, – сказал Рэтлиф. – А я поплетусь потихоньку. Мне ведь тяжбу из-за коровы не разбирать.
И старая кобыла (всегда такая чистая, словно только что из химчистки и как будто даже бензином пахнет), все так же ёкая селезенкой, двинулась дальше, вдоль обветшалой, проломанной во многих местах загородки. Рэтлиф, не трогаясь с места, сидел в бричке, провожая взглядом кобылу и сухопарого, нескладного седока, который, не меняя седла, ездил на ней двадцать пять лет, с трехлетним перерывом, когда купил коляску, и думая о том, что, попробуй теперь белая кобыла или его лошадки, как это делают собаки, обнюхать загородку, они не учуют запаха тех пролеток с желтыми колесами, думая: «И все двуногие кобели со всей округи, от тринадцати и до восьмидесяти лет, теперь могут проходить мимо, не чувствуя потребности остановиться и задрать ногу». И все же эти пролетки были еще здесь. Он знал, он чувствовал это. Осталось нечто такое, что не могло исчезнуть так быстро и бесследно, – остался дух, хмельной, щедрый, сладостный, который овевал и лелеял ту пышную, изобильную плоть, что непрерывным потоком всасывала пищу все шестнадцать лет, прожитых в полной праздности; отчего ж, в конце концов, этому телу было не уподобиться неприступной голой вершине, не стать первозданной цитаделью девического целомудрия, завладеть которой мужчине дано лишь дорогой ценой или даже не дано вовсе, – нет, он будет отброшен, падет, исчезнет, не оставив по себе ни следа, ни знака («А ребенок-то, верно, будет так же не похож ни на кого из здешних, как и она сама», – подумал он), и пролетки – это лишь часть от целого, ничтожная и зряшная мелочь, вроде пуговиц на ее платье, или самого платья, или дешевых бус, которые подарил ей кто-то из тех троих. Все это, конечно, было не про него, даже в самый его разгул, как сказали бы они с Варнером. Он знал это и не испытывал ни грусти, ни сожаления, он никогда и не пожелал бы этого («Все равно как если бы мне подарили орган, а я только и способен выучиться заводить старый граммофон, который недавно выменял на почтовый ящик», – подумал он) и даже о победителе, об этой жабе, вспоминал без всякой ревности; и вовсе не оттого, что знал: чего бы ни ожидал Сноупс, как бы ни называл то, что ему досталось, победы тут никакой не было. А испытывал он лишь негодование на пустое, бессмысленное расточительство; как все это нелепо от начала и до конца – словно построили западню из толстенных бревен и положили туда целого быка, чтобы поймать всего-навсего крысу, или еще хуже – словно сами боги осквернили, окропили нечистью ясный июнь, средоточие чистоты и света, обратив его в навозную кучу, где кишат черви. Впереди, за углом, там, где кончалась загородка, ответвлялась в сторону едва приметная, почти заглушенная травой дорога к усадьбе Старого Француза. Белая кобыла хотела было свернуть туда, но Варнер грубо погнал ее вперед. «Все равно что в богадельню отдать», – подумал Рэтлиф. Но там-то хоть этой заразы не было бы. Он легонько дернул вожжи.
– Н-но! – крикнул он на своих лошадок. – Вперед.
Лошади тронули, ступая по густой пыли, покрывавшей дорогу в эту пору позднего лета. Теперь вся Балка была видна как на ладони – лавка, кузня, железная крыша над хлопкоочистительной машиной и труба, над которой легкой прозрачной дымкой струился отработанный пар. Сентябрь был в половине; сухой, пропыленный воздух чуть дрожал от быстрого стука машины, он был почти так же горяч, как пар, которого поэтому и видно не было, – только неверное, трепетное марево маячило над трубой, гнойный, дрожащий воздух оглашали медленные, натужные стоны груженых повозок, всюду пахло ватой; клочки ее повисли на чахлой придорожной траве, редкие хлопья валялись на дороге, вдавленные в пыль колесами и копытами лошадей. Видны были и повозки, они выстроились неподвижной вереницей, и понурые мулы, время от времени продвигаясь вперед на длину одной повозки, покорно ждали, пока подойдет их очередь въехать на весы, а потом к хлопкоприемнику, где снова распоряжался Джоди Варнер, а в лавке уже сидел новый приказчик, как две капли воды похожий на старого, лишь ростом чуть поменьше да в плечах поуже, словно был скроен по одной с ним выкройке, только навыворот и не сразу, а когда края пообтерлись, оборвались, – у него был маленький, пухлый, ярко-розовый, как задик котенка, рот, блестящие, бегающие, блудливые барсучьи глазки, и он дышал веселой, беспредельной, непоколебимой уверенностью в том, что весь род человеческий, не исключая и его самого, от природы неизменно и неиссякаемо бесчестен.
Джоди Варнер стоял у весов; Рэтлиф, проезжая мимо, вытянул, как индюк, шею и увидел мешковатую суконную пару, белую сорочку без воротничка, с желтыми от пота полудужьями под мышками и пропыленную, облепленную пушистыми хлопьями черную шляпу. «Что ж, теперь, видать, все довольны, – подумал Рэтлиф. – Или нет, пожалуй, все, кроме одного», – мысленно добавил он, потому что увидел, как из лавки вышел Билл Варнер и взгромоздился на свою лошадь, которую кто-то отвязал и теперь держал под уздцы, а на галерею высыпали люди, чьи повозки стояли обочь дороги напротив лавки, ожидая очереди к весам, а когда и сам он подъехал к лавке, с крыльца спустился Минк Сноупс и с ним – другой Сноупс, этот краснобай, учитель (теперь на нем был новый сюртук, хоть и не ношеный, с иголочки, но словно бы с чужого плеча, точь-в-точь как тот, старый, в котором Рэтлиф видел его впервые). Мелькнуло упрямое лицо, на котором теперь застыла холодная ярость, сросшиеся брови, а следом – крысиная мордочка учителя, беспорядочный вихрь рук, рвавшихся из обшлагов нового черного сюртука, и послышался голос, который, как и движения рук, существовал словно бы сам по себе, независимо от тела, облекавшего их в плоть и кровь:
– Имей терпение! Не сразу и Рим строился, а терпенье и труд все перетрут. Дай только срок – Бог правду видит, а она глаза колет. Я сам читал закон; Билл Варнер ничего в нем не смыслит и, право слово, все перепутал. Мы подадим жалобу. Мы…
Но тут Минк сверкнул на него глазами из-под неумолимой черты бровей и злобно сказал:
– Дерьмо!
Они ушли. Рэтлиф подъехал к крыльцу. Пока он привязывал лошадей, вышел Хьюстон со своим псом, сел на лошадь и уехал. Рэтлиф поднялся на галерею, где было теперь по малой мере человек двадцать и среди них Букрайт.
– A у истца, видать, язык хорошо подвешен, – сказал он. – Каков приговор?
– Сноупс должен уплатить Хьюстону три доллара за потраву и корм, и тогда пускай забирает свою скотину.
– Вот как, – сказал Рэтлиф. – А что же, защитника его судья и слушать не стал?
– Защитника судья оштрафовал да велел ему замолчать, и вся недолга, – сказал Букрайт. – Ежели ты именно это желаешь знать.
– Так, так, – сказал Рэтлиф. – Так, так, так. Выходит, Билл Варнер ничего не мог поделать с очередным Сноупсом, кроме как заткнуть ему рот. Ну, да ничего не попишешь, Сноупсы приходят и уходят, но Билл Варнер, видно, осноупсился на веки вечные. Или, если угодно, он полагает, что это навеки. Как это по пословице? Старому гнить, новому цвесть, а глядишь – все остается по-старому: и работа и инструмент, только человек новый, а это разве не один черт?
Букрайт поглядел на Рэтлифа.
– Ты бы встал поближе к двери, чтоб ему слышнее было, – сказал он.
– Твоя правда, – сказал Рэтлиф. – И стены имеют уши, а денежки счет любят, с сильным не борись, но не в каждой семье есть свой адвокат, не говоря уж о пророке. Не будь тороват, будешь богат, а только не надобно и пророка, чтобы сказать до срока, ежели девка с прибылью.
Теперь все смотрели на него, и было в его безмятежном, непроницаемом лице, в глазах и в складках у рта что-то такое, чего они не могли разгадать.
– Слушай, да что это с тобой? – сказал Букрайт.
– Со мной? Ровным счетом ничего. А из ничего не сделаешь нечто в этом лучшем из миров[85]. Небось у того, кто продает ему эти его галстучки, найдется и пара длинных черных чулок. А любой мазилка размалюет ему ширму полками, а на них жестянки, он поставит ее у кровати, и ему будет казаться, что он в лавке…
– Слушай, – сказал Букрайт.
– …и тогда он сумеет сделать то, о чем здесь вот уж двадцать девять дней только и думают все, кто ее хоть раз видел, от тринадцатилетних мальчишек и девчонок до старика Маккалема, которому уже стукнул сто один год. Конечно, он мог бы устроить дело иначе – залезть на крышу сарая, а оттуда в окно. Но это ни к чему, это не в его духе. Нет, брат, шалишь. Этот малый – не очумевший кот, чтоб лазить по крышам. Ему…
К крыльцу рысцой подбежал мальчик лет восьми или десяти, одетый в комбинезон, поднялся на галерею, стрельнул в них невинными голубыми, как барвинок, глазами и деловито нырнул в лавку.
– …ему только одно и нужно – сидеть здесь, в лавке, да ждать, покуда которая-нибудь сама придет взять на пять центов сала, разумеется – в долг: надо только попросить мистера Сноупса, он даст ей и запишет в книгу, а она знает, что он там записал и для чего, не больше, чем знает о том, как это самое сало попало в жестянку с этикеткой, на которой нарисована свинья, да так похоже нарисована, что даже ей ясно, что это свинья, а он ставит жестянку на место, прячет книгу, идет и запирает дверь на засов, а она тем временем уже за прилавком и легла на пол, верно, думает, что так нужно, не для того, чтоб за сало не платить, про сало он уже записал в книгу, а для того, чтоб ее отпустили подобру-поздорову…
Новый приказчик выбежал из лавки на галерею. Он вырос словно из-под земли, и черты его, теснясь на лице и словно устремляясь к некоему центру, горели нестерпимым, лихорадочным, всепожирающим возбуждением, а мальчуган с глазами-барвинками деловито юркнул мимо него и, никого не дожидаясь, спрыгнул с крыльца.
– Ну вот, ребята, – сказал он скороговоркой, взволнованно. – Уже началось. Так что поторапливайтесь. Я сегодня пойти не могу. Мне нельзя отлучиться из лавки. А вы лучше идите задами, чтобы старуха Литтлджон не видела. Она и то уж на нас косится.
Пятеро или шестеро мужчин встали с какой-то странной, вороватой и вместе с тем вызывающей поспешностью. Один за другим они спускались с крыльца. Неугомонный мальчуган уже бежал вдоль загородки, которой был обнесен участок миссис Литтлджон.
– В чем дело? – спросил Рэтлиф.
– Если ты еще не видел, пошли, – сказал один из мужчин.
– Чего не видел? – Рэтлиф оглядел оставшихся. Среди них был Букрайт. Опустив голову, он сосредоточенно строгал сосновую веточку.
– Шагай живей, – подогнал человека, замешкавшегося на крыльце, другой, шедший следом. – А то покуда дойдем, все кончится.
И они гурьбой пошли дальше. Рэтлиф глядел, как они почти бегом шли вдоль загородки следом за мальчиком, все с тем же вороватым и вместе с тем вызывающим видом.
– Да что у вас тут такое происходит, в конце-то концов? – спросил он.
– Ступай да погляди сам, – грубо сказал Букрайт. Он даже не поднял головы от своей веточки. Рэтлиф посмотрел на него:
– А ты видел?
– Нет.
– А пойдешь?
– Нет.
– Ну а в чем дело, знаешь?
– Ступай да погляди, – снова сказал Букрайт грубо и зло.
– Да уж, видно, придется, раз никто не хочет мне сказать, что там такое, – сказал Рэтлиф.
И он вышел на крыльцо. Кучка людей была уже далеко, они быстрым шагом шли вдоль загородки. Рэтлиф не спеша начал спускаться с крыльца. Он продолжал говорить. Он говорил, сходя по ступенькам, и ни разу не оглянулся; невозможно было понять, обращается ли он к людям, оставшимся на галерее, или же вообще ни к кому не обращается:
– …запирает он дверь на засов и идет назад к этой черномазой, что пришла к нему прямо с поля, и на теле у нее еще не просох пот, а ей и невдомек, что от нее пахнет потом, оттого что она сроду ничего другого не нюхала, все равно как мулу невдомек, что от него пахнет мулом, и лежит она в одном-единственном платьишке на полу под прилавком и глядит мимо него на жестянки, разрисованные рыбами и всякой чертовщиной, а что там внутри, не знает, потому что у нее в жизни в руках десяти центов не было, а ежели б он давал ей никель в придачу к салу, за которым она пришла, она на третий или четвертый раз, услышав от людей, как называется то, что в этих самых банках, спросила бы, лежа на полу и поглядывая на них всякий раз, как его голова не застит полку: «Мистер Сноупс, а почем у вас вон те сардины?»
2
Когда зима кончилась и подкралась весна, ему все меньше и меньше приходилось бежать сквозь темноту, от темноты. Вскоре темно было, лишь когда он, осторожно пятясь и щупая одной ногой землю, выбирался из упряжной клети, где спал на соломе под ватным одеялом, и уходил, оставляя позади длинную призрачную тень дома, где в постелях, которые он теперь научился стелить не хуже самой миссис Литтлджон, на подушках храпели приехавшие накануне торговцы, а к апрелю осталась лишь тонкая и редкая завеса предрассветных сумерек, и теперь уж он ощущал себя чем-то твердым, зримым и осязаемым, не было уже бессвязного всечувствия страха, жидкого и бьющего по нервам, когда он был один и страшно свободен, брошенный в эту непроглядную, враждебную, первобытную жуть. Все это было позади. Теперь страх приходил лишь перед самым рассветом, в тот едва уловимый миг, который так безошибочно угадывают звери и птицы, – когда день наконец одолевает ночь; и тогда он пускался бежать со всех ног, не для того, чтобы поспеть вовремя, а чтобы поскорей вернуться, бежал уже спокойно, без страха, под яснеющим небом, которое из серого постепенно становилось сперва бледно-желтым, а потом золотым, вверх, на хребтину дальнего холма, и оттуда вниз, в надбережный туман, к ручью, и там ложился прямо в росную траву, где просыпались мириады живых существ, и, напряженно прислушиваясь, ждал ее.
Наконец из тумана доносятся ее шаги, она идет по берегу ручья. Он ждет недолго – не час, не два, не три; но заря угасает, еще не пришел тот миг, еще ее нет, но вот он слышит ее, лежа в мокрой траве, безмятежный, всем своим существом безраздельно счастливый. Он чует ее; этим запахом пронизан туман; те же мягкие руки тумана, что обнимают его распростертое на земле измокшее тело, гладят и ее хребет, осыпанный жемчужными каплями, и мгновенно сочетают их обоих нерасторжимыми узами. Он не шевелится. Он лежит, затаившись, а вокруг него пробуждается целый мир мельчайших существ, у самого его лица клонятся к земле травинки, отягченные росой, темные и недвижные в тумане, и на изогнутых былках в ровно скользящих каплях росы многократно отражается розовеющая заря, крошечная и вместе с тем огромная в миниатюрном своем воспроизведении, и он чует и даже ощущает на вкус сладкий, густой, теплый запах хлеба, молока, чувствует приближение извечного женского начала, слышит, как чавкает и хлюпает грязь, когда она осторожно ставит на землю раздвоенное копыто, еще не видя ее в тумане, пронизанном ликующими звуками брачного гимна.
Наконец он видит ее; тонкие сверкающие копья утреннего солнца пронзают туман, и она предстает перед ним, недвижная, светлая, окропленная жемчужинками росы, и, стоя в расступившейся воде ручья, источает густой, теплый, пахучий молочный дух; теперь солнце уже слепит ему глаза, и он начинает ерзать в мокрой траве, издавая слабые, глухие, безгласные стоны. Он не может остаться тут до полудня, до вечера, на весь день. И не оттого, что ему нужно идти работать. Ему не приходится работать, выбиваясь из сил, потеть, постоянно принуждать себя к этому физически или духовно; для него не было вчера, не будет и завтра, а сегодня – это лишь тихое и невинное удивление при виде пыли и сора, ползущих перед щеткой, и простынь, которые от заученных движений становятся гладкими и тугими, – нетрудное, привычное дело; им повелевает ласковая, но твердая рука, кроткий голос сдерживает его порывы – так обучают и заставляют повиноваться собаку.
А оттого что он не смеет. Он уже пробовал. Это было, когда он поджидал ее в третий раз; туман рассеялся, и он увидел ее, и для него не стало даже «сегодня» – ни голоса, ни руки, ни кроватей, которые его ждут, побеждена была преданность и даже привычка. Он встал и пошел к ней, заговорил, протянул руку. Она подняла голову, увидела его и вышла из ручья на другой берег. Он пошел следом, робко ступил в воду и, высоко поднимая ноги, пошел через ручей вброд, с тихими стонами, сдерживая нетерпение, чтобы не испугать ее еще больше. Один раз, оступившись, он упал ничком, с головой уйдя под воду, не сделав даже попытки удержаться на ногах и лишь громко вскрикнув, потом встал, весь мокрый, и уже набрал было воздуху, чтобы крикнуть снова. Но он удержал крик и опять что-то забормотал, заговорил, выбрался на берег и опять пошел к ней, протягивая руку. Тогда она пустилась наутек, но, отбежав немного, повернулась к нему и выставила вперед рога; прежде чем он успел погладить ее, она снова шарахнулась и снова побежала, а он бежал следом и все говорил с ней, настойчиво бормотал что-то. Наконец, пробежав мимо него, она пустилась назад, к броду. Он не мог угнаться за ней; со стонами он трусил рысцой, не видя ничего, кроме беглого мелькания теней, пятнавших ее, недоступную, ускользающую, а она тем временам уже перебралась через ручей, отбежала немного по тропе и, остановившись, принялась щипать траву.
Он перестал стонать. Добравшись до ручья, он пошел вброд, при каждом шаге высоко поднимая ногу, словно всякий раз боялся, что вода не расступится, или, быть может, просто не знал, что окажется у него под ногой. На этот раз он не упал. Но едва он выбрался на берег, она пошла прочь по тропе, быстро, хоть и шагом, и ему снова пришлось бежать, все время отставая, и снова он стонал, и в его стонах слышались недоумение, и растерянность, и упорство. Она возвращалась той же дорогой, по какой пришла в это утро и приходила каждый день. А он, вероятно, и не подозревал об этом, не обращал внимания, куда бежит, не видел ничего, кроме этой коровы; он, должно быть, не понял, что они во дворе, даже когда она пересекла этот двор и вошла в коровник, из которого вышла всего час назад, хотя вообще-то он, вероятно, знал, откуда она приходит по утрам, потому что знал почти всю округу, и еще не было случая, чтобы он заблудился: в темноте все вокруг как бы рассасывалось, хоть и оставалось на прежних местах. Должно быть, он не понимал даже, что теперь она в своем стойле, он понимал только одно – наконец-то она остановилась, наконец-то не убегает больше, потому что сразу смолкли его тревожные и нетерпеливые стоны, и он вошел к ней в стойло, снова уговаривая ее, бормоча что-то бессвязное, пуская слюни, и коснулся ее рукой. Она шарахнулась; едва ли он понимал, что она не может убежать, но она не бежала, и этого было довольно. Он снова коснулся ее, и его рука дрожала, в прерывающемся голосе звучала неутоленная страсть и обещание блаженства. А потом он лежал на спине, и она все еще била копытами в дощатую стену у самой его головы, и он увидел, что над ним стоит огромный пес, еще мгновение, и кто-то, грубо схватив его за шиворот, поставил на ноги. И вот его уже выволокли из коровника, и Хьюстон все еще держит его за шиворот и осыпает бранью, а он и не знает, что это не ярость, а просто безнадежная злость. Собака стояла чуть поодаль, выжидая.
– Айк Х’моуп, – сказал он. – Айк Х’моуп.
– Тьфу, черт, – сказал Хьюстон и встряхнул его. – Убирайся! Живо! Гони его отсюда, – приказал он своему псу. – Но смотри не тронь!
Пес залаял. Не двинулся с места, а лишь один раз коротко взлаял, словно сказал «пшел!», и он, не переставая стонать, отчаянным взглядом пытаясь что-то объяснить этому человеку, заковылял к открытым воротам, в которые только что вошел. Пес следовал за ним по пятам. Он оглянулся на коровник, снова попытался что-то сказать взглядом, но только застонал, пуская слюни, а пес снова залаял на него и сделал еще шаг, всего один шаг, и он, с ужасом взглянув на него, рысцой затрусил к воротам. Пес пролаял три раза кряду, а он закричал, хрипло и жалобно, как затравленный зверь, и побежал что было мочи, с трудом, невпопад перебирая своими толстыми непослушными ногами.
– Не тронь! – крикнул Хьюстон.
Но он не слышал этого. Он слышал лишь топот собачьих лап у себя за спиной. Подвывая со страху, он тяжело бежал к воротам.
И вот теперь он не смеет идти за ней. Он смеет только лежать на траве, ждать ее, ловить звук ее шагов, видеть ее, когда туман рассеется, – и ничего больше. Поэтому он встал с земли и стоит, все еще слегка покачиваясь из стороны в сторону, с тихим хриплым стоном. А потом он поворачивается и бредет вверх по холму, спотыкаясь, потому что глаза его все еще ослеплены солнцем. Но вот под босыми ногами он чувствует дорожную пыль и снова пускается бежать во всю мочь, не переставая стонать, и тень его становится все короче на пыльной дороге, а солнце, поднимаясь все выше, печет ему спину, и мокрая грязь у него на комбинезоне понемногу подсыхает; наконец он снова в доме, где ждут его неубранные комнаты и незастланные кровати. Вскоре он берется за свое обычное дело – метет полы, лишь изредка останавливаясь с горестным и недоуменным стоном, а потом снова с тихим и сосредоточенным удивлением следит за кучкой пыли и сора, ползущей перед щеткой. Потому что, даже метя пол, он все еще видит ее на лугу, светлую, среди алых солнечных бликов, и не просто на фоне налитой соками нежной зелени, а неотторжимую от буйного расцвета весны, в прекрасном ее венце.
Он подметал комнату наверху и вдруг увидел дым. Он сразу понял, где пожар, – там, за ручьем, на холме, поросшем осокой и вереском. И хотя его отделяло от этого холма целых три мили, он мгновенно представил себе, как она в страхе пятится от огня, услышал ее мычание. Он рванулся с места, не выпуская из рук щетки, бессмысленно ткнулся в стену, как муха или птица, попавшая в западню, потом в высокое узкое оконце, через которое увидел дым, – пролезть в него он все равно не смог бы, даже если бы решился спрыгнуть с высоты восемнадцати футов. Потом перед ним оказалась дверь в коридор, и он опрометью выскочил в нее, все еще не выпуская щетку, и побежал по коридору к лестнице, но тут из другой комнаты вышла миссис Литтлджон и остановила его.
– Айзек, – сказала она. – Куда ты, Айзек?
Она не повысила голоса и даже не коснулась его, но он остановился, застонал, устремив на нее пустой, бессмысленный взгляд и поджимая то одну, то другую ногу, как кошка на горячей крыше. Тогда она протянула руку, взяла его за плечо и повернула обратно, и он покорно, со стоном, пошел по коридору назад, в комнату; он даже раз-другой взмахнул щеткой, но опять увидел в окно дым. Теперь он нашел дверь почти сразу, но не побежал к ней. Он постоял немного, тихонько скуля, поглядел на зажатую в руке щетку, потом на кровать, которую только что застелил, аккуратно, без единой морщинки, перестал скулить, подошел к кровати, откинул одеяло и уложил туда щетку широким концом на подушку, словно голову, накрыл ее, оправил одеяло невероятно быстро и ловко своими непослушными руками и вышел.
На этот раз он не издал ни звука. Он шел не на цыпочках и все же проскользнул по коридору удивительно быстро и бесшумно; не успела миссис Литтлджон выйти из соседней комнаты, как он уже добрался до лестницы и начал спускаться вниз. В первый раз, три года назад, он ни за что не хотел спускаться. Наверх он тогда залез один, без посторонней помощи; никто так и не узнал, шел ли он по лестнице, или взбирался на четвереньках, или, может, лез наверх, все выше, даже не подозревая об этом, и ощущение высоты еще не проснулось в нем. Миссис Литтлджон не было, она ушла в лавку. Кто-то, проходя мимо, услышал его крики, и, когда она вернулась, у нее в прихожей столпились пять или шесть человек и, задрав головы, смотрели, как он на верхней ступеньке, зажмурившись, цепляется за перила и отчаянно ревет. Когда она попыталась оторвать его от перил и стащить вниз, он только крепче сжимал пальцы, упирался и ревел. Он просидел наверху три дня, и она носила ему туда еду, а люди приезжали издалека, чтобы полюбопытствовать: «Ну как он, все еще там?» – пока наконец, после долгих уговоров, она не заставила его спуститься. Но и тогда это продолжалось довольно долго, несколько минут, а в прихожей толпились люди и глазели, как он цепляется за перила и ревет, а ласковая, но твердая и непреклонная рука и ровный, неумолимый, терпеливый голос понуждают его спускаться со ступеньки на ступеньку. После этого случая он долго еще падал всякий раз, как пробовал спуститься с лестницы. Он знал, что упадет, и уже стонал заранее, ступая наугад, в пустоту, и летел вниз головой, ударяясь о ступени, терзаемый не болью, а удивлением, и наконец растягивался на полу в прихожей и ревел, устремив в пустоту испуганный и недоверчивый взгляд.
Но в конце концов он научился преодолевать лестницу. И теперь он лишь помедлил немного, прежде чем сделать первый шаг, не смело, но и не робко, и с каждым шагом он словно повисал в воздухе, почти в пустоте; всякий раз под ним на миг разверзалась неизвестность, чуть ли не бездна, но вот он уже в прихожей, выбежал на задний двор, а там снова остановился и начал со стоном раскачиваться из стороны в сторону, и на его бессмысленном лице появилось тупое удивление. Потому что отсюда не было видно дыма, а он помнил лишь пустынный холм, с которого всякий раз спускался в туман, на берег ручья, и там ждал ее, а теперь все было не так. Теперь вокруг него свет, солнце и все на виду – и сам он, и деревья, и земля, и дом, – все обрело четкие и ясные очертания; и нет больше темноты, не надо бежать сквозь и от нее, и все совсем не так. Он постоял немного в тупом удивлении, со стоном раскачиваясь из стороны в сторону, а потом пошел через двор к воротам загона. Открывать их он научился уже давно. Он отодвинул засов, и ворот перед ним как не бывало; он вышел, почти сразу нашел распахнувшуюся настежь створу у самой загородки, затворил ее, заложил засов, со стоном пересек залитый солнцем загон и вошел в конюшню.
Сперва, ослепленный солнцем, он ничего не увидел. Но каждый вечер, когда он приходил сюда спать, здесь бывало темно, и он, сразу перестав стонать, уверенно направился прямо в свою клеть, ухватился обеими руками за дверной косяк, встал одной ногой на ступеньку и, пятясь, щупая другой ногой землю, вылез из темноты на свет, повернулся, и свет оглушил его беззвучным ревом, сделал его твердым и зримым, но он уже трусил рысцой туда, к холму, откуда обычно сбегал по склону в туман, на берег ручья, чтобы там лечь и ждать ее, пересек загон и протиснулся через лазейку в проволочной загородке. Он зацепился за проволоку комбинезоном, но, рванувшись, освободился и без стона побежал по дороге, быстро двигая толстыми бабьими ляжками, и его лицо, глаза выражали тревогу и нетерпение.
Пробежав три мили до холма, он все так же бегом свернул с дороги, поднялся на скат; увидев дым на другом берегу ручья, он опять издал хриплый, исполненный ужаса вопль и побежал вниз, к ручью, к броду, по уже высохшей траве, в которой он лежал на заре. Он не медлил, не колебался. С разлета он сбежал в воду, чуть подернутую рябью, и все бежал, падая, зарываясь головой в воду, пока не упал ничком, а потом встал, весь мокрый, по колена в воде, и заревел. Он поднял одну ногу и шагнул вперед, словно поднимаясь по лестнице, потом шагнул еще и еще, порываясь бежать, и снова упал. Но на этот раз его вытянутые руки коснулись берега, а когда он встал, то услышал ее мычание, слабое и испуганное, оно явственно доносилось из-за густой пелены дыма, окутывавшей ближний холм. Он поднял ногу над водой и снова побежал. На этот раз он упал уже на суше. С трудом поднявшись, он в мокром комбинезоне пустился через луг, а потом вверх по холму, окутанному пеленой дыма, которая в этот безветренный день была неподвижна, постепенно переходя под ярким солнцем от голубого оттенка к нежно-розоватому, сиреневому и, наконец, медно-красному.
В миле позади осталась широкая, ровная, тучная пойма и начинались холмы – последний, едва приметный голубой след Аппалачских гор на земной поверхности. Некогда эта земля принадлежала индейцам племени чикасо[86], потом ее, где только было возможно, расчистили под пашню, а после Гражданской войны забросили, и здесь остались одни маленькие передвижные лесопилки, да и тех теперь не было и в помине, на их месте высились лишь груды гниющих опилок – печальные надгробья и в то же время памятники ненасытной человеческой жадности. Мало-помалу земля вновь поросла чахлыми сосенками и дубками, под ними зацвел кизил, но потом и эти леса были сведены, пошли на веретена для прядильных станков, и прежние поля, не сохранившие ни одной борозды, словно плуг никогда и не касался их, сорок лет поливал дождь, грыз мороз, сушил зной, и постепенно они обратились в нагорье, поросшее самым обыкновенным вереском да травой, где водятся кролики и гнездятся перепела, изрезанное оврагами с осыпающимися красно-белыми склонами, в которых перемежаются пласты песка и глины. К такому склону он и бежал теперь, бежал по золе, не подозревая об этом, потому что здесь земля уже успела остыть, бежал по черным стеблям прошлогодней осоки с редкими островками свежей неопаленной зелени, где иногда мелькали растерзанные головки бело-голубых маргариток, вверх, на холм.
Дым стеной встал на его пути; а там, в дыму, слышалось неумолчное отчаянное мычание перепуганной коровы. Он бросился прямо в дым, на ее зов. Вот уже земля под ним стала горячей. Он начал быстро поджимать то одну, то другую ногу; один раз он закричал сам, хрипло и удивленно, и ему пронзительным воем откликнулись дым, кустарник, холмы. Вой этот несся отовсюду, сверху и снизу, летел со всех сторон; остановившись перевести дух, он услышал стук копыт, и появился конь, он возник прямо из дыма – какое-то невероятное чудище с дико горящими глазами и развевающейся гривой – и понесся прямо на него. Он тоже взвыл. Они оба взвыли, глядя друг на друга, а потом дико горящие глаза, желтые зубы и огромная красная пасть, разинутая в злобном ликующем торжестве, обрушились на него и промчались мимо, потому что конь свернул на всем скаку, и от ветра, поднятого этим огнедышащим драконом, зашевелились его волосы и одежда. Конь исчез. А он снова бросился туда, откуда доносилось мычание. И когда снова за спиной у него послышался конский топот, он даже не обернулся, даже не вскрикнул. Он все бежал, бежал без оглядки, а по земле, сквозь дым, снова прокатился гулкий, дробный стук копыт, и снова пронзительный нестерпимый визг настиг его, и он, обеими руками прикрывая голову, упал ничком, и вокруг снова засвистел огнедышащий ветер, и обезумевший конь, прыгнув, проплыл над его распростертым телом и скрылся из глаз.
Он встал и пустился бежать. Теперь корова была уже близко, и впереди он увидел огонь, отделявший его от нее, тонкую, нежно-розовую полоску, стлавшуюся понизу, в дыму. Всякий раз, как его подошва касалась земли, он болезненно вскрикивал и норовил отдернуть ногу, еще не успев перенести на нее вес тела, но тотчас спохватывался, с удивлением и ужасом ощущая вторую ногу, о которой он на миг забыл, так что теперь он уже не двигался вперед, а прыгал на месте, словно в пляске, как вдруг услышал, что конь снова несется на него. Он закричал. Его крик и конское ржание слились в один дикий, неистовый, безнадежный вопль, и он бросился прямо в огонь, сквозь него, на воздух, на свет, на солнце, сбрасывая с себя пламя, которое волочил за собой, словно отрепья. Корова стояла теперь футах в десяти от него, у оврага, мордой к огню, понурившись, и мычала. Едва он успел добежать до нее и, прикрывая руками голову, заслонить ее своим телом, как ошалевший конь вырвался из дыма и устремился прямо на них.
Он даже не свернул в сторону. На всем скаку, не останавливаясь, он прыгнул. Желтые зубы, дико горящие глаза, огромная красная пасть надвигались на них, окруженные свирепым водоворотом челки и гривы, и весь конь как-то чудовищно медленно проплыл над ними. Воздух затрепетал, словно под ударами яростных крыл, сверкнули четырьмя полумесяцами подковы, и конь, не переставая ржать, исчез в овраге, а следом за ним – корова и он сам, словно их засосала пустота, оставленная конем на скаку. Земля вздыбилась и опрокинулась, разверзнув под ними бездну, сразу, вдруг, без постепенного, успокоительного перехода. Он не издал ни звука, когда они все трое полетели по сыпучему откосу на дно, куда конь упал на все четыре ноги и, не останавливаясь, поскакал дальше по дну оврага, а он, упав под корову, которая мычала и лягалась, почувствовал, как его заливает навозная жижа. Наверху последний язычок пламени лизнул край оврага, съежился, угас и бледным дымным облачком взвился к ясному солнечному небу.
Сначала он никак не мог с ней совладать. С трудом встав на ноги, она повернулась к нему, выставив вперед рога, и заревела. Когда он сделал к ней шаг, она шарахнулась от него и ринулась вверх по обрушенному склону, оскользаясь на зыбком, сыпучем песке, словно в припадке слепого стыда, стремясь убежать не только от него, но и от того места, где возмутили ее покой, где на нее предательски напали из тьмы, и она опозорилась по природной своей слабости, а он тащился следом, уговаривая ее, пытаясь ей объяснить, что никто не осудит ее за такое грубое нарушение приличий, потому что это непоколебимый закон извечного естества. Но она не слушала. Она все лезла вверх, скользя по сыпучему склону, и тогда он уперся в нее плечом и стал ее подталкивать. Вместе им удалось подняться на шаг-другой, но песок все осыпался у них из-под ног, и наконец силы оставили их, и они, тесно прижатые друг к другу, съехали назад, на дно оврага, по щиколотку увязнув в плывущем пласте песка, словно две статуи на плоту. И снова он уперся плечом ей в крестец, и они снова рванулись вверх по крутизне, сделали шаг или два, но предательский песок снова обрушился под ними. Он ласково стал ее уговаривать, и оба напрягли последние силы. Но земля снова встала дыбом; дно оврага, песчаный склон, все вырвалось у них из-под ног и взметнулось вверх, к бледному небу, еще подернутому дымом, и вот уже они снова барахтаются на дне, и он снова внизу, под ней, но в конце концов она, отчаянно брыкаясь и не переставая реветь, вскочила и поскакала по оврагу, в ту же сторону, что и конь, скрывшись из виду, прежде чем он успел встать и догнать ее.
Овраг выходил прямо к ручью. Почти сразу он снова очутился на выгоне, но, вероятно, даже не заметил этого, потому что видел только корову, бежавшую впереди. Вероятно, он не узнал и брода, даже когда корова, замедляя шаг, вошла в воду, остановилась и стала пить, а он, тоже замедляя шаг, последовал за ней, с нетерпеливым, но тихим стоном, боясь опять испугать ее. И вот он выходит на берег, сдерживая стон, топчется на месте, и его красное, обожженное лицо напряженно и нетерпеливо. Она не убегает, и тогда он решается ступить в воду или, вернее, на воду, снова позабыв о том, что она раздается под его тяжестью, вскрикивает, не столько от удивления, сколько боясь испугать ее, и идет дальше, ступая в податливую твердь воды, и поглаживает корову. Она даже не перестает пить; проходит секунда, другая, его рука лежит у нее на боку, и только теперь она поднимает морду, с которой капает вода, поворачивает голову и глядит на него задумчиво, уже не чуждаясь.
Здесь и нашел их Хьюстон. Он прискакал через выгон наметом на неоседланной лошади, с собакой, бежавшей следом, и увидел толстого нескладного человека, который, присев около коровы на корточки, неловко обмывал ей задние ноги ивовой веткой.
– Ну что, цела? – крикнул он и, так как у него не было даже поводьев, закричал на коня, чтобы остановить его: – Тпру! Тпру! Да стой же, дьявол! Эй, послушайте, чего ж вы не попробовали поймать лошадь? Ведь она могла сломать себе… – Тут человек, сидевший на корточках, повернул к нему обожженное лицо, и Хьюстон узнал его. Он громко выругался, дернул лошадь за гриву, чтобы ее осадить, а сам, даже не дожидаясь, пока она остановится, перебросил ногу через круп и спрыгнул на землю, продолжая ругаться не в ярости, а просто в безнадежном негодовании. Вместе со своим псом, который не отставал от него ни на шаг, он спустился на берег, нагнулся, подобрал сухой сук, занесенный сюда половодьем, и хлестнул им корову, а обломок запустил ей вслед, когда она бросилась на другой берег ручья. – Пошла отсюда! – крикнул Хьюстон. – Пошла домой, шлюха! – Корова отбежала немного, остановилась и принялась щипать траву. – Гони ее домой, – сказал Хьюстон своему псу.
Не двигаясь с места, только подняв морду, пес отрывисто залаял. Корова вскинула голову и побежала прочь, а человек в ручье, видя, что пес встает, снова издал хриплый, придушенный крик и тоже вскочил. Но пес не вошел в воду, он даже не спешил; он просто сделал несколько шагов по берегу, остановился напротив коровы и снова залаял, всего один раз, презрительно и властно. Теперь корова повернула назад и галопом пустилась вдоль ручья к своему хлеву, а пес следовал за ней по другому берегу. Они скрылись из виду. Еще дважды корова пыталась остановиться, и всякий раз пес коротко взлаивал, словно говоря: «Пшла!»
А он стоял в воде и стонал. Вернее, теперь он сам мычал, совсем по-коровьи, негромко, недоуменно. Когда Хьюстон прискакал к ручью, он, озираясь, прежде всего поглядел на пса. В тот миг он уже открыл было рот, чтобы закричать, но вместо этого на его лице появилось почти осмысленное выражение глупого самодовольства, которое, когда Хьюстон начал ругаться, исчезло и сменилось недоверчивым и обиженным удивлением, сохранявшимся все время, пока он стоял в воде и стонал, а Хьюстон с берега смотрел на его загаженный комбинезон и ругался в тупом негодовании, повторяя: «А, в бога душу!..» – и неистово размахивал руками, а потом сказал:
– Эй, вылезай оттуда. Поди-ка сюда. – Но тот, в ручье, только стонал, глядя туда, где скрылась корова, и тогда Хьюстон подошел к самому ручью, наклонился, ухватил его за помочи комбинезона, грубо выволок из воды, отчаянно сморщив нос и все еще ругаясь, отстегнул помочи и спустил с него комбинезон почти до колен. – Снимай! – сказал он. Но тот все стонал тихонько и не двигался, пока Хьюстон не дернул его за ворот, – тогда он кое-как стоптал с себя комбинезон и остался в одной рубашке, а когда Хьюстон, брезгливо взявшись за помочи, швырнул комбинезон в ручей, он снова вскрикнул, жалобно, хрипло, едва слышно. – Чего же ты стоишь, – сказал Хьюстон. – Выстирай его.
И он энергичным жестом показал, как это делается. Но тот только глядел на Хьюстона и стонал, и тогда Хьюстон нашел другой сук, намотал на него комбинезон и начал яростно окунать его в воду, полоскать, сыпля ругательствами, потом вытащил его на берег и, не снимая с палки, обтер о траву.
– Ну вот, – сказал он. – А теперь убирайся. Домой! Домой! – крикнул он. – И чтоб я тебя здесь больше не видел! Не смей ее трогать!
Когда Хьюстон стал полоскать комбинезон, идиот замолчал и тихо наблюдал. Теперь он опять начал стонать, пускать слюни, и Хьюстон уставился на него в тупом, отчаянном негодовании. Потом он вынул из кармана пригоршню монет, выбрал пятидесятицентовик, сунул ему в нагрудный карман рубашки, застегнул карман на пуговицу и пошел к коню, заговорил с ним, а потом погладил его, ухватился за гриву и вскочил к нему на спину. Идиот перестал стонать и молча смотрел, как конь, заплясав под Хьюстоном, с места взял в галоп и быстро, совсем как час назад, когда он перепрыгнул через него и корову у оврага, поскакал по берегу и скрылся.
Он снова застонал. Так он стоял и все стонал, глядя на застегнутый карман, ощупывая его. Потом он перевел взгляд на мокрый, измятый комбинезон, валявшийся у его ног. Немного погодя он нагнулся и поднял его. Одна штанина была вывернута наизнанку. Некоторое время он терпеливо, со стонами, пытался его надеть. Потом штанина как-то сразу вывернулась налицо, он натянул комбинезон, застегнул помочи и перешел ручей вброд, робея, высоко задирая ногу при каждом шаге, словно поднимался по лестнице, выбрался на берег и вышел на то место, где вот уже три месяца лежал каждое утро на рассвете, поджидая ее. На то самое место; всякий раз он возвращался сюда так же неизменно, как поршень к головке цилиндра, и здесь он постоял немного, со стоном ощупывая застегнутый карман. А потом он стал подниматься на холм, и ноги его снова почувствовали дорожную пыль, хотя сам он, пожалуй, не сознавал этого, и лишь инстинкт, не угаснув в охватившем его беспросветном, горестном отчаянье, вел его обратно к дому, откуда он ушел в то утро, и, еще не пройдя первую милю, он дважды останавливался и ощупывал застегнутый карман. Видимо, в конце концов ему как-то удалось отстегнуть пуговицу, потому что теперь монета была уже у него в руке, он смотрел на нее и все стонал. Потом он остановился на дощатом мостике над узким, неглубоким, затравевшим овражком. Он никак не мог выронить монету, потому что стоял не двигаясь, даже рукой не шевельнул, и все же ладонь его вдруг опустела. Монета глухо звякнула о пыльные доски, сверкнула на солнце и исчезла, и как знать, что за неуловимый, судорожный жест наивысшего отречения сбросил ее, но порыв этот тут же угас, потому что он с тихим удивлением уставился на пустую ладонь и даже перестал стонать, перевернул руку, чтобы взглянуть на тыльную сторону, потом разжал другую руку, поднес ее к глазам. И тогда невероятным усилием – это была почти физическая потуга, как при родах, – он связал две мысли воедино, как бы вернулся назад, в прошлое, восстановил логическую последовательность событий и еще раз пошарил в кармане, заглянул в него, но лишь мельком, словно и не рассчитывал найти там монету, а потом, несомненно, повинуясь одному только инстинкту, поглядел себе под ноги, на пыльные доски. Больше он не стонал. Он стоял молча, глядя на доски, и переминался с ноги на ногу; потом, оступившись, он упал с моста в овражек. Трудно сказать, сделал ли он это вольно или невольно, но, как бы то ни было, опять-таки инстинкт, природное неусыпное чутье к земному тяготению, заставил его искать монету под мостом, если только он искал ее, сидя на корточках в траве, все так же молча, тихонько покачивая головой. С этой минуты он не издал больше ни звука. Он посидел немного на корточках, дергая траву, и в движениях его уже не было той несообразной сноровки, благодаря которой его непослушные руки обычно справлялись с работой как бы независимо от него; глядя на него, можно было подумать, что он вовсе и не хочет найти монету. А потом всякому стало бы понятно, что он и не пытается ее найти. Когда, немного погодя, на дороге показался фургон и человек на козлах, проезжая через мост, заговорил с ним, он поднял голову, и лицо его даже не было бессмысленным – оно дышало глубочайшим, несказанным покоем; когда его окликнули с фургона по имени, он не отозвался, не издал даже того единственного звука, который умел издавать, или, во всяком случае, единственного, который он издавал, когда с ним заговаривали.
Он не шелохнулся, пока фургон не исчез из виду, хотя и не глядел ему вслед. Потом он встал и выбрался на дорогу. И вот он уже трусит рысцой назад, туда, откуда только что пришел, под лучами полуденного майского солнца, ступая в горячей пыли по своим собственным следам, туда, где он обычно сворачивает с дороги, чтобы подняться на холм, а перевалив через него, спускается вниз, к ручью. Даже не взглянув, он миновал то место, где лежал на рассвете в мокрой траве, и повернул вверх по ручью. Была суббота, время близилось к двум. Конечно, он не мог знать, что в этот самый день и час Хьюстон, бездетный вдовец, живший с собакой и негром-поваром, сидел в трех милях от своего дома на галерее лавки Варнера; конечно, он и не думал о том, что Хьюстона, быть может, нет дома. И уж само собой, он не остановился, чтобы убедиться в этом. Он вбежал в ворота и бросился прямо к закрытой двери коровника. Рядом с дверью на гвозде висела веревка. Возможно, он снял веревку случайно, нашаривая засов. Но обротал он корову по всем правилам, так, как это делали у него на глазах другие.
К шести часам вечера они были уже далеко, пройдя добрых пять миль. Он не знал, сколько миль они прошли. Да и какое это имело значение; для них больше не существует расстояния на земле, в пространстве, они перестают ощущать время, не чувствуют и усталости, которая отмечала бы пройденный путь. Они движутся не в пространстве, а во времени, к причудливой вершине заката, где вечер и утро сливаются воедино; сверкающий май связывает их не в будущем, не завтра, а сегодня, сейчас, когда, обернувшись к ней, он тянет ее за веревку, настойчиво бормочет, уговаривает ее идти дальше, а она упирается, хочет сбросить с себя веревку и мычит. Вот уже полчаса она противится, потому что набухшее вымя тяготит ее, тянет назад, домой. Но он не пускает ее, понемногу перехватывает веревку и наконец гладит свободной рукой сначала морду, потом холку, уговаривая ее, и наконец она перестает упираться и идет дальше. Они уже идут среди холмов, поросших сосняком. Хотя послеполуденный ветер стих, косматые вершины деревьев все еще неумолчно шептались о чем-то в ясной вышине. Стволы деревьев и густая хвоя были струнами арфы, по которым ударял день; а вверху одна за другой проплывали причудливые, неверные тени уходящего дня; когда они перевалили через гряду холмов и спустились в тень, в синюю чашу вечера, в тихий колодезь ночи, решетчатые врата заката затворились за ними. Сперва она не давала ему даже притронуться к своему вымени. Да и потом она брыкнула его, но лишь потому, что почувствовала чужую, неумелую руку, и наконец парное молоко потекло у него меж пальцами, по рукам и запястьям, со звонким журчанием проливаясь на землю.
Ночи стояли лунные. Каждую ночь луна понемногу убывала; а на заре рядом с ней ярко загоралась утренняя звезда, знаменуя конец ночи, и он чувствовал, как наступает миг пробуждения, видел, как она поднимается сначала на задние ноги, возникая из темноты, колебля, а потом и вовсе разматывая клубок сна, пахнущий молоком. Тогда он тоже вставал, привязывал конец веревки к суку, находил корзину по запаху вчерашнего корма и уходил. С опушки он оглядывался. Ее еще не было видно в сумерках, но он слышал ее, а это было почти одно и то же, – теплое дыхание было зримо над ползучими корнями травы, теплый пар брызжущего из сосцов молока плотен и отчетлив на расплывчатой безликой земле.
До ближнего хлева было всего полмили. Вот он уже маячил смутным прямоугольником на фоне беспредельного свитка небес, покрытого таинственными письменами. Собака молча встречает его у ворот, она рассекает темноту, незримая и неслышная, двигаясь где-то на грани зрения и слуха. В первое утро она бросилась на него, заливаясь яростным лаем. Он остановился. Быть может, ему вспомнился другой пес, который остался далеко, в пяти милях отсюда, но всего лишь на миг, ибо таково уж счастье, не изменяющее счастливцу, таково могущество победы, которая изгоняет предательский дух всех прошлых поражений; теперь собака подходит к нему, виляя хвостом, невидимая, мягко льнет к его ногам, и от прикосновения ее теплого, влажного, мягкого языка на мгновение становится ощутимой его собственная, взмахивающая на ходу рука.
В аммиачной духоте хлева, где, просыпаясь, ревет и стучит копытами скот, он совсем теряет ощущение пространства. Но он не останавливается. Отыскав дверцу, он входит в стойло; незрячей рукой он привычно и безошибочно находит ясли. Он ставит корзину на пол и принимается ее наполнять, торопливо и усердно, черпая корм пригоршнями, просыпает половину, и сегодня, как и вчера и позавчера, сам оставляя против себя улику. Встав и повернувшись к двери, он уже различает ее сереющий проем, менее темный и вместе с тем, как это ни странно, ничуть не более светлый, чем все окружающее, словно, едва он отвернулся, в черную пустоту вставили прямоугольный кусок непрозрачного стекла, чтобы сделать тьму еще фантастичнее. Теперь он слышит голоса птиц. Скотина ревет все громче, без умолку: он уже явственно видит собаку, поджидающую его у стойла, и понимает, что надо спешить, так как скоро придет кто-нибудь, чтобы задать корм скоту и подоить коров. Он выходит из стойла, медлит немного у двери, словно прислушивается, вдыхает приятный запах коров и лошадей, как счастливый любовник вдыхает запах женского тела, испытывая торжествующее чувство близости ко всей безликой, безымянной женской плоти, способной любить на лоне матери-земли.
Он и собака снова переходят двор в черно-белых рассветных сумерках, наполненных громким, нестройным птичьим гомоном. У загородки, которая теперь отчетливо видна, собака отстает. Он поспешно пролезает сквозь загородку, неуклюже держа корзину обеими руками прямо перед собой и оставляя на сырой траве явственный темный след. На его глазах снова совершается чудо, которое он впервые увидел три дня назад: заря, свет вовсе не льются на землю с неба, а, напротив, источаются самой землей. Под плотным пологом, сотканным из слепых ползучих корней деревьев и трав, в первозданной тьме, среди праха времен и бесчисленных останков, где, не ведая усталости и сна, копошатся сонмища червей и сметены в одну кучу славные кости – Елена Прекрасная[87] и нимфы, усопшие епископы, спасители, и жертвы, и короли, – свет пробуждается, сочится, пробивается кверху по бессчетным тонким канальцам: сперва по корням, потом по былинкам – и, срываясь с них, словно легчайший пар, рассеивается и окропляет скованную сном землю сонным жужжанием насекомых; а потом, просачиваясь все выше, ползет по узорчатой коре, по веткам, по листьям; все стремительней, ширясь и нарастая, наполненный трепетом крыл и хрустальными птичьими голосами, он взмывает ввысь и озаряет безмолвный свод ночи желто-розовыми раскатами. А далеко внизу, в прозрачной дымке, уже встрепенулся провозвестник-петух, и вслед за ним весь курятник, и хлев, и конюшня приветствуют наступающий день. Флюгера на колокольнях ловят юго-западный ветер, и поле ждет пахаря с той поры, как закат благословил воткнутый в землю безлошадный плуг, а теперь неоконченные борозды всплывают из темноты, словно притихшие в полусне волны. И наконец встает солнце: оно настигает его, прежде чем он успевает пройти назад полмили. Беззвучный медный рев, пылая, катится по сырой траве, и его одинокая тень, метнувшись далеко вперед, распростершись по земле, неуловимая, убегает все дальше из-под самых ног; земля словно отражает его нелепую, жалкую фигуру, и это отражение, эта тень, возносится на последний холм и, неподвижно повиснув в пространстве, витает в нем до тех пор, пока он сам не поднимется на вершину, а потом она как бы перекидывает невидимый мост через убывающее половодье ночи, и снова движется впереди него, через топкую болотистую низину, и, коснувшись опушки, начинает укорачиваться, вползая на плотную стену листвы, – сначала голова, потом плечи, туловище, шагающие ноги, и наконец вся тень выпрямляется на полотнище трепетной листвы на какой-то неуловимый миг, и он, не останавливаясь, пробегает сквозь нее.
Корова стоит на том самом месте, где он ее привязал, и жует жвачку. В огромных, влажных, лишенных зрачков глазах он видит себя – два крошечных одинаковых отражения; из глаз волоокой Юноны он глядит на себя, созерцающего ее такой, какой она некогда представлялась людям[88]. Он ставит перед ней корзину. Она начинает есть. Трепетные тени неугомонной листвы делают ее призрачной и такой же бесплотной, какой только что была его бегущая тень, но это ему только кажется: одно беглое прикосновение удостоверяет и подтверждает ее весомость и объемность в зыбкой путанице теней; одно прикосновение ладони возвращает ее, ощутимую и осязаемую, из бездонности надежды. Присев рядом с ней на корточки, он начинает ее доить.
Потом они вместе едят из корзины. Ему и раньше приходилось есть коровий корм – и жмыхи, и отруби, и овес, и кукурузные початки, и силос, и мякину, – понемногу, но довольно часто, потому что просыпался он вместе с птицами, едва притрагивался к завтраку, оставляя на тарелке больше половины того, что давала ему миссис Литтлджон, а через час ел что-нибудь еще, без разбора, ел то, что спокон веку догмы и предрассудки приучили всех двуногих считать «поганым», безразличный ко вкусу всего на свете, кроме вкуса земли, осыпавшейся штукатурки, расплывшейся краски на изжеванных клочках газеты и жгучей муравьиной кислоты, непоколебимый лишь в одном: он всегда был травоядным, и если ел что живое, то только растения. Потом он убирает корзину. Корм съеден не весь. Остается ровно, почти до грамма, половина того, что он принес, и он отнимает у коровы корзину, вытаскивает ее из-под вздрагивающей морды, которая не перестает жевать, выражая крайнее удивление, вешает на сук, и ему все дается легко, он уже изведал удачу, научился соблюдать осторожность, таиться, красть и даже проявлять предусмотрительность; и не изведал он только страсть, алчность, жажду крови и муки совести, не дающие спать по ночам.
Сперва они идут к роднику. Этот родник он нашел в первый же день – мутная влага по капле сочилась из земли там, где переплелись кроны ольхи и бука, непроницаемые для солнца, и, растекаясь, исчезала в сумраке среди корней ближнего ивняка и ольховника. Он расчистил родник, вырыл маленький водоем, который теперь каждое утро бывает полон прозрачной воды, и в него глядится листва, и они, склоняясь над родником, расплескивают ее зеленый узор, и пьют, и их отражения сливаются, и каждый запечатлен навечно, неповторимо, в этом своем дробящемся образе. Потом он встает, берет веревку, и они идут через топкую низину к опушке и входят в лес.
Заря померкла. Приходит день во всей своей откровенной наготе. Солнце стоит теперь высоко в небе. В воздухе по-прежнему не смолкает птичий гомон, но это уже не таинство, не торжественный хорал, возносящийся к небесам у зеленых алтарей, а стелющийся над землей будничный аккомпанемент к будничному делу – добыванию пищи. Птицы, словно цветные молнии, проносятся среди сосен, чьи косматые вершины глухо и неумолчно шепчутся на ветру. Теперь ее уже не надо тянуть за веревку; с этой минуты и до самого вечера они будут идти вслед за светом дня, не обгоняя его. У них та же цель – закат. Они стремятся к ней вместе с солнцем по той же извечной орбите. Они следуют за пылающим и беспечным солнцем, такие же беспечные, но не пылая, как оно, под сенью стволов, мелькающих, словно спицы, с помощью которых солнце вращает земной шар на его оси, мощно, неторопливо исторгая его из недр тьмы, и брезжит рассвет, и занимается заря, наступает утро, ленивым потоком разливается полдень, поднимается все выше, к апогею, и венец света украшает чело безвозвратно падших серафимов. Солнце высится отвесным желтым столбом. Оно тяжко давит на плечи, когда он, с трудом сгибая непослушные, разъезжающиеся ноги, наклоняется и срывает сперва сочную траву, потом цветы. Он рвет яркие дикие маргаритки, эти щедрые дары новорожденного лета, изобильного и расточительного. Порой его неловкая, плохо повинующаяся рука, вместо того чтобы обломить стебелек, скользит по нему, и на ладони остается лишь горстка смятых, изуродованных лепестков. Но прежде чем вернуться к ней, в недвижную полуденную тень, он успевает собрать много цветов. У него их даже больше, чем нужно; ему и двух цветков хватило бы с избытком. Он кладет траву перед ней, и из-под его неуклюжих, вслепую шарящих рук возникает, тут же расползаясь, жалкое подобие венка. Когда он надевает венок ей на голову, цветы рассыпаются, катятся по ее крутому лбу и жующей морде; трава и цветы смешиваются, превращаясь в нескончаемую жвачку. Челюсти мерно двигаются, и с губ свисает последний цветок.
В тот день полил дождь. Это началось неожиданно. Он смотрел, как капают капли, смотрел равнодушно, бессмысленно, безучастно, не зная, как быть, а дождь тем временем усилился и хлестал по земле редкими косыми струями, с разных сторон, во всю ширь горизонта, словно из чрева облаков вываливалась прозрачная петлистая пуповина, а в вышине вскормленные летом овцы, позвякивая солнечными колокольцами, щипали, как траву, юго-западный ветер. Казалось, дождь нарочно искал их обоих, шарил под деревом, где они стояли, и наконец, найдя, обрушился на них без всякой пощады. Ветер, ревевший в соснах, утих, но тут же налетел снова; в разверзшейся, обессилевшей пустоте косматая шкура земли встала дыбом, как у кобылы в неистовстве страсти, и короткая оплодотворяющая гроза, все еще бушуя, с невыносимым сверкающим грохотом обсеменила землю и исчезла, канула неведомо куда; а потом уж небо прорвалось, словно разрешившись наконец от бремени, и хлынул настоящий проливень, дико заметался среди поникшей листвы, и то были не капли, а жгучие льдистые иглы, которые, казалось, совсем не летели к земле, а, напротив, чуждые ей и неподвластные силе тяжести, торопились вслед за ревущим ветром, породившим их, вдохнувшим в них жизнь, – острые и хрупкие, они залетали в волосы, кололи сквозь рубашку, жалили лицо, обращенное к небу, и в каждом их сверкании была быстротечность, как быстротечны светлые и сладостные слезы девушки, плачущей над увядшим цветком; а потом и они исчезли, унеслись на север и на восток, где, как недосягаемое знамя перемирия, сверкала радуга, и оставили после своего шумного карнавала забытое конфетти, которое осыпалось с листка на листок, с ветки на ветку, с травинки на травинку, собираясь в говорливые ручейки и бесконечное число раз отражая небо, все в золотисто-голубых бликах, полоненное падающими каплями.
И вот все кончилось. Он снова берет в руки веревку, они выходят из-под дерева и продолжают свой путь, двигаясь так же неторопливо, как и раньше, но впервые с тех пор, как они вступили в лес, целеустремленно. Потому что близится закат. Хотя дождь был недолог, теперь кажется, что в этом беспорядочном и безвредном грохоте, в этой ярости было нечто такое, что нарушило непоколебимое и размеренное течение дня, – так внезапный, истошный плач ребенка, такой громкий и требовательный, что медлить невозможно, словно подстегивает время. Он вымок до нитки. Его комбинезон отяжелел, стал сырым и холодным – жалкие остатки, презренные следы щедрого великолепия, эта мертвенная сырость не сродни живой влаге неугомонной воды, которая унесла с собой в землю и сохранила даже там безбрежное приволье золотистого воздуха, и этот же воздух сверкает на листьях и ветвях, которые несметное число раз повторяют в миниатюре единую, сверкающую всеми цветами радуги вселенную. Они шествуют среди этого блеска. Скованные златой цепью мокрой веревки, они идут туда, где разливается несказанное сияние, прямо в закат. Они по-прежнему движутся за солнцем. Вот они поднимаются на последнюю вершину. Они придут вместе. В один и тот же миг все трое, одолев последний подъем, спускаются в синюю бездонность вечера и исчезают.
Быстрые сумерки стирают их с поблекшей страницы дня. Крошечные, словно еще не родившиеся на свет, сперва неотвратимые, а потом неотступные, безглазые, спускаются они с холма. Он по запаху находит корзину, снимает ее с сука и ставит перед ней. Она сует туда морду, сладко сопит, вдыхая сладкий запах еды, который вскоре сливается с запахом настойчиво и нетерпеливо рвущегося на волю молока, и оно течет по его пальцам, ладоням, запястьям, теплое и густое, словно кровь самой жизни, неистощимая, самовозрождающаяся. Потом он оставляет на земле корзину, невидимую в темноте, примечает место, чтобы найти ее наутро, и идет к роднику. Здесь светлее, и он опять обретает способность видеть. И снова лицо его дробится, а потом возникает из осколков, когда он пьет и вместе с ним пьет его перевернутое мутнеющее отражение. Этот колодезь дней, тихий, бездонный, уходит в самые недра земли. Непостижимым образом удерживая в себе стремительный бег времени, он поглощает весь день, от зари до зари, – и вчера, и сегодня, и завтра; в нем теряется звездная россыпь и таинственные письмена ночного неба, ослепительно жаркий румянец зари, стремительный, неудержимый разлив утра и сладострастно-ленивое половодье полдня. А там послеполуденный отлив, и вот уже утро, день и вечер схлынули, стекли с неба, сползают на землю по притихшей листве, по веткам, сучьям и стволам, по траве, все вниз, вниз, в дремотном жужжании насекомых, пока наконец замирающий вздох нежных безмолвных уст родника не поглотил последние капли света. Он встает. Над болотом не утихает беспорядочная толчея светлячков. В вышине светится лишь яркая вечерняя звезда, но тотчас же на небо выходят стройные ряды созвездий, они петляют и кружатся, свершая свой неизменный путь. Вся лучистая в их слабом лучистом свете, она кажется невесомой, призрачной среди призрачно поблескивающей травы. Но она здесь, осязаемая на фоне нереальной земли. Он возвращается, легко ступая по этой земле, попирая безнадежно запутанный полог подземного сна – где Елена, и епископы, и короли, и непокорные серафимы. Когда он подходит, она уже ложится – подгибает сперва передние ноги, потом задние, в два приема погружаясь в утихшие воды вечера, снова свивая клубок сна, среди сладкого млечного фимиама. Они засыпают рядом.
3
Когда Хьюстон пришел домой и хватился коровы, уже начало смеркаться. Хьюстон был вдов и бездетен. С тех пор как три или четыре года назад он потерял жену, корова была на его ферме единственным существом женского пола. У него даже повар был мужчина, негр, он-то и доил корову, но в ту субботу он отпросился на негритянский праздник, обещав вернуться пораньше, чтобы подоить корову и сготовить ужин, только Хьюстон, конечно, не поверил этим обещаниям, он уже давно был сыт ими по горло, иначе он, пожалуй, вовсе не пришел бы домой ночевать и не хватился бы коровы до самого утра.
Как бы то ни было, он вернулся засветло не ужинать, потому что к еде он был совершенно равнодушен, а подоить корову. Мысль о том, что это необходимо сделать, не давала ему покоя весь день. По этой причине он и выпил в ту субботу чуть больше обычного, а человек он был хоть и крепкий, здоровый, но угрюмый от природы, да еще до крайности ожесточившийся против женщин, с тех пор как понес такую тяжкую утрату; и так как теперь ему не только предстояло тащиться домой и еще раз соприкоснуться с женским естеством, на которое он три года назад наложил заклятие, но вдобавок ко всему – в тот самый сумеречный час, после заката, особенно тягостный для него, когда по всему дому витал призрак жены, а иной раз даже сына, так и не родившегося у них, то, естественно, он был не в очень-то веселом расположении духа, когда пришел в хлев и увидел, что коровы нет.
Сначала он подумал, что, должно быть, она сама удрала, просто колотила в дверь рогами и копытами до тех пор, пока не соскочил засов. Но если так, непонятно, почему она, отягощенная полным выменем, не дожидается, мыча, у ворот. Там ее тоже не было, и он, ругая ее на чем свет, а заодно и себя за то, что не закрыл ворота, от которых тропа вела на выгон, свистнул своего пса и пошел назад к ручью. Еще не совсем смерклось. Следы можно было различить, и действительно, он увидел следы босых человечьих ног, а поверх – отпечатки коровьих копыт, но решил, что их отделяет друг от друга по меньшей мере шесть часов, но никак не шесть футов. Он сперва толком и не взглянул на них, так как был уверен, что знает, где корова, он был уверен в этом, даже когда у брода пес свернул в сторону от ручья и бросился вверх, на холм. Он сердито отозвал его. Даже когда пес остановился и с удивлением повернул к нему свою серьезную, умную морду, им все еще владела эта сердитая уверенность, порожденная хмелем, раздражением и давним, острым, неутихающим горем, и он кричал на пса, пока не заставил его вернуться, а потом пинком погнал его к броду и сам перешел ручей следом за ним, а пес отстал было и пошел сзади, недоумевающий и настороженный, но он снова пинком погнал его вперед.
На выгоне коровы не было. Теперь, убедившись в этом, он понял, что ее свели со двора; сорвав злобу на собаке, он словно вернул себе какое-то подобие здравого смысла. Он пошел назад через ручей. В кармане штанов у него торчала еженедельная местная газета, которую он вынул из своего почтового ящика еще днем, по дороге в лавку. Он свернул ее и поджег. При свете этого факела он увидел следы слабоумного и коровы у самого брода, там, где они свернули к холму и, перевалив через него, вышли на дорогу, а потом газета догорела, и он снова у дороги при свете первых звезд (луна еще не взошла), ругаясь ожесточенно, не со злобой, а с отчаянным негодованием и жалостью ко всей слепой плоти, способной надеяться и скорбеть.
Чтобы оседлать коня, ему нужно было пройти почти целую милю. Без толку кружа по выгону, он уже прошел в два раза больше и теперь кипел бессильной яростью, сам не зная против чего, еще сильнее распаляясь от бессилия, оттого что не на кого эту ярость излить; ему казалось, что он снова стал жертвой бессмысленной, но хитро подстроенной шутки, которую сыграло с ним все то же извечное, глумливое коварство с единственной целью заставить его тащиться в темноте целую милю. Но хотя он никак не мог вразумить слабоумного, покарать его, зато мог вселить в него если не страх Божий, то по крайней мере страх перед воровством и, уж конечно, страх перед ним, Джеком Хьюстоном, чтобы ему впредь неповадно было сводить со двора корову, и тогда ему, Джеку Хьюстону, уходя из дому, не придется больше гадать, будет корова в стойле или нет, когда он вернется. Однако, сев наконец на своего коня и тронув его с места, овеваемый свежим ветерком, он почувствовал, что холодная, непреклонная ярость сменилась другим, более привычным чувством – злой насмешливостью, пожалуй, несколько грубоватой и тяжеловесной, но неодолимой, упорной, неподвластной даже безутешному горю; и поэтому задолго до того, как он добрался до Французовой Балки, он уже знал, что сделает. Он навсегда излечит этого дурачка от пристрастия к коровам верным и безотказным способом: заставит его выдоить ее и задать ей корм; сегодня он уедет домой, а завтра утром вернется и опять заставит его подоить ее и задать ей корм, а потом пешком отвести корову обратно. Поэтому он даже не остановился у гостиницы миссис Литтлджон. Он завернул за угол и поехал прямо к загону; но миссис Литтлджон сама окликнула его из-за загородки, отбрасывавшей длинную густую лунную тень:
– Кто там?
Он остановил лошадь. «Ослепла она, что ли, даже пса моего не узнала», – подумал он. И в ту же секунду он понял, что и ей ничего не скажет. Теперь он видел ее, высокую, длинную, как жердь, и почти такую же тощую, у самой загородки.
– Это я, Джек Хьюстон, – сказал он.
– Тебе чего?
– Да вот, хотел напоить лошадь из вашей колоды.
– А что, у лавки уж и воды не стало?
– Я из дому.
– Вот как, – сказала она. – А ты не… – Она говорила хриплой скороговоркой, запинаясь. И он почувствовал, что сейчас скажет ей это.
А слова уже сами сорвались у него с языка:
– Об нем не беспокойтесь. Я его видел.
– Когда?
– Когда уезжал из дому. Он был там сегодня утром и вечером тоже. У меня на выгоне. Так что не беспокойтесь. Надо же и ему отдохнуть в субботу.
– А негр твой небось ушел на гулянку? – проворчала она.
– Да, мэм.
– Так зайди закусить. У меня кое-что осталось от ужина.
– Спасибо, я уже поужинал. – Он начал заворачивать лошадь. – Вы не волнуйтесь. Если он еще там, я прогоню его домой.
– Но ты, кажется, хотел напоить лошадь, – снова проворчала она.
– Правильно, – сказал он и въехал в загон. Для этого ему пришлось слезть с лошади, отворить ворота, потом затворить их и снова отворить и затворить их за собой, а потом сесть в седло. Она все еще стояла у загородки, но не откликнулась, когда он пожелал ей спокойной ночи.
Он поехал домой. Полная луна висела теперь высоко над деревьями. Он поставил лошадь в стойло, пересек двор, весь словно выбеленный, пройдя мимо коровника, зиявшего лунно-белой пустотой, вошел в дом, пустой и темный под серебристой крышей, разделся и лег на свою жесткую, как у монаха, железную койку, на которой он теперь спал, и пес лег рядом, а лунно-белый квадрат света, падавшего из окна, накрыл его, как накрывал их обоих, когда была жива его жена и вместо жесткой койки здесь стояла широкая кровать. Он больше не ругался, и в душе его уже не было ярости, когда на заре он вывел коня на то самое место, где накануне потерял след, и сел в седло. Он разглядывал землю, испещренную бледным, непроницаемым узором, который оставили здесь за субботний вечер колеса, копыта и человеческие ноги, – тут сама первобытная простота слабоумного, его неумение прятаться в нужную минуту обернулись беспредельной хитростью, так порой человек живет и даже не подозревает, сколько мужества сможет он найти в своей душе в нужную минуту, – разглядывал землю, ругаясь, охваченный не злобой, но свирепым презрением и жалостью к этой немощной, бессильной, но такой несокрушимой плоти, которая была обречена и проклята еще до того, как появилась на свет и издала свой первый крик.
А между тем хозяин хлева уже нашел предательскую горку просыпанного корма и полукруглый след там, где стояла корзина; с одного взгляда он убедился, что и корзина украдена у него. След вывел его через двор к воротам и там потерялся. Но все было на месте, пропало лишь немного корма да старая корзина. Он собрал просыпанный корм, бросил его обратно в ясли, и вскоре первая вспышка бессильной злобы, праведного возмущения столь грубым посягательством на его собственность угасла, и за весь день только раз или два в нем снова просыпалось сердитое, мучительное недоумение; но на другое утро, когда он вошел в стойло и увидел безмолвную горку просыпанного корма и полукруглый след корзины, он чуть не задохнулся от изумления, за которым последовал яростный взрыв злобы, как это бывает с человеком, который выскочил из-под самых копыт взбесившейся лошади, избежав смертельной опасности, и вдруг поскользнулся на банановой корке. В этот миг он готов был на смертоубийство. Это было вторичное вопиющее нарушение древней библейской заповеди, гласящей, что человек должен трудиться в поте лица своего[89] или ничего не иметь (заповеди, в которой он видел источник честности, смысл жизни, основу всего сущего), поругание моральной твердыни, которую он отстаивал более двадцати лет, сначала в одиночку, а потом вместе с пятью детьми, и победа его обернулась поражением. Теперь он был уже не молод, а когда начинал жизнь, у него не было ничего, кроме железного здоровья да неистощимого терпения и пуританской воздержанности и умеренности, и он превратил участок тощей кочковатой земли, которую купил, заплатив меньше доллара за акр, в прекрасную ферму, женился, растил детей, кормил их, одевал, обувал и даже дал им кое-какое образование, во всяком случае, научил их работать не покладая рук, и как только они подросли и вышли из повиновения, все, и сыновья и дочери, разбрелись кто куда (одна стала сестрой милосердия, другой – агентом у какого-то мелкотравчатого политикана, третья – проституткой, четвертый – цирюльником в городе, а старший сын и вовсе сгинул без следа), так что теперь у него только и осталась небольшая, хорошо обработанная ферма, политая потом, которую он ненавидел лютой ненавистью, и она, казалось, молчаливо платила ему тем же, зато уж она-то не могла уйти от него и прогнать его тоже не могла, но словно бы знала, что переживет его, переживет непременно, и его самого, и его жену, в которой было столько же если не упорства, то, во всяком случае, сил и терпения, чтобы все переносить.
Он выбежал из хлева, клича жену по имени. Когда она появилась в дверях кухни, он крикнул, чтобы она шла доить, а сам бросился в дом, потом выскочил оттуда с дробовиком, снова пробежал мимо жены в конюшню, выбранив ее за то, что она замешкалась, взнуздал одного из мулов и, захватив ружье, доехал до загородки, где след потерялся. На этот раз он не отступился и быстро отыскал след снова – темная полоса еще виднелась в примятой, отягченной росой траве у него на покосе, пересекала поле и уходила в лес. Здесь, в лесу, след снова потерялся. Но он не отступился и теперь. Хоть он и был слишком стар для всего этого, слишком стар для столь долгой, изнурительной злобы и кровожадной ненависти. Он еще не завтракал, дома его ждала работа, бесконечная работа, все та же изо дня в день, изнашивающая нервы и тело, – единственное, чем его мог доконать этот клочок земли, ставший его заклятым врагом, та самая работа, которую он делал вчера и должен делать сегодня, и завтра, и послезавтра, один как перст, или покориться, признать себя побежденным, отказаться от своей воображаемой победы над детьми; и так до тех пор, пока не пробьет его час, и тогда (он знал и это) он споткнется и упадет с еще открытыми глазами, руки его закостенеют, скрюченные, словно все еще сжимая рукояти плуга, и он останется лежать на свежей борозде за плугом или в густой траве, на лугу, все еще не выпуская из рук серп или топор, и эту последнюю победу над ним отпразднует каркающее воронье, и наконец какой-нибудь любопытный прохожий набредет на него и похоронит его останки. Но он не повернул назад. Ему даже посчастливилось вскоре снова напасть на след, он нашел три отпечатка на песке, в овраге, где бежал ручеек, нашел по чистой случайности, так как потерял след в миле от этого места; он имел все основания усомниться в том, что это те самые следы, хотя это были именно они. Но он не усомнился ни на миг. День еще не наступил, а он уже узнал, чья это корова. В лесу ему встретился негр Хьюстона, тоже верхом на муле. В бешенстве и даже пригрозив негру ружьем, он крикнул, что не видел никакой коровы, ее здесь нет и не было, что это его земля, хотя в пределах трех миль ему не принадлежало ничего, кроме разве припрятанной где-то корзины, и велел негру убираться вон, чтоб и духу его здесь не было.
С тем он и вернулся домой. Но от своего не отказался: теперь он знал, что делать и каким путем достичь цели. У него созрел план, как не только проучить и наказать вора, но и возместить убытки. Он оставил мысль захватить вора врасплох; нет, уж лучше поймать корову и либо потребовать деньги прямо с хозяина, либо, если тот откажется платить, воспользоваться своим законным правом и взыскать с него штраф за приблудную скотину, – хотя один-единственный законный доллар едва ли возместит ему потерянное время, не то время, которое он потратит, чтобы изловить корову, а то, которое уже потерял, оторвал от бесконечной, неумолимой работы, и батрака нанять он не мог – не потому, что заплатить был не в состоянии, а потому что во всей округе ни один человек, будь то белый или негр, ни за какие деньги не стал бы на него работать, а он знал, что если дать работе забрать над ним власть, тогда ему крышка. Он даже в дом не зашел, поехал прямо в поле, запряг мула в плуг, который с вечера оставил в борозде, и пахал до самого полудня, пока его жена не позвонила в колокол; поев, он снова вернулся в поле и пахал дотемна.
На другое утро еще не погасла луна, а он уже снова был в хлеву, и оседланный мул ждал в своем стойле. На фоне бледной зари он увидел приземистую, косолапую фигуру с корзиной в руках, она скользнула к яслям, и его собака молча шла следом, а потом вор снова вынырнул, облапил корзину обеими руками, как медведь, и заторопился назад к воротам, а собака все шла за ним по пятам. Увидев собаку, хозяин чуть не задохнулся от неудержимой ярости. В первое утро он слышал, как она заливалась лаем, но спросонья ничего не разобрал, а когда стряхнул наконец сон, она уже успокоилась; теперь-то он понимал, почему собака не лаяла на второе и третье утро, и знал, что попытайся он сейчас выйти из хлева, даже если вор не оглянется, то она может, чего доброго, залаять на него самого. А когда он наконец решил, что можно без риска вылезти из засады, во дворе никого не было, кроме собаки, которая стояла у ворот, глядя вслед вору сквозь загородку и не замечая хозяина, пока он злобным пинком не прогнал ее домой.
Правда, на росистой траве снова остался темный след, но когда он добрался до леса, то оказалось, что он повторил ошибку Хьюстона, недооценив всемогущество страсти, которая, видимо, так же как бедность и невинность, каким-то непостижимым образом изыскивает средства для самозащиты. Он проездил чуть ли не все утро натощак, кипя злобой, по лесной глухомани, среди веселой майской зелени, а позади него все выше и выше поднималось неумолимое светило, словно знамение, напоминая ему о враждебном изнуряющем поле. В то утро ему удалось снова напасть на след – он был почти у цели и даже видел лужицу пролитого молока и примятую траву там, где стояла корзина, пока корова ела из нее. Он нашел бы и саму корзину, висевшую на суку, ее ведь никто не пытался спрятать. Но ему в голову не пришло взглянуть вверх, потому что теперь он видел коровий след. Он поехал дальше, внешне спокойный и сдержанный, хотя внутри у него все кипело, теряя след, находя его и снова теряя, и так целое утро, почти до полудня – этого средоточия света и тепла, которое, казалось, подогревало не только его кровь, но и те непостижимые ходы и пути, по которым растекалась его злоба. Но в тот же день он понял, что солнце тут ни при чем. Он тоже стоял под деревом, пока бушевала гроза, сверкала молния и холодный дождь беспощадно хлестал его бренное тело, которое робко съеживалось, но не теряло стойкости, а потом снова скакал по улыбчатому, девственно-чистому лику земли, омытому золотистыми слезами. Теперь он был уже в семи милях от дома. До темноты оставался всего час. Он проехал назад мили четыре, и, только когда загорелась вечерняя звезда, ему вдруг пришло в голову, что беглецы могли просто-напросто вернуться на то самое место, где он видел лужицу молока. Он снова повернул мула без всякой надежды на успех. Даже злоба его оставила.
До дому он добрался за полночь, пешком, ведя в поводу мула и корову. Сначала он боялся, что вор убежит. Потом сам не знал, как от него избавиться. И пока тащился пешком до своего хлева, тщетно пытался прогнать это нелепое существо, этого слабоумного, который лежал у коровы под боком и вскочил с хриплым, испуганным криком, по которому он узнал, что это, а теперь, спотыкаясь, со стонами, плелся следом, не отставая ни на шаг, даже когда он, слишком старый для всего этого, истомленный не столько голодом, сколько неотступной, ни на миг не отпускавшей его злобой, оборачивался, кричал и ругался. Жена ждала у ворот с фонарем. Войдя во двор, он бережно передал ей веревку и недоуздок, аккуратно затворил за собой ворота, нагнулся, по-старчески медленно нашарил на земле палку, потом вдруг быстро выпрямился, накинулся на слабоумного и стал бить его, изрыгая проклятия хриплым, исступленным, задыхающимся голосом, а жена бросилась к нему, выкрикивая его имя.
– Перестань! – кричала она. – Слышишь, перестань! Ты что, хочешь себя в гроб вогнать?
– Ха! – сказал он, задыхаясь и дрожа. – Еще милю-другую пройду, не помру. Ступай принеси замок.
Замок был висячий. Это был единственный замок на всей ферме. Он висел на главных воротах, которые хозяин запер на другой день после того, как ушел последний из его детей. Жена принесла замок, а он тем временем все пытался прогнать идиота со двора. Но это странное существо было неуловимо. Двигалось оно неуклюже и неловко, не переставая стонать и пускать слюни, но он никак не мог ни схватить его, ни отпугнуть. Оно все время было у него за спиной, вне круга света, отбрасываемого фонарем, который держала жена, и не уходило, даже когда он поставил корову в стойло и, пропустив цепь в дверную ручку, замкнул замок. А наутро, когда он отомкнул цепь, это существо было в хлеву, рядом с коровой. Оно даже задало ей корм, хотя для этого ему пришлось вылезти из стойла, а потом снова залезть обратно, и все пять миль, до самой фермы Хьюстона, оно шло за ним по пятам, со стонами, пуская слюни, но когда они подошли к самому дому, старик обернулся и увидел, что его нет. Когда именно оно исчезло, он не знал. Возвращаясь назад со штрафным долларом в кармане, он осмотрел дорогу, чтобы понять, куда оно девалось. Но никаких следов он не нашел.
Корова не пробыла у Хьюстона и десяти минут. Сам Хьюстон сидел в это время дома и первым делом хотел было приказать негру отвести корову. Но тотчас передумал и вместо этого велел оседлать лошадь, а сам стоял, ждал и снова ругался с тем отчаянным и холодным презрением, в котором не было ни отвращения, ни злобы. Когда он привел на двор корову, миссис Литтлджон запрягла лошадь в коляску, и ему даже не пришлось объяснять ей, что к чему. Они просто взглянули друг на друга, не как мужчина на женщину, а как две цельные натуры, которые, хоть и различными путями, обрели свой бесполый внутренний мир, неподвластный страстям. Она вынула из кармана чистую тряпицу, завязанную узелком.
– Не нужны мне ваши деньги, – грубо сказал он. – Я просто хочу убрать ее с глаз долой.
– Но это его деньги, а не мои, – сказала она, протягивая ему тряпицу. – Возьми.
– Откуда у него деньги?
– Не знаю. Их дал мне В. К. Рэтлиф. Они его.
– Видно, и впрямь его, раз Рэтлиф их отдал. Но все равно они мне не нужны.
– Да посуди, ему-то они на что? – сказала она. – Разве может ему еще что-нибудь захотеться?
– Ну, ладно, – сказал Хьюстон и взял тряпицу. Он даже не развязал ее. Вздумай он спросить, сколько там денег, она не смогла бы ответить, потому что тоже ни разу их не считала. А он, кипя яростью, но внешне по-прежнему спокойный, с каменным лицом, сказал: – К чертовой матери, смотрите же, чтоб они и близко не подходили к моему дому. Слышите?
Загон для скота был устроен с задворья, позади дома, и задняя стена конюшни не была видна ни из самого дома, ни с дороги. Собственно говоря, из Балки она ниоткуда не была видна, и в то сентябрьское утро Рэтлиф понял, что это и не нужно. Он шел по тропинке, которой не замечал раньше, которой не было тогда, в мае. Но вот наконец показалась эта задняя дощатая стена, одна доска в ней, как раз на уровне человеческого роста, была выломана и свисала к земле, – гвозди аккуратно загнуты остриями внутрь, и перед ней ряд неподвижных, словно окаменевших спин и голов. Теперь он знал, что ему предстоит увидеть, знал, как и Букрайт, что не хочет видеть этого, но, в отличие от Букрайта, все же решил посмотреть… А когда на него стали оглядываться, он уже держал оторванную доску в руках, держал так, словно готов был ударить их. Но голос его прозвучал лишь насмешливо, даже мягко, привычно, когда он выругался, совсем как Хьюстон: без злобы и даже без возмущения оскорбленной добродетели.
– Я вижу, и ты пришел полюбопытствовать, – сказал один из зрителей.
– Конечно, – сказал Рэтлиф. – Я ведь не вас ругаю, братцы мои. Я ругаю нас всех и себя тоже. – Он поднял доску и вставил ее на место. – А что этот… Как бишь его? Ну, этот новый… Лэмп. Он всякий раз берет с вас особую плату, или же вы приобрели абонементы на все спектакли? – Возле стены валялась половина кирпича. Под их пристальными взглядами Рэтлиф стал приколачивать доску кирпичом, кирпич трескался и крошился, осыпая его руки мелкой пылью – сухой, горячей, мертвенной пылью, немощной, как жалкий грех и жалкое покаяние, а не яркой и великолепной, как кровь, как судьба. – Вот и все, – сказал он. – Конец. Дело сделано.
Он не стал дожидаться, пока они разойдутся. В ярком, подернутом легкой дымкой сиянии сентябрьского солнца он пересек загон и вышел на задний двор. Миссис Литтлджон была на кухне. И снова, как тогда с Хьюстоном, она все поняла без слов.
– Как по-вашему, о чем я думаю, когда смотрю из окна и вижу, что они крадутся вдоль загородки? – сказала она.
– Однако, как я погляжу, дальше раздумий дело у вас не пошло, – сказал он. – А все этот новый приказчик. Сноупсов подголосок. Ланселот. Лэмп. Я знавал его мамашу.
Он знал ее и сам и с чужих слов. Это была худенькая, энергичная, простая женщина, учительница, она всю жизнь прожила впроголодь, не скрывала этого и даже не подозревала, что живет впроголодь. Она росла среди целого выводка братьев и сестер, отец их, прирожденный неудачник, в промежутках между бесчисленными малыми банкротствами, которые не всегда сходили ему с рук, умудрился прижить со своей плаксивой и неряшливой женой столько детей, что ему не под силу было прилично их одеть и прокормить. А потом, пройдя за один летний семестр курс в педагогическом колледже штата, она попала в деревенскую школу с одной-единственной комнатой для занятий и, прежде чем кончился первый учебный год, вышла замуж за человека, который был в то время под следствием, потому что у одного коммивояжера пропал из камеры хранения ящик с образцами туфель, причем все были на правую ногу. Она принесла ему в приданое свое единственное достояние и оружие – умение мыть, кормить и одевать целый рой братьев и сестер, даже когда не хватает мыла, еды или одежды, и веру в то, что в книгах можно найти достойные подражания примеры чести, гордости, спасения и надежды; она родила единственного сына и нарекла его Ланселотом, бросив этот дерзкий вызов у самой пасти западни, которая готова была захлопнуться, и отдала Богу душу.
– Ланселот! – воскликнул Рэтлиф. Он даже не позволил себе выругаться, но не потому, что это пришлось бы не по вкусу миссис Литтлджон, она бы, пожалуй, и не услышала. – Лэмп! Подумать только, какой это был стыд и срам, когда он подрос и понял, как поступила мамаша с его именем и семейной гордостью, раз он предпочел прозываться просто Лэмпом! Это он выломал доску! И ведь знал, какую доску выламывать! Не вровень с головой ребенка или женщины, а так, чтобы в самый раз было заглянуть мужчине! Это он велел тому мальчугану следить за ними, а когда начнется, прибежать к лавке и сказать ему. Правда, он пока еще не принуждает их смотреть насильно, и тут он дал маху. Этого я никак не пойму. И этого пуще всего боюсь. Потому что ежели он, Лэмп Сноупс, Ланселот Сноупс… Я сказал: подголосок! – воскликнул он. – А хотел сказать – отголосок. В общем – жулик.
Он умолк, истощив запас своего красноречия, смешался, онемел в сердитом недоумении, уставившись на эту женщину, высокую, как мужчина, и по-мужски суровую, в выцветшей кацавейке, которая ответила ему таким же пристальным взглядом.
– Вот-вот, – сказала она. – Вас ведь совсем не то зудит. Вам не дает покоя, что человек по имени Сноупс или, вернее, этот самый Сноупс придумал что-то такое, а вам и не понять, для чего. Или, может, вас смущает, что люди приходят и глазеют на них? Пусть, мол, будет как есть, лишь бы никто не знал, не видел, так, что ли?
– Надо это прекратить, – сказал Рэтлиф. – Пусть я фарисей, против этого я никогда и не спорил. И пожалуйста, не говорите мне, что у него ничего на свете нет. Сам знаю. Или зачем, мол, отнимать у него единственную радость. Я и это знаю. Или что это не мое дело. Знаю, знаю и то, что я не оставлю ему эту единственную его радость просто-напросто потому, что у меня хватит силы отнять ее. Я сильнее его. Не добродетельнее. И, быть может, ничуть не лучше. Просто сильнее.
– Как же вы хотите с этим покончить?
– Не знаю. Может, я и не могу этого. А может, и не хочу. Может, все, чего я хочу, – это показать, какой я, мол, порядочный, чтобы иметь право сказать себе: я сделал, как считал нужным, теперь совесть моя чиста и сегодня по крайней мере я могу спать спокойно.
Но он, видимо, знал, что делать. Правда, он постоял немного на крыльце миссис Литтлджон, но лишь для того, чтобы взвесить все возможности или, вернее, перебрать в памяти лица Сноупсов: вот злое, упрямое лицо со сросшимися бровями; вот вытянутая, румяная, открытая, безлобая физиономия – словно ломоть арбуза над кожаным фартуком кузнеца; и еще одно, третье, которое, казалось, не имело никакого отношения к черному сюртуку, а было просто привязано к нему ниткой, как воздушный шарик, его черты словно беспорядочно разбегались от длинного унылого профессорского носа, как будто это размалеванное, похожее на воздушный шарик лицо только что вытащили из-под проливного дождя, – Минк, Эк и А. О.; а потом он, чертыхаясь, почти физическим усилием заставил себя снова сосредоточиться на важном, не терпящем отлагательства деле, и все это время он неподвижно стоял на верхней ступеньке крыльца, и по его знакомому всем, спокойному, скрытному лицу скользила едва заметная улыбка, а перед внутренним его взором снова проходили все те же три лица, и он снова молча их разглядывал. Первый и слушать его не станет; второй даже не поймет, о чем речь; а третий при таких обстоятельствах будет вести себя как автомат на вокзале, в который, чтобы привести его в действие, надо опустить медную монетку или металлический жетон, – тогда вы получите взамен неизвестно что, с одной лишь гарантией, что вещь эта будет стоить меньше, чем монета или жетон. Он подумал даже о старшем или по крайней мере первом из них – о Флеме, подумал, что, должно быть, впервые там, где люди живут, дышат и строят свою жизнь на денежной основе, кто-то желает, чтобы Флем Сноупс был здесь, близко, а не за тридевять земель, все равно где, все равно зачем.
Близился полдень, и человек, который был ему нужен, вот уже целый час как вышел из лавки, он видел это своими глазами. Справившись у лавки, где он живет, Рэтлиф через десять минут свернул с дороги к воротам в новой проволочной загородке. Дом был тоже новый, одноэтажный, некрашеный. На неровной, кое-как разбитой высохшей клумбе перед крыльцом и в ржавых жестянках и кадках по обе стороны от него увядали пыльные летние цветы – канны и герани, все сплошь красные. На заднем дворе играл знакомый Рэтлифу мальчик. Дверь отворила рослая, сильная молодая женщина со спокойным лицом, – один ребенок сидел у нее на закорках, а другой выглядывал из-за ее юбки.
– Он у себя, занимается, – сказала она. – Идите прямо к нему.
Стены в комнате тоже были некрашеные, дощатые, и вся она была похожа на сейф – такая же тесная и душная, но все же Рэтлиф сразу заметил, что пахнет в ней не как на квартире у холостого дядюшки, а скорее как в чулане, где стареющая вдова хранит свои платья. Ему тотчас бросился в глаза сюртук, лежавший в ногах кровати, потому что хозяин – в руках у него действительно была книга, а на носу очки, – как только отворилась дверь, встрепенулся, вскочил со стула, схватил сюртук и начал его надевать.
– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказал Рэтлиф. – Я на минутку. Насчет вашего двоюродного брата Айзека. – Но тот уже надел сюртук и поспешно застегивал его на все пуговицы поверх бумажной манишки, заменявшей ему рубашку (манжеты были подшиты прямо к рукавам сюртука), потом снял очки, все так же суетливо, словно спешил надеть сюртук только для того, чтобы снять очки, причем Рэтлиф заметил, что в оправе нет стекол. Он уставился на гостя тем пристальным, уже знакомым Рэтлифу взглядом, который должен был выражать одновременно озабоченность и глубокий ум, взглядом, который, казалось, существовал сам по себе, независимо от его глаз, зрения, – скорее это была плесень у него на зрачках, какой-то случайный налет, вроде того пушка, который дети сдувают с одуванчиков.
– Я насчет этой коровы, – сказал Рэтлиф. Теперь черты лица пришли в движение. Они разбежались в разные стороны от длинного носа, который торчал карикатурой на глубокомысленную рассудительность и решимость, но в то же время с наглой издевкой выражал холодное любопытство, растекавшееся по осклабленному лицу. А потом Рэтлиф заметил, что глаза вовсе и не смеются, а изучают его, и в них таится какая-то умная настороженность или, во всяком случае, затаенное, пусть не вполне твердое подозрение.
– Да, там, кажется, есть на что поглядеть! – Сноупс визгливо хохотнул. – С тех пор как Хьюстон подарил ему корову, а миссис Литтлджон отвела им стойло, я часто думал – жаль, что никто из его родственников не баллотируется на государственную должность. Хлеба и зрелищ, как говорится, – и карьера обеспечена.
– Не выйдет, – сказал Рэтлиф. Он сказал только эти два слова, спокойно, не повышая голоса.
Сноупс тоже остался невозмутим: неизменная гримаса, длинный неподвижный нос, глаза, которые жили словно сами по себе. Помолчав, Сноупс сказал:
– Не выйдет?
– Не выйдет, – сказал Рэтлиф.
– Не выйдет, – сказал и Сноупс. «Одно из двух – то ли он в самом деле умный, то ли здорово притворяется», – подумал Рэтлиф. – Но я-то тут ни при чем.
– Разве? – сказал Рэтлиф. – Ну, а как вы полагаете, что будет, если через какой-нибудь месяц вы пойдете к Биллу Варнеру просить оставить за вами место учителя, и тут-то окажется, что жена Цезаря[90], которая должна быть выше подозрений, не без греха?
Сноупс не переменился в лице, потому что черты его все время были в движении, каждая сама по себе, хотя все это была одна плоть, утвержденная на одном черепе.
– Очень благодарен, – сказал Сноупс. – Как вы думаете, что нам теперь делать?
– Нам – ничего, – сказал Рэтлиф. – Я ведь не претендую на место учителя.
– Но должны же вы помочь. В конце концов, покуда вы не ввязались, все было в полном порядке.
– Нет, – сурово сказал Рэтлиф. – На меня не рассчитывайте. Но одно я сделаю. Я останусь здесь и погляжу, что предпримут его родственники. Допустят ли они, чтобы люди смеялись над этим несчастным.
– Да, конечно, – сказал Сноупс. – Это никуда не годится. Вот в чем вся и суть. Плоть слаба, ей немного надо. Глаз искушает грешника; надо помочь ближнему избавиться от бревна в глазу, да к тому же с глаз долой – из сердца вон. Нельзя, чтобы наше доброе имя трепали зря. Слишком долго Сноупсы высоко держат голову в здешних краях, чтобы теперь их упрекали в попустительстве.
– Не говоря уж о месте учителя, – сказал Рэтлиф.
– Конечно. Мы устроим совет. Семейный совет. Соберемся сегодня же в лавке.
Когда Рэтлиф пришел в лавку, все уже были в сборе – кузнец, учитель и с ними приходский священник, здешний фермер, человек семейный, простой, недалекий, честный, суеверный и добродетельный, он не учился в семинарии, не имел сана, не был утвержден собором духовенства, – просто много лет назад Билл Варнер назначил его священником, подобно тому как назначал школьных учителей и шерифов.
– Все улажено, – сказал А. О., когда Рэтлиф вошел. – Брат Уитфилд знает способ. Только…
– Да нет же, я просто сказал, что знаю случай, когда это средство подействовало, – поправил его священник.
И тогда он, учитель, объяснил:
– Надо зарезать ту скотину, которая ему полюбилась, сварить кусок мяса и дать ему съесть. Но это непременно должно быть мясо той самой коровы, или овцы, или от чего там его отвадить, и чтоб он обязательно знал, что ест; нельзя заставлять его есть силой или хитростью, и подсунуть мясо другой коровы тоже нельзя. Тогда он успокоится и больше не будет для всех посмешищем. Только… – И тут Рэтлиф увидел, как его расползающееся лицо на миг стало задумчивым и злым. – Только миссис Литтлджон не отдаст нам корову задаром. Вы, кажется, говорили, что ее подарил ему Хьюстон?
– Нет, не я, – сказал Рэтлиф. – Это вы мне говорили.
– Но ведь так оно и было?
– Спросите миссис Литтлджон, или самого Хьюстона, или своего двоюродного брата.
– Ладно, не все ли равно. Так или иначе, даром она корову не отдаст. Так что придется за нее платить. И вот чего я никак не возьму в толк – она говорит, что не знает, какая ей цена, велела у вас спросить.
– Да ну, – только и сказал Рэтлиф. Теперь он не смотрел на Сноупса. Он смотрел на священника. – А вы наверняка знаете, что это средство подействует, ваше преподобие? – сказал он.
– Знаю только, что был случай, когда оно подействовало, – сказал Уитфилд.
– Выходит, вы знаете, что были и другие случаи, когда оно не подействовало?
– Я знаю только один случай, когда его пробовали.
– Ну что ж, – сказал Рэтлиф. Он взглянул на обоих Сноупсов – двоюродных братьев, дядю с племянником, или кем там они друг другу приходились. – Это обойдется вам в шестнадцать долларов восемьдесят центов.
– Шестнадцать долларов восемьдесят центов? – сказал А. О. – Сто чертей! – Его маленькие бесцветные глазки быстро забегали, заскользили по лицам. Наконец он повернулся к священнику: – Послушайте, что я вам скажу. Корова не из одного мяса состоит. На ней еще много всякого наросло, чего при рождении не было. Все это тоже часть коровы – рога, шерсть. Почему бы не взять клок шерсти и не сварить суп, что ли; можно бы и крови малость добавить, чтобы уж совсем без обмана…
– Нет, нужно ее тело, мясо, – сказал священник. – Я так понимаю это лечение, что если надо его отвадить, пусть поймет, что ее уж на свете нет.
– Но шестнадцать долларов восемьдесят центов… – сказал А. О. Он взглянул на Рэтлифа: – Не думаю, чтобы вы согласились уступить хоть сколько-нибудь.
– Нет, – сказал Рэтлиф.
– И Минк ничего не даст, тем более что Билл Варнер сегодня утром постановил взыскать с него штраф, – сказал А. О. желчно. – И Лэмп тоже. Вообще-то и Лэмпу скоро придется выложить денежки, но за что – это уж не ваше дело, – сказал он Рэтлифу. – И Флема нет. Так что остаемся мы с Эком. Если только брат Уитфилд не пожелает помочь нам из нравственных соображений. В конце концов, что порочит одного из паствы, порочит и все стадо!
– Нет, – сказал Рэтлиф. – Ему нельзя. Я и сам слышал об этом средстве. Все должна взять на себя кровная родня, иначе оно не подействует.
Маленькие блестящие глазки все так же перебегали с лица на лицо.
– А ведь вы ничего об этом не говорили, – сказал он.
– Я сказал все, что знаю, – сказал Уитфилд. – Откуда мне знать, на какие деньги тогда купили корову.
– Но шестнадцать долларов восемьдесят… – пробормотал А. О. – Сто чертей.
Рэтлиф посмотрел на него – теперь глаза А. О. были гораздо хитрее, чем казалось раньше; нет, он не умен, поправил себя Рэтлиф. Хитер. Только теперь А. О. в первый раз взглянул на своего брата или племянника.
И тогда брат или племянник в первый раз открыл рот.
– Ты хочешь сказать, что мы должны ее купить?
– Да, – сказал А. О. – Ты, конечно, не откажешься принести эту маленькую жертву ради имени, которое носишь.
– Ладно, – сказал Эк. – Раз уж мы должны… – Он достал из-под кожаного фартука огромный кожаный кошель, открыл его и держал в закопченном кулаке – так держит ребенок бумажный пакет, собираясь надуть его воздухом. – Сколько?
– Я ведь живу бобылем, – сказал А. О. – А у тебя трое детей.
– Четверо, – поправил его Эк. – Мы ждем еще одного.
– Значит, четверо. Так что я полагаю, единственный способ – это разложить издержки в соответствии с той пользой, которую получит каждый из его излечения. Ты должен уплатить за себя и за четверых детей. Это выходит пять к одному. Значит, я плачу доллар восемьдесят центов, а Эк – пятнадцать долларов, потому что трижды пять – пятнадцать и пятью три – тоже пятнадцать. И пускай Эк возьмет себе шкуру и все мясо, какое останется.
– Но мясо и шкура не стоят пятнадцать долларов, – сказал Эк. – А если бы и стоили, мне они все равно без надобности. На что мне столько – на целых пятнадцать долларов.
– Но ведь это не просто мясо и шкура. Так уж сложились обстоятельства. Мы свое доброе имя защитим.
– А с какой стати мне это доброе имя должно влететь в пятнадцать долларов, а тебе – всего в один доллар восемьдесят центов?
– Честь Сноупсов – вот что всего дороже. Можешь ты это понять? До сих пор на ней не было ни единого пятнышка. Ее надо хранить чистой, как мраморный памятник, чтобы твои дети могли носить нашу фамилию не краснея.
– Но все же я никак не пойму, почему я должен заплатить пятнадцать долларов, а ты всего только…
– Потому что у тебя четверо детей. Ты сам-пят. А пятью три – пятнадцать.
– Но у меня пока только трое, – сказал Эк.
– А я что говорю? Пятью три! Если бы у тебя родился еще один, то было бы четыре, а пятью четыре – двадцать, и мне вообще не пришлось бы ничего платить.
– Но кому-то пришлось бы дать Эку три доллара двадцать центов сдачи, – сказал Рэтлиф.
– Что-о? – сказал А. О. Но тут же снова повернулся к своему брату или племяннику. – Кроме того, ты получишь мясо и шкуру, – сказал он. – Пожалуйста, не забывай об этом.
Глава вторая
1
Жена Хьюстона была некрасива. Умом она не блистала, да еще была бесприданница. Круглая сирота, невзрачная, почти дурнушка и даже не такая уж молоденькая – ей было двадцать четыре года, – она жила в доме у дальней родственницы, которая воспитала ее как сумела, в меру своего крестьянского ума, происхождения и житейского опыта, и он взял ее оттуда вместе с небольшим сундучком, где было скромное простенькое белье сурового полотна, простыни и полотенца, подрубленные вручную, скатерть, которую она вышила своими руками, да с неисчерпаемым запасом верности и постоянства – единственным ее достоянием. Они поженились, а через полгода ее не стало, и вот уже больше четырех лет он горевал о ней, дикий, угрюмый, неотступно верный ее памяти, и ничего другого у него не было.
Они знали друг друга с детства. Оба были единственными детьми у родителей, оба родились на фермах, в каких-нибудь трех милях друг от друга. Они принадлежали к тому же приходу и ходили в ту же школу с одним-единственным классом для занятий, и, хотя она была младше на пять лет, когда он поступил в школу, она училась уже во втором классе, и, несмотря на то что, проучившись два года, он так и не перешел в следующий класс, она по-прежнему была лишь на класс выше, а потом он исчез, ушел не только из отчего дома, но и вообще из Балки, уже в шестнадцать лет убегая от извечных пут, и пропадал целых тринадцать лет, а потом вдруг объявился, причем, решив вернуться, знал (должно быть, даже проклиная себя), что, когда приедет, застанет ее дома и не замужем; и он не ошибся.
В школу он пошел четырнадцати лет. Он не был диким, а просто необузданным, и руководила им не столько отчаянность, сколько неодолимая жажда, но жажда не жизни или даже движения, а вольной неподвижности, именуемой свободой. К учебе он отвращения не питал; его возмущало лишь неизбежное принуждение, необходимость повиноваться. Он отлично справлялся с хозяйством на отцовской ферме, а мать научила его подписывать свое имя и вскоре после этого умерла и перестала наконец пилить мужа, добиваясь, чтобы тот определил мальчика в школу, которой он счастливо избегал целых четыре года, используя материнскую любовь к баловню сыну для защиты против суровости гордого отца; он по-настоящему радовался, когда ему поручали все более ответственные дела, и даже любил трудную работу, которую отец давал ему, желая сделать его человеком. Но в конце концов он сам пал жертвой своей хитрой тактики: даже отцу стало ясно, что на ферме ему учиться больше нечему. Пришлось ему пойти в школу, где он был отнюдь не примерным, а скорее беспримерным учеником. Он был сознательным гражданином еще до того, как получил право голоса на выборах, и мог бы быть отцом до того, как выучился читать по складам. В четырнадцать лет он уже знал вкус виски и завел любовницу – негритянскую девушку на два или три года старше его, дочь отцовского арендатора, – и вот теперь он вынужден был зубрить азы на четыре, пять, а потом и на все шесть лет позже своих сверстников, слишком взрослый для этого; великан среди лилипутов, поневоле искушенный во многом, он, естественно, презирал одноклассников и был решительно неисправим, и не то чтобы упорствовал в своем нежелании учиться, а просто был уверен, что ему это не интересно, не дается да и вообще ни к чему.
Потом ему казалось, что, когда он вошел в класс, первое, что он увидел, это скромно склоненную головку с гладко зачесанными каштановыми волосами. А еще позже, когда он уже считал, что убежал от нее, ему казалось, что она была с ним всю его жизнь, даже те пять лет между его и ее рождением; не то чтобы она каким-то непостижимым образом жила на свете эти пять лет – нет, сам он начал жить, только когда она родилась, и с этого часа они были на веки вечные связаны друг с другом не любовью, но непреклонной верностью и упрямым отпором: с одной стороны – твердая, несокрушимая воля переделывать, улучшать, совершенствовать, с другой – яростное, отчаянное сопротивление. Это была не любовь, не то обожание, преклонение, какое открыла ему страсть в опыте, ограниченном, конечно, но не таком уж невинном. Он признал бы, принял это чувство как должное, покорился бы ему, как покорялся, сталкиваясь с этим чувством, которое он называл добровольным рабством, в тех женщинах – матери и любовнице, – с какими до тех пор имел дело. Но он даже не подозревал, даже понятия не имел о том, что такое настоящее рабство, – то упорное, постоянное, деспотичное стремление раба не только безраздельно владеть, поглотить без остатка, но и тиранить, переделывать поработителя по своему образу и подобию. Пока что он даже не был ей нужен, и не потому, что она была слишком молода, а потому, вероятно, что не считала его готовым для этого. Она выбрала его из всего людского муравейника не как человека, который отвечает всем ее требованиям, а как настоящего мужчину, с которым она могла бы создать и построить настоящую жизнь.
Она пыталась помочь ему в занятиях, вытянуть его не для того, чтобы он кончил школу или хотя бы чему-то научился, стал умнее и образованнее; видимо, ей хотелось только, чтобы он своевременно переходил из класса в класс, как все ученики. Сначала он думал, что она, вероятно, хочет дотянуть его до того класса, где ему следовало быть по годам, и, если бы ей это удалось, она, пожалуй, предоставила бы его самому себе, пусть переходит в следующий класс или остается на второй год – как требует его характер и натура. Быть может, она так и сделала бы. Или, быть может, у нее, у которой хватило доброты попытаться ему помочь, хватило и ума понять, что он не только никогда не догонит своих сверстников, но не сможет поспеть и за теперешними своими одноклассниками, и даже более того: все это не имеет никакого значения, и, даже если он останется на второй год, это тоже не имеет значения, коль скоро она приложила к этому руку.
Это была борьба, поединок, молчаливый и упорный, между несокрушимым стремлением не к любви или страсти, а к браку, и яростным, непреклонным стремлением к свободе и одиночеству. В эту первую зиму он должен был остаться на второй год. Он и сам этого ждал. И не только он – этого ждала вся школа. А она никогда даже не заговаривала с ним, проходила мимо на площадке для игр, даже не взглянув на него, но каждый день на его парте непременно появлялось яблоко или кусок пирога, который она уделяла ему из своего завтрака, а в одном из его учебников – засунутый украдкой листок с решенными задачками, или исправленными грамматическими ошибками, или упражнениями, написанными круглым, твердым детским почерком, – обещание и награда, которую он отвергал, помощь, которую он отталкивал, и он злился не потому, что видел в этом злоупотребление своей наивностью и доверчивостью, но потому, что не мог выразить свое презрение и негодование открыто и не был уверен, что скрытое проявление его чувств – он яростно вышвыривал еду и рвал листки бумаги – хоть как-то проникало в эту скромно потупленную, упрямую головку, обращенную к нему в профиль, или вполоборота, или даже затылком, а он даже никогда не слышал, чтобы она назвала его по имени. А потом один малыш, раза в три меньше его, пропел дразнилку, в которой вместо обычного «Люси Пейт и Джек Хьюстон – жених и невеста» говорилось, что Люси Пейт тащит Джека Хьюстона за уши во второй класс. Он ударил малыша так, словно дрался со своим ровесником, четверо старшеклассников сразу же схватили его, а он отчаянно вырывался, и вдруг мальчишки попятились, и она пробилась к нему, молотя его врагов ранцем по головам. Он ударил ее с той же слепой яростью, что и малыша, и она отлетела в сторону. Еще минуты две он был в совершенном неистовстве. Даже когда его повалили на землю, четверым мальчикам пришлось скрутить его куском проволоки, сорванным с загородки, а потом, развязав его, они бросились врассыпную.
Это была его первая победа. Он остался на второй год. Осенью, когда он пришел в школу, в тот же самый класс, великан среди карликов, которые были ему по колено, и его окружил рой малышей, еще младше, чем в прошлом году, он решил, что совсем избавился от нее. Конечно, он по-прежнему видел ее лицо, и оно ничуть не стало дальше или меньше. Но он надеялся, что теперь разделявшая их бездна увеличилась еще на один класс. Так что он считал, что игра выиграна, и торжествовал победу; целых два месяца прошло, прежде чем он узнал, что и она тоже срезалась на весенних испытаниях и осталась на второй год.
Теперь его охватил почти панический страх. Он понял, что размах и характер борьбы между ними изменился. Она не стала ожесточеннее – дальше уж было некуда, – но теперь это была борьба зрелых людей. До сих пор, при всей ее полнейшей серьезности, в ней было что-то детское, что-то последовательное в своей нелепости, разумное в своей бессмысленности. Теперь же это была борьба между взрослыми; в это лето, когда они и виделись-то лишь в церкви на богослужениях, в какой-то миг древняя, изодранная перчатка биологического различия полов была брошена и поднята. Словно бы, сами того не сознавая, оба разом узрели исконного Змея и вкусили от Древа познания[91], уже готовые и жаждущие насладиться его плодом, но не умеющие сделать это, хотя он к этому времени уже успел кое-чему научиться. Он больше не находил на парте яблок и пирогов – только листки, неизбежные, без единой ошибки, в учебниках, в карманах пальто, в почтовом ящике на воротах своего дома; каждый месяц, когда класс писал контрольную работу, он сдавал чистый листок и получал назад другой с отличной оценкой, исписанный тем же почерком, который все больше и больше становился похож на его руку – даже подпись не отличишь. И всегда это ее лицо, хотя она по-прежнему ни разу с ним не заговорила, даже не взглянула на него, это лицо, склоненное к парте, обращенное к нему в профиль или в три четверти, спокойное и невозмутимое. И он не только видел его весь день, но уносил его вечером с собой и утром, просыпаясь, снова видел его, все такое же безмятежное и непреклонное. Он пытался избавиться от него, вспоминая свою любовницу-негритянку, но оно все стояло перед ним, неизменное, безмятежно-спокойное, и не было в нем ни злобы, ни печали, ни даже укоризны, оно заранее все прощало, прежде чем он решался подумать о прощении или мог заслужить его, оно ждало, спокойное, пугающее. Однажды в этом году ему взбрела в голову отчаянная мысль – избавиться от нее навсегда, лишив ее возможности помогать ему, засесть за учебу и наверстать потерянные годы, догнать класс, в котором ему следовало учиться. Он даже пытался сделать это, но его хватило ненадолго. Всегда и всюду было это лицо. Он знал, что никогда не сможет уйти от него, – оно не будет тянуть его назад, нет, теперь уж ему, в свою очередь, придется нести его с собой, подобно тому как оно держало его вне времени и пространства все эти пять лет, когда она еще не родилась; и он не только не сможет уйти, но не сможет даже преодолеть этот один-единственный год, разделяющий их, и чего бы он ни достиг в жизни, она всегда будет тут как тут, на год впереди, и ее не обойти, не обогнать. Так что выход был только один, тот же самый: идти назад он не мог, назад было уж некуда, но мог тормозить, вонзать незримые, сдерживающие шпоры в бока скачущей во весь опор школьной премудрости.
Так он и сделал. Ошибка его была в том, что он думал – есть же предел женской беспощадности. Каждый месяц он сдавал учителю чистый листок и получал назад безукоризненно выполненные контрольные, и сверху было аккуратно надписано его имя; месяц проходил за месяцем, и близились переводные испытания. Он сдал учителю чистые листки, на них не было ничего, кроме его имени да грязных следов пальцев на сгибе, в последний раз закрыл учебники, которые не успел даже замусолить, и вышел из школы, свободный, если не считать маленькой подробности – учитель не сказал ему, что оставляет его на второй год. Весь день, до самого вечера, его не покидало это чувство свободы. Он уже раздевался, чтобы лечь спать, и стянул было одну штанину, но вдруг, не мешкая ни секунды, решительно сунул ногу обратно и босой, без рубашки выбежал из дома. Отец его уже спал. Школа была не заперта, но, чтобы залезть в учительский стол, ему пришлось сломать замок. Все три его контрольные были там – листки, точно того же формата, какие он сдал чистыми, – по арифметике, по географии и сочинение, – если бы он не знал, что подал вместо сочинения пустой листок, да еще не отдельные слова в нем, которые он видел в первый раз в жизни и не мог даже произнести, и не все остальные слова, которые он знал, но не мог понять, он сам не поручился бы, что не он написал это сочинение.
Он вернулся домой, собрал кое-какую одежонку, взял револьвер, который был у него уже три года, и разбудил отца; в эту летнюю полночь, при свете лампы, они виделись в последний раз – испуганный, но полный решимости юноша и желчный, сухой, жилистый человек, почти на целую голову ниже сына, небритый, с густой копной спутанных седых волос, в ночной рубашке до пят, который вынул из кармана штанов, валявшихся на стуле, потертый бумажник и, отдав сыну все, что там было, надел на нос очки в железной оправе, написал вексель на выданную сумму с процентами и заставил его подписаться.
– Ну вот, – сказал он. – А теперь катись ко всем чертям. Ты все-таки мой сын и в шестнадцать лет должен суметь себя прокормить. Я по крайней мере сумел. Но держу пари еще на столько же, сколько я тебе сейчас выдал, что не пройдет и полугода, как ты запросишь помощи.
По дороге он зашел в школу и положил контрольные на место, вместе с чистыми листками; если бы ему удалось, он починил бы и сломанный замок. Он даже рассчитался с отцом, хотя пари не проиграл. Он возвратил деньги через год, выиграв как-то субботним вечером в кости втрое больше того, что был должен, в Оклахоме, на строительстве железной дороги, где он работал табельщиком.
Он бежал не от своего прошлого, а от будущего. И лишь через двенадцать лет понял, что нельзя убежать ни от того, ни от другого. Он работал кочегаром на паровозе и скоро должен был получить повышение, стать машинистом, а жил он в то время в Эль-Пасо, в маленьком, чистом каменном домике, арендованном на четыре года, с женщиной, которую соседи, лавочники и прочий люд считали его женой и которую он взял семь лет назад из галвестонского публичного дома[92]. А до того он убирал пшеницу в Канзасе, пас овец в Нью-Мехико, снова работал на строительстве железных дорог в Аризоне и Западном Техасе, потом был грузчиком в Галвестонских доках; и если он все еще бежал от нее, то сам того не подозревая, потому что прошло много лет с тех пор, как он и думать перестал о том, что наконец-то забыл ее лицо. Он не подозревал об этом, когда убедился, что с помощью одного лишь расстояния нельзя убежать ни от прошлого, ни от будущего. (Расстояние – что за скудость воображения, что за нелепая вера в разлуку у человечества, которое не сумело изобрести лучшего способа для бегства; и в первую очередь у него самого, думавшего, будто расстояние – не обыкновенное пространство, но среда, воздух, без чего нечем дышать свободному бродяге.) И если он оставался верен себе – убегая от одной женщины, залезал под юбку к другой, как в юности бежал от матери к негритянке, – то не подозревал этого, почти силой вытащив из публичного дома на рассвете женщину, которую впервые увидел накануне в полночь; при тусклом свете газового рожка между ним и хозяйкой в папильотках разыгралась душераздирающая сцена, словно он похищал из дома единственную дочь, наследницу всего состояния.
Они прожили вместе семь лет. Он перестал скитаться, снова поступил на железную дорогу и даже продвинулся по служебной лестнице; он был верен ей душой и, за редкими исключениями, телом, а она, в свою очередь, была предана ему, благоразумна, непритязательна и не сорила попусту его деньгами. Она жила под его фамилией в меблированных комнатах, где они поселились вначале, а потом – в арендованном доме в Эль-Пасо, который они называли своим и обставляли как могли. Хотя она и не заикалась об этом, он даже подумывал о женитьбе на ней, – настолько влияние Запада, который был тогда еще так молод, что поощрял свободу личности, смягчило, а потом и вовсе вытеснило наследственное фанатическое представление о браке, женской чистоте и грехах Марии Магдалины[93], свойственное протестантам провинциального Юга. Правда, оставался еще отец. С ним он не виделся с той самой ночи, когда ушел из дома, и не чаял свидеться снова. Нет, отец для него не умер, не стал еще более далеким, чем старый дом в штате Миссисипи, где они виделись в последний раз; просто он не мог представить себе, что они встретятся где-нибудь еще, кроме Миссисипи, а возвращение туда он мыслил лишь в старости. Но он знал, как отнесся бы отец к его женитьбе на бывшей проститутке, а до сих пор, что бы он ни делал, он не совершил ни одного поступка, который, по его мнению, не мог бы совершить или по крайней мере не одобрил бы отец. А потом пришло известие, что отец умер (с той же почтой он получил письмо от соседа, который предлагал ему продать ферму. Он отказался. В то время он сам еще не знал почему), и это препятствие отпало. Но, по сути дела, его никогда и не было. Он решил этот вопрос наедине с собой давным-давно, ночью, когда темный паровоз несся сквозь мрак, лязгая на стыках рельсов: «Может, она и была не бог весть что, да ведь и я не святой. Зато вон уже сколько лет она лучше меня». Возможно, со временем у них родится ребенок. И он решил подождать этого, как знамения. Сначала он даже не допускал такой возможности – в нем говорил все тот же фанатик-протестант: десница Божия тяготеет над грешником даже после духовного возрождения[94]; вавилонской блуднице[95] Всевышний затворил утробу навеки. Он не знал, сколько должно пройти времени, сколь долгий искус целомудрия может принести ей очищение и отпущение грехов, но рисовал себе это так: в какой-то миг, таинственный и неисповедимый, короста, оставленная безымянными и безликими мужчинами, спадет, язвы, выжженные продажной страстью, зарубцуются и изгладятся на ее оскверненном теле.
Но теперь это было позади – не тот непостижимый миг, который должен был принести очищение, но тот час, тот день, в который, как ему казалось, она должна была сказать ему, что беременна и что им надо пожениться. Теперь это осталось далеко позади. Этого не будет никогда. И как-то ночью, на двенадцатом году своего бегства из дому, устраиваясь на ночлег в меблированных комнатах на конечной станции, где он ночевал между сменами, он вынул письмо трехлетней давности и понял, почему он тогда не принял предложение соседа. «Поеду домой», – сказал он себе. И это все, никаких объяснений; ему даже не представилось лицо, которое он до того дня, как пришел в школу, не мог бы описать, а теперь не мог и вспомнить. На другой день, сделав рейс до Эль-Пасо, он взял из банка деньги, накопленные за семь лет, и разделил их поровну. Но женщина, которая семь лет была ему женой, едва взглянула на деньги и стала его ругать.
– Я знаю, ты жениться надумал, – сказала она. Слез не было, она просто кляла его на чем свет стоит. – На что мне деньги? Погляди на меня. Думаешь, я так не проживу? Возьми меня с собой. Буду жить в каком-нибудь городке по соседству. А ты приезжай когда вздумается. Разве я тебе мешала?
– Нет, – сказал он.
Тогда она принялась проклинать его, их обоих. «Пусть бы она лучше толкнула меня, ударила, чтоб я взбесился и побил ее», – подумал он. Но до этого не дошло. Она ругала не столько его, сколько ту женщину, которую никогда не видела, которую даже он едва мог вспомнить. И тогда он поделил свою долю денег – тех денег, что всегда сами шли к нему в руки, он был счастливец, не потому, что эти деньги достались ему легко, не потому, что он нашел их, выиграл или заработал без труда, а потому, что пороки и удовольствия, которые были ему нужны, обходились недорого, и от этого не слишком тощал кошелек, – и уехал домой, в Миссисипи. Впрочем, и тогда, как видно, ему понадобился еще целый год, чтобы убедиться, что он и не хочет бежать от прошлого и будущего. Соседи решили, что он приехал продать ферму. Но проходили недели, а он и не думал ее продавать. Пришла весна, а он ни в аренду ее сдавать не собирался, ни сам работать не начинал. Он жил себе в старом, построенном еще до Гражданской войны доме, который хоть и не походил на дворец с колоннадой, но и раньше был велик для троих, и месяц проходил за месяцем, но, видно, он был в отпуске и за ним сохранялось место на Техасской железной дороге, где, как они слышали от его отца, он работал, и он все жил один-одинешенек, и если с кем встречался, то лишь со своими сверстниками за бутылкой виски или за картами, да и то не часто. Летом он изредка появлялся на пикниках, а по субботам всегда сидел вместе с другими на галерее лавки Варнера, разговаривая или, вернее, отвечая на расспросы, что да как на Западе, нисколько не замкнутый или скрытный, а просто они как бы говорили на разных языках, не понимая вопросов и ответов друг друга. Жизнь его обуздала, хоть это и не очень-то было видно по нему. Лицо его еще было отмечено печатью скитаний и одиночества, но оно уже как-то потухло, стало разумнее, в нем появилась даже какая-то осознанная, хоть и бесстрашная настороженность; этого дикого зверя, всегда одинокого, вдруг потянуло в западню, и он знал, чувствовал, что это западня, и хоть не понимал, почему он обречен, но знал, что это неизбежно, и уже не боялся, уже становился почти ручным.
Они поженились в январе. Деньги, привезенные из Техаса, давно растаяли, хотя все в округе еще считали его богачом, – иначе как мог бы он жить целый год, не работая, а потом жениться на сироте, бесприданнице. Поскольку он за все платил наличными, соседи раз и навсегда уверовали, что он при деньгах, подобно тому как сперва все были убеждены, что домой его пригнала нищета. Он заложил часть земли у Билла Варнера и на полученные деньги стал строить новый дом, поближе к дороге. И еще он купил жеребца – это был как бы свадебный подарок невесте, хотя сам он никогда этого не говорил. А может быть, эта горячая кровь, эти кости и мышцы воплощали и для него то многобрачие, то необузданное мужское начало, от которого он отрекся, но он и этого никогда не говорил. И если кое-кто из соседей и знакомых – Билл Варнер или, скажем, Рэтлиф – поняли, что он действительно искал в этом себя, намеренно старался заполнить пустоту своего отречения, то и они ничего не сказали.
Через три месяца после свадьбы дом был отстроен, и они переехали туда, наняв негритянку для стряпни, хотя из всех соседей единственная наемная повариха, белая или негритянка, была только у Варнеров. Со всей округи к ним стали съезжаться гости, мужчины – взглянуть на жеребца, женщины – полюбоваться светлыми комнатами, новой мебелью, всякой хозяйственной утварью и машинами для облегчения труда и экономии времени, о которых они только мечтали, листая каталоги. Они смотрели, как она без устали хлопочет, устраиваясь на новом месте, в простом скромном платьице, скромно причесанная, и ее скромное лицо расцвело, стало почти красивым, – она не удивлялась своему счастью, не наслаждалась воздаянием за свое постоянство и верность, а лишь вспыхивала радостным, ярким, откровенным румянцем, когда гости говорили, что дом, мол, поспел к самому сроку, и в окно спальни заглянет полная апрельская луна.
А потом жеребец ее убил. Она искала в конюшне куриное гнездо. Слуга-негр предупредил ее: «Это не просто лошадь, мисси. Это конь, мужчина. Не ходите туда». Но она не испугалась. Она словно бы поняла, угадала это его перевоплощение, эту раздвоенность, и если не сказала вслух, то подумала: «Глупости. Ведь теперь мы – муж и жена». Он вбежал в стойло ошалевшего жеребца с ножом, но негр удержал его, уговорил подождать, пока из дому принесут револьвер, и, пристрелив жеребца, он четыре года и два месяца прожил в новом доме с собакой и негром-поваром. Он продал кобылу, купленную для жены, продал корову, которая была у него в то время, рассчитал повариху и раздал кур соседям. Новая мебель была куплена в рассрочку. Он свалил ее в сарай около старого дома, где он родился, и написал торговцам, чтобы те приехали и забрали ее. В новом доме осталась только печь, кухонный стол, за которым он ел, и койка, заменившая кровать у окна спальни. В первую ночь, когда он лег на койку, тоже было новолуние, поэтому он перенес койку в другую комнату и поставил ее у северной стены, куда не достигал лунный свет, а еще через две ночи даже попробовал переночевать в старом доме. Но там он потерял все – не только покой, но даже ту жестокую, неистребимую тоску, в которую можно было уйти с головой.
Тогда он вернулся в новый дом. Луна была уже на ущербе, до следующего новолуния был целый месяц, и оставался лишь этот единственный час между закатом и ночной тьмой, когда он глушил свою тоску усталостью. А усталость стоила дешево; ему не только предстояло выкупить землю, которую он заложил у Билла Варнера, но и пришлось улаживать неприятности с торговцами, у которых была куплена в рассрочку мебель, – они не хотели брать ее обратно. Пришлось ему снова заняться фермой, и с каждым днем он все больше убеждался в том, что многое позабыл. Так что иной раз он и не замечал, как подкрадывался этот страшный час, пока не чувствовал, что он близится, подступает и вот уже набрасывается на него и начинает его душить. В этот час ее неукротимый дух и порой даже дух сына, который, быть может, родился бы у них в будущем году, витали по всему дому, построенному для нее, хотя теперь в нем уже не было ни одной вещи, которую она бы трогала, держала в руках или видела, кроме печи, кухонного стола и одного платья – не сорочки или ночной рубашки, а клетчатого платьишка, похожего на то, в котором он впервые увидел ее в школе, да еще этого окна, из-за которого он даже в самые жаркие летние вечера, пока негр готовил ужин, сидел в душной кухне, пил виски из каменного кувшина, разбавляя его тепловатой водой из дубовой кадки, и разговаривал вслух, все больше ожесточаясь, богохульствуя яростно и непримиримо, но ему не на кого было броситься, некого было одолеть, победить.
Но рано или поздно луна снова начинала прибывать. Бывали ночи почти безлунные. И все же в конце концов серебристо-белый прямоугольник света опять падал на него из окна всю ночь, которой, казалось, не будет конца, как когда-то падал на них обоих, помнивших старинное поверье, что в апреле полная луна способствует зачатию. Но теперь рядом с ним в лунном свете не было никого, да и места ни для кого не оставалось. Потому что койка была слишком узка, и лишь резкая черная тень падала вниз, на пол, где, невидимый, спал его пес, а он лежал навзничь, неподвижный, непримиримый, и скрежетал зубами. «Не знаю, не знаю, – шептал он. – Не понимаю и не пойму никогда. Но Тебе меня не одолеть. Я не слабее Тебя. Тебе меня не одолеть».
Он был еще жив, когда начал падать с седла. Сперва он услышал грохот, а еще через миг понял, что, вероятно, почувствовал удар, прежде чем услышал выстрел. И тут обычное течение времени, к которому он привык за тридцать три года своей жизни, нарушилось. Ему показалось, что он ударился о землю, хотя он знал, что еще не долетел до нее, еще падает, а потом он перестал падать, очутился на земле и, вспомнив все раны в живот, какие ему доводилось видеть, подумал: «Если я сейчас не почувствую боль, значит, конец». Он жаждал почувствовать ее и никак не мог понять, почему она медлит. Потом он увидел провал, бездну, где-то над тем местом, где должны быть его ноги, и, лежа на спине, он видел, как через эту бездну тянутся оборванные и спутанные концы нервов и чувств, слепые, как черви, тоньше волоса, они ищут друг друга, чтобы снова соединиться, срастись. Потом он увидел, как боль, словно молния, прочертила пустоту. Но она пришла не изнутри, а откуда-то извне, из такой знакомой, уходящей от него земли. «Постой, погоди, – прошептал он. – Подступай потихоньку, не вдруг, тогда я, может быть, тебя вынесу». Но она не желала ждать. Она с ревом обрушилась на него, подбросила его и скорчила. Она не желала ждать. Она желала немедленно ввергнуть его в пустоту, и тогда он вскрикнул: «Скорей! Скорей же» – глядя из кровавого рева вверх, на лицо, с которым его навеки связал, сочетал этот выстрел, этот патрон десятого калибра – мертвец, который унесет живого за собой в могилу; живой, которого не приемлет земля, должен будет вечно носить с собой убиенного в его бессмертии – а потом, видя, что переломленная двустволка неподвижна: «Сволочь, не мог выклянчить два патрона, ты, голь перекатная…» – и осекся. Глаза его, все еще открытые уходящему солнцу, вдруг подернулись влагой, и по чужим, бесчувственным щекам покатились, сразу же высыхая, блестящие капли, словно накипевшие, истовые слезы.
2
Выстрел был слишком громким. И не потому, что это был выстрел, – слишком громок был самый звук, громче громкого. Казалось, даже пространство и эхо, подхватившее этот звук, ополчились против него, когда он встал на защиту своих прав, против несправедливости, и грохот вздымался все выше и выше над кустами, где он притаился, и над темной, едва видной дорогой, еще долго после того, как он плечом почувствовал отдачу, и запах черного пороха рассеялся, а лошадь, шарахнувшись, поскакала прочь, и пустые стремена бились о пустое седло. Он не брал в руки ружья вот уже четыре года и даже не был уверен, что хотя бы два из тех пяти патронов, что у него были, выстрелят. Выстрелил второй – первый дал осечку: курок щелкнул впустую, и этот щелк был оглушительней грома, и он должен был снова прицелиться и нашарить второй спуск, а потом раздался грохот, которого он и не слышал после нового оглушающего щелчка, дым и вонь пороха заставили его попятиться назад, в чащу, и припасть к земле, на миг ему стало дурно, так что, даже если бы он и мог выстрелить еще раз, все равно было бы уже поздно, и пес тоже исчез, предательски бросив его здесь, в лесу, где он дрожал и задыхался, притаившись за поваленным деревом.
Теперь нужно было покончить с этим делом, покончить не так, как ему хотелось, но так, как вынуждала необходимость. Ему не пришлось преодолевать, обуздывать слепой, безотчетный, отчаянный страх, побуждающий бежать без оглядки. Напротив. Больше всего на свете ему хотелось бы оставить на груди убитого печатный плакат: «Вот что бывает с теми, кто отбирает скотину у Минка Сноупса» – и подпись. Но сделать этого он не мог, и снова, вот уже в третий раз с того мгновения, как он спустил курок, он наталкивался все на тот же заговор с целью ущемить, попрать его человеческие права и надругаться над его чувствами. Нужно было встать, выйти из кустов и сделать то, что теперь необходимо, даже не для того, чтобы покончить с этим, а чтобы как-то завершить начатое, потому что, еще прежде чем он услышал стук копыт и вскинул ружье, он уже знал, что так будет: прицелился он, чтобы убить врага, а попал всего-навсего в труп, который теперь надо куда-то спрятать. Он сел около дерева, закрыл глаза и стал медленно считать вслух, чтобы унять дрожь, а когда стук копыт и этот возмутительно громкий выстрел замерли в его ушах, он встал и, не выпуская из рук переломленное ружье с негодным патроном в одном стволе, вышел на дорогу, уже почти бегом. Но все равно домой он мог вернуться, только когда стемнеет.
Стало темнеть. Он выбрался из балки, взглянул на холм, где было его тощее и жалкое поле, а потом увидел и ее – некрашеную лачугу из двух комнат, со сквозным коридором, с пристроенной кухонькой, – лачуга ему не принадлежала, он платил за нее не налог, а аренду, и за один год это обходилось ему почти во столько же, сколько стоило бы построить новую; лачуга была не очень ветхая, но крыша уже текла, дощатые стены попортила непогода, и она как две капли воды была похожа на ту лачугу, где он родился, тоже не принадлежавшую его отцу, и в такой же точно лачуге он умрет, если только ему суждено умереть под крышей, вероятно, так оно и случится – беспокойное, неукротимое сердце вдруг, нежданно, остановится, когда он будет где-нибудь между кроватью и столом или, быть может, даже на пороге, – и она как две капли воды похожа на шесть или семь других лачуг, в которых он жил с тех пор, как женился, и еще на двенадцать или четырнадцать других, в которых, он знал это, ему еще предстоит жить, прежде чем он умрет, но теперь он хотя бы был уверен, что платит аренду собственному двоюродному брату, и это все, чего он, Минк, может достичь, собственного крова над головой у него никогда не будет. Во дворе играли двое детей, – завидев его, они вскочили, не сводя с него глаз, повернулись и побежали к дому. А потом ему показалось, что он видит ее, она стоит у открытой двери, почти на том же месте, где стояла восемь часов назад, уставившись ему в спину, а он сидел тогда у холодного очага, смазывая ружье растопленным свиным салом, – ничего другого у него не было, а сало, пропитанное сухой солью, вместо того чтобы смазывать металл, застывало на нем твердыми подтеками, словно мыло; она стояла у двери, словно за все это время не шелохнулась ни разу, в дверном проеме, словно в раме, и, хотя лампа не была зажжена, казалось, что она залита ослепительным светом, как в тот день, когда она стояла среди гула хриплых, невидимых мужских голосов в открытых дверях столовой, там, на юге Миссисипи, в исправительном лагере, где десять лет назад он увидел ее в первый раз. Он перестал глядеть на дом; он только мельком взглянул на него и побрел через желтые и чахлые всходы кукурузы, желтые и чахлые, потому что у него не было ни денег на удобрение, ни тягла, ни орудий, чтобы как следует обработать поле, и некому было помочь ему, и он трудился один, надрывая силы и здоровье, а тут еще погода стояла просто невероятная – после неслыханно дождливой весны, когда с середины мая и до самого июля не переставая лил дождь, началась засуха, словно все силы небесные были заодно с его врагами. Он брел среди пустых, пожелтевших стеблей, неся ружье, такое большое, что ему и нести-то его, казалось, было невмоготу, не то что прицелиться и выстрелить, – семь лет назад он отдал за него последние гроши, да и то оно ему досталось лишь потому, что никто другой не хотел его брать – калибр слишком крупный, так что охотиться с ним стоило только на оленей или по крайней мере на диких гусей, да и патроны к нему дорогие, так что тратить их стоило только на человека.
Больше он на дом не глядел. Он прошел мимо, за трухлявый забор, к колодцу, прислонил ружье к срубу, разулся, зачерпнул ведро воды и принялся мыть башмаки. Вдруг он почувствовал, что она стоит у него за спиной. Он сидел на ветхой скамеечке и даже не обернулся – маленький, в чистой линялой рубашке и заплатанном комбинезоне, и, наклонив ведро над башмаком, тер башмак кукурузным початком. Она засмеялась, хрипло, долгим смехом.
– Я тебе что говорила нынче утром, – сказала она. – Что, ежели ты выйдешь за порог с этим ружьем, я уйду из дому. – Он не поднял головы, склонившись над мокрым башмаком, засунул в него руку, словно сапожную колодку, и тер его кукурузным початком. – Не твое дело – куда. И узнать не пытайся, где я, когда они придут за тобой. – Он не ответил. Покончив с одним башмаком, он поставил его на землю, сунул руку в другой, плеснул на него воды из ведра и начал тереть. – Но далеко я не уйду! – воскликнула она вдруг глухо, не повышая голоса. – Своими глазами я хочу видеть, как тебя повесят!
Он встал. Аккуратно поставил на землю недомытый башмак, положил рядом с ним початок и встал, маленький, почти на полголовы ниже ее, босой, и двинулся на нее неторопливо, чуть избочившись, нагнув голову и даже не глядя на нее, а она стояла в проломе забора – крашеные волосы снова потемнели у корней, потому что вот уже год она не могла наскрести денег на краску, лицо, глядевшее на него с хриплым, неумолчным смехом, глаза, в которых поблескивало любопытство. Он ударил ее по зубам. Он глядел, как его рука словно бы нехотя, с трудом, ударила по лицу, которое не уклонилось, не сморгнуло глазом.
– Ты ублюдок, душегуб окаянный! – сказала она, и изо рта у нее брызнула алая кровь. Он ударил ее снова, пачкая в крови руку, потом еще и еще, расчетливо, не спеша, и в этом не было умысла, а только бесконечное, терпеливое упорство и неодолимое изнеможение.
– Уходи, – сказал он. – Уходи, уходи.
Он пошел за ней через двор, поднялся на крыльцо, но через порог не перешагнул. Хотя в комнате было почти темно, он видел ее с порога на фоне узкого серого прямоугольника окна. Потом чиркнула спичка, вспыхнул язычок пламени и задрожал над фитилем, так что теперь она была освещена резким светом, а вокруг нее незримо метались шумные и безгласные тени мужчин, без имени, без числа, – временами, даже когда он видел своих детей, ему казалось, что оно никогда не рожало, это ее тело, пришедшее к нему еще до того, как за два доллара был зарегистрирован их брак, который не освятил, а лишь закрепил их отношения, и всякий раз, как он к ней подходил, ему мешала не одежда, а эти похотливые тени, которые стали частью его прошлого, словно он сам, а не она, прежде покорно отдавался им; и, несмотря на ее грязную мешковатую одежду, он даже из холодных беззвездных ночных далей, где нет ни страсти, ни ненависти, готов был созерцать это, повторяя: «Это как хмель. Это для меня как дурман». Потом, при свете той же спички, поднесенной к фитилю, он увидел лица обоих детей, словно этой единственной спичкой она прикоснулась ко всем троим разом. Они сидели в уголке на полу, не таясь, не прячась, сидели в темноте, должно быть, с тех самых пор, как он поднялся со дна балки и они убежали от него, и во взглядах их было то же, что жило и в нем самом: не приниженность, а лишь упрямство, и древняя, усталая мудрость, и приятие непримиримого противоречия между желаемым и действительным, неизбежного из-за того, что все трое были слабые и щуплые, и уж от этого никуда не денешься, и, отвернувшись от него, они без удивления посмотрели на окровавленное лицо матери и не сказали ни слова, когда она сняла с гвоздя платье, расстелила его на соломенном тюфяке и завернула в него нехитрые пожитки – кое-что из одежды, единственную пару подростковых ботинок, которую они по очереди надевали в зимнюю стужу, треснутое зеркальце, деревянную гребенку, щетку с отломанной ручкой.
– Пошли, – сказала она.
Он посторонился, давая им дорогу, – дети жались к ее юбке, и, когда они выходили из комнаты, он на миг потерял их из виду, а потом увидел снова, они шли впереди нее по коридору, и он двинулся следом, но, не подходя вплотную, опять остановился на пороге, когда они вышли на крыльцо и спустились по ветхим, трухлявым ступеням. У крыльца она замешкалась, и тогда он снова двинулся вперед, все так же неумолимо и устало, но остановился, когда увидел, что старшая девочка, бесшумная и бесплотная в темноте, потому что была уже почти ночь, перебежала двор, быстро подобрала что-то с земли и вернулась к матери, прижимая к груди деревяшку, к которой были прибиты вместо колес четыре крышки от круглых жестянок из-под табака. Они пошли дальше. Теперь он остался на месте. Казалось, он даже не смотрел на них, когда они вышли через сломанные ворота.
Он пошел в дом, задул лампу, и вокруг сразу стало темным-темно, словно слабый, дрожащий язычок пламени унес с собой последние остатки дня, так что, вернувшись к колодцу, он ощупью нашарил кукурузный початок и башмак и соскреб с него остатки грязи. Потом он вымыл ружье. Когда оно впервые попало ему в руки, когда оно было новое или по крайней мере новое для него, при нем был и шомпол. Он сам сделал этот шомпол, вырезал его из камыша, тщательно обстругал и выровнял, а на конце просверлил аккуратное отверстие для ветоши, и почти целый год, пока у него были деньги на порох, дробь и капсюли, чтобы снаряжать патроны и хоть иногда охотиться, он берег шомпол даже больше ружья, потому что ружье он купил, а шомпол сделал своими руками. Но теперь шомпол потерялся, неизвестно где и когда, вместе с другими вещами, нажитыми с тех пор, как он вышел в люди, вещами, которые некогда были ему дороги, но он растерял их где-то по пути до того, как стал взрослым, и теперь у него нет ничего, кроме пустого дома, не принадлежащего ему, и ружья, да еще воспоминания о том непоправимом миге, когда он вскинул двустволку, прицелился и заставил себя нажать на спуск, о миге, который ничто, кроме смерти, не изгладит из его памяти. Он плеснул на ружье воды из ведра, снял рубашку, вытер ружье насухо, взял башмаки, вернулся в дом и, не зажигая лампы, стоя в темноте у холодной печи, стал есть руками из горшка холодные бобы, а потом пошел и лег прямо в комбинезоне на кровать с соломенным тюфяком в комнате, которая наконец опустела, исчезли даже шумные тени, лег навзничь, не смыкая глаз, вытянув руки вдоль туловища, ни о чем не думая. А потом он услышал собачий вой.
Сначала он не шелохнулся: если бы не его мерное, ровное дыхание, его можно было бы принять за труп, так неподвижно он лежал, а вой замер вдали, и спустилась ночная тишь, пронизанная мириадами звуков, а потом ее снова разорвал вой – громкий, тягучий, горестный. Он не шелохнулся. Он словно был готов, словно ждал этого, и лег, угомонился, выбросил все из головы не для того, чтобы уснуть, а чтобы собраться с духом и силами, как бегуны и пловцы, перед отчаянным усилием, с каким ему теперь предстояло жить, и пролежал так минут десять, прежде чем со дна балки донесся тягучий вой, словно знал, что эти десять минут – последние минуты покоя в его жизни. Потом он встал. Все так же в темноте он натянул на себя еще сырую рубашку и башмаки, которые только что вымыл, снял с гвоздя, вбитого за дверью, новую веревку, которая так и висела кольцом, как скрутил ее две недели назад его двоюродный брат, приказчик в лавке Варнера, и вышел из дома.
Ночь была безлунная. Он спустился вниз меж сухими, невидимыми в темноте кукурузными стеблями, находя дорогу по звездам, пока не добрался до леса, черную стену которого усеивали дрожащие искорки светлячков, а из глубины доносилось кваканье лягушек и собачий вой. Войдя в лес, он уже не мог видеть неба, но только теперь понял то, что должен был понять уже давно: можно идти на вой собаки. Он пошел на вой, оскользаясь и падая в грязь, ползком продираясь сквозь колючие кусты и спутанные ветви буйного подлеска, наталкиваясь на невидимые стволы, прикрывая лицо рукой, обливаясь потом, а неумолчный собачий вой все надвигался и вдруг смолк на полуноте. На миг ему показалось, что он видит горящие собачьи глаза, хотя у него не было фонаря, свет которого они могли бы отразить, и вдруг, сам не зная, что делает, он бросился туда, где ему померещились эти глаза. Он больно ударился плечом о первое же дерево, отлетел в сторону, но удержался на ногах, вытянув руки и все еще по инерции двигаясь вперед. Он почувствовал, что падает. «Если впереди дерево, мне крышка», – мелькнула у него мысль. И вдруг он коснулся рукой пса. Он почувствовал на себе его дыхание и услышал лязг зубов, когда пес прыгнул на него и тут же отскочил, а он остался на четвереньках в грязи, пока не смолк вдали треск веток под невидимыми лапами.
Он стоял на коленях у самого откоса. Нужно было только встать и, пригнувшись, все еще прикрывая рукой лицо, спуститься вниз, в глубокую, по щиколотку, хлюпкую, недоступную солнечным лучам жижу, полную гниющих растений, и сделать еще шаг или два, чтобы добраться до кучи веток. Он сунул свернутую веревку за пазуху, нагнулся и начал разгребать гнилые осклизлые сучья. Что-то закопошилось среди веток, испустив сдавленный, по-детски жалобный крик; зверек, обезумев от страха, уцепился за его ногу, когда он пнул его, успокаивая себя: ведь это только опоссум. Опоссум, и все. И он снова нагнулся над ворохом смрадных, мокрых веток, расшвыривая их, пока не добрался до трупа. Потом он вытер испачканные грязью и илом руки о рубашку и комбинезон, подхватил труп под мышки и стал пятиться, волоча его за собой понизу. Это был не овраг, а старая лесосека, поросшая молодыми деревьями и теперь почти невидимая, фута на два ниже уровня земли. Так он прошел добрую милю, волоча за собой тело, которое было тяжелее его фунтов на пятьдесят, и лишь изредка останавливаясь, чтобы вытереть потные руки о рубашку и убедиться, что он идет правильно, если был виден хоть клочок неба и кроны знакомых деревьев.
Потом он свернул в сторону, вытащил труп наверх и, по-прежнему пятясь, прошел еще сотню шагов. Видимо, он точно знал, где находится, потому что ни разу даже не обернулся, а потом наконец выпустил труп, выпрямился и нащупал то, что искал, – остов некогда могучего дуба, без верхушки, высотой футов в десять, – таким сделала его молния, или время, или тлен. Два года назад он проследил, как туда залетела дикая пчела; слега, которую он тогда вырубил и приставил к стволу, чтобы добраться до меда, была на месте. Он вынул из-за пазухи веревку, обвязал одним концом труп, разулся и, держа другой конец в зубах, взобрался на ствол, сел на закраину и, перехватывая веревку, подтянул кверху труп, чуть не вдвое больше его, и тело билось и скребло о кору, пока не легло на край ствола, словно полупустой мешок. Узел на веревке затянулся намертво. Потеряв терпение, он вынул нож, перерезал веревку и сбросил труп в дупло. Но труп тут же застрял, и только теперь, когда было уже слишком поздно, он сообразил, что следовало перевернуть его вниз головой. Он попытался втиснуть его, нажимая на плечи, но труп не просто застрял, его заклинила вывернутая рука. Тогда он привязал конец веревки к обломку сука, который был у него под ногой, обмотал ее вокруг запястья, встал на плечи трупа и начал прыгать на нем, и труп неожиданно провалился, а он повис на веревке. Он стал карабкаться вверх, перехватывая веревку руками, соскребая костяшками пальцев трухлявую древесину, и мелкая, едкая, сухая пыль набилась ему в ноздри, словно табак. Потом он услышал, как сук треснул, веревка соскочила, и он отчаянно рванулся вверх, теряя опору, и одной рукой, самыми кончиками пальцев, ухватился за верхнюю закраину ствола. Но когда он повис на ней всей тяжестью, гнилое дерево не выдержало, он уцепился за закраину второй рукой, но и под ней дерево крошилось, и он карабкался яростно, бесконечно долго и тщетно, ловя ртом воздух и устремив горящие глаза в далекое сентябрьское небо, где стрелки на звездных часах давно уже переползли за полночь, пока наконец дерево не перестало крошиться, и он повис на руках, тяжело дыша, а потом ему наконец удалось подтянуться и сесть верхом на край. Отдышавшись, он слез на землю, взвалил слегу, прислоненную к стволу, на плечо и оттащил ее шагов на двадцать от полянки, а потом вернулся назад и обулся. Когда он добрался до дому, уже занималась заря. Он стянул с себя облепленные грязью башмаки и лег на соломенный тюфяк. И тогда, словно она только и ждала, чтобы он лег, собака снова завыла. Ему показалось, что он даже слышал, как она набрала воздуху, прежде чем ее вой в первый раз донесся из балки, где еще царила ночь, тишь, размеренная, гулкая, нескончаемая.
Дни его теперь превратились в ночи. Он выходил из балки, когда загоралась утренняя звезда или даже всходило солнце, и шел к дому через свою запущенную, чахлую кукурузу. Теперь он уже не мыл башмаки. Он и снимал-то их не всегда, и не разводил огня в печи, ел стоя прямо из горшка холодные бобы, покуда не съел все до крошки, и пил холодный, выдохшийся кофе, покуда не выпил все до капли, а потом, когда не стало ни того ни другого, съедал пригоршню муки из почти пустого бочонка. День-другой он страдал от голода, потому что такая жизнь с непривычки была тяжелее самой каторжной работы, да и покоя он не знал ни на минуту. Но постепенно он привык и тогда понял, что конец может быть только один, а значит – конца не будет, и голод больше не мучил его. Он просыпался, вставал и говорил себе: «Надо поесть» – и ел сухую муку (скоро в бочонке ничего не осталось, кроме жесткой корки на стенках, ее приходилось соскабливать ножом), которая не лезла в глотку и, очевидно, была ему даже не нужна, словно тело его питал твердый, неукротимый дух, заменяя организму запасы жира. Потом он ложился на соломенный тюфяк прямо в комбинезоне и башмаках, заляпанных свежей, еще даже не начавшей подсыхать грязью, не переставая жевать, и небритая щетина топорщилась вокруг его рта, набитого мучным крошевом, словно, ложась, он не забывался, а лишь ненадолго нырял в слепое и немое безмолвие, чтобы освежиться и обновить силы, как порой человек окунается в ванну, и просыпался на исходе дня, будто по звонку будильника, всегда в одно и то же время, словно и не ложился, потому что лишь тело, но не дух было обременено усталостью и нуждалось в отдыхе. Потом он растапливал плиту, хотя варить ему было нечего, кроме поскребышей в бочонке из-под муки. Ему хотелось не есть, а выпить горячего, но кофе тоже весь вышел. Он наливал в горшок воду, кипятил ее и пил кипяток, подслащенный сахаром, а потом садился на крыльце в плетеное кресло и смотрел, как ночная тьма выползает со дна балки, гонит, теснит солнце, поднимается все выше и выше по холму, засеянному кукурузой, в сумерки такой же желтой и чахлой, как среди бела дня, и наконец окутывает дом. А потом пес начинал выть, и он сидел еще минут десять или пятнадцать, как пассажир с сезонным билетом спокойно сидит на своей всегдашней скамье и читает газету, когда паровоз уже дал свисток, подходя к станции.
На второй день, когда он проснулся, на крыльце сидел мальчик – круглоголовый, голубоглазый, сынишка его родича, работавшего в Варнеровой кузнице, – который, заслышав в коридоре его шаги, встрепенулся, а когда он вышел на порог, уже соскочил на землю, отбежал на несколько шагов от крыльца и оглянулся.
– Дядя Лэмп велел, чтоб вы пришли в лавку, – сказал мальчик. – Говорит, есть важное дело.
Он не ответил. Он стоял на крыльце в башмаках и комбинезоне, заляпанном вчерашней грязью, и крошки от съеденной утром муки – так спокоен был его сон – не осыпались со щетины вокруг рта, а мальчик пошел прочь, потом припустился бегом, оглянулся, застыв на миг у опушки леса, побежал дальше и исчез из виду. А он даже не шелохнулся, и лицо его не дрогнуло. «Если он хочет дать мне денег, мог бы просто прислать их», – подумалось ему. Но нет, какие там деньги. Дождешься от них, держи карман. А на третье утро он вдруг почувствовал, что кто-то стоит в дверях и смотрит на него. Даже из небытия, которое было не сном, а как бы пустошью, где его воля, мозг бодрствовали, словно неукротимый, не знающий устали и голода конь, пока всадник – его тщедушное тело – обновляет силы, он почувствовал, что это пришел уже не мальчик, а на дворе еще утро, и он спит еще совсем недолго. «Они спрятались здесь и видели, как я вылез из балки», – подумал он вслух, стараясь говорить громче, чтобы стряхнуть сон, словно сам наклонился над кроватью и тряс себя за плечо: «Проснись! Проснись же» – и наконец очнулся и сразу понял, что уже поздно, ему даже незачем было смотреть на тень от оконной рамы на полу, чтобы убедиться, что теперь все тот же обычный предвечерний час. Он развел огонь в плите, поставил на нее горшок, наскоблил из бочонка пригоршню мучных крошек со щепками и съел их, выплевывая и смахивая щепки с губ рукой. При этом он заметил, что крошки застревают у него в бороде, и съел их тоже, утирая пальцами углы жующего рта. Потом он выпил кружку подслащенного кипятка и вышел на двор. Как он и ожидал, здесь были следы. Он сразу узнал следы шерифа – большие, глубокие, уверенные, отпечатавшиеся даже на спекшейся от зноя земле, – следы этой туши в двести сорок фунтов веса, носившей металлическую бляху чуть поменьше игральной карты, на которую он поставил не только свою свободу, но, быть может, и свою жизнь, и рядом – следы его помощников. Он видел отпечатки рук и коленей там, где один из них ползал на четвереньках, обыскивая подпол, пока он спал наверху, и в конюшне, у стены, он нашел свою собственную лопату, которой они разгребли кучу лошадиного навоза, накопившегося за год, чтобы осмотреть земляной пол под нею, а за домом, под деревьями, отыскал то место, где стояла пролетка. Но лицо его по-прежнему было бесстрастно – ни тревоги, ни смятения, ни страха, ни даже презрения или торжества, а лишь холодное и непреклонное, почти миролюбивое упорство.
Он вернулся в дом и взял ружье, стоявшее в углу. Оно было почти сплошь покрыто тонким табачным налетом ржавчины, словно в ту первую ночь, когда он так заботливо его тер, он перестарался, и вода с ружья, впитавшись в рубашку, потом снова перешла на двустволку. Она не переломилась легко и сразу, а медленно, с трудом поддаваясь нажиму, приоткрылась, обнаружив толстый шоколадный слой похожего на мыло застывшего сала, так что ему пришлось разобрать ее, вскипятить воду в горшке для кофе, смыть кипятком сало и разложить разобранные части на заднем крыльце, где они сохли до самого заката. Потом он снова собрал ружье, зарядил его двумя из трех оставшихся патронов, прислонил к стене около стула и снова стал смотреть, как ночная тьма выползает из балки, крадется вверх по холму, застилая его жалкое поле, и постепенно окутывает дом, поднимаясь все выше, словно две раскрытые, воздетые к небу ладони наконец выпускают на волю птицу вечера, и она летит на запад. Внизу, за полем, мерцали светлячки, ползая по черной груди темноты; а дальше, в глубине ее, надрывались лягушки, словно мерно стучал пульс и билось черное сердце ночи, а когда наконец настал неизбежный миг – такой же неизбежный из вечера в вечер, как и то мгновение на исходе дня, когда он просыпался, – биение этого сердца тоже как будто затихло, и в мертвой тишине раздался тоскливый, горестный вой. Он протянул руку и взял ружье, стоявшее у него за спиной.
Теперь он сразу пошел прямо на вой. Спустившись с холма, он остановился, чтобы определить, с какой стороны ветер. Но ветра не было, и он пошел напрямик, в ту сторону, откуда доносился вой, не торопясь, чтобы не шуметь, но и не мешкая, чтобы поскорей покончить с этим, вернуться домой и лечь до полуночи, задолго до полуночи, и осторожно, шаг за шагом, идя на вой, он твердил про себя: «Теперь-то я наконец высплюсь». Вой слышался уже совсем близко. Он вскинул ружье, положив палец на оба спуска. Но тут вой оборвался, опять на полуноте, в темноте вспыхнули две желтые точки глаз, и стволы ружья тотчас прикрыли их. При вспышке выстрела он отчетливо увидел огромного пса, всего целиком, в прыжке. Видел, как дробь хлестнула по нему, отшвырнула его назад, в шумный водоворот нахлынувшей тьмы. Почти физическим усилием он удержал палец, готовый нажать на второй спуск, и, все еще с ружьем наперевес, припал к земле, затаив дыхание, вглядываясь в слепую тьму, и наконец беспредельная тишина, которая была нарушена три ночи назад, когда он впервые услышал вой этого пса, и не возвращалась, не наступала ни на минуту, даже во сне, оглушила его и, все такая же оглушительная, начала сгущаться, твердеть, как цемент, не только в его ушах, но и в легких, в горле, снаружи и внутри его, застывая между деревьями в чаще, где рассыпалось осколками эхо выстрела, отдалось приглушенным ропотом и замерло, увязло в этой стынущей массе, еще не успев умолкнуть. Он видел, где упала собака, и с заряженным ружьем наперевес пошел к этому месту, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые, оскаленные зубы и нащупывая дорогу. Вдруг он понял, что уже прошел нужное место и все еще идет дальше. Он почувствовал, что вот сейчас побежит, что уже бежит опрометью, вслепую, в непроглядной тьме, и он говорил, шипел себе: «Стой! Стой, болван! Голову размозжишь!» Он остановился, с трудом переводя дух. Определив, где он, по просвету в листве, сквозь который было видно небо, он все-таки заставил себя остановиться, пока не отдышится. Потом разрядил ружье и пошел дальше, уже шагом. Дорогу ему теперь указывало надрывное кваканье лягушек, оно глохло, затихало, а потом возобновлялось, все громче, громче, и каждый голос звучал не на одной ноте, а покрывал целую октаву, звучал почти как аккорд, – басистые, они заливались все громче, все ближе, потом вдруг смолкли, застыли на миг в напряженной тишине, которую тут же нарушили негромкие, беспорядочные всплески, словно множество ладоней зашлепали по воде, и, когда он вышел на берег, вода уже дробилась на тонкие, сверкающие полоски, меж которыми скользили отражения звезд, исчезая и появляясь вновь. Он швырнул ружье в воду. Оно мелькнуло у него перед глазами, медленно переворачиваясь в воздухе. Потом раздался всплеск, и оно не утонуло, а как бы растворилось в звонкой сутолоке звездных осколков.
Домой он вернулся еще до полуночи. На этот раз он не только разулся, но скинул и комбинезон, который не снимал трое суток, и лег на кровать. Но тут же понял, что не заснет, не из-за того, что за эти трое суток день превратился для него в ночь, не из-за напряженных, измученных нервов и мускулов, с которыми никак не совладать, а из-за этой тишины, разбитой первым выстрелом и возрожденной вторым. И вот он снова лежит навзничь, неподвижный и спокойный, вытянув руки вдоль туловища, с открытыми глазами, а его голова и легкие полны оглушительной тишиной, в которой мягко мерцают бархатные светлячки, а в глубине мерно квакают неугомонные лягушки, и вот уже небо в покосившемся прямоугольнике двери и в конце сквозного коридора сперва сереет, потом начинает желтеть, и вот уже видны три парящих коршуна. «Надо встать, – сказал он себе. – Сегодня весь день не прилягу, чтоб ночью заснуть». И он стал твердить себе: «Проснись! Проснись же» – пока в самом деле не проснулся наконец, а золотой квадрат, падавший из окна, в которое заглядывало солнце, виднелся на полу, как и каждый вечер. На стеганом одеяле, в каком-нибудь дюйме от его лица, лежал сложенный клочок оберточной бумаги, а когда он встал, то на пыльном полу, у двери увидел след босой мальчишечьей ноги. На клочке, оторванном от бумажного пакета, было нацарапано без подписи: «Приходи сюда, у твоей жены есть для тебя деньги». Он стоял, небритый, без комбинезона, и, моргая, глядел на записку. «Теперь можно пойти туда», – подумал он, и что-то шевельнулось в его сердце. Он поднял голову и, мучительно моргая, впервые за три дня сквозь стены своего пустого дома – этого тупика, в который зашла его жизнь, – взглянул в бездонность солнечного неба.
– Теперь можно… – сказал он вслух. А потом он снова увидел коршунов. На заре их было три. Теперь он тоже мог бы их сосчитать, но не стал. Он просто следил за их спиральным полетом, они словно спускались по невидимой трубе, один за другим исчезая за деревьями. Он снова заговорил вслух. – Наверно, над псом кружат, – сказал он, зная, что вовсе не над псом. Но это не имело значения. «Все равно меня здесь уже не будет», – подумал он. Нет, у него не отлегло от сердца; он теперь только понял, какой на нем лежит камень.
День уже клонился к вечеру, когда он, побрившись и отмыв башмаки и комбинезон, поднялся на пустую галерею и вошел в лавку. Его двоюродный брат стоял возле открытого ящика и что-то положил в рот.
– Где… – начал он.
Двоюродный брат жевал, закрывая ящик.
– Я посылал за тобой еще два дня назад, болван, чтоб ты убрался подобру-поздорову, прежде чем этот толстобрюхий Хэмптон начнет рыскать всюду со своими легавыми. Один негр шлялся около того болота и достал твое сволочное ружье, оно и ко дну пойти не успело.
– Оно не мое, – сказал он. – У меня нет ружья. Где…
– Да ведь все знают, что оно твое, сто чертей твоей матери. Такого старья системы Хэдли десятого калибра со скошенными курками во всей округе ни у кого больше нет. Я и отпираться не стал, этот подлюга Хэмптон здесь сидел на скамье, когда негр приволок ружье. Я и говорю: «Конечно же, это ружье Минка. Он его с самой осени ищет». А потом напустился на негра. «Ты что ж это, черная обезьяна, – говорю, – еще по осени выпросил у мистера Сноупса ружье, чтобы настрелять белок, а потом утопил его в болоте и врал, что достать не можешь!» На, держи.
Он нырнул под прилавок, достал ружье и положил его перед Минком. Оно было тщательно обтерто, только на прикладе осталось пятно засохшей грязи.
Минк даже не взглянул на ружье.
– Оно не мое, – сказал он. – А где…
– Не бойся, теперь все в порядке. Я вовремя уладил это дело. Хэмптон думал, что я буду отпираться, скажу, что ружье не твое. Тогда ты был бы у него в руках. Но я это дело уладил. Хэмптон и рта не успел раскрыть, как я все свалил на негра. Пожалуй, нынче или завтра вечером схожу к нему с несколькими ребятами да исполосую ему спину вожжами или пятки поджарю. И даже ежели он ни в чем не сознается, люди услышат, что к нему приходили ночью, а Хэмптон потеряет здесь слишком много голосов, ежели станет сидеть сложа руки, так что хочешь не хочешь, пускай он даже не рискнет повесить этого негра, он по крайности должен будет упечь его в тюрьму, и сам Хэмптон это прекрасно знает. Так что все в порядке. А еще я посылал к тебе из-за твоей жены.
– Да, – сказал он. – Где…
– Она доведет тебя до беды. Уже довела. Не зря этот подлюга шериф, который спит и видит, как бы набрать побольше голосов на выборах, торчит здесь и все принюхивается. Негр Хьюстона нашел его лошадь, а сам Хьюстон вместе со своим псом как сквозь землю провалился, но это бы еще полбеды, да только люди припомнили, как в эту самую ночь она пришла сюда с обоими детьми и с узелком, а губа расквашена, и даже кровь еще не подсохла, так что тут уже все поневоле узнали, что ты выгнал ее из дому. Но и это бы еще ничего, не вздумай она уверять встречного и поперечного, что ты не виноват. Ни тела, ни следов крови пока не нашли – только лошадь с пустым седлом, а она знай старается тебя выгородить, всем говорит, что ты не виноват, а в чем – никто еще толком и не знает, может, вообще ничего и не было. Какого дьявола ты не убрался отсюда? Неужели у тебя не хватило ума уехать в тот же день?
– А на какие деньги? – сказал он.
Разговаривая с ним, двоюродный брат быстро моргал. Теперь его маленькие глазки перестали моргать.
– На какие деньги? – переспросил он.
Минк не отвечал. Он стоял не шевелясь с тех самых пор, как вошел, маленький, неподвижный, стоял посреди лавки, против двери, в которую заглядывало угасающее солнце, пятная его всего, с головы до ног, словно кровью, розовыми брызгами.
– Хочешь сказать, что у тебя денег нет? Хочешь соврать мне прямо в глаза, будто у него в карманах было пусто? Так я тебе и поверил! Не на таковского напал. В то самое утро он у меня на глазах открывал бумажник. Ей-богу, у него было всегда при себе не меньше полусотни…
Голос его оборвался, замер. Потом он спросил шепотом, полным недоверчивого удивления:
– Так, значит, ты даже не поглядел? Даже не поглядел?
Минк не отвечал. Быть может, он даже не слышал вопроса, не двигаясь, глядя в пустоту, а последние медно-красные блики света, как прилив, поднимаясь по его телу, на мгновение обагрили яркой вспышкой бесстрастную, застывшую, упрямую маску его лица и угасли, и серый сумрак пополз по рядам полок, по темным углам, а у него над головой, под потолком, словно туман забвения, сгустились, собрались застарелые, неистребимые запахи сыра, кожи и керосина. Казалось, голос его двоюродного брата доносился из этого тумана, ниоткуда, из ничего, не облаченный даже легкой плотью дыхания.
– Куда ты его девал? – Двоюродный брат, выйдя из-за прилавка, уже стоит перед ним почти вплотную и горячо, едва сдерживаясь, дышит ему прямо в лицо. – Ей-богу, у него было никак не меньше полусотни долларов. Я знаю. Своими глазами видел. Вот здесь, в лавке. Скажи, куда ты его…
– Нет, – сказал он.
– Скажи.
– Нет.
Лица их были в каком-нибудь футе одно от другого, оба дышали часто и громко. А потом то, другое лицо, которое было шире и выше, чем его, отодвинулось и расплылось в сумерках.
– Ну ладно, – сказал двоюродный брат. – Раз деньги тебе не нужны, тем лучше. Потому как ежели ты у меня разжиться думал, то ждать тебе придется долгонько. Сам знаешь, сколько Билл Варнер платит своим приказчикам. Вот и считай, много ли тот, кто работает на Варнера, может нажить даже за десять лет, не то что за два месяца. Выходит, тебе не нужны и те десять долларов, что припасены у твоей жены. Чего уж лучше.
– Да, – сказал он. – Где…
– Она у Билла Варнера.
Он круто повернулся и пошел к двери. Двоюродный брат сказал ему вдогонку из темноты:
– Скажи ей, пусть попросит у Билла или Джоди еще десятку вдобавок к тому, что уже получила.
Хотя еще не совсем стемнело, у Варнера в окнах горел свет. Это было видно даже издалека, и он, словно сторонний наблюдатель, глядел, как постепенно сокращается расстояние между ним и светом в окнах. «А там – конец, – подумал он. – Все эти дни и ночи, которые, казалось, будут тянуться вечно, теперь сошлись здесь, на этой пыльной дороге, между мною и освещенной дверью». И когда он подошел к воротам, взялся за них рукой, ему показалось, что все это время она ждала его, глядя на дорогу. Она выбежала на крыльцо, мелькнув в раме освещенной двери, как в ту ночь, когда он в первый раз увидел ее в лагере, – как он туда попал, по какой несчастной случайности, он не любил вспоминать даже теперь, девять лет спустя. Но и сейчас ощущение было все то же, оно ничуть не ослабло. И он не боялся этого воспоминания, не пытался от него избавиться и не жалел о том, что сделал, потому что ему не нужно было прощение, он не искал его. Он просто не хотел, чтобы ему насильно напоминали о беде, которая его постигла вслед за тем случаем, оскорбительным для тела и для души, когда ему недостало ни сил, ни решимости, но он не терзался бесполезным раскаянием и не огрызался, потому что он никогда не огрызался, а неизменно оставался холоден, упрям и своеволен. В детстве он кочевал из одной наемной лачуги в другую, сменил их более десятка, ветхих, кое-как сколоченных, так как отец его переезжал с фермы на ферму, понятия не имея, куда едет, потому что, прежде чем переехать, не подходил ни к одной из них ближе чем на пятнадцать, а то и двадцать миль. А потом, однажды ночью, ему пришлось покинуть лачугу, которую он звал своим домом, и ту единственную землю, тех единственных людей, которых он знал, не успев ни собрать свои пожитки, если они вообще у него были, ни даже сказать последнее прости, если у него вообще было с кем проститься, и за несколько недель пройти пешком больше двухсот миль. Он шел к морю; в то время он был еще молод, ему было всего двадцать три года. Моря он никогда не видел; он не знал даже наверняка, где оно, знал только, что на юге. Прежде он совсем не думал о море и сам теперь не понимал, что гонит его именно туда, почему он отрекается от земли, от суши, где у него недостало сил и ума сделать то, к чему вела его холодная, непреклонная воля, чего он хочет от этой соленой безбрежности, от этой беспредельности забвения, – забвения, которого он не искал и никогда не найдет, словно нарочно не желая обрывать нити памяти, он наказывал тело и ум, которые ему изменили. Быть может, ему нужен был лишь этот посул, это обещание беспредельного простора и неисцелимого забвения, перед которым презренная суета всего земного трепетала и робко отступала, не для того, чтобы воспользоваться им, а чтобы исчезнуть в многоликой безымянности, в той недоступной гавани, где находят приют все затонувшие золотые ладьи и обитают неуловимые, бессмертные сирены. А потом, когда он был почти у цели и уже больше суток не ел, он вдруг увидел свет, пошел на огонек, услышал громкие голоса и увидел ее в открытой двери, словно в раме, она стояла там неподвижная, прямая, безучастная, а громкие, хриплые голоса мужчин, казалось, плыли к ней, как волны фимиама. И дальше он не пошел. На другое утро он уже работал там дровосеком, не зная даже, на кого работает, и лишь равнодушно осведомившись у надсмотрщика, который его нанял и при этом без церемоний сказал, что он слишком хил и тщедушен, чтобы справиться с поперечной пилой, сколько ему будут платить. Раньше он никогда не видел полосатой арестантской одежды, а потому не сразу, лишь через несколько дней, сообразил, где он, – целый массив девственного леса сводил здесь какой-то крикливый человек лет под пятьдесят, ростом не выше его самого, с жесткими, как проволока, короткими седеющими волосами и толстым брюшком, который с помощью всяких интриг или взяток или каким-то иным путем откупил у правительства штата право использовать труд арестантов, обязавшись кормить и содержать их; он был вдовец, жена его умерла много лет назад, рожая их первенца, и он открыто жил с красавицей квартеронкой, у которой чуть ли не все зубы были золотые, она распоряжалась на кухне, где тоже работали арестанты, и занимала вместе с вдовцом отдельный дом, выстроенный среди дощатых, крытых брезентом бараков. Женщина, стоявшая в освещенной двери, была его дочка. Она жила в одном доме с отцом и квартеронкой, в пристройке с отдельным входом, и волосы у нее тогда были черные, как вороново крыло, великолепные, пышные, и каждый из надзирателей, охранников, арестантов и он сам, когда подошла его очередь, – к тому времени он прекрасно понял, для чего ей нужен отдельный вход, – помогал ей подрезать их бритвой почти по-мужски коротко. Волосы торчали густые и жесткие, он видел это и в тот первый вечер, при свете лампы, и назавтра, в солнечный день, когда он, занеся топор, вдруг обернулся и увидел ее на огромном, стройном, холеном коне, в комбинезоне, и глядела она на него не с затаенным бесстыдством, а пристально и нагло, как наглый, привыкший добиваться своего мужчина. Да, вот что он увидел – привычку добиваться своего, полное слияние воли с чувством, непреоборимую целеустремленность, что придавало ей облик не женский, а мужской, как и ее одежда, высокий рост, короткие волосы; перед ним была не одержимая страстями женщина, но властный повелитель гарема. Она не заговорила с ним в тот раз. Она ускакала прочь, и он понял, что отдельным входом пользуются не только ночью. Иногда она подъезжала на своем коне, останавливалась, что-то коротко бросала надзирателю и скакала дальше. А иногда на лошади приезжала квартеронка, называла какое-нибудь имя и поворачивала назад, а десятник громко выкликал это имя, и вызванный бросал топор или пилу и шел следом за лошадью. А он, не переставая работать топором и даже не разгибая спины, словно бы провожал этого человека взглядом, видел, как он входит в боковую дверь, а потом выходит оттуда и снова берется за работу, и так все они без различия, разбойник с большой дороги, убийца, вор – среди них не было ни соперничества, ни ревности. Как видно, это был лишь его удел. Но еще до того, как подошла его очередь, он обуздал ревность и безропотно покорился своей судьбе. Он был воспитан в традиционной вере, что каждому мужчине, каково бы ни было его прошлое, как бы низко он ни пал, уготована по крайней мере одна непорочная невеста, одна девушка, которую он сам лишит невинности. А здесь он видел, что ему нужно бороться лишь за то, чтобы на него обратили внимание, бороться с людьми, среди которых он чувствовал себя не только ребенком, но ребенком другой расы и породы, и, когда наконец он предстанет перед ней, ему придется сбросить с нее не только одежду, но и незримые объятия тридцати или сорока мужчин; и не только в этот единственный раз, но и впредь (он уже тогда предвидел свою судьбу), без конца, всегда; никакая комната, никакая тьма, даже никакая пустыня не могла вместить их обоих и жеребячье ржание этих вездесущих теней. Наконец настала и его очередь, его вызвали, как он и ожидал. Он повиновался, зная все наперед, но без сожаления. Он очутился не на жарком, никогда не остывающем ложе бесплодной распутницы, а в простом и жутком логове львицы – ее плоть не поддавалась, не просила пощады, и он навеки стал однолюбом, подобно тому как человек, однажды отведавший опиума или крови, становится наркоманом или убийцей. Это было днем. Горячее июльское солнце лилось сквозь окна без ставен, даже без занавесок, открытые всем взглядам, на грубую, сколоченную из неоструганных шестидюймовых досок кровать со стальной проволочной сеткой, и эта огромная кровать, словно легкая, неустойчивая качалка, короткими, непрерывными скачками ездила по полу. А через пять месяцев они поженились. Это не входило в их намерения. С тех пор он никогда не упускал случая уверить всех и даже себя самого, что она и не думала, не собиралась идти за него замуж. Ее вынудило к этому разорение ее отца, – даже он понимал, что дело обречено на крах, который приближало каждое сваленное дерево. Позже ему казалось, что, сойдясь в тот день, они как бы подали сигнал, по которому вся эта чудовищная громада из незаконно присвоенной земли, охраняемых стражниками бараков, надрывающихся людей и мулов, воздвигнутая в одну ночь из пустоты, рухнула тоже в одну ночь, снова превратилась в пустоту, в мертвый хлам – груды опилок, почерневшие сучья, пни, разоренный и разграбленный лес. Он почти целиком сохранил деньги, заработанные за пять месяцев. Они дошли пешком до ближайшего городка и зарегистрировались; мировой судья вынул изо рта мокрую табачную жвачку, зажал ее в кулаке, позвал с улицы двоих прохожих, и они стали мужем и женой. Они поехали к нему на родину, где он взял в аренду часть маленькой фермы. У них была старая печь, соломенный тюфяк, брошенный прямо на пол, бритва, которой он по-прежнему подрезал ей волосы, и еще кое-какой скарб. В то время им больше ничего и не нужно было. Она сказала ему:
– Я знала сотню мужчин, но никогда еще не жила с осой. Из тебя яд идет. От него во мне все горит. Он во мне и детей выжигает. Я от тебя никогда не рожу.
Но через три года ребенок родился. А через пять лет у них было уже двое; он смотрел, как они идут по его жалкому полю или покосу, неся ему вместо обеда кувшин холодной воды, или играют деревянными чурками, или ржавыми пряжками от сбруи, или сломанными плужными болтами, которые даже ему уже не могли пригодиться, в пыли у крыльца наемной лачуги, на котором он сидел, потный, остывая после работы, и в нем снова вспыхивала прежняя, жгучая, неодолимая злоба, такая же мгновенная, лютая и свирепая, как в первый раз, и он думал: «Не дай Бог, ежели они не мои». А потом, успокоившись немного, лежа на соломенном тюфяке, когда она уже крепко спала, а его измученное тело все еще дрожало и корчилось, он думал, что даже если они не его, какая разница. Зато они и ее связывали еще сильнее, чем был связан он сам, и она покорилась своей судьбе и в знак своей покорности даже отрастила длинные волосы и стала их красить.
Теперь она бежала по дорожке ему навстречу, бежала тяжело, но быстро. Она была у ворот, прежде чем он успел их отворить, выбежала, чуть не сбив его с ног, и ухватила его за комбинезон.
– Нельзя! – крикнула она, но голос ее был не громче шепота. – Нельзя! Да как ты можешь? Тебе нельзя сюда!
– Куда захочу, туда и пойду, – сказал он. – Лэмп говорит…
Он хотел высвободиться, но она уже сама выпустила его комбинезон и, схватив его за руку, торопливо, почти силой потащила вдоль загородки, подальше от света. Он снова стал вырываться, упираясь.
– Постой, – сказал он.
– Дурак! – сказала она хриплым, сдавленным шепотом. – Дурак! Дьявол окаянный, нет на тебя погибели. – Он сопротивлялся с холодной, сосредоточенной злобой, которая переполняла его, но, видно, еще не пришло ей время излиться наружу. Вдруг он пнул ее ногой, пока еще не желая причинить ей боль, а лишь для того, чтобы освободиться. Но она держала его обеими руками, повернув лицом к себе. – Почему ты не уехал в ту же ночь? Господи, я-то думала, ты выйдешь из дому следом за мной! – Вне себя она трясла его, словно ребенка, почти без всякого усилия. – Почему? Почему, скажи, ради всех святых!
– А на какие деньги? – сказал он. – И куда? Лэмп говорит…
– Да, я знаю, у тебя не было денег, да и жрать тоже нечего было, кроме этого мусора в мучном бочонке. Но ты мог спрятаться! Схоронился бы где-нибудь в лесу, а я бы покуда… Погибели на тебя нет, на дьявола. Да будь моя воля, я бы тебя своими руками удавила! – Она трясла его, почти прижавшись лицом к его лицу, и он чувствовал ее тяжелое, горячее, прерывистое дыхание. – Нет, не за то, что ты его убил, а за то, что сделал это, когда у тебя денег ни гроша, и уехать не на что, и жрать дома нечего. Будь моя воля, я бы тебя удавила, а потом вынула из петли да снова удавила, и снова…
Он опять пнул ее, на этот раз сильно и яростно. Но она уже отпустила его и стояла на одной ноге, а другую поджала, чтобы удобней было дотянуться. Она достала что-то из башмака и сунула ему. Он сразу понял, что это деньги, бумажка, сложенная в несколько раз, маленькая, квадратная, еще сохранявшая тепло ее тела. Всего одна бумажка. «Это доллар», – подумал он, зная, что это не доллар. «Это А. О. и Эк», – сказал он себе, зная, что это не они и что лишь у одного человека во всей округе – ну, самое большее у двоих – может оказаться десять долларов в одной бумажке; только теперь до него дошло то, что сказал ему двоюродный брат, когда он выходил из лавки четверть часа назад. Он даже не поглядел, что у него в руке.
– Ты продала Биллу что-нибудь или просто вытащила деньги у него из штанов, когда он заснул? А может, у Джоди?
– А хоть бы и так! Я и еще могу кое-что продать нынче ночью, получить еще десятку! Только ради Бога не ходи домой. Спрячься в лесу. А завтра утром… – Он не двигался; только рука его быстро разжалась, но в ней была не монета, которая звякнула бы, падая в пропыленную придорожную траву, облепленную клочьями грязного хлопка. Наконец он зашагал прочь, и она побежала следом. – Минк! – сказала она. А он все шел, не прибавляя шагу, и она бежала рядом с ним. – Ради Бога, – сказала она. – Ради Бога…
Потом, схватив его за плечо, она силой повернула его к себе. Тогда он пинком отшвырнул ее, отскочил на обочину, нагнулся, нашарил в траве палку и, занеся палку, пошел прямо на нее, все так же терпеливо, устало и неумолимо, пока она не повернула назад. Он опустил палку, но не двигался с места до тех пор, пока тень ее не слилась с бледной дорожной пылью. Потом он швырнул палку в траву и обернулся. У него за спиной стоял двоюродный брат. Будь Лэмп поменьше или он, Минк, покрупнее, он бы просто прошел по нему, втоптал его в землю. Лэмп посторонился и зашагал рядом, хрипло дыша ему в самое ухо.
– Значит, ты и эти денежки бросил, – сказал Лэмп. Минк не ответил. Они шли рядом в глубокой, по щиколотку, пыли, заглушавшей их шаги. – У него было не меньше полусотни долларов. Говорю тебе, я сам видел. И ты хочешь убедить меня, что не брал их. – Он снова ничего не ответил. Они все шли, не спеша, словно гуляя. – Ну ладно. Я сделаю то, чего на моем месте не сделал бы никто на свете; я, так и быть, поверю, что ты этих денег не брал и даже не видел. Куда ты его девал? – Он не отвечал и даже не остановился. Двоюродный брат удержал его за плечо; теперь в его тяжелом, надрывном дыхании, в хриплом шепоте сквозило не только удивление, но и холодное, бессильное бешенство, как у человека, у которого лопается терпение, когда он бьется, втолковывая что-нибудь идиоту. – Ты что ж, хочешь, чтоб эти полсотни лежали там до тех пор, покуда Хэмптон и его легавые не поделят их промеж собой?
Минк стряхнул его руку со своего плеча.
– Отвяжись.
– Ну ладно. Давай сделаем так. Я сейчас же выкладываю тебе двадцать пять долларов. А потом мы пойдем вместе, и ты отдаешь мне бумажник, не заглядывая в него. Или отдаешь его штаны, если не хочешь рыться в карманах. Тебе даже дотронуться до этих денег не придется, ты их и не увидишь. – Он повернулся, чтобы идти дальше. – Ну ладно. Ежели тебя с души воротит, сам не можешь, так скажи мне, где он. А я, когда вернусь, дам тебе десять долларов, хотя раз человек швыряется десятками… – Он все шел. Снова рука легла ему на плечо и заставила его повернуться; злобный, дрожащий голос исходил ниоткуда и отовсюду, из затаившейся, настороженной темноты. – Постой. Слушай меня. Слушай внимательно. А что, ежели я пойду к Хэмптону, он околачивался здесь весь день и сейчас где-нибудь неподалеку. Ежели я скажу ему, что теперь вспомнил, что ты не мог потерять ружье прошлой осенью, потому что на той неделе купил в лавке на никель пороху? Тогда тебе придется сознаться, что ты решил уплатить Хьюстону штраф за корову не деньгами, а порохом…
На этот раз он не стряхнул его руку с плеча. Он сразу пошел прямо на него, терпеливо, неумолимо и устало, но тому это было невдомек, и шел так, не останавливаясь, пока тот не отступил. И заговорил он тоже не громко, а как-то вяло, равнодушно.
– Прошу тебя, оставь меня в покое, – сказал он. – Не требую, а прошу. Тебе же хуже будет. Устал я. Оставь меня в покое.
Двоюродный брат, отступая, пятился все быстрее, и расстояние между ними стало возрастать. Минк остановился, а оно все росло, и наконец тот скрылся из виду, и до него доносился только шепот, угрожающий и злобный:
– Ну погоди у меня, гаденыш, душегуб проклятый! Посмотрим, как ты станешь выкручиваться…
Идя назад к балке, он неслышно ступал по пыльной дороге, и в темноте ему казалось, что он топчется на месте, хотя свет в кухонном окне у миссис Литтлджон рядом с темными контурами лавки – это было единственное освещенное окно во всем поселке – приближался. А чуть подальше дорога сворачивала к его дому, до него еще четыре мили. «Вот бы куда мне идти, прямо в Джефферсон, к железной дороге», – подумал он; и теперь, когда было уже поздно, когда уже нечего надеяться, что он сам сможет выбирать между хитро рассчитанным побегом и слепым, отчаянным, паническим бегством, когда ему предстояло блуждать по лесной чащобе и болотной топи, как блуждает отощавший, голодный зверь, отрезанный от своей берлоги, он вдруг понял, что все эти три дня не просто надеялся, но твердо верил, что у него будет возможность выбора. А теперь он не только потерял это преимущество, но по воле слепого случая, из-за того, что его двоюродный брат видел или догадался, что у Хьюстона в бумажнике, даже худший выход в эту ночь был для него закрыт. Ему стало казаться, что этот слабый, одинокий огонек не только не указывает путь к конечной цели, пускай даже к худшему, но там, около него, кончается надежда и с каждым шагом все сокращается срок его свободы. «Я-то думал, убьешь человека, и на этом точка, – сказал он себе. – Не тут-то было. Теперь только оно и началось».
В дом он не пошел, а сразу свернул к поленнице, взял топор и постоял немного, глядя на звезды. Был десятый час; он мог ждать до полуночи. Он обогнул дом и спустился на поле. На полпути он остановился, прислушиваясь, потом пошел дальше. Но в балку спускаться не стал; он спрятался за первое же толстое дерево; положил топор около ствола, чтобы потом сразу его найти, притих, затаился и услышал, как грузный человек, крадучись, пересек поле, ломая кукурузу, и все ближе раздавалось частое, натужное дыхание, потом бегущий поравнялся с ним, быстро перевел дух и остановился, увидев, что он вышел из-за дерева и пошел вверх, на холм.
Они шли через поле, футах в пяти друг от друга. Он слышал у себя за спиной неуклюжие, спотыкающиеся шаги, треск и шелест кукурузы и дыхание, яростное, клокочущее, сдавленное. Сам он шел неслышно, словно был бесплотен, даже чуткие сухие стебли ни разу не дрогнули.
– Послушай, – сказал его двоюродный брат. – Давай потолкуем как умные люди… – Они поднялись на холм, пересекли двор и вошли в дом, все так же в пяти футах друг от друга. Он пошел на кухню, засветил лампу и присел на корточки у плиты, чтобы развести огонь. Двоюродный брат стоял на пороге, тяжело дыша, и глядел, как он набросал в топку щепок, вздул огонь, взял с плиты горшок для кофе, налил в него воды из ведра и поставил горшок обратно. – Неужто у тебя и есть нечего? – спросил брат. Он не ответил. – Но ведь кормовая кукуруза для скотины найдется? Давай хоть ее поджарим. – Огонь в плите разгорелся. Он пощупал горшок, хотя вода и никак не могла нагреться так быстро. Брат глядел ему в затылок. – Слышишь, – сказал он. – Пойдем принесем.
Минк убрал руку с горшка. Он не оглянулся.
– Неси, – сказал он. – А я не голоден.
Брат сопел, стоя в дверях, глядя на его спокойное, потупленное лицо. Теперь его сопение походило на слабый скрежет.
– Ну ладно, – сказал он. – Схожу на конюшню, принесу.
Он шагнул за порог, тяжело затопал по коридору, вышел на заднее крыльцо, а едва ступив на землю, побежал. Он бежал сломя голову в слепой тьме, на цыпочках, обогнул дом и притаился, глядя из-за угла на переднее крыльцо, не дыша, потом подбежал к крыльцу и заглянул в коридор, тускло освещенный лампой из кухни, и на миг снова остановился, замер, глядя во все глаза. «Ах сукин сын, перехитрил меня, – подумал он. – Удрал черным ходом». – И он взбежал по ступеням, спотыкаясь и чуть не падая, прогрохотал по коридору к кухне и, когда добежал до кухонной двери, увидел, что Минк стоит у плиты, на том же месте, и снова щупает горшок. «Вот гаденыш, сукин сын, душегуб, – подумал он. – Просто не верится. Не верится, что человек может столько вытерпеть, даже за пятьсот долларов».
Но порог он переступил как ни в чем не бывало, словно и не уходил никуда, только дыхание участилось и стало еще более хриплым, скрежещущим. Он глядел, как Минк принес треснутую фарфоровую чашку, толстый стеклянный стакан, жестянку с сахаром на донышке и ложку; и заговорил он таким тоном, словно беседовал за чайным столом с супругой своего хозяина:
– Ну, кажется, наконец вскипел, а?
Но Минк не ответил. Он налил в чашку кипятку, положил сахару и стал помешивать воду, стоя у плиты, потом повернулся боком к двоюродному брату и, наклонив голову, начал прихлебывать из чашки. Подождав немного, брат подошел к плите, налил в стакан воды, положил сахару и отхлебнул с кислой миной, все его лицо – глаза, нос, даже рот – побежало от края стакана куда-то вверх, ко лбу, словно кожа была прикреплена к черепу только в одном месте, где-то на затылке.
– Послушай, – сказал он. – Давай взглянем на дело разумно. Эти полсотни лежат там, теперь они ничьи. Ты не можешь пойти и взять их без меня, потому что я тебя не пущу. А я не могу взять их без тебя, потому что не знаю, где они. И мы здесь зазря теряем время, а этот подлюга шериф со своими легавыми каждую минуту может их найти. Тут уж никак невозможно отступиться. Хочешь не хочешь, а надо их взять. Если б я мог, то, конечно, взял бы себе все, как и ты. Но ни ты, ни я этого не можем. Только зря торчим здесь и теряем…
Минк допил чашку и перевернул ее вверх дном.
– Который час? – спросил он.
Двоюродный брат достал из-за широкого потертого пояса дешевые часы на замусоленном кожаном ремешке, взглянул на них и сунул их обратно в кармашек.
– Двадцать восемь минут десятого. Нельзя же тянуть без конца. Мне в шесть утра лавку открывать. А ведь еще надо пять миль пешком идти, покуда доберусь до постели. Но это не важно. Ты об этом не думай, мало ли у кого какие заботы, а дело есть дело. Подумай о…
Минк поставил пустую чашку на плиту.
– Сыграем в шашки?
– …о себе. Ведь у тебя… Что-о?..
Он осекся. Он смотрел, как Минк пошел куда-то в темный угол и достал короткую широкую доску. С полки он снял какую-то жестянку и положил все на стол. Доска была расчерчена углем на кривые черные и белые квадратики; в жестянке оказалась горсть фарфоровых и стеклянных осколков двух цветов, – видимо, от разбитой тарелки и бутылки синего стекла. Он пододвинул доску к лампе и начал расставлять шашки. Двоюродный брат смотрел на него, не донеся стакан до рта. На миг у него перехватило дыхание. Потом он совладал с собой.
– Ну что ж, давай, – сказал он. Он поставил стакан на плиту и сел напротив Минка. Казалось, его дряблое, обрюзгшее тело, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух, сейчас накроет не только стул, но и весь стол. – Разыграем эти пятьдесят долларов по пяти центов партия, – сказал он. – Идет?
– Ходи, – сказал Минк.
И они начали играть – один неторопливо, холодно, рассчитывая каждый ход, другой – рискованно, с какой-то неловкой поспешностью. Было в его игре то любительское, почти детское отсутствие обдуманного плана и даже простой предусмотрительности, какое бывает у игрока, который в азартных играх полагается не на свой ум, а на ловкость рук, и даже в простой игре, в шашках, где подтасовать нечего, пытается мошенничать, и теперь он, не теряя веры в успех, так как жульничество давно стало для него чистейшим рефлексом и совладать с собой он, как видно, уже не мог, делал быстрые нелепые ходы и сразу отдергивал сжатый кулак и пристально, не мигая, глядел прямо в спокойное, изможденное лицо партнера, склоненное над столом, болтая без умолку о чем угодно, кроме денег и смерти, а кулак лежал на краю стола, все еще сжимая шашку или дамку, которую он стянул с доски. «Наказание с этими шашками, – думал он. – Ну что с них возьмешь». Через час он обставил Минка на тринадцать партий.
– Давай играть по двадцать пять центов, – сказал он.
– Который час? – спросил Минк. Двоюродный брат снова вытащил из кармашка часы, а потом сунул их обратно.
– Без четырех минут одиннадцать.
– Ходи, – сказал другой. Игра продолжалась.
Брат теперь молчал. Он вел счет огрызком карандаша на краю доски. И когда через полчаса он подвел итог, карандаш написал уже не число выигранных партий, а сумму, с десятыми долями и значком доллара в конце, и эта цифра вдруг словно подпрыгнула и оглушила его, так что он почти услышал удар; он вдруг оцепенел и даже дышать перестал, думая: «Сто чертей! Сто чертей! Понятно, почему он ни разу меня не поймал. Это он нарочно. Потому что, когда я отыграю у него всю его долю, ему незачем будет рисковать и идти за деньгами». Теперь ему пришлось переменить тактику. И впервые за все это время движение стрелок по циферблату часов, которые он теперь сам вынул и положил около доски, приобрело для него настоящий смысл. «Не может же это тянуться без конца, – подумал он, и его снова захлестнула бессильная злоба. – Не может. У него сил не хватит это выдержать, даже за все пятьдесят долларов». И он пошел на попятный. Казалось, он даже изменил своей натуре. Он делал нелепые, намеренно опрометчивые ходы; теперь он зажимал в кулаке собственную шашку или дамку. Но худая, цепкая рука ловила его кулак, и партнер холодным, ровным, бесстрастным голосом доказывал, что эта шашка никак не могла оказаться на том поле, где она теперь стоит, а иногда сам даже ударял по кулаку, лежавшему на столе, и кулак разжимался. Но его брат не оставлял своих попыток, все так же легкомысленно, в отчаянье цепляясь за соломинку, и попадался снова и снова, и еще через час его ходы стали даже не детскими, они походили на игру слабоумного или слепого. Он снова заговорил:
– Послушай. Там лежат эти пятьдесят долларов, они же ничьи, родных у него нет, некому их стребовать. Они лежат там, и кто их найдет…
– Ходи, – сказал Минк. Он двинул шашку. – Не так, – сказал тот. – Бери. – Он взял. Тот двинул еще одну шашку.
– А тебе нужны деньги, может, они тебя от петли спасут, а тебе их не взять, я ведь не отступлюсь. Разве я могу сейчас пойти домой, лечь спать, а утром встать и пойти в лавку, если ты не хочешь показать мне, где эти деньги…
– Ходи, – сказал тот. Брат двинул шашку. – Нет, – сказал тот. – Бери.
Он взял. И увидел, как худые волосатые пальцы, державшие осколок синего стекла, взяв пять шашек подряд, очистили доску.
– Сейчас уже за полночь. В шесть начнет светать. И тогда Хэмптон со своими легавыми…
Он осекся. Минк теперь стоял на ногах, глядя на него сверху вниз; он тоже быстро вскочил. Они смотрели друг на друга через стол.
– Ну? – сказал брат. Он дышал хрипло, с присвистом, чувствуя, что радоваться еще рано. – Ну? – сказал он снова. – Ну?
Но Минк уже не смотрел на него, он опустил голову, и лицо у него было неподвижное, пустое и осунувшееся, как у мертвеца.
– Прошу тебя, уйди, – сказал он. – Прошу, оставь меня в покое.
– Как бы не так, – сказал брат, тоже не повышая голоса. – Значит, мне уйти? После всего, что я вытерпел? – Минк повернулся к двери. – Постой, – сказал брат. Но он не остановился. Брат задул лампу и догнал его в коридоре. Он снова заговорил, теперь уже шепотом: – Зря ты не послушался меня шесть часов назад. Мы бы давно все сделали, вернулись бы и легли спать, а не торчали бы здесь за полночь. Не понимаешь разве, что обоим нам это невыгодно? Ты без меня шагу не можешь ступить, а я без тебя. Да куда ж ты? – Тот не отвечал. Не останавливаясь, он шел через двор, к конюшне, а двоюродный брат за ним; он снова слышал у себя за спиной тяжелое насморочное сопение и шепот: – Сто чертей, ты, может, не хочешь отдавать мне половину, так ведь и я, может, не хочу ни с кем делиться. Но пусть уж лучше половина, я как подумаю, что этот подлюга Хэмптон со своими легавыми…
Минк вошел в конюшню, шагнул в стойло – брат остался у двери – и снял с гвоздя короткую, гладко оструганную дубовую палку с петлей из пеньковой веревки, пропущенной в дырку на конце, – с ней Хьюстон объезжал своего жеребца, и он нашел ее, когда взял в аренду у Варнера заложенную часть Хьюстоновой фермы, а потом резко повернулся, одним ударом сшиб брата с ног, бросил палку и подхватил тяжелое тело, которое само падало в стойло, и ему оставалось только оттащить его на какой-нибудь фут, чтобы можно было закрыть дверь. Он отстегнул гужи с плуга, связал двоюродного брата по рукам и ногам, оторвал от подола рубахи лоскут и сделал кляп.
Спустившись с холма, он никак не мог найти дерево, у которого оставил топор. И он знал почему. Словно теперь, когда смолкла эта бесконечная болтовня, он услыхал не тишину, а потерянное время, словно, когда она смолкла, он вернулся к той минуте, когда все это началось в лавке, в шесть часов вечера, и осознал, что потеряно целых шесть часов. «Больно уж ты надрываешься, – сказал он себе. – Нельзя так спешить». Он постоял на месте, пока не сосчитал до ста, оглянулся назад, соображая, где он – выше или ниже дерева, справа или слева от него. Потом он вернулся на середину поля и оттуда оглянулся на балку, стараясь найти дерево, под которым он оставил топор, по форме верхушки и другим приметам, оглушенный теперь уже не тишиной, а шорохом времени. Он решил было спуститься и, начав заведомо ниже того места, которое искал, обшарить по очереди все деревья. Но поступь времени была слишком громкой, и когда он сделал первый шаг, побежал, то побежал не к дому и не к балке, а в сторону, через холм, через поле, прямо на дорогу, проходившую в полумиле от его дома.
Он пробежал по дороге с милю и очутился у лачуги, еще более тесной и убогой, чем его собственная. Здесь жил тот самый негр, который нашел ружье. У него была собака, нечистокровный терьер, немногим больше кошки, шумный и визгливый; он сразу выскочил из-под дома, захлебываясь лаем, и накинулся на него с яростным визгом. Он знал собаку, и она тоже должна была его знать; он стал ее успокаивать, но она не унималась, и ее лай несся на него из темноты разом со всех сторон, и тогда он бросился к ней, и визгливый лай стал быстро удаляться к дому. Не останавливаясь, он побежал к поленнице – он знал, где она; топор был тут. Когда он схватил топор, голос из темного дома окликнул его:
– Кто там?
Он не ответил. Он бежал без оглядки, а терьер все лаял ему вслед, теперь уже из-под дома. Он очутился на поле, кукуруза здесь была лучше, чем у него. Пробежав поле, он спустился к балке.
У края балки он остановился и определил дорогу по звездам. Он понимал, что отсюда ему не найти гнилое дерево, и решил выбраться на старую лесосеку; там ему нетрудно было бы ориентироваться. Вернее всего было выйти вдоль балки на знакомое место, хоть и пришлось бы сделать крюк, а оттуда уже подниматься к дереву, но, поглядев на небо, он подумал: «Уже второй час».
Прошло еще полчаса, а он все не мог отыскать лесосеку. Небо он видел лишь изредка, а еще реже мог видеть звезду, по которой ориентировался. Но он был уверен, что не уклонился слишком далеко. Он предостерег себя: «Ты можешь дойти скорее, чем ожидаешь; не зевай». Но к этому времени он уже прошел вдвое больше, чем следовало. Поняв, убедившись наконец, что он заплутался, он не испытал ни тревоги, ни отчаяния, только злость. Казалось, подобно тому как часа два или три назад бесчестность его брата вдруг против него же и обернулась, так и сейчас жестокость отступилась от своего ученика, на миг ей изменившего; а ведь из-за этого проклятого человеколюбия он потерял три часа, надеясь, что брат устанет и уйдет, вместо того чтобы стукнуть его по голове, когда тот пробегал мимо дерева, где он оставил топор, а теперь вон куда завела его эта промашка.
Первым его побуждением было бежать, бежать не в страхе, а чтобы опередить эту лавину множившихся секунд, которая теперь стала его врагом. Но он, слабо и непрестанно дрожа всем своим измученным телом, принудил себя остаться на месте до тех пор, пока наконец не убедился, что теперь мускулы не подведут его, не заставят бежать. И тогда он стал медленно и осторожно поворачивать, пока ему не показалось, что он стоит лицом в ту сторону, откуда пришел, и двинулся назад по своему же следу. Вскоре он набрел на прогалину, откуда было видно небо. Звезда, по которой он заметил направление, когда спускался в балку, была прямо впереди. «А ведь уже третий час ночи», – подумал он.
Теперь он пустился бегом, верней, старался бежать как можно быстрее. Он не мог совладать с собой. «Надо найти лесосеку сейчас же, – думал он. – Не то пойдешь назад, все придется начинать сызнова, рассветет, а я не успею выбраться из балки». И он все бежал, молча продираясь сквозь колючие кусты, заслоняя лицо рукой, задыхаясь, ничего не видя, мускулы около глаз ныли от напряжения, но глаза были бессильны перед мрачным, непроницаемым ликом тьмы, и вдруг земля исчезла у него из-под ног; он сделал еще шаг в пустоту, почувствовал, что падает, а через мгновение он уже лежал на спине, тяжело дыша. Он был на лесосеке. Но в каком месте – этого он не знал. «Я ведь ее не переходил, – подумал он. – Я еще на западной стороне. И уже третий час».
Теперь он снова знал направление. Если встать к лесосеке спиной и идти все прямо, то скоро будет балка. И тогда станет ясно, куда он забрел. Еще раньше, почувствовав, что падает, он отбросил топор. Теперь, ползая на четвереньках, он нашарил его, выбрался вверх по откосу и пошел дальше. Больше он не бежал. Он знал, что заблудиться еще раз ему нельзя. Когда через час он поднялся по холму, то очутился на краю поля. Поле было его собственное: земля, до сих пор зыбкая и ненадежная, снова отвердела и застыла, все обрело прежние размеры и встало на свои места. Он увидел низенькую крышу своей лачуги и снова побежал, спотыкаясь, меж рядами шелестящей кукурузы, ловя воздух сухими губами и вдыхая его сквозь сухие, стиснутые зубы, и увидел, узнал то дерево, под которым оставил топор, и снова как бы вернулся к какой-то мертвой точке во времени, но только время было упущено. Он свернул и подошел к дереву, прошел было уже мимо, как вдруг в окружавшей его тени обозначилась тень более темная, не спеша поднялась во весь рост, и голос двоюродного брата спросил хрипло и негромко:
– Позабыл топор, сволочь? Вот он. Бери.
Он остановился молча – ни звука, ни проклятия, ни вздоха. «Только не топором», – подумал он, не двигаясь, не шевелясь, а брат хрипло дышал у него над ухом, и злобный, негромкий голос хрипел:
– Ты, гаденыш, братоубийца, да я тут столько вытерпел, сколько не то что за двадцать пять – даже за двадцать пять тысяч не вытерпишь, а не то я огрел бы тебя топором по башке и швырнул в Хэмптонову коляску. И ей же богу, не твоя заслуга, что не Хэмптон, а я сидел и караулил тебя здесь. Сто чертей, да ты и порадоваться не успел этим деньгам, а Хэмптон со своей сворой уж был тут как тут, они развязали меня и в лицо водой побрызгали. А я опять врал, чтобы тебя выгородить. Я сказал, что ты оглушил меня, связал, обобрал и убежал на станцию. Ну говори, долго мне еще врать, спасая твою шею от петли? А? Чего мы ждем? Хэмптона?
– Ладно, – сказал он. – Ладно. – И подумал: «Только не топором». Он повернулся и пошел в лес. Брат не отставал, шел за ним по пятам, свирепое насморочное сопение и злобный шепот раздавались у него прямо над головой, так что, когда он нагнулся и стал шарить по земле, брат чуть не наступил на него.
– Какого еще черта тебе надо? Опять топор потерял? Отдай его мне, как найдешь, да живей покажи, где он, покуда не только солнце, но и этот охотник за головами…
Он нашарил палку потяжелее. «Ничего не видать, так что, может, с первого разу и не попадешь», – сказал он себе, вставая. Он ударил, не глядя, на хриплый злобный голос, занес палку и ударил снова, хотя и одного удара было довольно.
Место было знакомое. Не нужно было никакого ориентира, но тут же оказалось, что ориентир у него все-таки есть, и он пошел быстро, вынужден был идти быстро, чуя слабое зловоние. «Уже четвертый час, – подумал он. – А я совсем позабыл… Позабыл, что, ежели человек человека убьет, против него все ополчится». Потом он понял, что не ошибся, потому что теперь запах уже не был сосредоточен в одном месте, он был всюду; и вот перед ним поляна, гнилой дуб без кроны, торчащий на фоне обрамленного листьями просвета. Он подошел на длину вытянутой руки, размахнулся. Топор по самый обух ушел в трухлявую древесину. Он с трудом вытащил топор и снова занес его. И тут – шума он не услышал, просто сама темнота охнула и всколыхнулась у него за спиной, и он хотел обернуться, но было уже поздно – что-то навалилось ему на плечи. Он сразу понял, что это. Он даже не удивился, когда, падая, почувствовал горячее дыхание и услышал лязг зубов, перевернулся, стараясь нашарить топор, снова услышал лязг зубов у самого горла, почувствовал горячее дыхание и, отбросив пса локтем, встал на колени и схватил топор обеими руками. Пес снова прыгнул, и теперь он видел его глаза. Они плыли на него, и секунды казались вечностью. Он рубанул по ним и попал в пустоту; топор вонзился в землю, и он чуть не упал ничком. Но когда эти глаза показались снова, он был уже на ногах. Он бросился вперед, занеся топор. Он рубил вслепую, даже когда глаза исчезли, круша и ломая кусты, а потом остановился, снова занеся в воздухе топор, задыхаясь, прислушиваясь, ничего не видя и не слыша. Потом он вернулся к дереву.
При первом же ударе топора пес снова прыгнул. Минк ожидал этого. На этот раз он не стал прятать голову и, повернувшись, держал топор наготове. Он ударил по глазам, почувствовал, что не промахнулся, топор, насмешливо блеснув, вырвался у него из рук, и он прыгнул в кусты, туда, где бился и визжал пес, прыгнул на звук, яростно топча все кругом, потом припал к земле, вслушиваясь, снова прыгнул, услышав визг, и стал топтать землю, но опять без толку. Тогда он встал на четвереньки и пополз вокруг дерева, все расширяя круги и стараясь нашарить топор. Когда он наконец нашел его, над зубчатыми краями трухлявого ствола уже горела утренняя звезда.
Он снова принялся рубить дерево под корень и после каждого удара, уже занеся топор для следующего, прислушивался, готовый к прыжку. Но все было тихо. Тогда он стал рубить без передышки, вонзая топор по самый проух, словно рубил песок или опилки. Наконец топор вместе с топорищем ушел в гнилое дерево, и теперь, убедившись, что нюх его не обманывал, он бросил топор и начал рвать дерево руками, отвернув голову, с присвистом дыша сквозь оскаленные, стиснутые зубы, то и дело освобождая одну руку, чтобы отогнать пса, но пес, скуля, кидался на него снова и снова и наконец всунул голову в растущее отверстие, откуда шел трупный смрад, – казалось, было слышно, как он вырывался наружу.
– Убирайся, дьявол! – прохрипел он, словно разговаривая с человеком, и снова попытался отшвырнуть пса. – Пусти!
Он рванул труп, чувствуя, как мясо отделяется от костей, словно тело было для них слишком велико. Пес с воем протиснулся в дыру по самое брюхо.
Внезапно труп поддался, и он упал на спину, в грязь, и труп придавил ему ноги, а пес выл, стоя над своим хозяином. Он встал и пнул его ногой. Пес отскочил, но, когда он нагнулся, схватил труп за ноги и, пятясь, поволок его за собой, снова подступил к нему вплотную. Пока они двигались, пес не сводил глаз с трупа и молчал. Но когда он остановился, чтобы перевести дух, пес снова начал выть, и он снова изловчился, пнул его ногой и только теперь заметил, что ясно его видит, что уже рассвело, и он видит его – ободранного, тощего, воющего, со свежей кровоточащей раной на морде. Не сводя с него глаз, он нагнулся и шарил по земле до тех пор, пока не нашел палку. Она была мокрая, осклизлая, но крепкая. Когда пес поднял морду, собираясь снова завыть, он ударил его. Пес завертелся на месте, потом прыгнул, и он увидел на косматом боку длинный рубец – след выстрела. На этот раз палка угодила псу прямо между глаз. И тогда он снова схватил труп за ноги и, теперь уже не пятясь, попытался бежать.
Когда он выбрался из зарослей к реке, восток уже заалел. Сама река была еще невидима – длинный вал тумана, плотно, словно вата, лежал на воде. Он нагнулся, снова подхватил тело, которое было чуть не вдвое больше его, и швырнул в туман, а выпустив его из рук, даже прыгнул за ним следом и едва не сорвался с берега, и пока оно не кануло в туман, успел увидеть, как медленно и неуклюже мелькнули в воздухе три конечности вместо четырех, и, удержав равновесие, повернулся и сразу же побежал, а позади слышался глухой, дробный топот собачьих лап, и вот уже пес рядом. Не останавливаясь, пес прыгнул. Стоя на четвереньках, Минк увидел его в воздухе, – словно огромная бескрылая птица, пес пролетел над ним и исчез в тумане. Он вскочил и побежал дальше. Потом он споткнулся и упал, вскочил и снова побежал. И тут он услышал за собой топот мягких, быстрых лап, снова припал к земле и, стоя на четвереньках, снова увидел, как пес пролетел над ним и повернулся в воздухе так, что, приземлившись, оказался с ним нос к носу, и глаза его сверкали, как две горящие сигары, и он набросился на Минка, прежде чем тот успел встать. Он ударил пса по морде обоими кулаками, вскочил и побежал. До гнилого дерева они добежали вместе. Пес опять прыгнул и вскочил ему на плечи, но он уже нырнул в дыру, пробитую топором, и стал лихорадочно искать недостающую руку, а пес рвал ему рубашку и штаны. Потом он исчез. Чей-то голос сказал:
– Эй, Минк. Мы держим его. Можешь вылезать.
Коляска ждала за домом, в рощице, где он два дня назад видел следы колес. Его посадили сзади, рядом с помощником шерифа, к которому он был прикован наручниками. Шериф сел рядом с другим своим помощником, который правил лошадью. Тот хотел развернуть коляску, чтобы ехать назад к лавке Варнера, а оттуда – по дороге на Джефферсон, но шериф остановил его.
– Погоди-ка, – сказал он и обернулся – громадный мужчина с короткой шеей, в расстегнутом жилете и крахмальной сорочке без воротничка. Холодные колючие глазки на его широком обрюзглом лице напоминали два осколка черного стекла, вдавленных в сырое тесто. – Куда ведет дорога, ежели ехать в ту сторону? – спросил он, обращаясь к обоим.
– На старый Уайтлифский мост, – сказал помощник, – до него четырнадцать миль. А оттуда еще девять миль до Уайтлифской лавки. А от лавки еще восемь до Джефферсона. А через Варнеровскую лавку будет всего двадцать пять миль.
– На этот раз мы, пожалуй, объедем Варнера стороной, – сказал шериф. – Езжай прямо, Джим.
– Верно, – сказал другой помощник. – Езжай прямо, Джим. Чего нам экономить, денежки-то все равно не наши, а окружного совета. – Шериф, который уже было отвернулся, ничего не сказал и только поглядел на помощника. Некоторое время они глядели друг на друга. – Разве я неправду говорю? – сказал помощник. – Трогай!
Все утро, до самого полудня, они петляли среди холмов, поросших сосняком. У шерифа в коробке из-под ботинок был холодный завтрак и даже кувшинчик с пахтаньем, завернутый в мокрую рогожу. Они перекусили не останавливаясь, только напоили лошадей в ручье, который пересекал дорогу. Потом холмы остались позади, и вскоре после полудня они проехали Уайтлифскую лавку, и вокруг раскинулась широкая, плодородная равнина, на которой волновалась тучная зелень, кукурузные початки налились зерном, вдоль рядов облетающего хлопка еще ходили сборщики, и он увидел, как люди, сидевшие на галерее под рекламами патентованных лекарств и табака, вдруг встали.
– Эге, – сказал помощник шерифа. – Смотри-ка, и здесь есть люди, которые, видно, не прочь бы иметь фамилию Хьюстон хотя бы минут на десять – пятнадцать.
– Погоняй, – сказал шериф. И они поехали дальше, по густой мягкой пыли вслед за знойным летним днем, но не могли поспеть за ним, и вот уже жаркое солнце припекло ту сторону коляски, где сидел он. Шериф сказал, не поворачивая головы и не вынимая изо рта трубки: – Джордж, поменяйся с ним местами. Пусть сядет в тень.
– Не надо, – сказал он. – Мне солнце не мешает.
Вскоре оно и впрямь перестало ему мешать, во всяком случае, он чувствовал себя не хуже, чем остальные, потому что дорога снова пошла холмами, то вверх, то вниз, а длинные тени сосен неторопливо кружили над неторопливой коляской под косыми лучами солнца; а там, за последней долиной, показался и Джефферсон, и раскаленный шар солнца закатывался уже за городом, оно было почти у самой земли и слепило им глаза. К дереву была прибита доска с надписью «Джефферсон – 4 мили» и с фамилией какого-то торговца; она приблизилась, потом осталась позади, но коляска словно стояла на месте, и он осторожно подвинул ноги вбок, напряг прикованную руку для рывка, изготовился и на ходу бросился из коляски ногами вперед, защищаясь рукой от удара, но было уже поздно, и хотя он не попал под колеса, голова его угодила между двумя стойками, поддерживавшими верх, и тело с разлету, всей тяжестью, повисло на шее, зажатой словно в тисках. Вот сейчас он услышит, как хрустнет кость, позвонки, и он весь изогнулся, вытянул ноги назад, туда, где, как ему казалось, вертится колесо, думая: «Вот если бы попасть ногой между спицами, тогда или нога не выдержит, или спицы», – и, чувствуя, как каждое его движение отдается болью в шее, все тянул ноги к колесу, словно хотел убедиться, как бы глядя со стороны, с холодной яростью, что прочнее – живая кость или мертвый металл. Потом у него помутилось в глазах от страшного удара где-то у самых плеч, и вот уж это больше не удар, а невыносимая тяжесть, которая навалилась на него, упорная, сокрушительная, беспощадная. Он смутно слышал хруст кости и явственно голос помощника шерифа:
– Тормози! Да тормози же, чтоб тебя черти взяли! Тормози! – И он почувствовал, что коляска остановилась, и даже видел, как шериф, перегнувшись через спинку сиденья, удерживает обезумевшего помощника; задыхаясь, судорожно ловя воздух, он пытался закрыть рот и не мог, пытался уклониться от холодной, твердой струи воды, а над ним склонились три лица, и на фоне солнечного неба колыхалась под легким ветерком зеленая ветка. Но понемногу он отдышался, и ветерок на ходу высушил его мокрое лицо, только рубашка еще была чуть сырой, а ветерок еще не стал прохладным, просто освободился наконец от нещадного солнечного зноя и тянул из предвечернего сумрака, а коляска теперь катилась под сплошным сводом пронизанных солнцем ветвей, мимо аккуратных, подстриженных лужаек, где в лучах заката перекликались, играя, дети в ярких костюмчиках и сидели в качалках женщины, щеголяя новыми нарядами, а в свежевыкрашенные ворота сворачивали мужчины, возвращаясь с работы домой, где в долгих ранних сумерках их ждал ужин и кофе.
Они обогнули тюрьму и через задние ворота въехали за ограду.
– Вылезайте, – сказал шериф. – Несите его.
– Ничего, – сказал он. Но ему пришлось дважды напрячься, прежде чем удалось выдавить из себя хоть звук, и все равно голос был какой-то чужой. – Я и сам дойду.
Когда врач ушел, он лег на койку. В стене было высокое, узкое, зарешеченное оконце, но за стеклом – ничего, кроме сумерек. Потом он почуял запах еды, где-то готовили ужин – ветчину, гренки и кофе, – и вдруг рот ему наполнила теплая, солоноватая жидкость, но, когда он попытался глотнуть, ему стало так больно, что он сел, проглатывая теплую соль, мотая головой, медленно, осторожно двигая шеей, чтобы легче было глотать. Потом за решетчатой дверью послышался громкий топот, все ближе и ближе, он встал, подошел к двери и сквозь прутья решетки заглянул в общую камеру, где ели и спали негры – эти жертвы тысячи мелких беззаконий, совершенных белыми. Ему видна была лестничная площадка; топот доносился оттуда, и он увидел, как беспорядочный поток голов в поношенных шляпах и кепках, тел в поношенных комбинезонах и ног в рваных башмаках хлынул в пустую камеру, наполнив ее приглушенным шарканьем и мягким неясным гулом певучих голосов, – это была кандальная команда человек в семь или восемь, сидевших за бродяжничество, или поножовщину, или за то, что играли в кости на десять или пятнадцать центов, и теперь освободившихся от лопат и тяжелых молотов по крайней мере часов на десять. Он смотрел на них, ухватившись за решетку.
– Все… – сказал он.
Но голос его был беззвучен. Он приложил руку к горлу и заговорил снова, издавая сухое, трескучее карканье. Негры притихли, уставившись на него, белки их глаз неподвижно блестели на черных лицах, уже расплывавшихся в темноте.
– Все шло хорошо, – сказал он. – Покуда он не начал разваливаться на куски. С этим псом я бы справился. – Он держался за горло, и голос у него был хриплый, сухой, каркающий. – Но он, сукин сын, начал разваливаться…
– Кто? – спросил один из негров.
Они стали перешептываться. Потом белки глаз снова обратились к нему.
– Я все сделал правильно, – повторил он. – Но этот сукин сын…
– Молчи, белый человек, – сказал негр. – Молчи. Не морочь нам голову.
– Все было бы правильно, – сказал он хриплым шепотом. И тут голос совсем изменил ему, и он, не выпуская решетки, другой рукой держался за горло, а негры глядели на него, сбившись в кучу, и глаза их неподвижно сверкали в меркнущем свете. А потом они все разом повернулись и побежали к лестнице, он услышал чьи-то неторопливые шаги, и почуял запах еды, и прильнул к решетке, чтобы увидеть лестничную площадку. «Неужто они хотят накормить этих черномазых раньше, чем белого человека?» – подумал он, вдыхая запах кофе и ветчины.
3
Под эту зиму выдалась осень, которая долго была памятна людям, по ней отсчитывали годы и припоминали события. Засушливая летняя жара – ослепительные дни, когда даже листья на дубах пожухли и увяли, ночи, когда стройные ряды звезд словно бы в холодном, немигающем удивлении взирали на землю, задыхающуюся в пыли, – наконец спала, и три недели бабьего лета истомленная зноем земля, древняя Лилит[96], царствовала, повелевала и владычествовала в эту пору мнимого небытия старой, неумирающей куртизанки. В эти голубые, сонные, пустые дни, полные тишины и запаха сжигаемых листьев и сухостоя, Рэтлиф, проходя между своим домом и городской площадью, видел в тюремном окне две маленькие грязные руки, вцепившиеся в решетку немногим выше, чем мог бы дотянуться ребенок. А позже, перед вечером, он видел, как трое посетителей – его жена и двое детей – входят в тюрьму или выходят оттуда после очередного свидания. В первый день, когда он привез ее к себе домой, она непременно хотела помогать по хозяйству, делать все, что позволит его сестра: подметать полы, мыть посуду, колоть дрова, – словом, то, что до тех пор делали его племянницы и племянники (и тем снискала их юношеское презрение), забывая, как видно, о безмолвной, негодующей добродетели его сестры; крупная, но не толстая, даже стройная, как Рэтлиф понял наконец с брезгливой и сдержанной жалостью… нет, скорее, с участием, – она почти всегда ходила босиком, простоволосая, распустив крашеные, давно уже почерневшие у корней волосы, с холодным лицом, в котором была какая-то суровая, не совсем еще увядшая красота, хотя, возможно, держаться ей помогала лишь давняя, непоколебимая уверенность в себе или же просто упрямство. Потому что арестант не только отказался выйти на поруки (если бы даже удалось найти поручителя), но даже от защитника отказался. Он стоял между двумя конвоирами, маленький, щуплый, худой как скелет, с упрямым, словно из дерева вырезанным лицом, стоял перед судьей так, словно его здесь и не было, и слушал, а может быть, и не слушал обвинительное заключение, а потом один из конвоиров тронул его за плечо, и он вернулся в тюрьму, в свою камеру. И дело это, как пьеса, где еще не все роли распределены, потому что некому взять роль вдовы, сжигающей себя вместе с покойником мужем[97], было отложено, перенесено с октябрьской судебной сессии на весеннюю, майскую; и раза три в неделю Рэтлиф видел, как она с детьми, одетыми в обноски его племянников и племянниц, входила в тюрьму, и представлял себе, как они вчетвером сидят в тесной камере, пропитанной вонью креозота и извечных человеческих экскрементов – пота, мочи, блевотины, извергнутых извечными человеческими муками – страхом, бессилием, надеждой. «Сидят и ждут Флема Сноупса, – думал он. – Флема Сноупса».
А потом наступила зима, морозы. Она тем временем нашла работу. Он не хуже ее знал, что дольше так тянуться не может, ведь как-никак, а это был дом его сестры, пусть даже лишь по праву большинства голосов. Так что он не только не удивился, но даже почувствовал облегчение, когда она пришла и сказала, что скоро съедет с квартиры. Но едва он услышал это, что-то в нем дрогнуло, и он понял, что жалеет детей.
– Насчет работы – это правильно, – сказал он. – Это превосходно. А вот съезжать незачем. Ведь тогда придется платить и за жилье и за харчи. А вы должны экономить. Деньги вам понадобятся.
– Да, – сказала она хрипло. – Понадобятся.
– А он что, все еще думает… – Он остановил себя. Потом сказал: – Не слыхать, Флем скоро вернется? А?
Она не ответила. Да он и не ждал ответа.
– Вы должны экономить на чем только можно, – сказал он. – Оставайтесь здесь. Платите ей доллар в неделю за детей, если так у вас будет спокойнее на душе. Едва ли малыш за семь дней съест больше, чем на пятьдесят центов. Живите пока тут.
И она осталась. Он отдал ей и детям свою комнату, а сам перебрался к старшему племяннику. Работала она на окраине, в захудалом грязном пансионе с весьма двусмысленной репутацией, именовавшемся «Отель Савой». Она уходила на рассвете, а кончала работу уже затемно, иногда поздней ночью. Она подметала комнаты, стелила постели, стряпала, а мыть посуду и растапливать плиту обязан был негр-привратник. Платили ей три доллара в неделю на хозяйских харчах.
– Только вот мозоли она себе набьет, ежели будет ночью бегать босиком по комнатам всяких там барышников, судейских да страховых агентов, что облапошивают черномазых, – сказал один городской остряк.
Но это уж была ее забота. Рэтлиф ничего об этом не знал, мало интересовался сплетнями и, к его чести, верил им еще меньше. Ее он теперь почти совсем не видел, разве только по воскресеньям, когда дети в новых пальтишках, которые он им купил, и она сама в его старом пальто, за которое она чуть не силой заставила его взять пятьдесят центов, входили в ворота или выходили оттуда. И однажды он подумал: а ведь никто из родственников – ни старый Эб, ни учитель, ни кузнец, ни новый приказчик – ни разу его не навестил. «И ежели разобраться в этом деле как следует, – подумал он, – то одного из них надо бы упрятать за решетку вместе с ним. Или рядом, в соседнюю камеру, потому что нельзя повесить одного человека дважды – если только не считать, что один Сноупс может понести наказание за другого».
В День благодарения[98] выпал снег, и хотя он не пролежал и двух дней, в начале декабря ударил лютый мороз, который так сковал землю, что через какую-нибудь неделю она потрескалась и покрылась пылью. Дым белел, едва выходя из трубы, бессильный даже подняться кверху, и сливался с туманной пеленой, которая целый день окутывала солнце, бледное и холодное, как сырая лепешка. «Теперь им даже и думать не приходится, что надо съездить повидать его, – сказал себе Рэтлиф. – Никому, даже Сноупсу, незачем оправдываться, ежели он не едет с Французовой Балки, за двадцать миль, из одного только человеколюбия». Теперь между решеткой и руками появилось стекло; руки не были видны, даже если специально остановиться перед тюрьмой, чтобы поглядеть на них. Но Рэтлиф теперь быстро проходил мимо, сгорбившись в своем пальто, прикрывая то одно, то другое ухо рукой в шерстяной перчатке, и дыхание белым инеем оседало на покрасневшем кончике его носа и вокруг слезящихся глаз, шел через пустую площадь, где лишь изредка попадалась навстречу почтовая коляска, – пассажиры сидели, прикрывшись полостью, поставив между собой на сиденье зажженный фонарь, а лавки, казалось, таращились на них замерзшими окнами, словно слепые старики.
Прошло Рождество, а небо по-прежнему было словно посыпано солью, и скованная земля ничуть не оттаяла, но в январе подул северо-западный ветер, и небо очистилось. Солнце разбросало по замерзшей земле длинные тени, и три дня подряд к полудню земля оттаивала кое-где на дюйм-другой – проталины были словно лужицы масла или колесной мази; в полдень люди выползали, как говорил себе Рэтлиф, словно крысы или тараканы из своих щелей, удивленно и недоверчиво глядя на солнце и на подтаявшую землю, затвердевшую с давних, почти незапамятных времен, а теперь ставшую вдруг снова мягкой и способной сохранять следы. «Нынче ночью мороза не будет, – говорили люди друг другу. – На юго-западе собираются тучи. Быть дождю, а он смоет мороз, и все опять будет хорошо». И дождь был. Ветер подул с юго-запада. «Он снова задул с северо-запада, и тогда жди мороза. Но пусть уж лучше мороз, чем снег», – говорили они друг другу, но пошел снег с ледяной крупой, а к ночи он уже так и валил, шел не переставая два дня и таял, едва коснувшись земли, превращаясь в грязь, которая вскоре заледенела, а снег все шел, но в конце концов перестал, и наступило морозное безветрие, и даже холодная облатка солнца не вставала над закованной в ледяную броню землей; прошел январь, за ним февраль, все вокруг словно вымерло, только низко стлался нескончаемый дым, да редкие прохожие, не в силах удержаться на тротуарах, ползли в город или из города по мостовой, где не могла пройти ни одна лошадь, и нигде ни звука, только стук топоров да сиротливые свистки ежедневных поездов, и Рэтлиф словно бы видел их – черные, пустые, бесконечные, окутанные редеющим паром, они мчатся неведомо куда по белой суровой пустыне. По воскресным дням, сидя дома у камелька, он слышал, как женщина заходила после обеда за детьми, надевала на них новые пальто поверх кургузых одежек, в которых они бегали, несмотря на мороз, в воскресную школу (за этим следила его сестра) вместе с его племянником и племянницами, которые их чурались, и представлял себе, как они все четверо сидят в пальто вокруг маленькой, бесполезной печурки, которая не обогревает камеру, а только исторгает из стен, словно слезы, давний пот давних мук и горестей, таившихся здесь. А потом они возвращались. Она никогда не оставалась ужинать и раз в месяц приносила ему восемь долларов, которые ей удавалось выкраивать из двенадцати долларов месячного жалованья, и еще монеты и бумажки (однажды их набралось на целых девять долларов), и он никогда не спрашивал, откуда они. Он был ее банкиром. Знала его сестра об этом или нет – трудно сказать, скорее всего знала. Сумма все росла.
– Но придется ждать еще много недель, – сказал он как-то. Она молчала. – Может, он хоть ответит на письмо, – сказал он. – Все-таки родная кровь.
Морозы не могли держаться вечно. Девятого марта снова пошел снег и стаял, даже не заледенев. Люди опять могли ходить по городу, и как-то в субботу, войдя в ресторанчик, которым он владел на паях, он увидел Букрайта, – по обыкновению, перед ним стояла тарелка, на которой была накрошена всякая всячина вперемешку с яйцами. Они не виделись почти полгода. Но они даже не поздоровались.
– Она уже дома, – сказал Букрайт. – Приехала на прошлой неделе.
– Быстро же она переезжает, – сказал Рэтлиф. – Всего пять минут назад я видел, как она выносила ведро золы с черного хода отеля «Савой».
– Да я не об ней, – сказал Букрайт с набитым ртом. – Я о Флемовой жене. Билл поехал в Мотстаун и привез обоих на прошлой неделе.
– Обоих?
– Да нет, не Флема. Ее и ребенка.
«Видно, он уже пронюхал об этом, – подумал Рэтлиф. – Кто-нибудь написал ему». Он сказал:
– Ребенок… Ну-ка, ну-ка. Февраль, январь, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август. И начало марта. Да, пожалуй, он еще маловат, чтобы жевать табак.
– Он и не будет никогда жевать табак, – сказал Букрайт. – Это девочка.
Сначала он не знал, как быть, но колебался недолго. «Лучше сразу», – сказал он себе. Все равно, даже если она надеялась, сама того не подозревая. На другой день, когда она пришла за детьми, он ждал ее.
– Его жена приехала, – сказал он. На миг она словно окаменела. – Но ведь вы ничего другого и не ожидали, правда? – сказал он.
– Да, – сказала она.
И вот даже этой зиме пришел конец. Она кончилась, как и началась, дождем, не холодным ливнем, а шумливыми, бурными водопадами теплых струй, смывших с земли лютый, упорный холод, а запоздавшая весна уже бежала по их сверкающим следам, и всюду пошла кутерьма, все появилось разом – почки, цветы, листья, все ожило – пестрый луг, и зеленеющий лес, и широкие поля, пробудившиеся от зимней спячки, готовые принять плуг, ведущий борозду. Школа уже закрылась на лето, когда Рэтлиф проехал мимо нее к лавке и, привязав лошадей у знакомого столба, поднялся на галерею, где сидели на корточках и на скамьях все те же семь или восемь человек, словно просидели так с тех самых пор, как он оглянулся на них в последний раз почти полгода назад.
– Ну, друзья, – сказал он, – я вижу, школа уже закрыта. Теперь ребята пойдут в поле, глядишь, вам и отдохнуть можно будет.
– Она закрыта с самого октября, – сказал Квик. – Учитель удрал.
– А. О.? Удрал?
– Его жена явилась. А он только завидел ее – и давай бог ноги.
– Кто, кто? – переспросил Рэтлиф.
– Его жена, – сказал Талл. – По крайней мере так она сказала. Такая толстая, седая…
– Что за чушь, – сказал Рэтлиф. – Да он и не женат вовсе. Ведь он прожил здесь три года. Наверно, это была его мать.
– Да нет же, – сказал Талл. – Она была молодая. Просто у нее волосы все седые. Приехала в коляске вместе с ребенком месяцев шести.
– С ребенком? – сказал Рэтлиф. Моргая, он глядел то на одного, то на другого. – Послушайте, что все это значит? Откуда у него взялась жена, да еще с шестимесячным ребенком? Разве он не прожил здесь, у всех на глазах, целых три года? Что за чертовщина. Да когда же он успел, ведь ни разу и не уезжал надолго.
– Уоллстрит говорит, что это его жена и ребенок, – сказал Талл.
– Уоллстрит? Это еще кто такой?
– Сынишка Эка.
– Тот мальчуган лет десяти? – Теперь Рэтлиф, моргая, уставился на Талла. – Да ведь про нее в первый раз шуметь начали только два или три года назад, когда там была паника[99]. Откуда же у десятилетнего мальчика такое имя – Уоллстрит?
– Не знаю, – сказал Талл.
– А ребенок, видно, и в самом деле его, – сказал Квик. – По крайности он как глянул на эту коляску, только его и видели.
– Еще бы, – сказал Рэтлиф. – Ребенок – это такой подарочек, от которого всякий мужчина побежит, если только еще есть куда бежать.
– Видно, он знал, куда бежать, – сказал Букрайт хриплым резким голосом. – Уж этот ребеночек его бы не выпустил, если, конечно, кто-нибудь прежде повалил бы А. О., а ему дал бы ухватиться как следует. Он и то был больше папаши.
– Может, он еще ухватится, – сказал Квик.
– Да, – сказал Талл. – Она пробыла здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы купить банку сардин и галеты. А потом ей кто-то показал, куда ушел А. О., и она поехала по дороге в ту сторону. Он-то пешком ушел. Они оба ели сардины, она и малыш.
– Так, так, – сказал Рэтлиф. – Вот они, Сноупсы. Так, так. – Он умолк. Молча смотрели они, как по дороге едет коляска Варнера. Правил негр; а сзади, рядом со своей матерью, сидела миссис Флем Сноупс. Она даже не повернула свою красивую голову, когда коляска поравнялась с лавкой. Ее лицо проплыло мимо них в профиль – спокойное, беспамятное, равнодушное. Оно не было трагично, на нем была лишь печать проклятия. Коляска проехала.
– А тот вправду дожидается в тюрьме, покуда Флем Сноупс вернется и его вызволит? – спросил еще кто-то.
– Да, он все еще в тюрьме, – сказал Рэтлиф.
– Но он дожидается Флема? – сказал Квик.
– Нет, – сказал Рэтлиф. – Потому что Флем не вернется, покуда того не засудят.
Но тут миссис Литтлджон, выйдя на веранду, зазвонила в колокольчик, зовя к обеду, и все встали и начали расходиться. Рэтлиф и Букрайт вместе спустились с крыльца.
– Ерунда, – сказал Букрайт. – Даже Флем Сноупс не даст повесить своего собственного двоюродного брата ради того, чтоб деньги сберечь.
– Сдается мне, Флем знает, что до этого дело не дойдет. Джек Хьюстон был убит выстрелом в грудь, а всякий подтвердит, что он никогда не расставался с револьвером, да и револьвер нашли на дороге, на том самом месте, где лошадь шарахнулась и убежала, так что неизвестно, выронил он его из рук или из кармана, когда падал. Я думаю, Флем все разнюхал. И теперь он не приедет, пока все не будет кончено. Какой ему расчет приезжать, ведь жена Минка сразу в него вцепится, а люди скажут, что он хочет сгноить брата в тюрьме. Бывает такое, чего даже Сноупс не сделает. Не скажу точно, что именно, но, право же, иногда и такое бывает.
Букрайт пошел своей дорогой, а Рэтлиф отвязал лошадей, ввел их во двор гостиницы миссис Литтлджон, распряг и отнес упряжь в конюшню. Он не видел идиота с того самого сентябрьского дня, и теперь что-то словно подталкивало, подгоняло его; он повесил сбрую на гвоздь и пошел по темному вонючему проходу между пустыми стойлами, к самому крайнему стойлу, заглянул туда и увидел на полу толстые бабьи ляжки, бесформенную фигуру, неподвижную в полумраке, ублюдочное лицо, которое повернулось и взглянуло на него, и в бессмысленных глазах что-то мелькнуло, словно он смутно узнал его, но не мог вспомнить, слюнявый рот приоткрылся и издал хриплый, жалобный, едва слышный звук. На коленях, обтянутых комбинезоном, Рэтлиф увидел обшарпанную деревянную корову, игрушку, какие дарят детям на Рождество.
Подходя к кузнице, он услышал удары молота. Потом молот повис в воздухе; тупое, открытое, здоровое лицо взглянуло на него без удивления, почти не узнавая.
– Как поживаешь, Эк? – сказал Рэтлиф. – Не можешь ли сразу после обеда сбить старые подковы у моих лошадок и подковать их наново? Вечером мне нужно съездить кое-куда.
– Ладно, – сказал кузнец. – Веди, сделаю.
– Ладно, – сказал и Рэтлиф. – А скажи-ка, этот твой сынишка… Ты ведь недавно переменил ему имя, правда? – Кузнец поглядел на него, не опуская молота. На наковальне медленно остывала раскаленная докрасна поковка. – Я про Уоллстрита.
– А-а, – сказал кузнец. – Ну нет. Мы ничего не меняли. До прошлого года у него вовсе никакого имени не было. Когда померла моя первая жена, я оставил его у бабки, покуда сам не устроюсь; мне об ту пору всего шестнадцать лет было. Она назвала мальчишку в честь деда, но настоящего имени у него все-таки не было. А в прошлом году я пристроился и послал за ним, вот тогда и подумал, что, может, ему лучше дать имя. А. О. вычитал в газете про панику на Уолл-стрит. Ну он и порешил, что ежели назвать его «Уоллстрит-Паника», он, может, разбогатеет, как те люди, что эту панику устроили.
– Вот как, – сказал Рэтлиф. – Шестнадцать лет. Значит, одного ребенка тебе мало было, чтобы устроить свою жизнь? Сколько же их потребовалось?
– У меня их трое.
– Значит, еще двое, кроме Уоллстрита. И что же…
– Еще трое, кроме Уолла, – сказал кузнец.
– Вот как, – сказал Рэтлиф.
Кузнец немного помедлил. Потом снова занес молот. Но не ударил, а постоял, глядя на остывшее железо на наковальне, потом положил молот и пошел к горну.
– Значит, тебе пришлось уплатить все двадцать долларов сполна, – сказал Рэтлиф. Кузнец обернулся. – Ну, прошлым летом, за эту корову.
– Да. И еще двадцать центов за игрушку.
– Так это ты купил ее?
– Да. Меня жалость взяла. Я и решил, – может, он еще войдет когда в разум, так по крайности ему будет над чем поразмыслить.
Книга четвертая Земледельцы
Глава первая
1
День уже клонился к закату, когда люди, сидевшие на галерее лавки, увидели, что с юга по дороге приближается фургон, запряженный мулами, а за ним длинная вереница каких-то странных, по-видимому, живых фигур, – в косых лучах заходящего солнца они походили на пестрые, причудливые лоскутья, оторванные от каких-то огромных плакатов, – быть может, цирковых афиш, – привязанные позади фургона, они двигались каждая самостоятельно и всем скопом, словно хвост воздушного змея.
– Это что за чертовщина? – сказал кто-то.
– Цирк едет, – сказал Квик.
Все зашевелились, вставая, чтобы взглянуть на фургон. Теперь уже было видно, что позади него привязаны лошади. На козлах сидели двое.
– Мать честная, – сказал первый, по фамилии Фримен. – Да ведь это Флем Сноупс.
Все были уже на ногах, когда фургон остановился, Сноупс слез на землю и подошел к крыльцу. Он словно уехал только нынешним утром. На нем была все та же суконная кепка, крошечный галстук бабочкой, белая рубашка и серые брюки. Он поднялся на крыльцо.
– Здорово, Флем, – сказал Квик. Тот на ходу скользнул по всем, сидевшим на галерее, небрежным взглядом, никого не замечая. – Что это ты, цирк завел?
– Здравствуйте, джентльмены! – сказал он.
Все расступились, и он прошел в лавку. Тогда все спустились с крыльца и подошли к фургону, позади которого, настороженно сбившись в кучу, стояли лошадки, маленькие, почти как кролики, разноцветные, как попугаи, прикрученные одна к другой и к фургону кусками колючей проволоки. С узкими крупами, покрытыми ситцевыми попонами, с изящными ногами и розовыми мордами, они злобно и нетерпеливо косили разноцветными глазами, жались друг к другу, настороженно-неподвижные, дикие, как олени, опасные, как гремучие змеи, кроткие, как голуби. Люди стояли на почтительном расстоянии. Раздвинув их плечом, подошел Джоди Варнер.
– Эй, док, поаккуратней, – сказал голос откуда-то сзади.
Но было уже поздно. Крайняя лошадь с быстротою молнии взвилась на дыбы и дважды взбрыкнула передними копытами, проворнее боксера, норовя садануть Варнера в лицо и сильно рванув проволоку, отчего словно волна прошла по табуну – лошади били копытами и становились на дыбы.
– Тпру-у, балуй, кургузые твари, дьяволы бешеные! – сказал тот же голос, принадлежавший спутнику Флема.
Он был не здешний. Из-под светлой широкополой шляпы торчали густые, черные как смоль усы. Когда он спрыгнул на землю и, повернувшись спиной, встал между ними и лошадьми, все увидели, что из заднего кармана его узких, в обтяжку, бумазейных штанов торчит перламутровая рукоятка внушительного револьвера и цветная коробочка, в каких продают печенье.
– Держитесь от них подальше, ребята, – сказал он. – Они малость норовисты, на них давно никто не ездил.
– А как это давно? – спросил Квик.
Незнакомец взглянул на Квика. Лицо у него было широкое, обветренное и холодное, глаза тоже холодные и бесцветные. Его плоский живот был туго, как втулка, вбит в узкие штаны.
– Сдается мне, скорее они сами на пароме через Миссисипи ехали, – сказал Варнер. Незнакомец взглянул на него. – Моя фамилия Варнер, – сказал Джоди.
– А моя – Хиппс, – сказал незнакомец. – Зовите меня просто Бэк. – Через всю его левую щеку, от уха до подбородка, тянулся свежий кровавый рубец, залепленный чем-то черным, вроде колесной мази. Все поглядели на рубец. А потом увидели, что незнакомец вынул из кармана коробочку, вытряхнул оттуда на ладонь имбирное печенье и сунул его в рот, под усы.
– Видать, ты с Флемом не поладил? – сказал Квик.
Незнакомец перестал жевать. Когда он смотрел на кого-нибудь в упор, его глаза становились похожи на два осколка кремня, вывернутые плугом из земли.
– Это почему же?
– А вон у тебя что с ухом, – сказал Квик.
– Ах, ты об этом! – Незнакомец коснулся своего уха. – Нет, это я сам виноват. Зазевался как-то вечером, когда ставил их в загон. Задумался и позабыл, что проволока-то длинная. – Он снова принялся жевать. Все глядели на его ухо. – Со всяким бывает, кто неосторожен с лошадью. Смажешь колесной мазью, на другой день все как рукой снимет. Сейчас они горячатся, застоялись без дела. Но через день-другой вы их не узнаете. – Он положил в рот еще одно печенье и стал жевать. – Не верите, что они будут как шелковые? – Никто не ответил. Все смотрели на лошадей угрюмо и с недоверием. Джоди повернулся и пошел назад к лавке. – Лошадки добрые, послушные, – сказал незнакомец. – Вот поглядите. – Он сунул коробку с печеньем в карман и пошел к лошадям, протянув руку. Ближняя стояла, приподняв одну ногу. Казалось, она спала. Синий, как небо, глаз задернуло веко; голова была плоская, как гладильная доска. Не открывая глаз, лошадь вскинула голову и оскалила желтые зубы. Казалось, на миг она и человек слились в одном яростном усилии. Потом оба замерли, высокие каблуки незнакомца глубоко ушли в землю, одна рука, стиснувшая ноздри лошади, была неловко вывернута, а лошадь дышала хрипло, шумно, с натужными стонами. – Видали? – сказал незнакомец, с трудом переводя дух, жилы у него на шее и на висках вздулись и побелели. – Видали? Нужно только не давать им спуску, повыбить из них дурь. Ну-ка, ну-ка, осади!
Люди подались назад. Он изловчился и отскочил. В тот же миг другая лошадь саданула его копытом по спине, разодрав жилет во всю длину, совсем как фокусник одним ударом рассекает подброшенный в воздух платок.
– Ничего себе, – сказал Квик. – А ежели на человеке жилетки нет, тогда как?
Тут сквозь толпу снова протолкался Джоди Варнер. Следом за ним шел кузнец.
– Ну вот что, Бэк, – сказал он. – Пожалуй, лучше отвести их в загон. Вот Эк тебе пособит.
Незнакомец, у которого свисали с плеч лохмотья, залез вместе с кузнецом на козлы.
– Но-о, страстотерпцы, живые мощи! – крикнул он.
Фургон тронулся, лошадки, привязанные к нему, пестрой вереницей поплелись вслед, а за ними, на почтительном расстоянии, гуськом потянулись люди, прямо по дороге, а потом в проулок, мимо дома миссис Литтлджон, к воротам загона. Эк слез и отворил ворота. Фургон въехал во двор, но едва лошади увидели загородку, как они попятились, натягивая проволоку, и все разом взвились на дыбы, норовя повернуть обратно, так что фургон откатился назад на несколько футов, пока техасец, отчаянно ругаясь, не ухитрился заворотить мулов и таким образом затормозить фургон. Люди, шедшие сзади, отпрянули.
– Слушай, Эк, – сказал техасец. – Полезай-ка сюда да подержи вожжи.
Кузнец залез обратно на козлы и взял вожжи. А потом они увидели, как техасец с ременным кнутом в руке спрыгнул на землю, зашел сзади и загнал лошадей в ворота – кнут размеренно гулял по разноцветным спинам, щелкая оглушительно, как выстрелы. Зрители почти бегом перешли двор миссис Литтлджон и поднялись на веранду, одна сторона которой примыкала к загону.
– Интересно, как это он ухитрился связать их? – сказал Фримен.
– А по мне, куда интереснее поглядеть, как он их станет развязывать, – сказал Квик. Техасец опять залез в фургон. И сразу же они с Эком появились у задней дверцы. Техасец ухватился за проволоку и стал подтягивать к фургону первую лошадь, а она приседала и упиралась, словно хотела удавиться на этой проволоке, заражая беспокойством остальных лошадей, пока все они не начали одна за другой приседать и пятиться, натягивая проволоку.
– Ну-ка, пособи мне, – сказал техасец. Эк тоже ухватился за проволоку. Лошади упирались, вскидывали розовые морды над водоворотом пятящихся крупов. – Тяни, тяни сильней, – сказал техасец отрывисто. – Им сюда не залезть, даже если б они и вздумали. – Фургон потихоньку откатывался назад, пока первая лошадь не уперлась лбом в заднюю дверцу. Техасец быстро обернул проволоку вокруг одной из стоек кузова. – Подержи-ка, чтоб не размоталась, – сказал он. Потом исчез и мигом появился снова со здоровенными клещами в руках. – Держи проволоку вот так, – сказал он и спрыгнул на землю. Его широкополая шляпа, развевающиеся лохмотья жилета, клещи – все исчезло в калейдоскопическом хаосе оскаленных зубов, сверкающих глаз, мелькающих в воздухе копыт, и оттуда тотчас же, одна за другой, словно куропатки, стали выпархивать лошади, каждая с ожерельем из колючей проволоки на шее. Первая бешеным галопом понеслась напрямик через загон. С разбегу она наскочила на загородку. Проволока поддалась, спружинила, и лошадь, опрокинутая, некоторое время лежала на земле, сверкая глазами и перебирая ногами в воздухе, словно все еще скакала во весь опор. Потом она встала, все так же вскачь пересекла загон, снова налетела на загородку и снова упала. Тем временем были отпущены на свободу остальные лошади. Они шарахались и носились по загону, словно ошалевшие рыбы в аквариуме. До сих пор загон казался большим, но теперь сама мысль о том, что все это яростное движение может быть сосредоточено за какой-то загородкой, представлялась нелепым фокусом, словно трюк с зеркалом. Наконец из последних клубов пыли вынырнул техасец, держа в руках клещи, жилета на нем как не бывало. Он не бежал, он просто двигался легко и осторожно, лавируя среди ситцевых попон, делая ложные броски и увертываясь, как боксер на ринге, пока не добрался до ворот, а оттуда прошел через двор на веранду. Один рукав его рубашки висел на ниточке. Он оторвал его, вытер им лицо, потом отшвырнул его, вынул коробочку и вытряхнул на ладонь печенье. Дышал он лишь чуть чаще обычного. – Здорово горячатся, – сказал он. – Ничего, через день-другой присмиреют.
Лошади все еще метались взад и вперед по загону в сгущавшихся сумерках, как ошалевшие рыбы, постепенно успокаиваясь.
– Что ты дашь человеку, который тебе малость пособит? – сказал Квик. Техасец взглянул на него бесцветными, дружелюбными, спокойными глазами, под которыми медленно двигались челюсти и густо чернели усы. – Который заберет у тебя одну? – сказал Квик.
На веранде появился голубоглазый мальчуган.
– Папа, папа! Где папа? – звал он.
– Кого ты ищешь, сынок? – сказал один.
– Это мальчик Эка, – сказал Квик. – Твой отец еще там, в фургоне. Помогает мистеру Бэку.
Мальчик в своем маленьком комбинезоне прошел через всю веранду – миниатюрная копия здешних мужчин.
– Папа, – звал он. – Папа.
Кузнец все стоял, перегнувшись через дверцу фургона, и держал в руках конец проволоки. Лошади, на миг сбившись в кучу, теперь рассыпались, шарахнулись от фургона, побежали, и казалось, будто их стало вдруг вдвое больше против прежнего; из густой пыли доносился дробный, частый, легкий стук некованых копыт.
– Мама зовет ужинать, – сказал мальчик. Близилось полнолуние. И когда после ужина зрители снова собрались на веранде, было почти так же светло. Просто быструю резкость дня сменила зыбкая серебристая глубь, в которой, причудливо сливаясь с нею, барахтались лошади, разбегались, поодиночке или парами, зыбкие, призрачные, неугомонные, и снова сбивались в похожие на мираж табунки, откуда доносились визгливое ржание и зловещие удары копыт.
Вместе с другими пришел и Рэтлиф. Он приехал перед самым ужином. Ввести своих лошадей в загон он не рискнул. Они стояли на конюшне у Букрайта в полумиле от лавки.
– Значит, Флем вернулся, – сказал он. – Так, так. Билл Варнер за свой счет отправил его в Техас, и, по-моему, будет только справедливо, ежели вы, друзья, оплатите ему обратную дорогу.
Из загона донеслось пронзительное, визгливое ржание. Появилась лошадь. Казалось, она не скачет, а плывет, неосязаемая, бесплотная. Но копыта ее часто и дробно стучали по утрамбованной земле.
– Он не сказал, что лошади его, – сказал Квик.
– И что они не его, тоже не сказал, – сказал Фримен.
– Понимаю, – сказал Рэтлиф. – Вот, значит, чего вы дожидаетесь: чтобы он сказал, его они или не его. А может, вы подождете, покуда кончатся торги, и разделитесь – одни пойдут за Флемом, другие за этим парнем из Техаса, чтобы поглядеть, который из них станет тратить ваши денежки? Да только когда тебя уже ощипали, какая разница, кому от этого прибыток.
– А ежели Рэтлиф уедет нынче же вечером, завтра его уж никак не заставят купить одну из этих лошадок, – сказал третий.
– Факт, – сказал Рэтлиф. – Даже от Сноупса можно унести ноги, надо только шевелить ими попроворнее. Ей-богу, я просто уверен, что он ощиплет первого же, кто ему подвернется, а уж второго наверняка. Но вы, ребята, ведь не собираетесь покупать этот его товар, верно я говорю?
Никто не ответил. Люди сидели на крыльце, прислонившись спиной к столбам веранды, или прямо на перилах. Только Рэтлиф и Квик сидели на стульях, так что остальные казались им лишь черными силуэтами на фоне лунного света, сонно заливавшего веранду. Грушевое дерево за дорогой, будто иней, усеяли белые цветы, молодые побеги и веточки не тянулись во все стороны, но стояли торчмя над прямыми сучьями, словно растрепанные, взметнувшиеся кверху волосы утопленницы, мирно спящей на дне спокойного, недвижного моря.
– Энс Маккалем тоже раз пригнал пару лошадей из Техаса, – сказал кто-то на крыльце. Он не шевельнулся. Он говорил, ни к кому не обращаясь. – Хорошая была запряжка. Только немного легковата. Он на ней десять лет работал. Легко было работать, одно удовольствие.
– Как же, помню, – сказал другой. – Энс еще говорил, будто за них четырнадцать ружейных патронов отдал – так, что ли?
– А я слышал, что и ружье с патронами, – сказал третий.
– Нет, он отдал только патроны, – сказал первый. – За ружье тот парень предлагал еще четверку, но Энс сказал, что они ему без надобности. Себе дороже станет – пригнать шестерку лошадей сюда в Миссисипи.
– То-то и оно, – сказал второй. – Когда покупаешь по дешевке лошадь или запряжку, нечего и ждать толку.
Все трое говорили вполголоса, они толковали меж собой, словно были одни. Рэтлиф, невидимый в темном углу, засмеялся, тихонько, лукаво, хрипловато.
– Рэтлиф смеется, – сказал четвертый.
– Ладно, вы на меня не глядите, – сказал Рэтлиф.
Трое говоривших не шевелились. Они не шевельнулись и теперь, но было в их темных фигурах какое-то упорство и молчаливое ожесточение, словно у детей, получивших нагоняй. Птица черной стремительной дугой прочертила лунный свет, вспорхнула на грушу и запела; это был пересмешник.
– Первого пересмешника слышу в этом году, – сказал Фримен.
– Около Уайтлифа они каждую ночь поют, – сказал первый. – Я слышал одного в феврале. Помните, когда снег повалил. Он пел на каучуковом дереве.
– Каучуковое дерево всех раньше распускается, – сказал третий. – За это его птицы и любят. Им петь хочется, когда оно зеленеет. Оттого пересмешник на нем и пел.
– Каучуковое дерево всех раньше распускается? – сказал Квик. – А ива как же?
– Ива не дерево, – сказал Фримен. – Она вроде бурьяна.
– Ну не знаю, что она такое, – сказал четвертый, – а только никакой это не бурьян. Потому что бурьян можно выполоть, и дело с концом. А вот ивняк я лет пятнадцать корчевал у себя на весеннем выгоне. А он на другой год опять вырастал такой же высокий. Да еще всякий год этих ивок становилось на одну или две больше против прежнего.
– Вот я бы на твоем месте и ушел завтра на выгон чем пораньше, – сказал Рэтлиф. – Но ты, конечно, и не подумаешь сделать это: уж я-то знаю, что ни на Французовой Балке, ни во всем мире ничто не помешает вам, ребята, отдать Флему Сноупсу и этому техасцу свои кровные денежки. Но я бы по крайней мере узнал точно, кому они достанутся. Пожалуй, Эк мог бы вам в этом помочь. Пожалуй, он мог бы сказать вам это по-соседски, а? Как-никак он двоюродный брат Флема, да к тому же он и его сынишка, Уоллстрит, сегодня помогли техасцу натаскать для них воды, а завтра поутру Эк поможет задать им корм. А потом он, может, станет их ловить и подводить по одной, покуда вы, ребята, будете набавлять цену. Так, что ли, Эк?
– Не знаю, – сказал он.
– Ребята, – сказал Рэтлиф. – Эк знает об этих лошадях всю подноготную, Флем ему сказал, во сколько они обошлись и сколько он с этим техасцем собирается заработать, нажить на них. Ну-ка, Эк, выкладывай.
Кузнец не шевельнулся, он сидел на верхней ступеньке крыльца, боком к ним, и их напряженное, выжидательное молчание капля за каплей падало на него сверху.
– Не знаю я, – сказал он.
Рэтлиф рассмеялся. Он сидел на стуле и смеялся, а другие сидели на крыльце и на перилах, и смех его падал на них сверху, подобно тому как падало на Эка их напряженное молчание. Рэтлиф перестал смеяться. Он встал. Зевнул громко, во весь рот.
– Ну ладно. Вы, ребята, можете покупать этих лошадок, ежели хотите. А я скорей купил бы тигра и гремучую змею. Да и то ежели бы их мне Флем предложил, я б и дотронуться до них побоялся – а вдруг они окажутся перекрашенной собакой и куском шланга. Желаю вам всем спокойной ночи.
Он ушел в дом. Никто не посмотрел ему вслед, но немного погодя все зашевелились и стали глядеть на загон, на пестрый, лихорадочный лошадиный водоворот, откуда время от времени долетало короткое ржание и глухие удары копыт. С груши лились нескончаемые дурацкие рулады пересмешника.
– Энс Маккалем сделал из той пары добрую запряжку, – сказал первый. – Они были малость легковаты. А так ничего.
На другое утро, едва взошло солнце, у гостиницы миссис Литтлджон уже стоял фургон и три верховых мула, а к загородке прильнули шестеро мужчин и сынишка Эка Сноупса, они не сводили глаз с лошадей, которые тесно сбились в кучу у двери конюшни и тоже глядели на людей. Подъехал еще один фургон, свернул с дороги и остановился, и вот уже восемь мужчин выстроились рядом с мальчиком у загородки, за которой стояли лошади, их карие с синим глаза быстро бегали на пестрых мордах.
– Так вот он, значит, Сноупсов цирк? – сказал кто-то, подходя. Он глянул на лошадиные морды, потом прошел вдоль загородки и встал с краю, рядом с кузнецом и его сыном. – Выходит, это Флемовы лошади? – спросил он у кузнеца.
– Эк знает не больше нашего, чьи они, – сказал один. – Он знает, что Флем приехал сюда в фургоне, а за ним – лошади, это он видел. А больше он ничего не знает.
– И не узнает, – сказал второй. – Родственник Флема Сноупса всегда узнает о его делах последним.
– Ну нет, – сказал первый. – Он и тогда не узнает. Первым, кого Флем посвятит в свои дела, будет тот, кто останется в живых, когда умрет последний человек на земле. Флем Сноупс даже себе самому не говорит, что он замышляет. Даже если лежит темной ночью один в доме, где, кроме него, живой души нет.
– Это точно, – сказал третий. – Флем облапошит Эка и всякого другого своего родственника не хуже, чем нас. Правда, Эк?
– Не знаю я, – сказал Эк.
Они смотрели на лошадей, которые в этот миг, насторожив уши и напружив ноги, вдруг завертелись волчком и понеслись пятнистой волной по загону, а потом вернулись назад и стали глядеть на людей сквозь загородку, и никто не слышал, как появился техасец, пока он не подошел к ним вплотную. Он был в новой рубашке и другой жилетке, которая была ему тесновата, и как раз прятал коробку с печеньем в задний карман брюк.
– Доброе утро, – сказал он. – Раненько же вы встали сегодня. Может, хотите купить у меня пару лошадок до начала торгов, покуда цены не вскочили?
Они уже не смотрели на техасца. Теперь они снова смотрели на лошадей, которые, опустив головы, нюхали землю.
– Нет уж, мы сперва поглядим, – сказал один.
– Ну что ж, во всяком случае, сейчас самое время поглядеть, как они будут завтракать, – сказал техасец. – Они тут всю ночь бегали и здорово оголодали. – Он открыл ворота и вошел в загон. Лошади разом вскинули головы и уставились на него. – Вот что, Эк, – сказал техасец через плечо, – пусть двое или трое из ваших ребят помогут мне загнать их в конюшню.
Эк и еще двое мужчин подошли к воротам, и вместе с ними мальчик, шедший по пятам за отцом, который заметил его, только когда повернулся, чтобы затворить ворота.
– Не лезь сюда, – сказал Эк. – А то, не ровен час, расшибут тебе голову, как скорлупку, ахнуть не успеешь.
Он закрыл ворота и побежал догонять остальных, техасец расставил их подковой, а сам пошел к лошадям, которые теперь сбились в беспокойный табунок и, глядя на людей, начали потихоньку кружиться на месте. Миссис Литтлджон вышла из кухни и пошла через двор к поленнице, поглядывая на лошадей в загоне. Она взяла два или три полена и остановилась, чтобы снова взглянуть на загон. У загородки появились еще два человека.
– Смелей, ребята! – сказал техасец. – Не бойтесь, они вас не тронут. Просто они сроду не бывали под крышей.
– А по мне, так пусть здесь и остаются, ежели им охота, – сказал Эк.
– Возьмите палки, вон там у загородки целая куча фургонных осей, и, как только которая-нибудь кинется на вас, огрейте ее хорошенько по башке, она живо в чувство придет.
Один из мужчин подошел к загородке, взял три палки, вернулся и роздал их. Миссис Литтлджон, теперь уже с целой охапкой дров, на полпути к дому еще раз остановилась, глядя на лошадей в загоне. Мальчик снова увязался за отцом, но теперь тот его не видел. Мужчины начали наступать на лошадей, и табунок разбился на пестрые подвижные кучки. Техасец весело крыл их громким бодрым голосом:
– Пошли в конюшню, чучела проклятые, чертовы куклы! Не подгоняйте их. Пускай чуть пообыкнут. Эй! Заходи, не бойся. Это же конюшня, а не суд! И не церковь, тут с вас не станут собирать пожертвования.
Лошади медленно пятились назад. Время от времени какая-нибудь из них пробовала отбиться от других, но техасец, ловко бросая в нее комья земли, загонял ее обратно. А потом задняя лошадь оказалась у самых ворот конюшни, и техасец, не давая лошадям опомниться, выхватил у Эка палку, бросился на них с одним из помощников и принялся лупить их по головам и спинам, безошибочным чутьем выбирая жертву и ударяя ее сначала по морде, а потом, заворотив, по холке и напоследок по крестцу, так что им удалось завернуть весь табун, и лошади, вбежав в длинный коридор, ударились об стену с глухим раскатистым грохотом, словно где-то в шахте рухнули крепления.
– Ну, кажется, стенка выдержала, – сказал техасец. Он и его помощник захлопнули низкие воротца и заглянули поверх них в конюшню, в дальнем конце которой табун казался теперь пятнистым призраком, и оттуда доносился треск деревянных перегородок и постепенно замирающие гулкие удары копыт. – Ага, выдержала стенка, – сказал техасец.
Остальные двое подошли к воротам и тоже заглянули поверх створок в конюшню. Мальчик подошел вслед за отцом, намереваясь заглянуть в щелку, и тут Эк увидел его.
– Сказано тебе было, не лезь в загон! – крикнул он. – Затопчут тебя до смерти, ты и пикнуть не успеешь, понял? Ступай за ворота и стой там.
– Почему ты не попросишь папашу купить тебе лошадку, Уолл? – сказал один из мужчин.
– Чтоб я купил такую дрянь? – сказал Эк. – На что она мне, если я могу хоть сейчас пойти на реку и изловить задаром зубастую черепаху или гадюку? Ну, ступай отсюда. Стой за воротами и не лезь.
Техасец уже вошел в конюшню. Один из мужчин закрыл за ним ворота, заложил засов, и они, глядя поверх створок, видели, как техасец прошел через всю конюшню к лошадям, которые сгрудились в темном углу, словно пестрые призраки, и, уже успокоившись, начали даже принюхиваться к длинной обрызганной кормушке у задней стены. Мальчик только обошел вокруг отца и стоял теперь по другую сторону от него, глядя сквозь дырку от выпавшего сучка. Техасец открыл маленькую дверцу в стене и вошел в нее, но почти сразу же появился снова.
– Там нет ничего, кроме лущеной кукурузы, – сказал он. – А Сноупс вчера обещал прислать сена.
– А разве кукурузы они не едят? – спросил кто-то.
– Не знаю, – сказал техасец. – Знаю только, что они ее никогда и не нюхали. Ну да ладно, сейчас увидим.
Он исчез, и было слышно, как он ходил по стойлу. Потом он снова появился с большой корзиной и нырнул в темноту, где пестрые лошадки теперь преспокойно выстроились у кормушки. Миссис Литтлджон опять вышла из дома, на этот раз на веранду, неся большой медный колокольчик. Она подняла его, чтобы позвонить к обеду. Когда техасец подошел к лошадям, они заволновались, но он быстро, громко и бесстрастно заговорил с ними, осыпая их смесью ругани и ласковых слов, и исчез в самой их гуще. Люди, стоявшие у двери, слышали сухой шорох кукурузных зерен в кормушке, а потом какая-то лошадь испуганно всхрапнула. С громким треском обломилась доска, и у них на глазах конюшня превратилась в кромешный ад, и пока они глядели поверх ворот, словно зачарованные, не в силах шевельнуться, внутри, будто языки пламени, заметались яростные тени.
– Сто чертей, – сказал один. – Бежим! – заорал он вдруг.
Все трое повернулись и со всех ног побежали к фургону. Эк бежал последним. Люди из-за загородки что-то кричали, но он их даже не слышал и только карабкался, не помня себя, на фургон, а потом оглянулся и увидел мальчика – он все стоял, припав к дыре в воротах конюшни, и в тот же миг ворота исчезли, разнесенные в щепы, и самой дыры словно не бывало, а мальчик остался стоять, неподвижный в своем маленьком комбинезоне, все еще слегка нагнувшись, пока его не захлестнула широкая многоцветная волна бегущих ног, сверкающих глаз и оскаленных зубов, которая, взметнувшись, рассыпалась на множество отдельных частиц, обнажив наконец зияющий зев пустоты, и в нем мальчика, невредимого, без единой царапинки, по-прежнему глядевшего в исчезнувшую дыру.
– Уолл! – завопил Эк.
Мальчик повернулся и побежал к фургону. Лошади метались взад и вперед, и казалось, теперь их стало вдвое больше; две из них одна за другой перемахнули через мальчика, не задев его, а он бежал, маленький, серьезный, бежал, казалось, на одном месте, но все же добрался наконец до фургона, и Эк, чье загорелое лицо побелело как полотно, протянул руку, втащил мальчика внутрь за помочи комбинезона, зажал его голову между колен и схватил со дна фургона вожжу.
– Сказано тебе было, не лезь в загон, – сказал Эк дрожащим голосом. – Сказано было…
– Если ты хочешь его выпороть, лучше уж всыпь нам всем, а потом кто-нибудь из нас высечет тебя, – сказал один из мужчин.
– А еще лучше, возьми веревку да вздерни вон того дьявола, – сказал другой. Техасец стоял теперь у разломанных ворот конюшни и доставал из кармана коробку с имбирным печеньем. – А не то он всю Французову Балку изничтожит.
– Ты про Флема Сноупса, да? – сказал первый.
Техасец, перевернув коробку, вытряхивал на ладонь печенье. Лошади все еще метались по загону, но уже начали успокаиваться, они трусили рысцой на высоких прямых ногах, хотя по-прежнему дико и злобно косили белыми глазами.
– Я знал, что от этой поганой кукурузы добра не жди, – сказал техасец. – Но зато они по крайности видели, какая она есть. Кое-чему они тут научились, им грех жаловаться. – Он встряхнул коробку. На ладонь не выпало ничего. Миссис Литтлджон зазвонила на веранде в колокольчик; услышав звон, лошади снова заметались, земля слегка задрожала от дробного стука копыт. Техасец скомкал коробку и бросил ее. – Ладно, – сказал он.
В проулке появились еще три фургона, и у загородки стояли человек двадцать или больше, когда техасец с тремя своими помощниками и мальчиком вышел за ворота. Ясное утреннее солнце светило с безоблачного неба, играя на перламутровой рукоятке револьвера, торчавшей у него из заднего кармана, и на медном колокольчике, в который все звонила миссис Литтлджон, настойчиво, властно, громко.
А когда минут через двадцать техасец, ковыряя в зубах спичкой, снова появился на крыльце, фургоны, верховые лошади и мулы растянулись от ворот до самой лавки Варнера, а у загородки толпилось больше пятидесяти человек, они молча украдкой глядели, как он идет, чуть враскачку, на своих кривоватых ногах и высокие каблуки его фасонистых ботфортов оставляют в пыли отчетливый след.
– Доброе утро, джентльмены, – сказал он. – Ну-ка, малыш. – Он повернулся к мальчику, который молча стоял позади него, не спуская глаз с рукоятки револьвера. Он вынул из кармана монету и дал мальчику. – Сбегай в лавку, купи мне коробку имбирного печенья. – Он пристально оглядел непроницаемые лица, посасывая спичку, которой чистил зубы. Потом перебросил спичку из одного угла рта в другой, не прикоснувшись к ней рукой. – Вы, ребята, конечно, уже присмотрели себе лошадок. Можно начинать, а?
Никто не ответил. Теперь на него уже не смотрели. Или, верней, ему начинало казаться, что он просто не успевает поймать ничей взгляд, потому что люди поспешно отводят глаза. Немного погодя Фримен спросил:
– А Флема ждать не будешь?
– Зачем? – сказал техасец. Тогда и Фримен отвел взгляд. Лицо его тоже было непроницаемо. Техасец продолжал все тем же ровным, спокойным голосом: – Эк, ты ведь уже облюбовал себе лошадок. Так что начнем, когда захочешь.
– Нет уж, уволь, – сказал Эк. – Не стану я их покупать, к ним и подойти-то страшно.
– Страшно подойти к этим маленьким лошадкам? – сказал техасец. – Да ведь ты же помогал их поить и кормить. Бьюсь об заклад, что твой мальчуган к любой не побоится подойти.
– Пусть только попробует, – сказал Эк.
Техасец окинул равнодушным и вместе с тем настороженным взглядом спокойные лица, непроницаемые, словно высеченные из кремня, твердые и бесстрастные.
– Эти лошадки кроткие, как голуби, ребята. Кто их купит, потом не нахвалится, таких ни за какие деньги не достанешь. Конечно, они не без норова; я ведь не торгую падалью. Кому нужна техасская падаль, когда в Миссисипи и своей хватает? – Взгляд его оставался равнодушным, в голосе не было ни веселья, ни задора, да и в смешке, прозвучавшем в толпе, тоже не было ни веселья, ни задора. Еще два фургона одновременно съехали с дороги и остановились у загородки. Люди вылезли, привязали лошадей и подошли к толпе. – Сюда, ребята, – сказал техасец. – Вы поспели в самое время, чтобы задешево купить хорошую, смирную лошадь.
– Вроде той, что разодрала тебе вчера жилет? – сказал чей-то голос.
На этот раз засмеялись трое или четверо. Техасец взглянул на них пустым, немигающим взглядом.
– Ну и что? – сказал он. Смех, если только это можно было назвать смехом, смолк.
Техасец подошел к воротам и залез на столб, неторопливо перебирая сильными ногами в узких штанах и поблескивая перламутровой рукояткой револьвера. Усевшись на столб, он поглядел вниз, на лица у загородки, настороженные, серьезные, непроницаемые, избегающие его взгляда.
– Ну ладно, – сказал он. – Кто хочет начать торг? Выходите прямо сюда; выбирайте товар и назначайте цену, а когда последняя будет продана, смело идите в загон, обротаете отличную лошадь, такой в другом месте ни за какие деньги не купишь. Любой из них цена не меньше пятнадцати долларов. Глядите, они все как на подбор – молодые, здоровые, годятся и под седло, и для пахоты, ручаюсь, любая из них стоит четырех ваших лошадей; такую огреешь тележной осью, а ей хоть бы что… – Задние ряды вдруг всколыхнулись. Появился мальчик. Протискиваясь меж неподвижных комбинезонов, он пробрался к столбу и подал техасцу новую непочатую коробку. Техасец наклонился, взял коробку, распечатал ее и вытряхнул три или четыре печенья мальчику на ладонь, маленькую и черную, почти как у негритенка. Потом снова заговорил, держа коробку в руке и указывая ею на лошадей: – Поглядите вон на ту, у которой три ноги в белых чулках и подпалина на ухе; глядите хорошенько, сейчас она пробежит у самой загородки. Обратите внимание, как ходят у ней лопатки. За такую лошадь всякий охотно даст двадцать долларов. Кто сколько предложит за нее для почину? – Он говорил громко, убедительно, как заправский оратор. А внизу под ним, у загородки, стояли люди, у которых под нагрудниками комбинезонов были аккуратно приколоты кисеты и потертые кошельки, а в них лежало жалкое серебро и истрепанные бумажки – деньги, скопленные по монетке в печных трубах или в щелях бревенчатых стен. Лошади то и дело разбегались в разные стороны, бесцельно метались по загону, потом снова сбивались в кучу, глядя на лица у загородки дикими разноцветными глазами. Проулок был теперь запружен фургонами. Подъезжавшие вынуждены были останавливаться далеко в стороне и идти по дороге пешком. В дверях кухни появилась миссис Литтлджон. Она перешла двор, поглядывая на лошадей в загоне. В углу двора на четырех кирпичах стоял почерневший от копоти стиральный котел. Она развела под ним огонь, подошла к загородке и постояла там немного, подбоченившись, а голубой дым костра лениво плыл у нее за спиной. Потом она повернулась и пошла обратно к дому. – Ну так как же, ребята, – сказал техасец. – Кто сколько даст за нее?
– Пятьдесят центов, – сказал кто-то.
Техасец даже не взглянул на голос.
– Ну, а ежели она вам не подходит, как тогда насчет вон той лошади, – смотрите: голова узкая, гривы почти не видать? Сказать по совести, под седло она скорей годится, чем та, в белых чулках. Я слышал, как кто-то сейчас предложил пятьдесят центов. Наверное, он хотел сказать – «пять долларов». Ну как, даете пять долларов?
– Пятьдесят центов за всех гуртом, – сказал тот же голос. Но эти слова уже не вызвали в толпе смеха. Засмеялся сам техасец, резко, заученно, одними губами, словно твердил наизусть таблицу умножения.
– Пятьдесят центов за кучу ихнего навоза, вот что ты хочешь сказать, – сказал он. – Может, кто накинет доллар за настоящие техасские колючки? – Миссис Литтлджон вынесла из кухни половинку распиленного пополам бочонка, поставила ее на пень возле стирального бака и, подбоченившись, постояла немного, глядя на лошадей в загоне, но не подходя к загородке. Потом она ушла в дом. – Что же вы, ребята? – сказал техасец. – Послушай, Эк, ведь ты мне помогал, сам знаешь, какие это лошадки. Сколько ты дашь вон за ту с белой лысинкой, что приглянулась тебе вчера? Ну ладно. Погодите-ка. – Он сунул коробку в другой карман, перекинул ноги через загородку и мягко, как кошка, спрыгнул в загон. Лошади, глядя на него, жались друг к другу. Не подпуская его к себе, они отпрянули и медленно подались вдоль загородки. Он преградил им путь, они повернули и побежали назад через загон; тогда техасец, словно он только и дожидался, чтобы они повернулись к нему задом, тоже побежал, так что, когда лошади остановились в конце загона и опять стали жаться друг к другу, он их почти настиг. Земля содрогнулась; пыль поднялась облаком, и из этого облака, одна за другой, словно вспугнутые перепелки, начали стремительно вылетать лошади, а он, все с той же несокрушимой верой в свою неуязвимость, бросился вперед. Одно мгновение зрители видели их сквозь пыль – лошадь пятилась в угол между загородкой и конюшней, человек наступал на нее, сунув руку в карман. Потом лошадь ринулась прямо на него в каком-то исступлении и безнадежном отчаянье, а он ударил ее промеж глаз рукояткой револьвера, свалил ее и обеими ногами прыгнул на нее. Лошадь вмиг оправилась от удара, отчаянным усилием встала на колени и приподняла голову вместе со стоявшим на ней человеком; сквозь пыль видно было, как он отделился от земли, сильно качнувшись в сторону, словно тряпка, привязанная к лошадиной голове. Но вот ноги техасца снова коснулись земли, ветер развеял пыль, и замершая толпа увидела, что острые каблуки техасца глубоко ушли в землю, одна рука крепко сжимает лошадиную холку, другая – ноздри, длинная злобная морда вывернута назад, к ободранной спине, и лошадь дышит трудно, с глухим стоном. Миссис Литтлджон уже снова была на дворе. На этот раз никто не видел, как она вышла. Держа в руках охапку белья и стиральную доску, она постояла неподвижно на кухонном крыльце, глядя на лошадей в загоне. Потом, все так же глядя на лошадей в загоне, пошла через двор и, все еще глядя на лошадей в загоне, бросила белье в корыто. – Вы только взгляните, ребята, – выдохнул техасец, обернув к загородке побагровевшее лицо и горящие, выпученные от натуги глаза. – Взгляните живей. Какие ноги, какие… – Видимо, хватка его ослабла. Лошадь снова яростно рванулась, и снова техасец на миг отделился от земли, не переставая говорить: –…какие бабки, тпру, а не то я тебе башку оторву, глядите скорей, ребята, пятнадцать долларов – это же совсем задаром, ну, говорите, кто из вас даст эту цену, тпру, лупоглазый заяц, тпру-у! – Теперь они оба двигались – это был какой-то фантастический, яростный клубок, который безостановочно, со зловещей медлительностью катился по земле, и металлические застежки на подтяжках техасца в непрестанном вращении поблескивали на солнце. Потом широкополая цвета глины шляпа словно нехотя отлетела в сторону; а через мгновение вслед за ней отлетел и сам техасец, но он не упал, удержался на ногах, а лошадь, вырвавшись на волю, умчалась бешеными скачками, как олень. Техасец поднял шляпу, отряхнул с нее пыль, ударив ею о колено, вернулся к воротам и снова залез на столб. Он тяжело дышал. Люди у загородки все так же глядели на него, а он вынул из кармана коробку, вытряхнул оттуда печенье, положил его в рот и, дыша хрипло, со свистом, стал жевать. Миссис Литтлджон отвернулась и принялась черпать ведром воду из бака, наполняя корыто, но после каждого ведра оборачивалась и глядела на загон. – Ну, ребята, – сказал техасец. – Скажите сами, разве эта лошадка не стоит пятнадцати долларов? Разве купишь на пятнадцать долларов столько динамита? Любая пробежит милю за три минуты; можете выгнать ее на пастбище, и она сама себя прокормит; можете работать на ней весь день до упаду, только почаще охаживайте ее оглоблей по башке, и двух дней не пройдет, как она станет совсем смирной, ее палкой придется выгонять из дома на ночь, как кошку. – Он вытряхнул из коробки еще одно печенье и съел его. – Давай, Эк. Начинай торг! Ну как, даешь десять долларов за эту лошадь, Эк?
– На что мне лошадь, которую можно поймать только в медвежий капкан? – сказал Эк.
– Да разве ты не видел, как я сейчас ее поймал?
– Видеть-то видел, – сказал Эк. – Да только не нужна мне такая зверюга, ежели я должен затевать целую войну всякий раз, как окажусь с ней по одну сторону загородки.
– Ну ладно, – сказал техасец. Он все еще не мог отдышаться, но усталость и напряжение с него как рукой сняло. Он вытряхнул на ладонь еще печенье и сунул его себе под усы. – Ладно. Я хочу, чтобы торг наконец начался. Я ведь приехал сюда к вам не на жительство, хоть вы, верно, не нахвалитесь своей округой. Я дарю тебе эту лошадь.
На миг все стихло, даже дыхание все затаили, слышно было только, как дышит техасец.
– Ты мне ее даришь? – спросил Эк.
– Да, если ты назначишь цену на следующую лошадь.
И снова вокруг ни звука, только слышно было, как дышит техасец да миссис Литтлджон звякнула ведром о край котла.
– Я только назначу цену, – сказал Эк. – Но я не обязан покупать лошадь, ежели никто больше не даст.
Подъехал фургон. Он был некрашеный и ободранный. Одно колесо было укреплено планками, прикрученными крест-накрест к спицам тонкой проволокой, на паре тощих мулов была драная упряжь, связанная кусками хлопковой веревки; вожжами тоже служили две обыкновенные, сильно растрепанные веревки. В фургоне сидели женщина в сером, висевшем мешком платье и выцветшей шляпе и мужчина в линялом и заплатанном, но чистом комбинезоне. По улице проехать было нельзя, и мужчина, оставив фургон посреди дороги, слез и пошел к загону, невысокий, щуплый, и в глазах у него было какое-то затаенное беспокойство, смутное и вместе с тем напряженное. Он протолкался через толпу, спрашивая:
– Что такое? Что здесь происходит? Ему подарили лошадь?
– Идет, – сказал техасец. – Эта лошадь с белой лысинкой и ссадиной на шее твоя. Ну а теперь скажи, сколько ты даешь вон за ту белолобую, что словно вываляла голову в бочке с мукой. Сколько? Десять долларов?
– Ему подарили эту лошадь? – снова спросил подошедший.
– Доллар, – сказал Эк.
Техасец как говорил, так и остался с открытым ртом; лицо его с твердыми суровыми глазами вдруг как-то слиняло.
– Один доллар? – сказал он. – Всего один доллар? Я не ослышался?
– Ладно, черт с ней, – сказал Эк, – два доллара. Но я не…
– Погоди, – сказал подошедший. – Эй, ты там, на столбе.
Техасец повернул к нему голову. Остальные обернулись и увидели, что женщина тоже вылезла из фургона, хотя до сих пор они и не подозревали, что она там, потому что не видели, как фургон подъехал. Она подошла к воротам и встала позади мужчины, изможденная, в платье, которое висело на ней мешком, в шляпе и грязных парусиновых тапочках. Она подошла к нему вплоть, но не дотронулась до него, а остановилась у него за спиной, спрятав руки под серым передником.
– Генри, – сказала она пустым голосом.
Мужчина оглянулся через плечо.
– Ступай в фургон, – сказал он.
– Послушайте, хозяйка, – сказал техасец. – Генри сейчас сделает самую выгодную покупку в своей жизни. Эй, ребята, дайте хозяйке подойти поближе, чтобы ей все было видно. Генри выберет верховую лошадь, о которой давно мечтает его супруга. Кто дает десять…
– Генри, – сказала женщина. Она не повысила голоса. И ни разу не взглянула на техасца. Она взяла мужа за рукав. Он обернулся и сбросил ее руку.
– Ступай в фургон, тебе говорят, – сказал он.
Женщина стояла позади него, все так же спрятав руки под передником. Она ни на кого не смотрела, ни к кому не обращалась.
– Мало нам забот, так он надумал купить эту лошадь, – сказала она. – У нас только и есть пять долларов, а потом хоть в богадельню. Мало нам забот…
Мужчина повернулся к ней с каким-то странным выражением подавленной, дремлющей ярости. Остальные стояли у загородки, мрачные, с рассеянным, почти отсутствующим видом. Миссис Литтлджон до сих пор терла белье о доску, размеренно сгибаясь и разгибаясь над полным пены корытом. Теперь она выпрямилась, уперла в бока белые от пены руки и поглядела на лошадей в загоне.
– Заткнись и ступай в фургон, – сказал мужчина. – А не то я прогоню тебя отсюда палкой. – Он повернулся и посмотрел на техасца. – Так ты подарил ему эту лошадь? – сказал он.
Техасец глядел на женщину. Потом он перевел взгляд на ее мужа; все еще не сводя с него глаз, он перевернул коробку. На ладонь ему выпало последнее печенье.
– Да, – сказал он.
– Ну а ежели кто его сейчас переторгует, ему тогда и первая лошадь достанется?
– Нет, – сказал техасец.
– Так, – сказал Генри. – Ну а тот, кто назначит цену на следующую лошадь, получит еще одну задаром?
– Нет, – сказал техасец.
– Но ежели ты отдал задаром лошадь только для того, чтоб начать торг, почему ты не обождал, покуда мы все соберемся?
Техасец отвернулся. Он поднес к лицу пустую коробку и осторожно заглянул в нее, словно там была какая-нибудь драгоценность или ядовитое насекомое. Потом он скомкал коробку и бросил ее у столба, на котором сидел.
– Эк дает два доллара, – сказал он. – Видно, он думает, что торгует у меня не лошадь, а кусок проволоки у нее на шее. Что ж, я возьму и два. Но ежели вы, ребята…
– Выходит, Эк хочет заполучить две лошади по доллару за каждую, – сказал Генри. – Три доллара.
Женщина потянула его за рукав. Не оборачиваясь, он отшвырнул ее руку, и она снова застыла на месте, сложив руки под передником на впалом животе, ни на кого не глядя.
– Люди добрые, – сказала она. – Наши дети всю зиму ходили разутые. Нам скотину и кормить-то нечем. У нас есть пять долларов, чтобы заработать их, я ткала ночами у очага. Мало у нас забот…
– Генри дает три доллара, – сказал техасец. – Накинь еще доллар, Эк, и лошадь твоя.
Лошади почему-то вдруг сорвались с места и так же внезапно остановились, глядя на людей сквозь загородку.
– Генри, – сказала женщина. Ее муж не сводил глаз с Эка. Верхняя губа его дрогнула, обнажив желтые гнилые зубы. Руки, торчавшие из выцветших коротких рукавов старой рубашки, сжались в кулаки.
– Четыре доллара, – сказал Эк.
– Пять долларов! – сказал Генри, поднимая сжатую в кулак руку. Он протиснулся к самому столбу. Женщина не пошла за ним. Теперь она в первый раз взглянула на техасца. Глаза у нее были водянисто-серые, словно выцветшие, как платье и чепец.
– Мистер, – сказала она. – Если вы отнимете у нас эти пять долларов, которые я заработала для своих детей по ночам, будьте прокляты вы и все ваше семя во веки веков.
– Пять долларов! – крикнул Генри. Он рванулся к столбу и дотянулся стиснутым кулаком до коленей техасца. Разжав руку, он протянул комок истрепанных бумажек и серебряной мелочи. – Пять долларов! И кто набавит еще, пускай лучше разобьет мне голову, или я ему разобью.
– Идет, – сказал техасец. – Пять долларов. Продано. Только не тычь в меня кулаком.
В пять часов дня техасец скомкал третью коробку и бросил ее на землю. Медно-красное солнце уже клонилось к закату, освещая косыми лучами белье, развешенное на заднем дворе у миссис Литтлджон, и тень столба, вместе с тенью самого техасца, сидевшего на нем, падала далеко в загон, через который то и дело, без цели и без устали, словно волны, проносились лошади, когда техасец распрямил одну ногу, сунул руку в карман, достал монету и, наклонившись, протянул ее мальчику. Голос у него был сиплый, усталый.
– Ну-ка, малыш, – сказал он. – Сбегай в лавку и купи мне коробку имбирного печенья.
Люди все стояли у загородки – непоколебимая стена комбинезонов и выцветших рубах. Флем Сноупс теперь тоже был здесь, словно из-под земли вырос, он стоял у загородки, совсем близко, но окруженный непроницаемой пустотой, по обе стороны от него оставалось место еще для троих или четверых, стоял и жевал табак, в тех же серых штанах и крошечном галстуке бабочкой, в которых уехал отсюда прошлым летом, в новой кепке, тоже серой, как и старая, но только в клетку, какие носят игроки в гольф, и глядел на лошадей. Все они, кроме двух, были распроданы по цене от трех с половиной до одиннадцати или двенадцати долларов. Покупщики как бы невольно образовали особую группу по другую сторону ворот, они стояли там, положив руки на верхнюю жердину загородки, и еще рассудительнее, еще пристальнее смотрели на своих лошадей, – кое-кто из них владел лошадью вот уже семь или восемь часов, но до сих пор не мог ее забрать. Генри стоял у самого столба, на котором сидел техасец. Жена его ушла и сидела в фургоне, вся неподвижная, серая, в серой одежде, глядя куда-то мимо всего, словно какая-то вещь, которую он бросил в фургон, чтобы увезти, дожидаясь, покуда он не покончит дело, чтобы ехать дальше, терпеливая, безжизненная, чуждая, словно время для нее не существовало.
– Я купил лошадь и выложил за нее деньги, – сказал Генри. Голос у него тоже был сиплый, усталый, безумный блеск в глазах потускнел, они словно ослепли. – И ты хочешь, чтоб я стоял здесь и ждал конца торгов, чтобы взять свою лошадь? Нет уж, торчи здесь хоть до завтра, дело твое. А я хочу забрать свою лошадь и ехать домой.
Техасец взглянул на него со столба. Его рубашка взмокла от пота. Широкое лицо было холодным и спокойным, голос звучал ровно.
– Что ж, бери!
Помедлив, Генри отвернулся. Он понурил голову и стоял, изредка глотая слюну.
– Так, значит, ты мне ее не поймаешь?
– Она не моя, – сказал техасец все тем же ровным голосом.
Немного погодя Генри поднял голову. На техасца он не смотрел.
– Кто поможет поймать мою лошадь? – спросил он.
Никто не отозвался. Они стояли у загородки, молча глядя на загон, где сбились в кучу лошади, уже не такие яркие там, где длинная, густеющая тень дома покрыла их. Из кухни донесся запах жареной ветчины. Шумная стайка воробьев пролетела над загоном и уселась на дерево у самого дома, а в нежной, прозрачной голубизне неба взмывали и падали ласточки, беспорядочно, с пронзительными криками, словно кто-то как попало дергал струны. Не оборачиваясь. Генри громко сказал:
– Эй ты, принеси веревку.
Помедлив немного, его жена зашевелилась. Она слезла с фургона, достала моток новой хлопковой веревки и подошла к мужу. Тот взял веревку и пошел к воротам. Когда Генри взялся за засов, техасец начал медленно спускаться со столба.
– Ступай за мной, – сказал Генри жене.
Женщина стояла на том самом месте, где муж взял у нее веревку. Теперь она двинулась дальше, покорная, сложив руки на животе под передником, и прошла мимо техасца, не глядя на него.
– Не ходите туда, хозяйка, – сказал он.
Она остановилась, не глядя на него, не глядя никуда. Муж отворил ворота, вошел и повернулся, оставив ворота открытыми, но не поднимая глаз.
– Ступай за мной, – сказал он.
– Лучше не ходите туда, хозяйка, – снова сказал техасец.
Женщина неподвижно стояла между ними, лица ее почти не было видно под шляпой, руки сложены на животе.
– Нет, я уж лучше пойду, – сказала она. Все остальные и вовсе не глядели ни на нее, ни на Генри. Они стояли у загородки молчаливые, притворно равнодушные, почти оцепеневшие. Потом жена вошла в загон; муж затворил за ней ворота, повернулся и пошел туда, где сбились в кучу лошади, а жена шла следом в своей серой мешковатой одежде, казалось, она даже не шевелит ногами, а словно стоит на движущейся платформе или на плоту. Лошади смотрели на них. Они жались друг к другу, вертелись и топтались на месте, готовые разбежаться, но не разбегались. Генри крикнул на них. Потом с руганью стал подходить ближе. Жена шла за ним по пятам. Табунок вдруг рассыпался, лошади помчались на своих длинных прямых ногах, огибая людей, но, когда они, отбежав на другой конец загона, снова сбились в кучу, люди снова пошли на них.
– Вон она, – сказал муж. – Гони ее сюда, в угол. – Лошади бросились в разные стороны; та, которую купил Генри, поскакала, почти не сгибая ног. Женщина крикнула на нее; она повернулась, бросилась прямо на Генри, который огрел ее по морде свернутой веревкой, и тогда она шарахнулась и уперлась в угол загородки. – Держи ее там, – сказал муж. Он на ходу разматывал веревку. Лошадь следила за ним дикими, горящими глазами; потом снова сорвалась с места и ринулась на женщину. Та крикнула и замахала на нее руками, но лошадь одним прыжком перемахнула через нее и врезалась в табун. Они побежали следом и загнали ее в другой угол, но женщина снова не сумела преградить путь лошади, и муж, повернувшись, хлестнул ее свернутой веревкой. – Почему ты ее не остановила? – сказал он. – Почему не остановила? – Он снова хлестнул ее; она не шевельнулась, даже не подняла руку, чтобы защититься от удара. Люди у загородки стояли молча, потупившись, пристально глядя себе под ноги. Только Флем Сноупс продолжал смотреть на загон – если только он вообще смотрел туда, – стоя особняком, словно на необитаемом островке, в своей новой клетчатой кепке, и жевал на свой особый манер, двигая челюстями из стороны в сторону.
Техасец сказал что-то, негромко, хрипло и отрывисто. Он отворил ворота, подошел к мужчине и вырвал у него из поднятой руки веревку. Тот круто повернулся, словно хотел броситься на него, слегка присел, согнув колени и растопырив руки, но так и не поднял взгляда выше запыленных ботфортов техасца. Тогда техасец взял его за руку и повел к воротам, а женщина пошла следом, и, когда они вышли, он подождал, пока выйдет и она, а потом закрыл ворота. Вынув из кармана пачку денег, он выбрал одну бумажку и сунул женщине в руку.
– Посадите-ка его в фургон да отвезите домой, – сказал он.
– Это зачем же? – сказал Флем Сноупс. Он тем временем подошел к воротам. Теперь он стоял у столба, на котором раньше сидел техасец. Техасец не глядел на него.
– Он думает, что купил лошадь, – сказал техасец. Он говорил глухо, едва слышно, будто после быстрого бега. – Уведите его, хозяйка.
– Отдай назад деньги, – сказал муж каким-то неживым, обессиленным голосом. – Я купил эту лошадь и заберу ее, даже если мне придется ее пристрелить, прежде чем обротать.
Техасец даже не взглянул на него.
– Уведите его отсюда, – сказал он.
– Забирай свои деньги, а я возьму свою лошадь, – сказал Генри. Он дрожал медленной, неуемной дрожью, словно от холода. Кулаки, торчавшие из обтрепанных рукавов рубашки, судорожно сжимались и разжимались. – Отдай ему деньги, – сказал он жене.
– Ты не покупал у меня никакой лошади, – сказал техасец. – Везите его домой, хозяйка.
Генри поднял измученное лицо с безумными, потускневшими глазами. Он протянул руку. Женщина крепко прижимала бумажку обеими руками к животу. Дрожащей рукой муж долго нашаривал бумажку. Наконец он вырвал ее.
– Эта лошадь моя, – сказал он. – Я купил ее. Вот свидетели. Я заплатил за нее. Лошадь моя. Вот. – Он повернулся и протянул деньги Сноупсу. – Ты имеешь до этих лошадей какое-то касательство. Я купил лошадь. Вот деньги. Я купил ее. Спроси вон у него.
Сноупс взял деньги. Люди стояли у загородки, хмурые, безразличные, делая вид, будто ничего не замечают. Солнце село; теперь только сиреневые тени ползли по фигурам людей и по загону, где снова неизвестно почему всполошились и забегали лошади. Прибежал мальчик, все такой же резвый и неутомимый, с новой коробкой печенья. Техасец взял ее, но распечатал не сразу. Он бросил веревку на землю, Генри нагнулся и долго шарил, прежде чем поднять ее. Теперь он стоял, понурившись и так стиснув веревку, что пальцы побелели. Женщина не шевелилась. Сумерки быстро густели, высоко в голубое, меркнущее небо в последний раз взмыли ласточки. Техасец оторвал донышко у коробки и вытряхнул себе на ладонь одно печенье; казалось, он внимательно разглядывал свою руку, которая медленно сжималась в кулак, пока сквозь пальцы не посыпалась мелкая, табачного цвета крошка. Он тщательно вытер руку о штаны, поднял голову, нашел глазами мальчика и отдал ему коробку.
– Бери, малыш, – сказал он. Потом поглядел на женщину и сказал все так же глухо, едва слышно: – Завтра мистер Сноупс отдаст вам ваши деньги. А сейчас посадите-ка его в фургон и везите домой. Никакой лошади я ему не продавал. Деньги получите завтра у мистера Сноупса.
Женщина повернулась, пошла к фургону и залезла в него. Никто не взглянул ей вслед, даже муж, который все стоял, понурив голову и бесцельно перекладывая веревку из руки в руку. Все стояли, прислонясь к загородке, серьезные и молчаливые, словно у границы чужой земли, чужой эпохи.
– Сколько их у тебя еще? – спросил Сноупс.
Техасец оживился; оживились и остальные, подошли поближе, прислушиваясь.
– Теперь три, – сказал техасец. – Я бы всех трех обменял на коляску, либо…
– Она уже на дороге, – сказал Сноупс, пожалуй, слишком отрывисто, слишком поспешно, и отвернулся. – Веди своих мулов.
И он ушел. Все смотрели, как техасец отворил ворота и перешел загон, а лошади шарахнулись от него, но уже без прежней слепой ярости, словно и они тоже были измотаны, обессилены после долгого дня, и вошел в конюшню, а потом вышел оттуда, ведя двух взнузданных мулов. Фургон стоял под навесом рядом с конюшней. Техасец скрылся в фургоне и через секунду вылез оттуда, держа скатанную постель и пальто, и повел мулов к воротам, а лошади снова сбились в кучу и глядели на него своими разноцветными глазами, теперь уже совсем спокойно, словно и они поняли, что между ними не только заключено наконец перемирие, но что они больше никогда в жизни не увидят друг друга. Кто-то отворил ворота. Техасец вывел мулов, и все потянулись за ним, оставив Генри одного у закрытых ворот, а он все стоял, понурив голову, с веревкой в руке. Они прошли мимо фургона, в котором сидела его жена, серая и неподвижная, растворяясь в сумерках, сливаясь с ними и ни на что не глядя; мимо веревки, на которой сушилось мокрое, обвислое белье, сквозь острый горячий запах ветчины, шедший из кухни гостиницы миссис Литтлджон. Когда они дошли до конца проулка, показалась луна, почти полная, огромная, бледная, она совсем не светила с неба, на котором еще не померкли последние отблески дня. Сноупс стоял возле пустой коляски. Это была та самая коляска с блестящими колесами и бахромчатым верхом, в которой обычно ездили он сам и Билл Варнер. Техасец тоже остановился, глядя на нее.
– Так, так, – сказал он. – Значит, вот она какая.
– Если не нравится, поезжай обратно в Техас верхом на муле, – сказал Сноупс.
– Ладно, – сказал техасец. – Только уж тогда мне нужна пуховка или, на худой конец, мандолина.
Он осадил мулов, ввел их в оглобли и взял хомут. Два человека подошли и застегнули постромки. Все смотрели, как он садится в коляску и берет вожжи.
– Куда теперь? – спросил один. – Домой, в Техас?
– На этой колымаге? – сказал техасец. – Да в первом же техасском кабаке, только завидят ее, сразу созовут комитет бдительности. К тому же я не хочу, чтобы этакая красота пропадала зазря в Техасе – этот кружевной верх и шикарные колеса. Раз уж я заехал так далеко, то заверну на денек-другой поглядеть северные города: Вашингтон, Нью-Йорк, Балтимору. Где тут у вас самая ближняя дорога на Нью-Йорк?
Этого никто не знал. Но ему объяснили, как доехать до Джефферсона.
– Так и езжай, все прямо, – сказал Фримен. – Держи по дороге, мимо школы.
– Ладно, – сказал техасец. – Смотрите же, не забудьте, этих лошадок надо почаще охаживать по башке, покуда они к вам не привыкнут. Тогда у вас не будет с ними никаких хлопот.
Он снова натянул вожжи. Сноупс подошел и сел в коляску.
– Подвези меня до дома Варнера, – сказал он.
– А я не знал, что поеду мимо его дома, – сказал техасец.
– Так тоже можно проехать в город, – сказал Сноупс. – Трогай.
Техасец дернул вожжи. Но вдруг он остановил мулов.
– Тпру. – Он распрямил ногу и сунул руку в карман. – Ну-ка, малыш, – сказал он мальчику. – Беги в лавку и купи… Или ладно, не надо. Я остановлюсь и куплю сам, мне все равно по пути. Ну, всего, друзья, – сказал он. – Не скучайте.
Он развернул мулов. Коляска покатила. Все глядели ей вслед.
– Похоже, что он решил подъехать к Джефферсону совсем не с того бока, – сказал Квик.
– Он доберется дотуда налегке, – сказал Фримен. – Так что ему не трудно будет подъехать с какого хочешь бока.
– Да, – сказал Букрайт. – В карманах у него не больно-то будет звенеть.
Они пошли обратно к загону меж двумя рядами терпеливых, неподвижных фургонов, по узкому проходу, в самом конце почти загороженному фургоном, где сидела женщина. Муж ее все еще стоял у ворот с мотком веревки, а тем временем спустилась ночь. Светло было почти по-прежнему; пожалуй, свет стал даже ярче, но приобрел неземную, потустороннюю, лунную яркость, и теперь, когда они снова стояли у загородки, пятнистые шкуры лошадей были ясно видны и даже как бы светились, но они сделались плоскими и похожими одна на другую, – это были уже не лошади, не существа из костей и мяса, и трудно было себе представить, что они способны бить и калечить, ранить и причинять боль.
– Ну, чего ж мы ждем? – сказал Фримен. – Покуда они спать лягут?
– Я думаю, надо каждому взять по веревке, – сказал Квик. – Эй вы, берите веревки.
Но веревка оказалась не у всех. Некоторые, выйдя утром из дому, даже не слышали о конских торгах. Они просто случайно заехали на Французову Балку, узнали об этом и остались.
– Сходите в лавку и купите, – сказал Фримен.
– Лавка уже закрыта, – сказал Квик.
– Нет, не закрыта, – сказал Фримен. – Иначе Лэмп Сноупс был бы здесь.
Пока те, кто привез с собой веревки, доставали их из фургонов, остальные пошли к лавке. Приказчик как раз запирал ее.
– Значит, вы еще не начали их ловить? – сказал он. – Вот здорово. А то я боялся, что не поспею вовремя.
Он снова отпер дверь, из которой пахнуло застарелыми, острыми запахами сыра, кожи и патоки, отмерил куски веревки, и они всей гурьбой, окружив приказчика, пошли назад, говоря без умолку, хотя он их и не слушал. Груша у гостиницы миссис Литтлджон была словно отлита из лунного серебра, пересмешник, тот же самый или другой, уже пел на ней, а к загородке были привязаны лошади с бричкой Рэтлифа.
– То-то мне весь день чего-то не хватало, – сказал один. – А это Рэтлифа не было, не слыхать было его советов.
Когда они проходили мимо загородки, миссис Литтлджон на заднем дворе снимала белье с веревки; запах ветчины еще стоял в воздухе. Остальные ждали у ворот, за которыми лошади снова сбились в кучу, похожие на призрачных рыб, плавающих в ярком неверном свете луны.
– Пожалуй, верней всего ловить их по одной, – сказал Фримен.
– По одной, – сказал и Генри. Он, видимо, не сходил с места с тех самых пор, как техасец вывел своих мулов из загона, только положил руки на створку ворот, одной рукой все еще сжимая моток веревки. – По одной, – сказал он. И стал ругаться, хрипло, монотонно, устало. – После того как я простоял здесь целый день, дожидаясь, покуда этот… – Он скверно выругался. Потом начал трясти ворота с усталой яростью, пока кто-то не отодвинул засов, и тогда ворота распахнулись, и Генри вошел в загон, а за ним все остальные. Мальчик не отставал от отца, но Эк заметил его и обернулся.
– Ну-ка, – сказал он. – Дай сюда веревку. А сам ступай за ворота.
– Ну-у, па! – сказал мальчик.
– Нет, брат. Они тебя затопчут. И так уж чуть не затоптали нынче утром. Стой у ворот.
– Но ведь нам надо двух поймать.
Эк постоял немного, глядя на мальчика.
– Верно, – сказал он. – Нам надо двух. Ладно, идем, только не отставай от меня. И когда я крикну «беги», ты беги. Слышишь?
– Встаньте цепью, ребята, – сказал Фримен. – Не давайте им прорваться.
Они двинулись через загон широкой подковой, каждый с веревкой в руке. Лошади были теперь в дальнем конце загона. Одна тревожно всхрапнула; весь табун заволновался, но остался на месте. Фримен оглянулся и увидел мальчика.
– Уберите отсюда мальчишку, – сказал он.
– И впрямь, иди-ка ты отсюда, – сказал Эк сыну. – Полезай вон в тот фургон. Оттуда тебе все будет видно.
Мальчик повернулся и побежал к навесу, под которым стоял фургон. Цепочка людей медленно продвигалась по загону, и Генри шел впереди всех.
– А теперь не зевай, – сказал Фримен. – По-моему, лучше нам сперва загнать их в конюшню…
Лошади вдруг сорвались с места. Они пустились бежать в обе стороны вдоль загородки. Люди по концам подковы тоже побежали, крича и размахивая руками.
– Заходи наперерез, – сказал Фримен срывающимся голосом. – Гони их назад.
Они заставили лошадей повернуть назад и снова погнали их впереди себя; лошади сгрудились и метались отчаянно, создавая призрачную и суетливую неразбериху.
– Держите их, – сказал Фримен. – Не давайте им удрать.
Люди снова двинулись вперед. Эк обернулся; он сам не знал, что его заставило это сделать – какой-то звук или что-нибудь еще. Мальчик опять шел за ним по пятам.
– Тебе что сказано? Ступай в фургон и сиди там, – сказал Эк.
– Гляди, па! – сказал мальчик. – Вон она, наша! Вона! – Это была лошадь, которую техасец подарил Эку. – Поймай ее, па!
– Не путайся под ногами, – сказал Эк. – Ступай в фургон.
Цепь не останавливалась. Лошади кружились на месте и все теснее жались в кучу, шаг за шагом оттесняемые к открытым воротам конюшни. Генри по-прежнему шел впереди, чуть пригнувшись, и его тощая фигура даже в неверном свете луны излучала все ту же обессилевшую ярость. Пятнистая куча лошадей откатывалась перед наступавшими людьми, как снежный ком, толкаемый невидимой рукой, все ближе и ближе к черному зеву конюшни. Как потом стало ясно, лошади, не сводившие глаз с людей, только тогда поняли, что их гонят к конюшне, когда, пятясь, вступили в ее тень. Вопль неописуемой ярости вырвался из их гущи, и они ринулись вперед, отчаянные и сеющие отчаяние; один лишь миг, застыв в безмолвном ужасе, люди смотрели на них, а потом повернулись и побежали, а цветная волна длинных свирепых морд и пятнистых грудей настигла и разметала их, совершенно поглотив Генри и мальчика, которые застыли на месте, только Генри поднял обе руки, все еще сжимая веревку, а потом схлынула, и лошади пронеслись через загон прямо к воротам, которые тот, кто вошел последним, забыл запереть и оставил приотворенными, вломились в них, сорвав створы с петель, и понеслись среди запрудивших улицу фургонов и запряженных лошадей, которые тоже заволновались, вставая на дыбы и грызя постромки и дышла. Эта бешеная лавина промчалась по улице, забурлила, обтекая тот фургон, где сидела женщина, и понеслась дальше, на дорогу, где, разделившись надвое, стремительно ринулась в разные стороны.
Все, кроме Генри, вскочили на ноги и побежали к воротам. Мальчик снова остался невредим, его даже не сбили с ног; отец схватил его, приподнял над землей и стал трясти, как тряпичную куклу.
– Сказано тебе было, сиди в фургоне! – кричал Эк. – Сказано тебе!
– Гляди, па! – выкрикивал мальчик между встрясками. – Вон наша лошадка! Вона!
Это снова была та лошадь, которую техасец подарил Эку. О второй они не вспоминали, ее словно и не было вовсе; как будто кровь, которая текла в жилах у обоих, властно и мгновенно заставила их забыть о той лошади, за которую они уплатили деньги. Они бросились к воротам и побежали вслед за другими. Они видели, как лошадь, подаренная техасцем, вдруг повернула назад, вбежала через ворота во двор миссис Литтлджон, одним махом вскочила на крыльцо, вломилась на деревянную веранду и исчезла внутри дома. Эк и мальчик вбежали на веранду. На столе, прямо за дверью, стояла лампа. В ее мягком свете они видели, как лошадь, словно шутиха, заполнила собой весь длинный коридор, разноцветная, неистовая, грозная. В дальнем углу прихожей стояла желтая лакированная фисгармония. Лошадь налетела на нее; фисгармония издала один звук, почти аккорд, низкий, звучный и торжествующий, полный глубокого и сдержанного удивления; лошадь снова круто повернула и вместе со своей огромной, причудливой тенью исчезла в другой двери. Это была спальня; там, спиной к двери, стоял Рэтлиф в нижнем белье и в одном носке, держа другой в руках и высунувшись в открытое окно, выходившее к загону. Он обернулся через плечо. Одно мгновение он и лошадь таращили друг на друга глаза. Потом Рэтлиф выпрыгнул в окно, а лошадь попятилась из комнаты назад в коридор, повернулась и увидела Эка с мальчиком – они как раз вбежали с веранды, и в руках у Эка была веревка. Она снова повернулась и, пробежав по коридору, выскочила на заднее крыльцо, куда в этот миг поднималась миссис Литтлджон, неся охапку белья, снятого с веревки, и стиральную доску.
– Пошла вон, сукина дочь, – сказала она и ударила доской по длинной ошалевшей морде; доска развалилась на две аккуратные половинки, а лошадь ринулась назад по коридору, где теперь стояли Эк и мальчик.
– Прячься, Уолл! – заревел Эк.
Он бросился на пол ничком, прикрывая голову руками. Мальчик остался на месте, и в третий раз лошадь пронеслась над ним, а он даже не пригнулся, даже не сморгнул, и снова выскочила на веранду, и в тот же миг там появился Рэтлиф, все еще с носком в руке, он обежал вокруг дома и поднялся на крыльцо. Лошадь повернула на всем скаку и, пробежав веранду, перемахнула через перила и вырвалась на свободу, мелькнув в свете луны, словно какая-то страшная нежить. Она спрыгнула в загон и, не останавливаясь, поскакала дальше через сорванные с петель ворота, меж опрокинутых фургонов, среди которых один стоял невредимый, и в нем по-прежнему сидела жена Генри, а оттуда на дорогу.
В четверти мили от перекрестка дорога пошла под уклон, белея в свете луны меж лунными тенями придорожных деревьев, а лошадь все скакала, стараясь настичь и втоптать в пыль свою тень, вниз, к мосту через ручей. Мост был деревянный и узенький – едва впору проехать одной повозке. Когда лошадь добежала до ручья, по мосту ей навстречу ехал фургон, запряженный парой мулов, которые дремали на ходу, убаюканные неторопливым движением. На козлах сидел Талл с женой, а на плетеных стульях – их четыре дочери: они возвращались от кого-то из родственников миссис Талл, где провели весь день и загостились допоздна. Лошадь не остановилась, не свернула в сторону. Она вломилась прямо на мост и втиснулась между мулами, которые мигом проснулись и рванули в разные стороны, а лошадь, как очумевшая белка, уже лезла прямо по дышлу и скребла передними копытами передок фургона, словно хотела забраться в него, а Талл орал и лупил ее по морде кнутом. Мулы старались развернуть фургон посреди моста. Фургон подался вбок, круто накренился, перила обломились с громким треском, заглушившим вопли женщин; лошадь наконец подмяла под себя одного из мулов, а Талл, встав в фургоне, саданул ее в морду каблуком. Тут передок фургона взлетел вверх, и Талл, который крепко, несколько раз накрутил вожжи на руку, грохнулся на дно фургона среди перевернутых стульев и задранных юбок женщин. Лошадь вырвалась на волю и поскакала дальше, круша деревянный настил. Фургон снова накренился; мулы все-таки развернули его на мосту, хотя развернуть его было негде, и теперь били копытами, обрывая постромки. Освободившись, они выволокли Талла из фургона. Он ударился лицом о доски, и мулы протащили его несколько футов, покуда не лопнули накрученные на руку вожжи. А лошадь тем временем исчезла из виду, оставив далеко позади обезумевших мулов. Пять женщин еще причитали над бесчувственным телом Талла, когда подоспели Эк, все не выпускавший из рук веревку, и мальчик. Эк тяжело дышал.
– Куда она побежала? – спросил он.
А в опустевшем, залитом лунным светом загоне жена Генри, миссис Литтлджон, Рэтлиф, приказчик Лэмп Сноупс и еще три человека подняли Генри с изрытой копытами земли и перенесли на задний двор. Лицо у него побелело и застыло, глаза были закрыты, голова тяжело свесилась вниз, кадык торчал, оскаленные зубы тускло поблескивали. Они понесли его к дому мимо высоких деревьев, тень которых полосами ложилась на землю. Сквозь дремотную, серебристую тишину ночи донесся слабый шум, словно раскат дальнего грома, и затих.
– Это которая-нибудь из них на мосту, – сказал один из мужчин.
– Это лошадь Эка Сноупса, – сказал другой. – Та, что забежала в дом.
Миссис Литтлджон первой вошла в прихожую. Когда внесли Генри, она уже взяла со стола лампу и, высоко подняв ее, стояла у открытой двери.
– Несите его сюда, – сказала она. Она прошла вперед и поставила лампу на тумбочку. Они последовали за ней, пыхтя и тесня друг друга, и положили Генри на кровать, а миссис Литтлджон подошла и взглянула на умиротворенное бескровное лицо Генри. – Ну и дела, – сказала она. – Эх вы, мужчины. – Они чуть попятились, теснясь, переминаясь с ноги на ногу, не глядя ни на нее, ни на жену Генри, которая стояла в ногах кровати, неподвижная, сложив руки под передником. – Пусть все выйдут отсюда, В. К., – сказала миссис Литтлджон Рэтлифу. – Ступайте на двор. Поглядите, не найдется ли там другой игрушки, такой, чтоб укокошила еще кого-нибудь из вас.
– Ладно, – сказал Рэтлиф. – Идем, ребята. Здесь в доме уже ловить некого.
Все пошли за ним к двери на цыпочках, наступая друг другу на ноги, и их огромные тени ползли по стене.
– Ступайте позовите Билла Варнера, – сказала миссис Литтлджон. – Скажите, мул занемог.
Они вышли не оглядываясь. На цыпочках прошли коридор, веранду и окунулись в море лунного света. Только теперь они заметили, что серебристый воздух словно бы пронизан слабыми, неизвестно откуда исходящими звуками – тонкие и далекие крики, потом снова стук копыт на деревянном мосту, похожий на дальний гром, и снова крики, слабые, тонкие, взволнованные и звонкие, как колокольчики. Один раз можно было даже расслышать слова: «Тпру. Держи ее».
– Быстро она через этот дом пробежала, – сказал Рэтлиф. – Теперь, наверное, зашла в гости к другой хозяйке. – Позади них, в доме, громко закричал Генри. Они оглянулись назад, в темноту прихожей, куда из двери спальной падал прямоугольник света, и услышали, как крик перешел в хриплый, одышливый стон: «А-а, а-а, а‑а», – на все более высокой ноте, а потом стон снова перешел в крик. – Идем, – сказал Рэтлиф. – Надо позвать Варнера. – И они гурьбой пошли по дороге, выбеленной лунным светом, сквозь трепетную апрельскую ночь, пронизанную журчанием бродящих соков, влажным шорохом лопающихся почек, несмолкающими, тонкими, тревожными криками и короткими, замирающими раскатами копыт. В доме Варнера было темно, в свете луны он казался тусклым и плоским. Они стояли темной кучей посреди поблескивавшего серебром двора и кричали под темными окнами до тех пор, пока в одном не показалась чья-то фигура. Это была жена Флема Сноупса. Она была вся в белом, и на этом фоне ее тяжелая коса казалась почти черной. Она не высунулась наружу, а просто стояла у окна, вся в лунном свете, как видно, ослепленная им, во всяком случае, вниз она не глядела – тяжелые, золотые волосы, на лице – не трагическое и даже, пожалуй, не обреченное выражение, а просто печаль проклятия; плавные округлости крепких грудей выступали под мраморно-белыми складками одежды; какой Брунгильдой, какой Лорелеей на фальшивой скале из папье-маше, какой Еленой, вернувшейся в призрачный, обманный Аргос[100], никого не ждущей, казалась она стоявшим внизу.
– Добрый вечер, миссис Сноупс, – сказал Рэтлиф. – Мы пришли за дядюшкой Биллом. Генри Армстид ранен, он у миссис Литтлджон.
Она исчезла. Мужчины ждали в лунном сиянии, прислушиваясь к слабым, далеким крикам и возгласам, пока не вышел Варнер, который появился быстрее, чем они ожидали, накинув пальто поверх ночной рубашки и на ходу застегивая штаны, а подтяжки двумя петлями болтались под полами пальто. Он нес потертый чемодан с похожими на паяльники инструментами, которыми он вливал лекарства, резал, пускал кровь и вскрывал нарывы или рвал зубы лошадям и мулам; он сошел с крыльца, худой и нескладный, и его хитрое, жесткое лицо чуть насторожилось, когда и он прислушался к слабым, звонким крикам, которыми был пронизан серебристый воздух.
– Что они, все травят своих кроликов? – сказал он.
– Да, кроме Генри Армстида, – сказал Рэтлиф. – Этот уже свое получил.
– Ха, – сказал Варнер. – Это ты, В. К.? Сам-то много ли накупил?
– Я опоздал, – сказал Рэтлиф. – Никак не мог поспеть вовремя…
– Ха, – сказал Варнер. Они вышли за ворота и зашагали по дороге. – Что ж, ночь сегодня ясная и прохладная, для охоты в самый раз. – Луна теперь светила прямо над головой, – жемчужно-дымчатая, она сияла над бледными звездами и меж бледных звезд, в мягком небе, которое медленно, виток за витком, свертывалось по краям. Они шли тесной гурьбой, топча свои тени на мягкой дорожной пыли и тени распускавшихся деревьев, кроны которых летели к бледному небу, вонзаясь в него красивыми острыми верхушками. Они миновали темную лавку. Потом впереди показалась груша. Она высилась в туманной серебристой неподвижности, словно застывший снежный каскад; пересмешник все пел на ее ветке. – Поглядите на эту грушу, – сказал Варнер. – Видать, богато уродит в нынешнем году.
– Да и кукуруза тоже, – сказал один.
– Такая луна хороша для всякого плода, – сказал Варнер. – Помню, как мы с миссис Варнер ждали рождения Юлы. У нас уже была тогда целая куча детишек, и, может, лучше бы на этом и успокоиться. Но я хотел еще дочерей. Старшие повыскочили замуж и разъехались, а мальчишки, те едва подрастут и становятся хоть на что-нибудь годны, глядишь, работать и не думают, некогда им. Знай сидят возле лавки да языки чешут. А девчонка останется и будет работать, покуда замуж не выйдет. Одна старуха сказала раз моей матушке, что ежели женщина, как затяжелеет, покажет живот полной луне, то будет девочка. Ну, миссис Варнер и лежала каждую ночь под луной с голым животом, покуда не понесла, да и потом тоже. А я приложу ухо и слышу, как Юла там брыкается и ворочается, как дьяволенок, луну, значит, чувствует.
– Вы думаете, это и взаправду луна помогала, дядюшка Билл? – спросил кто-то.
– Ха, – сказал Варнер. – Можете попытать сами. Мало, что ли, баб, которые подставляют голый живот луне, или солнцу, или даже просто вашим рукам, чтобы вы их лапали, и очень даже может статься, что малость погодя там появится кое-что, и можно будет приложить ухо и послушать, ежели только вы сами к тому времени не зададите деру. Как по-твоему, В. К.?
Кто-то засмеялся.
– Меня не спрашивайте, – сказал Рэтлиф. – Я всюду опаздываю, даже лошадь по дешевке купить и то не успел.
На этот раз засмеялись двое или трое. Но, услышав хриплые стоны Генри: «А-а! А-а! А-а!», они резко оборвали смех, словно не ожидали этого. Варнер шел впереди, худой, волоча ноги, но быстрым шагом, хотя все еще прислушивался, склонив голову, к слабым, тревожным, неумолчным крикам, которые неслись сквозь серебристое сияние неведомо откуда, по временам почти мелодичные, словно замирающий звон колокольцев; снова послышался короткий, частый грохот копыт по деревянным доскам.
– Еще одна лошадь на мосту, – сказал кто-то.
– Ну что ж, хозяева, видно, хоть так расходы окупят, – сказал Варнер. – Хоть порезвятся за свои деньги, и то развлечение. Взять, к примеру, человека, у которого целый год нет других развлечений, кроме как разбрасывать навоз по полю. Ежели он еще не так стар, чтобы спокойно спать на своей кровати, но не так молод, чтобы, как блудливый кот, лазить в чужие окна, в такую ночь развлечение вроде этого ему в самую пору. По крайности завтра ночью будет спать как убитый, ежели только к тому времени попадет домой. Кабы знать заранее, можно было бы натаскать на лошадей свору собак. Устроили бы тогда настоящую охоту.
– Конечно, все зависит от того, как на это взглянуть, – сказал Рэтлиф. – Право же, Букрайту, и Квику, и Фримену, и Эку Сноупсу, и всем другим новоиспеченным лошадникам было бы все равно как маслом по сердцу, ежели б их выучить так смотреть на дело, потому что скорей всего ни одному из них это просто не приходит в голову. Сдается мне, никто из них уже не надеется излечиться от техасской болезни, которую занесли сюда этот Дик Вырви Глаз и Флем Сноупс.
– Ха, – сказал Варнер. Он отворил ворота и вошел во двор гостиницы миссис Литтлджон. Тусклый свет все еще падал в прихожую из дверей спальной; там, не умолкая, стонал Армстид: «А-а! А‑а! А-а!» – У всякой лекарки свои припарки, только от смерти излечить нельзя.
– Даже если лечить загодя, – сказал Рэтлиф.
– Ха, – снова сказал Варнер. Остановившись, он быстро оглянулся на Рэтлифа. Но его блестящие колючие глазки не были видны; виднелись только косматые, низко нависшие брови, которые застыли резким изломом, насупленные сосредоточенно, но не хмуро, а с какой-то едкой насмешкой. – Даже если лечить загодя. А уж если дышать больше невмоготу, значит, твоему векселю срок вышел.
А на второй день, в девять часов утра, на галерее лавки сидели на скамейке или на корточках пятеро мужчин. Шестым был Рэтлиф. Он говорил стоя:
– Может, в ту ночь, как говорит Эк, в гостинице у миссис Литтлджон и вправду была всего одна лошадь. Но тогда это был самый большой табун из одной лошади, какой мне доводилось видеть. Она была у меня в комнате и на крыльце веранды, и в то же самое время я слышал, как миссис Литтлджон огрела ее по башке стиральной доской на заднем дворе. И все же она удрала от всех и отовсюду. Я так думаю, что техасец это самое и имел в виду, когда говорил, что нам от них прямая выгода: надо быть черт знает каким невезучим, чтобы суметь подойти к которой-нибудь из них близко и получить удар копытом.
Засмеялись все, кроме Эка. Он и его сын ели. Поднявшись на галерею, Эк сразу зашел в лавку, вынес оттуда бумажный пакет, достал из него кусок сыра, аккуратно разрезал сыр перочинным ножом на две равные части, дал одну мальчику, потом вынул из пакета пригоршню галет и тоже дал мальчику, и теперь они сидели рядом на корточках у стены, похожие друг на друга как две капли воды, только один побольше, а другой поменьше, и ели.
– Интересно, что эта лошадь подумала о Рэтлифе? – сказал один. Во рту он держал персиковую веточку. На ней было четыре цветка, точь-в-точь крошечные балетные юбочки из пунцового тюля. – Выпрыгнул в окно в одной рубашке и снова вбежал через дверь. Интересно, сколько Рэтлифов она видела?
– Не знаю, – сказал Рэтлиф. – Но если она видела хоть вполовину столько Рэтлифов, сколько я лошадей, она была в осаде, ей же богу. Куда ни гляну, отовсюду эта тварь кидается на меня или крутится волчком, чтобы после еще разок перемахнуть через мальчишку. А мальчишка каков, один раз он простоял прямо под ней ровно полторы минуты по часам, даже не пригнув головы, и глазом не сморгнул. Да, братцы, когда я обернулся и увидел в дверях этого зверя с горящими глазами, я готов был бы поклясться, что Флем Сноупс привез из Техаса тигра, если б не знал, что один тигр никак не может занять всю комнату. – Они снова тихо засмеялись. Лэмп Сноупс, приказчик, сидя на единственном стуле в дверях лавки и загораживая вход, вдруг фыркнул.
– Знай Флем, как быстро вы, ребята, расхватаете его лошадей, он и впрямь привез бы парочку тигров, – сказал он. – Да и обезьян тоже бы прихватил.
– Так, значит, это Флемовы лошади, – сказал Рэтлиф.
Смех смолк. Остальные трое от нечего делать строгали складными ножами палочки и щепки. Теперь все их внимание, казалось, было поглощено ловким и почти механическим движением ножей. Приказчик быстро поднял голову и поймал пристальный взгляд Рэтлифа. Всегдашняя недоверчивая ухмылка теперь исчезла с его лица; остались только неподвижные морщины вокруг рта и глаз.
– Да разве Флем говорил, что лошади его? – сказал он. – Только вы, городские, умнее нас, деревенских. Похоже, что вы наперед знаете мысли Флема.
Но Рэтлиф уже не смотрел на него.
– И все-таки мы их всех раскупили, – сказал он. Теперь он снова смотрел на сидевших сверху, умный, спокойный, пожалуй, чуть хмурый, но по-прежнему совершенно непроницаемый. – Вот Эк, к примеру. Ему надо кормить жену и детей. Он купил двух лошадок, хотя, как вы знаете, уплатил только за одну. Говорят, люди ловили этих зверюг вчера до полуночи, а Эк с сыном и вовсе два дня не были дома.
Все, кроме Эка, снова засмеялись. Эк отрезал кусок сыра, поддел его кончиком ножа и отправил в рот.
– Эк одну поймал, – сказал еще кто-то.
– В самом деле? – сказал Рэтлиф. – Которую же, Эк? Дареную или купленную?
– Дареную, – сказал Эк, прожевывая сыр.
– Так, так, – сказал Рэтлиф. – А я и не знал. Но все-таки одной лошади Эку не хватает. Как раз той, за которую деньги плачены. А это верное доказательство, что лошади не Флемовы, – кто же всучит своему родичу то, что и поймать невозможно?
Они снова засмеялись, но сразу же смолкли, как только заговорил приказчик. Голос его звучал совсем невесело.
– Послушай, – сказал он. – Пусть так. Мы не спорим, что ты умнее нас всех. Ты не покупал лошади ни у Флема, ни у кого другого, а ежели так, не твое это дело, и не лучше ли будет на этом покончить.
– Конечно, – сказал Рэтлиф. – На этом и покончили позавчера вечером. По милости того, кто забыл запереть ворота. Все, кроме Эка. Оно и понятно: ведь мы знаем, что эта лошадь не была Флемова, потому что досталась Эку задаром.
– И, кроме Эка, есть еще такие, которые по сю пору дома не были, – сказал человек с веточкой во рту. – Букрайт и Квик все гоняются за своими лошадками. Вчера в восемь вечера их видели в Бертсборо[101], в трех милях от Старого Города. А лошадь неизвестно чья, она их и близко не подпускает.
– Конечно, – сказал Рэтлиф. – С той самой секунды, как кто-то оставил ворота открытыми, только одного из этих лошадников и можно сыскать без ищеек – Генри Армстида. Он лежит у миссис Литтлджон, оттуда и загон виден, так что когда его лошадь воротится, ему надо будет только крикнуть жене, чтобы та выбежала с веревкой и обротала ее… – Он запнулся, но лишь на мгновение, и тут же сказал: «Доброе утро, Флем», – не меняя тона, так что заминка прошла незамеченной. Все, кроме приказчика, который вскочил, уступая стул с подобострастной поспешностью, и Эка с сыном, продолжавших есть, смотрели в пол, мимо своих неподвижных рук, а Сноупс в серых штанах, крошечном галстуке и новой клетчатой кепке взошел на крыльцо. Он жевал; в руке он держал наготове белую сосновую дощечку; он кивнул, ни на кого не глядя, сел на стул, открыл нож и принялся строгать свою дощечку. Приказчик прислонился к косяку по другую сторону двери, почесывая спину. На лице его снова появилась недоверчивая ухмылка, в которой чувствовалась тайная настороженность.
– Ты пришел в самое время, – сказал он. – Рэтлиф тут ломает себе голову над тем, чьи же все-таки эти лошади. – Сноупс старательно провел ножом по дощечке, и под лезвием закурчавилась аккуратная, тонкая стружка. Принялись строгать и остальные, пристально глядя куда-то мимо, все, кроме Эка и мальчика, которые еще ели, и приказчика, который чесал спину о дверной косяк и пристально, с той же тайной настороженностью, глядел на Сноупса. – Может, ты его успокоишь.
Сноупс повернул голову и сплюнул через всю галерею, прямо на землю у крыльца. Он наставил нож и повел новую стружку.
– Он сам был здесь, – сказал Сноупс. – И знает столько же, сколько все.
Приказчик захихикал, все лицо его, словно скомканное невидимой рукой, стянулось к носу. Он хлопнул себя по ляжке.
– Что, съел? – сказал он. – Куда тебе против него.
– Пожалуй что так, – сказал Рэтлиф. Он стоял, ни на кого не глядя, устремив непроницаемый сосредоточенный взгляд на пустую дорогу за домом миссис Литтлджон. Неизвестно откуда, словно из-под земли, появился неуклюжий паренек в комбинезоне, из которого он давно вырос. Он постоял немного на дороге, так близко от них, что с галереи до него можно было доплюнуть, нерешительно, словно и впрямь вырос из-под земли и сам не знает, куда пойдет, когда сдвинется с места, и ему это безразлично. Он не глядел ни на что и, уж во всяком случае, не глядел на галерею, и с галереи на него никто не взглянул, кроме мальчика, который смотрел на него серьезно и пристально своими голубыми глазами, поднеся ко рту надкушенную галету. Паренек чуть враскачку пошел дальше по дороге в своем тесном комбинезоне и скрылся за углом лавки, а мальчик на галерее провожал его взглядом, поворачивая вслед свою круглую голову с немигающими глазами. Потом он откусил еще кусочек галеты и стал жевать. – Правда, остается еще миссис Талл, – сказал Рэтлиф. – Должно быть, она подаст на Эка в суд, захочет с него возмещение взыскать за то, что Талл покалечился на мосту. Ну а Генри Армстид…
– Ежели у человека не хватает ума поберечься, пусть на себя пеняет, – сказал приказчик.
– Конечно, – сказал Рэтлиф все тем же задумчивым, отсутствующим тоном, едва повернув голову. – А с Генри Армстидом все в порядке, потому что, насколько я понял из нашего сегодняшнего разговора, лошадь, которую он считал своей, уже не принадлежала ему, когда уехал этот техасец. Ну а от сломанной ноги ему убыток невелик, потому что жена и сама прекрасно может засеять поле.
Приказчик перестал чесать спину о дверной косяк. Он смотрел в затылок Рэтлифу, не мигая, спокойно и пристально; потом взглянул на Сноупса, который все жевал, следя, как курчавится новая стружка, и снова уставился Рэтлифу в затылок.
– Ей не впервой засевать ихнее поле, – сказал человек с веточкой во рту. Рэтлиф взглянул на него. – Уж кто-кто, а ты это знаешь. Сколько раз я видел, как ты пахал их поле, Генри-то это всегда было не по силам. Сколько дней ты уже проработал на них в этом году? – Он вынул веточку, осторожно сплюнул и снова прикусил ее зубами.
– Пахать-то она умеет не хуже моего, – сказал другой.
– Не везет им, – сказал третий. – А раз не везет, тут уж как ни вертись – все одно.
– Ну конечно, – сказал Рэтлиф. – Только и слышишь, как лень называют невезением, что ж, может, оно и в самом деле так.
– Он не лентяй, – сказал третий. – Когда года четыре назад у них пал мул, они впряглись в плуг вместе со вторым мулом и пахали на себе. Нет, они не лентяи.
– Ну, когда так, прекрасно, – сказал Рэтлиф, снова глядя на пустую дорогу. – Она, верно, сразу и возьмется кончать пахоту. Старшая дочка у них уже довольно подросла, чтобы ходить с мулом в упряжке, верно? Или по крайности чтобы ходить за плугом, покуда миссис Армстид станет пособлять мулу? – Он снова взглянул на человека с веточкой во рту, словно ожидая ответа, но тот не глядел на него, и он продолжал говорить без умолку. Приказчик стоял, прижавшись спиной к косяку, словно вот-вот снова начнет чесаться, и теперь уже совсем мрачно, не мигая, глядел на Рэтлифа. Если бы Рэтлиф посмотрел на Флема Сноупса, то ничего бы не увидел под низко надвинутым козырьком кепки, кроме непрестанно двигающихся челюстей. Стружка все так же аккуратно и неторопливо вилась из-под ножа. – Ей теперь время просто девать некуда, потому что она как перемоет у миссис Литтлджон посуду и подметет в комнатах, чтобы отработать харчи за себя и за Генри, ей остается только подоить дома скотину и настряпать еды, чтобы детям хватило и на завтра, а потом накормить их, уложить младших спать и обождать на крыльце, покуда старшая запрет дверь на засов и ляжет в кровать, положив рядом с собой топор…
– Топор? – сказал человек с веточкой.
– Ну да, девчонка кладет с собой в постель топор. Ей ведь всего двенадцать лет, а у нас тут сейчас полным-полно неловленых лошадей, к которым Флем Сноупс никакого отношения не имеет, ну и, понятное дело, она не уверена, что сможет отбиться просто стиральной доской, как миссис Литтлджон… Ну а потом она идет назад, мыть посуду после ужина. А уж после этого ей нечего делать до самого утра, кроме как сидеть и ждать, может, Генри ее позовет, а чуть свет надо наколоть дров и стряпать завтрак, а потом помочь миссис Литтлджон вымыть посуду, застелить кровати и подмести пол, да все время поглядывать на дорогу. Потому что каждую минуту может вернуться Флем Сноупс откуда-то, куда он ездил после торгов, а ездил он, конечно, в город вызволять своего двоюродного брата, у которого кое-какие неприятности с законом, и тогда она получит свои пять долларов. «Но только вдруг он их не отдаст», – говорит она, и миссис Литтлджон, кажется, тоже так думает, потому что знай помалкивает в ответ. Я слышал, как она…
– А сам-то ты где был в это время? – сказал приказчик.
– Подслушивал, – сказал Рэтлиф. Он поглядел на приказчика и снова отвернулся, стал ко всем почти спиной. – …так вот, я слышал, как она гремела тарелками, складывая их в таз, словно швыряла их туда со всего размаху. «Как вы думаете, – говорит миссис Армстид, – отдаст он их мне? Этот техасец отдал их ему и сказал, что я могу их получить. Все видели, как он отдал деньги мистеру Сноупсу, и слышали, как он сказал, что завтра я могу их получить у мистера Сноупса». А миссис Литтлджон все моет тарелки, и моет-то как мужчина, будто они из железа сделаны. «Нет, – говорит. – Но все же попробуйте, попытка не пытка». – «Если он не отдаст, зачем и пытаться», – говорит миссис Армстид. «Как знаете, – говорит миссис Литтлджон. – Деньги-то ваши, не мои». А потом несколько времени ничего не слыхать было, только тарелки звенели. «Вы думаете, он, может, и отдаст? – говорит миссис Армстид. – Этот техасец сказал, что отдаст. Все слышали». – «Что ж, идите просите у него», – говорит миссис Литтлджон. И снова ничего не слыхать, только тарелки звенят. «Не отдаст он», – говорит миссис Армстид. «Что ж, – говорит миссис Литтлджон. – Тогда не ходите». И опять только тарелки звенят. Видно, обе мыли посуду, в двух тазах. «Так вы думаете, он не отдаст?» – говорит миссис Армстид. Миссис Литтлджон молчит, ни слова. Звон стоял такой, словно она швыряла тарелки одну на другую. «Может, мне пойти спросить у Генри», – говорит миссис Армстид. «На вашем месте я бы так и сделала, – говорит миссис Литтлджон. И провалиться мне на этом месте, звон был такой, будто она держала в каждой руке по тарелке и колотила ими одна о другую, как колотят медными крышками от кастрюль в оркестре. – Генри тогда купит на эти пять долларов другую лошадь. Может, на этот раз ему попадется такая, что убьет его до смерти. Будь я в этом уверена, я бы выложила ему эти деньги из собственного кармана». – «Я, пожалуй, спрошу сперва у него», – говорит миссис Армстид. А потом пошел такой грохот, будто миссис Литтлджон схватила тазы и вместе с тарелками швырнула на плиту…
Рэтлиф замолчал. Приказчик шипел у него за спиной:
– Тсс! Тсс! Флем, Флем!
Он умолк, и все увидели, как подошла миссис Армстид, поднялась на крыльцо, тощая, в мешковатой, серой одежде и грязных шлепанцах, тихо шаркая по ступеням. Она прошла через галерею и остановилась прямо перед Сноупсом, ни на кого не глядя и спрятав руки под фартуком.
– Он тогда сказал, что не продавал Генри эту лошадь, – сказала она ровным, безжизненным голосом. – Сказал, что деньги у вас и я могу их получить.
Сноупс поднял голову, слегка повернул ее и ловко плюнул мимо женщины, через всю галерею, на дорогу.
– Он увез все деньги с собой, – сказал он.
Миссис Армстид, не двигаясь, в серой одежде, которая висела на ней твердыми, почти рельефными складками, словно отлитая из бронзы, казалось, разглядывала что-то у ног Сноупса, будто не слыша его слов или будто, едва замолчав, она покинула свое тело, и, хотя тело услышало, восприняло слова, они не имеют ни содержания, ни смысла, пока она не вернется. Приказчик опять чесал спину о косяк, глядя на женщину. Мальчик тоже глядел на нее своим ясным немигающим взглядом, остальные на нее не смотрели. Человек с веточкой вынул ее, сплюнул и сунул обратно в рот.
– Он сказал, что Генри никакой лошади не покупал, – сказала она. – Он сказал, что я могу получить деньги у вас.
– Видно, он позабыл, – сказал Сноупс. – Он увез все деньги с собой.
Он поглядел на нее еще мгновение, потом снова склонился над своей дощечкой. Приказчик тихонько терся спиной о дверь, глядя на женщину. Немного погодя миссис Армстид подняла голову и поглядела на дорогу, которая бежала вдаль, устланная мягкой весенней пылью, мимо гостиницы миссис Литтлджон, потом в гору, мимо еще не цветущей (это будет потом, в июне) рощи акаций, что по ту сторону дороги, мимо школы, чья облупившаяся крыша торчала над садом среди груш и персиков, словно улей, вокруг которого роятся красно-белые пчелы, и все выше, на холм, где среди сверкающих мраморных надгробий стояла церковь под сенью величественных можжевеловых деревьев, в листве которых в долгие летние дни порхали тоскующие голуби. Она пошла прочь; резиновые подошвы снова зашаркали по трухлявым доскам.
– Наверно, пора обед собирать, – сказала она.
– Как нынче Генри, миссис Армстид? – спросил Рэтлиф.
Она остановилась, взглянула на него, и ее пустые глаза на миг оживились.
– Большое спасибо, он спит, – сказала она. Потом глаза снова потухли, и она пошла дальше. Сноупс встал со стула, защелкнул большим пальцем нож и смахнул со штанов стружки.
– Обождите-ка, – сказал он.
Миссис Армстид снова остановилась, боком к галерее, но все не глядя ни на Сноупса, ни на остальных. «Ну конечно, она просто поверить этому не может, – подумал Рэтлиф. – Так же, как и я». Сноупс вошел в лавку, и приказчик, который снова замер, прижимаясь спиной к косяку, словно ждал, скоро ли можно будет опять начать чесаться, проводил его взглядом, поворачивая голову вслед за ним, как сова, и часто мигая маленькими глазками. Подъехал верхом Джоди Варнер. Он не проехал мимо лавки, а свернул к ближнему тутовому дереву, где обычно привязывал лошадь. Со скрежетом проехал фургон. Человек, правивший лошадьми, приветственно поднял руку: один или двое с галереи ответили ему тем же. Фургон не остановился. Миссис Армстид проводила его взглядом. Сноупс вышел из лавки, неся полосатый бумажный пакетик, и подошел к миссис Армстид.
– Вот, – сказал он. Она протянула руку, чтобы взять пакетик. – Пускай детишки полакомятся, – сказал он. Другую руку он сунул в карман и, садясь на стул, вынул что-то оттуда и отдал приказчику. Это был пятицентовик. Сноупс сел на стул и снова привалился к двери. Он уже держал в руке открытый нож. Он чуть повернул голову и ловко сплюнул мимо серой одежды женщины на дорогу. Мальчик смотрел на пакетик у нее в руке. Наконец и она, словно очнувшись, увидела его.
– Вы очень добры, – сказала она. Она завернула пакетик в фартук, и мальчик немигающим взглядом смотрел, как бугрятся под фартуком ее руки. Она двинулась дальше. – Надо идти обед собирать, – сказала она. Она спустилась с крыльца, но едва ступила на землю и стала удаляться, как серые складки одежды снова утратили все признаки, всякий намек на подвижность, и она снова уплывала, постепенно уменьшаясь, как на плоту; словно серый уродливый древесный ствол неторопливо плыл по течению, непостижимым образом не падая, как будто все еще рос в земле. Приказчик вдруг загоготал, раскатисто, радостно. Он хлопнул себя по ляжке.
– Истинный Бог, – сказал он. – Куда вам против него.
Джоди Варнер, войдя в лавку с заднего крыльца, вдруг замер, приподняв одну ногу, как пойнтер, сделавший стойку. Потом на цыпочках, без единого звука, он стремглав кинулся за прилавок и побежал между полками туда, где ворочалась неуклюжая, медвежья фигура, засунув голову по самые плечи в витрину с иголками, нитками, табаком и засохшими разноцветными сластями. Он грубо и злобно вытащил парня из витрины: тот испустил придушенный крик и, слабо отбиваясь, запихнул в рот последнюю горсть каких-то лакомств. Но почти сразу он перестал сопротивляться, притих и весь обмяк, только челюсти быстро двигались. Варнер выволок его из-за прилавка, а приказчик уже сорвался с места и вбежал внутрь, торопливый, встревоженный.
– Ну, ты, Сент-Эльм[102]! – сказал он.
– Сколько раз я говорил, чтобы ты не смел пускать его сюда! – сказал Варнер, встряхивая мальчика. – Он почти всю витрину слопал. Ну ты, вставай!
Парень весь обмяк в его руке, повиснув, словно пустой мешок. Он жевал с каким-то покорным отчаяньем, и глаза его на широком, вялом, бесцветном лице были крепко зажмурены, а уши едва заметно, но непрестанно двигались в такт жующим челюстям. Если бы не это, можно было бы подумать, что он спит.
– Ты, Сент-Эльм! – сказал приказчик. – Вставай! – Мальчик теперь держался на ногах, но глаз не открыл и жевать не перестал. Варнер выпустил его. – Марш домой, – сказал приказчик. Мальчик послушно повернулся, чтобы пройти через лавку. Варнер дернул его назад.
– Не сюда, – сказал он.
Мальчик прошел через галерею и стал спускаться с крыльца в своем тесном комбинезоне, который жестко топорщился на его тощих боках. Прежде чем нога его коснулась земли, он что-то вытащил из кармана и запихнул в рот; уши его снова едва заметно задвигались вместе с челюстью.
– Хуже крысы, правда? – сказал приказчик.
– Какая, к черту, крыса! – сказал Варнер, хрипло дыша. – Хуже козла в огороде. Вот увидишь, как он разделается с ремнями, вожжами, холстами и подпругами, заберется в лавку с черного хода, все слопает, сожрет меня, вас и его – всех троих. А потом, не сойти мне с этого места, и отвернуться-то страшно будет – а ну как он перебежит дорогу и примется за хлопкоочистилку и кузню. Ну, вот что. Если я еще хоть раз поймаю его здесь, то поставлю в лавке медвежий капкан. – И он вместе с приказчиком вышел на галерею. – Доброе утро, джентльмены, – сказал он.
– Кто это был, Джоди? – спросил Рэтлиф. Не считая приказчика державшегося в отдалении, стояли только они двое, и теперь, когда они были рядом, стало заметно сходство между ними – сходство смутное, неуловимое, неопределенное, не во внешности, не в манере говорить, одежде или складе ума: и уж конечно, не во внутреннем облике. Тем не менее сходство было, так же как было и неискоренимое различие, потому что на Джоди легла печать его судьбы; придет время, и он состарится; Рэтлиф тоже; но того, в шестьдесят пять лет, поймает и женит на себе девчонка, которой не будет и семнадцати, и до конца его дней станет мстить ему за свой пол; Рэтлифа же – никто и никогда.
Паренек медленно брел по дороге. Он снова вынул что-то из кармана и сунул в рот.
– Это мальчишка А. О., – сказал Варнер, – клянусь Богом, я сделал все, чтоб его отвадить, разве только яду в витрину не подсыпал.
– Как? – сказал Рэтлиф. Он быстро окинул взглядом все лица; на собственном его лице промелькнуло не только удивление, но почти испуг. – Я думал… позавчера вы, ребята, сказали мне… вы мне сказали, что приезжала женщина, молодая женщина с ребенком… И вот теперь… – сказал он. – Как же так?
– Это другой, – сказал Варнер. – Чтоб у него ноги поотсыхали! Ну, что, Эк, говорят, ты поймал одну из своих лошадей?
– Да, поймал, – сказал Эк. Он и мальчик покончили с галетами и сыром, и теперь он сидел у стены, держа в руках пустой пакет. – Да, ту самую, – сказал Эк.
– Па, а вторую ты подари мне, – сказал мальчик.
– Ну и что же?
– Она себе шею сломала, – сказал Эк.
– Это я знаю, – сказал Варнер. – Но как? – Эк не шевелился. Глядя на него, они почти воочию могли видеть, как он выбирает и накапливает слова, фразы. Варнер, глядя на него сверху вниз, засмеялся хриплым натужным смехом, со свистом всасывая воздух сквозь зубы. – Я расскажу вам, как было дело. Эк с мальчишкой пробегали за ней почти сутки и наконец загнали ее в тот тупик, что возле дома Фримена. Они сообразили, что через Фрименов восьмифутовый забор ей не перескочить, ну вот и натянули у входа в тупик, на высоте трех футов от земли, веревку. Ну а лошадь, понятное дело, когда добежала до конца тупика и уперлась в конюшню Фримена, поворотила, как Эк и рассчитывал, назад и понеслась по тупику, ни дать ни взять вспугнутая ворона. Наверно, веревки она и не заметила. Миссис Фримен выбежала на крыльцо и все видела. Она говорит, что, когда лошадь налетела на веревку, она была похожа на большую рождественскую шутиху. Ну, а второй твоей лошади и след простыл, так, что ли?
– Да, – сказал Эк. – Я не углядел даже, в какую сторону она побежала.
– Подари ее мне, па, – сказал мальчик.
– Погоди, прежде надо ее поймать, – сказал Эк. – А там видно будет.
Вечером того же дня бричка Рэтлифа стояла у ворот Букрайта, и сам Букрайт стоял рядом, на дороге.
– Ты ошибся, – сказал Букрайт. – Он вернулся.
– Он вернулся, – сказал и Рэтлиф. – Я неверно судил об его… ну, не выдержке, это не то слово, и, уж конечно, не об отсутствии выдержки. Но я не ошибся.
– Чепуха, – сказал Букрайт. – Вчера его целый день не было. Правда, никто не видел, чтоб он ехал в город или возвращался оттуда, но всякому ясно, что он был там. Ни один человек, даже если он Сноупс, не допустит, чтоб его родича сгноили в тюрьме.
– Он недолго там просидит. До суда остается меньше месяца, а потом, когда его упекут в Парчмен[103], он снова будет на свежем воздухе. И даже снова станет работать по хозяйству, пахать. Конечно, это будет не его хлопок, но ведь он никогда не выручал за свой хлопок достаточно, чтобы хоть как-нибудь перебиться.
– Чепуха, – сказал Букрайт. – Ни за что не поверю. Флем не допустит, чтоб его отправили на каторгу.
– Допустит, – сказал Рэтлиф. – Потому что Флему нужно погасить все эти ходячие векселя, которые то и дело появляются то здесь, то там. Он хочет избавиться навсегда хотя бы от некоторых.
Они поглядели друг на друга – Рэтлиф, серьезный и спокойный в своей синей рубашке, Букрайт тоже серьезный, сосредоточенный, нахмурив черные брови.
– Но ведь ты, кажется, говорил, что вы с ним вместе сожгли эти векселя?
– Я говорил, что мы сожгли два векселя, которые дал мне Минк Сноупс. Но неужто ты думаешь, что кто-нибудь из Сноупсов хоть в чем-то может целиком довериться клочку бумаги, который можно спалить на одной спичке? Или ты думаешь, кому-нибудь из Сноупсов это невдомек?
– Вот как, – сказал Букрайт. – Ха, – сказал он невесело, – небось ты и Генри Армстиду вернул его пять долларов.
Рэтлиф отвернулся. Лицо его изменилось; на нем мелькнуло какое-то мимолетное, лукавое, но не смеющееся выражение, потому что глаза не смеялись; потом оно исчезло.
– Мог бы вернуть, – сказал он. – Но не сделал этого. Мог бы, будь я уверен, что на этот раз он купит что-нибудь такое, что убьет его до смерти, как сказала миссис Литтлджон. И кроме того, я защищал не Сноупса от Сноупсов. И даже не человека от Сноупса. Я защищал даже не человека, а безобидную тварь, которой одно только и надо: ходить да греться на солнце, которая никому не могла бы причинить зла, даже если б захотела, и не захотела бы, даже если бы могла, все равно как я не стал бы стоять в стороне и смотреть, как крадут кость у собаки. Нет, я создал их Сноупсами, и не я создал тех людей, что сами подставляют им задницу. Я мог бы сделать больше, но не стану. Слышишь, не стану!
– Хватит, – сказал Букрайт. – Легче на поворотах, перед тобой просто холмик. Говорю тебе – хватит.
2
Оба дела – Армстид против Сноупса и Талл против Экрема Сноупса (да и вообще против всех Сноупсов и даже против Варнера, которого, как знал весь поселок, обозленная жена Талла тоже старалась запутать) – по взаимной договоренности сторон слушались в суде другого округа. Вернее – по договоренности трех сторон, потому что Флем Сноупс наотрез отказался признать иск, сплюнув в сторону, невозмутимо заявил: «Это не мои лошади» – и снова принялся строгать свою дощечку, а смущенный и растерянный шериф стоял перед прислоненным к стене стулом, держа в руках повестку, которую он пытался вручить.
– А какой был бы прекрасный случай для этого сноупсовского семейного адвоката, – сказал Рэтлиф, когда узнал обо всем. – Как бишь его… Ну этот отец-молодец, этот Моисей, у которого полон рот всяких прибауток, а за штаны цепляется множество сыновей, неизвестно откуда взявшихся. Просто удивительно, как это получается – мне бесперечь твердят об этих людях, а я все не могу запомнить имен. Словом, этот А. О. Вечно у него не хватает терпения обождать. Может, во всей его практике это была бы единственная тяжба, где простофиля клиент не стал бы вмешиваться и затыкать ему рот, и только сам судья имел бы право сказать ему: «Заткнись».
Так что ни коляски Варнера, ни брички Рэтлифа не было среди потока фургонов, повозок, верховых лошадей и мулов, который хлынул к Уайтлифской лавке, что в восьми милях от поселка, не только с Французовой Балки, но и отовсюду, так как к этому времени то, что Рэтлиф назвал «техасской болезнью», эта пятнистая порча, эта лавина бешеных, неуловимых лошадей, разлилась на двадцать, а то и на тридцать миль окрест. И когда начали подъезжать люди с Французовой Балки, около лавки уже стояло десятка два фургонов с выпряженными и привязанными к задним осям лошадьми и еще вдвое больше оседланных лошадей и мулов стояло в ближней рощице, и заседание решено было перенести из лавки под соседний навес, куда осенью свозили хлопок. Но к девяти часам оказалось, что все желающие не поместятся даже под навесом, и заседание снова перенесли, теперь уже прямо в рощу. Лошади, мулы и фургоны были убраны оттуда; из сарая притащили единственный стул, колченогий стол, толстую Библию, которой, судя по ее виду, часто и с любовью пользовались, как старым, но безотказным инструментом, календарь и подшивку «Законодательных постановлений штата Миссисипи» за 1881 год с одной-единственной тонкой замусоленной трещиной по корешку, словно хозяин (или тот, кто ими пользовался) открывал их всегда на одной и той же странице, но зато очень часто, четверо специально отряженных людей мигом съездили в повозке за милю от лавки в церковь и вернулись с четырьмя деревянными скамьями для тяжущихся, их родственников и свидетелей; позади рядами стояли зрители – мужчины, женщины, дети, серьезные, внимательные, опрятные, не в праздничных нарядах, конечно, но в чистой рабочей одежде, надетой с утра по случаю предстоящих субботних развлечений – сидения около деревенской лавки или поездки в ближний город, в той самой одежде, в которой они в понедельник выйдут на поле и будут носить ее всю неделю, до вечера будущей пятницы. Мировой судья, аккуратный, маленький, пухлый старичок с ровными, чуть вьющимися седыми волосами, словно сошедший с добродушной карикатуры на всех дедушек на свете, был в безукоризненно чистой сорочке, но без воротничка, с белоснежными, сверкающими, крахмальными манжетами и манишкой, в очках со стальной оправой. Он сел за стол и поглядел на них – на серую женщину в сером платье и шляпке, недвижно уронившую на колени руки, бледные и узловатые, словно корни, выкорчеванные на осушенном болоте; на Талла в выцветшей, но свежей рубашке и в комбинезоне, не только чисто выстиранном, но выглаженном и накрахмаленном его женщинами, со складкой не посередке штанин, а с боков, так что каждую субботу с утра они бывали похожи на короткие детские штанишки, на его безмятежно голубые, невинные глаза над шелковистой, как кукурузная метелка, бородой месячной давности, скрывавшей почти все его обрюзгшее лицо и придававшей ему какой-то неправдоподобный, нелепо-блудливый вид, но не такой, словно он вдруг после долгих лет предстал перед другими мужчинами в своем настоящем обличье, а такой, будто изображение святого младенца кисти старого итальянского мастера испоганил какой-нибудь скверный мальчишка; на миссис Талл, крепкую, пышногрудую, но немного нескладную женщину, чье лицо пылало суровым негодованием, которое за этот месяц, казалось, нисколько не возросло, но и не угасло, а просто устоялось, и, странное дело, всем почти сразу же стало казаться, что негодует она не на кого-либо из Сноупсов и не на кого другого из мужчин в отдельности, но на всех мужчин, вместе взятых, на весь мужской пол, и сам Талл вовсе не пострадавший, а предмет ее негодования, – она сидела по одну сторону от мужа, а старшая из четырех его дочерей – по другую, словно обе они (или по крайней мере миссис Талл) не просто боялись, что Талл вдруг вскочит и убежит, но твердо решились не допускать этого; на Эка с мальчиком, похожих как две капли воды, только один ростом повыше; на приказчика Лэмпа в серой кепке, в которой кто-то признал ту самую, что была на Флеме Сноупсе в прошлом году, когда тот уезжал в Техас, – Лэмп сидел, быстро моргая и глядя на судью упорно и злобно, как крыса, и в бесцветных стариковских глазах судьи за толстыми стеклами очков появилось не только удивление и замешательство, но и что-то очень похожее на страх, как и у Рэтлифа, когда он стоял на галерее месяц назад.
– Так вот… – сказал судья. – Я не предполагал… Не ожидал увидеть… Я хочу помолиться, – сказал он. – Конечно, вслух я молиться не буду. Но надеюсь… – Он посмотрел на них. – Я бы хотел… одним словом, может быть, кто-нибудь из вас последует моему примеру.
Он склонил голову. Все смотрели на него серьезно и молча, а он неподвижно сидел у стола, и легкий утренний ветерок тихонько шевелил его редкие волосы, и трепетные тени листьев скользили по выпуклой крахмальной груди сорочки, по сверкающим манжетам, таким же твердым и почти таким же просторным, как куски шестидюймовой печной трубы, по его сложенным рукам. Он поднял голову.
– Армстид против Сноупса, – сказал он.
Миссис Армстид начала говорить. Она не шевелилась, ни на что не смотрела, стиснув руки на коленях, и голос ее был все таким же ровным, глухим, безнадежным.
– Этот человек из Техаса сказал…
– Постойте, – прервал ее судья. Его тусклые глаза забегали под толстыми стеклами очков, оглядывая лица присутствующих. – Где же ответчик? Я его не вижу.
– Он отказался явиться, – сказал шериф.
– Отказался? – сказал судья. – Разве вы не вручили ему повестку?
– Он не принял ее, – сказал шериф. – Он сказал…
– В таком случае он будет отвечать за неуважение к суду!
– С какой стати? – сказал Лэмп Сноупс. – Еще не доказано, что эти лошади его.
Судья взглянул на Лэмпа.
– Разве вы представляете интересы ответчика? – спросил он. Сноупс, моргая, глядел на него.
– А это что значит? – сказал он. – Что штраф, к которому вы его присудить собираетесь, взыскивать будут с меня?
– Стало быть, он отказывается участвовать в тяжбе, – сказал судья. – Разве он не знает, что я могу привлечь его за это к ответственности, если уж он не признает простой справедливости и приличий?
– Вот это ловко, – сказал Сноупс. – Сразу видать, что у вас на уме…
– Замолчите, Сноупс, – сказал шериф. – Если вы не выступаете по этому делу, так нечего и вмешиваться. – Он повернулся к судье: – Не прикажете ли съездить на Французову Балку и привезти сюда Сноупса? Я могу это сделать.
– Нет, – сказал судья. – Погодите. – Он снова оглядел бесстрастные лица, все с той же растерянностью, с тем же страхом. – Может ли кто-нибудь точно сказать, чьи это лошади? Кто может сказать? – Они тоже глядели на него, бесстрастно, пристально глядели на этого чистенького безупречного старика, который, положив руки на стол, сплел пальцы, чтобы унять дрожь. – Хорошо. Миссис Армстид, – обратился он к женщине, – расскажите суду, как было дело.
Она заговорила, ни разу не пошевельнувшись, ровным, монотонным голосом, глядя куда-то мимо, в полной тишине, а кончив, умолкла, и голос ее ни разу не дрогнул, словно все сказанное не имело никакого значения и ни к чему не могло привести. Судья, опустив глаза, разглядывал свои руки. Когда она замолчала, он посмотрел на нее.
– Но из этого еще не следует, что лошади принадлежали Сноупсу. Вам нужно бы предъявить иск этому человеку из Техаса. А он уехал. Даже если суд постановит взыскать с него деньги, вы все равно не сможете их получить. Понимаете?
– Мистер Сноупс привез его сюда, – сказала миссис Армстид. – Откуда бы этому техасцу знать, где Французова Балка, ежели б мистер Сноупс ему не показал.
– Но ведь это техасец продал лошадей и взял деньги. – Судья снова оглядел лица присутствующих. – Правильно? Скажите вы, Букрайт, так было дело?
– Да, – сказал Букрайт.
Судья снова поглядел на миссис Армстид печально и сочувственно. Поднялся порывистый ветер, он шелестел высоко в ветвях, и на землю, кружась, падали снежно-белые лепестки, которые отцвели прежде времени, как и сама весна отцвела быстро и щедро после суровой зимы, пролив свой густой, одуряющий аромат.
– Он отдал мистеру Сноупсу те деньги, какие взял у Генри. Он сказал, что Генри не покупал никакой лошади. Он сказал, я могу завтра получить деньги у мистера Сноупса.
– И у вас есть свидетели, которые могут подтвердить это?
– Да, сэр. Все видели и слышали, как он отдал мистеру Сноупсу деньги и сказал, что я могу их получить…
– И вы просили у Сноупса эти деньги?
– Да, сэр. А он сказал, что техасец увез их с собой. Но я бы могла…
Она снова умолкла, глядя, как и судья, куда-то вниз, на свои руки. Во всяком случае, она ни на кого не глядела.
– Что же? – спросил судья. – Что вы могли бы?
– Я могла б узнать эти пять долларов. Я заработала их своими руками, ткала по ночам, когда Генри и дети спали. Некоторые дамы из Джефферсона собирали пряжу и отдавали мне, а я за плату ткала им материю. Я скопила эти деньги по центу и узнала бы их, если б увидела, потому что часто вынимала жестянку из печи и пересчитывала их, все ждала, покуда накопится довольно, чтобы обуть детей к зиме. Я бы их сразу узнала. Если б мистер Сноупс только позволил…
– А что, если кто-нибудь видел, как Флем отдал эти деньги назад техасцу? – сказал вдруг Лэмп Сноупс.
– А кто-нибудь видел это?
– Да, – сказал Сноупс хрипло и решительно. – Вот Эк видел. – Он поглядел на Эка. – Ну, что же ты? Расскажи ему.
Судья поглядел на Эка; все четыре дочери Талла, как по команде повернув головы, тоже поглядели на него, и миссис Талл с холодным, злым и презрительным лицом подалась вперед, чтобы муж не мешал ей видеть, и все, кто стоял позади скамей, задвигались, вытягивая шеи, чтобы поглядеть на Эка, неподвижно сидевшего на скамье.
– Скажите, Эк: видели вы, как Сноупс вернул деньги Армстида техасцу? – спросил судья.
Эк сидел молча, не шевелясь, а Лэмп Сноупс грубо и досадливо фыркнул.
– Черт с ним, если он боится, то я не боюсь. Я видел.
– Вы подтвердите это под присягой?
Сноупс взглянул на судью. Он уже больше не моргал.
– Стало быть, вы не верите моему слову? – сказал он.
– Я должен знать истину, – сказал судья. – Если я не могу установить ее, то мне нужны показания, данные под присягой, которые я буду считать за истину.
Он взял Библию, лежавшую рядом с двумя другими книгами.
– Слышите? – сказал шериф. – Подойдите сюда.
Сноупс встал со скамьи и подошел. Все смотрели на него, но никто уже не ерзал, не вытягивал шею, не двигался, лица застыли, глаза смотрели в одну точку. Сноупс, подойдя к столу, оглянулся, окинул быстрым взглядом стоявших полукругом людей и снова взглянул на судью. Шериф схватил Библию, хотя судья еще не выпустил ее из рук.
– Готовы ли вы подтвердить под присягой, что видели, как Сноупс вернул этому техасцу деньги, которые получил с Генри Армстида за лошадь? – спросил он.
– Я ведь уже сказал, что видел, – сказал Сноупс.
Судья выпустил Библию.
– Приведите его к присяге, – сказал он.
– Положите левую руку на Библию, поднимите правую, повторяйте: «Торжественно клянусь и подтверждаю, что…» – скороговоркой начал шериф.
Но Сноупс уже опередил его: положив левую руку на Библию и подняв правую, он повернул голову, еще раз окинул быстрым взглядом полукружие бесстрастных, внимательных лиц и хрипло, злым голосом сказал:
– Да. Я видел, как Флем Сноупс отдал этому человеку из Техаса те деньги, которые Генри Армстид или кто другой уплатил или, как некоторые утверждают, отдал Флему за какую-то лошадь. Довольно с вас этого?
– Да, – сказал судья.
Толпа зрителей молчала, не шевелилась. Шериф осторожно положил Библию на стол, около сплетенных пальцев судьи, и снова ничто вокруг не шевельнулось, только трепетные тени скользили и сливались друг с другом да летели лепестки акаций. Потом миссис Армстид встала; она стояла, опять – или все еще – ни на что не глядя, прижав руки к животу.
– Мне, наверно, можно теперь уехать? – сказала она.
– Да, – сказал судья, встрепенувшись. – Если только вы не хотите…
– Так я, пожалуй, поеду, – сказала она. – Путь ведь не близкий.
Она приехала не в фургоне, а на одном из своих отощавших от бескормицы мулов. Какой-то мужчина пошел следом за ней через рощу, отвязал мула, подвел его к ближайшему фургону, и она со ступицы села в седло. Все снова поглядели на судью. Он сидел у стола, по-прежнему сложив руки, но голова его уже не была опущена. И все же он не шевельнулся, пока шериф, перегнувшись через стол, не сказал ему что-то, и только тогда он очнулся, пробудился легко и спокойно, как пробуждается старик от своего чуткого старческого сна. Он убрал руки со стола и, опустив глаза, произнес, словно читал по бумаге:
– Талл против Сноупса. Оскорбление…
– Да! – перебила его миссис Талл. – Дайте мне слово сказать, прежде чем вы начнете. – Она подалась вперед, глядя мимо Талла на Лэмпа Сноупса. – Ежели вы думаете, что можете облыжно выгораживать Флема и Эка Сноупса из…
– Не надо, мамочка… – сказал Талл.
И тогда она обратилась уже к Таллу, не изменив ни позы, ни тона, даже не запнувшись:
– Ты мне рот не затыкай! Позволить Эку Сноупсу, или Флему Сноупсу, словом, всей этой Варнеровой шайке выволочь тебя из фургона и колотить чуть не до смерти об мост – это ты готов. А когда дошло до того, чтобы притянуть их к ответу за нарушение твоих законных прав и наказать, тут тебя нет. Потому что это, видите ли, не по-соседски. А валяться во время сева в самую страду, покуда мы вытаскивали занозы из твоей рожи, – это по-соседски?
Но шериф уже кричал:
– К порядку! К порядку! Не забывайте, что вы в суде!
И миссис Талл замолчала. Она села на скамью, тяжело дыша, уставившись на судью, который продолжал, словно читал по бумаге:
– Оскорбление действием, нанесенное Вернону Таллу посредством одной лошади, не имеющей клички и принадлежащей Экрему Сноупсу. Телесные повреждения наличествуют, ответчик явился. Свидетели – миссис Талл с дочерьми…
– Эк Сноупс тоже все видел, – сказала миссис Талл, уже не так сердито. – Он был там. Подоспел в самое время и все видел. Пусть только попробует отпереться. Пусть только поглядит мне в глаза и посмеет сказать, что он…
– Позвольте, мэм, – сказал судья. Он сказал это так спокойно, что миссис Талл примолкла и стала вести себя сдержанно, почти как всякий разумный и смирный человек. – Никто не оспаривает тот факт, что ваш муж пострадал. И никто не оспаривает, что пострадал он из-за лошади. Закон гласит, что если человек имеет скотину, которая, как ему известно, представляет опасность для окружающих, и если эта скотина ограждена и отделена от общественного выпаса забором или загородкой, способной оградить и отделить ее от упомянутого выпаса, то, если кто-либо войдет за этот забор или загородку, независимо от того, известно ему или нет, что скотина, там содержащаяся, представляет собой опасность, это действие является нарушением права собственности, и владелец скотины не несет ответственности за последствия. Но коль скоро скотина, представляющая для окружающих опасность, более не ограждена означенным забором или загородкой, преднамеренно или непреднамеренно, с ведома или без ведома владельца, то владелец несет ответственность за последствия. Таков закон. Нам остается лишь установить, во-первых, кому принадлежит лошадь, и, во-вторых, представляет ли она опасность для окружающих в соответствии с буквой упомянутого закона.
– Ха! – сказала миссис Талл, точь-в-точь как Букрайт. – Опасность! Спросите у Вернона Талла. Спросите у Генри Армстида, какие это были кроткие овечки.
– Позвольте, мэм, – сказал судья. Он посмотрел на Эка. – Выслушаем ответчика. Отрицает ли он принадлежность лошади?
– Чего? – сказал Эк.
– Это ваша лошадь чуть не убила мистера Талла?
– Да, – сказал Эк. – Моя. Сколько я должен зап…
– Ха! – снова сказала миссис Талл. – Еще бы он стал отрицать, когда там их было по крайней мере человек сорок, таких же дураков, как и он, потому что, будь они малость поумнее, и духу ихнего там не было бы. Но даже дурак может подтвердить то, что видел и слышал, – так вот, по крайней мере сорок человек слышали, как этот техасский душегуб отдал лошадь Эку Сноупсу. Заметьте, не продал, а отдал.
– Что? – сказал судья. – Как так отдал?
– А вот так, – сказал Эк. – Отдал, да и все тут. Мне жаль, что Талл ехал через мост в это самое время. Сколько я должен…
– Постойте, – сказал судья. – А вы ему что дали? Вексель? Что-нибудь взамен?
– Нет, – сказал Эк. – Он просто указал на нее, когда она бегала в загоне, и сказал, что она моя.
– А дал он вам купчую, или дарственную, или какой-нибудь письменный документ?
– Да у него на это и времени-то не было, – сказал Эк. – А после того как Лон Квик позабыл затворить ворота, всем было уже не до писанины, даже ежели б это и пришло кому в голову.
– Это еще к чему? – сказала миссис Талл. – Эк Сноупс сейчас только сам признал, что это его лошадь. А ежели этого вам мало, так там у ворот целый день торчало еще сорок бездельников, которые слышали, как этот антихрист, который дуется в карты и жрет виски…
Но тут судья остановил ее, подняв руку в огромной, первозданно-чистой манжете. Он не смотрел на нее.
– Постойте, – сказал он. – А что же он тогда сделал? – спросил он Эка. – Просто подвел к вам лошадь и передал веревку из рук в руки?
– Нет, – сказал Эк. – Ни он, ни кто другой не надевал на лошадей веревку. Он просто указал на эту лошадь и сказал, что она моя, а потом распродал остальных, сел в коляску, попрощался и уехал. А мы взяли по веревке и пошли в загон, только Лон Квик позабыл затворить ворота. Мне очень жаль, что из-за нее мулы Талла выволокли его из фургона. Сколько я ему должен? – Но тут он замолчал, потому что судья уже на него не смотрел и, как он понял через секунду, не слушал его. Вместо этого судья откинулся назад, в первый раз за все время, уселся поудобнее на своем стуле, слегка наклонив голову и держа руки со сплетенными пальцами на столе перед собой. С полминуты все молча смотрели на него и только тогда поняли, что он молча и пристально глядит на миссис Талл.
– Так вот, миссис Талл, – сказал он. – Из собственных ваших показаний явствует, что Эк никогда не был владельцем этой лошади.
– Как? – переспросила миссис Талл совсем тихо. – Как вы сказали?
– По закону никакая собственность не может быть подарена словесно. Акт дарения должен быть закреплен документом, либо заверенным, либо подписанным собственноручно, либо фактическим вводом во владение. В соответствии с вашими показаниями и показаниями Эка Сноупса, он ничего не дал техасцу взамен лошади, и, согласно показаниям Сноупса, техасец не дал ему никакого документа в подтверждение того, что лошадь принадлежит ему, а из его показаний и из того, что мне самому стало известно за последние четыре недели, явствует, что никто еще не поймал ни одну из лошадей и не накинул на нее веревки. Итак, Эк не вступал во владение лошадью. Техасец мог бы с тем же успехом подарить ту же самую лошадь еще десяти людям, стоявшим в тот день у ворот, и ему даже незачем было бы извещать об этом Эка; а сам Эк мог бы передать все свои права на нее мистеру Таллу прямо на мосту, где мистер Талл лежал без сознания, ему довольно было бы просто подумать об этом, и права мистера Талла были бы столь же законными, как и права самого Эка.
– Значит, я осталась на бобах, – сказала миссис Талл. Голос ее все еще был тих и спокоен, и никто, кроме Талла, как видно, не понял, что слишком уж он тих и спокоен. – Эта пятнистая бешеная сука распугала моих мулов, изломала фургон; мой муж упал с козел, зашибся до бесчувствия и целую неделю не мог работать, мы засеяли меньше половины земли, и вот теперь я осталась на бобах.
– Постойте, – сказал судья. – Закон…
– Закон! – сказала миссис Талл. Она вдруг встала – приземистая, широкая, крепкая женщина, широко расставив толстые, как тумбы, ноги.
– Не надо, мамочка… – сказал Талл.
– Да, мэм, – сказал судья. – Возмещение ваших убытков предусмотрено законом. Закон гласит, что, когда иск об убытках вчиняется владельцу животного, которое нанесло убытки или ущерб, а владелец не может или не хочет нести ответственность, пострадавшая сторона получает в виде возмещения само животное. А поскольку Эк Сноупс никогда не владел этой лошадью и, как вы сами слышали, при разборе предыдущего дела не подтвердилось, что Флем Сноупс так или иначе причастен к продаже табуна, лошадь эта по-прежнему принадлежит техасцу. Или, вернее, принадлежала. Потому что теперь лошадь, которая испугала ваших мулов и была причиной падения вашего мужа с фургона, принадлежит вам и мистеру Таллу.
– Мамочка, постой! – сказал Талл. Он вскочил с места.
Однако миссис Талл все еще была спокойна, только вся напряглась и мрачно сопела, пока Талл не заговорил. Но тут она повернулась к нему и даже не взвизгнула, а завопила что было мочи; шериф уже стучал по столу своей отполированной от долгого употребления ореховой тростью и кричал: «К порядку! К порядку!» – а чистенький старичок откинулся на стуле, словно хотел уклониться от удара, и, дрожа мелкой старческой дрожью, смотрел на нее удивленно, не веря своим глазам.
– Лошадь! – голосила миссис Талл. – Да мы видели ее пять секунд, она налетела прямо на наш фургон, перелезла через нас, а потом поминай как звали. Удрала бог весть куда, и слава Тебе Господи! И мулы тоже удрали, и от фургона остались одни щепки, а ты валялся на мосту, и вся рожа у тебя в занозах и в кровище, мы уж думали, тебе не встать. А теперь он отдает нам лошадь! Нет, ты мне рот не затыкай! Иди, дурак, полюбуйся на свой фургон, поищи, где ты там сидел и правил парой молодых мулов, намотав вожжи на руку! Идите все, полюбуйтесь на этот фургон!
– Нет, я больше не могу! – крикнул судья. – Не могу! Разбирательство окончено! Слышите, окончено.
А потом был еще один процесс. Он начался в следующий понедельник, и почти те же самые лица можно было увидеть в окружном суде в Джефферсоне, когда два конвоира ввели арестанта, одетого в новый комбинезон, щуплого, ростом не выше ребенка, тощего, почти бесплотного, с угрюмым, непреклонным лицом, бледным и осунувшимся после восьми месяцев тюрьмы, и, когда прокурор сказал свою речь, выступил назначенный судом защитник, совсем еще молодой адвокат, только в июне закончивший юридический факультет местного университета, который сделал все, что мог, и даже больше, чем мог, лишь повредив этим своему подзащитному, лез из кожи вон, хотя на него, в сущности, никто не обращал внимания, и потребовал отвода всех присяжных, каких только мог, прежде чем прокурор успел отвести хотя бы одного, но, несмотря на это, в самом скором времени увидел перед собой утвержденный состав присяжных, словно штат, страна, все здравомыслящее человечество обладали неисчерпаемым запасом взаимозаменяемых имен и лиц с одинаковыми убеждениями и намерениями, так что все эти отводы с таким же успехом мог бы дать вместо него швейцар, который отпер утром зал заседаний, просто отсчитав сколько положено имен в списке присяжных. И если у защитника еще осталось сколько-нибудь беспристрастия и непредвзятости, то он, вероятно, вскоре понял, что перед судом предстал не его клиент, а он сам. Потому что клиент не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, его совсем это не интересовало, он ничего не хотел ни видеть, ни слышать, как будто судили не его, а кого-то другого. Он сидел там, где его посадили, скованный наручниками с одним из конвоиров, маленький, в новом, жестком, отглаженном комбинезоне, отвернувшись от суда и от всего окружающего, и все время ерзал на месте, пока они не догадались, что он глядит в дальний конец зала, на двери и на всякого, кто в них входит. Его пришлось дважды окликнуть, прежде чем он встал, чтобы ответить на вопрос судьи, и он остался стоять, теперь уж и вовсе спиной к суду, щуплый, угрюмый, совершенно безучастный, с лицом, на котором было какое-то странное беспокойство и что-то еще, не просто надежда, а глубокая вера, и глядел не на жену, сидевшую прямо перед ним, а в переполненный зал, сквозь ряды сосредоточенных, по большей части знакомых лиц, пока конвоир, с которым он был скован, не заставил его сесть. Так он и просидел до конца этого удивительного короткого процесса, продолжавшегося всего день с четвертью, то и дело поворачивая голову, прилизанный, злобный, упрямый, и вытягивая шею, чтобы выглянуть из-за двоих здоровенных конвоиров и посмотреть на дверь, пока его защитник делал что мог, теряя голову, распинаясь до хрипоты перед суровыми и бесстрастными присяжными, напоминавшими совет взрослых людей, которые по необходимости (но на строго определенное, недолгое время) согласились слушать болтовню дипломированного подростка. А подзащитный не слушал ничего и все глядел в дальний конец зала, и на исходе первого дня вера покинула его, и на лице осталась только надежда, а наутро второго дня исчезла и надежда, и осталось только беспокойство, хмурая и упорная угрюмость, и он все глядел на дверь. Прокурор кончил свою речь на второй день утром. Присяжные совещались двадцать минут и вынесли вердикт – виновен в умышленном убийстве; обвиняемому снова велели встать и приговорили его к каторжным работам пожизненно. Но он и теперь не слушал; он не только повернулся спиной к суду, чтобы видеть переполненный зал, но сам заговорил, прежде чем судья кончил, и не замолчал, даже когда судья ударил по столу своим молоточком и два конвоира и три шерифа набросились на него, а он вырывался, отшвыривая их, так что они не сразу совладали с ним, и все высматривал кого-то в зале.
– Флем Сноупс! – сказал он. – Флем Сноупс! Он здесь? Передайте же ему, сукину сыну…
Глава вторая
1
Рэтлиф остановил свою бричку у ворот Букрайта. В доме было темно, но три или четыре собаки с лаем сразу же выскочили из-под дома или с задворья. Армстид выставил из брички свою негнущуюся ногу и хотел слезть.
– Погоди, – сказал Рэтлиф. – Я пойду позову его сюда.
– Я сам могу дойти, – сказал Армстид хрипло.
– Возможно, – сказал Рэтлиф. – Но собаки меня знают.
– Узнают и меня, пусть только тронут, – сказал Армстид.
– Возможно, – сказал Рэтлиф. Он уже слез на землю. – Оставайся здесь, подержишь вожжи.
Армстид закинул ногу назад в бричку, – темнота безлунной августовской ночи его не скрывала, напротив, его выцветший комбинезон отчетливо выделялся на темной обивке брички; только лица под полями шляпы нельзя было разглядеть. Рэтлиф передал ему вожжи и при свете звезд пошел мимо столба с жестяным почтовым ящиком к воротам, прямо на беззлобный лай собак. Войдя в ворота, он увидел их – лающий клубок темноты на фоне чуть более светлой земли, который с лаем расплелся, развернулся перед ним, не подпуская его к себе, – трех черных с рыжиной собак, но и рыжая шерсть в звездном свете казалась черной, так что они хоть и были видны, но совсем смутно, словно его облаяли три сгоревшие газеты, которые каким-то чудом не рассыпались и стояли торчмя над землей. Он крикнул на собак. Они должны были узнать его, как только почуяли. Крикнув, он понял, что собаки и в самом деле его узнали, потому что они смолкли на миг, а потом, когда он пошел вперед, стали с лаем пятиться, держась поодаль. Потом он увидел Букрайта, его комбинезон смутно вырисовывался на фоне темного дома. Букрайт прикрикнул на собак, и они замолчали.
– Цыц! – сказал он. – А ну, пошли вон. – И он двинулся, тоже чернея на фоне чуть более светлой земли, туда, где его ждал Рэтлиф. – Где Генри? – спросил он.
– На козлах, – сказал Рэтлиф. Он повернулся, чтобы идти назад, к воротам.
– Обожди, – сказал Букрайт. Рэтлиф остановился. Букрайт подошел к нему вплотную. Они взглянули друг на друга, не видя лиц. – Ты ведь не дал ему втянуть себя в это дело, а? – сказал Букрайт. – После тех пяти долларов, про которые он небось вспоминает всякий раз, как поглядит на жену, да сломанной ноги, да лошади, что он купил у Флема Сноупса, а ее и след простыл, он совсем с ума спятил. По-моему, он и на свете-то не жилец. Так как же, ты не дал себя втянуть в это дело?
– Пожалуй что нет, – сказал Рэтлиф. – Нет, конечно, не дал. Но здесь что-то нечисто. Я всегда это знал. И Билл Варнер тоже знает. Иначе он ни за что не купил бы эту усадьбу. И уж во всяком случае, не стал бы держаться за эту старую развалину себе в убыток и платить налоги, когда он мог бы выручить за нее хоть сколько-нибудь и сидеть там на стуле из распиленного мучного бочонка, уверяя, что ему приятно отдохнуть там, где кто-то положил столько труда и денег, чтобы построить себе дом, в котором можно есть, пить и спать с женой. А когда Флем Сноупс взял усадьбу себе, я окончательно убедился, что дело нечисто. После того как он припер Билла к стенке, а потом выручил его и взял эту развалину с десятью акрами земли, просто курам на смех. Вчера вечером мы с Генри ходили туда. Я сам видел, своими глазами. Если не веришь, можешь не вступать с нами в долю. Нам же больше достанется.
– Ладно, – сказал Букрайт. Он пошел к воротам. – Мне только это и нужно было знать. – Они вышли за ворота. Генри подвинулся на середину сиденья, и они залезли в бричку. – Как бы ногу тебе не придавить, – сказал Букрайт.
– У меня нога в полном порядке, – хрипло сказал Армстид. – Могу ходить не хуже тебя и всякого другого.
– Ну конечно, – поспешно сказал Рэтлиф, беря вожжи. – У Генри теперь с ногой все ладно. Даже не заметно нисколько.
– Поехали, – сказал Букрайт. – Ходить пока никому не придется, если лошади повезут.
– Короче всего было бы напрямик, через Балку, – сказал Рэтлиф. – Но нам лучше ехать другой дорогой.
– Пускай все видят, – сказал Армстид. – Ежели кто из вас боится, так я справлюсь и без помощников. Я могу…
– Ну конечно, – сказал Рэтлиф. – Но если нас увидят, то помощников набежит больше, чем требуется. А это нам ни к чему.
Армстид замолчал. Он не сказал больше ни слова, сидя между ними в неподвижности, которая томила его, почти как лихорадка, словно его измотала не боль (пролежав почти месяц в постели, он встал и сразу же снова сломал ногу; никто так и не узнал, как это его угораздило, что он делал или пытался сделать, потому что он никогда об этом не говорил), а бессилие и ярость.
Рэтлиф не спрашивал, куда ехать; едва ли кто знал больше, чем он, об окольных путях и дорогах здесь или в любом другом из округов, по которым он колесил. Им никто не встретился: темная, спящая земля была пустынна, редкие, одинокие фермы выдавал лишь отрывистый собачий лай. Дорога, смутно белея в темноте, так что Рэтлиф скорее угадывал, чем видел, куда едет, бежала среди широких полей, где уже желтела кукуруза и зацветал хлопок, а потом меж высоких деревьев, пышно оперенных летней листвой, под августовским небом, плотно усеянным звездами. А потом они поехали по старой дороге, на которой вот уже много лет ничто не оставляло следов, кроме копыт белой Варнеровой лошади да коляски с бахромчатым верхом, недавних следов, а старые шрамы уже почти зажили там, где тридцать лет назад промчался гонец (быть может, соседский невольник, нахлестывавший мула, выпряженного из плуга), чтобы сообщить вести о Самтере[104], и где, быть может, когда-то катились ландо, в которых плавно покачивались женщины, стройные, в пышных кринолинах, под летними зонтиками, а рядом скакали на кровных рысаках мужчины в черном, разговаривая о том же, и где хозяйский сын, а может быть, и сам хозяин, ездил в Джефферсон со своими пистолетами и чемоданом, в сопровождении камердинера верхом на запасной лошади, рассуждая о войсках и об одержанной победе, где во время сражения под Джефферсоном патрули конфедератов разъезжали по округе, в которой остались одни женщины да невольники-негры.
Теперь ничто уже не напоминало об этом. Самая дорога почти исчезла; там, где песок темнел, сползая к ручью, а потом снова начинался подъем, она, как по ниточке, шла вдоль редких, косматых елей, посаженных здесь тем же безымянным архитектором, который спроектировал и построил дом для безымянного хозяина, они стояли теперь, могучие, в два, а то и три фута в обхвате, переплетясь густыми ветвями. Рэтлиф свернул с дороги и поехал напрямик, меж деревьями. Видимо, он хорошо знал дорогу. Букрайт удивился, но потом вспомнил, что Рэтлиф был здесь накануне вечером.
Армстид, не дожидаясь их, пошел вперед. Рэтлиф поспешно привязал лошадей, и они догнали его, все еще видимого, благодаря светлому, линялому комбинезону, когда он смутной тенью торопливо пробирался сквозь кусты. Впереди земля ощерилась черной пастью: овраг, лощина. Букрайт знал, что Армстид не раз бывал здесь ночью, и все же его хромающая тень едва не сорвалась в черную бездну.
– Помоги ему, – сказал Букрайт. – Не то он снова сломает…
– Тс! – шикнул на него Рэтлиф. – Сад вон там, на холме.
– …он снова сломает ногу, – сказал Букрайт, понизив голос. – А мы будем виноваты.
– Не бойся, не сломает, – прошептал Рэтлиф. – Он тут не одну ночь провел. Только не подходи к нему слишком близко. Но и слишком далеко вперед не отпускай. Прошлой ночью, когда мы там лежали, мне один раз пришлось удержать его силой – Они пошли дальше, следом за темной фигурой, которая двигалась молча и удивительно быстро. Они очутились в овраге, густо заросшем жимолостью, с сухим песчаным дном, по которому надсадно скрежетала хромая нога. И все же они с трудом поспевали за ним. Пройдя шагов двести, Армстид повернулся и полез по склону оврага. Рэтлиф полез следом. – Теперь осторожней, – шепнул он Букрайту. – Мы уже на месте. – Но Букрайт смотрел на Армстида. «Нипочем ему не вылезть, – подумал он. – Не вылезть ему из этого оврага».
Но Армстид, волоча негнущуюся, дважды сломанную ногу, взобрался на почти отвесный склон молча, без помощи, настороженный, словно взведенный курок, каждую секунду готовый отвергнуть всякую поддержку, не допуская даже мысли, что она может ему понадобиться. А потом Букрайт полз следом за ними на четвереньках по тропинке сквозь чащу шиповника, хурмы и бурьяна, среди высоких, в рост человека, кустов, перелезая через них, когда они стлались по земле у края чуть видимого в темноте дома, там, где его поставили чужеземный, безвестный архитектор и хозяин, чей безымянный прах покоится рядом с прахом его родичей и с останками предков нынешних саксофонистов из гарлемских кабаков, под разрушенными надгробьями со стершимися надписями на ближнем взгорье в четырехстах ярдах отсюда, – мертвый остов с рухнувшей крышей, обвалившимися трубами и высоким прямоугольником окна, сквозь которое видны были звезды по ту сторону дома. На склоне холма, видимо, некогда был разбит розарий. Никто из них троих, так же как и все, кто проходил здесь сотни раз, не знал, что упавший цоколь посреди розария когда-то служил основанием солнечных часов. Рэтлиф ползком настиг наконец Армстида, схватил его за руку, и тут сквозь их тяжелое дыхание Букрайт услышал беспрестанное, неторопливое позвякивание лопаты и глухой, размеренный стук отбрасываемой земли где-то над собой, на холме.
– Здесь! – прошептал Рэтлиф.
– Да, я слышу, кто-то копает, – прошептал Букрайт. – Но почем мне знать, что это Флем Сноупс?
– А разве Генри уже десять ночей кряду не пролежал здесь, слушая, как он копает? Разве сам я не приходил сюда вчера ночью вместе с Генри, чтобы послушать? Мы лежали на этом самом месте до тех пор, покуда он не ушел, а потом полезли на холм и нашли все ямы, которые он вырыл, а после засыпал и разровнял с землею, чтобы скрыть следы.
– Ладно, – прошептал Букрайт. – Вы с Армстидом видели, что кто-то копал. Но почем мне знать, что это Флем Сноупс?
– Ладно, – сказал и Армстид с холодной, сдерживаемой яростью, почти в полный голос; оба они чувствовали, что он дрожит, лежа между ними, дергается и трясется всем своим тощим, измученным телом, как побитая собака. – Это не Флем Сноупс, и точка. Иди домой.
– Тс! – зашипел Рэтлиф.
Армстид повернулся и поглядел на Букрайта. Лицо его было в каком-нибудь футе от Букрайта, теперь совсем невидимое в темноте.
– Иди, – сказал он. – Иди домой.
– Тише, Генри! – прошептал Рэтлиф. – Он услышит! – Но Армстид уже отвернулся, он снова глядел вверх, на темный холм, и, ругаясь шипящим шепотом, дрожал и дергался между ними. – Ну а если ты убедишься, что Флем, тогда поверишь? – прошептал Рэтлиф через лежавшего между ними Армстида.
Букрайт не ответил. Он лежал рядом с ним, слушая беспрестанное и неторопливое позвякивание лопаты и злобное шипение Армстида, чье тощее тело все дрожало и дергалось подле него. Но вот звяканье смолкло. Сначала никто не двигался. Вдруг Армстид пробормотал:
– Нашел! – И бешено рванулся вперед.
Букрайт услышал, или, вернее, почувствовал, как Рэтлиф схватил Армстида.
– Стой! – прошептал Рэтлиф. – Стой! Держи его, Одэм! – Букрайт схватил Армстида за другую руку. Они держали отчаянно извивавшееся тело до тех пор, пока Армстид не затих и не лег снова между ними, неподвижный, сверкая глазами и ругаясь все тем же шипящим шепотом. Руки у него на ощупь были худые как палки; но сила в них была нечеловеческая. – Ничего он не нашел! – шепнул Рэтлиф. – Просто он знает, что оно где-то здесь; может, ему попалась в доме бумага, в которой написано, где копать. Но ему еще надо отыскать это место, и нам тоже. Он знает, что оно где-то в саду, но надо его найти. Мы же видели, что он все ищет. – Букрайт слышал два голоса, они говорили свистящим шепотом – один ругался, другой успокаивал и увещевал, а сами говорившие во все глаза глядели на холм, тускло освещенный звездами. Потом заговорил один Рэтлиф. – Так ты, значит, не веришь, что это Флем, – сказах он. – Ладно. Смотри же! – Они замерли в траве, все трое, тая дыхание. А потом Букрайт увидел того, кто копал, – тень, сгусток тьмы, поднимавшийся вверх по склону. – Гляди, – шепнул Рэтлиф. Букрайт слышал, как он и Армстид дышали хрипло, со свистом, с надрывом, не сводя глаз с холма. И тут Букрайт увидел белую рубашку; а еще через мгновение вся фигура отчетливо обрисовалась на фоне неба, замешкавшись на вершине холма. Потом она исчезла. – Ну вот, – прошептал Рэтлиф. – Разве это не Флем Сноупс? Теперь веришь?
Букрайт набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул его. Он все еще держал Армстида за руку. Он совсем позабыл об этом. Теперь он снова почувствовал ее, тугую и дрожащую, как стальная проволока.
– Да, это Флем, – сказал он.
– Конечно, Флем, – сказал Рэтлиф. – Нам остается только найти завтра ночью, где оно, и тогда…
– Черта с два завтра! – сказал Армстид. Он снова рванулся, порываясь встать. – Идем искать сейчас же. Вот что надо делать. Покуда он сам… – Но они вдвоем держали его, и Рэтлиф шепотом спорил с ним, урезонивал его. Наконец они, ругаясь, прижали его к земле.
– Надо сперва узнать, где это, – выдохнул Рэтлиф. – Надо точно узнать, чтоб сразу взять, нет у нас времени на поиски. Надо все обыскать в первую же ночь, нельзя оставлять следы, не то он вернется и заметит. Не понимаешь, что ли? Не понимаешь, что мы только раз и сможем поискать, нельзя, чтобы нас застукали.
– Что же нам делать? – сказал Букрайт.
– Ха! – сказал Армстид. – Ха! – Голос его звучал хрипло, сдавленно, злобно. В нем не было даже насмешки. – Что нам делать? Вы же, кажется, домой собирались.
– Будет, Генри, – сказал Рэтлиф. Он встал на колени, не выпуская руки Армстида. – Мы уговорились взять Одэма в долю. Подождем по крайней мере, покуда найдем эти деньги, а потом уж начнем грызться из-за них.
– А вдруг там только конфедератские деньги? – сказал Букрайт.
– Ну ладно, – сказал Рэтлиф. – А куда, по-вашему, этот Старый Француз девал все деньги, нажитые, когда Конфедерацией еще и не пахло? Да там, наверно, полным-полно и серебряных ложек и всяких драгоценностей.
– Ложки и драгоценности можете взять себе, – сказал Букрайт. – Я возьму свою долю деньгами.
– А-а, теперь поверил? – сказал Рэтлиф.
Букрайт не ответил.
– Что же нам делать? – сказал он.
– Я съезжу завтра в долину и привезу дядюшку Дика Боливара, – сказал Рэтлиф. – Вернусь, как только стемнеет. Но все равно мы сможем приступить к делу только после полуночи, когда уйдет Флем.
– Чтобы он нашел их завтра ночью? – сказал Армстид. – Ей-богу, я не…
Теперь все трое стояли. Армстид вдруг начал яростно вырывать руку. Но Рэтлиф не отпускал его. Он обхватил Армстида обеими руками и держал, пока тот не утих.
– Слушай, – сказал Рэтлиф. – Флем Сноупс их не найдет. Как ты думаешь, ежели б он знал, где искать, стал бы он рыться здесь каждую ночь две недели кряду? Разве ты не знаешь, что люди ищут эти деньги уже тридцать лет? Что каждый фут земли здесь перевернут по меньшей мере раз десять? Да во всей округе нет поля, на которое положили бы столько труда, сколько на этот несчастный садик. Билл Варнер мог бы выращивать здесь хлопок или кукурузу – просто-напросто разбросал бы семена, и всходы вымахали бы такие, что жать пришлось бы верхом. А не нашли их до сих пор потому, что они зарыты глубоко; и никому не удалось докопаться до них в одну ночь, а потом засыпать яму, чтобы Билл Варнер не нашел ее на другой день, когда придет сюда сидеть на своем бочонке из-под муки и караулить клад. Нет, брат. Есть тут одна загвоздка.
Армстид успокоился. Он и Букрайт оба смотрели в ту сторону, где смутно маячило лицо Рэтлифа. Немного погодя Армстид спросил хрипло:
– Какая такая загвоздка?
– А вот какая: Флем Сноупс может пронюхать, что еще кто-то охотится за этими деньгами, – сказал Рэтлиф.
Назавтра, около полуночи, Рэтлиф снова свернул с дороги и поехал между деревьями. Букрайт теперь ехал верхом на своей лошади, потому что в бричке уже сидели трое, и снова Армстид не стал ждать, пока Рэтлиф привяжет лошадей. Он соскочил, как только бричка остановилась со звоном и лязгом, нисколько не таясь, вытащил лопату из кузова и, отчаянно хромая, исчез в темноте, прежде чем Рэтлиф и Букрайт успели соскочить.
– Ну, теперь пропало дело, можно и по домам, – сказал Букрайт.
– Нет, нет, – сказал Рэтлиф. – Он никогда не бывает здесь так поздно. Но все равно лучше догнать Генри.
Третий человек, сидевший в бричке, не шевелился. Даже в темноте его длинная седая борода чуть светилась, словно впитала в себя частицу звездного света, пока Рэтлиф вез его сюда, и теперь излучала этот свет. Рэтлиф и Букрайт ощупью помогли ему вылезти, взяли вторую лопату и кирку, подхватили старика и поволокли его вниз, в лощину, на звук хромающих шагов, стараясь настичь Армстида. Но настичь его им не удалось. Они выбрались из лощины, уже буквально неся старика, и еще издали услышали наверху, на холме, торопливые удары лопаты. Они отпустили старика, который плюхнулся на землю между ними, дыша порывисто, со свистом, и оба разом взглянули вверх, на темный холм, где глухо и яростно стучала лопата.
– Надо, чтоб он обождал, покуда дядюшка Дик место укажет, – сказал Рэтлиф. Они бок о бок побежали на стук, спотыкаясь в темноте, в густом бурьяне. – Эй, Генри! – прошептал Рэтлиф. – Обожди дядюшку Дика.
Армстид не остановился, он остервенело копал, одним движением отбрасывая землю и снова вонзая лопату. Рэтлиф ухватился за лопату. Армстид вырвал ее и повернулся к нему, занеся лопату, как топор. Их усталые, изможденные лица не были видны в темноте. Рэтлиф не раздевался трое суток, а Генри Армстид, тот, верно, не раздевался по крайней мере две недели.
– Только тронь! – прохрипел Армстид. – Только тронь!
– Погоди, – сказал Рэтлиф. – Дай дядюшке Дику найти место.
– Прочь, – сказал Армстид. – Предупреждаю вас, держитесь от моей ямы подальше. – Он снова с остервенением принялся копать.
Секунду Рэтлиф смотрел на него.
– Скорей, – сказал он. Он повернулся и побежал, а Букрайт следом за ним. Старик сидел там, где они его оставили. Рэтлиф бросился на землю рядом с ним и стал шарить в траве, отыскивая вторую лопату. Под руку сперва попалась кирка. Он отшвырнул ее и снова стал шарить по земле; они с Букрайтом схватили лопату одновременно. Они встали, вырывая лопату друг у друга, тянули и дергали ее, хрипло и тяжело дыша, и даже сквозь свое шумное дыхание слышали торопливые удары лопаты Армстида. – Пусти! – прошептал Рэтлиф. – Пусти!
Старик изо всех своих слабых сил старался встать на ноги.
– Обождите, – сказал он. – Обождите.
Тогда Рэтлиф, как видно, опомнился. Он выпустил лопату, почти швырнул ее Букрайту.
– Возьми, – сказал он и судорожно вздохнул. – Боже, – прошептал он. – Подумать только, что могут сделать с человеком деньги, даже те, которых у него еще нет. – Он нагнулся и рывком поднял старика с земли, не с нарочитой грубостью, а просто подхлестываемый нетерпением. Старик не сразу устоял на ногах, пришлось его поддерживать.
– Обождите, – сказал он писклявым, дрожащим голосом. Его знали все в округе. У него не было ни роду ни племени, никто не мог упомнить, когда и откуда он явился; никто не знал, сколько ему лет, – высокий, худой, в грязном сюртуке, надетом на голое тело, с длинной, седой как лунь бородой по пояс, он жил в мазанке на самом дне балки в пяти или шести милях от дороги. Он продавал снадобья собственного изготовления от всех болезней и амулеты, и о нем говорили, что он ест не только лягушек и змей, но и жуков – что ни поймает. В мазанке у него не было ничего, кроме кровати с соломенным тюфяком, нескольких горшков, огромной Библии и блеклого дагеротипного портрета юноши в конфедератской форме, которого все, кому доводилось там бывать, считали его сыном. – Обождите, – сказал он. – Земля сердится. Надо, чтоб вон тот человек перестал ее ковырять.
– Правильно, – сказал Рэтлиф. – Покуда земля не успокоится, ничего не выйдет. Надо его остановить.
Они снова подошли к Генри; он продолжал копать, и, едва Рэтлиф снова коснулся его, он повернулся, занес лопату и стоял так, ругаясь бессильным шепотом, пока сам старик не тронул его за плечо.
– Копай, копай, молодчик, – сказал писклявый голос. – А землица что хранит, то и будет хранить, покуда срок не выйдет.
– Правда, Генри, – сказал Рэтлиф. – Мы должны пустить дядюшку Дика, чтобы он указал нам место. Пошли.
Армстид опустил лопату и вылез из ямы (она была уже в целый фут глубиной). Но лопаты он не бросил; он держал ее до тех пор, пока старик не прогнал их всех назад, в дальний край сада, а потом вынул из заднего кармана раздвоенную персиковую ветку, на конце которой что-то болталось; Рэтлиф, который видел эту штуку раньше, знал, что к рогатке подвешен матерчатый кисет, а в нем человеческий зуб с золотой пломбой. Старик продержал их на месте минут десять, то и дело нагибаясь и щупая ладонью землю. Потом он пошел вперед, и все трое пошли за ним по пятам, и в заросшем травой углу старого сада он взялся за концы своей рогатки, так что кисет неподвижно и отвесно свисал к земле, и постоял немного, что-то бормоча себе под нос.
– Почем мне знать… – сказал Букрайт.
– Тс! – сказал Рэтлиф.
Старик двинулся дальше, и все трое – за ним. Это походило на торжественное шествие, и было какое-то языческое исступление и вместе с тем какая-то истовость в том, как они медленно, зигзагами, шагали взад и вперед, мало-помалу поднимаясь на холм. Вдруг старик остановился; Армстид, ковылявший следом, ткнулся ему в спину.
– В ком-то помеха сидит, – сказал он не оглядываясь. – Нет, не в тебе, – сказал он, и все поняли, что он обращается к Рэтлифу. – И не в хромоногом. Вон в том, другом. В чернявом. Пускай уйдет, даст земле успокоиться, а не то везите меня домой.
– Отойди к загородке, – тихо сказал Рэтлиф Букрайту через плечо. – Тогда все пойдет как надо.
– Но я… – сказал Букрайт.
– Уйди из сада, – сказал Рэтлиф. – Уже за полночь. Через четыре часа светать начнет.
Букрайт вернулся к подножию холма. Вернее, он как-то растворился в темноте, а они не смотрели ему вслед; они уже шли дальше, и Армстид с Рэтлифом не отставали от старика ни на шаг. Снова они стали зигзагами подниматься на холм, мимо ямы, которую начал копать Генри, а потом мимо другой, засыпанной ямы, вырытой еще кем-то, которую Рэтлиф нашел в ту первую ночь, когда Армстид привел его сюда; Рэтлиф чувствовал, что Армстид снова начинает дрожать. Старик остановился. На этот раз они не наткнулись на него, и Рэтлиф не знал, что Букрайт снова у него за спиной, пока старик не заговорил.
– Тронь меня за локти, – сказал он. – Нет, не ты. Тот, какой не верил. – Когда Букрайт коснулся его локтей, руки старика под рукавами, тонкие, ломкие и неживые, как гнилые сучья, слабо и непрестанно подергивались; а когда старик снова вдруг остановился и Букрайт наткнулся на него, он почувствовал, как тот всем своим тощим телом подался назад. Армстид без умолку ругался все тем же шипящим шепотом. – Тронь рогатку, – прохрипел старик. – Ты, какой не верил.
Когда Букрайт тронул рогатку, она упруго изогнулась, веревка была натянута, как струна. Армстид сдавленно вскрикнул; Букрайт почувствовал, что и его рука схватила рогатку. Рогатка полетела наземь; старик пошатнулся, рогатка безжизненно лежала у его ног, пока Армстид, исступленно копая землю голыми руками, не отшвырнул ее прочь.
Они разом повернулись и опрометью бросились назад, вниз, где остались лопаты и кирка. Армстид бежал впереди, они едва поспевали за ним.
– Только не давай ему кирку, – прохрипел Букрайт. – А то он убьет кого-нибудь.
Но Армстид и не думал хватать кирку. Он бежал прямо туда, где оставил лопату, когда старик вынул свою рогатку и велел ему положить лопату, схватил ее и побежал обратно на холм. Когда подоспели Рэтлиф с Букрайтом, он уже копал. И они принялись копать все трое, яростно отшвыривая землю, мешая друг другу, лязгая и сталкиваясь лопатами, а старик стоял над ними в тускло поблескивавшем под звездами окладе седой бороды, с белыми бровями над темными глазницами, и если бы они даже бросили копать и взглянули на него, то все равно не могли бы сказать, глядят ли на них его глаза, задумчивые, безучастные, равнодушные к их треволнениям. Вдруг все трое на миг словно окаменели с лопатами в руках. Потом разом спрыгнули в яму; шесть рук в один и тот же миг коснулись его – тяжелого твердого мешочка из плотной материи, сквозь которую прощупывались рубчатые кругляши монет. Они дергали его, рвали друг у друга из рук, тянули, хватали, задыхались.
– Стойте! – выдохнул наконец Рэтлиф. – Стойте! Мы же уговорились все делить поровну. – Но Армстид вцепился в мешочек, ругаясь, тянул его к себе. – Пусти, Одэм, – сказал Рэтлиф. – Отдай ему. – Они выпустили мешочек. Армстид прижал его к себе и скрючился, сверкая на них глазами. Они вылезли из ямы. – Пускай берет, – сказал Рэтлиф. – Ты же понимаешь, что это не все. – Он отвернулся. – Пойдемте, дядюшка Дик, – сказал он. – Берите свою… – Он осекся. Старик стоял неподвижно и как будто прислушивался, повернув голову в сторону лощины, через которую они пришли. – Ну что? – прошептал Рэтлиф. Все трое не шевелились, застыли, пригнувшись, в тех же позах, в каких попятились от Армстида. – Вы что-нибудь слышите? – прошептал Рэтлиф. – Есть там кто?
– Чую четыре алчные души, – сказал старик. – Четыре души алчут праха.
Они припали к земле. Но все было тихо.
– Да ведь нас же и есть четверо, – прошептал Букрайт.
– Дядюшке Дику на деньги плевать, – прошептал Рэтлиф. – Если там кто-нибудь прячется…
И они побежали. Впереди бежал Армстид, не выпуская из рук лопаты. И снова они едва поспевали за ним, спускаясь вниз с холма.
– Убью его, – сказал Армстид. – Обшарю кусты и убью.
– Ну нет, – сказал Рэтлиф. – Просто надо его поймать.
Когда он и Букрайт добрались до лощины, они услышали, что Армстид прет напролом по ее краю, нисколько не смущаясь шумом, и рубит темные кусты лопатой, как топором, с такой же яростью, с какой только что копал. Но они не нашли никого и ничего.
– Может, дядюшке Дику просто почудилось, – сказал Букрайт.
– Словом, теперь здесь никого нет. Может, это… – Рэтлиф замолчал. Они с Букрайтом взглянули друг на друга; сквозь свое шумное дыхание они услышали стук копыт. Он доносился со старой дороги из-за деревьев; лошадь словно свалилась туда с неба на всем скаку. Они прислушивались до тех пор, пока стук копыт не заглох на песчаном ложе ручья. Через мгновение они снова услышали, как копыта стучат по твердой дороге, теперь уже слабее. Потом стук их замер совсем. Они глядели друг на друга в темноте, сдерживая дыхание. Наконец Рэтлиф перевел дух. – Значит, у нас есть время до рассвета, – сказал он. – Пошли.
Еще дважды рогатка старика сгибалась и падала, и дважды они находили маленькие, туго набитые парусиновые мешочки, и даже в темноте невозможно было ошибиться насчет их содержимого.
– Теперь, – сказал Рэтлиф, – у нас по яме на каждого, и времени до утра. Копайте, ребята.
Когда восток начал сереть, они все еще ничего не нашли. Но так как копали они порознь в трех местах, никто не успел вырыть достаточно глубокую яму. А главный клад был наверняка зарыт очень глубоко; иначе, как сказал Рэтлиф, за последние тридцать лет его бы уже десять раз нашли, потому что из десятка акров приусадебной земли немного нашлось бы квадратных футов, где кто-нибудь не копал бы по ночам, от зари до зари, без фонаря, проворно и в то же время стараясь не делать шума. Наконец они с Букрайтом кое-как убедили Армстида образумиться, бросили копать, засыпали ямы и разровняли землю. А потом, в серых предрассветных сумерках, они открыли мешочки. У Рэтлифа и Букрайта оказалось по двадцати пяти серебряных долларов. Армстид не захотел сказать, сколько у него, и никому не дал заглянуть в свой мешочек. Он скрючился, прикрывая его своим телом, и с руганью повернулся к ним спиной.
– Ну, ладно, – сказал Рэтлиф. Потом его вдруг встревожила новая мысль. Он взглянул на Армстида. – Надеюсь, у каждого из нас хватит ума не тратить эти доллары до поры до времени.
– Что мое, то мое, – сказал Армстид. – Я нашел эти деньги, я добыл их своими руками. И провалиться мне на этом месте, ежели я не сделаю с ними все, что захочу.
– Ладно, – сказал Рэтлиф. – А как ты объяснишь, откуда они?
– Как я… – Армстид запнулся. Сидя на корточках, он поднял голову и поглядел на Рэтлифа. Теперь они уже могли видеть лица друг друга. Все трое были взвинчены, измучены бессонницей и усталостью.
– Да, – сказал Рэтлиф. – Как ты объяснишь людям, откуда они у тебя? Откуда эти двадцать пять долларов, все как один чеканки до шестьдесят первого года? – Он отвернулся от Армстида. Они с Букрайтом спокойно взглянули друг на друга, а вокруг между тем становилось все светлее. – Кто-то следил за нами из лощины, – сказал он. – Придется купить усадьбу.
– И поскорей, – сказал Букрайт. – Завтра же.
– Ты хочешь сказать – сегодня, – поправил его Рэтлиф.
Букрайт огляделся. Он словно пришел в себя после наркоза, словно впервые увидел зарю, мир.
– Ты прав, – сказал он. – Завтра уже наступило.
Старик спал, приоткрыв рот, растянувшись навзничь под деревом на краю лощины, и при свете занимавшейся зари видно было, какая у него грязная, замаранная борода; они ни разу и не вспомнили о нем с тех самых пор, как начали копать. Они разбудили старика и снова усадили его в бричку. Будка, в которой Рэтлиф возил швейные машинки, запиралась на висячий замок. Он вынул оттуда несколько кукурузных початков, потом положил туда свой мешочек с деньгами и мешочек Букрайта и снова запер дверцу.
– Положил бы и ты свой мешок сюда, Генри, – сказал он. – Нам нужно забыть, что у нас есть эти деньги, покуда мы не откопаем все остальное.
Но Армстид не согласился. Он неловко залез на лошадь и сел позади Букрайта, самостоятельно, заранее отвергая помощь, которую ему еще даже не предложили, спрятав мешочек на груди, под заплатанным вылинявшим комбинезоном, и они уехали. Рэтлиф задал корму своим лошадям и напоил их у ручья; прежде чем взошло солнце, он был уже на дороге. Часов в девять он уплатил старику доллар за труды, высадил его там, где начиналась тропа, шедшая к его хижине, до которой было еще пять миль, и повернул своих крепких неутомимых лошадок назад к Французовой Балке. «Да, кто-то прятался там, в лощине, – думал он. – Надо поскорее купить эту усадьбу».
Потом ему казалось, что он по-настоящему понял, что значит это «поскорей», только когда подъехал к лавке. Подъезжая к ней, он почти сразу приметил на галерее среди привычных лиц одно новое и узнал его – это был Юстас Грим, молодой арендатор из соседнего округа, живший в десяти или двенадцати милях отсюда с женой, которую он взял к себе в дом год назад, и Рэтлиф рассчитывал продать ей швейную машинку, как только они расплатятся с долгами, которые наделали за два месяца, с тех пор как у них родился ребенок; привязав лошадей к одному из столбов галереи и поднимаясь по истоптанным ступеням, он подумал: «Может, сон – хороший отдых, но как не поспишь две-три ночи да помучишься, напугаешься до смерти, голова и заработает как следует». Потому что, как только он узнал Грима, что-то шевельнулось у него внутри, хотя ему тогда невдомек было, что это значит, и только через два, а то и три дня он понял, в чем дело. Он не раздевался почти трое суток; он не завтракал в то утро, и вообще за последние два дня ему едва удавалось наскоро перехватить что-нибудь, и все это отразилось на его лице. Но не отразилось ни в голосе, ни в чем другом, и ничем, кроме следов усталости на лице, он себя не выдал.
– Доброе утро, джентльмены, – сказал он.
– Ей-богу, В. К., у тебя такой вид, словно ты неделю спать не ложился, – сказал Фримен. – Что это ты затеял? Лон Квик говорит, что его мальчишка третьего дня видел твоих лошадей с бричкой, спрятанных в овраге возле дома Армстида, а я ему говорю, мол, лошади-то ничего такого не сделали, чтобы прятаться. Значит, это ты прячешься.
– Вряд ли, – сказал Рэтлиф. – Иначе я бы тоже попался вместе с ними. Знаешь, мне всегда казалось, что я слишком ловок, чтобы попасться здесь, в наших краях. Но теперь я, право, не знаю. – Он поглядел на Грима, и его лицо, истомленное бессонницей, было ласковым, насмешливым и непроницаемым, как всегда. – Юстас, – сказал он, – ты куда-то не туда заехал.
– Да, пожалуй, – сказал Грим. – Я приехал повидать…
– Он уплатил дорожную пошлину, – сказал Лэмп Сноупс, приказчик, который сидел, по обыкновению, на единственном стуле, загораживая дверь. – Хочешь запретить ему ездить по йокнапатофским дорогам, что ли?
– Нет, конечно, – сказал Рэтлиф. – Ежели он уплатил пошлину где следует, пускай едет хоть сквозь эту лавку да заодно и сквозь дом Билла Варнера.
Все, кроме Лэмпа, засмеялись.
– Что ж, может, я так и сделаю, – сказал Грим. – Я приехал сюда повидать… – Он замолчал, глядя на Рэтлифа. Он сидел на корточках, не двигаясь, держа в одной руке дощечку, а в другой – открытый нож.
Рэтлиф тоже смотрел на него.
– Разве ты не мог повидать его вчера вечером? – сказал он.
– Кого это я мог повидать вчера вечером? – сказал Грим.
– Как мог он повидать кого-то на Французовой Балке вчера вечером, когда его вчера здесь не было? – сказал Лэмп Сноупс. – Иди в дом, Юстас. Обед, верно, готов. Я тоже сейчас приду.
– Но мне… – сказал Грим.
– Тебе надо еще сегодня отмахать двенадцать миль до дому, – сказал Сноупс. – Иди же. – Грим еще мгновение глядел на него. Потом встал, спустился с крыльца и пошел по дороге.
Рэтлиф не смотрел ему вслед. Он смотрел теперь на Сноупса.
– Юстас на этот раз у тебя, что ли, столуется? – спросил он.
– Он столуется у Уинтерботома, там же, где я, – хрипло сказал Сноупс. – И там же, где другие, которые платят за это деньги.
– Ну конечно, – сказал Рэтлиф. – Только зря ты его так быстро отсюда спроваживаешь. Ведь Юстас не очень-то ездит в город, мог бы день-другой побыть хоть здесь, поглядеть, что и как, посидеть на галерее у лавки.
– Сегодня к ужину он будет уже дома, – сказал Сноупс. – Поезжай да погляди сам. Он и моргнуть не успеет, а ты уж будешь у него на заднем дворе.
– Ну конечно, – сказал Рэтлиф, и его истомленное бессонницей лицо было ласковым, мягким, непроницаемым. – А Флем когда вернется?
– Откуда? – хрипло сказал Сноупс. – Из гамака, где он прохлаждается вместе с Биллом Варнером или дрыхнет? Да, уж видно, никогда.
– Вчера он вместе с Биллом и женщинами был в Джефферсоне, – сказал Фримен. – Билл сказал, что нынче они вернутся.
– Ну конечно, – сказал Рэтлиф. – Иной раз больше года пройдет, покуда отучишь молодую жену от мысли, будто деньги только для того и существуют, чтобы по магазинам бегать. – Он стоял на галерее, прислонившись к столбу, спокойно и непринужденно, словно никогда в жизни не знал, что такое спешка. «Значит, Флем Сноупс не хотел, чтоб об этом знали. А Юстас Грим… – Тут у него в голове опять что-то шевельнулось, но только через три дня он понял, в чем дело, хотя теперь думал, что все знает, все видит насквозь. – А Юстас Грим здесь со вчерашнего вечера или, уж во всяком случае, с той минуты, как мы услыхали стук копыт. Может, они оба ехали на этой лошади, может, именно потому стук и был такой громкий». Он и это мог себе представить – Лэмп Сноупс и Грим на одной лошади, мчатся, скачут в темноте во весь опор назад, к Французовой Балке, а Флема Сноупса там еще нет, он вернется только днем. «Лэмп Сноупс не хотел, чтоб и об этом знали, – подумал он, – и Юстаса Грима спровадил, чтоб не дать никому с ним поговорить. И Лэмп не просто встревожен и взбешен: он боится. Они могли даже найти спрятанную бричку. Вероятно, так оно и было, и они узнали по крайности одного из тех, кто копал в саду; и теперь Сноупсу нужно не только столковаться с двоюродным братом через своего доверенного, Грима, но еще, чего доброго, придется иметь дело с таким человеком, который (Рэтлиф подумал это без всякого тщеславия) играючи может его переторговать». Погруженный в свои мысли, озабоченный, но, как всегда, непроницаемый, он раздумывал о том, что даже Сноупс не может чувствовать себя в безопасности от другого Сноупса. «Да, надо спешить», – подумал он. Он отошел от столба и шагнул к крыльцу. – Ну, я пойду, – сказал он. – До завтра, ребята.
– Пойдем ко мне обедать, – сказал Фримен.
– Большое спасибо, – сказал Рэтлиф. – Я сегодня поздно позавтракал у Букрайта. А мне еще надо получить деньги по векселю за швейную машинку с Айка Маккаслина и засветло вернуться сюда.
Он сел в бричку и, повернув лошадей, снова выехал на дорогу. Лошади с места взяли свой обычный аллюр и побежали рысцой, быстро перебирая короткими ногами, но не очень-то резво, пока не миновали дом Варнера, за которым дорога сворачивала к ферме Маккаслина, и теперь бричку уже не было видно с галереи. Тогда они прибавили ходу, кнут гулял по их мохнатым спинам, выбивая пыль. Рэтлифу нужно было проехать около трех миль. Он знал, что через полмили начнется извилистый, малоезженый проселок, но езды там всего минут двадцать. Время едва перевалило за полдень, а Варнеру, надо полагать, никак не раньше девяти утра удалось вытащить свою жену из джефферсонского женского комитета содействия церкви, в котором она состоит. Рэтлиф одолел проселок за девятнадцать минут, подпрыгивая на ухабах и оставляя позади клубы пыли, потом в миле от Французовой Балки остановил взмыленных лошадей, потом свернул на джефферсонскую дорогу, по которой еще полмили проехал рысью, сдерживая лошадей, чтобы дать им постепенно остыть. Но коляски Варнера все не было, и он пустил лошадей шагом, и ехал так, пока не поднялся на холм, с которого мог видеть дорогу далеко вперед, и тут свернул на обочину, в тень, и остановился. Теперь он остался и без обеда. Голод не очень мучил, и хотя с утра, после того как он ссадил старика и повернул назад, в Балку, его неодолимо клонило ко сну, теперь и это прошло. Он сидел в бричке, обмякший, болезненно щурясь от яркого света, а лошади (он никогда не пользовался удилами) выпростали морды из узды и, вытянув шеи, щипали траву. Он знал, что проезжие могут увидеть его здесь; некоторые даже поедут потом через Французову Балку и расскажут там, что видели его. Но он подумает об этом после, когда придет нужда. Он как бы сказал себе: «Теперь я могу хоть немного передохнуть».
А потом он увидел коляску. И прежде чем кто-нибудь в коляске успел его заметить, он был уже на дороге, и его лошадки бежали привычной рысью, которую знала вся округа, – маленькие копытца мелькали быстро, хотя две большие лошади шагом повезли бы бричку не намного медленнее. Он знал, что его уже заметили и узнали, когда шагах в двухстах от коляски он натянул вожжи и ждал, сидя в своей бричке, приветливый, ласковый и безмятежный, только лицо у него было измученное, и Варнер, поравнявшись с ним, остановил коляску.
– Здравствуй, В. К., – сказал Варнер.
– Доброе утро, – сказал Рэтлиф. Он приподнял шляпу, раскланиваясь с женщинами, сидевшими сзади. – Миссис Варнер, миссис Сноупс, мое почтение.
– Куда это ты? – спросил Варнер. – В город?
Рэтлиф не стал лгать, у него этого и в мыслях не было, он только улыбался учтиво, даже слегка заискивающе.
– Нет, я выехал нарочно, чтобы вас встретить. Хочу переговорить с Флемом. – Тут он в первый раз взглянул на Сноупса: – Садись ко мне, я подвезу тебя до дому.
– Ха! – сказал Варнер. – Значит, ты проехал две мили, а теперь повернешь назад и проедешь еще две, только чтобы с ним поговорить!
– Вот именно, – сказал Рэтлиф. Он все смотрел на Сноупса.
– Ты не такой дурак, чтоб надеяться что-нибудь продать Флему Сноупсу, – сказал Варнер. – И уж наверняка у тебя хватит ума ничего у него не покупать, правда?
– Не знаю, – сказал Рэтлиф прежним приветливым, непринужденным и непроницаемым тоном, и глаза его глядели на Сноупса с истомленного бессонницей лица. – Я всегда считал себя умным человеком, но теперь не знаю. Я подвезу тебя, – сказал он. – К обеду ты поспеешь.
– Ну что ж, вылезай, – сказал Варнер зятю. – Так он все равно ничего не скажет.
Сноупс тем временем уже зашевелился. Он сплюнул через колесо на дорогу, повернулся и задом слез на землю, широкий и неторопливый, в засаленных светло-серых штанах, белой рубашке и клетчатой кепке; коляска тронулась. Рэтлиф затормозил бричку, Сноупс сел рядом с ним, он развернул лошадей, и снова они побежали привычной неутомимой рысцой. Но Рэтлиф натянул вожжи и заставил их идти шагом, не давая им снова перейти на рысь, а Сноупс, сидя рядом с ним, беспрерывно жевал. Они не смотрели друг на друга.
– Я насчет этой усадьбы Старого Француза, – сказал Рэтлиф. Коляска уже обогнала их на сотню шагов и, так же как они, поднимала целое облако пыли. – Сколько ты думаешь запросить за нее с Юстаса Грима?
Сноупс сплюнул трубочную жвачку через колесо. Он жевал не спеша, безостановочно, и, видимо, это нисколько не мешало ему ни сплевывать, ни разговаривать.
– Он небось ждет уже возле лавки? – сказал он.
– Да ведь ты, наверно, сам велел ему приехать сегодня? – сказал Рэтлиф. – Так сколько же ты думаешь с него запросить? – Сноупс назвал цену. Рэтлиф коротко хмыкнул, почти как Варнер. – И ты думаешь, что Юстас Грим сможет отвалить этакую кучу денег?
– Не знаю, – сказал Сноупс. Он снова сплюнул через колесо.
Рэтлиф мог бы сказать: «Значит, ты не хочешь продавать усадьбу», – а Сноупс ответил бы на это: «Я продам что угодно». Но они этого не сказали. Им это было ни к чему.
– Ладно, – сказал Рэтлиф. – А с меня ты сколько запросишь? – Сноупс назвал цену. Она была та же. На этот раз Рэтлиф хмыкнул, совсем как Варнер. – Я говорю только о десяти акрах при этом старом доме. Я не покупаю у тебя весь Йокнапатофский округ. – Они перевалили через последний холм, и коляска Варнера прибавила ходу, удаляясь от них. До Французовой Балки теперь было рукой подать. – Ну ладно, первый спрос не в счет, – сказал Рэтлиф. – Так сколько ты хочешь за усадьбу Старого Француза?
Его лошади тоже норовили перейти на рысь, увлекая вперед легкую бричку. Рэтлиф сдержал их, дорога начала поворачивать, и за школой открылась Французова Балка. Коляска уже исчезла за поворотом.
– На что она тебе? – сказал Сноупс.
– Под козье ранчо, – сказал Рэтлиф. – Так сколько же? – Сноупс сплюнул через колесо. Он в третий раз назвал ту же цену. Рэтлиф отпустил вожжи, и крепкие, неутомимые лошадки побежали рысью, минуя последний поворот, мимо пустой школы, и вся Балка теперь была на виду, а впереди снова показалась коляска, уже за лавкой. – А что этот тип, который учительствовал здесь года три, не то четыре назад? Лэбоув. Не слышно, что с ним сталось?
В седьмом часу в пустой запертой лавке Рэтлиф, Букрайт и Армстид купили у Сноупса усадьбу Старого Француза. Рэтлиф подписал передаточную на свою половину ресторанчика на окраине Джефферсона. Армстид дал закладную на свою ферму вместе со всеми службами, инструментом, скотом и с тремя милями проволочной загородки в три ряда; Букрайт уплатил свою долю наличными. Потом Сноупс выпустил их, запер дверь, и они остались на пустой галерее в гаснущих отблесках августовского заката и смотрели, как Сноупс идет к дому Варнера, – вернее, смотрели ему вслед только двое, потому что Армстид уже сел в бричку и ждал там, не шевелясь, источая все ту же упорную и клокочущую ярость.
– Теперь усадьба наша, – сказал Рэтлиф. – Надо нам ее караулить, а то кто-нибудь привезет туда дядюшку Дика Боливара и станет искать клад.
Они заехали сперва к Букрайту (он был холост), сняли тюфяк с его кровати, захватили два одеяла, кофейник, сковородку, еще одну кирку и лопату, а потом поехали к Армстиду. У него тоже был только один тюфяк, но еще у него была жена и пятеро малышей; кроме того, Рэтлиф, который видел этот тюфяк раньше, знал, что стоит его снять с кровати, как он рассыплется. Армстид взял одеяло, а вместо подушки они помогли ему набить отрубями пустой мешок и, обойдя дом, вернулись к бричке, а жена его стояла в дверях, и четверо детишек жались к ее ногам. Но она не сказала ни слова, и когда Рэтлиф, тронув лошадей, оглянулся, в дверях уже никого не было.
Когда они свернули со старой дороги и поехали через косматую можжевеловую рощу к развалинам дома, было еще светло, и они увидели возле самого дома повозку, запряженную мулами, а из дверей вышел человек и остановился, глядя на них. Это был Юстас Грим, но Рэтлиф так и не понял, узнал ли Армстид Юстаса или ему было все равно, кто это, потому что, прежде чем бричка остановилась, он соскочил на землю, выхватил лопату из-под ног у Букрайта и Рэтлифа и, озверев от боли и ярости, хромая, побежал к Гриму, который тоже побежал, спрятался за повозку и оттуда смотрел на Армстида, а Армстид, стараясь достать его, рубанул лопатой через повозку.
– Держи его! – крикнул Рэтлиф. – Не то убьет!
– Или опять сломает свою проклятую ногу, – сказал Букрайт.
Когда они настигли Армстида, он порывался бежать вокруг повозки, занеся лопату как топор. Но Грим уже отскочил в сторону, а увидев Рэтлифа с Букрайтом, шарахнулся и от них и остановился, сторожа каждое их движение. Букрайт крепко схватил Армстида сзади за обе руки.
– Живо сматывайся, если не хочешь неприятностей, – сказал Рэтлиф Гриму.
– Зачем мне неприятности? – сказал Грим.
– Тогда уходи, покуда Букрайт его держит.
Грим подошел к повозке, глядя на Армстида со скрытым любопытством.
– Эти глупости его до добра не доведут, – сказал он.
– О нем не тревожься, – сказал Рэтлиф. – Только убирайся поскорей. – Грим сел в повозку и поехал. – Можешь теперь его отпустить, – сказал Рэтлиф. Армстид вырвался и повернул к саду. – Постой, Генри, – сказал Рэтлиф. – Давай сперва поужинаем. И отнесем в дом постели. – Но Армстид, хромая, бежал к саду в гаснущем свете заката. – Надо сперва поесть, – сказал Рэтлиф.
А потом он вдруг вздохнул, будто всхлипнул; они с Букрайтом разом бросились к будке для швейных машинок, Рэтлиф отпер замок, они захватили лопаты и кирки и побежали вниз по склону, в сад, где Армстид уже копал. Когда они были почти рядом, он вдруг выпрямился и кинулся к дороге, занеся лопату, и они увидели, что Грим не уехал, а сидит на козлах и глядит на них через сломанную железную загородку, а Армстид уже почти добежал до загородки. Но тут Грим тронул лошадей.
Они копали всю ночь, Армстид в одной яме, Рэтлиф с Букрайтом вдвоем – в другой. Время от времени они останавливались передохнуть, и над ними стройными рядами проходили летние звезды. Отдыхая, Рэтлиф и Букрайт прохаживались, чтобы расправить затекшие мышцы, потом садились на корточки (они не закуривали; они боялись зажечь спичку. А у Армстида, верно, никогда и не бывало лишнего никеля на табак) и тихо разговаривали, слушая мерный стук лопаты Армстида. Он копал, даже когда они останавливались; все копал, упорно, без устали, когда они снова принимались за работу, но время от времени один из них вспоминал о нем и, подняв голову, видел, что он сидит на краю своей ямы, неподвижный, как те кучи земли, которые он оттуда выбросил. А потом он снова принимался копать, пока не выбивался из сил; и так продолжалось до самого рассвета, а когда забрезжила заря, Рэтлиф с Букрайтом, стоя над Армстидом, препирались с ним.
– Пора кончать, – сказал Рэтлиф. – Уже светло, нас могут увидеть.
Армстид не остановился.
– Пускай, – сказал он. – Теперь эта земля моя. Могу копать сколько захочу, хоть весь день.
– Ну, ладно, – сказал Рэтлиф. – Только боюсь, что у тебя будет целая толпа помощников. – Армстид остановился, глядя на него из ямы. – Нельзя же копать всю ночь, а потом целый день сидеть и караулить, – сказал Рэтлиф. – Идем. Нужно поесть и поспать хоть немного.
Они взяли из брички тюфяк с одеялами и отнесли их в дом, в прихожую, где в зияющих дверных проемах уже и в помине не было дверей, а с потолка свисал скелет, который некогда был хрустальной люстрой, и оттуда наверх вела широкая лестница, у которой все ступени были давным-давно выломаны на починку конюшни, курятников и уборных, а ореховые перила, стойки и перекладины пошли на топливо. В комнате, которую они выбрали для себя, потолок был высотой в четырнадцать футов. Над выбитыми окнами сохранились остатки когда-то раззолоченного лепного карниза, со стен щерились острые дранки, с которых обвалилась штукатурка, а с потолка свисал скелет другой хрустальной люстры. Они расстелили тюфяк и одеяла поверх осыпавшейся штукатурки, а потом Рэтлиф с Букрайтом снова сходили к бричке и принесли оттуда взятую из дома еду и два мешочка с деньгами. Они спрятали мешочки в камин, теперь загаженный птичьим пометом, за облицовку, на которой еще сохранились следы мраморной отделки. Армстид своих денег не принес. Они не знали, куда он их девал. И не спросили об этом.
Огня они не развели. Рэтлиф, вероятно, воспротивился бы этому, но никто об этом и не заикнулся; они ели холодную, безвкусную пищу, слишком усталые, чтобы разбирать вкус; сняв только башмаки, облепленные мокрой глиной со дна глубоких ям, они легли на одеяла и погрузились в беспокойный сон, слишком усталые, чтобы забыться совсем, и снились им золотые горы. К полудню солнечные лучи проникли сквозь дырявую крышу и два прогнивших потолка над ними, и причудливые пятна поползли на восток по полу, по смятым одеялам, а потом по распростертым телам и лицам с полуоткрытыми ртами, а они ворочались, метались или прикрывали лица руками, словно во сне бежали от невесомой тени того, на что они, бодрствуя, сами себя обрекли. Они проснулись на закате, сон ничуть их не освежил. Они молча бродили по комнате, пока в развалившемся камине закипал кофейник; тогда они снова поели, с жадностью глотая холодную, безвкусную пищу, а тем временем в западном окне высокой полуразрушенной комнаты померкло алое зарево заката. Армстид первый покончил с едой. Он поставил чашку, поднялся, привстав сначала на четвереньки, как ребенок, и, с трудом волоча сломанную ногу, заковылял к двери.
– Нужно дождаться, покуда совсем стемнеет, – сказал Рэтлиф, ни к кому не обращаясь; и никто, конечно, ему не ответил. Словно он сказал это себе и сам же себе ответил. Он тоже встал. Букрайт был уже на ногах. Когда они дошли до сада, Армстид уже копал в своей яме.
И снова они копали всю короткую летнюю ночь напролет, и знакомые звезды проходили над головой, и когда они порой останавливались, чтобы передохнуть и расправить мышцы, то слышали, как внизу под ними, словно вздыхая, равномерно поднималась и опускалась лопата Армстида; на рассвете они заставили его бросить работу, пошли в дом, поели консервированной рыбы, холодной свинины, застывшей в собственном жиру, лепешек и снова, улегшись на скомканные одеяла, спали до полудня, когда золотые лучи солнца, крадучись по комнате, нашарили их, и тогда они стали ворочаться и метаться, словно в кошмаре, тщетно стараясь сбросить это неосязаемое и невесомое бремя. Еще утром они доели последний кусок хлеба. А на закате, когда остальные двое проснулись, Рэтлиф уже поставил кофейник на огонь и замесил на сковороде кукурузную лепешку. Армстид не стал дожидаться лепешек. Он проглотил свою порцию мяса, выпил кофе, снова встал, сперва на четвереньки, как ребенок, и вышел. Букрайт тоже был уже на ногах. Рэтлиф, сидя на корточках перед сковородой, взглянул на него.
– Что ж, иди, – сказал он. – Незачем терять время.
– Мы уже вырыли яму глубиной в шесть футов, – сказал Букрайт. – В четыре фута шириной и почти в десять длиной. Пойду начну там, где мы нашли третий мешок.
– Ладно, – сказал Рэтлиф. – Иди начинай. – Потому что в голове у него снова что-то шевельнулось. Может, это было во сне, он не знал. Но он знал, что теперь все ясно как день. «Только я не хочу видеть, не хочу слышать, как это будет, – подумал он, сидя на корточках перед огнем со сковородой в руке и щуря глаза, слезившиеся от дыма, который не шел в развалившуюся трубу. – Меня страх берет. Но еще есть время. Нынешнюю ночь еще можно копать. У нас есть даже новое место». Он подождал, пока лепешка испеклась. Потом он снял ее со сковородки, поставил сковородку на угли, нарезал ломтиками сало и поджарил его; за три дня он в первый раз поел горячего, поел не спеша, сидя на корточках и потягивая кофе, а на обрушенном потолке угасали последние блики заката и наконец угасли, и комнату освещали лишь отблески догоравшего в камине огня.
Букрайт и Армстид уже копали. Когда Рэтлиф подошел поближе, он увидел, что Армстид в одиночку выкопал яму глубиной в три фута и почти такую же длинную, как они с Букрайтом вдвоем. Он пошел туда, где Букрайт начал новую яму, взял лопату, которую Букрайт захватил для него, и начал копать. Они копали всю ночь, под знакомым строем проходящих созвездий, изредка останавливаясь передохнуть (хотя Армстид не останавливался вместе с ними), присаживались на край первой ямы, и Рэтлиф тихонько говорил, но не о золоте, не о деньгах, а рассказывал смешные анекдоты, и лицо его, невидимое в темноте, было лукавым, мечтательным, непроницаемым. Потом копали снова. «Днем погляжу как следует, – думал он. – Да ведь я все уже видел. Видел три дня назад». Но вот начало светать. И едва тускло забрезжил рассвет, он опустил лопату и выпрямился. Кирка Букрайта равномерно поднималась и опускалась прямо перед ним; а в двадцати футах от себя он теперь увидел Армстида по пояс в земле, словно разрезанного надвое, – мертвое тело, даже не подозревавшее, что оно мертво, работало, сгибаясь и выпрямляясь, размеренно, как метроном, словно Армстид вновь закапывал себя в землю, из которой вышел, чтобы всегда, до конца своих дней быть ее обреченным от века рабом. Рэтлиф вылез из ямы и стоял на куче темной свежей глины, выброшенной из нее, мускулы его дрожали и судорожно подергивались от усталости, стоял, молча глядя на Букрайта, пока Букрайт не заметил этого, и тогда остановился, занеся кирку для удара, и взглянул на него. Они глядели друг на друга – два измученных, небритых, исхудалых человека.
– Одэм, – сказал Рэтлиф. – Ты знаешь, кто была жена Юстаса Грима?
– Не знаю, – сказал Букрайт.
– А я знаю, – сказал Рэтлиф. – Она была из тех Доши, что из округи Кэлхун. И это не к добру. А мать его была из Файтов. И это тоже не к добру.
Букрайт уже не смотрел на него. Он осторожно, почти с нежностью, положил кирку, словно это была полная ложка супа или нитроглицерина, и вылез из ямы, вытирая руки о штаны.
– А я-то думал, ты все знаешь, – сказал он. – Я думал, ты тут все про всех знаешь.
– Теперь-то, кажется, знаю, – сказал Рэтлиф. – Но ты все-таки мне расскажи.
– Файт – это была вторая жена его отца. Она не была матерью Юстаса. Об этом мне рассказал мой отец, когда Эб Сноупс впервые взял ферму в аренду у Варнера пять лет назад.
– Ну-ну, – сказал Рэтлиф. – Дальше.
– Мать Юстаса была младшей сестрой Эба Сноупса.
Помаргивая, они глядели друг на друга. Стало быстро светать.
– Так, – сказал Рэтлиф. – И это все?
– Да, – сказал Букрайт. – Все.
– А ведь, ей же богу, я тебя здорово подвел, – сказал Рэтлиф.
Они поднялись к дому и вошли в ту комнату, где провели ночь. Там было еще темно, и, пока Рэтлиф ощупью искал в каминной трубе мешочки с деньгами, Букрайт засветил фонарь, поставил его на пол, и они, присев на корточки друг против друга около фонаря, открыли мешочки.
– Да, нам бы сообразить, что никакой холщовый мешочек не выдержал бы, – сказал Букрайт. – Тридцать-то лет… – Они высыпали деньги на пол. Каждый брал по монете, быстро осматривал, а потом складывал их около фонаря одну на другую, как дамки в шашках. При тусклом свете фонаря они осмотрели все монеты. – Но откуда он знал, что это будем мы? – сказал Букрайт.
– А он и не знал, – сказал Рэтлиф. – Не все ли ему равно? Он просто приходил сюда каждую ночь и копал помаленьку. Знал, что, если станет копать две недели кряду, кто-нибудь непременно клюнет. – Он положил последнюю монету и сел на пол, дожидаясь, пока Букрайт кончит. – Тысяча восемьсот семьдесят первый, – сказал он.[105]
– A у меня – семьдесят девятый, – сказал Букрайт. – Есть даже одна, отчеканенная в прошлом году. Да, ты меня подвел.
– Подвел, – сказал Рэтлиф. Он взял две монетки, и они ссыпали деньги обратно в мешки. Прятать их они не стали. Каждый оставил мешочек на своем одеяле, они задули фонарь. Стало светлее, и теперь они ясно видели, как Армстид сгибается, выпрямляется и снова сгибается по пояс в яме. Близился восход; три ястреба уже парили в желто-голубой вышине. Армстид даже головы не поднял, когда Рэтлиф с Букрайтом подошли; он копал, даже когда они остановились у самой ямы, глядя на него в упор. – Генри, – сказал Рэтлиф. Он наклонился и дотронулся до его плеча. Армстид повернулся и замахнулся лопатой, занеся ее ребром, и на ее острие, как на острие топора, стальным блеском засверкала заря.
– Прочь от моей ямы, – сказал он. – Прочь от ямы.
2
Повозки с мужчинами, женщинами и детьми, въезжавшие во Французову Балку со стороны дома Варнера, останавливались, от лавки подходили еще люди, спеша встать у загородки перед домом и поглядеть, как Лэмп и Эк Сноупсы вместе с негром-слугой Варнера, Сэмом, грузят мебель, сундуки и всякие ящики в фургон, стоявший задком вплотную к веранде. Это был тот же фургон, запряженный теми же мулами, которые в апреле привезли Флема Сноупса из Техаса, и три человека то и дело сновали взад и вперед, причем Эк или негр, пятясь, неуклюже протискивались с грузом в дверь, а Лэмп Сноупс бежал следом и без умолку, скороговоркой, давал всякие советы и указания, и хотя он поддерживал ношу, но так, чтобы ему не было тяжело, а погрузив ее в фургон, они шли назад и сторонились в дверях, когда миссис Варнер выбегала, нагруженная горшками и наглухо закрытыми банками с разными вареньями и соленьями. Стоявшие у загородки вслух называли каждую вещь – разобранная кровать, туалетный столик, умывальник и таз с такими же, как на умывальнике, цветами, кувшин, помойное ведро, ночной горшок, сундук, без сомнения, с женскими и детскими вещами, деревянный ящик, как безошибочно определили женщины, с тарелками, ножами и кастрюлями и, наконец, крепко стянутый веревкой тюк коричневой парусины.
– Что это? – сказал Фримен. – Похоже на палатку.
– Палатка и есть, – сказал Талл. – Эк привез ее на той неделе из города, с вокзала.
– Но ведь не собираются же они жить в Джефферсоне в палатке? – сказал Фримен.
– Не знаю, – сказал Талл.
Наконец все вещи были погружены; Эк с негром в последний раз протиснулись в дверь, миссис Варнер вынесла последнюю банку; Лэмп Сноупс еще раз сходил в дом и вышел со знакомым каждому плетеным чемоданом, потом вышел Флем Сноупс и, наконец, его жена. Она несла младенца, который был великоват для семимесячного, потому что, конечно, не стал дожидаться мая и родился раньше, и остановилась на миг, по-олимпийски высокая, на целую голову выше и своей матери и мужа, в шерстяном костюме от городского портного, несмотря на летнюю жару, и, хотя лицо ее, незрячее и застывшее, как маска, словно бы не имело возраста, румянец на щеках показывал, что ей нет и восемнадцати, при этом женщины в фургонах смотрели на нее и думали, что это первый шерстяной костюм от настоящего портного у них на Французовой Балке и что ей удалось-таки заставить Флема Сноупса купить ей кое-какие наряды, потому что не Варнер же купил их ей теперь, тогда как мужчины, стоявшие у загородки, думали о Хоуке Маккэроне и о том, что каждый из них купил бы ей и костюм и все прочее, что только ее душе угодно.
Миссис Варнер взяла у нее ребенка, и они увидели, как Юла, подобрав одной рукой юбку вековечным, женственным, волнующим движением, поставила ногу на колесо и взобралась на сиденье, где уже сидел Сноупс, держа вожжи, а потом наклонилась и взяла ребенка у миссис Варнер. Фургон тронулся, подрагивая на ходу, лошади повернули, пересекли двор и через открытые ворота выехали на улицу, и это было все. Это и было прощанием, если только вообще было сказано «прости», и повозки, стоявшие у дороги, со скрипом тронулись, а Фримен, Талл и остальные четверо с облегчением повернулись, не сходя с места, и стояли теперь спиной к загородке, с одинаково серьезным, чуть грустным, а может, даже отрезвевшим видом, едва взглянув на фургон, который выехал из ворот и поравнялся с ними, и мимо проплыла клетчатая кепка, медленно и размеренно жующая челюсть, крошечный галстук и белая рубашка; а рядом другое лицо, невозмутимое и прекрасное, но лишенное всякого выражения, словно у статуи или у мертвеца, не глядевшее на них и вообще ни на что вокруг.
– Пока, Флем, – сказал Фримен. – Когда понатореешь в стряпне, приготовь мне хороший бифштекс.
Он не ответил. Быть может, он даже и не слышал ничего. Фургон удалялся. Все еще не двигаясь с места, они глядели ему вслед и видели, как он свернул на старую дорогу, где целых двадцать лет, не считая последних двух недель, не было никаких иных следов, кроме отпечатков копыт белой Варнеровой лошади.
– Эдак ему придется сделать крюк в добрых три мили, чтобы снова выехать на джефферсонскую дорогу, – сказал Талл озабоченно.
– А может, он хочет прихватить эти три мили с собой в город и выменять их у Аарона Райдаута[106] на вторую половину ресторанчика, – сказал Фримен.
– А может, он выменяет их у Рэтлифа с Букрайтом и Армстидом еще на что-нибудь, – сказал третий: его фамилия тоже была Райдаут, он был братом того, городского Райдаута, и оба они приходились двоюродными братьями Рэтлифу. – В городе он и Рэтлифа увидит.
– А чтоб увидеть Армстида, нет нужды тащиться в такую даль, – сказал Фримен.
Дорога уже не походила на старый, почти изгладившийся шрам. Теперь она была наезжена, потому что неделю назад прошел дождь, и трава, не топтанная вот уже почти тридцать лет, сохранила четыре отчетливых следа: два по краям – от железных ободьев колес и два посредине, где ступали лошади, каждый день, с того самого первого дня, когда сюда свернула первая упряжка, и ветхие скрипучие повозки, облезлые пахотные лошади и мулы, мужчины, женщины, дети оказались в каком-то другом мире, попали в другую страну, в другое время, в день без названия и числа.
Там, где песок темнел, спускаясь к мелкому ручью, а потом снова светлел на подъеме, многое множество спутанных, перекрывавших друг друга следов колес и подков ошеломляло, как крики в пустом соборе. Потом впереди, у дороги, открывалась вереница повозок, а в повозках на корточках сидели дети, рядом с ними, на плетеных стульях, – женщины, укачивающие младенцев и, когда подходил срок, совавшие им грудь, а мужчины и дети постарше молча стояли вдоль изломанной, увитой жимолостью железной загородки, глядя, как Армстид без передышки копает землю на холме, в старом саду. Они приезжали глядеть на него вот уже две недели. С того первого дня, когда первые жители округи увидели его и принесли об этом весть домой, люди стали приезжать в повозках и верхом на лошадях или мулах издалека, за десять и пятнадцать миль, мужчины, женщины и дети, восьмидесятилетние старики и грудные младенцы, по четыре поколения в одной старой разбитой повозке, еще обсыпанной засохшим навозом, или сеном, или мякиной, и, сидя на повозках или стоя у загородки, чинно, словно в гостях, смотрели на него затаив дыхание, как глазеют на ярмарочного фокусника. В тот первый день, когда первый из них слез на землю и подошел к загородке, Армстид с трудом вылез из ямы и, замахнувшись лопатой, бросился на него, волоча негнущуюся ногу, ругаясь хриплым, бессильным, задыхающимся шепотом, и отогнал его. Но скоро он присмирел; он словно бы не замечал их, когда они, стоя у загородки, глядели, как он вгрызается в землю, перепахивает холм вдоль и поперек, изнемогая в своем неистовом упорстве. Но никто больше не пытался войти в сад, и теперь ему докучали только мальчишки.
К середине дня дальние начинали разъезжаться. Но всегда были такие, которые оставались, хотя из-за этого они не успевали потом засветло выпрячь лошадей, задать им корм и подоить коров. Наконец, уже на закате, подъезжала еще одна, последняя повозка – пара заморенных, худых, как отощавшие зайцы, мулов, кривые, кое-как стянутые проволокой, немазаные колеса, – и стоявшие у загородки оборачивались и молча смотрели, как женщина в серой мешковатой одежде и выцветшей шляпе слезала на землю, доставала из-под козел жестяное ведерко и шла к загородке, за которой ее муж работал, не разгибая спины, безостановочно, как метроном. Она ставила ведерко в угол, по ту сторону загородки, и стояла не шевелясь в серой одежде, падавшей жесткими, словно вырубленными из камня, складками на ее грязные шлепанцы, прижав руки к животу под фартуком. Смотрела ли она на мужа, никто не мог бы сказать; смотрела ли она вообще на что-нибудь, никто не знал. Потом она поворачивалась, шла назад к повозке (ей нужно было еще задать скотине корм, подоить корову и приготовить ужин детям), залезала на козлы, брала в руки веревочные вожжи, заворачивала мулов и уезжала. А следом за ней уезжали и последние зрители, и Армстид оставался один на темнеющем холме, зарывая себя в густеющие сумерки, как заведенная игрушка, с нелепым, чудовищным упорством, надрываясь от напряжения, словно игрушка оказалась слишком хрупкой для такой работы или пружина была заведена слишком туго. Жарким солнечным утром, сидя на галерее Варнеровой лавки с табачной понюшкой в щепоти или жвачкой за щекой, или вечером, в косых лучах заката, встретившись на безлюдном перекрестке дорог, люди толковали об этом, и весть передавалась с повозки на повозку, с повозки конному, от конного другому конному и с повозки или от конного пешему, остановившемуся у ворот или у почтового ящика.
– Он все там?
– Все там.
– Он себя в гроб вгонит. Что ж, не велика потеря.
– По крайности для его жены.
– Что и говорить. Не придется ей каждый день возить ему харчи. А все этот Флем Сноупс.
– Что и говорить. Другой бы такого не сделал.
– Где уж тут другому. Генри Армстида, конечно, кто хочешь проведет. А вот Рэтлифа и впрямь не провести никому, кроме Сноупса.
И в это утро, хотя одиннадцатый час был только в начале, у загородки уже собралась обычная толпа, и когда подъехал Сноупс, даже те, что собирались в город, как и он, все еще были там. Он не свернул с дороги на обочину. Вместо этого он проехал вдоль длинного ряда повозок, и женщины с детьми на руках глядели на него, повернув головы, и мужчины, оборачиваясь, тоже глядели на него, серьезные, хмурые, глядели не отрываясь, а он остановил фургон и сидел на козлах, беспрерывно, размеренно жуя и глядя поверх их голов в сад. И, как бы следуя за его взглядом, люди у изломанной загородки повернули головы и увидели, как из кустов в дальнем конце сада вынырнули двое мальчишек и, крадучись, стали подбираться к Армстиду сзади. Он не поднял головы, даже не перестал копать, но, когда мальчишки были от него футах в двадцати, быстро повернулся, выскочил из своего рва и бросился на них, занеся лопату. Он не закричал; даже не выругался. Он просто бросился на них, волоча ногу, спотыкаясь о выброшенные из ямы комья земли, постепенно отставая. И когда они нырнули обратно в кусты, Армстид все бежал, а потом, споткнувшись, упал ничком и остался лежать, а люди за загородкой смотрели на него, и стало так тихо, что слышно было его тяжелое, свистящее дыхание. Потом он встал, сперва на четвереньки, как ребенок, поднял лопату и вернулся к своему рву. Он не взглянул на солнце, чтобы узнать время, как обычно делает человек, прерывая работу. Он пошел прямо ко рву, торопясь, мучительно медленно и трудно передвигая ноги, и его худое небритое лицо было теперь совсем безумным. Он залез в ров и начал копать.
Сноупс отвернулся и сплюнул через колесо фургона. Он легонько дернул вожжи.
Осквернитель праха{1}
Глава первая
Это было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город (да уж если на то пошло, весь округ) еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас убил белого человека.
Он стоял и ждал. Он пришел первым и теперь топтался на месте, стараясь придать себе занятой или хотя бы ни к чему не причастный вид, укрывшись под навесом запертой кузницы, через дорогу, напротив тюрьмы, где его дядя, если он пойдет через Площадь, или, вернее, когда он пойдет за одиннадцатичасовой почтой через Площадь, может, и не заметит его.
Потому что он тоже знал Лукаса Бичема – так же, как его знал всякий из живущих здесь белых. И, пожалуй, даже если не считать Карозерса Эдмондса, на ферме которого в семнадцати милях от города жил Лукас, лучше многих других, потому что он однажды ел в доме Лукаса. Это было в самом начале зимы, четыре года тому назад; ему тогда было только двенадцать лет, и вот как это случилось. Эдмондс дружил с его дядей; они вместе слушали курс в университете, где дядя изучал дополнительные правовые вопросы после того, как вернулся из Гарварда и Гейдельберга и собирался выставить свою кандидатуру в адвокаты окружного суда, и вот за день перед тем Эдмондс приехал в город повидать дядю по каким-то там окружным делам и остался у них ночевать, а когда вечером сели ужинать, Эдмондс сказал ему:
– Едем со мной завтра утром, пойдешь охотиться на зайцев. – И тут же его маме: – А под вечер завтра я его отправлю домой. А на охоту, пока он с ружьем будет, я с ним пошлю парнишку одного с фермы. – И, повернувшись к нему, добавил: – Собака у него очень хорошая.
– У него свой есть парнишка, сверстник, – сказал дядя, а Эдмондс спросил:
– А он что, тоже охотится на зайцев?
И дядя сказал:
– Мы пообещаем, что он не будет мешать вашему.
И вот на следующее утро он и Алек Сэндер поехали с Эдмондсом к нему домой. Утро было холодное, первые зимние заморозки, зеленые изгороди застыли недвижные, заиндевевшие, стоячая вода в канавах по обочинам дороги затянулась льдом, и даже быстротечный рукав реки на Девятой Миле подернулся у берегов тоненькой пленкой, сверкающей и хрупкой, словно волшебное стекло, а как только они проехали первую ферму, а потом еще и еще, на них дохнуло без ветра едкой горечью дыма, а позади домов на дворах видны были уже окутанные паром чугунные котлы, и женщины, все еще в летних соломенных или старых мужских фетровых шляпах и длинных мужских пальто, подкладывали под них дрова, а мужчины в передниках из мешковины, подвязанных проволокой поверх комбинезонов, оттачивали ножи или уже возились в загоне, где хрюкали и визжали свиньи, не то что испуганные или застигнутые врасплох, но просто настороженные и словно уже смутно осознавшие свой жирный неминучий удел; к ночи все дворы будут увешаны их призрачными цельными, лоснящимися от сала полыми бледными тушами, схваченными за задние ноги и словно остановленными в бешеном стремительном беге к центру земли.
И он просто понятия не имел, как это с ним случилось. Сын одного из арендаторов Эдмондса, постарше и много выше Алека Сэндера, который, в свою очередь, был больше его самого, хотя они были однолетки, уже ждал их в доме с собакой, настоящей охотничьей собакой на зайцев, из породы гончих, не совсем чистой, но почти черно-пегой, с желтыми подпалинами, может быть, чуть-чуть с примесью пойнтера, где-то у предков, сразу видно – хватала, негритянская собака, у которой есть что-то родственное, что-то общее с зайцем, так же вот, как некоторые говорят, что у негра есть что-то общее с мулом; а у Алека Сэндера был железный костыль, этакий болт с нарезкой, которым сцепляют рельсы, насаженный на отпиленный конец толстой палки от метлы, и Алек так ловко метал его, что он у него летел, как пуля из ружья, и попадал в зайца на бегу; и вот они все втроем – Алек Сэндер и мальчик Эдмондса с болтами, а он с ружьем – пошли через парк и потом наперерез лугом, чтобы перейти рукав в том месте, где сын фермера знал переход по бревну, и он сам не знал, как это с ним случилось такое, что могло бы случиться ну разве с девчонкой, ей это было бы простительно, но уж никак никому другому, он шел по бревну, нисколько не думая об этом – мало ли он хаживал по самому верху ограды по узкой перекладине вдвое длиннее этого бревна, – и вдруг ни с того ни с сего привычная солнечная зимняя земля перевернулась под ним, и он, распластавшись, но не выпуская ружья из рук, полетел стремглав не от земли, а от ясного неба, он вот и сейчас помнит тонкий звонкий хруст ломающегося льда и как он даже ничего не почувствовал, когда очутился в воде, а только когда уже вынырнул на воздух. А ружье он выронил, и ему пришлось снова нырнуть, чтобы найти его, снова из ледяного воздуха погрузиться в воду, которой он все еще не чувствовал, холодная она или нет, и даже его насквозь промокшая одежда – сапоги, толстые штаны, свитер, охотничья куртка – вовсе не чувствовалась в воде как тяжелый груз, а только стесняла в движениях, и он поднял ружье, и, еще раз нащупав дно, оттолкнулся, и, молотя по воде одной рукой, подплыл к берегу, шагнул по воде и, уцепившись за сук ивы, вытянул руку с ружьем, и кто-то ухватил его с берега – по-видимому, мальчик Эдмондса, потому что в этот самый миг Алек Сэндер ткнул его концом длинного шеста, толстого, как кол, и сшиб с ног, и он опять ушел с головой в воду и чуть было не выпустил из рук и ветку, за которую держался, но тут чей-то голос сказал:
– Убери кол с дороги, чтобы не мешал вылезть, – просто какой-то голос, не потому, что это не мог быть ничей другой, кроме как Алека Сэндера или Эдмондсова мальчика, а потому, что сейчас было все равно; цепляясь теперь уже обеими руками, он выбирался из ивняка, и тоненький льдистый налет, покрывавший деревья, ломался, звеня и хрустя, осыпаясь ему на грудь, одежда его теперь была словно свинцовая обертка, он не двигался в ней, а был завернут в нее, как в пончо или в просмоленный брезент, так он карабкался по откосу и увидел перед собой две ступни, две ноги в резиновых сапогах, ноги не Алека Сэндера и не Эдмондсова мальчика, потом ноги до колен и штаны, заправленные в сапоги, и тут он вылез на берег, встал и увидел негра с топором на плече, в толстой овчинной куртке и в светлой широкополой фетровой шляпе, какую когда-то носил дедушка, – он стоял и смотрел на него; так первый раз, насколько он помнит, он увидел Лукаса Бичема, и, наверно, это было первый раз, потому что Лукас был не из тех, кого забывают; едва переводя дух, трясясь всем телом и только теперь чувствуя знобь от ледяной воды, он смотрел на это лицо, которое глядело на него без всякого участия, жалости или каких-либо других чувств, даже без удивления; просто глядело, ведь тот, кому принадлежало это лицо, не двинул пальцем, чтобы помочь ему выбраться из воды, напротив, велел Алеку Сэндеру убрать кол, что как-никак было единственной попыткой оказать ему помощь; лицо это, как ему показалось, принадлежало человеку лет под пятьдесят, может быть – даже не больше сорока, если бы не эта шляпа и не глаза, и человек этот был чернокожий, негр, но это было все равно двенадцатилетнему, продрогшему до мозга костей мальчику, который все еще никак не мог отдышаться и от потрясения и от того, что он совсем выбился из сил, к тому же то, что проступало на этом лице, не имело никакой окраски, даже в той малой доле, какая бывает у белого, – оно не было ни заносчиво, ни презрительно: просто неподатливо и спокойно.
Тут мальчик Эдмондса что-то сказал этому человеку и произнес имя – что-то вроде мистер Лукас, и тогда он понял, кто это, и вспомнил все остальное из этой истории, представлявшей собой кусок или часть летописи здешнего края, которую мало кто, да никто, пожалуй, не знал так, как его дядя: как этот человек был сыном одного из рабов прадеда Эдмондса, старого Карозерса Маккаслина, и раб этот был не просто рабом, а и сыном старого Карозерса; и вот он стоял, трясясь всем телом, и, как ему казалось, уже не одну минуту, а этот человек стоял и смотрел на него с ничего не выражающим лицом. Потом этот человек повернулся и сказал, даже не оглянувшись через плечо, а уже на ходу, даже не замедлив шага, не поглядев, слышали ли они, уж не говоря о том, послушались ли:
– Идем ко мне.
– Я к мистеру Эдмондсу пойду, – сказал он.
Человек этот даже не обернулся. Даже ничего не возразил.
– Возьми его ружье, Джо, – сказал он.
Итак, он, и мальчик Эдмондса, и Алек Сэндер пошли за ним гуськом по берегу реки к мосту и на дорогу. Его скоро перестало трясти; он только чувствовал, что продрог и промок насквозь, да и это, наверно, скоро прошло бы, надо было только не переставать двигаться. Они перешли мост. Впереди уже виднелись ворота, откуда въездная аллея поднималась по склону и вела через парк к дому Эдмондса. До него оставалось примерно с милю; наверно, он бы совсем высох и согрелся, пока дошел, и он все еще уверял себя, что вот он сейчас повернет в ворота, и, даже когда ему стало ясно, что он не повернет, уже не повернул, уже прошел мимо, он все еще говорил себе, что это только потому, что Эдмондс – хотя Эдмондс был холостяк и у него в доме не было женщин, – сам Эдмондс может не пустить его никуда, пока не отправит домой к маме, и так он и продолжал себя уверять, хотя уже давно понял, что все дело в том, что он просто не может ослушаться этого человека, так же как он не мог ослушаться своего деда, и вовсе не из какого-нибудь страха и не оттого, что ему потом за это достанется, а потому, что, как его дед, вот так же и этот человек, шагавший впереди, не допускал и мысли, что какой-то мальчишка-подросток осмелится прекословить ему или не послушаться его.
Так что он даже не замедлил шага, когда они поравнялись с воротами, даже не посмотрел в ту сторону, когда они шли мимо, и вот теперь они свернули, не то чтобы на обыкновенную тропинку, которая ведет из усадьбы к хижинам крестьян-арендаторов или дворовой прислуги и всегда хорошо утоптана, а просто в какую-то расщелину, где то ли рытвина, то ли колея ползла уединенно вверх по склону, и вид у нее был такой же неподатливый – не подступись, – и тут он увидел домик-хибарку и вспомнил продолжение этой истории, этой летописи о том, как отец Эдмондса сделал дарственную своему чернокожему двоюродному брату, передав в вечное владение ему и его наследникам этот домик и десять акров земли, на которой он стоял, – продолговатый клочок, навечно вклинившийся в середину плантации в две тысячи акров, точно почтовая марка, налепленная на середину конверта, – некрашеный деревянный домишко, некрашеный забор-частокол; все так же не останавливаясь, не оглядываясь, прошел, толкнув ее на ходу коленкой, а следом за ним он, затем Алек Сэндер и мальчик Эдмондса гуськом вошли во двор. Можно было представить себе, что он даже и летом был без единой травинки, совсем голый – ни листика, ни стебелька, каждое утро кто-нибудь из женщин в доме Лукаса подметал здесь метелкой из связанных веником ивовых прутьев, оставляя сложные завихрения и спирали, которые по мере того, как двигался день, медленно и постепенно искажались, загаженные куриным пометом, испещренные загадочными трехпалыми отпечатками, словно земная поверхность в миниатюре (так ему теперь вспомнилось в шестнадцать лет) в эру гигантских ящеров, и они все четверо пошли по какому-то не то что проходу – собственно, это была просто утоптанная глина, – узенькая, прямая как стрела дорожка между высившимися с обеих сторон залежами консервных жестянок, бутылок, битой фаянсовой посуды и торчавшими из земли глиняными черепками вела к некрашеному крыльцу и некрашеной терраске, вдоль которой тоже были свалены жестянки, но уже побольше, пустые галлоновые ведерца, в которых когда-то держали патоку, а может быть, краску, дырявые ведра для воды или молока, пятигаллоновый бидон для керосина с продавленным верхом и половина того, что было некогда баком для нагревания воды из чьей-то кухонной плиты (наверно, Эдмондсовой) – оторванная вдоль, как кожура с банана, – прошлым летом сквозь нее проросли цветы, и сейчас еще торчали мертвые стебли и хрупкие высохшие тычинки, а за всем этим и самый дом, серый, обшарпанный и не то что некрашеный, а какой-то неподатливый, не приемлющий краску, отчего он казался не только единственно возможным продолжением мрачной нерасчищенной дороги, но венчающим ее завершением, как листья аканта на капителях греческих колонн.
Не останавливаясь, человек поднялся на крыльцо, прошел через террасу, открыл дверь, вошел, а за ним следом – он, мальчик Эдмондса и Алек Сэндер; полутемная передняя, даже совсем темная после яркого солнечного света, и сразу же запах, запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то присущим всякому дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капля негритянской крови, так же как он всегда считал, что всякий человек по фамилии Мэллисон должен быть непременно методистом[107], и тут они вошли в спальню: голый, истертый, совершенно чистый, некрашеный пол без всяких дорожек, в одном углу – покрытая ярким лоскутным одеялом большая кровать под балдахином, наверно стоявшая в доме Маккаслина, и старый, дешевый, обшарпанный буфет из мебельного магазина в Грэнд-Рэпидсе – и в первую минуту как будто все или почти все; только потом уже он заметит или вспомнит, что видел заставленную каминную полку и на ней керосиновую лампу, расписанную от руки цветами, и вазу, набитую свернутыми в трубку обрывками газет, а над каминной полкой – цветную литографию с календарем трехлетней давности, на которой Покахонтас в мокасинах и украшенном перьями и бахромой одеянии вождя племени сиу или чиппева[108] стоит у мраморной балюстрады и смотрит в сад с чинными кипарисами, а в полутемном углу, напротив кровати, на золоченом мольберте в толстой деревянной золоченой раме – цветной портрет, на котором изображены двое. Но портрета он пока еще не видел, потому что был к нему спиной, а сейчас он видел только камин – камин из неотесанного камня, промазанного глиной, в котором чуть тлело наполовину зарытое в серой золе большое обгорелое полено, а рядом с камином в качалке сидела девочка, так ему показалось сначала, пока он не увидел лица, а тогда он даже остановился, чтобы разглядеть ее, потому что ему вдруг показалось, вот-вот он сейчас вспомнит что-то еще, что ему рассказывал дядя о Лукасе Бичеме или, во всяком случае, в связи с ним, и, глядя на нее, он только теперь подумал, какой он, должно быть, на самом деле старый, потому что это была крохотная старушка, чуть ли не кукольных размеров, гораздо темнее, чем он, в фартуке, в накинутой на плечи шали, а голова ее была повязана белоснежной косынкой, поверх которой была надета цветная соломенная шляпа с какой-то отделкой. Но он так и не мог вспомнить, что такое ему рассказывал или говорил дядя, а потом ему даже стало казаться, что он просто все спутал и никто ему ничего не рассказывал; и он сидел в кресле прямо перед камином, в котором мальчик Эдмондса разводил огонь, пихая туда чурки и сосновые щепки, а Алек Сэндер, присев на корточки, стаскивал с него мокрые сапоги и штаны, а потом он встал, и его высвободили из куртки, и свитера, и рубахи, и им обоим приходилось приседать и изворачиваться, чтобы не задеть человека, который стоял у камина, спиной к огню, расставив ноги все еще в резиновых сапогах и даже не сняв шляпы, а только скинув толстую овчинную куртку, а потом перед ним снова эта старушка, такая маленькая, меньше даже, чем он и Алек, а ведь им только двенадцать, и на руке у нее другое пестрое лоскутное одеяло.
– Снимай все! – сказал человек.
– Нет, я… – начал было он.
– Снимай все, – повторил человек.
И он стащил с себя мокрое белье и сейчас же снова очутился в кресле, теперь уже перед ярко полыхавшим огнем, закутанный в одеяло, как кокон, и весь обволокнутый этим безошибочно различимым среди всех других запахом негров, запахом, о котором ему никогда и в голову не пришло бы задуматься, не случись того, что должно было с ним случиться через какой-то небольшой промежуток времени, который теперь уже исчислялся минутами, так бы он и в могилу сошел, не удосужившись подумать, а не является ли этот запах вовсе не прирожденным запахом расы и даже не нищеты, а скорее состояния, сознания, убеждения, приятия, пассивного приятия ими самими вот этого убеждения, что им, неграм, вовсе и не положено иметь какие-либо удобства, чтобы мыться как следует, или мыться часто, или хотя бы просто позволить себе полоскаться и размываться даже и безо всяких удобств, и что, в сущности, оно даже предпочтительней, чтобы они этого не делали. Но ни тогда, ни даже теперь еще этот запах ровно ничего не значил для него; до того, что с ним тогда произошло, еще должен был пройти час, и пройдет еще четыре года, прежде чем он поймет, во что все это разрослось и как повлияло на него, и только уже совсем взрослым он по-настоящему поймет и признает, что и он считал, что так оно и должно быть. А сейчас он сам просто вдохнул этот запах и тут же перестал его замечать, потому что он свыкся с ним, ведь он всю жизнь нюхал его изо дня в день и будет нюхать и дальше; а жизнь его до сих пор в значительной мере проходила в хижине Парали, матери Алека Сэндера, жившей у них во дворе, там они с ним играли в плохую погоду, и Парали, готовя еду для дома, в промежутке между завтраком и обедом пекла им лепешки, и они с Алеком ели их вместе – и тот и другой с одинаковым аппетитом; он даже не мог представить себе такого существования, которое вдруг раз и навсегда лишилось бы этого запаха. Он вдыхал его испокон веков и всегда будет вдыхать; этот запах был частью его неотвратимого прошлого, ценной частью его наследия как южанина; ему не надо было даже отгонять его от себя, он просто давно уже перестал замечать его, как старый курильщик не замечает запаха своей прокуренной трубки, который стал такой же принадлежностью или частью его одежды, как пуговицы и петли; так он сидел и даже немножко дремал в теплой, окутывавшей его вони одеяла, один раз он чуть-чуть насторожился, услышав, как мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, сидевшие на корточках у стены, поднялись и вышли из комнаты, – но только чуть-чуть – и сейчас же снова провалился в теплую одеяльную вонь, а над ним, по-прежнему спиной к огню, заложив руки за спину и совсем такой же, каким он увидел его, когда только что вылез из речки, если не считать того, что он был сейчас без своей овчинной куртки и без топора и держал руки за спиной, стоял человек в резиновых сапогах и вылинявшем рабочем комбинезоне, в каких ходят негры, но с солидной золотой цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана; еще когда они только вошли в комнату, он заметил, как этот человек, повернувшись к заставленной каминной полке, достал с нее что-то и сунул себе в рот, и только потом он уже разглядел, что это такое: золотая зубочистка, точь-в-точь такая же, какая была у дедушки, и шляпа на нем была поношенная, но касторовая, ручной выделки, такие вот заказывал себе дедушка и платил за них тридцать – сорок долларов, и она не была плотно надета на голову, а словно едва держалась, сдвинутая чуть-чуть набок над темным, как у негра, лицом, но с прямым и даже с горбинкой носом, а то, что глядело из этого лица или проступало на нем, было не черным, не белым, не надменным и даже не презрительным, а просто непреклонно-неподатливым и невозмутимым.
Тут Алек Сэндер вернулся с его одеждой, уже высушенной и еще горячей от плиты, и он оделся, притопывая, с трудом влез в свои зажухлые сапоги, а мальчик Эдмондса опять уселся на корточки у стены и что-то доедал с руки, и он сказал:
– Я пойду обедать к мистеру Эдмондсу.
А тот человек ничего не возразил и не поддакнул, он даже не шевельнулся, даже не посмотрел на него. Он только сказал непререкаемо и спокойно:
– Она уж все положила.
И он прошел мимо старушки, которая посторонилась в дверях, чтобы пропустить его в кухню; перед залитым солнцем квадратом окна, выходящего на юг, за покрытым клеенкой столом, где только что ели мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, – а откуда он это знал, он и сам не мог бы сказать – никаких следов этого, ни грязных тарелок и ничего такого не было, – он сел и стал есть, по-видимому, обед Лукаса – салат из капусты, кусок мяса, зажаренного в муке, большой плоский увесистый кусок бледного недопеченного пирога и стакан пахтанья – пища негров, с которой он тоже свыкся и не думал об этом, потому что это было как раз то, чего он и ожидал, это было то, что ели негры, наверно, потому, что они это любили, выбрали по своему вкусу; не потому, что за всю долгую историю их существования, если не считать тех, кто ел на кухне еду, которую стряпали для белых, это все, что они имели возможность приучиться любить, но (так думал он в двенадцать лет, и только уж совсем взрослым он в первый раз с удивлением задумается – а так ли это?) потому, что они выбрали это изо всего другого сами, по своему вкусу и своему обмену веществ; потом через каких-нибудь десять минут – и с тех пор на протяжении четырех лет – он будет стараться уверить себя, что вот с этой еды все и началось. Но в то же время он знал, что это не так. Исконное его заблуждение, предвзятость была заложена в нем с самого начала, ее не требовалось даже и подстрекать запахом дома и одеяла, ведь он и так с трудом выдерживал то, что глядело (не на него даже: просто глядело) из лица этого человека; поднявшись наконец из-за стола с уже зажатой в руке монетой в полдоллара, он пошел обратно в комнату, и только теперь, очутившись как раз напротив, он увидел портрет в золоченой раме на золоченой подставке, и, сам не зная почему, подошел, и нагнулся разглядеть его, потому что он стоял в темном углу, и видно было только, как поблескивает позолота. Его, по-видимому, недавно подновили; из-под круглого, слегка преломляющего свет выпуклого стекла, словно из магического кристалла гадалки, на него снова глядело невозмутимое, неподатливое лицо под сдвинутой набок шляпой, накрахмаленный воротничок без галстука, пристегнутый к белой накрахмаленной сорочке запонкой в виде змеиной головки чуть ли не в натуральную величину, и цепочка от часов, выпущенная петлей на черную из тонкого сукна жилетку, виднеющуюся из-под черного сюртука, недоставало только зубочистки, а рядом – маленькая, с куколку, женщина, но в другой цветной соломенной шляпке и шали; она, конечно, вот эта самая женщина, хотя совсем непохожая, и вдруг он понял, что даже не в этом дело – в ней, в этой женщине на портрете, было что-то страшное, что-то дико несообразное, и тут она что-то сказала, и он поднял глаза, человек этот по-прежнему стоял у камина, широко расставив ноги, а старушка снова сидела в кресле-качалке на старом месте, в углу, и она не смотрела на него, и он знал, что она ни разу не взглянула на него после того, как он вернулся, но она сказала:
– Все это Лукаса выдумки.
– Что? – спросил он.
И человек этот сказал:
– Молли не нравится, что тот, кто делал этот портрет, снял у нее эту обмотку с головы. – И правда, на портрете видны были ее волосы, и ему показалось, он смотрит через герметически завинченную стеклянную крышку гроба на бальзамированный труп, и он подумал: «Молли. Ну конечно», потому что теперь он вспомнил, что рассказывал ему дядя о Лукасе или о них обоих.
– А почему он снял повязку? – спросил он.
– Я велел ему, – сказал этот человек, – я не желал иметь у себя в доме портрет негритянки-батрачки.
И тут он подошел к ним и, сунув в карман кулак с монетой в пятьдесят центов, подцепил и зажал десятицентовик и еще две монетки по пять центов, все, что у него было, и сказал:
– Вы раньше в городе жили. Мой дядя знает вас – адвокат Гэвин Стивенс.
– Я вашу матушку тоже помню, – сказала она. – Она тогда звалась мисс Мэгги Дэндридж.
– Это бабушка моя, – сказал он. – Моя мама раньше была тоже Стивенс. – И он протянул свои монеты; и в ту самую секунду, когда он почувствовал, что она сейчас возьмет их, он понял, что вот только на эту одну-единственную секунду он опоздал навсегда, и уже непоправимо, и медленно горячая кровь – медленно, как ползут минуты, – приливала к его щекам и шее, и так он стоял, протянув онемевшую ладонь с четырьмя позорными крохами отчеканенного в монеты сплава, пока наконец этот человек не проявил что-то похожее по меньшей мере на жалость.
– Это еще зачем? – сказал он, даже не двинувшись, даже не наклонив головы, чтобы взглянуть, что у него там на ладони, и опять целая вечность, и только густая горячая недвижная кровь прихлынула и стоит, пока наконец яростно не кинулась ему в голову, не зазвенела в ушах, и тут он хоть как-то справился со своим стыдом и увидел, как повернулась его ладонь и не то что швырнула, а стряхнула монеты, которые, звеня и подпрыгивая, покатились по голому полу, а один пятицентовик попал в какую-то длинную покатую выбоину и скатился по ней с таким суховатым шорохом, словно мышь пробежала, и тот же голос:
– Подбери это!
И опять ничего, человек этот ни на что не глядел, руки по-прежнему за спиной, даже не пошевельнулся, только горячая кровь хлынула волной и застыла, и сквозь нее голос, обращенный ни к кому:
– Подберите его деньги! – И он услышал и увидел, как Алек Сэндер и мальчик Эдмондса бросились куда-то в темень и заерзали по полу. – Отдайте ему, – сказал голос, и он увидел, как мальчик Эдмондса бросил две его монетки на ладонь Алеку Сэндеру, и почувствовал, как рука Алека Сэндера старается всунуть все четыре монеты в собственную его опущенную руку и наконец всовывает их. – Ну а теперь идите стрелять зайцев, – сказал голос. – Да держитесь подальше от ручья.
Глава вторая
И снова они вышли на пронизанный солнцем морозный воздух (а ведь сейчас был полдень, самое теплое время, и сегодня, наверно, уж нечего было и ждать, что потеплеет) и пошли обратно через мост, и (вдруг, только он кинул взгляд по сторонам, оказывается, они уже чуть ли не полмили прошли берегом, а он даже и не заметил) тут собака загнала зайца в кустарник около хлопчатника и залилась истерическим лаем, а он выскочил, обезумев, обратно, маленький коричневато-рыжий комочек, и, сжавшись на мгновение в клубок, круглый, как крокетный шар, взметнулся высоко в воздух, и в следующую секунду, вытянувшись, длинный, как змея, уже летел впереди собаки, и маленький белый хохолок его хвоста мелькал между оголенными кустами хлопка, как парус игрушечного кораблика в ветер на пруду, а Алек Сэндер кричал ему через заросли кустарника:
– Стреляй, стреляй! Да что же ты не стреляешь? – А он повернулся не спеша, решительно зашагал к речке, вынул четыре монеты из кармана и швырнул в воду; а ночью, ворочаясь без сна, он понял, что эта еда вовсе не была каким-то угощением, лучшим из того, что Лукас мог предложить ему, нет, просто это было все, что он мог ему предложить, и он был там сегодня утром не как гость Эдмондса, а в гостях на плантации старого Карозерса Маккаслина, и Лукас понимал это, а он нет, и вот, значит, Лукас его и побил, стоял, расставив ноги, перед камином, и, даже не двинув пальцем, не разомкнув сложенных за спиной рук, взял его собственные семьдесят центов, и побил его ими, и, корчась в бессильной ярости, он уже думал об этом человеке, которого он видел только раз в жизни и всего каких-нибудь двенадцать часов тому назад, совсем так же – но это ему еще только предстояло узнать в будущем году, – как думал о нем любой белый в здешних краях, во всей округе, на протяжении многих лет: Мы его сперва заставим быть черномазым. Он должен признать, что он черномазый. А тогда, может быть, мы и согласимся считать его тем, чем ему, по-видимому, хочется, чтобы его считали. Потому что он сразу начал очень многое узнавать о Лукасе. Не то чтобы он слышал случайно – нет, он сам расспрашивал о нем всех, кто хорошо знал эту округу и мог рассказать ему о негре, который, обращаясь к женщинам, говорил «мэм», совсем как любой белый, и говорил вам «мистер» или «сэр», если вы были белый, но вы знали, что он не считает вас ни тем, ни другим и знает, что и вы это знаете, но у него даже и в мыслях нет, что вы можете его одернуть, потому что для него это не имеет значения.
Ну, взять хотя бы такой случай.
Это было три года тому назад в лавке, что на перекрестке, в четырех милях от усадьбы Эдмондса, в какую-то из суббот к концу дня, когда каждый живущий окрест, будь то хозяин-арендатор или батрак, белый или черный, идет мимо и обычно заходит что-нибудь купить, а кругом в ивняке и под березами и смоковницами в жидкой грязи у ручья топчутся на привязи оседланные мулы и лошади со стертыми от поклажи боками, а всадники их толпятся в набитой битком лавке, теснятся у входа на улице, сидят на пыльной скамье напротив или, присев на корточки, а кто и стоя, тут же рядом откупоривают с треском бутылки с содовой и тянут прямо из горлышка, жуют, поплевывая, табак, скручивают не спеша сигаретки и чиркают рассеянно спичкой, разжигая потухшие трубки; в тот день там среди прочих были трое довольно еще молодых белых из артели с соседней лесопилки, один из них известный заводила и скандалист, все они немножко подвыпили, и вот в лавку вошел Лукас в своем потертом черном костюме из тонкого сукна, который он надевал в воскресенье и когда ездил в город, в поношенной дорогой шляпе, солидная часовая цепочка на груди и эта его зубочистка, и тут что-то произошло, но чем это было вызвано, рассказчик не говорил, а скорее всего даже и не знал, может быть, тем, как Лукас вошел и, не сказав ни слова, подошел к прилавку, заплатил и взял покупку (это была пятицентовая пачка имбирных сухариков), повернулся, оторвал конец обертки, переложил зубочистку из одной руки в другую и спрятал в нагрудный карман, потом вытряхнул один сухарик себе на ладонь и сунул его в рот, – может быть, этим, может быть, даже и ничем, только вдруг тот белый как вскочит и прямо обращается к Лукасу и говорит ему:
– Ах ты, паршивый наглец, сволочь вонючая, скрутить тебе шею, чтоб гнулась, осел упрямый, Эдмондсов сукин сын.
А Лукас дожевал сухарь, проглотил его и, уже нагнув пачку, чтобы вытряхнуть другой, медленно повернул голову, поглядел на белого и, помолчав, сказал:
– А я не Эдмондс. Не из этих новоселов. Я из старожилов. Я – Маккаслин.
– Походи тут еще с эдакой наглой рожей, мы тебя превратим в падаль для воронья! – крикнул белый.
С минуту или по крайней мере полминуты Лукас смотрел на белого человека спокойным, изучающим, невозмутимым взглядом, а пачка сухариков в его руке медленно наклонялась, пока на ладонь другой руки не вытряхнулся еще сухарь, и тогда он слегка вздернул угол рта и, чмокнув, пососал верхний зуб – звук получился довольно громкий среди внезапно наступившей тишины, но в нем не было ничего нарочитого, ни вызова, ни насмешки или хотя бы осуждения, ровно ничего, просто он сделал это почти машинально, как мог бы сделать любой человек, который в полном одиночестве, где-то там за сто миль, жует себе имбирный сухарь и у него что-то застряло в зубе.
– Да, я уж не первый раз слышу такие речи, – сказал он. – И заводят их у нас, как я заметил, даже не Эдмондсы. – Тут белый сорвался с места и, сунув руку на прилавок, за спиной, где лежало с полдюжины рукояток для плуга, не глядя, схватил одну из них и уже замахнулся на Лукаса, но в это время сын хозяина лавки, энергичный молодой человек, выскочил из-за прилавка или, может быть, перескочил через него и схватил белого сзади, так что рукоятка, никого не задев, отлетела вбок и ударилась о нетопленую печь; а тут кто-то еще подбежал и тоже стал удерживать его.
– Уходи, Лукас, – бросил через плечо сын хозяина.
Но Лукас стоял не двигаясь и смотрел совершенно спокойно, даже без тени насмешки, даже и не презрительно, даже не так уж и настороженно, яркая пачка сухарей в левой руке и один маленький сухарик в правой, просто стоял и смотрел, в то время как хозяйский сын и его приятель едва удерживали разъяренного, вырывавшегося с проклятьями и бранью белого.
– Катись к черту отсюда, проклятый болван! – крикнул хозяйский сын, и только тогда Лукас не спеша двинулся с места, не спеша повернулся и, поднеся правую руку ко рту, пошел к двери, а когда он выходил, видно было, как мерно двигаются его жующие челюсти.
И вот из-за этого полдоллара. На самом-то деле, конечно, всех денег было семьдесят центов в четырех монетах, но уже давно, с того самого момента, чуть ли не с первой доли секунды, он перевел и обратил их в одну неразменную монету, в единое полновесное неделимое целое, отнюдь не соизмеримое с какой-то ее жалкой обменной стоимостью; бывали, правда, минуты, когда его самоугрызения или попросту муки стыда доводили его до такого душевного изнурения, что он вдруг успокаивался и говорил себе: Зато у меня осталось полдоллара, по крайней мере хоть что-то у меня осталось, – потому что теперь не только эта его промашка и позор, но и главное действующее лицо драмы, этот человек, негр, и эта комната, и эта минута, и самый день этот – все теперь исчезло, отчеканилось в круглую прочную символическую монету, и ему даже иногда представлялось: вот он лежит не терзаясь, совсем спокойный, и видит, как изо дня в день эта монета растет, разбухая до каких-то гигантских размеров, и наконец застывает недвижно, навеки повиснув в черном своде его непрестанных мучений, словно последняя омертвелая, навсегда неущербная луна, и против нее он, собственная его хилая тень, неистово жестикулирующая и жалкая в каком-то нелепом затмении: неистовом, нелепом и в то же время неутомимом, потому что теперь уж он никогда не оставит, никогда не отступится, он, унизивший не только свое мужское «я», но и всю свою расу; прежде, бывало, каждый день после школы, а в субботу с утра, если он не играл в бейсбол или не отправлялся на охоту или не предвиделось чего-нибудь еще, что он намеревался или обязался сделать, он шел в контору к дяде, где отвечал на телефонные звонки или выполнял разные поручения, и все это с каким-то подобием ответственности, если даже и без прямой необходимости; во всяком случае, в этом проявлялось его стремление придать себе какой-то вес в собственных глазах. Он начал это делать еще совсем ребенком, он даже не помнит когда, просто из безграничной слепой привязанности к единственному брату своей матери, – привязанности, в которой он никогда даже и не пытался разобраться, и так это и повелось с тех пор; потом, уже в пятнадцать, шестнадцать и семнадцать лет, ему будет вспоминаться рассказ о мальчике и его любимце теленке[109], которого он каждый день переносил через изгородь на выгон; годы шли, и мальчик стал уже взрослым, а теленок превратился в быка, и все равно он каждый день по-прежнему переносил его через изгородь.
Так вот, он покинул своего теленка. До Рождества оставалось меньше трех недель; каждый день после школы, а в субботу с утра он слонялся по Площади или где-нибудь поблизости, откуда ее было видно и он мог озирать ее. Холод держался еще дня два, потом потеплело, подул мягкий ветер, яркое солнце заволокло туманом, зарядил дождь, а он все равно стоял или прохаживался по улице возле лавки, в витринах которой уже появились рождественские подарки – игрушки, бенгальские огни, цветные фонарики, ветки плюща, блестки и фольга, – или, заглядывая в запотевшие окна аптеки и парикмахерской, всматривался в лица приезжих негорожан, держа наготове в кармане два пакетика – четыре сигары по двадцать пять центов пара для Лукаса и стаканчик нюхательного табака для его жены – в яркой рождественской обертке; наконец он увидел Эдмондса и отдал это ему с просьбой передать им на Рождество утром. Но это только покрывало (вдвое) те семьдесят центов, а мертвый, чудовищный застывший диск по-прежнему висел по ночам в черной бездне его бессильной ярости: Если бы только он сначала был просто негром, хоть на секунду, на одну крохотную, бесконечно малую долю секунды; и вот в феврале он начал копить деньги – двадцать пять центов, которые он получал каждую неделю от отца на карманные расходы, и двадцать пять центов, которые платил ему за его конторские услуги дядя, – и наконец к маю у него накопилось достаточно, и он пошел с мамой, чтобы она помогла ему выбрать, и купил платье из искусственного шелка с разводами, и отправил его посылкой по почте на имя Карозерса Эдмондса для Молли Бичем, и наконец испытал какое-то облегчение – ярость его улеглась, и он только никак не мог забыть свою обиду и стыд; круглый знак все еще висел в черном своде, но ему уже почти минул год, и свод теперь был уже не такой черный, и диск побледнел, и он даже засыпал под ним, как человек, измученный бессонницей, забывается в тускнеющем свете заходящей луны. И вот наступил сентябрь, через неделю уже должны были начаться занятия в школе. Как-то раз, только он пришел домой, его встретила мама.
– Смотри, что тебе прислали, – сказала она. Это было галлоновое ведерце свежей домашней патоки, и сразу, задолго до того, как она договорила, он догадался, откуда это. – Кто-то с плантации Эдмондса тебе прислал.
– Лукас Бичем! – не сказал, а почти закричал он. – А давно он ушел? Почему же он не подождал меня?
– Нет, – сказала мама. – Он не сам это принес. Послал с кем-то. Мальчик какой-то, белый, привез на муле.
И все. Итак, значит, опять все вернулось на прежнее место, и опять все надо начинать сначала; а теперь даже еще хуже, потому что на этот раз Лукас заставил белого поднять его деньги и вернуть ему. И тут он подумал, что он даже и не может начать сначала, потому что отвезти обратно это ведерце с патокой и швырнуть его в дверь Лукаса – это опять будет как те монеты, которые Лукас опять заставит кого-нибудь подобрать и вернуть ему, уж не говоря о том, что ему пришлось бы сделать конец в семнадцать миль, чтобы добраться до этой двери и швырнуть в нее ведро, а это значит ехать на своем шотландском пони, которого он стыдился, потому что ведь он теперь уже большой, а мама все еще не позволяет ему завести настоящую лошадь или, во всяком случае, такую, какую ему хотелось бы иметь и какую ему обещал подарить дядя. И значит, теперь уже все: то, что могло бы как-то освободить его, было не только свыше его сил, но даже его разумения; он мог только надеяться на какой-то случай или примириться с тем, что так оно и останется.
И вот прошло четыре года, и уже год с лишним, если не все полтора, он чувствовал себя свободным и думал, что с этим все кончено: старушка Молли умерла, а ее и Лукаса дочь уехала с мужем в Детройт, и только теперь, спустя много времени, он от кого-то случайно услышал, что Лукас живет в своем доме один-одинешенек, бобылем, нелюдимо и не только не водит дружбы ни с кем из своих соплеменников, но даже как будто гордится этим. За все это время он видел его три раза на Площади в городе, и не всегда в субботние дни – нет, правду сказать, вот только теперь, через год после того, как он видел его в последний раз, он вдруг припомнил, что никогда не встречал его в городе в субботу, когда все негры, да и большинство белых, приезжали из поселков, и что всякий раз эти встречи происходили почти ровно через год, и не потому, что так выходило, что он в этот день случайно оказывался на Площади, а потому, что он приходил нарочно в те дни, когда Лукас каждый год непременно приезжал в город, и всегда в будние дни, как белые – не крестьяне, а хозяева плантаций, люди, ходившие в жилете с галстуком, как коммерсанты, доктора и даже сами юристы, – словно он избегал, не желал иметь ничего общего не только с неграми, но даже с образом жизни негров, живущих в деревне, и всегда он был в этом своем поношенном, тщательно вычищенном черном костюме из дорогого сукна, в том самом, что на портрете в золоченой раме, в превосходной, сдвинутой набок шляпе, в белой крахмальной сорочке, такой, как носил дедушка, с крахмальным воротничком без галстука, толстая часовая цепочка и золотая зубочистка, такая же, как у дедушки, в верхнем жилетном кармане; в первую встречу – это было на следующий год зимой – он сам первый заговорил с ним, хотя Лукас сразу его вспомнил; он поблагодарил его за патоку, и Лукас ответил ему так, как мог бы ответить дедушка, только слова он произносил несколько иначе, не совсем грамотно.
– Уж очень она хороша нынешний год вышла. Вот я когда ее делал, тут и вспомнил, как все мальчишки лакомы до патоки. – И, уже уходя, сказал через плечо: – Смотри, чтобы нынешней зимой больше не падать в ручей. – После этого он видел его еще два раза – черный костюм, шляпа, цепочка, только зубочистки не было, когда они встретились в следующий раз, и Лукас, глядя прямо на него, прямо ему в глаза, прошел мимо в каких-нибудь пяти шагах, и он подумал: Он меня забыл. Он даже и не помнит меня больше, – так он и думал до тех пор, пока, кажется уже на другой год, дядя как-то не сказал, что у Лукаса в прошлом году умерла его старушка жена, Молли. И он, даже не дав себе времени подумать, не поинтересовавшись, откуда это дядя мог узнать (наверно, Эдмондс ему сказал), стал торопливо отсчитывать назад и тут же сказал себе с чувством оправдания, облегчения, чуть ли не с торжеством: Она тогда только что умерла. Вот почему он меня не видел. Вот почему при нем не было зубочистки. И с каким-то изумлением подумал: Он в горе был. Где уж там стараться не быть негром, когда у тебя горе, – а потом оказалось, что он опять караулит и опять слоняется по Площади почти так же, как он делал это два года тому назад, когда он поджидал Эдмондса, чтобы отдать ему для них два рождественских подарка, и так прошло два, три, четыре месяца, и вдруг его осенило: ведь он всегда встречал Лукаса в городе в январе или в феврале, и только раз в году, и вот только теперь до него дошло почему: он приезжал вносить ежегодный налог за свой участок. И вот это было в конце января, ясным холодным днем. Он стоял на углу, возле банка, в закатном солнечном свете и увидел, как Лукас вышел из здания суда и пошел через Площадь прямо на него, в черном костюме, в рубашке без галстука, в старой своей превосходной шляпе, небрежно сдвинутой набок, весь такой прямой, что его теплая куртка прилегала только к плечам, с которых она свисала, и ему уже виден был поблескивающий сбоку кончик золотой зубочистки, и он чувствовал, как все мускулы его лица напряглись в ожидании, и тут Лукас поднял глаза и еще раз посмотрел прямо на него, долго, может быть, с четверть минуты, а потом отвел взгляд и продолжал идти прямо и даже чуть-чуть посторонился, чтобы пройти мимо, прошел мимо и пошел дальше; и он тоже не обернулся ему вслед и так и стоял на углу тротуара в холодном закатном солнечном свете и думал: Он даже не только не вспомнил меня в этот раз. Даже не узнал. Он даже не старался, ему ничего не стоило забыть меня. И думал даже с каким-то умиротворением: Ну, теперь все, кончено, потому что теперь он свободен: человек, который в течение трех лет преследовал его наяву и во сне, вышел из его жизни. Он, конечно, увидит его еще; можно не сомневаться, они будут проходить вот так же мимо друг друга по улице, раз в год, пока Лукас жив, но это будет все, ибо один из них будет уже не тот человек, а только тень того, кто приказал двум мальчишкам-неграм поднять его деньги и отдать ему; а другой будет лишь воспоминанием о подростке, который протянул их, а потом бросил на пол, воспоминанием, которое донесет до взрослого только полинявший обносок того давнего жгучего стыда, муки и жажды – не мести, не отплаты, а просто восстановления, утверждения своего мужского «я», своей белой расы. А когда-нибудь один из них перестанет даже быть и тенью того человека, который приказал подобрать его монеты; а другому его стыд и муки перестанут даже и вспоминаться, даже тени их не сохранит память, только легкое дуновение, шелест, словно горько-сладко-кислый вкус щавеля, который он жевал мальчиком в давно отошедшем детстве, а теперь случайно взял в рот и вдруг что-то вспомнил на миг и тут же забыл, прежде даже, чем успел вспомнить, что это; он представлял себе, как они встретятся совсем старыми, глубокими стариками, у которых во всех суставах и в оголенных кончиках нервов стоит никогда не прекращающаяся, ничем не утолимая боль, и это-то за неимением лучшего слова у них называется «жить», и, когда не только все истекшие годы обоих, но и полвека разницы между ними станут неразличимыми, их нельзя будет даже и сосчитать, как нельзя сосчитать песчинки, попавшие в кучу угля, и он скажет Лукасу: «Я был тот мальчик, которого вы накормили половиной вашего обеда, а он попытался заплатить вам за это монетами, которые в те времена равнялись семидесяти центам, а когда у него это не вышло, он, чтобы не опозориться, не мог придумать ничего лучшего, как швырнуть их на пол. Не помните?» И Лукас: «А я ли это был?» Или в обратном порядке, не он, а, наоборот, Лукас скажет ему: «Я был тот человек, который приказал двум мальчишкам-неграм подобрать ваши деньги, которые вы бросили на пол, и вернуть вам. Помните?» И на этот раз он скажет: «А я ли это был?» Потому что теперь с этим было кончено. Он подставил другую щеку, и это приняли. Он свободен.
А потом как-то в субботу он шел по Площади, возвращаясь домой, время было уже далеко за полдень (они играли в бейсбол на школьной площадке), и он услышал, что Лукас убил Винсона Гаури возле лавки Фрейзера; около трех часов по телефону затребовали шерифа, после чего по загородной линии стали звонить в другой конец округа, куда шериф выехал утром по делу и где посыльный сможет разыскать его разве что поздно ночью или совсем под утро – ну, оно, конечно, разница небольшая, даже если бы он и сидел у себя на месте, – все равно наверняка будет поздно, потому что лавка Фрейзера находится на Четвертом участке, и если Йокнапатофа не такое место, где негр может позволить себе выстрелить белому в спину, то Четвертый участок самое неподходящее место во всей Йокнапатофе, и ни один негр, если у него есть хоть что-нибудь в голове, и никакой пришлый любого цвета не выберет это место, чтобы стрелять в кого бы то ни было, будь то в грудь или в спину, и, уж во всяком случае, ни в кого по фамилии Гаури; уже последняя машина, битком набитая молодыми да и не очень молодыми людьми (к которым обращались по делу в бильярдную и в парикмахерскую не только к концу дня в субботу, но и всю неделю, кой-кто из них имел какое-то отношение к хлопку, автомашинам, продаже земельных участков или скота, они заключали пари на состязания призовых боксеров, на стрельбу в цель и на бейсбольные матчи по всей стране), двинулась с Площади и помчалась за пятнадцать миль, чтобы стать в ряду других на шоссе против дома констебля, который, надев на Лукаса наручники, отвел его к себе и, по слухам, защелкнул наручники за ножку кровати и теперь сидит и сторожит его с ружьем (да уж и Эдмондс, конечно, тоже там; даже у деревенского простака констебля хватит соображения послать за Эдмондсом – всего каких-нибудь четыре мили, – и прежде даже, чем вызванивать шерифа) на случай, если Гаури и их родственники решат не дожидаться, пока похоронят Винсона; конечно, Эдмондс сейчас там; если бы Эдмондс был сегодня в городе, он, наверно, увидел бы его утром или в течение дня, до того, как пошел на бейсбол, а раз он его не видел, значит, Эдмондс был дома, всего в каких-нибудь четырех милях; посыльный мог поспеть к нему, и сам Эдмондс уже мог быть в доме констебля прежде, чем другой посыльный записывал телефон шерифа и что ему сказать, а потом еще добирался до ближайшего телефона, чтобы передать все, что требуется; значит, Эдмондс (и опять что-то уж второй раз зацепило на секунду его внимание) и констебль – их двое, а один только Господь Бог может сосчитать, сколько там этих Гаури, Инграмов и Уоркиттов, а если Эдмондс еще чем-нибудь занят, ужинает, или читает газету, или считает деньги, то констебль совсем один, хотя и с ружьем; но ведь он-то свободен, какое ему дело, и почти не колеблясь он дошел до угла, чтобы повернуть домой, и, только когда увидел, какое еще солнце на улице и что день еще далеко не на исходе, он повернул и зашагал назад и вдруг вспомнил, почему, собственно, он не пошел прямо через Площадь, теперь уже почти пустую, к наружной лестнице, ведущей в контору.
Хотя, конечно, нет никаких оснований предполагать, что дядя засидится в конторе так поздно в субботу, но по крайней мере хоть пока идешь по лестнице, можно об этом не думать, и как раз он сегодня в башмаках на резиновой подметке, но все равно эти деревянные ступеньки скрипят и грохочут, если только ступишь не с краю у самой стены; и он подумал, как это он до сих пор не ценил резиновые подметки, ну что может быть лучше, когда надо вот так собраться с мыслями и решить про себя, что ты будешь делать, и тут он увидел закрытую дверь конторы, и хотя свет у дяди мог и не гореть, потому что было еще сравнительно рано, но у самой двери был такой вид, какой бывает только у запертых дверей, значит, он мог даже быть и на кожаных подметках; отперев дверь своим ключом, он запер ее за собой на задвижку и подошел к тяжелому откидному, с вертящимся сиденьем креслу – в нем когда-то сиживал дедушка, а уж потом оно перешло к дяде – и уселся за стол, заваленный бумагами, который дядя завел вместо старинного дедушкиного бюро и через который правовые дела всего округа (требующие юридического вмешательства) проходили с незапамятных времен, потому что его память – это ведь и есть память, во всяком случае, для него, и, значит, этот потертый стол, и пожелтевшие, с загнутыми углами бумаги, и нужды, и страсти, запечатленные в них, так же как и вымеренный и обведенный чертой границы округ, – все это было одного возраста, одно нераздельное целое; последние солнечные лучи протянулись из-за тутового дерева в окно позади и легли на стол, на растрепанные груды бумаг, на чернильницу и подносик со скрепками, грязными заржавленными перьями и проволокой для чистки трубки, и на лежавшую в куче пепла глиняную трубку с головкой из кукурузного початка, и стоявшую рядом на блюдце кофейную чашку с засохшими коричневыми подтеками, и на цветную кружку из гейдельбергской Stube[110] со скрученными обрывками газетной бумаги для разжигания трубки – как в вазе у Лукаса на камине в тот день, – и, прежде чем он успел поймать себя на этой мысли, он вскочил и, взяв со стола чашку с блюдцем, пошел через комнату в умывальную, прихватив по дороге кофейник и чайник, вылил остатки из кофейника, вымыл под краном и кофейник и чашку, налил воды в чайник, поставил все в кухне на полку, вернулся к креслу и снова уселся, как будто вовсе и не уходил, – можно еще долго сидеть и смотреть, как этот заваленный бумагами стол со всем своим привычным хаосом постепенно, по мере того как угасает солнечный свет, сливается в одно, погружаясь в безымянность тьмы, сидеть задумавшись, вспоминая, как дядя говорил, что у человека только всего и есть что время, все, что стоит между ним и смертью, которая внушает ему ужас и отвращение, – это время, и, однако, половину его он тратит на то, чтобы придумать, как скоротать вторую половину, и вдруг в памяти его само собой ниоткуда вынырнуло то, что уже давно цеплялось за его сознание: Эдмондса ведь нет дома, он даже не в Миссисипи; он лежит в больнице в Новом Орлеане на операции, у него камни в печени; тяжелое кресло откатилось по деревянному полу почти с таким же грохотом, как фургон по деревянному мосту, когда он вскочил и замер у стола и так стоял, пока не затихло эхо, и слышно было только, как он дышит: потому что ведь он свободен; и тут он быстро направился к выходу, потому что мама знает, когда кончился бейсбол, даже если ей и не слышно, как они там орут на окраине города, и она знает даже, сколько времени, с тех пор как начало смеркаться, ему понадобится, чтобы дойти домой, и, заперев за собой дверь, он сбежал по лестнице опять на Площадь, сейчас уже всю одетую сумраком, – вот уже первые огни засветились в аптеке (в парикмахерской и в бильярдной их так и не гасили сегодня с шести утра, когда швейцар и чистильщик обуви открывали двери и выметали волосы и окурки) и в мелочной тоже, чтобы всем понаехавшим из округа, кроме тех, что с Четвертого участка, было где подождать, пока из лавки Фрейзера не пришлют сказать, что все опять тихо-мирно и они могут забирать с задних дворов и из тупиков свои грузовики, машины, фургоны и мулов и отправляться домой спать; на этот раз он повернул за угол, и перед ним выросла тюрьма, громадная, темная, кроме одного заделанного решеткой прямоугольника в фасадной стене наверху, откуда обычно по вечерам негры – азартные игроки, добытчики и торговцы виски, бритвометатели – перекрикивались со своими девчонками и женщинами, стоявшими внизу, на улице, и где сейчас вот уже три часа должен был бы сидеть Лукас (дубася, наверно, в железную дверь, требуя, чтобы ему подали ужин, а может, уже и поужинав, просто выражая свое возмущение скверной кормежкой, потому что, можно не сомневаться, он сочтет это своим правом, предоставленным ему со всем остальным при казенном помещении и харчах), да вот только почему-то у нас считают, что единственная задача всего государственного аппарата сводится к тому, чтобы выбрать одного такого человека, как шериф Хэмптон, достаточно дельного или, во всяком случае, здравомыслящего и твердого, чтобы управлять округом, а на остальные должности насажать родственников да зятьев, которым, за что бы они дотоле ни брались, так и не удалось пристроиться и заработать себе на жизнь. Но ведь он-то свободен, и, кроме того, теперь уже, наверно, все кончилось, а если даже и нет, он знает, что ему делать, и для этого у него еще масса времени и завтра еще будет время, а сегодня надо только дать с вечера Хайбою две лишние мерки овса на завтрашний день, и сначала ему показалось, что ему самому страшно хочется есть или вот-вот захочется, когда он сел у себя дома за стол, на свое обычное место, и на белоснежной скатерти салфетки, серебро, стаканы для воды и ваза с нарциссами и гладиолусами, и в ней еще несколько роз, и дядя сказал:
– Ну, твоему другу Бичему на этот раз, кажется, каюк.
– Да, – сказал он, – теперь они из него хоть раз в жизни все-таки сделают черномазого.
– Чарльз! – сказала мама, а он ел, ел быстро и много, и говорил очень быстро, и рассказывал без конца про бейсбол, и ждал, что вот-вот сейчас, сию минуту у него засосет от голода, и вдруг сразу почувствовал, что этот последний кусок уже в глотку не лезет, и, с трудом дожевывая его и давясь, только бы скорее проглотить, и, уже вскочив:
– Я иду в кино, – сказал он.
– Ты еще не доел, – сказала мама; и потом: – До начала кино еще чуть ли не целый час. – Потом, взывая даже не к отцу и не к дяде, а ко всем временам Господним – тысяча девятьсот тридцатому, сороковому, пятидесятому: – Я не пущу его сегодня вечером в город, не пущу! – И наконец крик и вопль к верховной власти – к самому отцу – из той объятой тьмою бездны ужасов и страхов, в которой женщины (во всяком случае, матери) живут чуть ли не добровольно: – Чарли! – пока дядя не положил салфетку и не сказал, поднявшись:
– Вот тебе случай отнять его наконец от груди. Кстати, мне надо дать ему одно поручение, – и вышел; потом, уже на веранде, в прохладной темноте, помолчав немного, дядя сказал: – Ну что же, иди.
– А вы не пойдете? – сказал он. И тут же вскричал: – Но почему? Почему?
– А разве это имеет значение? – сказал дядя и тут же добавил то, что он слышал тому назад уже два часа, когда проходил мимо парикмахерской: – Сейчас – нет. Ни для Лукаса, ни для кого другого, кто подвернется там с его цветом кожи. – Но он уже и сам думал об этом, и не перед тем, как сказал дядя, но еще до того, как он слышал это, да и, кстати сказать, многое другое, два часа тому назад возле парикмахерской. – Ведь вопрос, в сущности, не в том, почему Лукасу понадобилось пустить пулю белому в спину, а иначе и жить было невтерпеж, но почему из всех белых он выбрал именно Гаури и застрелил его не где-нибудь, а именно на Четвертом участке. Ну, ступай. Только не задерживайся допоздна. В конце концов, надо же иногда проявить сочувствие даже и к родителям.
Да, так и есть, одна из машин, а кто знает, может статься, и все, вернулась к парикмахерской и к бильярдной, так что Лукас, по-видимому, все еще мирно прикован к ножке кровати, и констебль сидит над ним с ружьем на взводе, и, наверно, жена констебля принесла им туда ужин, и Лукас, проголодавшись, съел все, что ему дали, с большим аппетитом, и не только потому, что ему не надо за это платить, а потому, что не каждый ведь день случается застрелить кого-то; и, наконец, по-видимому, это все-таки правда, что шерифу в конце концов дали знать и от него получен ответ, что он вернется в город ночью и заберет Лукаса завтра рано утром, а теперь – что бы ему такое придумать, надо же как-то скоротать время, пока не кончится кино, пожалуй, можно было бы и пойти туда, и он перешел Площадь к зданию суда и сел на скамейке в темном прохладном пустом уединении среди разорванных теней, мятущихся без ветра весенних листьев на звездном мареве неба; отсюда ему виден был освещенный брезентовый навес перед входом в кино, и, возможно, шериф и прав: по-видимому, он как-то сумел поладить с этими Гаури, Инграмами, Уоркиттами и Маккалемами настолько, что они голосуют за него через каждые восемь лет, так что, может быть, он приблизительно знает, как они будут в этом случае действовать, или, может быть, те, в парикмахерской, были правы, и Инграмы, Гаури и Уоркитты медлят не потому, что хотят сначала похоронить Винсона, но просто потому, что теперь, уже через каких-нибудь три часа, наступит воскресенье, а им вовсе не хочется делать это наспех, так чтобы успеть все кончить к полуночи и не нарушить седьмого дня; вот уже первые из расходящихся зрителей начали просачиваться из-под навеса, а за ними потекли другие, мигая на свет и даже секунду-другую хватаясь руками за воздух, унося с собой в затрапезную жизнь угасающий жар дерзновенной мечты, целлулоидных пылких видений, и теперь, значит, можно идти домой, то есть, вернее сказать, надо идти: ведь она просто чутьем знает, когда кончилось кино, как она знала, когда кончился бейсбол, и хоть она никогда не простит ему, что он сам может застегивать себе пуговицы и мыть за ушами, но по крайней мере она хоть примирилась с этим и не прибежит за ним сама, а просто пошлет отца, и вот если пойти сейчас, пока все еще не хлынули из кино, – на улице никого, пусто, и так до самого дома; так он и дошел до самого двора и только повернул за угол, как рядом вырос дядя, без шляпы, дымя одной из своих глиняно-кукурузных трубок.
– Слушай, – сказал дядя. – Я звонил Хэмптону в Пэддлерс-Филд и говорил с ним, и он уже звонил сквайру Фрейзеру, и Фрейзер сам сходил к Скипуорту и видел Лукаса, прикованного к ножке кровати, так что все в порядке и ночью все будет спокойно, а завтра утром Хэмптон заберет Лукаса в тюрьму.
– Я знаю, – сказал он, – они не будут его линчевать до завтра, да и то только после двенадцати ночи, когда уже и Винсона похоронят, и воскресенье пройдет. – И уже на ходу: – Да я ничего. Ведь для меня, собственно, Лукасу нечего было так уж стараться не быть черномазым. – Потому что ведь он свободен – у себя в постели, в прохладной уютной комнате, в прохладной уютной темноте, потому что ведь он уже знает, что он решил на завтра, а в конце концов все-таки он забыл сказать Алеку Сэндеру дать Хайбою лишнюю порцию овса на ночь, но это можно сделать и утром, а сейчас спать, потому что у него есть средство в десять тысяч раз быстрее, чем считать овец; вот сейчас он заснет так быстро, что вряд ли успеет сосчитать до десяти, – и с бешенством, в почти невыносимом приступе возмущения и ярости: убить в спину белого, да еще из всех белых решиться выбрать этого, младшего из шести братьев – один из них уже отбыл год в каторжной тюрьме за вооруженное сопротивление и дезертирство из армии и еще срок принудительных работ на ферме за то, что гнал виски, и еще у них там орды зятьев и двоюродных братьев, все вместе они завладели изрядным куском округа, а сколько их там всего, пожалуй, так сразу не скажут даже и наши бабушки и девственные старушки тетушки, – целое племя драчунов: охотники, фермеры, торговцы лесом и скотом, и кто же может осмелиться поднять руку на одного из них – все они тут как тут, так и кинутся, да и не только они, потому что это племя, в свою очередь, породнилось и перемешалось с другими драчунами, охотниками, торговцами виски, и это уж получилось не просто племя, а клан, и совсем особой породы, который, сплотившись в своем горном гнезде, давно уже представлял собой такую силу, что не считался ни с местными, ни с федеральными властями и не просто заселил и развратил весь этот уединенный край поросших соснами холмов с разбросанными далеко друг от друга фермами, кочующими лесопилками и перегонными кубами для контрабандного виски, край, куда городские блюстители порядка даже и не заглядывали, если за ними не посылали, а посторонние белые, если их занесло сюда, старались с наступлением темноты держаться поближе к шоссе, а негры, уж и говорить нечего, никогда и близко не подходили к этому участку – словом, как сказал один из наших остряков: из посторонних туда мог ступить безнаказанно один Господь Бог, да и то только днем и в воскресенье, – он изменил его до неузнаваемости, превратив в синоним своевластия и насилия – понятие с осязаемыми границами, вроде как карантин во время чумы, так что только он один, единственный из всего округа, был известен всему остальному округу по номеру своих межевых координат – участок номер Четыре, – такой известностью в середине двадцатых годов пользовался город Сисеро[111]: все знали, где он находится, и кто там живет, и чем занимается, даже те, кто представления не имел, в каком штате Чикаго; и как будто всего этого мало, он, как нарочно, выбрал такое время, когда единственный человек, будь то белый или черный, – Эдмондс, один-единственный из всего Йокнапатофского округа, из всего Миссисипи или, уж коль на то пошло, из всей Америки, изо всего света, единственный, у кого могло бы быть какое-то поползновение – уж не будем говорить возможность или власть – попытаться стать между Лукасом и свирепой судьбой, на которую Лукас давно набивался (и тут, хотя он уже совсем было собрался заснуть, он невольно расхохотался, вспомнив, как это ему в первую минуту пришло в голову, что, если бы Эдмондс был дома, это могло бы иметь какое-то значение, – явно представив себе это лицо, сдвинутую набок шляпу и эту фигуру перед камином в позе барона или герцога – стоит себе, расставив ноги, эдакий сквайр или член конгресса, заложив руки за спину, и так это, даже не глядя, приказывает двум мальчикам-неграм поднять его деньги и отдать ему; и ему даже не надо было вспоминать слова дяди, который чуть ли не с тех пор, как он научился понимать, что ему говорят, наставлял его, что ни один человек не может заслонить другого от его судьбы, потому что даже и дядя при всей своей гарвардской и гейдельбергской учености не мог бы назвать такого смельчака и сумасброда, который решился бы стать между Лукасом и тем, что он задумал сделать), этот человек лежал теперь неподвижно на спине в операционной в Новом Орлеане, так вот Лукасу как раз и приспичило выбрать это время, эту жертву, и это место, и субботний день после полудня, и ту же лавку, где у него уже было столкновение с белым – во всяком случае, один-то раз, – выбрать первую подходящую субботу, удобное время дня и, прихватив с собой старый однозарядный «кольт» такого калибра и типа, каких уже теперь больше и не делают, и, уж конечно, такой только и есть у Лукаса, так же как вот золотая зубочистка, ни у одного человека во всем округе такой нет, подождать у лавки – самое верное место, нет человека из тех, что живут по соседству, который в субботу днем рано или поздно не показался бы здесь, – и, как только появится жертва, уложить на месте выстрелом в спину, а почему – до сих пор так никто и не знает и, по всему тому, что он слышал сегодня днем и даже уже совсем вечером, когда он наконец пошел домой с Площади, никто даже и не интересовался; ну какое это имело значение, во всяком случае, меньше всего для Лукаса, ибо он, по-видимому, вот уже лет двадцать или двадцать пять с неутомимым, ни на минуту не ослабевающим рвением готовился к этому всеутверждающему моменту; он пошел следом за ним в перелесок – ну что там ходу, плюнуть дойти – и выстрелил ему в спину, и, конечно, все, кто там толкался у лавки, услышали; и, когда первые из толпы подбежали к нему, он так и стоял над телом с аккуратно засунутым в верхний карман брюк револьвером, и, конечно, с ним тут же и расправились бы, не сходя с места, если бы не тот же Дойл Фрейзер, который семь лет тому назад спас его от плужной рукоятки, и старый Скипуорт, констебль, маленький, высохший, сморщенный старикашка, глухой как пень и росту чуть побольше щуплого подростка, в одном кармане куртки у него всегда большой никелированный револьвер без кобуры, а в другом – резиновая слуховая трубка, которую он наподобие охотничьего рога носил на ремне из необделанной кожи, накинутом на шею, и вот он-то чуть ли не на свой страх и риск проявил отчаянную смелость и мужество, вызволил Лукаса (который, впрочем, не оказал ни малейшего сопротивления, а просто наблюдал происходящее все с тем же спокойным, невозмутимым, даже не презрительным интересом) из толпы, увел к себе домой и приковал к ножке кровати до тех пор, пока не вернется шериф, а тогда уж он заберет его в город и будет стеречь до тех пор, пока Гаури, Уоркитты, Инграмы и все остальные их гости и свойственники не похоронят Винсона, а тут уж и воскресенье пройдет, и они со свежими силами, без помех приступят к своим обязанностям с начала новой недели, и вот, ну просто не верится, оказывается, уже и ночь прошла, петухи в предрассветной мгле пробуют голоса, опять тишина, и затем громкий, звонкий щебет птиц, и в окне, выходящем на восток, уже видны в сером свете деревья, а вот уж и солнце высоко над деревьями сверкает неистово прямо в глаза, и, наверно, уже поздно, и, конечно, так оно и должно было случиться; но ведь он же свободен – вот он позавтракает, и все обойдется, и ведь он всегда может сказать, что идет в воскресную школу, а то и вовсе ничего не надо говорить, выйти с черного хода просто прогуляться, потом через задворки на выгон и прямо наперерез, рощей к железнодорожным путям, к станции и оттуда обратно на Площадь, и тут же подумал: а нельзя ли еще как-нибудь попроще, а потом сразу бросил думать и пошел через холл прямо к выходу, пересек веранду, спустился в сад и вбок по дорожке на улицу, и тут только, как он потом вспомнил, тут только в первый раз он заметил, что не видел ни одного негра, если не считать Парали, которая подала ему завтрак; обычно в эти часы в воскресенье утром чуть ли не на каждом крыльце видишь горничную или кухарку в свежевыглаженном воскресном фартуке с щеткой в руках, иногда они переговаривались с крыльца на крыльцо через проход меж дворами, и дети, тоже отмытые, вычищенные, собирались кучками в воскресную школу, зажав в потных ладонях пятицентовики; но, может быть, сейчас еще слишком рано или, может быть, по обоюдному уговору или даже по чьему-то распоряжению сегодня не будет воскресной школы, только церковная служба, и вот в какой-то согласованный со всеми момент, скажем в половине двенадцатого, весь воздух над Йокнапатофским округом, словно накаленный зноем, задрожит беззвучно единым дружным заклинанием – Успокой сердца этих понесших тяжелую утрату разгневанных людей, аз воздам, сказал Господь[112], не убий, – разве только сейчас уже немножко поздно, что бы им сказать это Лукасу вчера, – и мимо тюрьмы с заделанным решеткой окном во втором этаже, откуда в обычное воскресенье просовывается между прутьев множество темных рук и даже время от времени видно, как сверкают белки и певучие голоса окликают, смеясь, прогуливающихся или стоящих внизу негритянских девушек и женщин; и вот тут-то он и подумал, что, кроме Парали, он со вчерашнего дня совсем не видел негров – хотя еще только завтра он узнает, что никто из негров, живущих в Холлоу и Фридмен-Тауне[113], не выходил на работу со вчерашнего вечера, – ни на Площади, ни даже в парикмахерской, где для чистильщика обуви воскресное утро самое доходное время: почистить башмаки, почистить одежду, сбегать по поручению, приготовить ванну для мытья холостым шоферам грузовых машин, рабочим из гаража, которые жили на холостую ногу, снимая комнаты, молодым и не очень молодым людям, трудившимся без устали целую неделю в бильярдной; а шериф, оказывается, действительно вернулся в город и даже пожертвовал своим воскресным днем, чтобы забрать Лукаса, – и, прислушиваясь, ловя на ходу: да, машин десять – двенадцать отправились вчера к лавке Фрейзера и вернулись ни с чем (он-то знал, что одна машина, набитая битком, отправилась туда еще раз уже совсем поздно вечером, а теперь все они тут, слоняются, зевая, и жалуются, что не выспались, и это тоже еще сверх того припомнится Лукасу), – и все это он уже слышал раньше и даже сам думал, еще до того, как слышал.
– Интересно, захватил с собой Хэмптон лопату? Это все, что ему понадобится.
– Ему там дадут лопату.
– Да-да, если останется, что закапывать. Бензин-то у них там найдется даже и на Четвертом участке.
– А я думал, старик Скипуорт насчет этого позаботится.
– Ясно. Но ведь это Четвертый участок. Они будут слушаться Скипуорта, покуда он держит у себя черномазого. Но ведь он должен передать его Хэмптону. Вот тут-то все и случится. Хэмптон может быть шерифом в Йокнапатофском округе, но на Четвертом участке он просто человек – как все.
– Нет. Сегодня они ничего не будут делать. Они сегодня днем хоронят Винсона, а жечь черномазого, пока похороны не кончились, – это неуважение к Винсону.
– Верно. Должно быть, на вечер отложат.
– В воскресный-то вечер?
– А что, разве это Гаури вина? Лукасу следовало бы подумать об этом раньше, а не убивать Винсона в субботу.
– Ну, насчет этого я не знаю. Но сдается мне, Хэмптон не такой человек, чтобы у него так просто было забрать заключенного!
– Негра, убийцу? Кто в этом округе да и во всем штате станет помогать ему защищать черномазого, который стреляет белому в спину?
– Да и на всем Юге!
– Да. И на всем Юге.
Все это он уже слышал; пройтись, что ли, еще раз на Площадь, только вот как бы дядя не вздумал отправиться пораньше в город за двенадцатичасовой почтой, а если дядя не увидит его, то так прямо и скажет маме, что не знает, где он, и, конечно, ему сразу пришла на ум пустая контора, но ведь как раз туда-то наверняка и пойдет дядя; и во всяком случае – и тут он опять вспомнил, что и сегодня утром опять забыл дать Хайбою лишнего корму, а теперь уже поздно, ну конечно, корм можно взять и с собой – он теперь совершенно точно знает, как ему поступить: шериф уехал из города около девяти; до дома констебля пятнадцать миль по неважной щебнистой дороге, но, конечно, шериф поехал туда и вернется с Лукасом около двенадцати, даже если он и заедет напомнить о себе, раз уж он там, кой-кому из своих избирателей; так вот, задолго до того он вернется домой, оседлает Хайбоя, привяжет мешок с кормом сзади к седлу и поедет прямо в противоположную сторону от лавки Фрейзера и так, никуда не сворачивая, все прямо, прямо будет ехать двенадцать часов, то есть примерно до полуночи, а тогда накормит Хайбоя, даст ему отдохнуть до рассвета или даже дольше, там посмотрим, и потом двенадцать часов обратно, значит, когда он вернется, пройдет восемнадцать, или, может быть, даже двадцать четыре, или все тридцать шесть часов, и, уж во всяком случае, все будет кончено – и никакого больше возмущения, ни ярости, оттого что лежишь в кровати и стараешься заснуть и считаешь овец; и тут он свернул за угол и, пройдя несколько шагов по другой стороне улицы, нырнул под навес закрытой кузницы, ее тяжелые двойные дубовые двери не задвигались ни засовом, ни задвижкой, а замыкались цепью, пропущенной в просверленные отверстия каждой из створ и защелкнутой висячим замком; цепь провисала свободно, и между подавшимися внутрь несомкнутыми дверьми получался глубокий выем, нечто вроде алькова, здесь уж никто тебя не увидит ни с той, ни с другой стороны улицы, даже если кто мимо пройдет (не мама, конечно, она-то, во всяком случае, сегодня не выйдет), разве только нарочно остановится посмотреть; и вот уже колокола начали мягкий неторопливый разноголосый перезвон через весь город с одной колокольни с взметнувшейся голубиной стаей на другую, и улицы и Площадь вдруг запрудила толпа шествующих чинно мужчин в черных костюмах, женщин в шелковых платьях и с зонтиками, девушек и юношей, шествующих чинными парами под этот переливчатый гул в это многоголосое смятение, – прошли, и Площадь и улица снова опустели, а колокола все еще трезвонят – небожители, беспочвенные обитатели лишенного кровли воздуха, слишком далеки, высоки, бесчувственны к пресмыкающейся земле, – и вот затихают неторопливо, звон за звоном, смолкают от подземного содрогания органов и настырного, неистового гульканья успокаивающихся голубей. Два года тому назад дядя сказал ему, что выругаться – это совсем неплохо, в этом нет ничего дурного, наоборот, это не только полезно, но и незаменимо, но, как и все, что есть ценного, оно только тем и дорого, что запас ругани ограничен, и если ты будешь тратить его зря, то в минуту крайней нужды можешь оказаться банкротом; и тут он сказал: Какого черта я здесь торчу? – и сам же и ответил вполне вразумительно – не затем, чтобы увидеть Лукаса, он уже видел Лукаса, но чтобы Лукас мог увидеть его еще раз, если пожелает кинуть на него взгляд не просто с порога ничем не примечательной смерти, а из бензинового рева и пламени апофеоза. Потому что он свободен. У него больше нет никаких обязательств по отношению к Лукасу, он больше не сторож Лукасу – Лукас сам отказался от него.
И вдруг сразу пустая улица заполнилась людьми. Пожалуй, их было уж не так много, ну, может, человек двадцать набралось, а то и меньше, и как-то внезапно, бесшумно, ниоткуда. И все же они словно запрудили, загородили всю улицу, как если бы ее вдруг перекрыли, и не то чтобы никто не мог здесь пройти, пройти мимо них, идти, как обычно, по этой улице, нет, никто не осмеливался даже и близко подойти, никто даже и не пытался этого сделать – так всякий старается держаться подальше от надписи «Высокое напряжение» или «Взрывчатое вещество». Он знал, он узнавал их всех, кой-кого он видел и слышал два часа тому назад в парикмахерской – молодые люди или люди лет под сорок, холостые, бездомные, они приходили в субботу или в воскресенье в душевую парикмахерской – водители грузовиков, рабочие из гаража, смазчик хлопкоочистительной машины, продавец содовой воды из магазина и те, что сплошь всю неделю толклись в бильярдной или поблизости; никто не знал, что они делали, как будто совсем ничего, у них были свои машины, и они ездили на них в Мемфис и Новый Орлеан, и никто, собственно, не знал, каким способом они добывали деньги, которыми они там швыряли в борделях, – такие люди, говорил дядя, водятся в каждом городке южных штатов, они, в сущности, никогда не ведут за собой толпу и даже не подстрекают ее, но всегда являются ее ядром, ибо толпа в массе своей как нельзя более пригодна и доступна для этого. И тут он увидел машину; он узнал ее даже издалека, сам не зная как и, по правде сказать, вовсе и не задумываясь над этим, вышел из своего укрытия на улицу, перешел ее, стал с краю толпы, которая не издавала ни звука, а просто стояла, запрудив тротуар перед тюремной оградой и захлестнув часть мостовой, а машина между тем приближалась, не быстро, совсем не спеша, так это спокойно, медлительно, как подобает ездить машинам в воскресное утро, подъехала к тротуару перед тюрьмой и остановилась. За рулем сидел помощник шерифа. Он так и остался сидеть. Затем задняя дверца открылась, и вышел шериф – громадного роста, исполин, плотный, ни капли жира, маленькие суровые светлые глаза на бесстрастном, почти приветливо-учтивом лице; даже не взглянув на толпу, он повернулся и придержал дверцу. Затем вылез Лукас – медленно, едва поворачиваясь, ну так, как человек, который провел ночь, прикованный к ножке кровати; неловко нагнувшись, он стукнулся или, вернее, задел головой за верх машины над дверцей, так что, когда он вылез, его сплющившаяся шляпа слетела с головы на мостовую прямо ему под ноги. Вот тут в первый раз он увидел Лукаса без шляпы и в ту же секунду подумал, что, может быть, за исключением Эдмондса, единственные белые люди, которые когда-либо видели его без шляпы, – это те, что караулят его здесь на улице, караулят вот и сейчас, когда он вылез, согнувшись, из машины и, не разгибая спины, неловко потянулся за шляпой. Но, наклонившись всем своим рослым и вместе с тем удивительно гибким туловищем, шериф уже подхватил ее и протянул Лукасу, который, все так же согнувшись, казалось, еле-еле удержал ее в руке. Но чуть ли не в тот же миг шляпа приняла свою прежнюю форму, и Лукас, выпрямившись, но все еще с опущенной головой – лица не видно – провел по ней рукавом несколько раз, взад и вперед, быстро, легко, так вот, как точат бритву. Затем голова и лицо запрокинулись – назад и вверх, и одним небыстрым движением он накинул шляпу на голову, чуть-чуть набок, под обычным углом, который шляпа словно приняла сама собой, как если бы он поймал ее головой на лету; и, прямой в своем черном костюме, измятом после бог весть как проведенной ночи (с одной стороны по всему боку, от плеча до щиколотки, налип какой-то сор, словно ему долгое время пришлось лежать в одном положении на неметеном полу), Лукас в первый раз поглядел на них, и он подумал: Сейчас. Сейчас он меня увидит, – и потом подумал: Он видел меня. Ну, теперь все, – а потом подумал: Никого он не видел, – потому что лицо это даже не смотрело на них, а просто повернулось к ним, надменное, спокойное, без вызова и без страха, замкнутое, отчужденное, почти задумчивое, неподатливое, невозмутимое; глаза его немножко мигали на солнце даже и после того, как кто-то в толпе шумно втянул воздух и чей-то голос сказал:
– А ну-ка сшибите ее опять, Хоуп. Да на этот раз вместе с головой.
– Вы, ребята, расходитесь отсюда, – сказал шериф. – Ступайте себе в парикмахерскую. – И, повернувшись, сказал Лукасу: – Ну ладно, идем.
И все; еще секунду лицо, глядящее не на них – просто в их сторону, и шериф уже зашагал к тюремным воротам, и тут Лукас наконец повернулся и пошел за ним, и вот, если сейчас поспешить немножко, он еще успеет оседлать Хайбоя и уехать прочь, до того как мама, спохватившись, пошлет Алека Сэндера разыскивать его, чтобы он шел обедать. И тут он увидел, что Лукас остановился и обернулся – и вот как он, оказывается, ошибся, потому что Лукас, прежде даже чем обернуться, знал, где он там в толпе, – и, глядя прямо на него, даже еще не совсем повернувшись, сказал ему:
– Вы там, молодой человек, скажите вашему дяде, что мне надобно его повидать.
И, снова повернувшись, пошел за шерифом, все еще немножко одеревенелый, в испачканном черном костюме, в небрежно сдвинутой и сейчас на солнце заметно выцветшей шляпе, и голос из толпы ему вслед:
– На черта ему адвокат. Ему даже гробовщика не понадобится, после того как Гаури разделаются с ним нынче ночью!
А он прошел мимо шерифа, который, остановившись, обернулся к толпе и говорил своим мягким, холодным, учтивым, бесстрастным голосом:
– Я вам уже сказал раз: уходите отсюда. Больше я повторять не буду.
Глава третья
Вот если бы утром, когда он только подумал об этом, он пошел прямо из парикмахерской домой и оседлал Хайбоя, он теперь был бы уже в десяти часах езды отсюда, примерно в пятидесяти милях.
Колокола теперь молчали. На улице было пусто, а если бы кто и повстречался им сейчас, это были бы люди, идущие молиться в более тесном, не столь официальном собрании, шествующие степенно, от фонаря к фонарю, в густой темноте широко раскинувшихся теней и столь строго соблюдающие тихий воскресный покой, что они с дядей спокойно прошли бы мимо, узнав их еще издали, за много шагов, не зная, не гадая и не пытаясь припомнить, когда, где, как, откуда они их знают, – не по фигуре, нет, и даже голос не обязательно слышать, а вот самое их присутствие, может быть, ток какой-то или просто сопоставление: вот этот самый в такое-то время дня, в таком-то месте, и это все, что требуется, чтобы узнавать людей, среди которых ты прожил всю жизнь, – и даже, посторонившись, сошли бы с тротуара на поросший травой край мостовой; быть может, дядя окликнул бы кого-то на ходу, перекинулся двумя словами – и снова на тротуар.
Но сегодня улица была пуста. И сами дома кругом казались замкнутыми, притихшими, настороженными, как если бы люди, живущие в них, которые в этот теплый майский вечер (те, кто не пошел в церковь) вышли бы посидеть после ужина на темных верандах в креслах или качалках, спокойно беседуя друг с другом или, если дома достаточно близко, переговариваясь с веранды на веранду, попрятались или ушли из дому. Но и на улице сегодня им попался только один человек, и он не шел, а стоял у калитки чистенького, маленького, как сапожная будка, домика, втиснувшегося в прошлом году между двумя другими домами, которые и так уже жались друг к дружке так тесно, что из одного дома в другой слышно было, как спускают воду в уборной (как-то дядя ему объяснял: если ты родился, вырос и всю жизнь жил в такой глуши, что не слышно ничего, кроме сов по ночам да петухов на заре, а в сырую погоду, когда звук далеко летит, можно услыхать, как твой ближайший сосед за две мили от тебя дерево рубит, тебе приятно жить так, чтобы рядом с собой слышать людей, чувствовать их присутствие всякий раз, как они спускают воду или открывают банку рыбных консервов или супа), – он стоял, темнее собственной тени и, конечно, более неподвижный, человек, приехавший откуда-то из деревни год тому назад, а теперь у него была маленькая убогая лавчонка где-то на окраине, и покупатели его были большей частью негры; они увидели его, только уже когда чуть не налетели на него, хотя он-то узнал их – или по крайней мере его дядю – еще издалека и ждал, когда они подойдут, и заговорил с дядей, прежде чем они оказались рядом:
– Не рановато ли вы, адвокат? Ведь людям с Четвертого участка надо и коров подоить, и дров наколоть на утро, чтоб с завтраком не запоздать, и, прежде чем в город ехать, еще и поужинать успеть.
– А может быть, они еще надумают дома посидеть в воскресный вечер, – любезно отозвался дядя, проходя мимо.
На что этот человек ответил почти точь-в-точь то же, что говорил кто-то утром в парикмахерской (и он вспомнил, как дядя сказал ему однажды, какой небольшой запас слов требуется человеку, чтобы жить себе спокойно и даже успешно обделывать свои дела, и как не только отдельный человек, но и целая категория людей, подобных ему, такого же типа и склада, обходится небольшим количеством несложных оборотов для выражения своих несложных запросов, потребностей и вожделений):
– Ну уж это будьте покойны. Не их вина, что нынче воскресенье. Этому сукину сыну следовало бы подумать, прежде чем убивать белого человека в субботу под вечер. – И, так как они уже прошли, продолжал, повысив голос: – Жене моей сегодня что-то неможется, да и неохота мне так просто торчать там да глазеть на тюрьму. Но если уж помощь понадобится, вы им скажите, чтоб кликнули.
– Я думаю, они знают, что на вас можно рассчитывать, мистер Лилли, – отозвался дядя. Они продолжали идти. – Вот видишь? – сказал дядя. – Он ничего не имеет против, как он выражается, черномазых. Спроси его, и он тебе наверняка скажет, что он любит их больше некоторых известных ему белых, и сам он этому верит. Они, по всей вероятности, частенько обсчитывают его, недодадут цент-другой и тащат, наверно, какие-нибудь пустяки, по мелочам – пачку жевательной резинки, синьку, пару шнурков или там банан, а то и коробку сардин или флакон выпрямителя для волос унесут, спрятав под комбинезоном или фартуком, и он знает это; он, вероятно, и сам отдает им даром какие-нибудь там кости, мясо с душком, которое он по недосмотру принял от мясника, завалявшиеся карамельки. Все, что он требует от них, – это чтобы они вели себя как черномазые. Вот так именно и поступил Лукас; пришел в ярость и застрелил белого человека, и, наверно, мистер Лилли считает, что все негры хотели бы сделать то же, а теперь белые возьмут и сожгут его, все правильно, как полагается, и он твердо убежден, что и сам Лукас хотел бы, чтобы с ним поступили именно так, как подобает белым; и те и другие поступают неуклонно по правилам: негр – как положено негру, а белые – как полагается белым, и, после того как каждая сторона утолила свою ярость, никто не в обиде (ведь мистер Лилли – это не Гаури); и, сказать правду, мистер Лилли, наверно, даже одним из первых предложит дать деньги на похороны Лукаса и помочь вдове и детям, если бы они у него были.
Теперь им видна была Площадь, тоже пустая, – амфитеатр неосвещенных лавок, стройный белый пилястр памятника конфедератам на фоне массивной громады здания суда, простершего ввысь свои колонны, к тусклому четвероликому циферблату часов, освещенному с каждой стороны маленьким электрическим диском, столь же не соответствующей своей сутью этим четырем механическим гласам предостережения и заклятия, как огонек светлячка. А вот и тюрьма, и в тот же миг снопы света вспыхнувших фар, и весь в огнях, с ревом и воем, маленький среди этой огромной ночи и пустого города и вместе с тем вызывающе-наглый, вынырнул из ниоткуда грузовик и закружил по Площади, и голос, голос молодого человека завопил из него – это были не слова и даже не крик, а рев, многозначительный и бессмысленный, – и, промчавшись в дальний конец Площади и завершив круг, грузовик скрылся в никуда. Они свернули к тюрьме.
Это было кирпичное прямоугольное здание строгих пропорций, с четырьмя кирпичными колоннами, выступающими по фасаду, плоским барельефом и даже с кирпичным архитравом под карнизом, потому что здание было старое и строилось еще в ту пору, когда даже и тюрьмы строили старательно, не спеша и заботились, чтобы получилось красиво; и он вспомнил, как дядя говорил ему когда-то, что не правительственные здания и даже не церкви, а тюрьмы представляют собой подлинную летопись округа, историю общины; ибо не только загадочные, всеми забытые инициалы, слова и даже целые фразы, вопли возмущения и обвинения, нацарапанные на стенах, но самые кирпичи и камни хранят не осадок, но сгусток – уцелевший, нетронутый, действенный, неистребимый сгусток страданий, и позора, и терзаний, от которых надрывались и разрывались сердца, давно обратившиеся в неприметный, всеми забытый прах. И что касается этой тюрьмы, так оно на самом деле и было, потому что наряду с одной из церквей это было самое старое здание в городе – здание суда и все, что стояло на Площади и примыкало к ней, было сожжено и разрушено вступившими в город федеральными войсками после битвы в 1864 году. Потому что на одном из стекол веерообразного окна над дверью было нацарапано одно имя, имя молоденькой девушки, начертанное алмазом на стекле ее собственной рукой в том самом году, и два-три раза в год он поднимался на галерею посмотреть на него – такое загадочное, когда глядишь не с той стороны, – не затем, чтобы ощутить прошлое, но чтобы почувствовать снова бессмертность, неизбывность, неизменность юности; это было имя одной из дочерей тогдашнего тюремщика (и дядя, который все умел объяснить не фактами, а чем-то давным-давно перешагнувшим пределы сухой статистики, и гораздо более волнующим – потому что это была правда, которая хватала за сердце и не имела ничего общего с тем, что давали сведения из достоверных источников, – рассказывал ему еще, что эта часть Миссисипи была тогда еще совсем девственной; город, селение, община выросли здесь меньше пятидесяти лет тому назад, люди, которые пришли тогда, чтобы поселиться здесь – а давность этому меньше продолжительности жизни самого старого из них, – трудились сообща, все вместе, выполняя и самую черную работу, и почетный труд не из-за денег или из каких-либо политических соображений, а чтобы создать отчизну своему потомству, где человек, будь он потом тюремщиком, хозяином гостиницы, кузнецом или разносчиком, оставался бы неизменно тем, что юрист, помещик, доктор и священник называют порядочным человеком); она в тот день стояла у этого окна и смотрела на разгромленные останки отступавшего из города батальона конфедератов, и вдруг глаза ее встретились через все разделявшее их пространство с глазами оборванного небритого лейтенанта, шагавшего во главе одного из разбитых отрядов; она не нацарапала и его имени тут же на стекле не только потому, что юная девушка того времени никогда бы не сделала этого, но потому, что она тогда еще не знала его имени, хотя полгода спустя он стал ее мужем.
В сущности, и сейчас, с этой деревянной галереей вдоль фасада, огороженной деревянной балюстрадой, нижний этаж был похож на жилое помещение. Но надо всем этим – кирпичная стена без окон, кроме одного высокого прямоугольника за толстыми прутьями решетки; и он снова вспомнил, как обычно в воскресные вечера, которые сейчас отошли в какие-то допотопные времена, с самого ужина и до того, как тюремщик, выключив свет, выходил на лестницу и кричал, что пора там уняться наверху, темные гибкие руки высовывались меж прутьев решетки, и мягкие нераскаянные беспечные голоса перекрикивались с собравшимися на улице женщинами в фартуках поварих или нянек, с девушками в ярких дешевых платьях, заказанных и полученных по почте, с другими молодыми людьми, еще не попавшими в тюрьму или уже отсидевшими срок и только что выпущенными. Но не сегодня; сегодня даже в глубине, в помещении за решеткой, было темно, хотя не было еще восьми часов, и он представлял себе, видел, как они все собрались, ну, может быть, не в кучу, но все вместе, так, чтобы чувствовать друг друга локтем, если даже и не касаться друг друга, и, конечно, они сидят тихо, ни смеха, ни разговоров сегодня, сидят в темноте и смотрят на лестничную площадку, потому что бывало уже, и не раз, когда для толпы белых людей мало того, что все черные кошки были серы[114], она даже не давала себе труда сосчитать их.
И входная дверь была распахнута настежь, чего он никогда раньше не видел даже летом, хотя в нижнем этаже помещалась квартира тюремщика, и, откинувшись на складном стуле, придвинутом к стене прямо против входной двери, так что ему видно было всю улицу, сидел человек; это был не тюремщик и даже не один из помощников шерифа, потому что он сразу его узнал, – это был Уилл Легейт, живший на ферме в двух милях от города, один из лучших лесорубов, превосходный стрелок и первый охотник на оленей во всей округе, он сидел, откинувшись на стуле, держа в руках пестро иллюстрированную страницу юмора сегодняшней мемфисской газеты, а рядом с ним, прислоненная к стене, стояла не старая его заслуженная винтовка, которой он перестрелял столько оленей (и зайцев прямо на бегу), что даже и счет потерял, а двуствольное ружье, обыкновенный дробовик, и он, даже не опустив газеты, не шевельнув ею, увидел и узнал их прежде даже, чем они вошли в ворота, и теперь внимательно следил, как они шли по двору, поднялись по ступеням на галерею и, пройдя через нее, вошли в комнату; в ту же минуту и сам тюремщик появился из двери справа – сердитый, толстопузый, неряшливый человек с встревоженным, озабоченным, возмущенным лицом, с тяжелым револьвером, заткнутым за пояс и выглядевшим на нем так же нелепо и неуместно, как шелковый цилиндр или железный ошейник, какой в пятом веке надевали на шею рабов, – и, притворив за собой дверь, сразу начал жаловаться дяде:
– Он даже не дает закрыть и запереть входную дверь, уселся с этой дурацкой газетой – и нате вам, пожалуйста, приходи всякий, кто хочет.
– Я делаю то, что мне велел мистер Хэмптон, – спокойно и вежливо сказал Легейт.
– А что же, Хэмптон думает, эта дурацкая газета остановит молодчиков с Четвертого участка? – не унимался тюремщик.
– Мне кажется, у него сейчас пока еще нет опасений насчет Четвертого участка, – все так же спокойно и вежливо отвечал Легейт. – Это у меня просто так – для упреждения.
Дядя поглядел на Легейта:
– И, похоже, помогает. Мы видели машину – или, может быть, одну из многих, – она кружила по Площади, как раз когда мы подошли. Наверно, побывала и здесь.
– Да, приезжала раз или два, а может, и три, – сказал Легейт. – Признаться, я как-то не придал этому значения.
– Вот только на то, черт возьми, и надейся, что помогает, – сказал тюремщик. – Потому как, ясное дело, этой воробьиной трещоткой никого не остановишь.
– Ясно, – сказал Легейт, – я и не надеюсь их остановить. Если наберется достаточно людей, которые решатся на такое дело и внушат себе, что так надо, их ничто не остановит. Ну, тогда уж мне на подмогу придете вы, с этим вашим револьвером.
– Я? – вскричал тюремщик. – Чтобы я полез драться против всех этих Гаури и Инграмов за семьдесят пять долларов в месяц? Из-за какого-то черномазого? Да и вы, если у вас что-нибудь в голове есть, тоже не полезете.
– Ну нет, я обязался, – сказал Легейт все тем же спокойным, вежливым тоном. – Я вынужден буду оказать сопротивление, мистер Хэмптон платит мне за это пять долларов. – И, обратившись к дяде: – Вы, я полагаю, пришли повидать его.
– Да, – сказал дядя. – Если не возражает мистер Таббс.
Тюремщик, обозленный, встревоженный, уставился на дядю.
– И вам тоже понадобилось в это впутаться. Ну как же, разве вы можете позволить себе остаться в стороне? – Он круто повернулся: – Идемте. – И пошел в дверь, возле которой сидел, прислонясь к стене, Легейт, и они вышли на черный ход, откуда вела лестница на верхний этаж; щелкнув выключателем внизу у лестницы, он начал подниматься по ступеням, за ним дядя и следом за ними он, глядя внимательно на кобуру с револьвером, заткнутую за пояс у тюремщика, которая то поднималась горбом у него на бедре, то опускалась. Внезапно тюремщик замедлил шаг, словно собираясь остановиться, должно быть, так показалось и дяде, он тоже остановился, но тюремщик, продолжая идти, заговорил через плечо: – Вы на меня не обижайтесь; я, конечно, все сделаю, что могу, я ведь тоже присягу приносил, как сюда поступал. – Он слегка повысил голос и продолжал спокойно, только чуть-чуть погромче: – Но только не думайте, что я по своей охоте на это иду, уж этого меня никто не заставит признать. У меня жена, двое детей, какая им от меня польза будет, если я дам себя убить, защищая какого-то негодного вонючего негра? – Голос его еще повысился, теперь он уже не был спокойным. – А как я сам с собой жить буду, если я позволю этой своре паршивых сукиных сынов забрать у меня из-под замка арестанта? – Тут он остановился одной ступенькой выше их и, возвышаясь над ними обоими, повернулся к ним лицом, опять исступленным, издерганным, и голос у него теперь был исступленный, негодующий. – Для всех было бы лучше, коли бы эти парни забрали бы его тут же, на месте, как только накрыли вчера…
– Но они этого не сделали, – сказал дядя. – И думаю, что и не сделают. А если и собираются, в конце концов, это не имеет значения. Может, они соберутся, а может, и нет, и если нет, тогда все в порядке, а если да, то мы сделаем все от нас зависящее, вы, мистер Хэмптон, и Легейт, и все мы, – все, что можем и считаем своим долгом сделать. А пока что нечего и беспокоиться. Ясно?
– Да, – сказал тюремщик. Он повернулся и, отстегивая на ходу связку ключей от пояса под патронташем, поднялся еще на несколько ступеней, подошел к тяжелой дубовой двери, замыкавшей лестницу (это была добротная дверь из цельного теса толщиной два с лишним дюйма, запиравшаяся солидным современным висячим замком на кованом железном засове, вставлявшемся в железные пазы, которые, так же как и тяжелые завитки петель, были выделаны вручную, выкованы свыше ста лет тому назад в той самой кузнице напротив, где он стоял вчера; однажды прошлым летом какой-то сумасброд из столичных, архитектор, напомнивший ему даже чем-то его дядю, без шляпы, без галстука, в теннисных туфлях, заношенных фланелевых брюках, в машине с откидным верхом стоимостью три тысячи долларов, с ящиком шампанского или, вернее, с тем, что еще осталось в нем, не то чтобы заехал проездом, а намеренно пожаловал в наш город и вкатил, никого не задев, через тротуар прямо в витрину, пьяный, веселый, денег при нем меньше пятидесяти центов в кармане, но масса всяческих удостоверений, визитных карточек и чековая книжка, по корешкам которой выяснилось, что у него на счету в одном из нью-йоркских банков свыше шести тысяч долларов; он тут же потребовал, чтобы его посадили в тюрьму, хотя шериф и хозяин витрины оба старательно убеждали его пойти в отель и проспаться, а потом выписать чек за стену и за витрину; в конце концов шерифу пришлось отвести его в тюрьму, где он и заснул сразу как младенец, а машину забрали чинить в гараж, а на следующий день тюремщик позвонил шерифу в пять утра, чтобы он тут же убрал этого типа, потому как он весь его приход перебудил, перекликаясь из своей камеры с черномазыми в общей арестантской. Шериф явился и выпроводил его, тогда он пожелал примкнуть к партии арестантов, которых вели на мостовые работы, но его к ним не допустили, и машина его была уже готова, но он никак не хотел уезжать и остался на эту ночь в отеле, а через два дня дядя привел его вечером к ужину, и они с дядей три часа сидели и говорили о Европе, о Париже и Вене, а он и мама слушали, а отец извинился и ушел, и после этого еще через два дня он все еще был здесь и всячески старался добиться от дяди и мэра, и от городского совета, и под конец даже от самого Совета попечителей, чтобы ему разрешили купить целиком эту дверь, а уж если они никак не хотят ее продать, то хотя бы засов с пазами и петлями), отомкнул засов и распахнул дверь.
Теперь они уже оставили позади человеческий мир, мир людей, – людей, которые работали, жили дома, растили детей и старались заработать немножко больше денег, чем, пожалуй, они заслуживали, ну, разумеется, честным способом или по меньшей мере не противозаконным, так чтобы можно было потратить немножко на развлечения и как-никак отложить кой-что и на старость. Потому что едва только дубовая дверь распахнулась, оттуда словно вырвалось и хлынуло прямо на него затхлое дыхание всей человеческой низости и позора – вонь креозота, испражнений, блевотины, неисправимости, пренебрежения, отречения, и все это, словно нечто осязаемое, они как бы с трудом преодолевали напором собственных тел, поднимаясь на последние ступени и входя в коридор, который, в сущности, был частью общей арестантской, загоном, отделенным от всего остального помещения толстой проволочной сеткой, вроде как курятник или псарня; внутри этого загона у дальней его стены лежали на нарах пятеро негров, неподвижно, с закрытыми глазами, не всхрапывая, не издавая ни единого звука, они лежали не шевелясь под тусклым светом единственной пыльной лампочки, висевшей без колпака, недвижные, спокойно и чинно, словно набальзамированные покойники; тюремщик снова остановился и, ухватившись руками за сетку, окинул свирепым взглядом безжизненные фигуры.
– Поглядите на них, – сказал он чересчур громким, тонким, почти истерическим голосом. – Смирные, как овечки, чертовы дети, а ведь ни один не спит. А что их винить, когда эта разъяренная толпа белых, того и гляди, ввалится сюда в полночь с револьверами да с жестянками бензина. Идемте, – сказал он, повернулся и пошел. Тут же рядом, в сетке, была дверь, закрытая не на замок, а на крючок – так иногда запирают собачью конуру или ларь с зерном, но тюремщик прошел мимо нее.
– Вы что, в камеру его поместили? – спросил дядя.
– Хэмптон приказал, – ответил через плечо тюремщик. – Не знаю уж, если теперь еще какого белого арестанта приведут, как ему понравится, что отдохнуть, выспаться здесь можно, только если кого убьешь. Ну, одеяла-то я все-таки с коек убрал.
– Может, потому, что он здесь не так долго пробудет, чтобы лечь спать? – сказал дядя.
– Ха-ха, – отозвался тюремщик каким-то неестественным, тонким, грубым и невеселым смешком. – Ха-ха-ха-ха-ха…
А он шел следом за дядей и думал, как из всего, что ни делает человек, ничто так настоятельно не требует уединения, как убийство; сколько усилий приложит человек, чтобы уединиться для отправления естественных потребностей или для любовного акта, но ради того уединения, которое нужно ему, чтобы лишить человека жизни, он пойдет на все, даже еще убьет, и, однако, никаким другим поступком он не лишает себя уединения так окончательно и бесповоротно, как убийством; дверь, на этот раз по-современному заделанная стальной решеткой с внутренним запором величиной чуть ли не с дамскую сумку, – тюремщик открыл ее другим ключом из своей связки и тут же повернулся и ушел, и звук его шагов, быстро удалявшихся, чуть ли не бегущих по коридору, слышен был, пока не стукнула дубовая дверь на лестнице, – а за ней камера, освещенная другой такой же тусклой, пыльной, засиженной мухами лампочкой под проволочной сеткой, ввинченной в потолок, – чуть побольше чуланчика для метлы, в сущности, в ней только и умещались две койки друг над другом у стены, и с обеих были сняты не только одеяла, но и матрацы, и, когда они с дядей уже вошли, все, что он увидел, было то, что он увидел с первого взгляда: шляпу и черный сюртук, аккуратно висевшие на вбитом в стену гвозде, и он потом вспоминал, как он чуть ли не со вздохом и даже с облегчением подумал: Его уже забрали. Его нет. Мы опоздали. Уже все кончено. Потому что хоть он и не представлял себе, что он здесь ожидал увидеть, но только не это: старательно разостланные листы газеты аккуратно покрывали голые пружины нижней койки, а другая половина газеты была так же аккуратно разостлана на верхней койке, чтобы свет не бил в глаза, а сам Лукас лежал на разостланных газетах на спине, подсунув под голову один из своих башмаков, сложив руки на груди, и спал совершенно спокойно или так спокойно, как спят старые люди, – рот у него был открыт, и дышал он всхлипывающими, прерывистыми, мелкими вздохами, а он стоял и, чуть не задыхаясь от возмущения – нет, не просто возмущения, а бешенства, – смотрел на это лицо, которое в первый раз в кои-то веки, хоть на миг не защищенное ничем, выдавало его возраст, на дряблые узловатые старческие руки, еще только вчера всадившие пулю в спину другому человеческому существу, мирно покоившиеся на груди белой крахмальной старомодной сорочки без воротничка, застегнутой на шее медной посеребренной запонкой в виде изогнутой стрелы величиной с маленькую змеиную головку, и думал: Ведь это просто черномазый, как все черномазые, хоть у него и прямой нос, и он не гнет шею и носит золотую цепочку, и для него нет никаких мистеров, даже если он к кому так и обращается; только черномазый способен убить человека, и как убить – выстрелом в спину, – и потом спать себе, как невинный младенец, едва только нашлось место, где растянуться; он все еще смотрел на него, и вдруг Лукас, не двинув ни одним мускулом, не пошевелившись, закрыл рот, веки его открылись, глаза секунду-другую тупо смотрели в потолок, затем, хотя он все еще не повернул головы, белки его вдруг задвигались, и он, так и не шелохнувшись, уставился прямо на дядю – лежал и смотрел.
– Ну что, старик, крышка, – сказал дядя. – Натворил дел.
И тут Лукас зашевелился. Он медленно, с трудом сел, с трудом перекинул ноги через край койки и, подхватив под коленку одну ногу обеими руками, стал раскачивать ее, ворочая туда и сюда – так ворочают осевшую калитку, когда не могут открыть ее или закрыть, – охая и кряхтя, – не то чтобы откровенно, без стеснения, во весь голос, но успокоительно, как охают и кряхтят старые люди с давнишней небольшой ломотой в суставах, такой знакомой и привычной, что она уже и не кажется болью, и, если бы они вдруг от нее излечились, им стало бы как-то не по себе, как если бы они что-то утратили, – а он слушал и смотрел, все так же возмущаясь, а теперь еще и удивляясь этому убийце, которого ждет не просто виселица, а самосуд разъяренной толпы, и он мало того что нашел время охать оттого, что у него спину ломит, он еще возится с этим, как будто ему предстоит целые годы, всю оставшуюся ему долгую жизнь чувствовать при каждом движении эту привычную боль.
– Похоже на то, – сказал Лукас. – Потому я за вами и послал. Что вы со мной собираетесь сделать?
– Я? – сказал дядя. – Ничего. Я не Гаури. И даже не Четвертый участок.
Опять все так же медленно, с трудом Лукас нагнулся и поглядел под ноги, потом, протянув руку, достал из-под койки другой башмак, снова сел прямо и, поскрипывая пружинами койки, стал медленно поворачиваться, чтобы поглядеть позади себя; тут дядя наклонился, достал его башмак с койки и бросил на пол рядом с другим. Но Лукас не стал их надевать. Потом махнул рукой, как бы отметая прочь всех Гаури, толпу, месть, костер, который ему готовят, и все остальное.
– Об этом я начну беспокоиться, когда они здесь появятся, – сказал он. – Я о законе спрашиваю. Ведь вы наш присяжный адвокат?
– А-а! – сказал дядя. – Так это районный прокурор, он пошлет тебя на виселицу или упрячет в Парчмен, а не я.
Лукас все продолжал мигать – не часто, но непрерывно. Он следил за ним. И вдруг он заметил, что Лукас вовсе и не смотрит на дядю, и, по-видимому, уже секунды две-три.
– Понятно, – сказал Лукас. – Значит, вы можете взять на себя мое дело.
– Твое дело? Защищать тебя на суде?
– Я вам заплачу, – сказал Лукас. – Насчет этого можете не беспокоиться.
– Я не берусь защищать убийц, которые стреляют человеку в спину, – сказал дядя.
И опять Лукас тем же отметающим жестом махнул темной узловатой рукой:
– Не про суд речь. Мы еще до него не дошли. – И тут он увидел, что Лукас глядит на дядю, опустив голову, глядит на него снизу вверх из-под седых, нависших, косматых бровей пронзительным, пристальным, себе на уме взглядом. Затем Лукас сказал: – Я хочу нанять кого-нибудь… – и остановился. И он, глядя на него, вспомнил одну старушку, теперь уже покойницу, старую деву, их соседку, которая носила крашеный парик и всегда держала наготове в кладовой целое блюдо домашних булочек для всех ребятишек с улицы, и вот как-то летом (ему было лет семь-восемь, не больше) она научила их всех играть в пятьсот; в жаркие летние дни с утра они сидели за карточным столом на занавешенной стороне ее веранды, и она, послюнив пальцы, вынимала одну карту из тех, что были у нее на руках, и, положив ее на стол, конечно, отнимала руку, но не убирала совсем, а держала рядом с картой на столе, пока тот, кто ходил следующим, не выдавал каким-нибудь движением, или жестом, или торжествующим возгласом, или просто усиленным сопением, что вот он сейчас побьет эту карту и обыграет ее, тогда она быстро говорила: «Постой, я не ту карту взяла», – и тут же хватала свою карту со стола и ходила другой. Это было точь-в-точь то, что сейчас сделал Лукас. Он и до этого сидел спокойно, но сейчас он был совершенно неподвижен. Он как будто даже не дышал.
– Нанять кого-нибудь? – сказал дядя. – У тебя есть адвокат. Я взял на себя твое дело еще до того, как пришел сюда. Я тебе скажу, как вести себя, когда ты мне расскажешь, что произошло.
– Нет, – сказал Лукас. – Я хочу кого-нибудь нанять. И не обязательно, чтоб был адвокат.
Теперь уж дядя уставился в недоумении на Лукаса:
– А что он должен делать?
Он следил за ними обоими. Теперь это уже была не детская игра без ставок в пятьсот, это было больше похоже на партию в покер, которую он видел когда-то.
– Возьметесь вы или нет сделать то, что мне надо? – сказал Лукас.
– Итак, ты не хочешь сказать мне, что надо сделать, пока я не соглашусь? – сказал дядя. – Хорошо, тогда я скажу тебе, что ты должен сделать. Так что же все-таки произошло вчера?
– Значит, вы не беретесь за то, что я предлагаю? – сказал Лукас. – Вы не сказали ни да, ни нет.
– Нет, – отрезал дядя чересчур громко и резко и тут же, спохватившись, продолжал, не сразу понизив голос до какого-то яростно-внушительного спокойствия: – Потому что ты не можешь никому ничего предлагать. Ты в тюрьме и можешь только Бога молить, чтобы эти проклятые Гаури не выволокли тебя отсюда и не повесили на первом фонарном столбе. Почему они тебя дали в город увезти, этого я до сих пор понять не могу.
– Что сейчас об этом беспокоиться, – сказал Лукас. – Мне бы надо…
– Что беспокоиться? – сказал дядя. – Ты скажи Гаури, что им беспокоиться, когда они сегодня ворвутся сюда. Четвертому участку скажи, чтобы они не беспокоились. – Он осекся, с явным усилием опять понизил голос до того же яростно-терпеливого спокойствия, глубоко потянул воздух и тут же выдохнул. – Ну. Рассказывай все как есть, что произошло вчера.
Секунду-другую Лукас не отвечал; сидя на койке, руки на коленях, упрямый, невозмутимый, он уже не смотрел на дядю и, чуть шевеля губами, как будто пробовал что-то.
– Их было двое, – сказал он, – компаньоны по лесопилке. Ну, лес они покупали, который на лесопилке пилили.
– Кто это «они»? – спросил дядя.
– Винсон Гаури – один из них.
Дядя долго не сводил с Лукаса пристального взгляда. Но теперь голос у него был совсем спокойный.
– Лукас, – сказал он, – тебе когда-нибудь приходило в голову, что, если бы ты, обращаясь к белым, говорил «мистер» и так бы и относился к ним, ты сейчас, наверно, не сидел бы здесь?
– Оно, видно, мне сейчас самое время начать, – сказал Лукас. – Вот как они меня выволокут отсюда да разведут подо мной костер, я и буду им говорить «мистер, мистер».
– Ничего с тобой никто не сделает до тех пор, пока ты не предстанешь перед судом, – сказал дядя. – Что, ты не знаешь, даже Четвертый участок не очень-то позволяет себе вольничать с мистером Хэмптоном, и уж во всяком случае не здесь, в городе.
– Шериф Хэмптон сейчас спит у себя в постели дома.
– Но здесь внизу сидит мистер Уилл Легейт с ружьем.
– Не знаю я никакого Уилла Легейта.
– Охотника на оленей? Того, который из своей старой винтовки попадает в зайца на бегу?
– Ха, – усмехнулся Лукас. – Гаури – это вам не олени. Может, гиены или пантеры, но уж никак не олени.
– Хорошо, – сказал дядя. – Тогда я останусь здесь, чтобы тебе было спокойней. Ну, говори дальше. Винсон Гаури с каким-то другим человеком покупали вместе лес. Кто этот другой?
– Пока что известно только про Винсона Гаури.
– Известно только, что он был убит среди бела дня выстрелом в спину, – сказал дядя. – Что ж, есть и такой способ сделать человека известным. Хорошо. Кто же был другой?
Лукас не отвечал. Он не двигался, возможно, он даже и не слышал, сидел невнимательный, спокойный, в сущности, даже и не выжидал, просто сидел под пристальным взглядом дяди. Тогда дядя сказал:
– Так. Что же они делали с этим лесом?
– Складывали тут же на дворе, до того как не распилят, чтобы потом все разом продать. Только тот, другой, вывозил лес по ночам – приедет на грузовичке уже совсем затемно, нагрузит кузов и везет его продавать в Глазго и Холлимаунт[115], а денежки в карман.
– Как ты это узнал?
– Я его видел. Следил за ним.
У него не было ни тени сомнения в том, что Лукас говорит правду, потому что он вспомнил отца Парали, старика Ефраима, который после того, как овдовел, сидел целыми днями и дремал в кресле-качалке, летом – на крыльце, а зимой – дома перед камином, а ночами бродил по дорогам, уходил из дому – не то чтобы куда-нибудь, а так, куда глаза глядят, иной раз на пять-шесть миль от города уйдет, а потом на рассвете вернется и опять целый день сидит и дремлет в кресле, очнется и опять заснет.
– Хорошо, – сказал дядя. – Ну и что же дальше?
– Вот и все, – сказал Лукас. – Воровал дрова и увозил, и так чуть ли не каждую ночь.
Секунд десять дядя не сводил с Лукаса пристального взгляда. Потом сказал тихим, едва сдерживающим изумление голосом:
– И ты, значит, взял свой револьвер и пошел вывести все это начистоту. Ты, негр, взял револьвер и пошел восстанавливать справедливость между двумя белыми? На что ты рассчитывал? На что, собственно, ты рассчитывал?
– Не важно, на что кто рассчитывал, – сказал Лукас. – Мне бы надо…
– Ты шел в лавку, – продолжал дядя, – по дороге ты встретил Винсона Гаури, проводил его до перелеска и рассказал ему, как его обкрадывает компаньон, и, конечно, он тебя послал к черту, обозвал тебя лгуном, вполне естественно, ничего другого он и не мог сделать независимо от того, правду ты ему сказал или нет; может быть, он даже бросился на тебя, сшиб тебя с ног и пошел себе, а ты выстрелил ему в спину…
– Никто никогда не сшибал меня с ног, – сказал Лукас.
– Тем хуже, – сказал дядя. – Тем хуже для тебя. В таком случае это даже не самозащита. Ты просто выстрелил ему в спину и так и стоял над ним, сунув в карман револьвер, из которого ты только что выстрелил, и дождался, когда сбежались белые и схватили тебя. И если бы не этот скрюченный ревматизмом старикашка констебль, который, во-первых, оказался тут ну просто случайно, а во-вторых, это и вообще-то не его дело – его дело вручать повестки о вызове в суд или препровождать в тюрьму с ордером на арест, за что ему платят по доллару за каждого арестанта, – так вот, у него хватило мужества уберегать тебя от этого проклятого Четвертого участка в течение полутора суток, пока Хоуп Хэмптон счел возможным, или спохватился, или изловчился перевести тебя в тюрьму, а если бы он не удержал всю эту ораву, а ведь это целый клан, с которым тебе со всеми твоими друзьями, сколько бы ты их ни собрал, за сто лет…
– У меня нет друзей, – сказал Лукас гордо, сурово и непреклонно и вслед за этим прибавил что-то еще, хотя дядя уже заговорил:
– Ты прав, верно, ничего не скажешь, нет у тебя друзей, а если бы и были, так после этого твоего выстрела они мигом бы все улетучились и ты с ними до второго пришествия… Что? – перебил себя дядя. – Что ты сказал?
– Я сказал, что я сам за себя плачу, – сказал Лукас.
– Понятно, – сказал дядя. – Ты не одалживаешься у друзей, ты платишь наличными. Так. Понимаю. Ну, слушай меня. Твое дело завтра будет разбираться в совете присяжных. Они составят обвинительный акт и передадут дело в суд. Тогда, если хочешь, я добьюсь, чтобы Хэмптон перевел тебя в Мотстаун или даже еще подальше до начала судебной сессии в следующем месяце. И тогда ты уже на суде признаешь себя виновным. Я уговорю районного прокурора, чтобы твое дело было передано в суд, потому что ты старый человек и до сих пор за тобой ничего такого не водилось. Я исхожу из тех данных, какими будут располагать о тебе судья и районный прокурор, а они живут по меньшей мере за пятьдесят миль от Йокнапатофского округа. Тогда тебя не повесят, а отправят в каторжную тюрьму, вряд ли ты протянешь так долго, чтобы дождаться досрочного освобождения, но, во всяком случае, Гаури тебя там не достанут. Ну, хочешь ты, чтобы я остался здесь на ночь?
– Нет, лучше не надо, – сказал Лукас. – Мне прошлую ночь совсем не дали спать, может, я немножко посплю. А если вы здесь останетесь, вы проговорите до утра.
– Правильно, – коротко отрезал дядя и, уже сделав шаг к двери, бросил ему: – Идем! – Потом тут же остановился. – Тебе ничего не надо?
– Может, пришлете немного табаку, – сказал Лукас. – Если только эти Гаури дадут мне время покурить.
– Завтра, – сказал дядя. – Сегодня уж не буду мешать тебе спать. – И пошел, и за ним следом он, но дядя пропустил его вперед, а он, выйдя из двери, повернулся и, отступив, чтобы дать ему пройти, стоял и смотрел в камеру, пока дядя не вышел, захлопнул за собой дверь и тяжелый стальной штырь не вонзился в стальной паз с глухо прокатившимся звуком неотвратимой свершенности, подобным тому последнему трубному гласу, который прокатится в космосе, когда, как говорил дядя, машины, созданные человеком, в конце концов уничтожат, сотрут его с лица земли и, оставшись без основателей рода, ненужные сами себе, ибо им нечего будет уничтожать, захлопнут над собственным апофеозом последнюю выточенную карборундом дверь, замок которой отомкнется не часовым механизмом, а отзовется только на последний зов вечности; дядины шаги, удаляясь, разносились по коридору, потом дробный звук костяшками пальцев в дубовую дверь, а они с Лукасом все еще смотрели друг на друга через прутья стальной решетки. Лукас стоял теперь под самой лампочкой посреди камеры и смотрел на него, и по его лицу трудно было сказать, что оно выражало; на секунду ему показалось, что Лукас что-то сказал. Но Лукас ничего не говорил, стоял не шелохнувшись и только смотрел на него с безмолвной терпеливой настойчивостью до тех пор, пока шаги тюремщика не застучали на лестнице, все ближе и ближе, и кованый засов на двери не грохнул, откинувшись.
Тюремщик запер за ним засов, и они прошли мимо Легейта, который все так же, с газетной страницей юмора в руках, сидел на складном стуле рядом со своим ружьем напротив открытой настежь входной двери, вышли на крыльцо, потом пошли по двору к воротам на улицу, и он шагал сзади, а когда они уже вышли из ворот и дядя повернул к дому, он остановился, думая: негр-убийца, который стреляет белому в спину и даже ничуть не раскаивается в этом.
Потом сказал:
– Я думаю, Скитс Макгоан, наверно, где-нибудь здесь, на Площади. У него ключ от мелочной лавки, я уж отнесу Лукасу табаку сегодня.
Дядя остановился.
– С этим можно подождать до утра, – сказал дядя.
– Да, – сказал он, чувствуя на себе пристальный взгляд дяди и даже не задаваясь вопросом, как ему поступить, если дядя скажет «нет», в сущности, даже и не дожидаясь ничего, а просто стоя рядом.
– Хорошо, – сказал дядя. – Только не задерживайся долго.
И теперь он мог бы уже уйти. Но он все еще стоял не двигаясь.
– Мне кажется, вы говорили, что сегодня ничего не случится.
– Я и сейчас так думаю, – сказал дядя. – Но разве можно быть уверенным? Такие люди, как Гаури, не придают большого значения смерти или тому, что человек умирает. Но вот покойник и то, какой смертью он умер, в особенности свой, кровный, – это для них очень важно. Если ты достанешь табак, отдай Таббсу, чтобы он отнес ему, и приходи поскорей домой.
И на этот раз ему даже не пришлось говорить «хорошо», дядя повернулся и пошел, и тогда он тоже повернулся, и зашагал к Площади, и шел до тех пор, пока не затихли дядины шаги, тогда он остановился и подождал, пока черный силуэт дяди не превратился в белое пятно блеснувшего на свету полотняного костюма, которое тут же исчезло за последним дуговым фонарем; а вот если бы тогда он пошел домой и оседлал Хайбоя, как только узнал машину шерифа, сейчас он был бы уже восемь часов в пути, почти за сорок миль, – и тут он повернул и пошел назад, к воротам; глаза Легейта уже следили за ним, узнали его поверх развернутого газетного листа еще прежде, чем он дошел до ворот, а вот если он сейчас пойдет прямо, он может выйти в проход за забором и оттуда – через пустырь, и оседлать Хайбоя, и махнуть в задние ворота на пастбище, и оставить позади Джефферсон, и черномазых убийц, и все, и пустить Хайбоя во весь опор, пусть мчится как хочет, куда угодно, а когда уж он совсем задохнется, пусть идет шагом, только чтобы хвостом к Джефферсону и черномазым убийцам, – в ворота, по двору, через галерею – и опять тюремщик мигом вышел из двери справа, и на лице его сразу выразилось возмущение и тревога.
– Опять? – сказал тюремщик. – Да когда же вы наконец угомонитесь?
– Я там забыл одну вещь, – сказал он.
– Полежит до утра, – сказал тюремщик.
– Пусть лучше сейчас заберет, – с обычной своей спокойной медлительностью сказал Легейт, – а то если до утра оставить, могут ведь и растоптать.
Тюремщик повернулся, и они снова пошли вверх по лестнице, и опять тюремщик отомкнул засов на дубовой двери.
– А насчет другой не беспокойтесь, – сказал он. – Я и через решетку могу.
И не стал ждать; дверь за ним захлопнулась, он слышал, как засов со скрипом вошел в паз, но ведь все равно, стоит ему только постучать, а шаги тюремщика уже удалялись вниз по лестнице, но даже и сейчас надо только крикнуть, погромче постучать об пол, и, во всяком случае, Легейт его услышит, а сам шел быстро, чуть ли не бегом, и думал: Может, он напомнит мне об этом проклятом салате с мясом, или, может быть, он скажет мне – я все, что у него есть, все, что у него осталось, и этого будет достаточно, – и вот стальная дверь, и Лукас так и не двинулся с места, все так и стоит под лампочкой посреди камеры и смотрит на дверь, и он подошел, остановился и сказал таким же резким голосом, каким говорил дядя, и даже еще резче:
– Ну что вы от меня хотите?
– Пойдите поглядите его, – сказал Лукас.
– Пойти куда? На кого поглядеть? – сказал он. Но он уже все прекрасно понял. Ему казалось, он всегда знал, что так и будет, и он даже с каким-то чувством облегчения подумал: Ну, вот и все – в то время как его подсознательный голос вопил возмущенно, не веря: Чтобы я? Я? Это было, как если бы вы чего-то страшились, опасались, избегали из года в год и, уж казалось, чуть ли не всю жизнь, и вдруг, несмотря на все, оно с вами случалось, и что же это было – это была только боль, вас мучила боль, и все, и, значит, с этим все кончено, все позади и все в порядке.
– Я вам заплачу, – сказал Лукас.
Так он стоял и не слушал, не слушал даже собственного голоса, полного изумленного негодования, отказывающегося верить: Чтобы я пошел туда раскапывать эту могилу? Он даже не думал больше: Вот чего будет стоить мне это блюдо мяса с капустой. Потому что он переступил через это, и уже давно, когда вдруг что-то, неизвестно что, удержало его здесь тому назад пять минут и когда он, обернувшись, глядел через эту огромную, почти непреодолимую пропасть между ним и старым негром-убийцей и видел и слышал, как Лукас что-то сказал ему, не потому, что это был он, Чарльз Мэллисон-младший, не потому, что он ел его еду и грелся у его камина, а потому, что из всех белых он был единственный, с кем у Лукаса была возможность говорить между вот этим сейчас и той минутой, когда его поволокут на веревке из камеры по лестнице вниз, – единственный, кто услышит немую, лишенную надежды, упрямую настойчивость его глаз. Он сказал:
– Подойдите сюда.
Лукас подошел и стал, взявшись обеими руками за прутья решетки, как ребенок, прильнувший к забору, а он не заметил, что и он сделал то же, но, взглянув мельком, увидел свои руки, ухватившиеся за два прута решетки, две пары рук – черные и белые, ухватившиеся за прутья решетки, а над ними – они, лицом к лицу, друг против друга.
– Пойдите поглядите его, – сказал Лукас. – Если уж будет поздно, когда вы вернетесь, я могу сейчас подписать вам бумагу, что я должен вам, сколько это, по-вашему, стоит.
Но он все еще не слушал – он ведь знал это – и только самому себе:
– Чтобы я отправился за семнадцать миль в темноте…
– Девять, – сказал Лукас. – Гаури хоронят у Шотландской часовни. Первый поворот направо в горы, сразу за мостом, через рукав на Девятой Миле. Вы туда за полчаса доберетесь на машине вашего дяди.
– …ведь Гаури могут поймать меня, когда я буду раскапывать эту могилу. Зачем, хотел бы я знать? Я даже не знаю, что я там должен искать. Зачем?
– Мой пистолет – «кольт» сорок первого калибра, – сказал Лукас. Так оно на самом деле и было; единственное, чего он до сих пор не знал, – это калибра: добротное оружие, вполне исправное, в отличном состоянии и вместе с тем такое же старомодное, редкостное, единственное в своем роде, как золотая зубочистка; оно, наверно (можно не сомневаться), было гордостью Карозерса Маккаслина пятьдесят лет тому назад.
– Хорошо, – сказал он. – Ну и что же?
– Его застрелили не из «кольта» сорок первого калибра.
– А из чего же его застрелили?
Но на это Лукас не ответил, он стоял по свою сторону стальной двери, держась за прутья чуть сжатыми, недвижными руками и сам неподвижный, только грудь едва поднималась от дыхания. Он и не ждал от Лукаса ответа – он знал, что Лукас никогда на это не ответит и не добавит ни одного слова, не скажет ничего больше никому, ни одному белому, и он понимал, почему Лукас дожидался, чтобы сказать о пистолете ему, мальчишке, а не сказал этого ни дяде, ни шерифу, когда ведь им-то, собственно, и надлежало вскрыть могилу и осмотреть труп. Он удивлялся, что Лукас уже почти готов был рассказать это дяде, и он снова почувствовал и оценил это особенное дядино свойство, которое заставляло людей рассказывать ему то, чего они не рассказали бы никому другому, и даже побуждало рассказывать ему такие вещи, о которых говорить с белыми претит природе негра; и он вспомнил старика Ефраима и историю с кольцом мамы в то лето, теперь уже пять лет тому назад, – колечко дешевое, с поддельным камнем, но только их было два, совсем одинаковых; его мама со своей подружкой по комнате в колледже Суитбрайтер[116] в Виргинии купили их на свои сбережения из карманных денег, обменялись, как это водится среди девчонок, и поклялись носить до гроба; подруга мамина теперь жила в Калифорнии, и уже дочка ее училась в том самом колледже, и с его мамой они не виделись годами и, возможно, больше и не увидятся, и все-таки его мама берегла это кольцо, и вдруг как-то раз оно пропало; он помнит, как он тогда, проснувшись ночью и видя свет внизу, догадывался, что она все еще ищет свое кольцо; и все это время старик Ефраим посиживал в своем самодельном кресле-качалке на крыльце Парали; и вот как-то раз Ефраим сказал ему, что за полдоллара он найдет кольцо, и он дал Ефраиму полдоллара, а сам в тот же день уехал на неделю в бойскаутский лагерь, а когда вернулся, то увидел, как мама в кухне вместе с Парали вытряхивают на застланный газетами стол кукурузную муку из большой глиняной крынки и ворошат ее вилками; тут он первый раз за эту неделю вспомнил о кольце и побежал к домику Парали, где на крыльце сидел в качалке старик Ефраим, и Ефраим сказал ему: «Оно под свиной кормушкой на ферме твоего батюшки», – и Ефраиму даже не понадобилось и говорить ему, как он это узнал, потому что он к тому времени сам догадался – миссис Даунс, старая белая женщина, которая жила совсем одна в маленькой грязной хибарке величиной с будку, откуда шла вонь, как из лисьей норы, хибарка стояла на самом краю города, в негритянском поселке, и туда непрестанно один за другим целыми днями и, наверно, и большую часть ночи ходили негры; она (это уж не от Парали, которая всегда отмахивалась, будто она не знает или ей некогда и не до того, а от Алека) не только гадала и лечила от дурного глаза, но и находила пропавшие вещи; ей-то и пошли полдоллара, и он сразу же так безоговорочно поверил, что кольцо найдено, что не стал даже ни о чем и расспрашивать, и только какие-то второстепенные, связанные с этим обстоятельства задели его любопытство, и он сказал Ефраиму: «Ведь ты уже всю эту неделю знал, где оно, что же ты им не сказал ничего?» А Ефраим поглядел на него и, покачиваясь неторопливо, безостановочно в своей качалке, пососал свою остывшую, забитую пеплом трубку, из которой всякий раз, как он откидывался назад, вырывался звук вроде как из маленького задохнувшегося поршня: «Я бы мог сказать твоей ма. Но надо было, чтобы ей кто-нибудь помог. Вот потому я тебя и дожидался. Дети и женщины – у них головы не так забиты делами. Они могут слушать. А мужчины, вот такие пожилые, как твой батюшка или дядя, они не могут слушать, им некогда, у них дел по горло. Вот ты это запомни, может, когда пригодится. Если тебе когда-нибудь понадобится сделать что-то такое, что не всякому объяснить можно, ты не трать времени, не суйся к мужчинам, поди к женщинам либо к детям, они тебя выручат». И он вспомнил, как рассердился или, вернее, возмутился папа, как он сначала чуть ли не с яростью отрицал возможность таких вещей, а потом вдруг бросился защищать моральные устои, которые будто бы надо спасать от этой угрозы. И даже дядя, который до сих пор был способен не меньше, чем он сам, поверить вещам, которые другим взрослым внушали сомнения только потому, что противоречили здравому смыслу, – когда уже мать спокойно и упрямо собралась ехать на ферму, на которой она не была больше года, да и отец не заглядывал туда уже несколько месяцев, задолго до пропажи кольца, – даже дядя отказался везти ее туда на машине, так что отец нанял кого-то из гаража, и этот человек поехал с ней на ферму, и с помощью надсмотрщика они сдвинули корыто для корма свиней и нашли под ним ее кольцо. Только теперь ведь это было не какое-то ничтожное кольцо, которым тому назад двадцать лет обменялись две девчонки, а смерть – позорная, насильственная смерть, которая грозит человеку не потому, что он убийца, а потому, что у него черная кожа. И тем не менее это было все, что Лукас счел возможным сказать ему, и он знал, что это все, и в каком-то неистовом исступлении подумал: Поверить? Поверить чему? – потому что Лукас даже и не просил его чему-то верить, он даже не просил его ни о каком одолжении, не умолял его, не взывал к его человечности, он даже предлагал заплатить ему, если это будет не слишком много, за то, что он отправится один, за семнадцать миль, в темень (нет, за девять, он вспомнил по крайней мере, что хоть это-то он слышал), рискуя быть пойманным за раскапыванием могилы человека, принадлежащего к клану людей, готовившихся свершить самое зверское из всех жесточайших кровавых злодеяний, и он даже не говорил зачем. И все-таки он еще раз попытался спросить, зная, что Лукас не только знает, что он это сделает, но знает даже, что и он знает, какой получит ответ.
– Из какого же револьвера он был застрелен, Лукас?
И услышал в ответ то самое, что, как даже и сам Лукас знал, он и ожидал услышать.
– Я вам заплачу, – сказал Лукас. – Скажите сколько, так чтоб не слишком дорого, и я заплачу.
Он глубоко потянул воздух, выдохнул; оба они смотрели друг на друга через прутья решетки – помутневшие глаза старика следили за ним, скрытные, непроницаемые. Они сейчас уже не были настойчивыми, и он с полным спокойствием подумал: Мало того, что он взял надо мной верх, он никогда в этом ни на секунду и не сомневался.
– Хорошо, – сказал он. – От того, что я на него посмотрю, толку не будет, даже если я и смогу сказать насчет пули. Вы понимаете, что выходит. Я должен откопать его, вытащить из ямы и, прежде чем меня поймают Гаури, доставить в город, чтобы мистер Хэмптон мог послать в Мемфис за экспертом, который разбирается в пулях. – Он смотрел на Лукаса, на этого старика, мягко обхватившего руками изнутри камеры прутья решетки и теперь даже уже не глядевшего на него. Опять глубоко вздохнул. – Но самое главное – это вытащить его из ямы и отвезти туда, где кто-то мог бы осмотреть его, прежде… – Он поглядел на Лукаса. – Я должен добраться туда, вырыть его и вернуться в город до двенадцати или до часу ночи, а может, и в двенадцать уже будет поздно. Не знаю, как я могу это сделать. Я этого не смогу сделать.
– Попробую подождать, – сказал Лукас.
Глава четвертая
У тротуара на повороте, когда он подошел к дому, стоял старый, обшарпанный, видавший виды пикап. Сейчас было уже много позже восьми, и, по всей вероятности, оставалось меньше четырех часов на то, чтобы дядя сходил к шерифу, убедил его, затем разыскал судью или кого там требуется растолкать и уговорить, чтобы вскрыли могилу (вместо того чтобы просить на это разрешения Гаури, которого у них ради чего бы то ни было, а уж тем более ради того, чтобы спасти от костра какого-то негра, не добился бы не только деревенский шериф, а и сам президент США), а потом отправиться к Шотландской часовне, раскопать могилу, вытащить тело и успеть вернуться с ним в город. И надо же, чтобы ни в какой другой, а именно в этот вечер какому-то фермеру (чья корова, мул или свинья забрели в загон к соседу, и тот требует с него доллар, а без этого не отдает скотину) понадобилось прийти к дяде, и он теперь застрял у него на час в кабинете, сидит и говорит «да», «нет» или «стало быть», а дядя заводит разговор об урожае или о политике, хотя он понятия не имеет о первом, а тот ничего не смыслит во втором, и ждет, когда наконец у его посетителя развяжется язык и он выговорит, что ему от него надо.
Но ему-то сейчас некогда церемониться. Он шел очень быстро от самой тюрьмы, а сейчас пустился бегом наперерез, прямо через газон, на веранду, юркнул в холл, прошел мимо библиотеки, где за столом в кресле под одной настольной лампой еще сидел отец над страницей кроссвордов в воскресной мемфисской газете, а под другой – мама с новой книжкой серии «Лучшая книга месяца», и – дальше по коридору, в заднюю часть дома, которую мама когда-то старательно приучала всех называть кабинетом Гэвина, но Парали и Алек Сэндер давно переименовали в контору, и так ее с тех пор все и звали. Дверь была закрыта, из-за нее смутно доносился тихий мужской голос, он услышал его в ту секунду, когда, не останавливаясь, постучал дважды и тут же, открыв дверь, вошел, говоря:
– Добрый вечер, сэр. Простите, пожалуйста. Дядя Гэвин…
Потому что голос оказался дядин; прямо напротив дяди, по ту сторону письменного стола, вместо мужчины с гладко выбритой загорелой шеей, в чистой воскресной сорочке без галстука и праздничных брюках сидела женщина в простом ситцевом платье, в круглой черной, с виду как будто слегка запыленной шляпке на самой макушке (точно такую шляпку всегда носила бабушка), – и тут он узнал ее, прежде даже, чем увидел ее часы – маленькие золотые часики с крышкой, приколотые золотой брошью на плоской груди, точно в таком же положении и с виду почти точь-в-точь как нагрудный червонный туз на холщовой куртке фехтовальщика, – потому что с тех пор, как умерла бабушка, никто из знакомых женщин, кроме нее, никогда не носил таких часов, и ни у кого их и не было; да и пикап, грузовичок ее, он должен был бы сразу узнать: мисс Хэбершем, чье имя теперь было самым старинным во всем округе. Когда-то их было трое: доктор Хэбершем, содержатель трактира Холстон и младший сын некоего гугенота по имени Гренье[117] приехали в этот край верхом еще до того, как здесь были намечены, нанесены и определены границы, когда Джефферсон был еще просто факторией с индейским названием, по которому ее находили в глухой бездорожной чаще леса и зарослей тростника, и все они теперь, кроме одного, сгинули, исчезли и даже в устной памяти не сохранились. «Холстон» – это была теперь просто гостиница на площади, и мало кто в округе знал или интересовался, откуда произошло это слово; а то, что уцелело от крови Луи Гренье, изысканного дилетанта-архитектора, учившегося в Париже, который подвизался немножко на судейском поприще, но большую часть времени уделял плантаторству или живописи (причем любителем он скорее был в деле выращивания кормов и хлопка, чем с холстом и кистью), теперь текло в жилах мирного, беспечного, еще не старого человека с младенческим лицом и таким же развитием, который жил в двадцати милях от города на берегу реки, в полуноре-полусарае, сложенном собственными руками из старых, прогнивших досок, сплющенных печных труб, жестянок из-под консервов. Он не знал, сколько ему лет, не мог написать даже «Лонни Гриннап», как он теперь называл себя, и даже понятия не имел, что земля, на которой он жил в своей берлоге, была последним затерявшимся клочком многих тысяч акров, принадлежавших его прадеду; и вот так осталась одна только мисс Хэбершем – одинокая старая дева, жившая на краю города в старинном с колоннами доме без электричества, без воды, не крашенном с тех пор, как умер ее отец; с ней жили двое слуг – муж с женой, негры (тут что-то мелькнуло у него в голове, задело на секунду и исчезло, не то чтобы он отмахнулся, само исчезло), – в хижине на заднем дворе: жена стряпала, а мисс Хэбершем с ее мужем растили овощи, разводили цыплят и возили на пикапе продавать в город. Еще два года тому назад у них была толстая старая белая лошадь (говорят, в то время, с какого он ее помнит, ей было уже двадцать лет и кожа у нее под лоснящейся белой шерстью была розовая и гладкая, как у младенца) и двухколесная тележка. Потом выдался какой-то хороший год или у них что-то там уродилось, и мисс Хэбершем купила подержанный пикап, и каждое утро зиму и лето можно было видеть, как они разъезжают по улицам от дома к дому, мисс Хэбершем за рулем, в вязаных чулках и в круглой черной шляпке, которую она носила по меньшей мере лет сорок, и в чистом ситцевом платье – из тех, что можно увидеть в каталоге фирмы «Сирс и Робак»[118] стоимостью два доллара девяносто восемь центов, – с аккуратными маленькими часиками, пришпиленными к ее плоской, никогда не кормившей груди, в ботинках и в перчатках, про которые мама говорила, что они были сделаны по ее размеру на заказ в нью-йоркском магазине и стоили – ботинки тридцать – сорок долларов пара, а перчатки пятнадцать – двадцать, а негр-слуга прогуливал свое громадное брюхо, таская из дома в дом корзину с яркой зеленью или в одной руке яйца, а в другой ощипанного голого цыпленка, – вспомнил, узнал и даже (вот привязалось) отмахнулся не сразу, а сейчас не до этого, некогда, и заговорил быстро:
– Добрый вечер, мисс Хэбершем. Извините, пожалуйста. Мне надо поговорить с дядей Гэвином. – И затем к дяде: – Дядя Гэвин…
– Вот так-то, мисс Хэбершем, – быстро, не отвлекаясь, сказал дядя таким тоном и голосом, которые в обычное время дошли бы до него сразу, наверно, в обычное время по этим словам дяди он мог бы угадать даже, о чем, собственно, идет речь, но не сейчас. Он даже и не слышал их. Он и не слушал. По правде сказать, ему и самому-то некогда было разговаривать, он говорил торопливо и в то же время спокойно, только настойчиво, и обращался исключительно к дяде, потому что он забыл о мисс Хэбершем, забыл даже, что она здесь.
– Мне надо поговорить с вами. – И тут только он остановился, не потому, что он кончил говорить, он даже еще и не начинал, но потому, что он только сейчас впервые услышал, как дядя, который сидел вполоборота в своем кресле, свесив одну руку через спинку, а другую, с раскуренной глиняно-кукурузной трубкой, положив на стол, даже не сделав паузы, продолжал говорить все таким же голосом, похожим на легкое, ленивое пощелкивание маленьким гибким прутиком:
– Значит, ты ему сам отнес. Или ты даже и не стал доставать табак? А он тебе рассказал басню. Надо полагать, недурную.
И все. Он мог бы сейчас уйти. По правде сказать, и надо было бы уйти. В сущности, ему даже и незачем было заходить сюда из холла или даже вовсе забегать домой, надо было сразу обежать кругом – и на двор, в конюшню, а по дороге кликнуть Алека Сэндера; Лукас сказал ему это полчаса тому назад в тюрьме, когда, казалось, он вот-вот сейчас скажет все, но даже под нависшей над ним угрозой, что к нему каждую минуту могут ворваться Гаури, так и не решился, не сказал, понимая, что нельзя даже и заикнуться об этом ни дяде и никому из белых. И все еще он не двигался. Он забыл про мисс Хэбершем. Отмахнулся от нее; он сказал: «Простите», – и она тут же исчезла не только из комнаты, но из этих минут тоже – так фокусник одним словом или жестом заставляет исчезнуть пальму, или кролика, или вазу с розами, – и они теперь остались одни; втроем: он – у двери и все еще держась за нее, наполовину в комнате, куда он по-настоящему так и не вошел, да лучше бы и вовсе не заходил, а наполовину уже подавшись назад, в коридор, куда его с самого начала совсем зря занесло, только время потерял; дядя – откинувшись в кресле, за столом, заваленным грудами бумаг, и среди них еще такая же немецкая кружка со скрученными клочками газет и, должно быть, с полдюжины глиняно-кукурузных трубок, в разной степени обгорелых; и за полмили от них – старый, одинокий, нелюдимый, упрямый, заносчивый, бесчувственный, неподатливый, своевольный (и дерзкий тоже) негр, один в камере, где первый знакомый голос, который ему придется услышать, будет, наверно, голос старого однорукого Наба Гаури в дверях внизу, который крикнет: «Прочь с дороги, Уилл Легейт, мы пришли за этим черномазым»; а за стенами этой тихой, освещенной лампой комнаты огромная лавина времени ревела, не приближаясь к полночи, а волоча ее за собой, не затем, чтобы швырнуть полночь в крушение, но чтобы изрыгнуть на них останки крушения полночи одним хладнокровным, заслоняющим небо зевком; и он знал теперь, что непоправимый миг наступил не тогда, когда он сказал Лукасу «хорошо» через стальную дверь камеры, а наступит вот сейчас, когда он сделает шаг назад в коридор и закроет за собой вот эту дверь. Поэтому он попытался опять, все так же спокойно и теперь даже неторопливо, не настойчиво, просто с подкупающей убежденностью и рассудительностью:
– А что, если это не из его пистолета убили Винсона?
– Ну, разумеется, – сказал дядя. – То же самое и я сказал бы, будь я на месте Лукаса или какого-нибудь другого негра-убийцы, да, уж коль на то пошло, и любого невежественного белого убийцы. Он, наверно, сказал тебе, во что он стрелял из своего пистолета. Ну, во что же? В зайца, или, может, в консервную жестянку, или в дерево – просто проверить, действительно ли он у него заряжен и стреляет. Но не стоит об этом говорить. Допустим на минуту, что это так. Ну и что? Что ты предлагаешь? Нет, что тебя просил сделать Лукас?
И он даже ответил и на это:
– Не мог бы мистер Хэмптон вырыть его и посмотреть?
– А на каком основании? Лукас был пойман сейчас же после выстрела, двух минут не прошло, он стоял над телом, засунув в карман револьвер, из которого он только что стрелял. Он вовсе и не отрицал, что стрелял, собственно, он отказался дать какие-либо показания даже мне, своему адвокату, адвокату, за которым он сам же послал. Да и как можно на это решиться? Да я бы скорей пошел и пристрелил еще одного из его сыновей, чем решился сказать Набу Гаури, что я хочу вырыть тело его сына из освященной земли, где он был похоронен и отпет. Ну а уж если бы я на это пошел, я просто сказал бы, что хочу вырыть тело, чтобы вытащить у мертвеца золотые зубы, у меня язык не повернулся бы сказать ему, что я делаю это, чтобы спасти негра от линчевания.
– Ну а если… – сказал он.
– Послушай меня, – сказал дядя с каким-то усталым, но вместе с тем несокрушимым терпением. – Постарайся выслушать до конца. Лукас сейчас под замком, за непроницаемой стальной дверью. Под самой надежной защитой, какую мог предоставить ему Хэмптон или кто-либо другой во всем округе. Как сказал Уилл Легейт, у нас в округе найдется достаточно людей, которые, если они действительно захотят, прорвутся к нему, несмотря на Таббса и даже на эту дверь. Но я не думаю, чтобы у нас в округе было так уж много людей, которым действительно хотелось бы вздернуть Лукаса на телефонном столбе, облить его бензином и поджечь.
Ну вот, опять. Но он все еще пытался.
– Ну а если все-таки… – снова начал он и в третий раз услышал почти точь-в-точь то же, что уже слышал дважды на протяжении двенадцати часов, и снова его поразила бедность и почти вошедшая в норму скудность не словаря, каким тот или иной располагает, а словаря вообще, самого запаса слов, пользуясь которым даже человек может жить более или менее мирно в огромном гурте, стаде и даже в бетонном садке – и даже его дядя.
– Ну а если и так? Лукасу надо было подумать об этом раньше, прежде чем стрелять в спину белому человеку.
И только уже потом он сообразил, что дядя говорил это мисс Хэбершем; в ту минуту он не только не видел, что она здесь, в комнате, он даже не вспомнил о ней; не вспомнил даже, что она уже и до этого давно перестала существовать, когда, уходя и закрывая за собой дверь, услышал лишенную смысла внушительность дядиного голоса:
– Я ему сказал, что делать. Если бы у них это было задумано, они устроили бы это у себя на задворках дома, а ни в коем случае не дали бы мистеру Хэмптону увезти его в город. Сказать правду, я и сейчас не понимаю, как они это допустили. Что это, просто случайность, нерасторопность или старик Гаури уж вовсе одряхлел; что бы там ни было, но все обошлось; он сейчас в безопасности, и я уговорю его признать себя виновным в непреднамеренном убийстве; он старик, и я думаю, районный прокурор не будет возражать. Его отправят в каторжную тюрьму, а через несколько лет, если он будет жив… – И тут он закрыл дверь; он уже слышал все это, и хватит с него – вон из комнаты, куда он, собственно, даже по-настоящему и не входил, и незачем ему было даже и заглядывать, и в первый раз с тех пор, как он взялся за ручку двери, он отпустил ее и с лихорадочным остервенением и кропотливым упорством, с каким человек в горящем доме пытается подобрать рассыпавшуюся нитку бус, твердя про себя: Теперь мне придется бежать всю дорогу обратно в тюрьму, чтобы спросить Лукаса, где это, – думал, как, вопреки всем сомнениям Лукаса, вопреки всему, он все-таки до последней минуты надеялся, что дядя и шериф возьмут это на себя и поедут туда, и не потому, что он воображал, что они ему поверят, а просто потому, что ну просто он не мог себе представить, что это ляжет на него с Алеком Сэндером; и вдруг вспомнил, что Лукас и об этом уже позаботился и это предусмотрел, – вспомнил не с облегчением, а с таким взрывом ярости и возмущения, на какой он даже и не считал себя способным: как Лукас не только сказал ему, что надо сделать, но точно сказал, где это находится и даже как туда добраться, и только потом, уже напоследок, спросил, возьмется ли он, и – слыша за дверью библиотеки шуршание газеты, съехавшей у отца на колени, и запах сигары, дымящейся в пепельнице у него под рукой, и глядя на синеватую струйку дыма, медленно выплывавшую из открытой двери, когда в поисках какого-нибудь пропущенного слова или синонима отец, должно быть, поднес сигару к губам и затянулся разок, – вспомнил еще: ведь он сказал даже, на чем ехать туда и обратно, – и тут он представил себе, как он снова открывает дверь и говорит дяде: Не будем говорить о Лукасе. Позвольте мне только взять вашу машину, – потом идет в библиотеку к отцу – ключи от машины всегда у него при себе, в кармане, пока он, раздеваясь, не спохватится, что их нужно вынуть и положить туда, где мама может их взять, когда они ей понадобятся утром, – и говорит: Дай мне ключи, папа. Мне надо поехать за город и раскопать могилу; он даже вспомнил пикап мисс Хэбершем перед домом (не ее самое – о ней он ни разу не вспомнил. Вспомнил просто пустую машину, стоящую без всякого присмотра на улице в каких-нибудь пятидесяти ярдах от дома); ключи, верно, так и висят там, в машине, и, когда Гаури поймают его за разграблением могилы их сына, брата или кузена, они в то же время поймают и вора, угнавшего машину.
Потому что (отгоняя, отмахиваясь и наконец разом отряхнувшись от этой мельтешившей, прилипчивой, как конфетти, чепухи) он понимал, что с самого начала он ни минуты не сомневался, что отправится туда и даже что он выроет тело. Он представлял себе, как он уже добрался до этой часовни на кладбище, и это не стоило ему никаких усилий, и даже времени не так много прошло, он видел, как он своими руками, один, вытаскивает тело, и тоже без всяких усилий, не задыхаясь, не напрягаясь, не мучаясь, не замирая от ужаса. И вот тогда-то и обрушится на него подглядывающая, задыхающаяся, низринутая крушением полночь, и, как он ни пытался, он не в силах был ни заглянуть дальше, ни отмахнуться от этого. И тут (продолжая идти: он не останавливался с той самой доли секунды, когда закрыл за собой дверь конторы) одним физическим усилием он бросился в непререкаемо логическую, яростную рассудительность, спокойное, обдуманное, безнадежное взвешивание не «за» или «против», потому что никаких «за» не было: он отправляется туда, потому что кто-то должен это сделать, а кроме него, нет никого, кто бы это сделал, а сделать это необходимо, потому что даже сам шериф Хэмптон (vide[119] Уилл Легейт и ружье напротив распахнутой двери тюрьмы, словно на освещенной сцене – кто бы ни шел, сразу увидит его, так же как и он тех, кто идет, прежде чем они дойдут до ворот) далеко не уверен, что Гаури, их друзья и родственники не попытаются ворваться сегодня ночью в тюрьму за Лукасом, а следовательно, если они все сегодня в городе и собираются линчевать Лукаса, то там никого не будет, и его никто не поймает за раскапыванием могилы, и если это неопровержимый факт, то, значит, и обратное этому так же неопровержимо; если они сегодня не собрались в городе для расправы с Лукасом, тогда любой из пятидесяти или сотни мужчин или подростков, связанных кровным родством или совместной охотой, торговлей самогонным виски или лесом, может случайно наткнуться на него с Алеком Сэндером; да, и вот еще – он должен отправиться туда верхом и по той же самой причине: потому что никто другой не поедет, кроме шестнадцатилетнего мальчишки, у которого только и есть что лошадь; и тут ему опять придется выбирать: либо он поедет один верхом и будет там вдвое скорее, но в три раза дольше будет один выкапывать тело, потому что одному ему придется не только копать, но и сторожить и прислушиваться, либо он возьмет с собой Алека Сэндера (они с Алеком Сэндером ездили так и раньше на Хайбое, и подальше, чем за десять миль, – большой ширококостный мерин брал высоту в пять перекладин даже с грузом в семьдесят пять фунтов и, даже когда вез их двоих, бежал легким неторопливым галопом и широкой тряской рысцой, скоростью не меньше галопа, только даже Алек Сэндер не мог выдержать этого долго, сидя позади седла, а еще у него был какой-то свой, безымянный, шаркающий аллюр, наполовину рысью, наполовину шагом, так он мог везти их двоих целые мили; первый раз, когда он пустил его галопом, Алек Сэндер сидел позади, а в следующий раз уже держался за стремя и бежал рядом), и тогда они выроют тело втрое быстрей, но с риском, что Алек Сэндер попадет в компанию с Лукасом, когда Гаури появятся с бензином; и внезапно он поймал себя на том, что он снова увиливает в это конфетти – вот так же, как увиливаешь и мнешься, не решаясь ступить в холодную воду, – и воображает, и видит, и слышит, как он пытается объяснить это Лукасу:
«Нам придется ехать на лошади. Ничего не поделаешь».
И Лукас: «Могли бы уж попросить у него машину».
А он: «Он все равно отказал бы. Что, вы не понимаете, он не только отказал бы, он запер бы меня, и я бы даже не мог выйти, не то что взять лошадь».
И Лукас: «Ладно, ладно, я вас не осуждаю. В конце-то концов, ведь не вам же это Гаури костер готовят»; и, уже подходя к черному ходу: а ведь он был не прав – не тогда, когда он сказал Лукасу «хорошо» через прутья стальной двери, и не тогда, когда он отступил назад в коридор и закрыл за собой дверь в контору, но вот здесь, сейчас – этот непоправимый миг, после которого уже не будет возврата; он может остановиться здесь и не переступить его, и пусть останки крушения полночи рухнут бессильно, безобидно на эти стены – они крепкие, они выдержат; они твое гнездо – непреоборимее всякого крушения, сильнее всякого страха; и, даже не останавливаясь, даже не подумав спросить себя, а может, он не смеет остановиться, он бесшумно шагнул за дверь тамбура и спустился по ступеням в яростный водоворот мягкого майского вечера и теперь уже быстрым шагом направился через двор к темной хижине, где Парали и Алек Сэндер не спали сегодня так же, как и все другие негры на милю в окружности, и не ложились даже, сидели тихонько в темноте с закрытыми ставнями, дожидаясь, когда весенняя тьма дохнет на них глухим гулом остервенения и гибели; остановился и посвистел – сигнал, каким они всегда вызывали друг друга с Алеком Сэндером с тех пор, как научились свистеть, – и, отсчитывая секунды до того, как посвистеть еще раз, только подумал, что он на месте Алека Сэндера не вышел бы сегодня из дому ни на чей свист, как вдруг совершенно беззвучно и, конечно, не освещенный сзади, потому и не видно было, как он вышел, выступил из черноты Алек Сэндер и в безлунной тьме уже подошел совсем близко, чуть-чуть повыше него, хотя между ними было всего только несколько месяцев разницы, подошел, глядя не на него, а поверх его головы в сторону Площади, как если бы взгляд мог описать такую же высокую траекторию, как бейсбольный мяч, над деревьями, над улицами и над домами и, опустившись, увидеть Площадь – не дома в полутемных дворах, и мирные трапезы, и отдых, и сон, которые были целью и наградой, но Площадь: здания, сооруженные и предназначенные для торговли, управления, суда и заключения, где боролись и соперничали страсти людей, для которых отдых и кратковременная смерть-сон были целью, избавлением и наградой.
– Значит, они еще не пришли за Лукасом, – сказал Алек Сэндер.
– А твои тоже об этом думают? – спросил он.
– И ты бы думал, – сказал Алек Сэндер. – Вот из-за таких, как Лукас, всем достается.
– Так, может, тебе тогда лучше пойти в контору посидеть с дядей Гэвином, чем со мной идти.
– Куда с тобой идти? – спросил Алек Сэндер.
И он сказал ему прямо и грубо в четырех словах:
– Вырыть тело Винсона Гаури. – Алек Сэндер стоял не двигаясь, глядя все так же поверх его головы в сторону Площади. – Лукас сказал, что он убит не из его пистолета.
Все так же не двигаясь, Алек Сэндер засмеялся, не громко, не весело – просто засмеялся; он сказал буквально то же, что минуту назад сказал дядя:
– И я бы на его месте так сказал. Чтобы я пошел туда выкапывать этого мертвого белого человека? А что, мистер Гэвин уже в конторе, или мне просто пойти туда и сидеть, пока он не придет?
– Лукас тебе заплатит, – сказал он. – Он мне это сказал, прежде даже, чем сказал за что.
Алек Сэндер засмеялся не весело, не злобно – в этом смехе не было ничего, кроме звуков смеха, вот как в дыхании слышен только шум дыхания и ничего больше.
– Я не богач, – сказал он. – На что мне деньги?
– Ну хоть по крайней мере оседлай Хайбоя, пока я поищу фонарь. Надеюсь, ты еще не настолько загордился из-за Лукаса и можешь это сделать?
– Конечно, – сказал Алек Сэндер, повернувшись, чтобы идти.
– Да захвати заступ и кирку. И еще длинную веревку. Это мне тоже понадобится.
– Конечно, – сказал Алек Сэндер. Он остановился, полуобернувшись. – Как же ты повезешь заступ и кирку на Хайбое, когда он даже и хлыста не терпит, когда видит его у тебя в руке?
– Не знаю, – сказал он, и Алек Сэндер ушел, а он повернул обратно к дому, и сначала ему показалось, что это дядя вышел из парадной двери и идет сюда, быстро огибая дом, – не потому, что он думал, будто дядя мог заподозрить и догадаться, что он затеял, нет, этого он не думал, дядя слишком безоговорочно и решительно отринул не только его предположения, но исключил даже и возможность их, – а просто потому, что он сейчас никого не мог вспомнить, кто бы это мог быть, кроме него, и даже когда он увидел, что это женщина, он решил, что это мама; даже после того, как он должен был бы узнать шляпку, и до того самого момента, когда мисс Хэбершем окликнула его по имени, он был уверен, что это мама, и первым его побуждением было юркнуть бесшумно и быстро за угол гаража, откуда можно незаметно пробраться к забору, перелезть через него и прямо попасть в конюшню и выехать через калитку на выгон, даже и не огибая дома, и наплевать на фонарь, но он опоздал, она окликнула: «Чарльз!» – таким напряженным, настойчивым шепотом и тут же быстро подошла, остановилась и, глядя прямо на него, сказала тем же напряженным быстрым шепотом:
– Что он тебе сказал?
И теперь он понял, что мелькнуло у него на миг в голове, когда он узнал ее там, в конторе у дяди, и тут же исчезло: старушка Молли, жена Лукаса, была дочерью одной из рабынь старого доктора Хэбершема, деда мисс Хэбершем, они были однолетки с мисс Хэбершем, между ними было всего несколько дней разницы, и они вместе сосали грудь Моллиной матери и росли почти неразлучно, как сестры, как близнецы: спали в одной комнате – белая девочка на кроватке, черная на койке рядом, в ногах кровати, и так почти до тех пор, пока Молли с Лукасом не поженились и мисс Хэбершем в негритянской церкви крестила первого ребенка Молли.
– Он сказал, что это не его пистолет был, – сказал он.
– Значит, не он это сделал, – сказала она все так же быстро, и теперь в голосе ее слышалась не просто настойчивость, а что-то еще.
– Не знаю, – сказал он.
– Глупости, – отрезала она. – Если это был не его пистолет…
– Я не знаю, – сказал он.
– Ты должен знать. Ты видел его, говорил с ним.
– Не знаю, – сказал он. Он сказал это тихо, спокойно, с каким-то недоверчивым удивлением, как будто он только сейчас по-настоящему понял, что он такое обещал, что затеял. – Я просто не знаю. До сих пор не знаю. Я вот собираюсь туда… – Он не договорил, голос его прервался. Был даже какой-то миг, когда он вспомнил, что лучше было бы, если бы он мог вернуть свои слова обратно, эту последнюю недоговоренную фразу. Хотя сейчас уже, наверно, поздно, она уже сама закончила ее и вот сейчас поднимет крик, начнет протестовать, ахать, и на ее голос сбежится весь дом. Но в ту же секунду он бросил об этом думать.
– Конечно, – сказала она быстро спокойным шепотом; и на какую-то долю секунды у него мелькнуло, что она просто не поняла его, но и это он в ту же секунду отбросил, и они стояли друг против друга, почти неразличимые в темноте в этом быстром, захлебывающемся шепоте; и тут он услышал свой собственный голос, такой же приглушенный и быстрый, и оба они были похожи не то что на заговорщиков, а на людей, которые бесповоротно решились вдвоем на какой-то шаг и совсем не уверены, под силу ли он им; а все-таки они не отступят. – Мы даже не знаем, что это не его пистолет. Он просто сказал, что не его.
– Да.
– Он не сказал, чей это, и не сказал, стрелял он или нет. Он даже не сказал тебе, что он из него не стрелял. Просто сказал, что это не его пистолет.
– Да.
– А твой дядя, вот тогда у себя в кабинете, ответил тебе, что то же самое и он бы на его месте сказал, и это все, что он мог сказать. – На это он ничего не ответил. Да ведь она и не спрашивала. К тому же она не дала ему ответить. – Хорошо, – сказала она. – Так что же теперь? Надо узнать, действительно ли это был не его пистолет, узнать, что он хотел этим сказать. Поехать туда и что?..
Он ответил ей так же грубо, как он ответил Алеку Сэндеру, коротко и ясно:
– Посмотреть на него. – И даже не успел дать себе времени подумать, что вот сейчас-то уж она, конечно, ахнет. – Поехать туда, выкопать его, привезти в город, чтобы кто-то, кто разбирается в пулях и следах пуль, осмотрел его.
– Да, – сказала мисс Хэбершем. – Конечно. Разумеется, он не мог сказать твоему дяде. Он негр, а твой дядя мужчина. – Вот теперь и мисс Хэбершем повторяет и говорит то же самое, и он подумал, что на самом деле это вовсе не бедность, не скудость словаря, а так оно получается прежде всего потому, что умышленное, насильственное уничтожение, стирание с лица земли человеческой жизни само по себе так просто и окончательно, что разговоры, возникающие вокруг этого, которые замыкают, обособляют и сохраняют это в летописи человеческой, должны быть неизбежно просты, несложны и даже почти однообразно повторяться, а во-вторых, потому, что в более широком, так сказать, обобщенном смысле то, что по-своему повторила мисс Хэбершем, – это сущая правда, даже никакой не факт, и, чтобы выразить это, не требуется никакого многоглаголья, ни оригинальности, потому что правда – это всеобщее, она должна быть всеобщей, чтобы быть правдой, и не так уж ее много надо, чтобы уцелело нечто такое небольшое, как земной шар, и чтобы всякий мог узнать правду; надо только остановиться, помолчать, выждать. – Лукас знал, что на это может пойти мальчик или вот такая старуха, как я, кому не важно, есть ли там доказательства, правдоподобно ли это. Мужчины, такие, как твой дядя и мистер Хэмптон, им ведь уж так давно приходится быть мужчинами, им так давно некогда. Так что же? – сказала она. – Привезти его в город, чтобы кто-нибудь сведущий мог посмотреть на отверстие, оставленное пулей. А вдруг они посмотрят и установят, что это пистолет Лукаса? – На это он ничего не ответил, и она, не дожидаясь, сказала, уже поворачиваясь: – Нам понадобится кирка и заступ, фонарик у меня есть в пикапе.
– Нам? – сказал он.
Она остановилась и сказала почти терпеливо:
– Это пятнадцать миль отсюда…
– Десять, – сказал он.
– Могила глубиной шесть футов. Сейчас уже больше восьми, а времени у тебя, может, только до двенадцати, чтобы поспеть вернуться в город… – И что-то еще, но что, он даже и не слышал. Все это он и сам говорил Лукасу каких-нибудь четверть часа тому назад, но он только сейчас понял, что он такое говорил.
Только после того, как он услышал это из чужих уст, он понял не чудовищность того, что он задумал, но просто несворотимую, громоздкую, немыслимую физическую необозримость того, что ему предстояло; он сказал спокойно, с каким-то безнадежно непреодолимым изумлением:
– Мы этого не сможем сделать.
– Нет, – сказала мисс Хэбершем. – Так как же?
– Что вы сказали, мэм?
– Я говорю, что у тебя даже нет машины.
– Мы собирались ехать на лошади.
Теперь она переспросила:
– Мы?
– Я и Алек Сэндер.
– Значит, нас будет трое, – сказала она. – Неси скорей кирку и заступ. Как бы они там не стали удивляться в доме, почему я до сих пор не запустила мотор. – И она опять повернулась.
– Да, мэм, – сказал он. – Поезжайте вдоль забора к воротам на выгон. Мы вас там встретим.
Он тоже не стал мешкать. Перелезая через забор, он услышал, как отъезжает пикап; и вот уже перед глазами у него белое пятно на лбу Хайбоя в черном зеве конюшни; Алек Сэндер уже затянул подпругу и закреплял ремень, когда он подошел. Он отстегнул путы с кольца узды, потом вспомнил и снова пристегнул их, отцепил другой конец с кольца на стене, перекинул вместе с поводьями на шею Хайбоя, вывел его из конюшни и вскочил на него.
– Вот, – сказал Алек Сэндер, подавая ему кирку и заступ, но Хайбой уже заплясал на месте, прежде даже чем увидел их, как он всегда делал даже при виде обыкновенного прута, и он сильно дернул поводья и осадил его, а Алек Сэндер крикнул: – А ну, стой смирно! – и, громко шлепнув Хайбоя по крупу, протянул ему заступ и кирку, а он, придерживая их на луке седла, старался осадить Хайбоя и в то же время высвободить ногу из стремени, чтобы Алек Сэндер мог поставить свою, и, только Алек Сэндер успел перекинуть ногу, Хайбой рванул с места и чуть ли не понес сразу, но он осадил его одной рукой – заступ и кирка подпрыгивали у него на седле – и повернул прямо через выгон к воротам. – Давай мне сюда эти проклятые заступ с киркой, – сказал Алек Сэндер. – Ты захватил фонарь?
– А тебе-то что? – сказал он. Алек Сэндер, нагнувшись, протянул мимо его локтя свободную руку и взял заступ с киркой, и опять на секунду Хайбой мог увидеть их, но на этот раз обе руки у него были свободны, и он мог и придержать и осадить его. – Ты же никуда не едешь, так зачем тебе фонарь? Ты ведь только что сказал мне.
Они уже были почти у ворот. Он уже мог различить черное пятно пикапа, стоявшего за оградой на смутно белевшей дороге, то есть ему казалось, что он может, потому что он знал, что он там. Но Алек Сэндер действительно увидел его: у него была способность видеть в темноте, почти как у животных. Алек Сэндер держал заступ и кирку, и у него не было свободной руки, и все-таки он вдруг опять выкинул вперед руку и, схватившись за поводья впереди его рук, дернул Хайбоя так, что конь чуть ли не сел на задние ноги, и сказал свистящим шепотом:
– Что это?
– Пикап мисс Юнис Хэбершем, – сказал он. – Она едет с нами. Да отпусти же его, черт тебя возьми, – стараясь вырвать поводья у Алека Сэндера, который тут же и отпустил их со словами:
– Она их возьмет в машину. – И не то чтобы сбросил заступ и кирку наземь, а швырнул их, так что они с грохотом ударились о ворота, и мигом соскользнул сам, и как раз вовремя, потому что Хайбой, рванувшись, стал на дыбы и опустился только тогда, когда он хлестнул его ремнем между ушей.
– Открой ворота, – сказал он.
– На что нам лошадь, – сказал Алек Сэндер. – Расседлай и привяжи ее здесь. Мы ее отведем, когда вернемся.
То же самое говорила сейчас по ту сторону ворот и мисс Хэбершем, в то время как Алек Сэндер запихивал в багажник пикапа заступ и кирку, а Хайбой все еще пятился и бил копытами, точно он ждал, что Алек Сэндер вот-вот запустит в него киркой, а голос мисс Хэбершем доносился из темной глубины пикапа.
– Хорошая лошадь, видно. А что ж, она и галопом идет?
– Да, мэм, – сказал он. – Нет, я возьму лошадь, – сказал он. – Хотя самый ближний дом в миле от часовни, а все-таки кто-нибудь может услышать машину. Мы оставим пикап внизу у холма, как только переедем рукав. – И тут же добавил, отвечая на то, что он даже не дал ей спросить: – Нам понадобится лошадь, чтобы довезти его до машины.
– Ха, – сказал Алек Сэндер. Это был не смех. Да никто и не думал, что он смеется. – Как ты думаешь, эта лошадь повезет то, что ты выкопаешь, когда она даже не хочет везти то, чем ты будешь копать? – Но он уже и сам это подумал, вспомнив, как дедушка рассказывал ему про прежнее время, когда в Йокнапатофском округе, в двенадцати милях от Джефферсона, охотились на оленей, и медведей, и диких индеек, и про охотников – майора де Спейна, дедушкиного двоюродного брата, и старого генерала Компсона, и двоюродного прадеда Карозерса Эдмондса, и дядю Айка Маккаслина, которому сейчас девяносто лет, и Буна Хогганбека, у матери которого была мать индианка, и негра Сэма Фазерса, чей отец был вождем индейского племени, и старую одноглазую охотничью мулицу Алису, не боявшуюся даже медвежьего духа, и он подумал, что если на самом деле человек – это совокупность всех качеств, заложенных в его предках, то очень жаль, что его предки, пустившие в нем ростки тайного гробозора деревенских кладбищ, не позаботились снабдить его потомком этой бесстрашной одноглазой мулицы, чтобы возить его мертвую кладь.
– Не знаю, – сказал он.
– Может быть, он еще научится к тому времени, как нам ехать обратно, – сказала мисс Хэбершем. – Алек Сэндер умеет вести машину?
– Да, мэм, – сказал Алек Сэндер.
Хайбой все еще был неспокоен; если его сейчас придержать, то он просто будет горячиться без толку, а так как ночь была прохладная, он первую милю пустил его во весь опор и ехал, не теряя из виду задних огней пикапа. Затем он сбавил ход – огни стали удаляться, слабеть и вскоре исчезли за поворотом. Тогда он пустил Хайбоя тем шаркающим аллюром, полурысью-полушагом, который на бегах не удовлетворил бы ни одного судью, хотя и пожирал расстояние; ехать надо было девять миль, и он с каким-то угрюмым изумлением подумал, что наконец-то у него есть время подумать, только теперь уже поздно думать, никто из них троих сейчас и не смеет думать, и если им хоть что-то удалось сегодня, так это отбросить раз навсегда, оставить позади всякие размышления, рассуждения, рассмотрения; только пять миль отъехать от города, и он переедет (а мисс Хэбершем с Алеком Сэндером в машине уже переехали) невидимую землемерную черту – границу Четвертого участка, знаменитого, почти легендарного; и уж что-что, но, конечно, думать сейчас не решится никто из них, зная, как заехавшему сюда чужому человеку ничего не стоит попасть впросак и восстановить против себя Четвертый участок сразу двумя вещами, потому что Четвертый участок уже заранее восставал чуть ли не против всего, на что осмеливались приезжие из города (и если уж на то пошло, то и из любой части округа); и вот им-то – шестнадцатилетнему белому юнцу, и негру, подростку одних с ним лет, и белой старой женщине, семидесятилетней деве, – и выпало на долю из всего того, что можно придумать, изобрести, выбрать и совершить, сразу два самых страшных дела, за которые Четвертый участок потребует жесточайшей расплаты: вскрыть могилу одного из их родичей, чтобы спасти от возмездия негра-убийцу.
Но хоть по крайней мере у них будет какое-то предупреждение (не задумываясь, кому какой толк от этого предупреждения, когда те, кого следовало предупредить, уже сейчас в шести или семи милях от тюрьмы и удаляются от нее так быстро, как он только решается пустить лошадь), потому что если Четвертый участок собирается туда сегодня ночью, то скоро они будут попадаться ему навстречу (или он им) – старые, облепленные грязью машины, пустые грузовики для перевозки леса и скота, верховые на лошадях и мулах. Однако пока что он никого не встретил, с тех пор как выехал из города: пустая дорога, белея, тянулась впереди и позади него, неосвещенные дома и хижины ютились, припав к земле, или смутно громоздились по сторонам, темные поля простирались далеко в темноту, пронизанную запахом вспаханной земли, и время от времени густой аромат цветущих садов наплывал на дорогу, и он проезжал сквозь него, словно сквозь нависшие клубы дыма, так что, может статься, все для них складывается даже лучше, чем он мог надеяться, и, прежде чем он успел себя остановить, он подумал: Может быть, мы и сможем, может, нам все-таки удастся, – прежде чем он успел вспомнить, схватить, задушить, потушить эту мысль, не потому, что он не мог на самом деле поверить, что им может удаться, и не потому, что ты не смеешь до конца доверить целиком даже и самому себе заветную надежду или желание, да еще когда оно вот так висит на волоске – этим ты сам же и обречешь его, – но потому, что высказать его словами хотя бы самому себе – это все равно что чиркнуть спичкой, которая не разгонит мрака, а только осветит его ужас – слабая вспышка сверкнет и обнажит на секунду необратимое, непримиримое зияние пустынной дороги и темных пустынных полей.
Потому что – ну вот уже почти и доехал; Алек Сэндер и мисс Хэбершем, наверно, уже полчаса как там, и он на секунду подумал, догадался ли Алек Сэндер поставить пикап так, чтобы его не было видно с дороги, и тут же одернул себя – ну конечно, Алек Сэндер это сделал, и не в Алеке Сэндере он усомнился, а в самом себе, если он хоть на секунду мог усомниться в Алеке Сэндере, – ведь с тех пор, как он выехал из города, он не видел ни одного негра, тогда как в это время, в воскресный майский вечер, дорога ну просто сплошь унизана ими: мужчины, женщины, молоденькие девушки, даже иной раз старики и старухи и даже дети – пока еще не очень поздно, – но большей частью мужчины, молодые парни, которые всю неделю с утра понедельника вгрызались в расступающуюся землю плугом, взрезая и выворачивая пласт, шагая за выбивающимися из сил, надрывающимися мулами, а потом в субботу к полудню, вымывшись и побрившись, надевали чистые праздничные рубашки и брюки и до поздней ночи разгуливали по пыльным дорогам, и весь день в воскресенье и чуть ли не всю ночь напролет так и не переставали гулять, пока только и оставалось время попасть домой переодеться в рабочий комбинезон и грубые башмаки, поймать, запрячь мулов и после сорока восьми часов на ногах – разве что повезло и прилег ненадолго с женщиной – снова, едва рассветет – в поле, вгрызаться лемехом плуга в новую борозду; но не сейчас, не сегодня вечером, когда и в городе, если не считать Парали и Алека Сэндера, он за целые сутки не видел ни одного негра; но к этому он был готов, они вели себя именно так, как и следовало ожидать; и негры, и белые одинаково считали, что так они и должны вести себя в такое время; они были все тут, они никуда не сбежали, вы просто не видели их – чувствуя, ощущая их постоянное присутствие, их близость, – черные мужчины, женщины, дети жили в ожидании в своих наглухо закрытых домишках, не пресмыкаясь, не съеживаясь, не притаившись, не в гневе и даже не в страхе, просто пережидая, выдерживая, ибо их оружие, с которым белому не потягаться и – если бы он только понимал это – не совладать: терпение; просто убраться с глаз, убраться с дороги; но не здесь – здесь нет этого ощущения смежного с тобой множества, чернокожего человеческого присутствия, выжидающего и невидимого; этот край был пустыней и свидетелем, эта безлюдная дорога – подтверждением того (пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, как далеко он зашел: мальчик из провинциальной глуши Миссисипи, который еще сегодня на заходе солнца, казалось, – да он и сам так считал, если хоть сколько-нибудь об этом думал, – был несмышленым младенцем, спеленатым в давних традициях своего родного края, или даже просто безмозглым плодом, вырывающимся из чрева – если бы он только знал, что такое родовые потуги, – слепым, бесчувственным и даже еще не очнувшимся в легкой безболезненной судороге появления на свет), что весь он сейчас повернулся умышленно, словно единой спиной всего темнокожего народа, на котором зиждилась самая экономика этого края, не в раздражении, не в гневе и даже не в огорчении, но в едином, необратимом, непреклонном отречении – не к расовому унижению, а к человеческому сраму.
Вот он уже и здесь; Хайбой подтянулся и даже после девяти миль прибавил немного шаг, почуяв воду, и теперь он уже мог разглядеть, различить мост или хотя бы более светлый проем в темноте, там, где дорога пересекала непроницаемую мглу ивняка, сбегающего с обеих сторон к рукаву реки, и тут Алек Сэндер выступил из-за перил моста; Хайбой фыркнул на него, а тогда и он его узнал, не удивившись, не вспомнив даже, как он когда-то подумал, сообразит ли Алек Сэндер спрятать пикап, не вспомнив даже и того, что он в этом и не сомневался; не останавливаясь, осадил Хайбоя, чтобы шагом переехать мост, затем, ослабив поводья, позволил ему свернуть с дороги за мостом и спуститься осторожно, рывками, не сгибая передних ног, к воде, невидимой еще секунду, но вот уже и он увидел сверкнувшую гладь, в которой отражалось небо; но тут Хайбой остановился и снова зафыркал, потом вдруг стал на дыбы, отпрянул и чуть не выбросил его из седла.
– Это он зыбучий песок чует, – сказал Алек Сэндер. – Пусть обождет, дома напьется. Я бы тоже хотел чего-нибудь другого, а не того, что сейчас.
Но он направил Хайбоя чуть-чуть подальше по берегу, где можно было спуститься к воде, и опять Хайбой только фыркнул и шарахнулся в сторону, так что он тут же повернул обратно на дорогу и вытащил ногу из стремени для Алека Сэндера; Хайбой уже шел рысью, когда Алек Сэндер закинул ногу.
– Здесь, – сказал Алек Сэндер, но он уже повернул Хайбоя с шоссе на узкую грунтовую дорогу, круто заворачивавшую к черной гряде холмов и чуть ли не сразу начинавшую медленно ползти вверх, но прежде даже, чем они начали подниматься, на них дохнуло сильным, стойким сосновым духом, который напирал на них, не подгоняемый ветром, плотный, крепкий, почти как рука, – двигаясь ему навстречу, вы осязали его всем телом, словно входили в воду. Подъем становился круче, и лошадь, несмотря на двойную ношу, пыталась взять его галопом, как она обычно делала на подъеме, и она уже было пустилась вскачь, но он круто осадил ее, но и потом ему пришлось удерживать ее, намотав на руку поводья; она шла порывистым, тряским, неровным шагом, пока первый уступ холма не перешел в плато, и тут Алек Сэндер снова сказал: – Здесь. – И мисс Хэбершем, с заступом и киркой, выступила из темноты сбоку.
Алек Сэндер соскользнул вниз, и Хайбой остановился. Он тоже соскочил.
– Ты не слезай, – сказала мисс Хэбершем. – Кирка с лопатой у меня и фонарь тоже.
– Еще полмили осталось, и все в гору, – сказал он. – Это не дамское седло, но, может быть, вы сможете сесть боком. Где пикап? – спросил он Алека Сэндера.
– Вон там, за кустами, – сказал Алек Сэндер. – Мы ведь не выставляться приехали. Уж, во всяком случае, не я.
– Нет-нет, – сказала мисс Хэбершем. – Я могу дойти.
– Мы сэкономим время, – сказал он. – Сейчас, верно, больше десяти. Он смирный. Это тогда просто потому, что Алек швырнул заступ с киркой.
– Ну конечно, – сказала мисс Хэбершем. Она протянула Алеку Сэндеру кирку и заступ и подошла к лошади.
– Мне жаль, что это не… – сказал он.
– Ха, – усмехнулась она и, взяв у него из рук поводья прежде даже, чем он успел подставить ей руку для ноги, она сунула ее в стремя и ловко и легко – не хуже, чем он сам или Алек Сэндер, – уселась верхом, так что он только успел отвернуться, чувствуя на себе ее взгляд в темноте, когда поворачивал голову. – Ха, – снова усмехнулась она. – Мне семьдесят лет. А юбка моя – что о ней сейчас беспокоиться, у нас с вами дела поважнее.
И она повернула Хайбоя на дорогу, и он только успел схватить его под уздцы, как Алек Сэндер сказал:
– Шшш! – Они остановились, застыв в медленно струившемся на них невидимом потоке стойкого соснового духа. – На муле кто-то сверху едет, – сказал Алек Сэндер.
Он сразу начал поворачивать лошадь.
– Я ничего не слышу, – сказала мисс Хэбершем. – Ты уверен?
– Да, мэм, – ответил он, повернув Хайбоя прочь с дороги, – Алек Сэндер не ошибется. – И, стоя у самой головы Хайбоя среди деревьев и поросли, приложив другую руку к ноздрям лошади на случай, если бы ей вздумалось заржать, когда другая будет проходить мимо, он тоже услышал на дороге мула или коня, явно приближающегося сверху. Животное, по всей вероятности, было неподкованное; по правде сказать, единственный звук, который он на самом деле слышал, было поскрипывание стременных ремней, и он удивился, как Алек Сэндер услышал это (ни секунды не сомневаясь, что он слышал) еще за две с лишним минуты до того, как животное приблизилось к ним. Затем он увидел его или, вернее, то место, где оно прошло мимо них, – какой-то комок, движение более темного тела, чем тень на бледной грязи дороги, скользящего вниз по склону, мягкий мерный шорох и скрип ремня, затихающие вдали – и стихшие. Но они подождали еще минуту.
– Что это он такое вез поперек седла, прямо перед собой? – спросил Алек Сэндер.
– Я даже не мог разглядеть, сидел там человек или нет, – сказал он.
– Я ничего не видела, – сказала мисс Хэбершем. Он вывел лошадь обратно на дорогу. – А что, если… – сказала она.
– Алек Сэндер услышит, – сказал он.
И вот опять Хайбой сильным и быстрым шагом стремится одолеть крутизну, он с киркой в руке, ухватившись за стременной ремень под тощей и жесткой икрой мисс Хэбершем с одной стороны, а Алек Сэндер с заступом – с другой, подымаются очень быстро, чуть ли не бегом сквозь крепкий, живой, пьянящий, сильный сосновый дух, который вытворяет что-то такое с легкими и с дыханием (так он представлял себе – он никогда не пробовал. А мог бы – глоток из чаши святых даров не в счет, потому что это был не просто глоток, а кислый, освященный, едкий – бессмертная кровь Господня, ее не пробуют, она идет не вниз, к желудку, а вверх и вовне, во Всеведение между добром и злом, выбором, отречением и приятием на веки вечные, – за обедом в День благодарения и на Рождество, – но никогда не хотел), как вино с желудком. Они теперь были очень высоко, холмистый край, открываясь, проваливался куда-то, невидимый в темноте, но вас уже переполняло ощущение высоты и простора; днем он мог видеть, как увал за увалом, густо поросшие сосной, уходят на восток и на север, точно настоящие горы в Каролине, а до нее еще в Шотландии, откуда вышли его предки (он-то ее еще не видел); у него немножко перехватывало дыхание, и он не только слышал, но и чувствовал частые жесткие хрипы, вырывавшиеся из легких Хайбоя, когда он порывался взбежать и на эту кручу с всадницей на спине, да еще волоча двоих; мисс Хэбершем сдерживала и осаживала его, пока они не поднялись на самый гребень, и Алек Сэндер еще раз сказал: «Здесь», а мисс Хэбершем повернула лошадь с дороги, потому что, пока они не свернули, ничего не было видно, и только теперь он различил вырубку, не потому, что это была вырубка, а потому, что в скудно сочившемся звездном свете торчала, слегка покосившись набок, там, где осела земля, узкая плита мраморного надгробья. А часовню (облезлую, некрашеную, деревянную, ну, чуть побольше каморки) почти и совсем не было видно, когда он повел Хайбоя кругом, чтобы укрыть его за ней, и, привязав его к молодому деревцу, отстегнул путы с кольца узды и вернулся обратно, туда, где его дожидались мисс Хэбершем и Алек Сэндер.
– Это единственная свежая могила, – сказал он. – Лукас говорил, что с прошлой зимы здесь никого не хоронили.
– Да, – сказала мисс Хэбершем. – И еще цветы. Вон, Алек Сэндер уже нашел.
Но чтобы убедиться (он тихо молил, сам не зная кого: Я наделаю еще массу ошибок, но дай только, чтобы не эту), он прикрыл электрический фонарик скомканным носовым платком, так что только один тоненький быстрый лучик осветил на миг свежий холм со скудно разбросанными на нем венками, букетами и даже отдельными цветками и в следующий миг – соседнее надгробье, на котором он только успел прочесть выгравированную надпись: «Арманда Уоркитт, супруга Н.-Б. Форреста Гаури, 1878–1926», и тут же погасил фонарь, и снова разлилась темнота и крепкий сосновый дух, и они еще минуту стояли у свежего могильного холма, все еще ни за что не принимаясь.
– Страшно приступиться, – сказала мисс Хэбершем.
– Не вам одной, – сказал Алек Сэндер. – А до пикапа всего полмили. Да под гору.
Она двинулась первая.
– Сними цветы, – сказала она. – Осторожно. Тебе видно?
– Да, мэм, – сказал Алек Сэндер. – Их тут немного. Похоже, набросали кое-как.
– А мы не будем бросать, – сказала мисс Хэбершем. – Снимай осторожно.
Наверно, теперь уже было около одиннадцати; они не успеют; Алек Сэндер был прав: надо было вернуться к машине, убраться отсюда, уехать обратно в город и прямо через город дальше, ехать не останавливаясь, чтобы некогда было даже думать, все ехать, ехать, править, следить, чтобы пикап не застревал, ехать не останавливаясь и уж не возвращаться; но ведь у них все равно не было времени, и они знали это еще до того, как выехали из Джефферсона, и на секунду у него мелькнуло, как бы это было, если бы Алек Сэндер по правде так и сделал, когда сказал, что не поедет, и как бы он тогда поехал один, и тут же (быстро) – нет, он не будет об этом думать; сначала Алек Сэндер взялся копать заступом, а он пустил в ход кирку, хотя земля была все еще такая рыхлая, что, в сущности, в кирке не было даже и надобности (а если бы она не была такая рыхлая, они бы ничего не могли сделать даже и днем); с двумя заступами они управились бы куда скорее, но что же, теперь уже поздно жалеть; и вдруг Алек Сэндер сунул ему заступ, а сам вылез из ямы и исчез (даже без фонарика) и, ориентируясь только с помощью того чутья, превосходящего и зрение и слух, которое подсказало ему, что Хайбой тогда, у ручья, почуял зыбучий песок, и обнаружило мула или коня, спускавшегося по склону, на минуту с лишним раньше, чем он или мисс Хэбершем начали что-то слышать, вернулся с легкой короткой доской, так что теперь у них обоих были лопаты, и ему было слышно сначала «хлюп», а потом свистящий шорох, когда Алек Сэндер втыкал доску в землю, а потом, подхватив пласт, поднимал и швырял его наверх и всякий раз, шумно выдыхая, издавал хриплое «ха», и этот яростный, злобный, сдавленный звук вырывался у него все чаще и чаще и наконец стал почти таким же частым, как пульс или стук сердца, когда бежишь, – «ха!.. ха!.. ха!..», так что он сказал ему через плечо:
– Ты полегче. Мы успеем. – И, выпрямившись на секунду, чтоб утереть потное лицо, увидел над собой, как и раньше, мисс Хэбершем – неподвижный силуэт на фоне неба, в прямом ситцевом платье и круглой шляпке на самой макушке, – такую за последние пятьдесят лет немногие видели и уж, наверно, никто никогда не видел и не увидит из наполовину разрытой могилы, больше чем наполовину, потому что, начав снова копать, он вдруг услышал стук дерева о дерево, и Алек Сэндер сказал резко:
– А ну, уходи отсюда, не мешайся тут. – И, швырнув доску вверх, выдернул у него из рук заступ, и он вылез из ямы и только успел нагнуться и пошарить рукой около себя, как мисс Хэбершем протянула ему свернутую кольцом веревку.
– И фонарик, – сказал он. И она подала ему и это тоже, и он постоял немного, пока плотный, крепкий, неподвижный сосновый дух не очистил его тело от пота, и по спине у него пробежал холодок от взмокшей рубахи, а внизу, в яме, невидимая ему лопата скребла и скрежетала по дереву, и, нагнувшись и опять заслонив фонарь, он мигнул им, осветив некрашеную крышку соснового гроба. – Хорошо, – сказал он. – Хватит. Вылезай.
И Алек Сэндер, подхватив последние остатки земли, вышвырнул их наверх вместе с заступом, так что он вылетел, как копье, и сам выскочил вслед за ним одним прыжком, а он с веревкой и фонариком спрыгнул в яму и только тут вспомнил, что ему понадобится молоток, лом – что-нибудь, чем открыть крышку, а если что-то такое и можно найти, так только у мисс Хэбершем в пикапе за полмили отсюда, и потом еще обратно в гору, и, нагнувшись, пощупать винт, или гвоздь, или что там придется вытаскивать, увидел, что крышка вовсе даже и не закреплена; тогда, перекинув ногу через гроб и удерживаясь на одной ноге, он ухитрился приподнять крышку и сдвинуть ее за конец, щелкнул фонариком, посветил вниз и сказал: «Постой». Он сказал: «Постой». И все еще повторял: «Постой», и, только когда услышал свистящий шепот мисс Хэбершем: «Чарльз… Чарльз…»:
– Это не Винсон Гаури, – сказал он. – Этого человека зовут Монтгомери. Это такой скупщик леса, нездешний, из округа Кроссмен[120].
Глава пятая
Конечно, им пришлось снова засыпать могилу, и, кроме того, он же ехал на лошади. Но все равно было еще далеко до света, когда он оставил Хайбоя Алеку Сэндеру у ворот на выгон и, стараясь помнить, что надо идти на цыпочках, пробрался в дом, но едва только он открыл входную дверь, как на него тут же в ночной рубашке, с распущенными волосами накинулась с воплем мама: «Где ты был?» – и бросилась за ним к двери дядиной комнаты и, пока дядя надевал на себя что-то: «Ты? Разрывал могилу?» – а он, с каким-то усталым, но неослабевающим терпением и уже сам почти совсем выдохшись после всей этой езды и рытья и потом снова в обратном порядке – зарывания и снова езды, все еще как-то старался оттянуть, отдалить то, от чего он, по правде сказать, вовсе и не надеялся уйти:
– Алек Сэндер и мисс Хэбершем помогали.
Но это как будто только ухудшило дело, хотя она все еще не повышала голоса, просто была ошеломлена и не давала подступиться к себе, пока дядя не вышел из спальни совершенно одетый, даже в галстуке, только небритый, и сказал:
– Ты что, Мэгги, хочешь разбудить Чарли?
И тогда она пошла за ними к выходу и уже у дверей сказала, – и он опять подумал, как с ними никогда нельзя сладить из-за какой-то их увертливости, и это не просто такое свойство подвижности, но готовность покинуть с невесомой скоростью ветра или самого воздуха не только свою позицию, но и принцип: вам даже не надо и мобилизовать свои силы – они у вас все здесь, наготове – и огневое превосходство, и право, и справедливость, и уроки прошлого, и опыт, и обычай – все за вас, и вы бросаетесь в атаку, обрушиваетесь, сметаете все на своем пути – или так вам кажется до тех пор, пока вы не обнаруживаете, что враг даже и не отступал вовсе, а уж давно покинул поле, и не просто покинул, а захватив, присвоив себе ваш же боевой клич; вы думали, вы завладели крепостью, а вместо этого, оказывается, вы просто вступили на никем не занятую позицию и потом узнаете, что никем не отраженный и даже совсем непредвиденный бой уже завязался в вашем незащищенном и ничего не подозревающем тылу:
– Но ему же надо спать! Он даже не ложился совсем!
И он уже остановился и стоял, пока дядя не заговорил, не зашипел на него:
– Иди же. Ну, что ты стал? Ты что, не знаешь, что она напористей, чем ты и я оба вместе, так же как вот старуха Хэбершем оказалась напористее, чем вы с Алеком Сэндером; ты-то, может быть, еще и решился бы поехать без того, чтобы она тебя потащила за руку, но Алек Сэндер – никогда, да и за тебя я, по правде сказать, не ручаюсь, не уверен, как бы ты, когда до дела дошло… – И тут он зашагал рядом с дядей, и они подошли к пикапу мисс Хэбершем, который стоял позади дядиной машины (она была в гараже вчера в девять вечера; потом, когда будет время, не забыть спросить дядю, куда его посылала мама разыскивать его). – Беру свои слова обратно, – сказал дядя. – Забудь, что я говорил. Устами младенцев, и сосунков, и старух…[121] – перефразировал он. – Что правда, то правда, и так вот нередко правду и узнаешь, только не очень приятно, когда тебе ее в три часа ночи прямо в лицо швыряют. И потом, не забудь еще свою мамочку, на что ты, конечно, и не способен – об этом она уже давно позаботилась. Запомни только, что они могут вынести все, признать любой факт (это только мужчины увиливают от фактов) при условии, что им не придется столкнуться с ним лицом к лицу; они могут принять его, отвернув голову и вытянув назад одну руку – как политикан, когда берет взятку. Ты посмотри на нее; она может прожить благополучно и счастливо долгую жизнь, но в своем нежелании простить тебе, что ты уже дорос до того, что сам можешь застегивать себе штаны, – в этом она никогда ни на йоту тебе не уступит.
И все еще было далеко до света, когда дядя остановил машину у ворот дома шерифа и они пошли по дорожке к крыльцу и поднялись на веранду дома, который он снимал. (Поскольку он не мог сам себе передавать полномочия, то, хотя он прошел на выборах теперь уже третий раз, время перерывов от одного переизбрания до другого было почти вдвое больше его двенадцатилетней службы. Он был из крестьянской семьи, фермер, сын фермера, когда его выбрали первый раз, а теперь и ферма и дом, где он родился, стали его собственными; в городе он снимал дом и жил в нем все время, пока состоял на своем посту, но каждый раз, когда срок его службы истекал, он возвращался к себе на ферму и жил там до тех пор, пока снова мог выставить свою кандидатуру, и его снова выбирали – в шерифы.)
– Надеюсь, что он спит не так, что его не добудишься, – сказала мисс Хэбершем.
– Он не спит, – сказал дядя. – Он готовит себе завтрак.
– Готовит завтрак? – сказала мисс Хэбершем, и тут он увидел, что, несмотря на свою прямую спину и эту шляпку, которая, ни разу не шелохнувшись, не сдвинувшись, сидела прямо на самой макушке, будто не приколотая булавкой, а просто от такой неподвижно устойчивой посадки шеи, как у негритянок, которые носят на голове всю многосемейную стирку, она совсем обессилела от перенапряжения и от этой ночи без сна.
– Он деревенский человек, – сказал дядя. – Для него всякая еда с утра, как только рассветет, – настоящий обед. Миссис Хэмптон сейчас в Мемфисе у дочери, которая вот-вот родит, а единственная женщина, которая станет готовить человеку завтрак в половине четвертого утра, – это жена. Ни одна городская кухарка не согласится на это. Она придет в свое время, около восьми, и вымоет посуду. – Дядя не постучался. Он начал было открывать дверь, потом остановился и, оглянувшись, посмотрел мимо них двоих, туда, где у нижних ступенек крыльца стоял Алек Сэндер. – Не думай, что ты увильнешь оттого только, что твоя мама не голосует, – сказал он Алеку Сэндеру. – Иди-ка и ты сюда.
Затем дядя открыл дверь, и на них сразу пахнуло запахом кофе и жареной свинины, и они пошли по линолеуму к слабо пробивавшемуся свету в глубине передней, потом по линолеумовой дорожке через столовую, обставленную старомодной мебелью, взятой напрокат в Грэнд-Рэпидсе, и вошли в кухню, где ярко и весело пылала топившаяся дровами плита, а у плиты над шипящей сковородкой стоял шериф в нижней сорочке, в брюках со спущенными подтяжками, в носках и с всклокоченными после сна волосами, торчащими во все стороны, как у десятилетнего мальчишки, – в одной руке мешалка для теста, в другой – кухонное полотенце. Шериф уже повернул свое громадное лицо к двери, прежде чем они вошли, и он увидел, как его маленькие жесткие светлые глаза скользнули с дяди на мисс Хэбершем, на него и потом на Алека Сэндера, и за эту секунду глаза его не то чтобы расширились, но маленькие твердые черные зрачки сжались на миг до булавочной головки. А шериф все еще ничего не говорил, только уставился теперь на дядю, и теперь маленькие твердые зрачки как будто даже опять расширились – как вот когда переводишь дыхание и перестает теснить в груди, – и в то время, когда все они трое стояли молча, не сводя глаз с шерифа, дядя быстро, сжато и коротко рассказал все с того момента накануне вечером, когда он увидел, что Лукас хочет ему что-то сказать – или, вернее, попросить о чем-то, – и до того, как он десять минут тому назад вошел к дяде в комнату и разбудил его, и, когда он замолчал, они снова увидели, как маленькие жесткие глаза скользнули, мигая – флик, флик, флик, – по их трем лицам и опять уставились на дядю, чуть ли не на двадцать секунд и уже не мигая.
– Вы бы не явились ко мне с эдакими россказнями в четыре утра, если бы это не была правда, – сказал шериф.
– Вы слушаете не только двух шестнадцатилетних мальчишек, – сказал дядя. – Напоминаю вам, что мисс Хэбершем была там.
– Можете не напоминать, – сказал шериф. – Я этого не забыл. И вряд ли когда-нибудь забуду. – И шериф повернулся. Громадный человек, и уже далеко за пятьдесят, никто бы и не подумал, что он может так быстро двигаться, да оно даже как будто и незаметно было, однако он уже успел снять другую сковородку с гвоздя на стене за плитой и уже почти повернулся к столу (где только сейчас он заметил, увидел половину копченого окорока), а казалось, он даже еще и не двинулся, взял большой кухонный нож, лежавший около окорока, и все это прежде, чем дядя успел заговорить:
– Так вот, как мы это успеем? Вам придется ехать за шестьдесят миль в Гаррисберг к районному прокурору и взять с собой мисс Хэбершем и этих мальчиков в качестве свидетелей и постараться убедить его подать ходатайство об эксгумации трупа Винсона Гаури…
Шериф быстро вытер ручку ножа полотенцем.
– Мне кажется, вы сказали, что в этой могиле нет Винсона Гаури.
– Официально он там, – сказал дядя. – По актам гражданского состояния нашего округа он там. И если вы, живя здесь и зная мисс Хэбершем и меня на протяжении всей вашей служебной карьеры, считаете нужным спрашивать меня об этом дважды, как же, по-вашему, отнесется к этому Джим Холладей? Затем вам надо будет ехать шестьдесят миль обратно с вашими свидетелями и этим ходатайством и убедить судью Мэйкокса выдать ордер…
Шериф бросил полотенце на стол.
– А надо ли? – мягко и как-то почти рассеянно бросил он; и тут дядя остановился, не договорив фразы, и уставился на него, а шериф повернулся от стола с ножом в руке.
– А-а! – сказал дядя.
– И вот я еще о чем подумал, – сказал шериф. – Удивляюсь, как вам это не пришло в голову. А может, приходило.
Дядя все смотрел на шерифа. И вдруг Алек Сэндер – он даже не вошел, а стоял позади всех в дверях из столовой в кухню – сказал ровным, безразличным голосом, как будто машинально читая какое-то ловко составленное объявление, рекламирующее что-то, чего у него нет, да вряд ли когда-нибудь и понадобится:
– А может, это и не мул был. Может, это была лошадь.
– Ну, может быть, теперь до вас дошло, – сказал шериф.
– А-а! – сказал дядя. – Д-да-а, – протянул он. Но тут же вмешалась мисс Хэбершем. Она окинула Алека Сэндера быстрым суровым взглядом и теперь снова устремила взгляд на шерифа, такой же суровый и острый.
– И до меня тоже, – сказала она. – И я полагаю, мы как-никак заслужили, чтобы вы тут не секретничали.
– Я тоже так полагаю, мисс Юнис, – сказал шериф. – Да вот только того, с кем надо было это выяснить, – его здесь сейчас нет.
– Ах вот что, – сказала мисс Хэбершем. И сейчас же прибавила: – Ну да. Конечно, – сказала она, уже шагнув, и, поравнявшись с шерифом на полдороге между столом и дверью, взяла у него из рук нож и подошла к столу, а он пошел к двери, и дядя, а потом он и за ним Алек Сэндер – все посторонились, чтобы дать ему пройти, и он вышел, прошел через всю столовую в темную переднюю и закрыл за собой дверь; и он подумал: почему шериф не оделся как следует, как только встал; человеку, который привык, или ему приходится, или почему бы то ни было надо вставать в половине четвертого утра и готовить себе завтрак, казалось бы, ничего не стоило подняться на пять минут раньше и надеть верхнюю рубашку и башмаки, и тут мисс Хэбершем что-то сказала, и он вспомнил о ней; ну конечно, присутствие дамы – вот почему он пошел надеть рубашку и башмаки, даже не позавтракав; мисс Хэбершем что-то говорила, и он вздрогнул и, не двигаясь с места, очнулся – он, наверно, заснул на несколько секунд, а может быть, даже и минут, стоя вот так же, как спит лошадь, но мисс Хэбершем все еще только переворачивала свинину набок, чтобы нарезать, и говорила: – Разве он не может позвонить в Гаррисберг и добиться, чтобы районный прокурор позвонил сюда судье Мэйкоксу?
– Вот он сейчас это и делает, – сказал Алек Сэндер. – По телефону говорит.
– Может быть, тебе прямо пойти в переднюю, и ты оттуда послушаешь, что он говорит, – сказал дядя Алеку Сэндеру. Затем дядя опять перевел взгляд на мисс Хэбершем, и он тоже смотрел, как она режет бекон тоненькими ломтиками, очень быстро, один за другим, почти так же быстро, как режет машина. – Мистер Хэмптон говорит, что мы обойдемся без всяких бумаг. Мы можем справиться с этим сами, не беспокоя судью Мэйкокса.
Мисс Хэбершем выпустила из рук нож. Она не положила его, а просто разжала руку и тем же движением схватила полотенце и, уже вытирая руки, повернулась и пошла к ним от стола через кухню очень быстро, гораздо быстрее даже, чем тогда шериф.
– Тогда чего же мы зря тратим время? – сказала она. – Ждем, когда он наденет пиджак и галстук?
Дядя быстро шагнул ей навстречу.
– Мы ничего не сможем сделать в темноте, – сказал он. – Надо подождать, пока рассветет.
– Мы не ждали, – сказала мисс Хэбершем и остановилась: ничего другого ей не оставалось делать, разве только пойти прямо на дядю, хотя дядя даже и не прикоснулся к ней, просто стоял между ней и дверью, так что ей волей-неволей пришлось остановиться хотя бы на секунду, чтобы он посторонился; и он тоже смотрел на нее, такую прямую, тощую, в прямом ситцевом платье, почти бесформенную под правильным точным кругом шляпки, и думал: Уж очень она старая, не по ней это, и тут же поправил себя: Нельзя, чтобы женщине, леди, приходилось делать такое, – потом вспомнил вчерашний вечер, как он закрыл за собой дверь конторы и вышел во двор и стал высвистывать Алека Сэндера, и он знал, что он тогда был уверен – он и сейчас был уверен, – что поехал бы один, даже если бы Алек Сэндер не передумал и остался, но только после того, как подошла мисс Хэбершем и заговорила с ним, он поверил, что доведет дело до конца, и он опять вспомнил, что сказал ему старик Ефраим после того, как они нашли кольцо под свиным корытом: «Если тебе когда-нибудь понадобится что-нибудь такое, что не всякому объяснить можно, а откладывать нельзя, не трать времени, не суйся к мужчинам: у них, как твой дядюшка говорит, на все постановления да решения. Поди с этим к женщинам, к детям. Они могут и к случаю приноровиться».
Тут дверь из передней открылась. Он услышал, как шериф идет через столовую к кухне. Но шериф не вошел в кухню, а остановился в дверях и стоял не двигаясь даже после того, как мисс Хэбершем спросила суровым, чуть ли не свирепым голосом:
– Ну как?
И он не надел башмаков, и даже не подобрал болтавшихся подтяжек, и как будто даже и не слышал мисс Хэбершем; он стоял, высоченный, загромождая весь проход, и смотрел на мисс Хэбершем, не на шляпу ее, не прямо ей в глаза, даже не в лицо – просто смотрел на нее, как на ряд букв русских или китайских, про которые кто-то, кому вы доверяете, сказал вам, что так пишется ваше имя, и наконец раздумчиво и недоуменно произнес:
– Нет. – Затем, повернув голову, посмотрел на него и сказал: – И не ты тоже. – И еще больше повернул голову, пока не остановился взглядом на Алеке Сэндере, а Алек Сэндер вскинул глаза вверх на шерифа, потом сейчас же отвел их, потом опять вскинул вверх.
– Ты, – сказал шериф. – Вот ты. Ты отправился туда в темноте, чтобы помочь вырыть мертвеца. Да мало того: белого мертвеца, про которого другие белые люди утверждали, что его убил негр. Почему? Потому что тебя мисс Хэбершем заставила?
– Никто меня не заставлял, – сказал Алек Сэндер. – Я даже и сам не знал, что поеду. Я уже сказал Чику, что я не поеду. Только когда мы подошли к пикапу, все как будто считали, что я, конечно, тоже еду, и я даже сам не знаю, как это вышло.
– Мистер Хэмптон, – сказала мисс Хэбершем. И теперь шериф посмотрел на нее. Он даже услышал ее.
– А вы еще не кончили резать бекон, – сказал он. – Дайте-ка мне нож. – Он взял ее под руку и пошел с ней к столу. – Мало вы за сегодняшнюю ночь наездились и изволновались, не пора ли передохнуть? Через каких-нибудь четверть часа уже светать будет, с утра люди линчевать не пойдут. Иной раз, если у них что-нибудь там не вышло, не повезло или они поздно приступили, у них может это затянуться до света. Но приступать к этому при дневном свете они не будут, потому что тогда каждый увидит лицо другого. Вот тут по два яйца каждому. Кому больше?
Они оставили Алека Сэндера с его завтраком за столом в кухне, а свои понесли в столовую – он, дядя и мисс Хэбершем несли миску с яйцами, бекон и сухарницу со сдобными булочками, испеченными вчера вечером, но разогретыми в печке, так что они стали вроде как поджаренные, и кофейник, в котором непроцеженная гуща кипела вместе с водой до тех пор, пока шериф не догадался снять его с жаркого места плиты и отставить в сторону; их было четверо, хотя шериф поставил пять приборов, и только они сели за стол, как шериф поднял голову и прислушался – хотя он ничего не слышал, – потом встал и пошел в темную прихожую и в заднюю половину дома, и он услышал, как стукнула дверь у черного входа, и потом шериф пришел обратно и с ним Уилл Легейт – только без ружья, и он повернул голову поглядеть позади себя в окошко, и правда, уже светало.
Шериф раздавал тарелки с едой, а дядя и Легейт подставляли мисс Хэбершем под кофейник чашки – свои и шерифа. Потом вдруг ему показалось, будто он уже давно слышит откуда-то издалека голос шерифа: «Мальчик… мальчик… – И потом: – Разбудите его, Гэвин. Заставьте его съесть завтрак, прежде чем он заснет»; и он вздрогнул, и все еще только светало, мисс Хэбершем наливала кофе все в ту же чашку, и он стал есть и, жуя и даже глотая, как будто поднимался и падал, в том же мерном темпе, как жевал, в глубокую мягкую трясину сна и в смутные голоса, пережевывавшие что-то давнишнее, конченое и уже не касающееся его; голос шерифа:
– Вы знаете Джека Монтгомери из округа Кроссмен? Кажется, он последние полгода частенько сюда к нам наведывался.
И голос Легейта:
– Как же. Ворованный лес скупает. Когда-то держал харчевню под вывеской ресторана у самой границы штата Теннесси, на выезде из Мемфиса, только я не слыхал, чтобы кто-нибудь там мог поесть или купить что-либо съедобное, а потом как-то раз ночью там человека пристукнули, года два-три тому назад. Правда, так и не дознались, был ли к этому делу хоть сколько-нибудь причастен Джек, но полиция штата Теннесси выпроводила его обратно в штат Миссисипи просто так, порядка ради. С тех пор он, кажется, у отца околачивается на ферме, где-то под Глазго. Может быть, выжидает, пока люди забудут про то дело и он опять сможет открыть харчевню где-нибудь на езжем месте, эдакий кабак с подполом, чтобы можно было упрятать ящик с виски.
– А здесь у нас чем он промышлял? – спросил шериф.
И опять Легейт:
– Лес покупал как будто… Да не он ли это с Винсоном Гаури… – И с какой-то неуловимой интонацией: – Промышлял?.. – И потом без всякой интонации: – Чем промышляет?
И на этот раз его собственный голос, безразличный, совсем уже на краю глубокой, мягкой впадины сна, и безразлично, вслух он это сказал или нет:
– Он теперь ничем не промышляет.
Но потом стало полегче, из душного жаркого дома снова на воздух, и солнце мягкой, высокой и ровной золотистой струей скользит по самым верхушкам деревьев, золотит недвижно повисший толстый столб воды городского фонтана, вытянувшего паучьи лапы на синеве неба, и снова они вчетвером в дядиной машине, а шериф стоит, нагнувшись к окошку у руля, уже совсем одетый, даже в ярком, оранжевом с желтым, галстуке и говорит дяде:
– Вы отвезите сейчас мисс Юнис домой, она еще может поспать. А я заеду за вами, скажем, через час.
Мисс Хэбершем на переднем сиденье рядом с дядей только и сказала: «Ха». И все. Она не накинулась на него. В этом не было надобности. Это было гораздо более внушительно и непререкаемо, чем если бы она стала его ругать. Она перегнулась через дядю к шерифу:
– Садитесь в вашу машину и отправляйтесь в тюрьму или куда там следует, чтобы достать кого-то, кто будет копать! Потому что нам пришлось засыпать могилу, мы знали, что вы нам не поверите, пока не увидите все как есть сами, на месте. Ступайте, – сказала она. – Мы вас там встретим. Поезжайте.
Но шериф не двинулся. Ему слышно было, как он дышит, широко, глубоко, медлительно, словно как бы вздыхая.
– Я, конечно, не знаю, – сказал шериф, – может статься, леди, у которой только и есть что две тысячи цыплят, которых надо кормить, поить и выхаживать, да какой-то там огород в пять акров, ей, конечно, и нечего делать. Но этим мальцам надо идти в школу. Я по крайней мере не слышал, чтобы школьный совет ввел такие правила, по которым школьникам разрешается пропускать занятия, чтобы трупы выкапывать.
На это даже она промолчала. Но она все еще не откинулась на сиденье. Она сидела, наклонившись вперед, чтобы дядя не заслонял шерифа, и он опять подумал: Уж очень она старая для этого, нельзя ей этого делать; только если бы не она, тогда ему и Алеку Сэндеру – а ведь и она, и дядя, и шериф, все трое, и мама, и папа, и Парали тоже говорят про них «дети», – так вот, им пришлось бы взяться за это самим, и справились бы они с этим или нет, а взяться пришлось бы не ради того даже, чтобы соблюсти справедливость или там порядочность, а чтобы оградить невиновного, и он представил себе человека, которому, по-видимому, надо было убить другого человека не по какой-то причине или там поводу, а просто у него такая потребность, жажда убить ради того, чтобы убить, а потом он придумывает, сочиняет причину или повод, чтобы ему можно было жить среди людей и считаться разумным существом; кому бы там ни понадобилось убить Винсона Гаури, ему пришлось потом вырыть его мертвого и убить другого, чтобы положить на его место в могилу, чтобы тот, кому надо убивать, мог передохнуть; а родным и друзьям Винсона Гаури надо убить Лукаса или еще кого-нибудь, все равно кого, и только тогда они могут лечь спать, и дышать спокойно, и даже погоревать спокойно, и на этом успокоиться. Голос шерифа звучал теперь мягко, почти ласково:
– Поезжайте домой. Вы с этими мальчиками сделали хорошее дело. Почти наверняка жизнь спасли. А теперь поезжайте домой и предоставьте нам все это до конца довести. Там будет совсем не место для леди.
Но мисс Хэбершем просто прервала, да и то ненадолго:
– Вчера там было не место для мужчин.
– Подождите, Хоуп, – вмешался дядя. Дядя повернулся к мисс Хэбершем. – Для вас есть дело в городе, – сказал он. – Не понимаете?
Теперь мисс Хэбершем смотрела на дядю, но она все еще сидела вполоборота, не откинувшись на спинку сиденья, и пока еще не думала сдаваться – смотрела, выжидая, и как будто вовсе даже и не сменила одного противника на другого, а без всякого колебания или запинки приняла бой с обоими, не прося пощады, не бахвалясь.
– Уилл Легейт – фермер, – продолжал дядя. – Кроме того, он просидел там всю ночь. Ему надо пойти домой, у него свои дела есть.
– Неужели у мистера Хэмптона других помощников нет? – сказала мисс Хэбершем. – Для чего же их держат?
– Так ведь это просто сторожа с ружьями, – сказал дядя. – Легейт сам говорил нам с Чиком вчера вечером, что, если найдется достаточно людей, которые решатся на такое дело и захотят настоять на своем, они все равно прорвутся, несмотря на него и Таббса. Но вот если женщина, леди… белая леди… – Дядя остановился, замолчал: они вперились друг в друга, и, глядя на них, он опять вспомнил дядю и Лукаса в камере вчера вечером (вчера вечером, конечно, а как будто годы прошли); и опять ему показалось (только сейчас дядя и мисс Хэбершем действительно уставились друг другу в глаза, а не впивались друг в друга с тем сверхчеловеческим напряжением всех чувств, в совокупности которых какое-то одно жалкое, сбивчивое, обычное человеческое восприятие вряд ли значит больше, чем умение разбирать санскрит), будто перед ним два последних оставшихся игрока в покер разыгрывают банк. – Просто будет сидеть там на виду, так что первый, кто пройдет мимо, успеет раззвонить об этом задолго до того, как на Четвертом участке заправят машины, чтобы в город ехать… а мы тем временем успеем добраться туда и разделаемся с этим, покончим раз и навсегда…
Мисс Хэбершем откинулась назад медленно, пока не прислонилась к спинке сиденья.
– Значит, я должна сидеть там на лестнице, раскинув веером юбки, – сказала она, – или, может, даже лучше – прислонившись спиной к перилам и упершись ногой в стенку кухни миссис Таббс, пока вы, мужчины, которые не удосужились вчера задать этому старику негру несколько вопросов, так что ему вечером не к кому и обратиться было, кроме как к мальчику, к ребенку… – Дядя промолчал. Шериф стоял, нагнувшись к окошку, дыша широкими, глубокими вздохами, не то чтобы тяжело, но просто, должно быть, как надо дышать такому громадному человеку. – Везите меня сначала домой, – сказала мисс Хэбершем. – У меня там набралась кой-какая починка. Не буду же я сидеть полдня без всякого дела, чтобы миссис Таббс подумала, что ей надо меня разговорами занимать. Везите меня сначала домой. Я уже час тому назад поняла, как вам с мистером Хэмптоном не терпится поскорей с этим разделаться, но на это вы все-таки можете выкроить время. Алек Сэндер может пригнать мою машину к тюрьме по дороге в школу и оставить ее у ворот.
– Есть, мэм, – сказал дядя.
Глава шестая
Итак, они повезли мисс Хэбершем к ней домой, на окраину города, и через запущенную, косматую можжевеловую рощу подъехали к некрашеному портику с колоннадой; здесь она вышла из машины и пошла в дом и, по-видимому, даже и не останавливаясь – на черное крыльцо, потому что они сейчас же услышали откуда-то из-за дома, как она кричит на кого-то – должно быть, на старого негра, брата Молли и шурина Лукаса – громким, срывающимся голосом, немножко осипшим от усталости и оттого, что она не спала ночь; затем она вышла с большой картонкой в руках, набитой чем-то вроде выстиранного неглаженого белья и длинных мягких тряпочек и скрученных чулок, и снова уселась в машину, и они поехали обратно к Площади по чистым тихим утренним улицам; большие старые деревянные обветшалые дома времен основания Джефферсона, укрывшиеся среди заросших, запущенных газонов, среди старых деревьев и переплетающихся корнями благоухающих цветущих кустарников (названия которых мало кто знает из жителей моложе пятидесяти лет), кажутся до сих пор – даже если в них и живут дети – обиталищем каких-то призрачных теней женщин, престарелых девиц и вдов, которые и сейчас, семьдесят пять лет спустя, все еще ждут запаздывающих телеграфных известий о битвах в Теннесси, Виргинии и Пенсильвании; дома эти теперь уже не глядят на улицу, а заглядывают через плечи послезавтрашних новеньких, маленьких, чистеньких одноэтажных домиков, спроектированных в Калифорнии и Флориде и поставленных, вместе с подобающим каждому из них гаражом, на аккуратном участке с подстриженной травой и унылыми цветочными клумбами, по три и четыре домика на участок – такое дробное деление двадцать пять лет тому назад показалось бы несколько мелковатым для одной приличной подъездной площадки перед фасадом; там живут молодые процветающие супруги, у каждой четы двое детей (как только они могут себе это позволить), у каждой своя машина, все они члены местного клуба, и клуба, где играют в бридж, и Ротари-клуба[122], и коммерческого клуба, у каждого патентованные электрические приборы для стряпни, и охлаждения, и чистки, и опрятные щеголеватые цветные горничные в наколках, которые орудуют этими приборами, звонят по телефону друг дружке из дома в дом, болтают в то время, как жены, в сандалиях и в брюках, с покрытыми лаком ногтями на ногах, попыхивают испачканными губной помадой сигаретками, набивая покупками сумки в бакалейных лавках и магазинах.
Или так оно всегда бывало и, казалось бы, должно быть; в воскресенье они даже и не заметили бы, сочли бы это в порядке вещей, что никто не включает и не выключает жужжащего пылесоса, не щелкает выключателем электроплиты, ибо это день отдыха или, может быть, день, посвященный какому-нибудь событию вроде крестин или торжественных похорон, или все уехали на пикник, но сегодня понедельник, новый день, новая неделя; отдых и потребность заполнить время и убить скуку – все это позади, дети со свежими силами – в школу, супруг и отец – за прилавок, или в банк, или толочься в контору «Вестерн Юнион»[123], куда ежечасно поступают сообщения о ценах на хлопок; сейчас уже время завтрака, и спешки, и столпотворения всеобщего исхода из дому, а все еще нигде не видно негров – ни молодых девушек с выпрямленными волосами, накрашенных, в ярких, нарядных модных платьях, заказанных по почте, – они даже не надевают своих франтоватых наколок и фартучков, пока не переступят порога белых кухонек, – ни пожилых негритянок в длинных, по щиколотку, ситцевых или клетчатых холстинковых платьях, сшитых дома, так же как и те длинные простые передники, которые они носят все время, и это уже перестало быть признаком или принадлежностью их работы, а стало просто одеждой, ни даже мужчин-негров, которые должны были бы сейчас подстригать изгороди и газоны, ни даже (они сейчас ехали через Площадь) уличных метельщиков из городской артели, которые сейчас должны были бы поливать мостовые из шлангов, выметать вороха брошенных воскресных газет и коробок из-под сигарет; они переехали Площадь и остановились у тюрьмы, здесь дядя тоже вышел, и они с мисс Хэбершем пошли по дорожке к крыльцу, поднялись на ступеньки и прошли через галерею в комнату с по-прежнему распахнутой настежь дверью, против которой все еще стоял придвинутый к стене пустой стул Легейта, и он опять с усилием выкарабкался из долгого, мягкого, безвременного, черного провала сна и опять, как всегда, убедился, что время даже и не двинулось с места, дядя все еще только надевает шляпу и поворачивается, чтобы спуститься с крыльца. А потом они остановились у своего дома, и Алек Сэндер тут же выскочил из машины, побежал кругом и скрылся за домом, а он сказал:
– Нет. Я останусь.
– Вылезай, – сказал дядя. – Тебе надо идти в школу. Или, пожалуй, лучше пойти лечь спать. Да-да. – Дядя вдруг точно спохватился. – И Алеку Сэндеру тоже. Пусть он сегодня посидит дома. Потому что об этом не должно быть никаких разговоров, никому ни слова, пока мы с этим совсем не покончим. Ты сам должен понимать.
Но он не слушал, они с дядей даже и говорили-то не об одном и том же – даже и тогда, когда он еще раз сказал «нет», а дядя в это время уже вышел из машины и повернул было к дому, но остановился, поглядел на него, затем снова повернулся к нему и долго стоял так, глядя на него, потом сказал:
– У нас с тобой как-то все немножко шиворот-навыворот получается. В сущности, ведь это мне надо спрашивать у тебя, можно ли мне поехать.
Потому что он-то думал о маме, и не то чтобы он только сейчас вспомнил о ней, а еще когда они ехали через Площадь, минут пять тому назад, и, казалось, чего проще было бы выйти там из дядиной машины, пойти и сесть в машину шерифа и просто сидеть и ждать, пока они соберутся ехать к часовне, и он даже, наверно, подумал тогда об этом и, наверно, даже так и сделал бы, если бы не эта сонная одурь, если бы он так не отупел и не раскис; и он знал, что на этот раз он не сможет ей противостоять, даже будь он совсем в форме, на свежую голову; тот факт, что он уже сделал это дважды, на протяжении одиннадцати часов – один раз тайком, а другой просто с налету, ошарашив ее полной неожиданностью и массированной быстротой действий, – теперь еще более безоговорочно обрекал его на поражение и сдачу; он думал, что ему сказать дяде на эти наивные детские разговоры о школе и о том, чтобы лечь спать, когда ему сейчас грозит этот неуловимый, неумолимый натиск, но тут дядя опять угадал его мысли: он все еще стоял около машины и глядел на него с состраданием, без тени надежды, потому что, хотя он был пятидесятилетний холостяк и уже тридцать пять лет как вышел из подчинения женщине, он слишком хорошо знал и представлял себе, какие она тотчас же найдет отговорки: и школа, и уроки, и что он выбился из сил – и тут же отбросит их, чтобы прибегнуть к другим; она не признает никаких разумных доводов – когда ему хочется остаться дома, и никакого чувства гражданского долга, простой справедливости, или человечности, или что это необходимо для того, чтобы спасти чью-то жизнь или даже сохранить мир собственной бессмертной души, никаких оправданий – когда ему надо уйти.
Дядя сказал:
– Хорошо. Идем. Я поговорю с ней.
Он подвинулся к дверце, стал выходить и вдруг сказал спокойно, в каком-то изумлении не перед рухнувшей надеждой, а перед тем, в какой безнадежности может пребывать человек и как долго он может это выдержать:
– Вы ведь мне только дядя.
– Хуже, – сказал дядя. – Я всего-навсего мужчина. – И опять дядя угадал его мысли. – Хорошо. Я попробую поговорить и с Парали тоже. Положение у вас одинаковое. Надо думать, у материнства кожа лишена цвета.
Вот, должно быть, и дядя сейчас тоже думал, как с ними не только никогда нельзя выиграть боя – нельзя даже найти место боя, чтобы вовремя признать поражение: всегда оказывается, они уже до этого успели перенести его куда-то еще; он вспомнил – это было тому назад два года, – как он наконец-то попал в футбольную команду своей школы, и то ли он вытянул жребий, то ли его выбрали на место выбывшего игрока участвовать в иногороднем состязании – постоянный игрок, кажется, получил ушиб во время подготовки к матчу или оказался недостаточно подготовленным, а может быть, просто его мать не позволила ему ехать, – он точно не помнит, что там такое вышло, потому что сам он перед этой поездкой весь четверг и пятницу был поглощен тем, что тщетно ломал себе голову, как сказать маме, что он едет в Мотстаун со школьной командой играть в настоящем матче, и не мог ничего придумать и откладывал до последней минуты, когда уже он вынужден был ей сказать: и у него это плохо получилось; пришлось выдержать целую бурю, и он выдержал, потому что тут оказался отец [хотя он вовсе и не рассчитывал на это – не потому, что не хотел, – может быть, он и подумал бы об этом, не будь он в таком смятении, чуть ли не вне себя от ярости и стыда, и вдобавок еще стыда оттого, что он так разъярен (на какую-то ее отговорку он крикнул: «А чем же команда виновата, что я у тебя единственный сын?»)], и уехал с командой в пятницу вечером с таким чувством – так он представлял себе, – какое должно быть у солдата, когда он, вырвавшись из материнских объятий, отправляется воевать за какое-то не совсем достойное дело; конечно, она будет огорчаться за него, если он провалит игру, и даже будет опять глядеть ему прямо в лицо, если у него все сойдет хорошо, и все-таки навсегда теперь между ними останется старое, но всегда свежее, незабываемое, постоянное расхождение; так что всю эту ночь в пятницу, тщетно стараясь уснуть в чужой, незнакомой кровати, и всю первую половину следующего дня, дожидаясь, когда начнется игра, он думал – лучше было бы для команды, если бы он не поехал, потому что какой от него может быть прок, когда у него только одно на уме, – пока не раздался первый свисток и все – на поле и потом уже, когда в самом низу, под налетевшей на него кучей обеих команд, рот и нос забиты расплесканной и засохшей гашеной известкой, которой проводят линию ворот, он, прижав мяч к груди, услышал, узнал среди всех голосов этот один, пронзительный, торжествующий, кровожадный голос и, вывернувшись наконец, перевел дух и увидел ее в толпе, впереди всех, не на трибуне среди сидящих, а среди тех, кто топтался и даже бегал взад и вперед вдоль боковой линии, следя за каждым ударом, и потом в тот же вечер в машине, когда они возвращались домой в Джефферсон, он – на переднем сиденье рядом с шофером из гаража, а мама – с тремя или четырьмя другими игроками сзади, каким гордым, спокойным, безжалостным голосом, вот таким и сам он мог говорить, она спросила его: «Ну, как твоя рука, не болит больше?» – и сейчас, войдя в переднюю, он признался себе, что он ожидал увидеть ее в дверях, все еще с распущенными волосами, в ночной рубашке и что его после трехчасового отсутствия встретят все теми же не прерывающимися с тех пор жалобными возгласами. Но вместо этого из столовой быстро вышел отец и сразу накинулся на него, не давая ему сказать ни слова, даже когда дядя, повернувшись, крикнул ему прямо в лицо:
– Чарли! Чарли! Тьфу, пропасть! Да погодите же вы!
И только тогда, совсем одетая, как для выхода, бодрая, деловитая, собранная, к ним из глубины коридора, из кухни, подошла мать и, даже не повышая голоса, обратилась к отцу:
– Чарли. Иди в столовую и кончай завтракать. Парали сегодня не совсем здорова и не будет возиться здесь целый день.
Потом к нему – милое, неизменно родное лицо, которое он знает всю жизнь и поэтому не способен описать так, чтобы его мог узнать посторонний, и сам он никогда не узнал бы его, если бы ему кто-нибудь описал, но сейчас оно деловито-спокойно и даже чуточку невнимательно, а возгласы, возгласы – это только старая, укоренившаяся привычка твердить одно и то же: «Ты не умывался!» – и, даже не остановившись посмотреть, идет ли он за ней, тут же пошла вверх по лестнице и в ванную, и уже повернула кран, и сует ему мыло в руки, и стоит с полотенцем в руках, – такое родное лицо со своим родным выражением, которое в течение всей его жизни появлялось у нее всякий раз, когда он делал что-то, что еще на шаг отдаляло его от младенчества, от детства: когда дядя подарил ему шотландского пони, которого кто-то научил прыгать через препятствия высотой восемнадцать и двадцать четыре дюйма, и когда отец подарил ему первое и настоящее, стреляющее порохом ружье, и в тот день, когда грум привез на грузовике Хайбоя и он первый раз сел на него, а Хайбой встал на дыбы, и ее вопль, и спокойный голос грума: «Хлестните его покрепче по голове, когда он такие штуки вытворяет, вы что же, хотите, чтобы он повалился на спину и придавил вас?» – ну, просто это лицевые мускулы по невнимательности, уступая привычке, складываются в прежнее выражение, вот как и ее голос, тоже по невнимательности, просто по старой памяти выхватывает машинально затверженные возгласы, потому что сейчас в нем было что-то еще другое, такое вот, как тогда, вечером, в машине, когда она сказала: «Ну, как твоя рука, не болит больше?» – и в другой раз, когда отец, вернувшись домой, застал его, когда он прыгал на Хайбое через бетонную кормушку во дворе, а мать, прислонившись к забору, стояла и смотрела на него; с какой яростью после возгласа облегчения и гнева накинулся на него отец, и такой спокойный голос матери: «А почему же нет? Кормушка гораздо ниже этой шаткой изгороди, которую ты купил ему, ведь она даже не закрепляется ничем», – и, хоть он сейчас совсем осовел и у него все смешалось в голове, он узнал эту нотку в ее голосе и, подняв к ней лицо и руки, с которых капала вода, вскричал, негодующий, ошеломленный:
– Ты тоже собираешься ехать! Тебе нельзя! – И тут же при всей своей осовелости, спохватившись, каким надо быть наивным дурачком, чтобы пытаться пронять ее какими-то избитыми фразами, пустил в ход свою последнюю карту: – Если ты поедешь, я не поеду. Ты слышишь меня? Я не поеду.
– Вытри лицо и пригладь волосы, – сказала она. – И потом приходи в столовую пить кофе.
С Парали, по-видимому, как будто все обошлось, потому что дядя уже был в холле у телефона, когда он спустился в столовую, и, прежде чем успел сесть, отец снова накинулся на него:
– Но это же черт знает что, почему ты не пришел поговорить со мной вчера вечером? Если ты еще раз когда-нибудь…
– Да потому что вы не поверили бы ему, – сказал дядя, входя из холла. – Вы даже не стали бы и слушать. Надо было вот такой старухе сойтись с двумя детьми, чтобы поверить правде без всяких оснований только потому, что эту правду сказал старый человек, попавший в беду, заслуживающий сострадания и доверия, и сказал кому-то, кто способен сострадать, даже если по-настоящему никто из них ему и не верил. Ведь и ты сначала не поверил, – сказал дядя, обращаясь к нему. – Когда ты по-настоящему начал верить? Когда открыл гроб, не так ли? Я хочу знать, понимаешь ты? Может быть, я еще не слишком стар и могу научиться кое-чему. Так когда же?
– Не знаю, – сказал он. Потому что он правда не знал. Ему казалось, что он с самого начала знал. А потом казалось, что он по-настоящему никогда не верил Лукасу. А потом будто ничего этого никогда не было, и он опять, не двигаясь, выплывал на поверхность из долгой, глубокой трясины сна, но теперь хоть на какой-то пролет времени хоть этого-то он как-никак достиг, и, может быть, теперь он все-таки продержится, как на этих таблетках, которые принимают ночные водители грузовиков, – они совсем крохотные, с пуговичку от сорочки, но в них столько бодрствования, что хватает доехать до следующего города, – и потому что сейчас в комнате мама, спокойная, деловитая, вот она поставила перед ним чашку с кофе, и, если бы Парали так поставила, она сказала бы, что Парали швырнула чашку, – вот из-за кофе-то, верно, ни папа, ни дядя даже не глядят на нее, а папа, даже наоборот, возмутился:
– Как, кофе? Черт знает что! Мне кажется, когда ты в конце концов согласилась, чтобы Гэвин купил ему эту лошадь, у нас был уговор, что он не только не будет просить, но и сам в рот не возьмет ни капли кофе до восемнадцати лет.
А мама даже не слушала и так же, как чашку, той же рукой не то толкнула, не то швырнула ему кувшин с молоком и сахарницу и тут же повернулась и пошла в кухню, и голос – нисколько не раздраженный, даже не торопливый, просто деловитый:
– Пей сейчас же. Мы и так задержались.
И вот только теперь они в первый раз посмотрели на нее: совсем одета, даже в шляпе, а на руке корзинка плетеная, из которой она всегда, с тех пор как он помнит, брала чинить носки – его, папины, дядины – и чулки, но дядя сначала заметил только шляпу и на секунду, по-видимому, так же оторопел, ужаснулся, как и он только что в ванной.
– Мэгги! – сказал дядя. – Тебе нельзя туда! Чарли…
– Я и не собираюсь, – бросила она, даже не остановившись. – На этот раз вам, мужчинам, самим придется копать. Я еду в тюрьму. – Она уже была в кухне, и только голос ее доносился в столовую: – Не могу же я допустить, чтобы мисс Хэбершем сидела там одна и вся округа пялила на нее глаза, я только помогу Парали с обедом, и мы…
Голос не замер, не затих, а умолк, оборвался: она уже выкинула их из головы, но отец сделал еще попытку:
– Он должен идти в школу.
Но даже и дядя пропустил это мимо ушей.
– Ты можешь водить пикап мисс Юнис? – спросил дядя. – Сегодня в негритянской школе нет занятий, так что Алек Сэндер не сможет пригнать машину к тюрьме, а если бы даже и были, боюсь, что Парали не позволит ему на наш двор и шагу ступить по крайней мере еще неделю. – Тут дядя, по-видимому, спохватился, что все-таки слышал отца, или, во всяком случае, решил ему ответить. – И школа для белых сегодня тоже была бы закрыта, если бы вот этот мальчик не послушался Лукаса, чего я не пожелал сделать, и мисс Хэбершем, чего я тоже не сделал. Ну как? – спросил дядя. – Ты способен так долго без сна выдержать? Ты сможешь немножко подремать дорогой.
– Да, сэр, – сказал он. И стал пить кофе – по-видимому, от мыла, воды и растирания полотенцем в голове у него несколько прояснилось, настолько, что он понимал, что ему противно и не хочется пить кофе, но не настолько, чтобы поступить попросту, не пить его вовсе, – пробуя маленькими глоточками и после каждого глотка прибавляя сахару, так что в конце концов и кофе и сахар потеряли свой вкус и превратились в какую-то тошнотворную, приторную и горькую, как хина, омерзительную мешанину.
И наконец дядя не выдержал и сказал:
– Будет тебе, что это за месиво? – Встал, пошел в кухню и принес кастрюльку горячего молока и большую чашку для бульона, опрокинул его кофе в чашку, налил туда горячего молока и сказал: – Ну вот, пей. Не раздумывай. Просто выпей, и все. – И он так и сделал, взял чашку обеими руками и стал пить, как воду из ковшика, почти не чувствуя вкуса, а отец, теперь уже откинувшись на стуле, все еще поглядывал на него и что-то говорил, спрашивал, очень ли трусил Алек Сэндер, а сам он, может быть, больше Алека Сэндера трусил и только из тщеславия не показывал перед негром и теперь не сознается, – никто из них не решился бы и дотронуться до могилы в темноте, даже и цветы снять, если бы не мисс Хэбершем.
Тут его прервал дядя:
– Алек Сэндер уже тогда сказал тебе, что, похоже, могилу кто-то трогал, что она засыпана кое-как, наспех?
– Да, сэр.
– Знаешь, что я сейчас думаю? – сказал дядя.
– Нет, сэр.
– Я рад, что Алек Сэндер не разглядел в темноте и не окликнул человека, который спускался с холма с какой-то поклажей на муле.
И он вспомнил: они все трое думали об этом, но никто ничего не сказал; просто стояли, не видя друг друга, над невидимым черным зевом ямы.
– Засыпьте, как было, – сказала мисс Хэбершем. Они засыпали (в пять бросков на этот раз): рыхлую землю сбрасывать вниз куда быстрее, чем выбрасывать наверх, хотя казалось, что это никогда не кончится в скудном звездном свете, пронизанном немолчным шумом безветренных сосен, словно каким-то мощным неослабеваемым гулом – не удивления, а внимания, настороженности, любопытства, неназидательного, непредвзятого, ни в чем не замешанного и ничего не упускающего. – Положите обратно цветы, – сказала мисс Хэбершем.
– На это же время уйдет, – сказал он.
– Положите обратно, – сказала мисс Хэбершем, и они положили.
– Я пойду за лошадью, – сказал он. – Вы с Алеком Сэндером…
– Мы все пойдем, – сказала мисс Хэбершем.
Они собрали инструменты, веревку (на этот раз не прибегая к электрическому фонарику), и Алек Сэндер сказал: «Погодите», – нашел ощупью доску, которой он орудовал как лопатой, и понес ее куда-то, где можно ее было засунуть обратно под часовню, а он отвязал Хайбоя и взялся за стремя, но мисс Хэбершем сказала:
– Нет. Мы его поведем. Алек Сэндер пусть идет прямо следом за мной, а ты пойдешь прямо следом за Алеком Сэндером и поведешь лошадь.
– Мы же скорей добрались бы… – начал он снова, а лица ее им не было видно, только длинный прямой силуэт – тень и шляпка, которая на ком-нибудь другом даже и не была бы похожа на шляпку, а на ней, так же вот как на его бабушке, выглядела точь-в-точь как надо, лучше и быть не может, и голос у нее совсем не громкий, чуть-чуть погромче дыхания, будто она даже не шевелила губами и не обращалась ни к кому, а просто шептала:
– Это все, что я могу сделать. Больше я ничего не могу сделать.
– Может быть, нам всем вместе посредине идти, – сказал он громко, слишком громко, вдвое громче, чем намеревался или даже мог подумать, должно быть, на мили было слышно, здесь в особенности, на весь этот край, уже безнадежно разбуженный, настороженный бессонным, свистящим – как, наверно, сказала бы Парали и, уж конечно, старик Ефраим, да и Лукас тоже, – «шабашем» сосен. Она сейчас смотрела на него, он чувствовал это.
– Я не смогу объяснить этого твоей маме, но Алеку Сэндеру здесь совсем не место, – сказала она. – Вы оба идите прямо следом за мной, а лошадь пусть идет сзади. – И она повернулась и пошла, и, хотя он так и не понял, какой смысл в этом, потому что в его понимании самое слово «засада» означало «сбоку, со стороны», они все пошли гуськом вниз по дороге, к тому месту, где Алек Сэндер спрятал машину в подлеске; и он шел и думал: Если бы я был им, вот здесь бы это произошло, – и она тоже так думала. – Постойте, – сказала она.
– Как же вы можете нас загородить, раз мы не стоим рядом? – сказал он.
И на этот раз она даже не сказала: «Это все, что я могу сделать», – а просто стояла, пока Алек Сэндер прошел мимо нее в кусты, запустил мотор, выехал на дорогу и повернул машину так, чтобы можно было спускаться с холма, мотор работал, но фары еще не были включены, и она сказала:
– Подвяжи поводья и пусти его. Разве он сам не придет домой?
– Думаю, что придет, – сказал он. И вскочил в седло.
– Тогда привяжи его к дереву, – сказала она. – Мы вернемся сюда, как только повидаем твоего дядю и мистера Хэмптона…
– Ну, тогда уж мы наверняка увидим, как он трусит по дороге, а впереди него, может быть, тот самый мул или конь, – сказал Алек Сэндер. Он включил зажигание, потом снова выключил его. – Чего уж там, садитесь, поедем. Либо он нас подстерегает, либо нет; нет – так все хорошо, а если да, чего же он так канителится, подпустил нас к машине, теперь уж он все равно опоздал.
– Тогда поезжай прямо следом за пикапом, – сказала она. – Мы поедем медленно.
– Ну нет, – сказал Алек Сэндер. – Поезжай вперед; нам все равно придется тебя ждать, когда приедем в город.
И тогда – ему не требовалось понуканья – он пустил Хайбоя вниз с холма, натянув поводья так, что он не мог опустить головы; едва пикап двинулся с места, его огни настигли их, а Хайбой, едва они спустились с уступа, почувствовал себя на ровном месте и даже тот короткий путь, что оставался до шоссе, пытался взять галопом, но он осадил его и заставил идти шагом, пока они не выехали на шоссе, огни фар то появлялись, то исчезали, пока пикап не спустился к подножию холма, и только тогда он ослабил узду, и Хайбой пошел рысью, как всегда фыркая и стараясь вытолкнуть удила, думая, как всегда, что вот ему сейчас удастся так фыркнуть, что удила сдвинутся и попадут ему прямо в зубы, и он бежал, пытаясь перейти на галоп; огни пикапа взметнулись, когда он свернул на шоссе, копыта Хайбоя отбили восемь глухих ударов по мосту, он пригнулся навстречу темному ветру и пустил его во весь опор, и так они летели полмили, и огней пикапа даже не было видно, а затем он осадил Хайбоя, и тот пошел своей длинной, быстрой, тряской иноходью, и так они проехали почти целую милю до того, как пикап нагнал и обогнал их, и его красный задний фонарь сначала совсем близко впереди, потом – все дальше, дальше и вот уже исчез, но по крайней мере он уже выбрался из этих сосен, избавился от этого обступившего его угрюмо-подстерегающего, равнодушного ко всему, но ничего не упускающего, нашептывающего всей округе свиста: «Смотри, смотри», – но ведь где-то они и сейчас нашептывали это, и, конечно, теперь это нашептывание длилось уже так долго, что весь Четвертый участок, все Гаури, Инграмы, Уоркитты и Фрейзеры, все они должны были к этому времени услышать, и лучше уж об этом не думать, и он тут же перестал думать – мигом, едва только вспомнил, – и, сделав последний глоток из чашки, поставил ее на стол в ту самую минуту, как отец, вскочив из-за стола, с грохотом отодвинул стул и сказал:
– Пожалуй, я все-таки пойду поработаю. Надо же кому-нибудь позаботиться и о пропитании, пока вы тут в фараоны и разбойники играете. – И вышел.
А кофе, видно, все-таки как-то подействовал на его, как он называл, мыслительные способности или на то, что люди называют способностью рассуждать, потому что он теперь разгадал отца: его гнев – это было чувство облегчения после всего случившегося, и оно должно было найти в чем-то выход и вылилось в гневе не потому, что он запретил бы ему пойти, а потому, что ему-то самому ведь не представилось такого случая, и это его напускное, презрительно-ироническое высмеивание их храбрости, его и Алека Сэндера, касалось не столько разрытой в темноте могилы, сколько настойчивости мисс Хэбершем; в сущности, это было неуклюжее вышучивание и низведение всего события на уровень чего-то вроде охоты на ведьм в детском саду, что, вероятно, было по-своему, по-мужски, тем же нежеланием поверить, как говорил дядя, что он уже достаточно вырос, чтобы самому застегивать себе штаны; на этом он бросил размышлять об отце, услышав, что мать уже выходит из кухни, и отпихнул стул и, поднявшись, вдруг обнаружил, что кофе, оказывается, – это не только то, что он о нем знал, а нечто гораздо большее, но никто не предостерег его, что он вызывает видения, вроде как кокаин или опиум; он увидел: внезапно у него в глазах отцовский гвалт и крик рассеялся и исчез, как развеянный ветром дым или туман, не просто открыв, а обнажив человека, который дал ему жизнь и теперь оглядывался на него через непроходимую пропасть – от той минуты зачатия – не только с гордостью, но и с завистью тоже; вот в дядином риторическом, уничиженном самоистязании было что-то надуманное, а отец – он поистине глодал горькую кость своего непоправимого разрыва с временем, сожаления, что он слишком рано или слишком поздно появился на свет, что это не ему сейчас шестнадцать лет и не он скакал в темноте за десять миль, чтобы спасти от веревки старого, дерзкого, одинокого негра.
Но по крайней мере он хоть не засыпает. Это как-никак сделал кофе. Ему все еще хотелось спать, но теперь он уже не мог. Желание осталось, но теперь было еще и возбуждение, с которым надо было бороться, подавлять его. Сейчас было уже больше восьми. Один из загородных школьных автобусов проехал мимо, когда он приготовился отъехать от дома на пикапе мисс Хэбершем, и на улице, наверно, полно детей, особенно оживленных с утра в понедельник, с книжками и бумажными мешочками с едой, чтобы позавтракать в перемену, а за автобусом ехала вереница машин и грузовиков, облепленных деревенской грязью, покрытых пылью, и такая непрерывная и тесная, что дядя с мамой уже успеют до тюрьмы доехать, прежде чем ему удастся влиться в нее, потому что в понедельник – скотные торги в торговых дворах позади Площади, и он представил себе эти скопища пустых машин и грузовиков вдоль всего тротуара у суда, сгрудившихся тесными рядами, как свиньи у кормушки, и торговцев скотом с толстыми палками, которые, даже не останавливаясь, идут прямо через Площадь в проход к торговым дворам и, жуя табак или незажженную сигару, ходят из загона в загон среди аммиачной вони, навоза, и смазки, и рева телят, и топанья и фырканья лошадей и мулов, и среди подержанных машинных и плужных частей, оружия, сбруи, часов, и только жены (те немногие, что приезжали, поскольку день торгов – это не суббота, а мужской день) толкутся возле Площади по лавкам, а на самой Площади пусто, если не считать машин и грузовиков, и так будет до полудня, когда мужчины придут на часок с торгов, чтобы встретиться с женами в ресторанах или кафе.
Тут он с усилием – теперь это уже был не рефлекс – оторвался не от сна, а от видений, его гипнотический транс продолжался даже и на улице при ярком дневном солнечном свете, и сейчас, когда он ехал в пикапе, который до вчерашнего вечера он и не отличил бы от других, но который с тех пор, с того вечера стал такой же неотъемлемой частью его памяти, его переживаний, его дыхания, каким навсегда останется свистящий шорох заступа, врезающегося в рыхлую землю, или скрип железной лопаты по сосновой крышке; двигаясь в каком-то мираже полнейшей пустоты, в которой не просто не было вчерашнего вечера, но не было даже и субботы, он вдруг спохватился, как если бы только сейчас увидел, что ведь в школьном автобусе не было детей, а только взрослые, и в потоке машин и грузовиков, следующих за автобусом, а теперь, когда ему наконец удалось влиться в этот поток, – и за ним (в некоторых из них даже и в понедельник, в день торгов, должны были сидеть негры, а в субботу половина открытых грузовиков бывала битком набита черными мужчинами, женщинами, детьми в плохоньких дешевых нарядах, в которых они ездили в город) не было ни одного черного лица. И на улице ни одного школьника, идущего в школу, хотя он, не слушая, слышал, как дядя говорил по телефону с директором, тот спрашивал его, можно ли сегодня детям в школу, и дядя сказал: «Да», и вот, уже подъезжая к Площади, он увидел еще три желтых автобуса, предназначенных для того, чтобы возить в школу детей из округа, но хозяева этих автобусов, они же подрядчики и шоферы, использовали их по субботам и в праздники как платный пассажирский транспорт; а вот и Площадь, стоянки машин, грузовиков – все как всегда, но на самой Площади не как всегда, не безлюдно; мужчины не валят толпой к торговым рядам, а женщины в лавки, так что, когда он подъехал к стоянке и остановил пикап позади дядиной машины, он уже увидел то незримое, бессмысленное, глухое брожение, прерывистый учащенный пульс и гул толпы, заполнившей Площадь, и – как на карнавальном шествии или футбольном матче – выплеснувшейся на улицу, и скучившейся на тротуарах напротив тюрьмы, и хлынувшей туда, дальше, мимо кузницы, где он стоял вчера, стараясь быть незаметным, как если бы все собрались здесь смотреть на торжественный парад (и почти посреди мостовой, так что машины и грузовики, все еще двигавшиеся непрерывным потоком, вынуждены были объезжать ее, стояла кучка человек в двенадцать, словно группа лиц, принимающая парад, и в самом центре ее он узнал форменную фуражку со значком городского полисмена, который в этот день и в этот час должен был бы стоять перед школой и регулировать уличное движение, чтобы дети могли спокойно переходить улицу, и ему даже не пришлось напрягать память, оно само вспомнилось, что фамилия полисмена Инграм, этот Инграм с Четвертого участка ушел в город подобно некоторым другим отступникам клана Четвертого участка, которые уходили в город, и женились на городских девушках, и становились парикмахерами, приставами и ночными сторожами, – так маленькие немецкие князьки покидали свои Бранденбургские холмы[124], чтобы вступить в брак с наследницами европейских тронов), мужчины, женщины и ни одного ребенка, обветренные деревенские лица, загорелые шеи, руки и яркие ситцевые платья, сплошная толкучка на Площади и на улице, как если бы и лавки сегодня были закрыты, заперты, и они даже не глядят на голый фасад тюрьмы с единственным заделанным решеткой окном, которое пустует и безмолвствует вот уже двое суток, а просто толкутся, теснятся – не в ожидании, не в предвкушении и даже без особой настороженности, а просто пока еще в той предварительной стадии оседания по местам, как перед поднятием занавеса в театре, и он подумал: вот это что – праздник; обычно – день развлечения для детей, ну а здесь наоборот; и тут он вдруг понял, что он все представлял себе совсем не так: нет, это не субботы не было, а только вчерашнего вечера, который для них еще и не наступил, – ведь они не только не знали про вчерашний вечер, но ни один человек, никто, даже сам Хэмптон, не мог им о нем рассказать, потому что они не поверили бы ему, и тут словно какая-то завеса или перепонка вроде как на глазах у кур – а он даже и не подозревал, что она у него есть, – спала с его глаз, и он всех их увидел впервые, те же обветренные и все еще совсем не настороженные лица, те же выцветшие чистые рубахи, и брюки, и платья, но не толпа, ждущая поднятия занавеса над театральным вымыслом, а скорее толпа, собравшаяся в зале суда, которая ждет, когда судебный пристав провозгласит: «Внимание! Внимание! Внимание! Суд идет!» – она даже не выражает нетерпения, потому что еще не настало время судить не Лукаса Бичема – его они уже осудили, – но Четвертый участок; они пришли сюда не смотреть, как вершат то, что они называют правосудием, или как воздают должную кару, а убедиться, что Четвертый участок не уронит своего престижа белого человека.
Итак, он остановил пикап, вылез и уже бросился бегом, но тут же одернул себя, отчасти из чувства гордости или собственного достоинства при воспоминании о вчерашнем вечере, когда он затеял и даже в некотором роде возглавил или, во всяком случае, помог выполнить это дело, важности которого, уж не говоря насущности, не понял никто из ответственных взрослых, но отчасти и из осторожности, припомнив, как дядя говорил, что подстегнуть к действию толпу ровно ничего не стоит, достаточно какого-нибудь пустяка; а что, если для них достаточно увидеть подростка, бегущего к тюрьме, – и он снова представил себе бесчисленную массу лиц, удивительно схожих отсутствием всякой индивидуальности, полнейшим отсутствием своего «я», ставшего «Мы», ничуть не нетерпеливых даже, не склонных спешить, чуть ли не парадных в полном забвении собственной своей страшной силы, – даже сотня бегущих детей не заставит их сдвинуться с места; но вот миг – и все перевернулось: ни замедлить, ни отступить не заставит их не какая-то там сотня, а во сто раз больше бегущих детей; и как тогда, когда он чувствовал полную безнадежность того, что было еще только в замысле, и потом физическую неосуществимость, когда они решились привести это в исполнение, так сейчас он понял, насколько чудовищно то, во что он слепо вмешался, и как правильно было его первое инстинктивное побуждение – бежать домой, взнуздать и оседлать лошадь, и мчаться без оглядки до тех пор, пока не свалишься в изнеможении, и заснуть, и потом вернуться, когда уже все кончится (а теперь – теперь ему казалось, что это он вытащил на белый свет нечто гнусное и постыдное, присущее всему белому роду, основателю края и ему тоже, ибо он плоть от плоти его, а не сделай он этого, оно могло бы просто вспыхнуть, взметнуться пламенем из Четвертого участка и снова скрыться во тьме или хотя бы сгинуть незримо вместе с угасшим пеплом распятого Лукаса).
Но теперь уж поздно, он не может отречься, отказаться, бежать – дверь тюрьмы все так же распахнута, и в глубине против двери видно мисс Хэбершем, сидящую на стуле, на котором сидел Легейт, на полу у нее в ногах картонка, а на коленях что-то из белья или одежды; она все еще в шляпке, и ему видно мерное движение ее руки и локтя, и ему казалось, что он видит, как мелькает и блестит игла в ее руках, хотя он знал, что на таком расстоянии он не может этого видеть, а дальше дядя загораживал ему, и он сделал еще несколько шагов от ворот, но тут дядя повернулся, вышел из двери и пошел через галерею, и тогда он увидел и ее тоже на стуле рядом с мисс Хэбершем; сзади подъехала машина и остановилась, и вот теперь она не спеша выбрала носок из корзинки и сунула в него деревянное штопальное яйцо; у нее даже была наготове иголка с ниткой, вколотая на груди в платье, и теперь он уже мог разглядеть мельканье и блеск иглы, или, может быть, это потому, что ему так хорошо знакомо это движение, привычная, узкая гибкость руки, которую он наблюдал всю жизнь, и, уж во всяком случае, он может с кем угодно поспорить, что это его носок.
– Кто это тут? – раздался позади голос шерифа. Он обернулся. Шериф сидел за рулем своей машины, втянув голову в плечи и согнувшись, чтоб можно было выглянуть, не задев головой за верх окна. Мотор продолжал работать, а сзади в машине он увидел ручки двух лопат и кирки, которая им не понадобится, и на заднем сиденье двух мирных и неподвижных, если не считать непрестанного вращения и сверкания белков, негров в синих рубахах и в грязных, с черными полосами арестантских штанах, которые носят заключенные на принудительных работах по починке мостовой.
– Кто бы это мог быть? – опять позади него спросил голос дяди, но на этот раз он не повернулся и даже не стал слушать, потому что внезапно с улицы подошли трое мужчин и остановились около машины, и, пока он смотрел, подошли еще человек пять-шесть, и в следующую минуту целая толпа двинулась с той стороны улицы к воротам; уже проезжавшая машина резко затормозила (а за ней сзади и другая) – сначала чтобы не врезаться в толпу, но затем сидевшие в ней высунулись наружу и стали глядеть на машину шерифа, в то время как первый из подошедших уже стоял возле нее и заглядывал внутрь; его коричневые загорелые руки фермера ухватились за край поднятого окна, а коричневая обветренная физиономия всунулась в машину, любопытная, вопрошающая, без тени смущения, а за ним – прислушивающаяся масса его размноженных копий в пропотевших фетровых шляпах и панамах.
– Что это вы задумали, Хоуп? – спросил он. – Разве вы не знаете, что можете попасть под суд за то, что швыряете зря казенные денежки? Или вы не слыхали про этот новый закон, который провели янки насчет линча? Те, кто линчует черномазого, обязаны вырыть ему могилу!
– Может, он везет эти лопаты Набу Гаури и его сыновьям, чтобы они поупражнялись малость? – сказал второй.
– Тогда, значит, Хоуп правильно поступает, что везет с собой и рабочие руки, – подхватил третий.
– Если ему придется иметь дело с кем-нибудь из Гаури насчет того, чтобы яму копать или что другое сделать, отчего пот прошибает, ему без рабочих рук не обойтись.
– А может, это вовсе и не рабочие руки, – сказал четвертый. – Может, это на них Гаури думают поупражняться сперва.
И хотя кто-то фыркнул, толпа не засмеялась, их собралось теперь вокруг машины уже человек двенадцать, если не больше; и каждый кидал быстрый многозначительный взгляд в глубину машины – где двое негров сидели, застыв неподвижно, словно выточенные из дерева фигуры, глядя прямо перед собой, ни на что, без малейшего движения, даже как будто не дыша, только белки чуть заметно то расширялись, сверкая, то прикрывались, – а потом снова переводил глаза на шерифа, почти с таким же выражением, какое он видел на лицах игроков, дожидающихся перед стеклом автомата, какой кому выпадет приз.
– Ну, хватит, – сказал шериф. Он высунул в окно голову и громадную руку и, отпихнув передних из толпы, обступившей машину, с такой легкостью, как если бы он откинул занавес, сказал, повысив голос, но не очень громко: – Уилли.
Полицейский подошел; он уже слышал, как он говорил на ходу:
– Дорогу, ребята. Дайте мне выяснить, что беспокоит сегодня нашего досточтимого шерифа.
– Почему вы не разгоняете толпу, чтобы она не загромождала улицу и машины могли проехать в город? – спросил шериф. – Может быть, этим приезжим тоже хочется стать где-нибудь поблизости и глазеть на тюрьму.
– А уж это как пить дать, – сказал полицейский. Он повернулся и, раскинув руки, стал отстранять теснившихся у машины, не трогая их, а словно погоняя стадо, чтобы заставить его двинуться с места. – Ну-ну, ребята, – говорил он.
Они не двигались и продолжали смотреть мимо полицейского на шерифа, ничуть не вызывающе и даже и не сопротивляясь вовсе, а так это незлобиво, покладисто, чуть ли не добродушно.
– А почему, шериф? – раздался голос в толпе, а за ним другой:
– Ведь улица для всех, шериф. Что вам, городским, жаль, если мы постоим здесь, мы ведь наши денежки у вас в городе тратим.
– Но нельзя же и другим мешать попасть в город и потратиться, – сказал шериф. – Проходите, не стойте. Разгоните их, Уилли, чтобы не загромождали улицу.
– Двигайтесь, двигайтесь, ребята, – подгонял полицейский. – Не вы одни, другим тоже охота проехать сюда да стать поудобней, чтобы глазеть на эти кирпичи.
Они двинулись теперь, но все еще не спеша; полицейский загонял их обратно на ту сторону улицы, как женщина загоняет кур со двора – она не торопит их, только следит, чтобы они шли куда надо, да и следит-то не очень, куры бегут перед ней, а она машет на них передником, они не то чтобы непослушные, но кто их знает, они ее не боятся и пока даже и не всполошились; остановившаяся машина и другие следом за ней тоже двинулись, медленно, еле-еле, ползком, со своим грузом высунутых и повернутых к тюрьме лиц; ему слышно было, как полицейский покрикивает на водителей:
– Проезжайте, проезжайте! Не задерживайтесь, машины сзади.
Шериф снова посмотрел на дядю:
– А где же другой?
– Кто другой? – спросил дядя.
– Второй сыщик. Тот, который видит в темноте.
– Алек Сэндер, – сказал дядя. – Он что, нужен вам?
– Нет, – сказал шериф. – Я только заметил, что его нет. Я просто удивился, что нашлось одно человеческое существе в нашем округе, у которого хватило ума и такта не выходить сегодня из дому. Ну как, вы готовы? Поехали.
– Поехали, – сказал дядя. Шериф был известен своей ездой: машины хватало ему на год, она изнашивалась у него, как у тяжелого на руку метельщика изнашивается метла – не от скорости, а просто от трения; вот сейчас машина прямо-таки сорвалась с места, и они даже не успели заметить, как она повернула и исчезла. Дядя подошел к их машине и открыл дверцу. – Ну, полезай, – сказал дядя.
И тогда он решился – это-то по крайней мере нетрудно было выговорить:
– Я не поеду.
Дядя остановился, и он увидел, как он с мрачным, насмешливым видом вглядывается в него насмешливыми глазами, которым достаточно на чем-нибудь задержаться, и они редко когда что упустят; сказать по правде, за все то время, что он их знает, они никогда ничего не упускали до вчерашнего вечера.
– А! – протянул дядя. – Понятно, мисс Хэбершем, конечно, леди, но другая-то ведь твоя, бедняжечка!
– Вы посмотрите на них, – сказал он, не двигаясь с места и даже почти не двигая губами. – Через улицу. И на Площади тоже, и никого, кроме Уилли Инграма в этой его дурацкой фуражке…
– А ты разве не слышал, как они разговаривали с Хэмптоном? – спросил дядя.
– Я слышал, – сказал он. – Они даже над собственными остротами не смеялись. Они смеялись над ним.
– Они даже не подтрунивали над ним, – сказал дядя. – И даже вовсе не зубоскалили на его счет. Они просто наблюдали. Они наблюдают за ним и за Четвертым участком и ждут, что будет. Все эти люди приехали в город посмотреть, что будет делать та или другая сторона или, может быть, обе.
– Нет, – сказал он. – Не только за этим.
– Хорошо, – сказал дядя, теперь уже совершенно серьезно. – Допустим. Ну и что?
– Но ведь, если…
Но дядя перебил его:
– Ну, если даже явится Четвертый участок, поднимет стулья с твоей мамочкой и мисс Хэбершем и вынесет их во двор, чтобы они не мешали, Лукаса-то ведь нет в камере. Он в доме мистера Хэмптона – сидит, должно быть, в кухне и завтракает. Ты как думаешь, чего ради Уилл Легейт явился с черного хода через каких-нибудь четверть часа после того, как мы приехали и рассказали мистеру Хэмптону? Алек Сэндер даже слышал, как он ему звонил.
– А тогда чего же мистер Хэмптон так торопился сейчас? – спросил он, и голос дяди прозвучал теперь очень серьезно, но только серьезно – и все.
– Потому что лучший способ покончить со всякими предположениями или отрицаниями – это отправиться туда, сделать то, что надо, и вернуться обратно. Ну, лезь в машину.
Глава седьмая
Они так и не видели больше машину шерифа, пока не подъехали к часовне. Не потому, что он заснул, что можно было ожидать, несмотря на кофе, и о чем он, по правде сказать, мечтал. До той самой минуты, когда он подъехал на пикапе к тому месту, откуда видна была Площадь и за нею толпа на другой стороне улицы напротив тюрьмы, он надеялся, что, как только они с дядей сядут в машину и выедут на дорогу к часовне, он, несмотря ни на какой кофе, не только не будет больше бороться со сном, а, наоборот, сразу уступит и поддастся ему, и тогда за девять миль пути по щебнистому шоссе и милю грунтовой дороги вверх по склону он сможет наверстать хотя бы полчаса из тех восьми, что провел без сна этой ночью и – как ему теперь казалось – еще в три или в четыре раза больше прошлой ночью, когда он старался заставить себя не думать о Лукасе Бичеме.
А когда они сегодня уже под утро, около трех часов, вернулись в город, он бы просто не поверил, если бы ему сказали, что за это время – ведь сейчас уже почти девять – он не проспит по меньшей мере пять с половиной, если не все шесть часов, и он вспомнил, как он – и, конечно, мисс Хэбершем и Алек Сэндер тоже, – все они так считали, что, едва только они и его дядя придут к шерифу, тут все сразу и кончится: они войдут к нему с парадного крыльца и сложат на его широкую сведущую правомочную длань – вот так же, как кладут шляпу на столик в передней, проходя в комнаты, – весь этот ночной кошмар сомнений, нерешимости, невыспанности, напряжения, усталости, потрясения, изумления и (он признался себе) страха тоже. Но этого не произошло, и теперь он знал, что на самом деле он вовсе и не ждал этого; да разве им могла бы прийти в голову такая мысль, если бы они так не вымотались и не то чтобы обессилели от усталости, напряжения и ночи без сна, а выдохлись от неожиданного потрясения, изумления и чувства собственной беспомощности; ему даже и не надо было этой массы лиц, стороживших голую кирпичную стену тюрьмы, ни толпы, хлынувшей через улицу и загородившей ее, в то время как те, что обступили машину шерифа, заглядывали внутрь и обменивались согласным понимающим многозначительным взглядом, не доверяющим, не терпящим возражения, – взглядом занятого отца, когда он на минуту отрывается от работы, чтобы пресечь и предупредить поползновения любимого, но не очень благонадежного детища. А если ему что-то и было надо, так вот оно – эти лица, голоса, не подтрунивающие даже, не насмехающиеся, а просто откровенно посмеивающиеся и безжалостные, – стоит только на секунду забыться, впиваются в тебя, как булавка, торчащая в матраце, – поэтому его даже и не клонило ко сну, не больше, чем дядю, который спал всю ночь или по крайней мере большую часть ночи; и теперь город уже был позади, и они ехали быстро, и навстречу им первую милю еще попадались последние машины и грузовики, а потом уже нет, потому что все те, кто хотел попасть сегодня в город, были в это время уже внутри этой последней, быстро убывающей мили; все белое население округа, пользуясь хорошей погодой и хорошими в любую погоду дорогами – а для них эти дороги были свои, потому что их налоги, их голоса и голоса их родных и знакомых оказали влияние на членов конгресса, распоряжавшихся средствами для строительства дорог, – стремилось поскорей попасть в город, в свой город, потому что он существовал только их попущением и поддержкой: они содержали его тюрьму и его суд, толклись и горланили на его улицах и загромождали их, если им это было угодно, терпеливые, выжидающие, безжалостные, не позволяющие ни торопить себя, ни сдерживать, ни разгонять, ни не замечать, ибо это их убитый и убийца тоже, их нарушитель и нарушенная заповедь – белый человек и его скорбь о понесенной утрате, – их право не просто отдать под суд, но и разрешить или помешать совершиться возмездию.
Теперь они ехали очень быстро, он даже не помнил, чтобы дядя когда-нибудь так гнал машину, и той же длинной дорогой, которой он вчера ночью ехал верхом, а теперь – в дневном свете тихого, несказанного майского утра; теперь он мог видеть усыпанные белыми цветами кусты кизила, вырывавшиеся из зелени изгороди между издавна размежеванными участками или стоявшие словно монашки в монастырской ограде под сенью зеленеющих рощ, и розовые и белые цветы персиковых и грушевых деревьев, и бело-розовые – первых яблонь во фруктовых садах, которых он не видел вчера, только вдыхал их благоухание, – и всюду кругом и впереди них терпеливая земля – прочерченные бороздами, как геометрические фигуры, поля, где сажали кукурузу в конце марта и в апреле, когда только начинали ворковать дикие голуби, а хлопок – в начале мая с неделю тому назад, когда по ночам стали кричать первые козодои; но фермерские дома опустели, в них замерло движение жизни, и дым не поднимается над крышами, потому что с завтраком покончили уже давно, а обед незачем готовить, кто же его будет есть, когда дома сегодня никого нет, и некрашеные негритянские хижины посреди дворов без деревьев, без травы, где обычно в понедельник утром барахтаются в пыли полуголые ребятишки, ползая и хватаясь за сломанные колеса, изношенные автомобильные шины, пустые жестянки и пузырьки, а на задворках чугунные закоптелые котлы кипят над огнем возле отделяющих грядки и курятники осевших заборов, которые к вечеру запестреют развешенными комбинезонами, фартуками, полотенцами и мужским бельем; но не сегодня, не в это утро; колеса и огромные кренделя свернувшихся автомобильных покрышек, жестянки и пузырьки валяются в пыли, и никто не возится с ними с того момента в субботу, когда кто-то первый крикнул из дома, а на задворках пустые и холодные котлы стоят в золе с того понедельника под протянутыми пустыми веревками для белья, и машина мчится мимо немых неподвижных дверей, и в пустом проеме нет-нет и мелькнет иногда бледный огонь в очаге, и не видно, а только чувствуется, как в глубине, в полумраке медленно ворочаются сверкающие белки, но самое знаменательное – это пустые пашни, на каждой из них в этот день, в этот час второй недели мая должен был бы с неизменной однообразностью повторяться живой символ этого края – церемониальная группа ритуального, почти мистического значения, единообразная, одинаковая, как верстовые столбы, соединяющие город с предельной чертой округа, – животное, плуг, человек, слитые воедино, вгрызающиеся чудовищным усилием в застывший вал прорезанной ими борозды и при этом как будто замершие на месте, грузные, неодолимые, неподвижные, словно скульптурная группа борцов на необозримой огромности земли; и вдруг (они были в восьми милях от города, и уже виден был сине-зеленый склон холмов) он вскричал, не веря своим глазам, с каким-то почти возмущенным изумлением, потому что вот уже двое суток, как он, кроме Парали, Алека Сэндера и Лукаса, не видел ни одного негра.
– Смотри, негр!
– Да, – сказал дядя, – сегодня девятое мая. А этому округу надо успеть засадить и засеять пятьсот сорок две тысячи акров. Кому-то надо остаться дома и работать.
Машина мчалась вдоль пашни, и на расстоянии примерно пятидесяти ярдов, разделявших их, он и негр, шедший за плугом, смотрели друг другу прямо в лицо до тех пор, пока негр не отвел глаза, – черное лицо, блестящее от пота, распаленное усилием, напряженно сосредоточенное и серьезное; машина мчалась вперед, а он, высунувшись в открытое окно, сначала смотрел, повернув голову, а потом, повернувшись на сиденье, стал смотреть в заднее окно, следя, как они быстро, не сливаясь, уменьшаются – человек, мул и деревянный плуг, который соединял их, врезавшись в землю, яростный, одинокий, застыв на месте, грозно наклонившись в ничто.
Теперь им видны были горы; они уже почти доехали: длинный склон первого, поросшего соснами холма выступал поперек горизонта, а за ним уже чувствовались другие – казалось, вся масса их не поднималась внезапно из открывшегося перед вами нагорья, а надвигалась, нависая над ним, – вот так же и шотландские горы, говорил дядя, только они другой окраски и круче; это было два или три года тому назад, и он сказал еще: «Вот почему люди, выбравшие себе место для жилья на этих холмах, на крошечных клочках земли, где, не будь оно даже так круто для мула тащить плуг, не соберешь с акра и восьми бушелей зерна или пятидесяти фунтов хлопка (но они даже и не сажают хлопок, а только кукурузу – и не очень утруждая себя, потому что много ли ее надо на один перегонный куб, чтобы отцу с сыновьями торговать самогоном), носят фамилию Гаури, Маккалем, Фрейзер и Инграм – когда-то Ингрохэм, и Уоркитт – прежде Уркхарт, только тот, кто первый привез эту фамилию в Америку, а потом в Миссисипи, не мог сказать, как она пишется; эти люди любят заводить ссоры, страшатся Бога и верят в ад…» – и, как будто угадав его мысли, дядя, убавив скорость на последней миле щебенки, так что стрелка спидометра держалась на пятидесяти пяти (дорога уже начинала спускаться к поросшей ивняком и кипарисами низине, у Девятой Мили, где протекал рукав), заговорил, то есть сам завел разговор, первый раз за всю дорогу с тех пор, как они выехали из города:
– Гаури, и Фрейзер, и Уоркитт, и Инграм. А в долинах по берегам рек привольная, богатая, тучная земля, на которой человек может выращивать то, что он может продавать открыто, среди бела дня, и там селятся люди с фамилиями Литтлджон, Гринлиф, Армстид, Миллингэм, Букрайт. – И замолчал; машина мчалась под гору, увеличивая скорость по инерции; теперь ему уже виден был мост, у которого Алек Сэндер дожидался его в темноте, а Хайбой, когда он его пустил к воде, почуял зыбучий песок.
– Сразу за мостом повернем, – сказал он.
– Я знаю, – сказал дядя. – А те, кого зовут самбо[125], те селятся и там и тут, выбирают из того и другого, потому что они могут притерпеться и к тому и к другому, они могут ко всему притерпеться. – Мост теперь был уже совсем близко: белая арка, зияя, летела им навстречу. – Не все белые люди способны выносить рабство, и, по-видимому, ни один человек не может вынести свободы (это-то, кстати сказать, – если предположить, что человек действительно хочет мира и свободы, – и осложняет сейчас наши отношения с Европой, где люди не только не понимают, что такое мир, но, за исключением англосаксов, фактически опасаются личной свободы и не доверяют ей; мы надеемся, в сущности без всякой надежды, что нашей атомной бомбы будет достаточно, чтобы защитить некую идею, столь же устаревшую, как Ноев ковчег); немедленно, единодушно, с всеобщего согласия они суют силком свою свободу в руки первому встречному демагогу, если только сами же не растопчут, не уничтожат, не сокрушат ее начисто, не только с глаз долой, но чтоб и помину не было, и все это с таким исступленным единодушием, с каким добрые соседи все вместе затаптывают горящую траву. Но народ, который зовется самбо, вынес одно, и, кто знает, может статься, он выдержит и другое. И кто знает…
И тут блеснул песок, сверкнула, струясь, вода, белые перила пронеслись мимо в грохочущем шуме, и треске, и стуке колес по настилу, и вот уже и мост позади. Теперь ему придется затормозить, подумал он, но дядя не затормозил, а просто выключил передачу, и машина, продолжая катиться по инерции и все еще на большой скорости, свернула, скользя и заносясь, на грязную грунтовую дорогу, проехала еще ярдов пятьдесят, подскакивая на корнях деревьев, пока последняя пядь равнины не перешла с разбегу в первый пологий мягкий склон и на той же скорости все еще по инерции ее не вынесло чуть подальше того места, где все еще видны были следы пикапа, сворачивающие с дороги там, где Алек Сэндер свернул, чтобы укрыть его в чаще, и где он сам потом стоял, приложив руку к ноздрям Хайбоя, в то время как конь или мул спускался по склону с кладью впереди всадника, которого даже Алек Сэндер своими глазами рыси, или филина, или кто там еще охотится по ночам, не мог разглядеть (и он опять вспомнил, но только теперь не дядю за столом сегодня утром, а себя самого на дворе вчера вечером, после того как Алек Сэндер уже ушел, но до того, как он увидел мисс Хэбершем, – когда он в самом деле думал, что он поедет один, чтобы сделать то, что должно быть сделано, и опять, как утром за столом, он сказал себе: Не буду об этом думать); вот они уже почти на месте, в сущности, приехали, пространство, которое еще отделяет их, уже не милями мерить.
Однако этот остаток машина тащится ползком, скрежеща на второй скорости, одолевая недвижный взмет главного холма и сильный, настойчиво льющийся смолистый дух сосен, под сенью которых кизиловые кусты сейчас и правда похожи на монашек в длинных зеленых коридорах, выше, еще выше, последний уступ – и плато, и сразу перед ним открылся как будто весь его родной край, его отчизна – почва, земля, которая взрастила его и шесть поколений его предков и продолжает и теперь растить в нем не просто человека, а человека особого склада, не просто с присущими человеку страстями, надеждами, убеждениями, а со своими особенными страстями, чаяниями и взглядами и образом мыслей и действий, человека особого рода и племени, и больше даже: особого немыслимого даже в роду и племени (ведь с точки зрения большинства и, уж конечно, всех тех, кто ринулся сегодня в город стоять и глазеть на тюрьму и толпиться вокруг машины шерифа, – немыслимого типа, черт возьми), потому что ведь это тоже как-то неотъемлемо от него, что бы там ни заставило его остановиться и слушать этого проклятого горбоносого дерзкого негра, который, если даже он и оказался не убийцей, чуть-чуть было не получил не сказать по заслугам, но уж в какой-то мере именно то, чего он добивался лет шестьдесят с лишним, – как будто географическая карта раскрылась под ним медленным беззвучным рывком: на востоке – одетые зеленью холмы, увал за увалом, теснясь, убегают к Алабаме, а на западе и юге – пестрые квадраты полей и за ними леса, теряющиеся в туманной синеве горизонта, за которым наконец, словно гряда облаков, протянулась длинная стена дамбы и сама великая Река течет не просто с севера, а прочь от Севера, окружающего ее и чужого, – пуповина Америки, соединяющая почву, которая была ее родиной, с родительницей, которую три поколения тому назад у нее не хватило крови отринуть; достаточно ему было повернуть голову, и он различал бледное пятно дыма, это город в десяти милях отсюда, а глядя прямо перед собой, он видел широкую полосу Поймы, разгороженную на большие владения – плантации (одна из них принадлежала Эдмондсам, там родились ныне живущие Эдмондс и Лукас, дед Эдмондса был дедом тому и другому) на берегу собственной небольшой реки (хотя даже на памяти его дедушки по ней еще ходили пароходы), а затем плотную стену речных зарослей и за ней простирающийся далеко на восток, север и запад, не просто туда, где два конечных мыса, нахмурившись, повернулись спиной друг к другу над пустыней двух океанов над горной заставой Канады, но до самого края земли – Север; не просто север, а Север с большой буквы, чужой, запредельный, не географическая местность, а эмоциональное представление, характер, с которым всегда надо быть – он впитал это с молоком матери – настороже, начеку, не бояться нисколько и теперь уже, в сущности, не ненавидеть, а просто иной раз даже скучливо и даже не совсем искренне не подчиняться; так, с раннего детства ему запомнилась картинка, в которой и теперь, на пороге возмужания, он ничего не мог бы, да и не видел оснований менять и не думал, что она как-то изменится для него и в старости: невысокая полукруглая стена (всякий, кто действительно хотел бы, вполне мог перелезть через нее; он считал, что любой мальчишка обязательно перелез бы, а сверху, с этой стены, позади которой расстилается богатая, густонаселенная, никогда не подвергавшаяся опустошению страна с громадными, сверкающими, нетронутыми столицами, несожженными городами, неразоренными фермами, такая обильная и так надежно от всего защищенная, что, казалось бы, откуда у них такое любопытство, – на него и на тех, кто с ним, глядят бесчисленные ряды лиц, ряд за рядом, все похожие на его лицо, и говорят они на том же языке, что и он, и иногда даже откликаются на то же имя, однако между ним и всеми, кто с ним, и теми нет настоящего родства и скоро даже не будет и контакта, потому что даже слова, общие для тех и других, скоро будут иметь не то же значение, а потом и этому наступит конец, потому что они так отдалятся друг от друга, что перестанут даже слышать друг друга; только бесчисленная масса лиц, глядящих сверху вниз на него и тех, кто с ним, с едва уловимым выражением изумления, обиды, обманутой надежды и, что любопытнее всего, готовности помимо вольной, почти беспомощной и жадной готовности поверить всему, что угодно, о Юге, даже не обязательно, чтобы это было что-то порочащее, а просто что-то диковинное, странное; и тут дядя опять заговорил о том же, о чем он и сам думал, и он опять нисколько не удивился, что дядя не перебивает, а просто подхватывает его мысли:
– А это потому, что мы единственный народ в Соединенных Штатах (я сейчас говорю не о самбо, к нему я потом перейду), который представляет собой нечто однородное. Я хочу сказать: единственный сколько-нибудь весомой величины. Поселенец Новой Англии тоже, конечно, удален от моря и от тех выбросов Европы, которые наносит к нашим берегам и которые наша страна сажает на бессрочный карантин в эфемерных, лишенных корней городах с фабриками, и литейными, и муниципальными пособиями так надежно и прочно, что могла бы позавидовать любая полиция, но народа в Новой Англии осталось немного, так же как немного осталось и швейцарцев, которые представляют собой не столько народ, сколько скромное, маленькое, добропорядочное, вполне оправдывающее себя, платежеспособное предприятие. Так что мы на самом деле вовсе не против того, что у чужеземцев (да и у нас тоже) называется прогрессом и просвещением. Мы защищаем, в сущности, не нашу политику или наши убеждения и даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность; защищаем ее от федерального правительства, которому все остальные в нашей стране вынуждены просто в отчаянье уступать все больше и больше своей личной, неприкосновенной свободы ради того, чтобы сохранить свое место в Соединенных Штатах. И, конечно, мы будем и впредь защищать ее. Мы [я имею в виду всех нас: Четвертый участок, который глаз не сомкнет и не успокоится, пока не покончит с Лукасом Бичемом (или с кем-то там еще) и тем самым расплатится за Винсона Гаури, и Первый, Второй, Третий и Пятый участки, которые безгневно, из принципа, хотят быть очевидцами этой расплаты] не знаем, почему это важно. Нам и не надо это знать. Очень немногие из нас понимают, что только из целостности и вырастает в народе или для народа нечто имеющее длительную, непреходящую ценность – литература, искусство, наука и тот минимум администрирования и полиции, который, собственно, и означает свободу и независимость, и самое ценное – национальный характер, что в критический момент стоит всего; а этот критический момент наступит для нас, когда мы сойдемся с противником, у которого людей не меньше, чем у нас, и сырья не меньше и который – кто знает – способен даже хвастаться и бахвалиться не меньше нас.
Вот почему мы должны противиться Северу: не просто чтобы уберечь себя, ни даже обоих нас, чтобы остаться единым народом, ибо это будет неизбежным побочным результатом того, что мы сохраним; а это и есть то самое, во имя чего мы три поколения назад проиграли кровавую войну на собственных задворках – правда, не требующая доказательств: что самбо – это человек, живущий в свободной стране, и, следовательно, он должен быть свободен. Вот это мы, в сущности, защищаем: право самим предоставить ему свободу; мы должны это взять на себя по той причине, что никто другой не может этого сделать, ибо вот уже скоро сто лет, как Север сделал такую попытку и вот уже на протяжении семидесяти пяти лет признает, что у него это не вышло. Итак, это предстоит сделать нам. И скоро уже такого рода вещей можно будет даже и не опасаться. Их и теперь не должно бы быть. Не должно было бы быть и раньше. И никогда. И, однако, вот только что, в субботу, это случилось и, наверно, случится еще, может быть, раз-другой. Но потом – все. Больше этого не будет; конечно, срам останется, но ведь вся летопись человеческого бессмертия – это страдания, перенесенные человеком, и его стремление к звездам путем неизбежных искуплений. Придет время, когда Лукас Бичем сможет убить белого человека, не страшась веревки или бензина линчевателя, как любой белый убийца; со временем он будет голосовать наравне с белым везде, где бы он ни захотел, и дети его будут учиться в любой школе с детьми белого человека, и он будет так же свободно ездить куда захочет, как и белый человек. Но это будет не во вторник на этой неделе. А вот северяне считают, что это можно сделать принудительно даже и в понедельник – просто принять и утвердить такой-то напечатанный параграф закона; они забыли, как когда-то, после того, как уже четверть века свобода Лукаса Бичема была узаконена особой статьей нашей конституции[126], а хозяина Лукаса Бичема не только поставили на колени, но потом еще на протяжении десяти лет топтали и смешивали с грязью, чтобы заставить его проглотить это, всего каких-нибудь три коротких поколения спустя они снова очутились перед необходимостью еще раз узаконить свободу Лукаса Бичема.
Что же касается самого Лукаса Бичема, самбо тоже сохранил свою целостность, исключая ту часть его, которая дает поглотить себя даже не тому, что есть лучшего в белой расе, а чему-то второсортному – дешевой, дрянной, неряшливой музыке, дешевым, фальшивым, не имеющим подлинной стоимости деньгам, сверкающим нагромождениям рекламы, построенной ни на чем, как карточный домик над пропастью, и всей этой трескучей белиберде политической деятельности, которая была когда-то нашей мелкой кустарной отечественной промышленностью, а теперь стала нашим отечественным любительским времяпрепровождением, всей этой искусственной шумихе, создаваемой людьми, которые сначала умышленно подогревают нашу национальную любовь к посредственному, а потом наживаются на ней; мы берем все лучшее, но с условием, что это будет разбавлено и изгажено, прежде чем нам это подадут; мы единственный народ на земном шаре, который открыто похваляется тем, что он туполобый, то есть – посредственный. Так вот, я имею в виду не этого самбо. Я имею в виду всех остальных из его народа, кто лучше нас уберег свою целостность и доказал это, удержавшись корнями в земле, с которой народу самбо надо было действительно вытеснить белых, пересидеть их, потому что у него было терпение, даже когда не было надежды, дальновидность, даже когда впереди нечего было видеть, и не просто готовность терпеть, но страстное желание вытерпеть, потому что он любил немногие простые, привычные вещи, которые никто не порывался у него отнять, – не машину, не кричащие наряды, не собственный портрет в газете, но немножко музыки (своей собственной), очаг, ребенка – и не только своего, а любого, – Бога и небеса, к которым человек может иметь доступ в любое время, не дожидаясь, когда он умрет, клочок земли, чтобы орошать своим потом посаженные им самим ростки и побеги. Мы – он и мы – должны объединиться; мы должны предоставить ему все недоданные экономические, политические и культурные привилегии, на которые он имеет право, в обмен на его способность ждать, терпеть и выдержать. И тогда мы преодолеем все; вместе мы будем владеть Соединенными Штатами; мы будем их оплотом, мало сказать неуязвимым, но таким, для которого перестанут быть угрозой массы людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха, оттого что у них нет никакого национального характера, как бы они ни старались скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу.
Теперь они уже были на месте и, оказывается, не так уж и отстали от шерифа. Потому что, хотя он уже успел отвести машину с дороги и поставить ее в роще перед часовней, сам он стоял около нее и один из негров только еще подавал кирку через откинутый верх машины назад другому арестанту, стоявшему с двумя лопатами. Дядя подъехал к машине и остановился рядом, и сейчас, в дневном свете, он, в сущности, первый раз увидел часовню, а ведь он всю жизнь жил всего в десяти милях отсюда и ходил мимо и уж по меньшей мере раз пять видел ее. Но только он не помнит, чтобы он когда-нибудь до этого по-настоящему смотрел на нее – обшитый досками, без единого шпиля домик, ничуть не больше, чем некоторые из этих однокомнатных хижинок, в которых живут здесь, в горах, некрашеный тоже, но (странно) совсем не убогий и даже не запущенный, не обветшалый, потому что там и сям видны были свежие сырые доски и куски синтетического кровельного материала, наложенные заплатами на старые стены и дранку с какой-то остервенелой и чуть ли не оскорбительной поспешностью; он не ютился, не прятался и даже не прикорнул, а стоял среди стволов высоких, сильных, долговечных косматых сосен, одинокий, но не покинутый, неподатливый, независимый, ничего ни у кого не прося, никому ни в чем не уступая, и ему вспомнились высокие стройные шпили, которые говорили: «Мир», и приземистые назидательные колокольни, которые говорили: «Покайся», а одна даже говорила: «Берегись», но эта часовня говорила просто: «Пылай», и они с дядей вылезли из машины; шериф и оба негра с лопатами и кирками уже вошли в ограду, и они с дядей прошли за ними через осевшую калитку в низкой проволочной изгороди, сплошь заросшей жимолостью и мелкими белыми и розовыми цветами лишенной всякого запаха вьющейся розы, и он увидел кладбище, тоже в первый раз – это он-то, который не только осквернил здесь могилу, но отринул одно преступление, обнаружив другое! – огороженный прямоугольник земли поменьше тех садовых участков, какие он видел сегодня; к сентябрю он, наверно, весь зарастет, и сюда едва можно будет пробраться, его будет почти не видно за этими зарослями полыни, крапивы, жимолости, откуда несимметрично, без какого бы то ни было порядка, словно книжные карточки, сунутые кое-как в картотечный ящик, или зубочистки, натыканные в ломоть хлеба, торчали, слегка наклонившись – как бы переняв свое застывшее перпендикулярное положение у гибких, неуемных, никогда не стоящих совсем вертикально сосен, – тонкие, как черепица, плиты из дешевого серого гранита, такие же потемневшие, как и некрашеная часовня, словно они были вырублены топорами из ее бока (и на них без эпитафий высечены просто имена и даты, как если бы о тех, кто был предан земле, даже те, кто их хоронил, не помнили ничего, кроме того, что они жили и умерли), и вовсе не разрушение, не время заставило наложить на израненные стены часовни свежие сырые заплаты из некрашеного неструганого дерева, а простые требования смерти и удел плоти.
Они с дядей пробрались между плитами туда, где шериф с двумя неграми уже стояли над свежезасыпанным холмом, который он тоже увидел сейчас в первый раз, хотя сам разрывал его. Но они еще и не начинали копать. А шериф даже стоял, повернувшись, и смотрел на него, пока он и дядя не подошли и не остановились.
– Ну, за чем же дело стало? – спросил дядя.
Но шериф, обратившись к нему, сказал своим мягким, тягучим голосом:
– Я полагаю, вы, и мисс Юнис, и этот ваш секретарь соблюдали всяческую осторожность, чтобы вас никто не поймал за этим занятием вчера ночью? Не так ли?
Ответил дядя:
– Да уж за таким занятием вряд ли желательны зрители.
Но шериф продолжал смотреть на него:
– Тогда почему же они не положили на место цветы?
И тут он увидел их тоже – искусственный венок, невзрачное замысловатое сооружение из проволоки, нитей, лакированных листьев и каких-то невянущих цветов, которые кто-то принес или прислал из цветочного магазина из города, и три букета поникших садовых и полевых цветов, перевязанных бечевкой, – все это, как сказал вчера ночью Алек Сэндер, было раскидано или просто брошено на могилу, и он помнит, как Алек Сэндер и сам он сняли и отложили их в сторону, чтобы они не мешались, а потом, после того как они снова засыпали могилу, положили их обратно; он вспомнил, как мисс Хэбершем дважды сказала им, чтобы они положили их обратно, после того как он пытался возразить и говорил, что это ни к чему, только трата времени; ему даже припомнилось, что и мисс Хэбершем помогала их класть обратно; а может быть, он вовсе и не помнит, что они положили их обратно, а ему это только кажется, потому что ведь вот же – они не лежат на месте, а свалены все с одной стороны в кучу, нельзя даже и разобрать, и, должно быть, он или Алек Сэндер наступил на венок, но теперь-то это уже не имеет значения, и вот именно это сейчас и говорил дядя:
– Что теперь об этом думать. Давайте-ка начнем. Даже когда мы покончим здесь и поедем обратно в город, все это будет еще только начало.
– Ну, ребята, – обратился шериф к неграм, – валяйте. Пойдем-ка отсюда!
И он не заметил никакого шума, ничего, что могло бы его насторожить, просто поглядел по сторонам вслед за дядей и шерифом и увидел, как откуда-то из-за часовни, а не с дороги, словно из самих качающихся на ветру высоких сосен, появился человек в светлой с широкими полями шляпе, в чистой выгоревшей голубой рубашке с пустым левым рукавом, аккуратно свернутым и приколотым манжетой к плечу английской булавкой, на маленькой гладкой рыжей кобылке, у которой то и дело опасливо сверкали белки, за ним следовали двое молодых людей – верхом без седла на одном широкозадом муле с арканом на шее, а за ними бежали (держась осторожно, на расстоянии от задних копыт мула) две длинные гончие; проехав быстрой рысью через рощу, человек остановил лошадь у калитки, быстро и легко оперевшись единственной рукой, соскочил наземь и, кинув поводья на шею лошади, легким, твердым, почти пружинистым, быстрым шагом прошел в калитку и направился к ним – маленький, сухощавый старичок с такими же светлыми глазами, как у шерифа, с красным, обветренным лицом, на котором, словно орлиный клюв, выступал крючковатый нос; еще не дойдя, он заговорил высоким, тонким, твердым, ничуть не надтреснутым голосом:
– Что здесь такое происходит, шериф?
– Я собираюсь вскрыть эту могилу, мистер Гаури, – сказал шериф.
– Нет, шериф, – мгновенно отрезал тот, нисколько не меняя голоса, не споря, ничего не отстаивая, просто заявляя. – Не эту могилу.
– Эту самую, мистер Гаури, – сказал шериф. – Я собираюсь ее вскрыть.
Без всякой поспешности или суетливости, можно сказать, почти медлительно старик расстегнул своей единственной рукой две пуговицы на груди рубашки и сунул руку внутрь, слегка извернувшись боком, чтобы руке было удобнее, и вытащил тяжелый никелированный револьвер и все так же без всякой поспешности, но и без малейшего колебания сунул револьвер под мышку левой руки, прижав его культей к телу рукоятью вперед, пока его единственная рука застегивала рубашку, а затем снова схватил револьвер своей единственной рукой и, не направляя ни на что, просто держал его в руке.
Но еще задолго до этого он увидел, как шериф, сорвавшись с места, метнулся с невероятной быстротой не к старику, а вбок, за край могилы, прежде даже, чем оба негра повернулись и опрометью кинулись бежать, так что только они сломя голову ринулись, как тут же со всего маху налетели на шерифа, как на скалу, – казалось, их даже чуть-чуть отбросило назад, но шериф ухватил их обоих, каждого одной рукой, как ребятишек, а в следующую секунду уже, казалось, держал их обоих в одной руке, словно две тряпичные куклы, и, повернувшись всем торсом, так что он оказался между ними и маленьким жилистым старичком с револьвером, сказал своим мягким и даже как будто сонным голосом:
– Бросьте это. Неужели вы не понимаете, что самое страшное, что может случиться с черномазым, – это очутиться сегодня на воле, вот здесь, в арестантских штанах и пытаться скрыться.
– Верно, ребята, – сказал старик своим высоким, лишенным оттенков голосом. – Я вас не трону. У меня тут разговор с шерифом. Могилу моего сына – нет, шериф.
– Отправьте их обратно в машину, – быстро шепнул дядя.
Но шериф не ответил и все еще не сводил глаз со старика.
– Вашего сына нет в этой могиле, мистер Гаури, – сказал шериф.
А он смотрел и думал: ну, что может старик сказать на это – удивится, не поверит, возмутится, может быть, или даже невольно подумает вслух: «Как это вы можете знать, что моего сына нет здесь?» – или, выслушав, молча поразмыслит и скажет примерно вот так же, как шериф сказал дяде шесть часов тому назад: «Вы бы не позволили себе сказать мне это, если бы вы не знали, что это действительно так», – смотрел и даже как будто сам вместе со стариком отмахнулся от всего этого и вдруг с изумлением подумал: Да ведь он убит горем, – и тут же подумал, как за эти два года он дважды видел горе там, где он никак не ожидал и не предполагал, что оно может быть, где, казалось бы, вовсе и не место быть сердцу, способному разрываться от горя: один раз у старого негра, который только что схоронил свою старую негритянку жену, и вот сейчас у этого неистового старика, безбожника, сквернослова, который лишился одного из своих шести ленивых, неистовых, разнузданных и не то что более или менее, а совсем уж негодных сыновей; только один из них, да и то разве что вот этой своей последней отчаянной выходкой, сумел сделать что-то на благо своим ближним и своему округу: дал себя убить и всех от себя избавил; и вот опять этот высокий ровный голос, быстрый, твердый, безостановочный, без всяких оттенков, почти собеседующий:
– Надо полагать, шериф, вы не назовете мне имени человека, который обнаружил, что моего сына нет в этой могиле. Я полагаю, вы просто умолчите об этом.
Маленькие жесткие светлые глаза впиваются в маленькие жесткие светлые глаза, и голос шерифа, все такой же мягкий, но теперь непроницаемый:
– Нет, мистер Гаури. Могила не пустая. – И потом уже, много позже, он вспомнил, что вот тут-то ему и показалось, что он понял – не то, конечно, почему Лукас остался в живых и его позволили увезти в город, это-то само собой ясно: никого из Гаури, кроме мертвеца, там в тот момент не было, – но по крайней мере хоть как это случилось, что старик и двое его сыновей появились из лесу, из-за часовни чуть ли не в ту же самую минуту, когда шериф и он с дядей подошли к могиле, и еще, конечно, почему почти двое суток спустя Лукас все еще жив. – В ней лежит Джек Монтгомери, – сказал шериф.
Старик мигом повернулся, не поспешно, не проворно даже, а просто без всякого усилия, как если бы его маленький, сухой, лишенный мяса костяк не оказывал сопротивления воздуху и не тормозил двигательные мускулы, и крикнул в сторону ограды, где двое молодых людей все еще сидели на муле, одинаковые, как два манекена в магазине готовой одежды, и такие же неподвижные, они так и не слезали, пока старик не крикнул:
– Сюда, мальчики!
– Не беспокойтесь, – сказал шериф. – Мы сами. – Он повернулся к неграм: – Ну-ка, берите ваши лопаты…
– Я же вам говорил, – снова неслышно шепнул дядя, – отошлите их обратно в машину.
– Правильно, адвокат – адвокат Стивенс, если не ошибаюсь, – сказал старик. – Уберите их отсюда. Это наше дело. Мы этим сейчас займемся.
– Это теперь мое дело, мистер Гаури, – сказал шериф.
Старик поднял револьвер, спокойно, не спеша согнул руку в локте, пока револьвер не оказался на должном уровне, и, обхватив большим пальцем курок, взвел его так, что оружие теперь было на взводе, может быть, еще не совсем на полном и не то чтобы точно нацелено, а так, направлено куда-то на уровень пустых петель для пояса на брюках шерифа.
– Уберите их отсюда, – сказал старик.
– Хорошо, – сказал шериф. – Ступайте в машину, ребята.
– Подальше, – сказал старик. – Отошлите их обратно в город.
– Это заключенные, мистер Гаури, – сказал шериф. – Я этого не могу сделать. – Он не двинулся с места. – Ступайте, садитесь в машину, – повторил он им.
И тут они повернулись и пошли не назад, к калитке, а прямо через проволочную ограду, шагая очень быстро, высоко поднимая ноги и коленки в грязных полосатых штанах, и все ускоряли шаг, пока не дошли до второй изгороди, а там – то ли перешагнули, то ли перескочили через нее и только тогда повернули в обратную сторону, к машинам, и все для того, чтобы дойти до машины шерифа, не приближаясь нигде по дороге к двум белым на муле; а он смотрел на этих сидящих на муле, одинаковых, как две зажимки на веревке для сушки белья: одинаковые лица, даже загорели и обветрились одинаково, свирепо-запальчивые и спокойные, – пока старик не окликнул их еще раз:
– А ну, мальчики! – И они соскочили оба сразу, одним движением, как тренированная пара в каком-нибудь эстрадном номере, оба, как один, шагнули левой ногой через ограду, даже не поглядев на калитку, – близнецы Гаури, неразличимые вплоть до одежды и башмаков, только на одном рубашка хаки, а на другом тонкая безрукавка джерси, лет им уже под тридцать, на голову выше отца, с такими же светлыми глазами, как у него, и нос такой же, клювом, разве только что у них не орлиный, а ястребиный; они подошли и, не произнося ни слова, даже не кинув взгляда ни на кого из них, остановились и стояли с угрюмыми, спокойными, неприветливыми лицами, пока старик, показав револьвером (он заметил, что предохранитель сейчас по крайней мере был спущен) на две лопаты, не сказал своим высоким голосом, в котором даже появилось какое-то оживление: – Хватайте, ребятки. Это имущество округа, если мы и сломаем одну из них, взыскивать некому, кроме суда присяжных.
Близнецы, стоя теперь лицом друг к другу по обе стороны могилы, принялись копать все с той же безупречной, почти балетной согласованностью движений; это были последние перед самым младшим, покойным Винсоном, – четвертый и пятый из шести сыновей, – старший, Форрест, мало того что вырвался из-под власти своего свирепого деспота отца, но даже женился и вот уже двадцать лет служил управляющим хлопковой плантацией в Пойме, повыше Виксберга; второй, Кроуфорд, был призван в армию второго ноября 1918 года, а в ночь на одиннадцатое (надо же так просчитаться, вот уж действительно невезение, говорил дядя, не дай Бог ни одному человеку, – в сущности, этой же точки зрения придерживались, по-видимому, и судившие его органы федеральной власти, потому что его приговорили к заключению в Ливенуортской тюрьме всего только на один год) он дезертировал[127] и чуть ли не полтора года скрывался в разных пещерах и подземных убежищах в горах, в пятнадцати милях от здания федерального суда в Джефферсоне, до тех пор, пока его наконец не схватили после чуть ли не настоящей атаки с боем (к счастью для него, никто не был серьезно ранен), но он продержался в своей пещере свыше тридцати часов, вооруженный (и дядя говорил, что он проявил немалую стойкость и мужество, этот дезертир из армии Соединенных Штатов, защищавший свою свободу от правительства Соединенных Штатов оружием, захваченным у врага, с которым он не желал драться) автоматическим пистолетом, который один из сыновей Маккалема[128] забрал у пленного офицера, а вернувшись домой, выменял на пару гончих у Гаури; когда Кроуфорд, отсидев год, вернулся, в городе через некоторое время пошли слухи, что он в Мемфисе, где он 1) занимается тайной поставкой спиртных напитков из Нового Орлеана, 2) поступил секретным агентом к хозяевам какого-то предприятия на время стачки, но, как бы там ни было, он вдруг снова появился и опять стал жить в родительском доме, и с тех пор его мало кто видел, и вот только несколько лет тому назад в городе стали говорить, что он более или менее остепенился, торгует понемножку лесом, скотом и даже будто засадил небольшой участок земли; третий, Брайен, был поистине опорой, движущей силой, связующим элементом – как там ни назови, – но на нем или им, в сущности, и держалась родительская ферма, которая кормила их всех; затем близнецы Вардаман и Бильбо, которые целые ночи просиживали перед тлеющим костром из пней и гнилушек, в то время как псы загоняли лисиц, а днем спали на голом дощатом полу на веранде до тех пор, пока не стемнеет и снова можно будет спустить собак; и, наконец, последний, Винсон, у которого с самого детства наблюдалась склонность к торговле и любовь к деньгам, так что, хотя он умер всего двадцати восьми лет, говорили, будто он не только владел несколькими земельными участками в округе, но был первым Гаури, чья подпись на чеке была достаточна для любого банка; близнецы, по колено, а затем уже по пояс в земле, копали с угрюмой и свирепой поспешностью, точно роботы, и в таком совершенном единении, что обе лопаты, казалось, в один и тот же миг стукнули о крышку гроба, но даже и тогда они словно сговорились – без каких-либо явных знаков общения, как птицы или животные, без звука, без жеста, – просто один из них вышвырнул наверх вместе с землей одним и тем же броском лопату и сам без всякого усилия легко выбросился из ямы и стал на краю среди других, в то время как его брат сгребал остатки земли с крышки гроба, затем, не глядя, швырнул наверх лопату и – так же как он сам этой ночью – смахнул с краев крышки приставшую землю, и, упершись одной ногой, схватил крышку, дернул ее вверх, приподнял и сдвинул, так что все стоявшие на краю могилы могли теперь заглянуть в гроб.
Он был пустой. В нем совсем ничего не было, пока маленькая струйка земли, отскочившей откуда-то, не покатилась по дну с сухим шепчущим звуком.
Глава восьмая
И он как сейчас помнит это: все пятеро они стояли на краю могилы над пустым гробом, потом таким же быстрым, плавным движением, как и его близнец-брат, второй Гаури выскочил из могилы и, нагнувшись, с сосредоточенным, недовольным и даже несколько возмущенным и расстроенным видом начал счищать и сбивать комья глины, приставшие к низу штанин, первый близнец сразу же, как только второй нагнулся, двинулся прямо к нему, словно повинуясь в своем поспешном, слепом, неуклонном движении некоему приводному устройству, точно он был другой частью машины, другим шпинделем какого-нибудь, ну, скажем, токарного станка, двигающимся по той же неотвратимой станине к своему гнезду, и, нагнувшись, стал счищать и отряхивать глину сзади со штанин брата; и теперь уже чуть ли не целая глыба земли свалилась вниз и, ударившись о сдвинутую крышку, грохнула в пустой гроб, произведя своей массой и тяжестью такой шум, что даже послышалось слабое глухое эхо.
– Выходит, он обоих убрал, – сказал дядя.
– Да, – сказал шериф. – Но куда?
– Черт с ними с обоими, – сказал старик Гаури. – Где мой сын, шериф?
– Сейчас мы этим займемся. Найдем, мистер Гаури, – сказал шериф. – Хорошо, вы догадались взять с собой собак. Спрячьте-ка ваш револьвер да велите вашим сыновьям поймать собак и придержать их, пока мы здесь управимся.
– Нечего вам беспокоиться насчет револьвера и собак, – сказал старик Гаури. – Всякого, кто здесь шатался или скрывался, они выследят и поймают. Но мой сын и этот, как его, Джек Монтгомери – если он только в самом деле был найден в гробу моего сына, – они-то ведь не могли скрыться, чтобы замести следы.
– Успокойтесь, мистер Гаури, – сказал шериф.
Старик молча уставился на шерифа злобным взглядом. Он не дрожал, не горячился, не обнаруживал ни замешательства, ни удивления – ничего. Глядя на него, он представлял себе холодное, бледно-синеватое, похожее на слезу и как будто лишенное жара пламя, которое покачивается даже не на цыпочках, а чуть ли не паря над газовой горелкой.
– Хорошо, – сказал старик. – Я успокоюсь. А вот вам следует побеспокоиться. Вы, похоже, знаете об этом все, вы прислали ко мне посыльного с раннего утра, в шесть часов, я еще позавтракать не успел, вы меня сюда вызвали. Ну так приступайте к делу.
– Вот мы сейчас и собираемся начать, – сказал шериф. – Прежде всего мы сейчас выясним, откуда нам приступить. – Он повернулся к дяде и продолжал мягким, рассудительным и не совсем уверенным тоном: – Так вот, скажем, время – ну, что-нибудь около одиннадцати вечера. У вас мул или, может быть, лошадь, во всяком случае, нечто способное двигаться и нести двойную ношу, и мертвец поперек седла. И у вас не так уж много времени, иначе говоря, не так много, чтобы совсем об этом не думать. Конечно, в одиннадцатом часу народ кругом уже большей частью спит, тем более в воскресную ночь, когда завтра надо вставать спозаранку, начинать сызнова неделю, да еще в самую горячую пору посадки хлопка, и ночь сегодня безлунная, так что если даже кто еще и гуляет, вы здесь в такой глуши, что можно не опасаться, вряд ли кто сюда забредет. Но все же у вас на руках мертвец с пулей в спине, и, хоть сейчас только одиннадцать часов, день все равно рано или поздно должен наступить. Вот так. Ну, что бы вы сделали?
Они уставились друг на друга, словно впились глазами, или это дядя впился глазами в шерифа – такое худое, скуластое, энергичное лицо, ясные, быстрые, внимательные глаза, и напротив – громадное сонное лицо шерифа, глаза не впиваются, даже как будто не смотрят, мигают, точно в полудремоте, и в то же время оба молча видят, как все это происходит.
– Разумеется, – сказал дядя, – закопал бы снова. И тут же, поблизости, потому что рано или поздно, как вы говорите, хотя сейчас еще только одиннадцать, а утро наступит. Тем более что у него еще есть время вернуться обратно и переделать все снова наедине, самому, собственными руками. И ведь это тоже надо учесть – эту страшную необходимость, страшную не только тем, что она вынуждает его все опять переделать, но и тем, почему приходится все переделать; подумать только, он сделал все, что было в его силах, все, что от него можно было ждать, требовать, ведь никому и в голову не пришло бы, что ему придется на это пойти; и все сошло как нельзя лучше, лучше даже, чем можно было надеяться, и вдруг он слышит какой-то звук, шум, или, может быть, он случайно наткнулся на укрытый в кустах пикап, или, может быть, просто ему повезло, так уж вышло по милости судьбы или какого-то там бога, духа или джинна, которые до поры до времени охраняют убийцу, заботятся о его безопасности, пока другие парни успевают сплести или связать веревку, – ну, что бы там ни было, он вынужден вернуться назад тайком, привязать к дереву мула, или лошадь, или на чем он там ехал и ползти ползком на животе обратно и, спрятавшись (кто знает, может быть, вот за этой самой оградой), смотреть, как какая-то непоседа старуха и двое ребят, которым давно пора быть в постели за десять миль отсюда, разрушают весь его тщательно обдуманный замысел, стоивший ему таких неимоверных усилий, сводят на нет труд не только его жизни, но и его смерти тоже. – Дядя замолчал, и он увидел, как его блестящие, почти сверкающие глаза устремились на него. – А ты… ведь пока ты не вернулся домой, ты даже и думать не мог, что мисс Хэбершем поедет с вами. А без нее у тебя не было ни малейшей надежды, что Алек Сэндер поедет с тобой вдвоем. Так что если ты и в самом деле думал поехать сюда один раскапывать эту могилу, ты мне даже и заикаться не смей…
– Оставим это пока, – сказал шериф. – Так вот. Значит, закопать куда-то в землю. А в какую? Какую землю легче и скорее рыть, когда человек спешит и ему все приходится делать самому, даже если у него и есть лопата? В какого рода почву можно быстро запрятать труп, даже если у вас нет ничего, кроме перочинного ножа?
– В песок, – сказал дядя мгновенно, очень быстро, почти небрежно, чуть ли не рассеянно. – На дно рукава. Они же вам говорили сегодня, в три утра, что они видели, как он его вез туда. Чего же мы еще ждем?
– Хорошо, – сказал шериф. – Едем. – И ему: – Ты нам покажешь, где именно…
– Только Алек Сэндер сказал, что, может, это был и не мул, а…
– Все равно, – сказал шериф. – Пусть лошадь. Ты нам покажи где…
Он как сейчас помнит: он увидел, как старик сунул опять револьвер под мышку рукоятью вперед, прижал его культей, пока его единственная рука расстегивала рубаху, потом повернулся проворнее, быстрее даже обоих своих сыновей, вдвое моложе его, и сразу, уже впереди всех, махнул через ограду, подошел к лошади, схватил поводья и, ухватившись той же рукой за луку, вскочил в седло, потом обе машины на второй скорости – чтобы не скатиться по инерции – двинулись обратно вниз по крутому склону, и, когда он сказал: «Здесь» – где следы пикапа сворачивали с дороги в кусты и потом опять на дорогу, дядя остановил машину; а он смотрел, как свирепый старик с обрубком руки повернул на всем скаку свою рыжую кобылу в лес через дорогу и помчался по откосу, затем обе собаки вылетели за ним на откос, а потом мул с двумя одинаковыми деревяннолицыми сыновьями; тут они с дядей вылезли из машины, машина шерифа сзади стояла впритык, и им слышен был бешеный топот кобылы по косогору и высокий ровный голос старика, понукающий собак:
– Эй, эй, ищи! Возьми его, Ринг.
И дядя сказал:
– Наденьте на них наручники и пристегните к рулю.
И шериф:
– Нет. Нам понадобятся лопаты. – А он поднялся на откос и стал прислушиваться к топоту и крикам внизу; затем дядя, шериф и оба негра с лопатами оказались рядом с ним. Хотя рукав чуть ли не под прямым углом перерезал шоссе сразу за развилком, откуда начиналась грунтовая дорога в горы, все-таки до него было с четверть мили от того места, где они стояли или, вернее, откуда сейчас уже отошли, и, хотя всем им слышны были окрики старика Гаури и треск сучьев под копытами кобылы и мула, шериф пошел не туда, а зашагал по откосу вдоль дороги, почти параллельно ей, и шел так несколько минут и только тогда начал забирать вбок, когда они спустились в заросшую крапивой, лавром и густым ивняком низину между холмом и рукавом. Они пошли дальше, прямо через нее, шериф впереди, вдруг шериф остановился, внимательно вглядываясь под ноги, потом повернул голову и, глядя на него через плечо, стоял и ждал, пока они не подошли с дядей. – Твой секретарь не ошибся в первый раз, – сказал шериф. – Это был мул.
– Не этот же черный на аркане, – сказал дядя. – Не может быть, чтобы этот. Даже убийца не допустит такой грубой, такой наглой беспардонности.
– Да, – сказал шериф. – Вот этим-то они и опасны, вот почему их надо уничтожать или держать за решеткой. – И, поглядев вниз, на землю, он тоже увидел их: узкие, изящные, чуть ли не щеголеватые следы мула, совсем не соответствующие размерам животного, вдавленные глубоко, слишком глубоко для какого бы то ни было самого грузного мула с одним всадником; оттиснувшиеся в хлипкой грязи, следы уже заполнились водой, и, глядя на них, он даже увидел, как какой-то маленький водяной зверек юркнул по одному из них, оставив тоненькую, как ниточка, струйку всплывшего ила, и, стоя у этих следов теперь, когда они видели их, они могли проследить и самую стезю между доходившей до плеча, примятой и не выпрямившейся зеленью, которая, как борозда в поле или застывшая волна в кильватере судна, тянулась через болото, прямая как стрела, пока не исчезла в гуще ивняка над ручьем.
Они пошли по ней, ступая в оттиснувшиеся двумя рядами следы, идущие не туда и обратно, а оба ряда в одном направлении, – иногда след одного и того же копыта отпечатывался поверх следа, оставленного раньше, шериф, по-прежнему шагавший впереди, опять что-то говорил, говорил громко, но не оборачиваясь, как будто – так он подумал сначала – не обращаясь ни к кому:
– Обратно он пошел не этим путем. Вот тут он первый раз почувствовал, что времени у него мало. Он пошел напрямик по косогору: лес, темень, ему уже было все равно. Это было, когда он услышал что-то, ну что бы это могло быть? – Тут только он понял, к кому обращается шериф. – Может быть, твой секретарь свистел там или что еще. Ведь как-никак ночью, в такой час на кладбище…
Теперь они остановились на высоком берегу самого рукава, над широкой вымоиной в русле, по которому в весенние дожди мчался бурный поток, но сейчас бежала тоненькая струйка глубиной разве что в дюйм и немного больше ярда в ширину от одной заводи на отмели к другой, и только дядя успел сказать: «Конечно, этот идиот…» – как шериф шагах в десяти впереди них сказал:
– Вот оно.
И они подошли к нему, и он увидел, где стоял мул, привязанный к небольшому деревцу, и потом следы человека, шагавшего по краю обрыва, тоже более глубокие следы, чем оставил бы один человек, как бы он ни был грузен, и опять он представил себе муку, отчаяние, безотлагательную необходимость успеть дотащить в черной мгле сквозь колючий кустарник и головокружительно неотвратимый бег секунд эту ношу, которую человек не предназначен таскать; и тут он услышал шум и треск в зарослях подальше на берегу – это кобыла – и старик Гаури орет что-то, и опять треск и топот – это, наверно, мул, и затем – ну просто какой-то ад кромешный: крики и ругань старика, истошный лай и визг собак, глухие удары ногой в тяжелом башмаке по собачьим бокам; но они уже больше не в силах были бежать и, едва продираясь, с трудом прокладывали себе путь сквозь цепкие колючие заросли, пока наконец не выбрались на край обрыва и не заглянули вниз, в вымоину, и увидели невысокую свежую глинистую насыпь, которую кинулись разрывать собаки, и старика Гаури, который все еще отгонял их пинками и ругался, и тут они все бросились вниз с обрыва, кроме двоих негров.
– Постойте, мистер Гаури, – сказал шериф. – Это не Винсон.
Но старик как будто и не слышал. Он даже как будто не замечал, что здесь есть кто-то еще, – казалось, он даже забыл, почему он норовит пнуть ногой собак; он просто хотел отогнать их от насыпи и носился за ними, подпрыгивая на одной ноге, занеся другую для удара, и, даже когда они уже отбежали от насыпи и старались только увильнуть от него и выбраться наверх, он все еще кидался на них и осыпал их бранью, даже когда шериф схватил его за его единственную руку и остановил.
– Посмотрите на эту землю, – сказал шериф. – Вы что, не видите? Он так торопился, что даже и не закопал его. Это был второй, и он спешил, потому что уже почти рассвело и ему надо было его спрятать.
И теперь все они увидели: низенькая кучка свежей земли под самым обрывом, а в откосе над ней – глубоко врезавшиеся, яростные следы лопаты, как будто он рубил землю, вонзаясь в нее с размаху лезвием лопаты, как топором (и он опять представил себе это отчаяние, безотлагательность, неистовую рукопашную схватку с грузной, невыносимой инертностью земли), пока от нее не откололось и не рухнуло вниз столько, чтобы скрыть то, что ему надо было скрыть.
На этот раз им не понадобилось даже и лопаты. Тело было едва прикрыто; собаки уже раскидали землю, и он только теперь понял всю силу этой безотлагательности и этого исступленного отчаяния: обезумевший банкрот, доведенный до исступления крахом времени, которого у него не осталось даже настолько, чтобы скрыть улики своего исступления, и причину безотлагательности – ведь это было уже после двух ночи, когда они с Алеком Сэндером, оба торопясь изо всех сил, снова засыпали могилу; так что к тому времени, как убийца, мало того что один, без помощи, но еще и после того, как он со вчерашнего вечера после захода солнца уже раскопал однажды шесть футов земли и снова засыпал обратно, выкопал второе тело и снова еще раз засыпал могилу, верно, уже совсем рассвело, больше чем рассвело, – должно быть, само солнце подстерегало его, когда он второй раз спустился по склону и потом через заросли к рукаву, само утро сторожило его, когда он свалил труп с обрыва и судорожно стал рубить глинистую землю, сбрасывая ее вниз, только чтоб хоть как-нибудь временно прикрыть тело, – так жена в судорожной поспешности отчаяния бросает свой пеньюар на забытую перчатку любовника; оно (тело) лежало ничком, и виден был только проломленный сзади череп, затем старик нагнулся и своей единственной рукой дернул его каким-то деревянным рывком и перевернул на спину.
– Да, – сказал старик Гаури своим высоким, бодрым, далеко слышным голосом. – Это Монтгомери, он самый, черт побери. – И выпрямился, худой, быстрый, как соскочившая часовая пружина, и сразу завопил, закричал, подзывая собак: – Эй, эй, сюда! Мальчики! Ищите Винсона!
И тут дядя закричал тоже, стараясь, чтобы его услышали:
– Постойте, мистер Гаури! Постойте. – Потом шерифу: – Значит, он поступил так по-идиотски просто потому, что у него времени не было, а не потому, что он идиот. Я просто не могу допустить дважды… – И он поглядел по сторонам, окидывая всех быстрым взглядом. Он задержал его на близнецах. – Зыбучий песок, где это? – резко спросил он.
– Что? – отозвался один из близнецов.
– Зыбучий песок, – сказал дядя. – Зыбучий песок на дне в русле рукава. Где это?
– Зыбучий песок? – сказал старик Гаури. – Сукин сын! Бросить человека в зыбучий песок, адвокат? Моего сына в зыбучий песок?
– Помолчите, мистер Гаури, – сказал шериф. И, обращаясь к близнецам: – Ну? Где же?
Но он ответил раньше. Он уже несколько секунд порывался. И теперь сказал:
– Это у моста. – Потом, сам не зная почему, да это и не имело значения: – Только на этот раз это был не Алек Сэндер. Это Хайбой.
– Под мостом через шоссе, – поправил близнец. – Где всегда.
– Да, – сказал шериф. – А кто это такой Хайбой?
И он только хотел ответить, как вдруг старик, который, казалось, забыл даже и о своей кобыле, ринулся вперед и, прежде чем кто-нибудь из них успел двинуться с места, прежде даже, чем сам он успел двинуться, уже пробежал несколько шагов по расступающемуся под ногами песку, и, пока они еще только стояли и смотрели, повернулся, и с тем же кошачьим проворством, с каким он тогда вскочил на лошадь, ринулся вверх по откосу, цепляясь своей единственной рукой и топча и ломая сучья, прямо напролом, через чащу, и скрылся из виду, прежде чем кто-либо из них, кроме двоих негров, которые не сходили с откоса, успел подняться на берег.
– Живо. Задержите его! – крикнул шериф близнецам. Но они не успели. Они бросились за ним, первым – один из близнецов, потом все вперемежку, и оба негра тоже, через колючий кустарник, через заросли, назад вдоль рукава, и выскочили на берег в расчищенной полосе отчуждения под дорогой у самого моста; он увидел съезжавшие вниз следы копыт Хайбоя, там, где он почти спустился к воде и шарахнулся назад, пенящиеся струи ручья, задержанного бетонным устоем напротив и сбегающего дальше узкой лентой, которая своим ближним к нему краем сливалась незаметно с широкой полосой мокрого песка, такого гладкого, нетронутого и неразличимого своей поверхностью с водой, как если бы это было пролитое молоко; он шагнул, перескочил через длинный ивовый шест, валявшийся на самом краю обрыва и покрытый фута на четыре в длину тонким налетом присохшего песка, вот так же, как когда сунешь палку в ведро или в бак с краской, и шериф только крикнул близнецам впереди: «Держите его!» – он увидел, как старик уже прыгнул и летит с обрыва и без всплеска, без всякого звука продолжает лететь не сквозь эту гладкую поверхность, а мимо нее, как если бы он не провалился, а прыгнул мимо выступа скалы или подоконника – и вдруг, исчезнув до половины, остановился так же внезапно, без сотрясения, без толчка; просто застыл неподвижно, как если бы ему отсекли ноги до бедер взмахом косы, оставив его торс стоять торчком на гладком, бездонном, похожем на молоко песке.
– Все в порядке, ребята, – зычно и бодро крикнул старик Гаури. – Он здесь. Я на нем стою.
Один из близнецов снял с мула аркан и кожаные поводья и подпругу с кобылы, оба негра, орудуя лопатами, как топорами, бросились рубить ветки, в то время как все остальные таскали сучья, и жерди, и все, что только можно было найти, обломать и притащить, и затем оба близнеца и оба негра, оставив башмаки на берегу, сошли в песок, а с гор непрерывно доносился мощный немолчный ропот сосен, но пока еще никаких других звуков, хотя он все время напряженно прислушивался, поглядывая в обе стороны дороги, оберегая не величие смерти, потому что в смерти нет величия, а хотя бы некоторую благопристойность, минимум благопристойности, которая должна быть последним беспомощным правом каждого человека, пока бренные останки, покинутые им, не укроют от осмеяния и срама; тело теперь показалось ногами вперед, его выдирали, раскачивая, из невообразимого засоса; выволоченное рывками, с натугой, самодельной снастью, оно наконец вырвалось из песка с легким хлюпающим звуком, какой иногда издают губы, может быть, во сне, и на гладкой поверхности – ничего, легкая набежавшая морщинка, уже разгладившаяся и исчезнувшая, как слабый след тайно мелькнувшей улыбки; и потом, уже на берегу, когда они стояли над телом и он, настороженно, как никогда, с какой-то исступленной поспешностью, будто сам убийца, прислушивался, оборачиваясь то в одну, то в другую сторону дороги, хотя там по-прежнему ничего не было видно, и глядел на старика, покрытого, точно тот ивовый шест, тонким слоем песка до самого пояса, как он стоит, не сводя глаз с тела, лицо перекошено, и верхняя губа, искривившись, вздернулась вверх, обнажив безжизненный фарфоровый блеск и розовые бескровные десны вставных зубов, и вдруг – должно быть, уж какое-то время спустя после того, как его слышали все, – услыхал, узнал собственный голос:
– Ну, дядя Гэвин, дядя Гэвин, давайте уберем его с дороги, ну, хотя бы оттащим его вглубь, в кусты…
– Успокойся, – сказал дядя. – Они теперь все уже проехали. Они сейчас все в городе. – И он все еще смотрел, как старик нагнулся и начал неуклюже счищать своей единственной рукой песок, залепивший глаза, и ноздри, и рот, и рука его при этом казалась какой-то странной, одеревенелой, та самая рука, которая была так проворна, так скора на расправу: вмиг за пуговицы рубашки – и уже сжимает револьвер, и взведен курок; потом рука, протянувшись назад, начала шарить в кармане у пояса, но дядя уже вынул платок и протянул ему, да только поздно, потому что старик опустился на колени, выдернул полу рубахи и, нагнувшись, чтобы можно было дотянуться, стал вытирать мертвое лицо, потом пригнулся еще и попытался сдуть с лица мокрый песок, точно он забыл, что песок все еще влажный.
Затем старик поднялся и сказал своим высоким, ровным, пронзительным голосом, даже и сейчас лишенным всякого выражения:
– Ну, шериф?
– Это не Лукас Бичем сделал, мистер Гаури, – сказал шериф. – Джек Монтгомери был вчера на похоронах Винсона, а когда хоронили Винсона, Лукас сидел у меня за решеткой в городской тюрьме.
– Я говорю не о Джеке Монтгомери, шериф, – сказал старик Гаури.
– И я тоже, мистер Гаури, – сказал шериф. – Потому что это не из старого пистолета Лукаса Бичема, не из «кольта» сорок первого калибра, убили Винсона.
А он, глядя на них, думал: Нет! Нет! Не говори! Не спрашивай! И несколько секунд даже надеялся, что старик не спросит, потому что, хотя он стоял лицом к лицу с шерифом, он теперь не смотрел на него: его морщинистые веки опустились, закрыв глаза, но только так же, как когда смотрят на что-то внизу, под ногами, поэтому нельзя было сказать, закрыл старик глаза или просто смотрит на то, что лежит на земле между ним и шерифом. Но он ошибся: веки снова поднялись, и снова жесткие светлые глаза старика впились в шерифа; и снова голос его девятистам из девятисот одного человека показался бы просто оживленным.
– А из чего же убили Винсона, шериф?
– Из немецкого пистолета «люгер», мистер Гаури, – сказал шериф. – Вот такого, как сын Маккалема привез с собой из Франции в девятнадцатом году и обменял тем же летом на пару гончих.
И тут он подумал: вот сейчас веки снова закроются или должны закрыться, но опять ошибся и понял это только тогда, когда старик повернулся, быстрый, пружинистый, и сказал властно и громко, не просто пресекая заранее все возражения и споры, но даже не допуская мысли, что кто-то посмеет ему возразить:
– Ну, ребятки! Кладите нашего мальчика на мула, и повезем его домой.
Глава девятая
И в тот же день в два часа, когда они ехали в дядиной машине за грузовиком (это был тоже пикап; они – то есть шериф – забрали его вместе с деревянной перегородкой для перевозки скота на пустом дворе дома в двух милях оттуда – один из близнецов Гаури знал, что там стоит грузовик; в этом доме был также и телефон, и он помнит, как он удивился: как же это так, машина стоит на дворе, на чем же поехали в город те, кто ее оставил? Мотор Гаури запустили обыкновенной столовой вилкой, которую он по указанию Гаури нашел в незапертой кухне, когда дядя пошел в дом звонить по телефону следователю, и вел пикап один из Гаури) и он не переставая мигал, не столько от солнца, сколько от чего-то жгучего и колючего под веками, вроде истолченного в пыль стекла (конечно, это могло бы – да и должно бы, собственно, – быть не чем иным, как пылью после двадцати с лишним миль по песчаным и щебнистым дорогам за одно утро, только от всякой пыли, когда так долго моргаешь, проступает слеза, а от этой – ничего), ему показалось, что на той стороне улицы, напротив тюрьмы, толпятся не только приехавшие из округи, не только с Первого, Второго, Третьего и Пятого участков, в выгоревших рубашках хаки без галстука, в бумажных и пестрых ситцевых платьях, но и городские тоже; что он видит не только лица людей, которых он видел, когда они выскакивали из пыльных машин, прикативших с Четвертого участка в субботу днем к парикмахерской и бильярдной, и потом в той же парикмахерской в воскресенье утром, и снова здесь на улице в воскресенье в полдень, когда шериф подъехал к тюрьме с Лукасом, но и другие лица – тех, кто в совокупности своей, если исключить докторов, адвокатов и священников, представляли собой не просто город, а Город с большой буквы: коммерсантов, скупщиков хлопка, агентов по продаже машин и более молодых людей – служащих, конторщиков, приказчиков, клерков и маклеров из магазинов, торговых контор и аукционов, механиков гаражей и заправочных станций, возвращавшихся на работу после завтрака, – и вся эта толпа, не дожидаясь даже, пока машина шерифа подъедет достаточно близко, чтобы ее можно было узнать, вдруг повернула и хлынула назад к Площади, как волны во время отлива, и, когда машина шерифа поравнялась с тюрьмой, она уже катилась обратно по Площади, теснясь и устремляясь через нее в одном направлении – наперерез; тут машина шерифа, за ней пикап и следом за ним дядина машина свернули в переулок за тюрьмой, ведущий к грузовому трапу у заднего входа в похоронное бюро, где их дожидался следователь; но, двигаясь не только параллельно им, с другой стороны разделявшего их квартала, а уже опередив их, толпа должна была раньше них достичь похоронного бюро, и вдруг, прежде даже, чем он успел повернуться на сиденье и поглядеть назад, он почувствовал, что она уже ворвалась в переулок и настигает их, еще секунда, миг – и вот сейчас она обрушится на них, взметет, подхватив по очереди: сначала дядину машину, потом пикап, потом машину шерифа, как три куриные клетки, потащит за собой, смешав все в одну сплошную, сразу потерявшую смысл и теперь уже ни к чему не годную кучу, и швырнет туда, вниз, к ногам следователя; все еще не двигаясь, хотя ему казалось, что он уже высунулся в окно или, может быть, даже стоит, едва удерживаясь, на подножке и кричит вне себя, задыхаясь от нестерпимого, невыносимого негодования: «Безмозглые идиоты, вы что, не видите, что опоздали, что вам теперь надо начинать все сначала, искать новый предлог?» – а затем, повернувшись на сиденье, он поглядел секунду-другую в заднее окно и действительно увидел его – не лица, а Лицо, не массу, даже не мозаику из лиц, а одно Лицо – не алчное, даже и не ненасытное, но просто двигающееся, бесчувственное, лишенное мысли или даже гнева: Выражение, не выражающее ничего, вне прошлого, – вроде того, какое возникает внезапно, когда вы, только что оторвавшись от невинного созерцания деревьев, облаков, живописной природы, мучительно и даже с каким-то остервенением вглядываетесь в течение нескольких секунд или даже минут в какую-нибудь загадочную картинку на рекламе мыла или в отрубленную голову на снимке в газете, показывающем варварство на Балканах или в Китае, – лишенное всякого достоинства и даже не внушающее ужаса: просто лицо без шеи, дряблое, осовелое, повисшее в воздухе, прямо перед ним, тут же, за стеклом заднего окна, и в тот же миг чудовищно устремившееся на него так, что он даже отшатнулся и уже подумал: Вот-вот, сейчас – мигнул, и оно исчезло, не только Лицо, но и лица – и весь переулок позади них, совсем пустой: никого, ничего, и даже в зияющем пролете улицы в конце переулка стоят разве что человек десять и поглядывают сюда, но и они, пока он смотрел, уже повернулись и пошли к Площади.
Он недоумевал всего какую-нибудь секунду. Они все пошли кругом, к тому входу, быстро, совершенно спокойно подумал он, не сразу нащупав (он заметил, что машина теперь остановилась) нужную ручку дверцы; машина шерифа и пикап тоже остановились у трапа, по которому трое или четверо мужчин катили тележку с носилками к откинутой сзади дверце пикапа, и он даже слышал позади голос дяди:
– Ну, теперь домой, и уложим тебя спать, пока твоя мамочка не догадалась вызвать доктора, чтобы он нам с тобой закатил укол из громадного шприца, – и тут он нащупал ручку и вылез из машины и, слегка споткнувшись – правда, только один раз, – стал очень твердо отбивать шаг по асфальту, хотя вовсе не спешил, просто ноги у него затекли от сидения в машине или, может быть, они даже одеревенели у него после такой беготни вверх и вниз по трясине через заросли, уже не говоря о том, что всю ночь он только и делал, что раскапывал да закапывал могилы, но по крайней мере хоть от сотрясения путаница в мозгах как-то проясняется, или, может быть, это от ветра при ходьбе; во всяком случае, если ему опять что-то представится, он хоть будет смотреть на это с ясной головой; вот теперь они идут по проходу между похоронным бюро и соседним зданием, но, конечно, они опоздали: Лицо теперь уже в последнем сокрушительном натиске давно перехлестнуло через Площадь, через тротуар, ворвалось, грохнув, в разлетевшуюся вдребезги витрину, растоптав маленькую, черную с бронзовыми буквами дощечку с именами и званиями компаньонов похоронной фирмы и единственную жалкую чахлую пальму в коричневом горшке, разнесло в клочья выгоревшую бордовую занавеску, последний жалкий заслон, ограждавший то, что осталось от Джека Монтгомери, или все, что осталось от его доли человеческого достоинства.
Теперь они вышли из прохода на тротуар к Площади, и вдруг он так и застыл на месте – кажется, чуть ли не в первый раз с тех пор, как они с дядей встали из-за стола после ужина и вышли из дому неделю, месяц или год или сколько там ни прошло с того воскресного вечера. Потому что на этот раз ему не понадобилось даже и мигнуть. Конечно, они стояли там, прижавшись носом к стеклу, но их было так мало, что они не могли бы даже загородить тротуар, а уж где там составить Лицо, ну, тоже, может быть, человек десять, не больше, и главным образом мальчишки, которым в это время следовало бы сидеть в школе; ни одного деревенского лица и даже ни одного настоящего мужчины, потому что остальные трое или четверо, хотя по росту их и можно было бы принять за мужчин, не были ни мужчины, ни мальчики, и они вечно торчали здесь – и когда старик эпилептик дядя Хогей Мосби из дома призрения свалился в канаву с пеной у рта, и когда Уилли Инграм ухитрился в конце концов всадить пулю в ногу или в бок собаке, про которую какая-то женщина сообщила ему по телефону, что она бешеная; и, стоя на тротуаре у выхода на Площадь, в то время как дядя медленно поднимался по проходу, и не переставая моргать воспаленными сухими веками, он смотрел, что за притча: Площадь еще была далеко не пустая, хаки, и ситец, и сатин вливались в нее, текли потоком к стоянкам машин и грузовиков, толпились, теснились перед дверцами, входили один за другим, влезали, карабкались, вскакивали, размещаясь на сиденьях, на подстилках, в кабинах; и уже взвывали стартеры, гудели запущенные моторы, скрежетали передачи скоростей, а люди все еще бежали к машинам, и вот не одна, а пять или шесть машин сразу попятились со стоянки, развернулись и покатили, а люди все еще подбегают к ним, хватаются за борта кузова, прыгают на ходу, а дальше он уже потерял счет и даже и не пытался считать; стоя рядом с дядей, он смотрел, как они стягиваются в четыре плотных потока и текут по четырем главным улицам, ведущим вон из города в четырех направлениях, набирая скорость прежде даже, чем выехать с Площади; лица мелькают еще один, последний миг, не обернувшиеся, а устремленные прочь, ни на что, прочь – и только раз, еще один последний раз, всего на миг и исчезают – в профиль, и кажется, будто гораздо быстрее, чем машина, которая их везет: судя по лицам, они уже покинули город задолго до того, как скрылись из виду, и вдвое быстрее, чем их умчала машина; и вдруг мама выросла рядом: стоит, не прикасаясь к нему, тоже, наверное, свернула в проход, когда шла из тюрьмы мимо трапа, где они, должно быть, все еще вытаскивают Монтгомери из машины, – но ведь дядя говорил, что они все могут выдержать при условии, что за ними всегда остается право утверждать, что они ничего не видели, – и спрашивает дядю:
– Где машина? – И потом, даже не дожидаясь ответа, поворачивается и идет по тротуару обратно, впереди них, стройная, прямая, строгая, как будто смотрит на них спиной, а каблучки так дробно постукивают по асфальту, как бывает иногда дома, и тогда все они – он, Алек Сэндер, и папа, и дядя – стараются держаться потише, и опять мимо трапа, где стоят теперь только пустая машина шерифа и пустой пикап, и в проход, и вот она уже открыла дверцу машины; тут они с дядей подошли и увидели снова в проеме в конце прохода, как они плывут мимо, словно по сцене, – машины, грузовики, лица, неуклонно в профиль, не изумленные, не в ужасе, а в каком-то необратимом отречении; мелькают мимо сплошным непрерывным потоком, и так много их, словно это старшие классы школы или, может быть, возвращающаяся с гастролей выездная труппа, дававшая представление «Битвы на холме Сан-Хуан»[129], – и вам не только не слышно, вам даже и не надо заставлять себя ни слышать этот смутно-приглушенный закулисный шум, ни видеть, как только что наступавшие или осаждавшие войска, едва очутившись за кулисами, забегали, засуетились, поспешно меняясь мундирами, шляпами, поддельными повязками раненых, чтобы потом снова появиться из-за спускающейся складками размалеванной кисеи, изображающей битву, отвагу и смерть, и снова героическим маршем пройти по сцене в арьергарде противника.
– Мы сначала отвезем домой мисс Хэбершем, – сказал он.
– Садись, – сказала мама, и после первого поворота налево на улицу позади тюрьмы он все еще слышал их, а когда они еще раз повернули налево на следующую поперечную улицу, опять в проеме, словно на авансцене, сплошным непрерывным потоком лица, застывшие в профиль над протяжным свистом колес по асфальту, а ведь ему пришлось ждать сегодня утром в пикапе минуты две-три, чтобы улучить момент и влиться в этот поток, и он ехал в одном направлении с ним; а дяде придется ждать минут пять – десять, чтобы нырнуть сквозь него и вернуться обратно к тюрьме. – Ну, что же ты? – сказала мама. – Заставь их пропустить, ведь тебе только влиться в ряд.
И он понял, что они вовсе и не собираются ехать к тюрьме, и он сказал:
– А мисс Хэбершем…
– А как прикажешь это сделать? – сказал дядя. – Просто закрыть глаза и нажимать изо всех сил правой ногой?
И, наверно, он так и сделал, потому что теперь они мчались в потоке и заворачивали вместе с ним к дому, все как положено, да об этом он даже и не беспокоился – что там влиться в поток, а вот как выскочить из него вовремя, прежде чем эта дикая сутолока – ну, не бегства, если кому не нравится так называть, а, скажем, исхода – подхватит и унесет их с собой, и тогда уж поток будет кружить их до темноты, пока из них чуть ли не дух вон, и наконец выплюнет еле живых поздней ночью, где-то у самой границы округа, а где – даже и на карте не разглядишь, и придется им оттуда добираться пешком в темноте; и опять он сказал:
– А мисс Хэбершем?
– У нее же пикап, – сказал дядя. – Ты что, не помнишь?
А он вот уже минут пять только и думал об этом и даже раза три пытался было сказать: мисс Хэбершем в пикапе, и дом ее меньше чем в полумиле отсюда, но все дело в том, что она не может туда попасть, потому что дом ее по одну, а пикап – по другую сторону этого непроницаемого барьера несущихся впритык машин и грузовиков, и он так же недосягаем для старой благородной девицы в подержанном пикапе, как если бы был в Монголии или на Луне; она сидит в своей машине с уже запущенным мотором, сцепление включено, нога на акселераторе, одинокая, независимая, покинутая, прямая и хрупкая под своей негнущейся допотопной и даже вымершей шляпкой – глядит, пережидает и только думает, как бы ей прорваться сквозь эту лавину, чтобы можно было убрать починенное белье, накормить цыплят, поужинать и лечь отдохнуть после тридцати шести часов без сна, что в семьдесят лет, должно быть, похуже, чем все сто в шестнадцать, глядит и пережидает это головокружительное мелькание профиля еще, еще немножко и даже довольно долго, но не вечно же, не слишком долго, потому что она женщина практичная, ей не понадобилось долго думать, чтобы решить, что единственный способ вытащить мертвеца из могилы – это поехать к нему на могилу и выкопать его, так и теперь она не будет слишком долго раздумывать, прежде чем решить, что единственный способ обойти препятствие, а ведь сейчас скоро уже и солнце зайдет, – это объехать его, и вот она уже гонит пикап параллельно препятствию и в том же направлении, одинокая, покинутая, но все еще такая же независимая, ну, может быть, она немножко нервничает, оттого что только сейчас поняла, что она едет несколько быстрей, чем привыкла, и любит ездить, сказать по правде, быстрей, чем она когда-либо ездила, и все еще она не вровень с ним, а только почти, потому что теперь он мчится на большой скорости – сплошной бесконечный свист в профиль, – и она понимает, что, даже если и будет прорыв, у нее, может, не хватит сноровки, или силы, или быстроты движений и верного глаза, или просто мужества; и она гонит все скорее и с таким напряжением следит одним глазом, не покажется ли прорыв, а другим поглядывает, как бы не сбиться с дороги, что только уже спустя некоторое время сообразит, что она повернула не на юг, а на восток и теперь не только ее дом быстро и неуклонно уменьшается, исчезая позади, но и Джефферсон тоже, потому что ведь оно или они ринулись из города не только в одном направлении, но по всем главным улицам, ведущим прочь из города – от тюрьмы, и похоронного бюро, и Лукаса Бичема, и того, что осталось от Винсона Гаури и Монтгомери, – вот как водяные клопы на пруду бросаются сразу наутек во все стороны, когда швырнешь камень, – и тогда на нее находит храбрость отчаяния – ведь расстояние, отделяющее ее от дома, все растет, и скоро уже опять ночь, и теперь она уже готова проскочить в любой прозор, в любую щель, старенький пикап мчится, едва касаясь земли, рядом с непроницаемым, слившимся в смутное пятно, мелькающим профилем, подвигаясь все ближе и ближе, совсем близко, и тут происходит неизбежное: глаз обманул, или дрогнула рука, или в самый напряженный момент, когда надо было зорко вглядеться, мигнула нечаянно, или просто что-то попалось на пути – камень, куча земли, что-то такое, чему предъявлять обвинения все равно как Господу Богу, – только она оказалась слишком близко, и потом было уже поздно, пикап рвануло, подхватило потоком колес на шинах и шарикоподшипниках выделанной прокатной стали и вихрем понесло в этой мешанине, и она мчится, по-прежнему вцепившись в теперь уже бесполезную баранку, нажимая на давно уже выжатый до конца акселератор, одинокая, затерянная, через медленно уходящий, мирно угасающий день, под нежно алеющий безветренный купол сумерек, все быстрее и быстрее, в последнем крещендо, к самой окраине, к самой границе округа, где они разлетятся во все стороны, скрывшись мгновенно по разным проселкам и проходам, как крысы или кролики, нырнувшие наконец каждый в собственную нору, и пикап замедлит ход и остановится чуть наискось, поперек дороги, там, где его выплюнул поток, потому что теперь уж она в безопасности, в округе Кроссмен, и может повернуть обратно на юг вдоль границы Йокнапатофы, включить фары и ехать с какой хочет скоростью по этим не отмеченным столбами проселочным дорогам; сейчас уже совсем ночь, и она уже в округе Мотт, и здесь можно взять на запад и теперь уже смотреть в оба, чтобы не упустить, когда можно будет повернуть на север и вынырнуть на шоссе, – девять и уже десять часов по окольным дорогам, совсем рядом с незримой чертой, за которой мечущиеся вдали огни фар вспыхивают и мелькают, ныряя в свои берлоги и норы, вот и округ Окатоба, скоро уже полночь, и, конечно, она здесь может повернуть на север и назад в Йокнапатофу, усталая, измученная, одинокая и неукротимая, а кругом только сверчки, лягушки, светляки, совы, козодои да собаки выскакивают с лаем из-под уснувших домов, и наконец какой-то человек, в ночной рубахе, в башмаках с распущенными шнурками, идет с фонарем:
– Куда вы хотите проехать здесь, леди?
– Мне надо попасть в Джефферсон.
– Джефферсон далеко позади, леди.
– Я знаю. Мне пришлось сделать крюк, чтобы объехать одного несносного, дерзкого старого негра, который взбаламутил весь округ, попытавшись прикинуться, будто он убил белого.
И тут он вдруг поймал себя на том, что он сейчас покатится с хохоту, поймал почти что вовремя, не совсем вовремя, не так чтобы успеть удержаться, но вовремя, чтобы заставить себя остановиться чуть не сразу же, и при этом он даже не почувствовал ничего, кроме удивления, а мама сказала резко:
– Дай гудок. Погуди, чтобы они тебя пропустили.
И он понял, что это был вовсе не хохот или, во всяком случае, не просто хохот, то есть звук был почти такой же, только его было как-то больше и он был жестче, точно ему было труднее вырваться, и тут он как будто вспомнил, почему он расхохотался, и вдруг сразу все лицо у него стало мокрое, слезы не потекли, а брызнули, хлынули потоком – эдакий громадный увалень, второй самый большой из них троих, больше мамы, больше, чем дядя был в его возрасте, ведь ему уже семнадцатый пошел, почти мужчина, но оттого, что в машине втроем сидеть так тесно и он не может не чувствовать своим плечом ее плечо и ее узкую руку на своем колене, вот ему и показалось, будто он маленький мальчик, которого только что отшлепали, – ведь он даже и не понял сразу, чтобы вовремя остановиться.
– Они бежали, – сказал он.
– Да ну, выезжай же, черт возьми! – сказала мама. – Поверни!
Что дядя и сделал, повернул не на положенной стороне улицы, а потом погнал машину с такой же скоростью, с какой он утром ехал к часовне, стараясь не отстать от шерифа, но это не потому, что мама ему внушила, что поскольку все в городе только и стараются выбраться оттуда, то никто сейчас по той стороне улицы на Площадь не едет, а просто так уж оно выходит, когда с вами в машине женщина, даже если она и не ведет ее; и он вспомнил, когда же это они ехали вот так же и дядя вел машину и сказал:
– Хорошо, а что я, по-твоему, должен сделать: просто закрыть глаза и нажимать на акселератор?
А мама сказала:
– А ты хоть раз видел, чтобы сталкивались машины, когда в обеих за рулем сидят женщины?
– Хорошо, сдаюсь, – сказал дядя, – возможно, одна из этих машин все еще в ремонтной мастерской, после того как вчера на нее налетел мужчина.
И тут он уже перестал что-либо видеть и слушал только долгое свистящее мчанье без конца, без начала, без следов трения колес по мостовой, словно звук рвущегося тугого шелка, и, к счастью, дом – на этой же неположенной стороне улицы, и вот они уже во дворе, а звук этот так и стоит у него в ушах, но теперь он уже может как-то совладать с этим своим хохотом, сосредоточиться на минутку и ухватить, что же это все-таки его вызвало, вытащить на свет божий, чтобы ему самому стало видно, что это вовсе не так смешно, далеко, за тысячи миль до смешного, раз уж мама не стерпела и выругалась.
– Они бежали, – сказал он и сразу спохватился – не надо говорить, но уже поздно было, даже когда еще он стоял, оглядываясь на самого себя, потом быстро зашагал по двору и вдруг остановился и не отдернул, а просто вырвал свою руку и сказал: – Послушай, я же не калека, просто я устал. Я пойду к себе в комнату и полежу немного. – И потом дяде: – Это сейчас пройдет. Вы приходите за мной, ну, так через четверть часа. – И опять остановился и, обернувшись к дяде, снова сказал: – Через четверть часа я буду готов, – и пошел, унося с собой в дом и даже у себя в комнате все еще продолжая слышать этот звук, даже через опущенные шторы и какое-то красное мелькание под веками, пока не приподнялся на локоть под маминой рукой, и опять дяде, стоявшему тут же, в ногах, за спиной кровати: – Четверть часа. Вы не уйдете без меня? Обещайте!
– Конечно, – сказал дядя. – Я не уйду без тебя. Я только…
– Будь добр, Гэвин, убирайся отсюда к черту, – сказала мама и потом ему: – Ляг. – И он лег, и все равно он слышал его, даже из-под руки, даже через ее узкую, тонкую, прохладную ладонь, только чересчур сухую, чересчур твердую и, пожалуй, даже чересчур прохладную; лучше чувствовать свой горячий, сухой, шероховатый от песка лоб, чем ее руку на нем, потому что с тем он уже свыкся, он уже давно его чувствует, но, даже если мотать головой, никак не вырваться из-под этой хрупкой, узенькой неотвязной ладони, не стряхнуть ее – ну все равно что пытаться стряхнуть со лба родимое пятно, но теперь уже перед ним было не лицо, теперь все они были к нему спиной, и он видел затылок – один, составленный из множества, единый затылок единой Головы, хрупкий, заполненный мякотью шар, беззащитный, как яйцо, но страшный в своем едином, монолитном, безликом напоре, устремленном не на него, а прочь.
– Они бежали, – сказал он, – успокоили свою совесть и сэкономили на этом целых десять центов, не удосужившись даже купить ему пачку табаку в знак того, что простили его.
– Да, – сказала мама. – Ты не думай об этом. – Но ведь это все равно что сказать «держись» человеку, который висит над пропастью, уцепившись одной рукой за выступ скалы: ничего другого он сейчас и не жаждет, как не думать, отойти в ничто, в сон, какая бы кроха этого «ничто» ему ни осталась; вот вчера вечером уж как ему хотелось спать, и он мог бы заснуть, но у него не было времени, и сейчас – никогда ему еще так не хотелось спать, и времени сколько угодно, целых пятнадцать минут (а может быть, пятнадцать дней или пятнадцать лет, никто даже ведь не знает, потому что никто ничего не может сделать, разве только можно надеяться, что Кроуфорд Гаури сам соизволит явиться в город, разыщет шерифа и скажет: «Правильно, я это сделал», потому что все, что у них есть, – это Лукас, который сказал, что Винсон Гаури был убит не из «кольта» сорок первого калибра или, во всяком случае, не из его, Лукаса, «кольта», да Бадди Маккалем, который еще неизвестно, то ли скажет, то ли нет: «Да, я променял двадцать пять лет тому назад Кроуфорду Гаури немецкий пистолет»; нет даже Винсона Гаури, если из Мемфиса явится полиция освидетельствовать, какой пулей он убит, потому что ведь шериф позволил старику Гаури увезти его домой смыть песок и похоронить еще раз завтра; и уж теперь Хэмптон с дядей могут завтра же ночью поехать и выкопать его), только он разучился спать или, может быть, – и в этом-то все и дело, – он боится упустить в «ничто» то немногое, что у него осталось; ничего, в сущности, – ни скорби, которая запомнилась бы, ни жалости, ни даже ощущения стыда, ни утверждения бессмертных человеческих чаяний от человека к человеку через очищение жалостью и стыдом, – нет, вместо всего этого только старик (для которого скорбь не есть нечто присущее ему самому, а просто некое временное, из ряда вон выходящее явление: убийство сына – рывком перевернул на спину чужое мертвое тело и не затем, чтобы утишить его немой обличительный вопль, взывающий не к состраданию, не к мести, а к справедливости, но только затем, чтобы увериться, что это не тот, и крикнул, не смутясь, громко, бодро: «Да, черт подери, это он самый, Монтгомери!») и Лицо; он ведь не ждал, что Лукаса в искупительном порыве вынесут из камеры высоко на плечах и водрузят, чтобы дать почувствовать всю торжественность его оправдания, ну, скажем, на пьедестал памятника конфедератам (или, может быть, лучше на балкон здания почты, под шестом, на котором развевается национальный флаг), так же как не ждала ничего такого для себя и Алека Сэндера и мисс Хэбершем; он-то (сам) не только не хотел, не мог даже и подумать об этом, потому что это обратило бы в ничто, свело к нулю всю сумму того, что выпало ему на долю свершить, ибо оно должно остаться безымянным, иначе оно потеряет всякую цену; конечно, ему тоже хотелось бы оставить во времени след, достойный человека, но и только, не больше, какой-то след своей жизни на земле, но смиренно, выжидая, даже мечтая смиренно, по правде сказать – даже не надеясь ни на что, кроме как (а это, конечно, и есть все) на какой-то выпавший ему безымянный случай совершить нечто сильное, смелое, суровое, не только достойное человека, но достойное занять место в летописи человеческих дел (и как знать, может быть, даже прибавить еще одну безымянную кроху к ее пламенной, бесстрашной суровости) в благодарность за то, что ему дано жить в то время, которое входит в нее; вот только об этом он и мечтал, даже не надеясь по-настоящему, готовый примириться с тем, что он упустил такой случай, потому что был недостоин; но уж этого он, конечно, никак не ожидал: не жизнь человеческая, спасенная от смерти, или хотя бы смерть, избавленная от позора и поругания, и даже не отмена приговора, а просто вынужденно несостоявшаяся встреча; не подлость, пристыженная собственным постыдным провалом, не воспоминание, преисполненное смирения и гордости, о величии и унижении человеческого духа, не гордость мужества, и пылкость, и сострадание, не гордость, не суровость и скорбь, но сама суровость, униженная тем, чего она достигла, мужество и пылкость, замаранные тем, с чем им пришлось столкнуться, – Лицо, сборное Лицо его земляков, уроженцев его родного края, его народа кровного, родного, с которым он был бы счастлив и горд оказаться достойным стать единым несокрушимым оплотом против темного хаоса ночи, – Лицо чудовищное, не алчно всеядное и даже не ненасытное, не обманувшееся в своих надеждах, даже не досадующее, не выжидающее, не ждущее; и даже не нуждающееся в терпении, потому что вчера, сегодня и завтра суть Есть; Неделимое; Одно [вот так и дядя говорил еще два, три или, может, четыре года тому назад, и чем он становился взрослее, тем он все больше убеждался, что так вот оно все и было, как говорил дядя: «Ты понимаешь, все это сейчас. Вчера не кончится, пока не наступит завтра, а завтра началось десятки тысяч лет тому назад. Для каждого четырнадцатилетнего подростка-южанина не однажды, а когда бы он ни пожелал, наступает минута, когда еще не пробило два часа в тот июльский день 1863 года[130], дивизии за оградой наготове, пушки, укрытые в лесу, наведены, свернутые знамена распущены, чтобы сразу взвиться, и сам Пиккет в своем завитом парике с длинными напомаженными локонами, в одной руке шляпа, в другой шпага, стоит, глядя на гребень холма, и ждет команды Лонгстрита – и все сейчас на весах, это еще не произошло, даже не началось, и не только не началось, но еще есть время не начинать, не выступать против того положения и тех обстоятельств, которые заставили задуматься не только Гарнетта, Кемпера, Армстида и Уилкокса, а многих других, и все же оно начнется, мы все знаем это, мы слишком далеко зашли и слишком много поставили на карту, в эту минуту даже и четырнадцатилетний подросток, не задумываясь, скажет: Вот сейчас. Быть может, как раз сейчас, – когда можно столько потерять или столько выиграть – Пенсильванию, Мэриленд, весь мир, и золотой купол самого Вашингтона увенчает безумную, немыслимую победу, отчаянную игру на ставку двухлетней давности; или, скажем, для кого-нибудь, кто плавал, ну, хотя бы на парусном челне, – момент 1492 года[131], когда кто-то подумал: «Вот, вот он!..» – последний необратимый предел: повернуть сейчас назад и без оглядки домой или плыть неуклонно вперед и – либо найти землю, либо низринуться через ревущий край света. У одной скромной, чувствительной поэтессы поры моей юности сказано[132] где-то: Чаинки брошенные к листьям льнут и всходят, и каждый день отходит в ночь закат, – поэтический вздор, который очень часто отражает истину, но только шиворот-навыворот, наизнанку, потому что поглощенный своим занятием сочинитель, не умеющий обращаться с зеркалом, забывает, что обратная сторона зеркала тоже стекло; потому что если бы он только понимал – ведь и вчерашний закат и вчерашний чай уже не отделить от этой несокрушимой, нерастворимой пыльной мешанины, которую по бесконечным переходам Завтра[133] наметает нам в башмаки, в которых нам придется ходить, и даже на простыни, на которых мы будем (или попытаемся) спать: потому что мы ничего не можем избежать, ни от чего убежать; преследователь сам обращается в бегство, и завтрашняя ночь – это одна сплошная, долгая бессонная борьба со вчерашними промахами и сожалениями»]; и оно-то и упустило не смерть, и даже не смерть Лукаса, а просто Лукаса, Лукаса в десятках тысяч воплощений самбо, которые беспечно и даже не подозревая, что из этого выйдет, ускользают в эту щель, как мыши в отверстие гильотины, покуда в один нежданный момент не упадет нежданный-негаданный равнодушный топор; завтра – то ли самое позднее, то ли самое раннее, – завтра, а может, вот как раз теперь и пришло время взяться за то, к чему и ангелам страшно подступиться, не то что шестнадцатилетним подросткам, белому и черному мальчишкам, и белой старухе, девице под восемьдесят лет; а они бежали – и не потому даже, чтобы отречься от Лукаса, а только чтобы не быть вынужденными послать ему жестянку табаку из лавки, не высказать не то чтобы сожаления, а просто не сказать вслух, что они были не правы; и, оттолкнувшись от скалы, он прыгнул и полетел ввысь, ввысь, замедляя полет и уже слыша опять, но теперь только чуть заметное содрогание воздуха, слушал, прислушивался, еще не двигаясь, даже не открывая глаз; так он лежал, прислушиваясь, еще минуту, затем открыл глаза и – дядя стоит в ногах кровати, силуэт, освещенный сзади, в такой полной, такой абсолютной тишине, в которой сейчас за тоненьким миллионоголосым звоном насекомых и мощной систолой и диастолой летней ночи нет ничего, кроме дыхания темноты, древесных лягушек и мошкары, – ни бегства, ни отречения, ни даже в эту минуту никакой безотлагательности – ни здесь, в комнате, ни снаружи, ни наверху, ни внизу, ни впереди, ни позади.
– Прекратилось, кажется, – сказал он.
– Да, – сказал дядя. – Они теперь уже, наверно, все улеглись, спят. Приехали домой, надо подоить коров и еще успеть засветло наколоть дров на утро, для завтрака.
Это был первый намек, но он все еще не двигался.
– Они бежали, – сказал он.
– Нет, – сказал дядя. – Это было нечто посерьезней.
– Они бежали, – сказал он. – Им больше уже ничего не оставалось, как только признать, что они были не правы. Вот они и убежали к себе домой.
– По крайней мере хоть сдвинулись с места, – сказал дядя, это был уже второй намек, а ему не надо было и первого, потому что не только потребность, необходимость, безотлагательность снова двигаться или, в сущности, вовсе и не переставать двигаться в тот миг, четыре, пять или шесть часов тому назад, когда он в самом деле думал прилечь на четверть часа (и, кстати сказать, действительно забылся на четверть часа, помнил он это или нет), не то чтобы снова вернулась, ей неоткуда было возвращаться, потому что она и сейчас была здесь, с ним и все время ни на секунду не покидала его, прячась позади этого фантасмагорического коловращения, обрывки и клочья которого все еще затемняли его мозги – ведь он пробыл в нем или с ним не пятнадцать минут, а, должно быть, пятнадцать часов; и эта безотлагательность все еще была здесь или по крайней мере какая-то незавершенная часть ее, оставшаяся на его долю, крошечная, как пылинка, по сравнению с тем, что приходилось на долю дяди и шерифа в этой не имеющей концов путанице с Лукасом Бичемом и Кроуфордом Гаури, потому что, насколько он был в курсе событий, до сегодняшнего утра никто из них понятия не имел, как быть дальше, еще до того даже, как Хэмптон выпустил из рук единственную имевшуюся у них улику, вернув ее этому пистолету, однорукому старику Гаури, откуда даже двое подростков и старуха не смогут ее на этот раз достать, – безотлагательная необходимость не завершить что-то, а просто не переставать двигаться, не то чтобы оставаться там, где ты был, а изо всех сил стараться не отстать, все равно как вот топать по ступенчатому колесу, приводя его тем самым в движение, не потому, что тебе надо быть там, где это колесо, а чтобы тебя не выкинуло из него и чтобы тебе не надо было, судорожно удерживаясь на ногах, ждать момента, когда снова удастся попасть на ступеньку и опять закрутиться вместе с ним, а не быть вытолкнутым его стремительной силой туда, за край, под бесконечно вращающийся обод, где ты, как бродяга, попавший между рельсами, по которым мчится поезд, сможешь уцелеть только в том случае, если будешь лежать не шелохнувшись.
И тут он двинулся.
– Пора, – сказал он и свесил ноги с кровати. – Сколько сейчас времени? Я просил через четверть часа. Вы обещали…
– Сейчас только половина десятого, – сказал дядя. – Масса времени, успеешь принять душ и поужинать тоже. Они не уедут, пока мы не придем.
– Они? – сказал он и встал, нащупывая босыми ногами (он лег не раздеваясь – снял только башмаки и носки) ночные туфли. – Значит, вы уже были в городе? Пока мы не приедем? Разве мы не едем с ними?
– Нет, – сказал дядя. – Нам с тобой вдвоем придется удерживать мисс Хэбершем. Она придет в контору. Так что пошевеливайся, она уже, наверно, ждет нас.
– Хорошо, – сказал он. А сам уже расстегивал рубашку и другой рукой пояс и брюки, чтобы сразу, одним движением, выскользнуть из всего. И на этот раз он действительно рассмеялся. По-настоящему. И даже совсем неслышно. – Так вот, значит, почему? – сказал он. – Чтобы их женам не пришлось колоть дрова в темноте и заставлять сонных ребят держать фонари и светить.
– Нет, – сказал дядя. – Они бежали не от Лукаса. Они о нем забыли и думать…
– Да ведь я как раз то же и говорю, – сказал он. – Они даже не задержались, чтобы послать ему жестянку табаку и сказать: «Все в порядке, старина, всякий ведь может ошибиться, мы на тебя не в обиде».
– Так ты этого хотел? – сказал дядя. – Жестянку табаку? И этого было бы достаточно? Нет, конечно. И это одна из причин, почему Лукас в конечном счете получит свою жестянку табаку; они настоят на этом, вынуждены будут настоять. Он будет получать свой табак регулярно, оплаченными порциями, до конца жизни здесь, у нас в округе, хочет он этого или нет, и не просто Лукас, а Лукас-самбо, потому что не оттого человек мечется без сна в кровати, что он причинил зло своему ближнему, а оттого, что он был не прав; просто зло (если он не может оправдать его тем, что он называет логикой) можно стереть, начисто уничтожив жертву и свидетеля, но ошибка остается при нем, и вот ее-то он всегда предпочитает не просто стереть, а загладить. Так что Лукас получит свой табак. Он, конечно, не пожелает его принять, будет всячески противиться. Но он получит его, и мы здесь у себя, в Йокнапатофском округе, сможем наблюдать древние восточные взаимоотношения между спасителем и спасенной им жизнью, только шиворот-навыворот: Лукас Бичем, некогда раб первого встречного белого, которому он попался на глаза, ныне тиран, подчинивший себе совесть всего белого населения округа. И они – Первый, Второй, Третий и Пятый участки – понимали это, так чего же тратить время, посылать ему сейчас десятицентовую жестянку табаку, когда весь остаток жизни пойдет на то, чтобы делать это. Вот они на время и отогнали от себя даже мысль о нем. Они бежали не от него – они бежали от Кроуфорда Гаури; просто отреклись – не в ужасе даже, а все, как один, сразу – от «не должно», «не следует», которые без всякого предупреждения вдруг обратились в не смей. Не убий, ты сам видишь, – это не обвинительно, не яростно, простая душеспасительная заповедь; мы приняли ее как отдаленный безымянный завет наших предков, она так давно стала для нас своей, мы лелеяли ее, питали, сохраняли вживе самый звук ее слов, берегли, чтоб они оставались как были, мы так носились с ней, что у нее теперь сгладились все неровности, мы можем спокойно спать с ней, мы даже на всякий случай обзавелись собственными противоядиями к ней, как предусмотрительная хозяйка, которая держит наготове на той же полке рядом с крысиным ядом разведенную горчицу или яичные белки; эта заповедь стала нам такой же своей, как лицо дедушки, такой же неузнаваемой, как лицо дедушки под тюрбаном индусского принца, и такой же не имеющей ни к чему отношения, как ветры у дедушки за столом во время ужина; и даже когда она нарушается и пролитая кровь корит и обличает нас, сама заповедь все же остается для нас истинной нерушимой заповедью. Мы не должны убивать и, может быть, в следующий раз и не будем. Но ты не убьешь дитя матери своей. Вот что вылезло на этот раз на свет божий, на улицу и шло рядом с тобой, разве не так?
– Значит, для Гаури и Уоркиттов сжечь Лукаса за то, чего он не делал, облить его бензином и поджечь – это одно, а для Гаури убить брата – другое.
– Да, – сказал дядя.
– Вы не можете так рассуждать.
– Да, – сказал дядя. – «Не убий» в заповеди, даже когда и убивают, не марает заповеди, она остается нерушимой. Ты не должен убивать, и кто знает, может быть, в следующий раз ты и не будешь. Но Гаури не смеет убить брата Гаури. Здесь нет никакого «может быть» и никакого следующего раза, когда Гаури, может быть, не убьет Гаури, – потому что нельзя, чтобы был первый раз. И не только для Гаури, но для всех: и для Стивенса, и для Мэллисона, и для Эдмондса, и для Маккаслина тоже; если мы не будем придерживаться того, что это означает не просто «не должно», а «не смей» – нельзя, чтобы Гаури, или Инграм, или Стивенс, или Мэллисон пролил кровь Гаури, или Инграма, или Стивенса, или Мэллисона, как можем мы надеяться достигнуть когда-нибудь того, что Ты ни в каком случае никогда не будешь убивать, иными словами: что жизнь Лукаса Бичема будет в безопасности не вопреки, а потому, что он Лукас Бичем?
– Выходит, они бежали, чтобы не быть вынужденными линчевать Кроуфорда Гаури, – сказал он.
– Они не стали бы линчевать Кроуфорда Гаури, – сказал дядя. – Их было слишком много, разве ты не помнишь: вся улица перед тюрьмой была запружена и Площадь тоже, и так все утро, пока они, вовсе и не собираясь трогать Лукаса, думали, что он убил Винсона Гаури.
– Они ждали, когда это сделают те, кто явится с Четвертого участка.
– Вот именно это я и говорю, – допустим на минуту, что это так. Та часть Четвертого участка, которую составляют Гаури и Уоркитты и еще четверо-пятеро других – а они никому из Гаури и Уоркиттов даже и понюшки табаку не дали бы, и если бы и пришли сюда, так только чтобы поглядеть на кровь, – не так уж велика, и вот она-то и образует сброд. Но когда все они вместе – это уже не то, просто потому, что существует какой-то численный предел, когда сброд в массе рассыпается, перестает существовать, может быть, потому, что он достигает таких размеров, что уже не может укрыться в темноте, пещера, в которой он расплодился, теперь уже недостаточно вместительна, чтобы спрятать его от света, и ему в конце концов волей-неволей приходится посмотреть на себя, или, может быть, потому, что количество крови в одном человеческом теле слишком ничтожно для такого множества, ну вот так, например, один земляной орех может возбудить аппетит у одного слона, но не у двух и не у десяти. А может быть, оттого, что человек, приставший к сброду, потом пристает к толпе, и она поглощает сброд, впитывает, переваривает его, и, когда его набирается чересчур много, чтобы раствориться даже в такой массе, из него снова выходит человек, доступный жалости, справедливости, совестливости, пусть хотя бы только в смутном воспоминании своего долгого, мучительного стремления к этому или, во всяком случае, к чему-то сияющему на весь мир чистым, ясным светом.
– Значит, по-вашему, человек всегда прав, – сказал он.
– Нет, – сказал дядя. – Он старается быть, когда те, кто использует его для собственного возвеличения и усиления своей власти, оставляют его в покое. Жалость, справедливость, совестливость – ведь это вера в нечто большее, чем в божественность отдельного человека (мы в Америке превратили это в национальный культ утробы, когда человек не чувствует долга перед своей душой, потому что он может обойтись без души, перед которой чувствуют долг, вместо этого ему с самого рождения предоставляется неотъемлемое право обзавестись женой, машиной, радиоприемником и выслужить себе пенсию под старость), это вера в божественность его продолжения как Человека; подумай только, как просто им было бы заняться Кроуфордом Гаури: ведь это была не шайка, которая торопится успеть в темноте, оглядываясь все время через плечо, а единое нераздельное общественное мнение, тот земляной орех уже исчез под этим тесно сплоченным, мерно топающим стадом, и вряд ли хоть один слон знает, что этот орех действительно был, потому что если шайка держится главным образом на том, что чья-то там кровавая рука, дернувшая веревку, останется навсегда безымянной, скрытая нерушимой порукой, то здесь тому, кто дернул веревку, как палачу, исполнившему свою обязанность, нет нужды мучаться потом не смыкая глаз. Они не пожелали предать смерти Кроуфорда Гаури. Они отреклись от него. Если б они его линчевали, они бы только лишили его жизни. Они поступили хуже. Они сделали все, что было в их силах, чтобы выкинуть его из человеческого общества, они лишили его гражданства.
Он все еще не двигался.
– Вы юрист. – И, помолчав, сказал: – Они бежали не от Кроуфорда Гаури и не от Лукаса Бичема. Они бежали от самих себя. Они бежали домой, чтобы спрятать голову от стыда под одеялом.
– Совершенно верно, – сказал дядя. – А разве я все время не то же самое говорю? Их было слишком много. На этот раз их было столько, что они оказались способны устыдиться и бежать, счесть невыносимым то единственное другое, что выбрал бы сброд; он (сброд) в силу своей немногочисленности и, как ему хочется думать, своей скрытой спаянности, хотя на самом-то деле он и сам знает, что ни один из них друг дружке не верит ни на грош, – он выбрал бы другое: быстрый, простой способ не дать заговорить стыду, уничтожив его свидетеля. Вот почему они, как ты выражаешься, бежали.
– А вас с мистером Хэмптоном оставили убирать блевотину, даже и собаки так не поступают. Хотя мистер Хэмптон, конечно, собака на жалованье, да и вы тоже, можно сказать. Потому что не забудьте и наш Джефферсон, те тоже мигом все куда-то попрятались. Конечно, некоторые из них просто не имели возможности, потому что еще и половины дня не прошло и не могли же они закрыть свои лавки и бежать домой: как же упустить случай продать что-то друг другу, хотя бы на пенни.
– Я же говорил: и Стивенс и Мэллисон тоже, – сказал дядя.
– Стивенс – нет, – сказал он. – Так же как и Хэмптон. Потому что надо же кому-то это прибрать, подтереть пол и чтобы самого наизнанку не вывернуло. Шерифу – поймать (или пытаться, или надеяться, или что вы там собираетесь делать) убийцу, а адвокату – защищать линчевателей.
– Никто никого не линчевал и не нуждается в защите, – сказал дядя.
– Хорошо, – сказал он. – Ну, тогда, значит, простить их.
– И это неверно, – сказал дядя. – Я защищаю Лукаса Бичема. Я защищаю самбо от Севера, Востока и Запада – от чужеземцев, которые отбрасывают его на многие десятилетия назад, не только в несправедливость, но в муку, страдания и насилие, навязывая нам законы, основанные на выдумке, будто несправедливость человека по отношению к человеку можно еще загодя пресечь при помощи полиции. Самбо, конечно, терпит это: его еще не хватает на что-либо другое. И он вытерпит, переварит это и выживет, потому что он – самбо и обладает такой способностью: и он даже побьет нас в этом, потому что он наделен способностью терпеть, переносить, но он не даст отбросить себя на десятилетия назад, а то, что он обретет, уцелев, возможно, утратит для нас всякую ценность, потому что мы к тому времени, разъединившись, быть может, лишимся Америки.
– Но вы же продолжаете оправдывать их.
– Нет, – сказал дядя. – Я только говорю, что несправедливость эта – наша, несправедливость южан. Мы должны искупить ее и сами положить ей конец, одни, без чьей-либо помощи и даже (благодарю вас) совета. Это наш долг по отношению к Лукасу, хочет он этого или нет (во всяком случае, этот Лукас не хочет), и не из-за его прошлого, потому что человек, да и народ тоже, если он чего-нибудь стоит, может пережить свое прошлое, даже не испытывая потребности избавиться от него, и не с помощью какой-то возвышенной и, как это слишком часто бывает, чересчур риторической риторики гуманности, а во имя бесспорных практических целей своего будущего – способности пережить, переварить, вытерпеть и сохранить стойкость.
– Хорошо, – опять сказал он. – И все-таки вы адвокат, а они все-таки бежали. Может быть, они решили, пусть Лукас сам приберет это, поскольку он из породы тех, кому положено орудовать шваброй. Лукас, Хэмптон и вы, потому что должен же Хэмптон делать что-то время от времени за то, что ему платят жалованье; а ведь вас тоже выбрали на платную должность. А они не догадались сказать вам, как это сделать? Какую наживку пустить в ход, как выманить Кроуфорда Гаури, чтобы он пришел и сказал: «Ладно, ребята, я пасую, ваш ход. Сдавайте снова». Или они были так поглощены старанием соблюсти…
– Справедливость? – тихо подсказал дядя.
Тут уж он совсем замолчал. Но только на секунду.
– Они бежали, – сказал он спокойно, непререкаемо и даже совсем не пренебрежительно и, сдернув, швырнул за спину рубашку и в то же время переступил босыми ногами через скинутые на пол брюки, оставшись только в одних трусах. – А впрочем, так оно и должно было быть. Просто я размечтался, и они в мои мечты затесались; но теперь я уже от них отделался; пусть себе спят, или доят коров засветло, или колют дрова дотемна, с фонарями или без фонарей. Потому что они не имеют отношения к тому, о чем я мечтал, просто я только оттолкнулся от них. – Он теперь говорил очень быстро и только тогда поймал себя на этом, когда было уже поздно. – А мечтал я о чем-то… о ком-то… ну… что это, может быть, больше… больше того, что можно было ожидать от нас, шестнадцатилетних мальчишек и восьмидесятилетней или девяностолетней – или сколько ей там – старухи, а потом я сам же и ответил себе то, что вы мне говорили когда-то, помните, о мальчиках-англичанах не старше меня, которые командовали отрядами или совершали разведочные полеты во Франции в восемнадцатом году? И еще вы рассказывали, что в восемнадцатом казалось, будто все английские офицеры – это либо семнадцатилетние лейтенанты, либо одноглазые, однорукие или одноногие полковники двадцати трех лет? – И тут он одернул себя или сделал попытку удержаться, потому что вдруг ясно почувствовал какое-то предостережение – не то чтобы он вдруг услышал слова, которые он вот-вот произнесет, но как если бы ему вдруг открылось не то, что он уже выговорил, а то, к чему это приведет, что вынудят его сказать слова, которые он уже произнес, и от чего надо во что бы то ни стало удержаться, но теперь уже поздно, все равно как нажимать изо всех сил на тормоз, когда катишься с горы, и вдруг с ужасом обнаружить, что тормоз не работает… – И кроме этого еще… я пытался… – И тут он наконец замолчал, чувствуя, как его обдает жаром и жгучая густая волна крови заливает шею, лицо и ему некуда даже глаза девать, не потому, что он стоит почти голый, но потому, что ни одежда, ни выражение лица, ни что бы он там ни говорил не поможет ничего скрыть от блестящих внимательных дядиных глаз.
– Да? – сказал дядя. И потом, выждав, сказал: – Да, есть вещи, которые ты никогда не должен соглашаться терпеть. Вещи, которые ты всегда должен отказываться терпеть. Несправедливость, унижение, бесчестье, позор. Все равно, как бы ты ни был юн или стар. Ни за славу, ни за плату, ни за то, чтобы увидеть свой портрет в газете, ни за текущий счет в банке. Просто не позволять себе их терпеть. Ты это имел в виду?
– Кто, я?.. – сказал он и пошел через комнату, даже забыв сунуть ноги в туфли. – Я не новичок скаут, не новичок в этом уже с двенадцати лет.
– Конечно, нет, – сказал дядя. – Ну так ты просто жалей об этом, а стыдиться не надо.
Глава десятая
Может, это и в самом деле как-то еда подействовала, и он, даже не переставая есть, попытался без особого интереса или любопытства прикинуть, сколько же дней прошло с тех пор, как он последний раз сидел за столом и ел, и тут же как бы одним глотком вспомнил, что еще не прошло и дня, как он чуть не заснул за сытным завтраком в четыре часа утра за столом у шерифа, и еще вспомнил, как дядя (он сидел напротив него и пил кофе) сказал, что человек не то чтобы прокладывает себе едой дорогу в жизни, но актом еды фактически появляется на свет, вступает в жизнь, и путь его лежит не через бытие, а вглубь, он входит в него, въедается в живоносную сплоченность жизни, как моль в шерстяную ткань, жуя и проглатывая основу ее, и этим физическим актом, претворяя, перенося в частицу себя и своей памяти всю историю человека или, может быть, даже в процессе разжевывания, отделяя, обгладывая, впитывает до конца эту крохотную гордую, тщеславную частицу, которую он называет своей памятью, собой, своим «Я есмь», чтобы ее поглотила огромная, живоносная, безымянная сплоченность жизни, а потом из подспудных глубин ее недолговечный комок оторвется, остынув, и канет, рассыпавшись в прах, и никто даже не заметит и не вспомнит, потому что не было никакого вчера и не существует никакого завтра, так что разве только какой-нибудь аскет, живущий в пещере и питающийся желудями и ключевой водой, может еще обладать какой-то гордостью и тщеславием; может быть, тебе и надо было бы сидеть на желудях и ключевой воде в пещере в благоговейном и непробудном созерцании собственного тщеславия, справедливости, гордости, чтобы держаться на этой немыслимой, нетерпимой высоте поклонения, не допускающего никаких компромиссов; между тем он не переставал есть, и очень много и, даже как он сам сейчас заметил, страшно быстро, что ему постоянно ставили на вид вот уже шестнадцать лет, потом отложил салфетку, встал, и снова последний жалобный возглас мамы (и он подумал, как это женщины в самом деле не способны переносить ничего, кроме трагедии, нищеты и физической боли; вот утром сегодня, когда он был там, где, казалось бы, совсем не место шестнадцатилетнему подростку, и занимался уж таким неподходящим делом, будь ему даже дважды шестнадцать – гонялся где-то за городом с шерифом и выкапывал трупы изо рва, она возмущалась во сто раз меньше папы и была в тысячу раз полезней его, а сейчас, когда он всего-навсего идет в город с дядей посидеть какой-нибудь час или немножко больше в конторе, в той самой, где он, наверно, провел добрую четверть своей жизни, она совершенно выкинула из головы и Лукаса Бичема и Кроуфорда Гаури, как будто их вовсе и не существовало, и опять ничего слышать не хочет, зарядила свое, как будто вернулась в те времена пятнадцать лет тому назад, когда она только еще начала внушать ему, что он не умеет сам застегивать себе штаны):
– Но почему мисс Хэбершем не может приехать и подождать здесь?
– Может, – сказал дядя. – Уверен, что она не забыла сюда дорогу.
– Ты понимаешь, о чем я говорю, – сказала она. – Почему же не предложить ей приехать? Не очень-то подходящее дело для леди сидеть до двенадцати ночи в юридической конторе.
– Так же как и выкапывать ночью труп Джека Монтгомери, – сказал дядя. – Но, может быть, нам на этот раз удастся оторвать от нее Лукаса Бичема и она перестанет наконец источать на него свое благородство. Идем, Чик!
И вот наконец-то они вышли из дому, и, выйдя, он не вошел в это, а вынес с собой из дома: где-то между своей комнатой и выходной дверью он не то что обрел, или вернул, или даже просто вступил в это, а скорее искупил свое заблуждение перед этим, снова почувствовал себя достойным приобщиться к этому, потому что это было его собственное, свое, или, вернее, он был своим этому, и, по-видимому, еда все-таки оказала на него какое-то действие; опять они шли с дядей по той же самой улице совсем так же, как они шли меньше суток тому назад, и тогда она была пустая, словно, отшатнувшись, замерла в ужасе; а вот сейчас она вовсе не была пустая – безлюдная, без шума движения, она, конечно, казалась безжизненной, тянулась от фонаря к фонарю, словно заглохшая улица в покинутом городе, но он не покинут на самом деле, не брошен, он только расступился перед ними, чтобы не мешать им, потому что они лучше справятся с этим, только расступился, чтобы не мешать им сделать как надо, чтобы не быть на дороге, не вмешиваться, ни даже подсказывать что-то или позволить себе (благодарю вас) советовать тем, кто сделает все так, как надо, по-своему, по-домашнему, потому что ведь для них это же свое горе, свой срам и свое искупление, и он опять засмеялся – ну, просто ему стало смешно, – подумав: Потому что ведь у них есть я, и Алек Сэндер, и мисс Хэбершем, уж не говоря о дяде Гэвине и шерифе, который присягу давал; и тут он вдруг понял, что ведь и это было частью того же самого – это яростное желание, чтобы они были безупречны, потому что они для него свои и он для них свой, эта лютая нетерпимость к чему бы то ни было, хоть на единую кроху, на йоту нарушающему абсолютную безупречность, эта лютая, почти инстинктивная потребность вскочить, броситься, защитить их от кого бы то ни было всегда, всюду, а уж бичевать – так самому, без пощады, потому что они свои, кровные, и он ничего другого не хочет, как стоять с ними непреложно, непоколебимо; пусть срам, если не избежать срама, пусть искупление, а искупление неизбежно, но самое важное – чтобы это было единое, непреложное, неуязвимое, стойкое одно: один народ, одно сердце, одна земля; и он сказал внезапно:
– Знаете… – и умолк, но, как всегда, договаривать даже и не понадобилось.
– Да? – сказал дядя и, видя, что он молчит: – А, понимаю, это не то, что они были правы, но что ты был не прав.
– Я хуже был, – сказал он. – Я был правосудным.
– Правосудным быть неплохо, – сказал дядя. – Может, ты был прав, а они не правы. Только не надо застревать.
– Застревать? На чем? – сказал он.
– Можно и похвастать и побахвалиться. Только не застревать, – сказал дядя.
– На чем не застревать? – опять сказал он. Но теперь он уже понял; сказал: – А может быть, и вы тоже немножко застряли, и не пора ли вам перестать чувствовать себя новичком скаутом?
– Какой там новичок, – сказал дядя. – Нет, это уж скаут третьей степени. Как это у вас называется?
– Скаут-орел[134], – сказал он.
– Скаут-орел, – сказал дядя. – Так. Новичок – это «Не принимай». А скаут-орел – «Не застревай». Понял? Нет, не то. Не старайся приглядываться. Не старайся даже думать о том, как бы не забыть. Просто не останавливайся.
– Верно, – сказал он. – Но нам теперь нечего беспокоиться, что мы остановимся. По-моему, нам сейчас надо побеспокоиться, в каком направлении мы двинемся и как.
– Вот именно, – подтвердил дядя. – И ты же мне сам и сказал это четверть часа тому назад, разве ты не помнишь? Насчет того, каким способом мистер Хэмптон и Лукас выманят Кроуфорда Гаури туда, где у Хэмптона будет возможность схватить его? Они собираются сделать это при помощи Лукаса…
И он помнит: он стоял с дядей у машины шерифа в проходе рядом с тюрьмой и смотрел, как Лукас с шерифом выходят из тюремной боковой двери и идут через темный двор. Правда, было совсем темно, потому что свет от уличного фонаря на углу не доходил сюда, и с улицы не доносилось ни звука; времени было чуть-чуть больше десяти, будничный вечер, понедельник, но темная чаша неба замыкала как бы в пустоте – словно старый подвенечный букет под стеклянным колпаком – город и Площадь, которая сейчас была хуже чем вымершая – покинутая; потому что он пошел один поглядеть на нее, пошел не останавливаясь, дальше по переулку, а дядя остался на углу и сказал ему вслед: «Куда ты?» – но он, даже не ответив, прошел последний безмолвный пустой квартал, и в глухой тишине шаги его звучали неторопливо, не таясь: не спеша он шагал, одиноко, но совсем не покинутый, наоборот, с чувством не то что собственника, но хозяина, наместника и смиренно вместе с тем; он не властен сам, но все же он носитель власти, как актер, который смотрит из-за кулис или, может быть, из пустой ложи вниз, на открывшуюся в ожидании сцену – пустую, но уже приготовленную, еще без действующих лиц, но вот сейчас там – еще миг – и появится он в последнем акте, в центре внимания всего зала, сам по себе ничто, и пьеса-то, может, тоже не какой-то там боевик, обошедший весь мир, но, во всяком случае, он должен ее завершить, закончить, проводить со сцены неопороченной, неотвергнутой, с честью; и вот уже темная пустая Площадь, и тут он остановился, едва только увидел, что может охватить взглядом весь этот темный, безжизненный прямоугольник с одним-единственным фонарем на все про все – это у кафе, которое было открыто всю ночь из-за дальнерейсовых грузовиков, но истинное его назначение (этого кафе), как говорили некоторые, истинная причина, по которой город счел возможным дать ему лицензию на круглосуточную торговлю, – это заставить бодрствовать ночного напарника Уилли Инграма, который, несмотря на то что город соорудил ему в каком-то тупичке маленькую каморку для дежурства, с печкой и с телефоном, не желал сидеть там, а сидел в кафе, где было с кем посудачить, и, конечно, туда тоже можно было позвонить по телефону, но кой-кто из горожан, в особенности старые леди, считали неудобным звонить полицейскому в открытое всю ночь напролет кафе, где пьют и танцуют под музыку, поэтому телефон из дежурки был соединен с большим набатным колоколом на внешней ее стене, и он звонил достаточно громко, чтобы его могли услышать в кафе бармен или кто-нибудь из шоферов и сказать полицейскому, что ему звонят, – и двумя освещенными окнами наверху двухэтажного дома (и он подумал, что мисс Хэбершем сумела, видно, убедить дядю дать ей ключ от конторы, а потом подумал: нет, наверно, это дядя убедил ее взять ключ, а то бы она просто осталась сидеть в пикапе до их прихода, – и тут же прибавил про себя: «Если только она станет дожидаться», – но, конечно, и это было не так, а на самом деле дядя запер ее в конторе, чтобы дать время шерифу и Лукасу уехать из города), но поскольку свет в юридической конторе может гореть когда угодно – юрист или сторож забыли погасить уходя, а кафе – вроде как электростанция – учреждение общественное, – они не в счет, но даже и в кафе-то просто горел свет (ему не видно было отсюда, что там внутри, но он бы слышал, и он подумал, что это официальное выключение патефона-автомата на целых двенадцать часов было, вероятно, первым должностным актом ночного пристава, кроме обязанности ежечасно пробивать табель по часам на стене у заднего входа в банк, с тех пор как в августе прошлого года всех перепугала бешеная собака), и он вспомнил другие, обычные вечера в понедельник, когда неистовая ярость кровного, взывающего к мести расового и родового сплочения не обрушивалась с ревом на город с Четвертого участка (или, если уж по правде сказать, с Первого, Второго, Третьего и Пятого тоже и даже, если уж на то пошло, с окраин самого города, где стоят старинные дома с портиками), беснуясь и грохоча среди старых кирпичных стен, вековых деревьев и дорических капителей, чтобы они замерли в страхе по крайней мере на одну ночь; в десять часов вечера в понедельник, хотя первый сеанс в кино кончился уже минут сорок – пятьдесят тому назад, кое-кто из завсегдатаев, опоздавших к началу, еще только возвращается домой, а все молодые люди, которые с тех пор посиживают в баре, пьют кока-колу и опускают монетки в музыкальный автомат, те, конечно, будут бродить в какое угодно время, они не торопятся, потому что они не идут никуда: сама майская ночь – вот место их назначения, и они носят ее с собой, шатаются в ней, и даже (ведь сегодня торги) редкие запоздалые машины и грузовики, владельцы которых остались посмотреть кино или зашли посидеть и поужинать с родственниками или друзьями, разъезжаются теперь, к ночи, ко сну, к заботам о завтрашнем дне по темному размежеванному краю, и ему вспомнилось, ведь только вчера вечером ему вот так же казалось, что Площадь пустая, пока он не прислушался, и только тогда он понял, что она совсем не пустая; воскресный вечер, но тихо не по-воскресному, такой тишины не бывает вечером, а уж в воскресенье вечером просто и быть не может, и этот вечер только потому воскресный, что календарь уже был размечен, когда шериф привез Лукаса в тюрьму; а пустота эта – ее можно назвать пустотой, разве только если назвать пустой и незанятой безмолвную, безжизненную местность, расстилающуюся перед стоящей наготове армией, или назвать мирным вход в пороховой погреб или спокойным водослив под шлюзами плотины, – чувство не ожидания, а нарастания, не от людского присутствия женщин, стариков и детей, а от скопления мужчин, не столько свирепых, сколько серьезных и не то что напряженных, нет, спокойных – сидят спокойно, даже и разговаривают мало, и все где-то в задних комнатах, и не просто в душевых и уборных за парикмахерским залом или под навесом позади бильярдной, где по стенам громоздятся ящики с прохладительными напитками, а на полу горы пустых бутылок из-под виски, – нет, на складах магазинов, и в гаражах, и даже за опущенными занавесками в конторах; владельцы этих контор, хозяева магазинов и гаражей согласны пренебречь званием своим во имя призвания, и все они ждут не события, которое должно свершиться в какой-то момент, но некоего момента, когда они в почти помимовольном согласии сами создадут событие, возьмут в свои руки и даже поднесут этот миг, который вовсе не запоздал на шесть, или двенадцать, или пятнадцать часов, а просто был продолжением того момента, когда пуля убила Винсона Гаури, и между ними не было никакого промежутка времени, так что с полным основанием можно считать, что Лукас уже мертв, ибо он умер в тот самый момент, когда потерял право на жизнь, а их дело только почтить своим присутствием его самосожжение и вот сегодня вечером помянуть, потому что завтра все уже будет кончено; завтра наверняка Площадь оживет, зашевелится, еще день – и она отряхнется от похмелья, еще день-другой – и она отряхнется даже и от срама, так что к субботе весь округ в полном неразрывном слиянии гула, пульса и шума будет уже отрицать начисто даже возможность того, что был когда-либо такой момент, когда они могли ошибиться; так что ему даже не надо было и напоминать себе, что город не вымер и даже не брошен, не покинут, а только ретировался, чтобы не помешать сделать нужную, простую вещь попросту, по-домашнему, без помощи или вмешательства и даже без (благодарю вас) советов: троим доброхотам – белой престарелой девице и двум мальчишкам, белому и черному, – изобличить убийцу, прикрывшегося Лукасом, а самому Лукасу и шерифу схватить его; и тут он еще последний раз вспомнил разговор с дядей полчаса тому назад, когда он стоял босой на коврике у кровати, схватившись за концы своей расстегнутой рубашки, и когда они одиннадцать часов тому назад ехали по последнему уступу холма к часовне, и тысячи других раз с тех пор, как он достаточно подрос и научился слушать, понимать и запоминать: – защищать не Лукаса и даже не союз Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты, от чужеземцев Севера, Востока и Запада, которые (пусть даже) с наилучшими побуждениями и намерениями стараются разъединить их – и в такое время, когда ни один народ не может допустить у себя разъединения, – прибегая к федеральным законам и федеральной полиции, чтобы покончить с позорным положением Лукаса; может статься, на тысячу южан, взятых наугад, не найдется и одного, который действительно огорчался бы или даже был бы озабочен этим положением, но, несмотря на это, не всегда в этой тысяче найдется и один такой, который, что бы там ни случилось, сам стал бы линчевать Лукаса, и, однако, ни один из этих девятисот девяноста девяти плюс тот первый, один, которого мы прибавили сюда, чтобы опять получилась тысяча, не замедлят дать отпор чужеземцу (а один – это тот, линчеватель), если он ворвется сюда силком заступиться за Лукаса или наказать его; вы можете сказать мне (с усмешкой): «Вы, верно, очень хорошо знаете самбо, чтобы с такой уверенностью предполагать его полную пассивность», – и я отвечу на это: «Нет, я совсем его не знаю, и, по-моему, ни один белый не знает, но я хорошо знаю белых южан – и не только тех девятьсот девяносто девять, но также и этого одного, потому что он тоже наш и, более того, этот тип существует не только на Юге; вы увидите, что не Север, Восток, Запад и самбо объединились против горсточки белых на Юге, а что это бумажный союз стакнувшихся теоретиков, фанатиков, наемных и тайных мстителей и множества других, удаленных на достаточное количество миль, чтобы объявить себя в принципе против и даже численно превзойти сплоченный Юг, которому приводилось вербовать себе пополнение из вашего же собственного тыла, и не просто из глубины страны, а из прекраснейших городов, гордости вашей культуры – Чикаго, Детройтов и Лос-Анджелесов, – отовсюду, где живут невежественные люди, которые боятся любого цвета кожи и формы носа, кроме своих собственных, и которые с радостью хватаются за возможность излить на самбо все накопившееся в них еще от предков отвращение, смешанное с презрением и страхом, к индейцам, и китайцам, и мексиканцам, и евреям, вестиндцам и карибам, и вы вынуждаете нас – одного из первой случайной тысячи и девятьсот девяносто девять из второй, которые тяготятся постыдным положением Лукаса, пытаются его улучшить, старались, стараются и будут стараться его улучшить до тех пор, пока (не завтра, быть может) с этим положением не будет покончено раз навсегда и о нем можно будет если не забыть, то хотя бы вспоминать не с такой горечью и болью, ибо справедливость у Лукаса от нас – та, которую мы передали ему, а не та, которая была вырвана у нас и навязана ему силой с помощью штыков, – вы вынуждаете нас волей-неволей вступать в союз с теми, с кем у нас нет ничего общего, в защиту принципа, который нас самих тяготит и ужасает, а мы должны сделать это сами, без помощи, или вмешательства, или даже (благодарю вас) советов, потому что только мы и можем сделать это так, чтобы равноправие Лукаса было чем-то иным, а не только своим собственным узником за неприступной баррикадой прямых наследников победы 1861–1865 годов, которая, вероятно, больше даже, чем Джон Браун[135], затормозила свободу Лукаса; вот уже скоро сто лет, как Ли сдался[136], а ее все еще нет, и, когда вы говорите: «Лукас не должен ждать этого Завтра, потому что оно никогда не наступит, вы не только не можете что-либо сделать, вы не хотите этого», – мы можем только повторять: «А мы не дадим вам это делать», – и говорим вам: «Идите сюда, к нам, и посмотрите на нас, прежде чем вы решитесь на это», – а вы отвечаете: «Нет, спасибо, от вашей вони и здесь не знаешь куда деваться!» – а мы говорим: «Но должны же вы по крайней мере хоть поглядеть на собаку, которую вы собираетесь отучить гадить дома, на народ, раздираемый рознью, когда история и сейчас еще показывает нам, что рознь – это преддверие распада», – а вы заявляете: «Ну что ж, по крайней мере мы погибнем во имя гуманности», – а мы говорим вам: «Когда все будет вычеркнуто, кроме этого личного местоимения и глагола, какова тогда будет цена Лукасовой гуманности», – и, повернувшись, пробежал бегом короткий, пустой, безмолвный квартал до угла, откуда дядя, не дожидаясь его, пошел дальше, и он тоже пошел туда, по проходу, где стояла машина шерифа, и оба они смотрели, как шериф с Лукасом идут к ним по темному двору, шериф впереди, а Лукас шагов на пять позади, идут не быстро, не деловито, не крадучись, не таясь, но просто как двое занятых людей, которые не то что опаздывают, но и мешкать им зря некогда; вот они вышли из ворот, перешли дорогу к машине, шериф открыл заднюю дверцу и сказал:
– Ну, полезай, – и Лукас вошел в машину, а шериф, захлопнув дверцу, открыл дверцу спереди и, согнувшись, кряхтя, влез в нее, и вся машина накренилась и осела, когда он опустился на сиденье и, включив зажигание, запустил мотор, а дядя стал у окошка, взявшись обеими руками за край стекла, словно он думал – или вдруг спохватился – и у него мелькнула надежда удержать машину прежде, чем она двинулась с места, и сказал то, что он и сам уже много раз думал за последние полчаса:
– Возьмите с собой кого-нибудь.
– Я и беру, – сказал шериф. – И, кстати сказать, мы с вами сегодня уже три раза все это обсуждали.
– И все равно вы один, сколько бы раз вы там ни считали Лукаса, – сказал дядя.
– Вы дайте мне мой пистолет, – сказал Лукас, – и тогда никому ничего не надо будет считать. Я сам справлюсь. – И он только подумал, сколько раз, наверно, шериф уже говорил Лукасу, чтобы он помалкивал, и, должно быть, поэтому он сейчас его и не остановил, как вдруг шериф повернулся, медленно, грузно, покрякивая, и, глядя вполоборота на Лукаса, сказал жалобным голосом, тяжело вздохнув:
– После всего этого бедлама, который ты заварил в субботу, стоя с этим своим пистолетом в нескольких шагах или даже на том самом месте, где только что стоял живой Гаури, ты теперь хочешь взять это в свои руки и начать все снова. Я тебе говорю: помалкивай и сиди тихо. А когда мы будем подъезжать к мосту, ты ляжешь на пол за спинкой моего сиденья, чтоб тебя совсем не было видно, и будешь лежать тихо! Ты слышишь меня?
– Слышу, – сказал Лукас. – Но будь у меня только мой пистолет…
Но шериф уже повернулся к дяде:
– Все равно, сколько бы раз вы там ни считали Кроуфорда Гаури, он ведь тоже один, – и продолжал все тем же мягким, вздыхающим, запинающимся голосом, отвечая на мысли дяди, прежде чем тот успел заговорить: – Кого он с собой возьмет? – И он тоже подумал это, вспомнив долгий скрежещущий визг колес по асфальту, сутолоку обезумевших машин и грузовиков, срывающихся с места и в ужасе, в безоглядном отречении мчащихся во все стороны, во все самые крайние, дальние, не занесенные на карту оплоты округа, кроме этого маленького островка на Четвертом участке, называющегося Шотландской часовней, – в убежище: старый, обжитой, родной дом, где женщины, и старшие дочери, и дети успеют подоить коров и наколоть дров на завтра, к утру, а малыши будут держать фонари и светить, а мужчины и старшие сыновья сначала зададут корм мулам для завтрашней пахоты, а потом усядутся на веранде в сумерках ждать ужина; козодои; ночь; спать пора; и он даже как будто видел (если только самообольщение убийцы позволит Кроуфорду Гаури показаться когда-нибудь в пределах досягаемости этой обрубленной руки – ведь Кроуфорд тоже Гаури, хотя он-то сам разделял мнение шерифа, что вряд ли тот на это рискнет, – и оно теперь понятно, почему Лукас уцелел и его увели живым в субботу от лавки Фрейзера, уж не говоря о том, что он остался жив, выходя из машины, когда шериф привез его в тюрьму: это потому, что сами Гаури знали, что сделал это не Лукас, и они просто тянули; выжидали, чтобы кто-нибудь другой, может быть кто из Джефферсона, выволок его на улицу; и вдруг вспомнил – и его точно обожгло стыдом: голубая рубашка, и, нагнувшись на коленях, одеревенелой, единственной рукой старается смахнуть мокрый песок с мертвого лица – нет, он знает: что бы там ни надумал этот бешеный старик на другой день, в ту минуту он не питал никакой злобы к Лукасу, потому что весь он был поглощен сыном): вечер, столовая, и снова в доме, в котором двадцать лет нет хозяйки-женщины, собрались все семеро мужчин Гаури, потому что Форрест приехал вчера на похороны из Виксберга и, наверно, был еще там и утром, когда шериф прислал сказать старику Гаури, что будет ждать его у часовни, зажженная лампа посреди стола между облепленными сахаром чашками, глиняными кувшинами с патокой, и тут же соль, перец, кетчуп – в той самой упаковке с этикетками, в какой они стояли на полке в лавке, – и за столом на главном месте старик, положив на стол единственную свою руку ладонью на большой револьвер, выносит смертный приговор и сам казнит Гаури, который зачеркнул свое кровное родство, свое имя Гаури кровью брата своего; а потом темная дорога, машина (на этот раз не реквизированная, потому что у Винсона свой новый большой, мощный грузовик, годный для перевозки леса и скота), и тот же близнец, наверно, ведет ее, и тело подскакивает в кузове машины, как бревно, прикрепленное цепями; вот и часовня позади, и Четвертый участок, и вот уже темный, затихший, выжидающий город; не замедляя, он мчится по тихой улице через Площадь и прямо к дому шерифа, и вышвырнутое тело грохается на веранду шерифа, и, должно быть, грузовик еще медлит, пока другой близнец Гаури звонит у входной двери.
– Бросьте вы беспокоиться из-за Кроуфорда, – сказал шериф. – Он ничего против меня не имеет. Он же голосует за меня. Вся его беда сейчас в том, что ему приходится убивать больше, чем он задумал, вот как Джека Монтгомери, тогда как он хотел только одного: скрыть от Винсона, что он ворует лес у него и дяди Сэдли Уоркитта. Если даже он вскочит на подножку прежде, чем я успею принять нужные меры, все равно пройдет еще несколько секунд, пока он будет пытаться открыть дверцу, чтобы увидеть, где, с какой стороны прячется Лукас, – при условии, что Лукас поступит точь-в-точь так, как ему сказано, что, я надеюсь, он и сделает ради своей собственной безопасности.
– Я сделаю, – сказал Лукас. – Но если бы у меня только был…
– Да, – резко сказал дядя. – Если только он явится туда…
Шериф вздохнул:
– Вы же ему дали знать.
– Дал как сумел, – сказал дядя. – Как смог. Передать убийце, чтобы он встретился с полицейским, так чтобы тот, кто в конце концов передаст это, не имел понятия, что он адресуется к убийце, – тут ведь может статься, что и сам убийца не только не поверит, что это именно ему сообщают, но и вообще не поверит самому факту.
– Ну что ж, – сказал шериф. – Одно из двух: либо до него дойдет это, либо не дойдет, либо он поверит этому, либо нет, либо он будет нас поджидать в низине Уайтлиф, либо нет, и если нет, то мы с Лукасом выберемся на шоссе и вернемся в город. – Он включил мотор, снова выключил его; затем включил фары. – Но, может быть, он будет там. Я тоже дал ему знать.
– Так, – сказал дядя. – Ну зачем же это, мистер Трезвон?
– Я просил мэра отпустить Уилли Инграма, чтобы он сегодня мог опять пойти проводить Винсона, а когда Уилли уходил, я ему сказал по секрету, что повезу сегодня Лукаса в Холлимаунт через старый Уайтлифский канал, чтобы Лукас мог завтра дать показания на следствии по делу Джека Монтгомери, и, между прочим, напомнил Уилли, что они там еще не закончили работы на канале и что нам придется ехать чуть ли не ползком, и предупредил его, чтобы он об этой поездке помалкивал.
– М-да, – сказал дядя, все еще не выпуская из рук стекло дверцы. – Где бы там ни числился живой Джек Монтгомери, кто бы ни притязал на него, сейчас он принадлежит Йокнапатофскому округу. А впрочем, – быстро добавил он, выпустив наконец дверцу, – нам сейчас нужен убийца, а не юрист. Хорошо, – сказал он. – Ну, что же вы не трогаетесь?
– Да, едем, – сказал шериф. – А вы ступайте-ка к себе в контору, приглядите за мисс Юнис. Уилли мог увидеть ее, проходя мимо, и если так, то она еще может раньше нас прикатить к Уайтлифскому мосту на своем пикапе.
И вот они на Площади, на этот раз пересекли только угол к тому месту, где стоял пикап, повернувшись пустым носом к пустой (кроме него) стоянке, и – вверх, по протяжно глухому стону и гулкому грохоту лестницы до открытой двери конторы, и, входя в нее, он без удивления подумал, что, наверно, это единственная женщина из всех, кого он знал, которая, отперев чужую дверь одолженным ей ключом, вытащит ключ из замка и не бросит его где-нибудь тут же, на первую попавшуюся под руку поверхность, а спрячет его обратно в ридикюль, или в карман, или куда там она его положила, когда ей его дали, и, уж конечно, она не уселась за столом в кресле – нет, сидит прямая как палка, в шляпке, платье уже другое, но кажется, будто точь-в-точь такое же, какое было вчера ночью, и та же сумка на коленях, и восемнадцатидолларовые перчатки зажаты в руках, сложенных поверх сумки, и тридцатидолларовые ботинки без каблуков твердо упираются в пол – один рядом с другим – перед самым жестким и прямым стулом во всей комнате, тем, что рядом с дверью, – никто на нем даже никогда и не сидит, сколько бы ни набилось народу в конторе, – и только после того пересела в кресло за столом, как дядя несколько минут уговаривал ее и наконец убедил, сказав, что, возможно, еще часа два-три придется ждать, потому что, когда они вошли, она открыла свои золотые часики, приколотые брошкой на груди, и решила, по-видимому, что шериф не только уже давно вернулся с Кроуфордом Гаури, но что он, должно быть, повез его в тюрьму; а затем он, как всегда, на своем обычном стуле рядом с охладителем для воды, и дядя наконец поднес спичку к своей глиняно-кукурузной трубке, продолжая в то же время говорить не просто через дым, а в самый дым, дымом:
– …как это случилось, потому что кое-что мы все-таки знаем, уж не говоря о том, что в конце концов рассказал Лукас, а ведь он прямо как ястреб или какой-нибудь международный шпион сам за собой следил, как бы не сказать чего-нибудь, что позволило бы не то что спасти его, а хотя бы как-то объяснить его причастность к этому, – так вот, Винсон и Кроуфорд вдвоем на паях покупали лес у старика Сэдли Уоркитта, двоюродного или четвероюродного брата, или дяди, или какого-то там родственника миссис Гаури; вернее, они столковались со стариком о цене за досковой фут, но с тем, чтобы рассчитаться из выручки, то есть, значит, не раньше, чем вся партия до последнего дерева будет распилена и Кроуфорд с Винсоном вывезут и сбудут ее, а тогда заплатят старику Сэдли за лес и за наем лесопилки и артели, которая будет рубить, и пилить, и складывать распиленный лес тут же, в миле от дома старика Сэдли, и чтобы ни одного сучка не выносить, пока все не будет распилено. А вот дальше как было – этого мы, в сущности, еще не выяснили, пока Хэмптон не арестовал Кроуфррда, но, конечно, только так оно и могло быть, а то чего же ради, спрашивается, вы все старались и выкапывали Джека Монтгомери из могилы Винсона? И каждый раз, как я об этом подумаю и вспомню, что вы трое, возвращаясь обратно, спустились с холма на то самое место, где двое из вас слышали, а один даже видел, как мимо вас ехал этот человек, который уже с трупом убитого в седле неожиданно для себя вдруг очутился перед необходимостью отказаться от задуманного плана – и с такой поспешностью, что, когда мы с Хэмптоном всего через каких-нибудь шесть часов приехали туда, в могиле уже не оказалось никого…
– Но он же не отказался, – сказала мисс Хэбершем.
– Что? – сказал дядя. – На чем это я остановился? Ах да! Так вот, Лукас Бичем, прогуливаясь как-то, по своей привычке, ночью, услышал что-то, пошел и поглядел, или, может быть, он просто проходил мимо и видел, а может, у него уже были какие-то подозрения, и поэтому он и пошел прогуляться именно туда в эту ночь и увидел, как грузят машину в темноте – то ли он ее узнал, то ли нет, – грузят тем самым лесом, про который все кругом знали, что его не будут трогать, пока лесопилку не закроют и она не снимется с места, а это еще когда будет, и Лукас, значит, следил, слушал и, может статься, даже не поленился сходить в соседний округ, в Глазго и Холлимаунт, и там уже разузнал наверняка, не только кто вывозит этот лес каждую ночь понемножку, так чтобы никому, кто бывает там не каждый день, не было заметно, что он убавляется (а единственно, кто мог наведываться туда каждый день или, во всяком случае, интересоваться, как идет дело, – это Кроуфорд – он же представлял интересы и брата – да дядюшка Сэдли, владелец деревьев, а следовательно, и распиленного леса, и они могли распоряжаться им как угодно, но один из них целые дни разъезжал по округу, обделывая разные другие дела, а другой, скрюченный ревматизмом старик, был, сверх того, еще сильно подслеповат, так что, если бы он даже и мог добраться туда из своего дома, он все равно ничего не увидел бы; а в рабочую артель на лесопилке мастеровые нанимались поденно, и если бы они даже и знали, что происходит по ночам, им до этого не было никакого дела – лишь бы получать свое за неделю каждую субботу), но и что он с этим лесом делает: может быть, он даже и про Джека Монтгомери дознался, только то, что Лукас знал про Джека Монтгомери, ничего не меняло, если не считать того, что Джек, попав в могилу Винсона, вероятно, спас тем самым жизнь Лукасу. Но даже когда Хоуп рассказал мне, как ему в конце концов удалось вытянуть все это из Лукаса утром, в кухне, когда Уилл Легейт привел его из тюрьмы, а мы с вами поехали домой, это опять-таки объясняло не все, а только часть случившегося, потому что я все еще говорю себе то, что я говорил с той самой минуты рано утром, когда вы разбудили меня и Чик повторил мне все, что Лукас ему говорил про пистолет. «Но почему же Винсон? Зачем Кроуфорду, для того чтобы уничтожить свидетеля кражи, понадобилось убивать Винсона?» Не то чтобы это не достигало цели, потому что, безусловно, Лукас должен был погибнуть, как только первый приблизившийся белый увидел его стоящим над телом Винсона, а из заднего кармана у него торчал этот самый пистолет, но зачем же так сложно, зачем прибегать к такому противоестественному, окольному способу, к братоубийству? И вот, так как у нас теперь было о чем потолковать с Лукасом, я попозже днем отправился прямо к Хэмптону на кухню, и там за столом сидели с одной стороны кухарка Хэмптона, а с другой – Лукас, который уплетал капусту с маисовым хлебом, и не с тарелки, а прямо из двухгаллоновой глиняной банки, и вот я ему говорю: «Значит, он тебя как-то застал – не Кроуфорд, я сейчас не про него…» – а он говорит:
«Нет, Винсон. Я тоже про него говорю. Только он опоздал малость, машина-то уже отъехала груженая и покатила без огней, и он спрашивает меня: «Чья это машина?» – а я ничего не говорю».
«Так, – говорю я. – Ну а дальше что?»
«Все. Ничего дальше», – говорит Лукас.
«А револьвер у него с собой был?»
«Не знаю, – говорит Лукас. – Дубинка у него была», а я говорю:
«Хорошо. Рассказывай дальше», – а он говорит:
«Ничего дальше. Просто он так постоял с поднятой дубинкой, скажи, говорит, чья это машина, а я ничего не говорю, и он опустил дубинку, повернулся, и больше я его не видал».
«И ты, значит, взял свой пистолет, – говорю я, – и пошел…», а он говорит:
«Чего мне было ходить? Он сам пришел – про Кроуфорда я сейчас говорю – ко мне домой, вечером, на другой же день, предлагал заплатить мне, только чтобы я сказал, чья это была машина, целую кучу денег, пятьдесят долларов, тут же вынимал и показывал, а я говорю, я еще не решил, чья это была машина, а он говорит, он мне их оставит до тех пор, пока я решу, – а я, говорю, уже решил – подождем до завтра, а это было в пятницу вечером, – может, какое доказательство будет от мистера Уоркитта и Винсона, что они свою часть денег получили за эти увезенные дрова».
«Да? – говорю я. – Ну а что потом?»
«А потом я пойду и скажу мистеру Уоркитту, чтобы он…»
«Ну-ка, повтори еще раз, – говорю я. – Медленно».
«Скажу мистеру Уоркитту, чтобы он свои доски получше считал».
«И ты, негр, собирался пойти к белому, сказать ему, что сыновья его племянницы воруют у него лес, да еще к белому с Четвертого участка. Да ты понимаешь, что с тобой сделали бы?»
«Ничего не пришлось никому делать, – сказал он. – Потому как на другой день – в субботу – он мне записку прислал…» – и тут мне надо было бы сообразить насчет пистолета, потому что Гаури-то, очевидно, это знал; не мог же он ему в самом деле написать: украденное возместил, желательно ваше личное одобрение, будьте другом, захватите с собой пистолет – или что-нибудь в этом роде, а я его спрашиваю:
«А пистолет-то почему?» – и он говорит:
«Так ведь это суббота была».
А я говорю:
«Да, девятое. Но при чем тут пистолет? – И вот тут только я догадался. – Ах вот в чем дело, – говорю я. – Ты носишь с собой пистолет, когда одеваешься по-праздничному, в субботу, как когда-то старик Карозерс носил, до того как тебе его отдал».
«Продал», – говорит он.
«Хорошо, – говорю я, – продолжай».
«Прислал, значит, мне записку, чтобы я его встретил у лавки, только…»
И тут дядя снова чиркнул спичкой и задымил трубкой, продолжая говорить, говорить через трубку дымом, точно дым у вас на глазах превращался в слова:
– Только он так и не дошел до лавки. Кроуфорд встретил его в перелеске, поджидал его, сидя на пне у тропинки, должно быть, еще до того, как Лукас вышел из дому, и сам же Кроуфорд и завел с ним разговор о пистолете, прежде даже, чем Лукас успел сказать ему «здравствуйте» или спросить, довольны ли Винсон и мистер Уоркитт, что получили деньги за проданный лес или что-нибудь в этом роде; «если, – говорит, – он у тебя даже и стреляет, вряд ли из него можно во что-нибудь попасть»; ну, остальное вы, вероятно, можете теперь дополнить и сами. Лукас рассказал, как Кроуфорд в конце концов поспорил с ним на полдоллара, что он не попадет в пень в пятнадцати шагах, Лукас попал, и Кроуфорд отдал ему полдоллара, и они пошли вместе к лавке в двух милях оттуда, и, когда они почти дошли, Кроуфорд велел Лукасу подождать, потому что мистер Уоркитт должен был прислать в лавку расписку о получении денег за часть проданного леса, и Кроуфорд сказал, что он принесет ее показать Лукасу, чтобы он собственными глазами видел, а я говорю: «Неужели ты и тут ничего не заподозрил?» – «Нет, – говорит, – он просто ругался, как всегда». Ну а дальше вы теперь сами догадываетесь, как было, нет надобности искать никакой ссоры между Винсоном и Кроуфордом, ни ломать голову над тем, каким образом Кроуфорд заставил Винсона дожидаться в лавке, а потом послал его вперед себя по тропинке, достаточно ему было сказать хотя бы так: «Ну вот, он здесь, я привел его. Если он нам и теперь не скажет, чья это была машина, мы это из него выколотим», – потому что все это уже несущественно; короче говоря, Лукас увидел Винсона, который шел по дорожке из лавки и, как говорит Лукас, спешил изо всех сил, – вероятно, это надо понимать, что он просто был вне себя от раздражения, недоумения и возмущения, больше всего от возмущения, и, разумеется, так же, как и Лукас, ждал, чтобы тот заговорил первый, объяснил им, только, как говорит Лукас, Винсон не вытерпел и еще на ходу крикнул: «Значит, ты передумал?» – и тут же – говорит Лукас – споткнулся обо что-то да прямо как рухнет лбом оземь, – и тут Лукас вспомнил, что он только что слышал выстрел, и понял, что Винсон споткнулся не обо что-либо, а о своего братца Кроуфорда, но тут уж его окружили, и, как говорит Лукас, он даже и услышать не успел, как они все сбежались, и я ему сказал:
«Вот когда тебе, должно быть, показалось, что ты сейчас ох как споткнешься о Винсона, и старика Скипуорта, и Адама Фрейзера», – но по крайней мере я хоть не спросил его: «Почему же ты им тут же не объяснил?» – и Лукасу не понадобилось говорить мне: «Объяснять, кому?» – так что с ним все было в порядке – не с Лукасом, конечно, я сейчас о Кроуфорде говорю, он не просто злосчастный неудачник, он… – И тут опять, но на этот раз он знал, что это такое: это мисс Хэбершем; что она такое сделала, он не мог сказать, она не пошевельнулась, не проронила ни звука, нельзя было даже сказать, что она замерла, но что-то такое произошло – произошло не извне, а словно передалось от нее, и она как будто не только не была удивлена этим, но сама так захотела и сделала, но только на самом деле она даже не пошевельнулась, не вздохнула, и дядя даже ничего не заметил. – Он особо отмеченный, избранный, тот, кого отличили боги, выделив его из людей, дабы доказать, не самим себе, потому что они никогда в этом не сомневались, а человеку, что у него есть душа, которую он довел до того, что она в конце концов заставляет его убить брата своего.
– Он бросил его в зыбучий песок, – сказала мисс Хэбершем.
– Да, – сказал дядя. – Ужасно, правда? И ведь просто из-за такой нелепой случайности, привычки какого-то старого негра разгуливать по ночам, вместо того чтобы спать, – но с этим-то он разделывается, и очень ловко, придумывает такой простой, такой верный по своей психологии способ, обоснованный и биологически и географически, что вот Чик, верно, назвал бы его даже естественным, и вдруг все у него срывается – и только из-за того, что четыре года тому назад какой-то мальчишка, о существовании которого он даже и не подозревал, свалился в ручей в присутствии этого проклятого лунатика-негра; но тут для нас еще не все ясно, мы, собственно, не знаем, что там произошло, и, поскольку от Джека Монтгомери в его теперешнем положении уже ничего не приходится ждать, вряд ли когда-нибудь и узнаем, но это, по правде сказать, не так уж важно, потому что факт остается фактом, и почему бы еще он мог очутиться в могиле Винсона, как не потому, что он покупал лес у Кроуфорда (это нам удалось выяснить сегодня по телефону, на скупочном дровяном складе в Мемфисе); Джек Монтгомери тоже знал, откуда этот лес – ну, это просто по свойствам своей натуры, по складу характера, уж не говоря о том, что его, как комиссионера, не могло это не интересовать, так что, когда компаньон Кроуфорда, Винсон, свалился, настигнутый пулей, в двух шагах от лавки Фрейзера в перелеске, Джеку не понадобилось гадать, чтобы сделать кое-какие умозаключения, ну а раз так, то и воспользоваться этим с наибольшей для себя выгодой – или дать знать мистеру Хэмптону и мне с тем, чтобы мы ему это зачли; Джек знал также и о старом трофейном оружии Бадди Маккалема и – ну, чтоб уж не все было против Кроуфорда. – И тут опять – ни малейшего движения или знака, но на этот раз дядя тоже заметил, угадал, почувствовал (или как уж оно там ему ни передалось) и остановился, и даже на секунду казалось, что он вот-вот что-то скажет, но, по-видимому, тут же забыл и продолжал дальше: – Хочется думать, что Джек даже назвал цену своему молчанию и даже, может быть, что-то получил, может быть, какую-то часть, а сам между тем не оставлял мысли отдать Кроуфорда под суд за убийство, а пока что, держа все нити в руках, сорвать с него еще кое-какие деньжонки, а может, он просто недолюбливал Кроуфорда, хотел отомстить ему или, может, эдакий в своем роде пурист, не мог примириться с убийством и просто вырыл Винсона и взвалил его на мула, чтобы отвезти к шерифу; но, как бы там ни было, в ночь после похорон кто-то, у кого были некие основательные причины вырыть Винсона, вырыл его – и это был не кто иной, как Джек; а кто-то, кому вовсе нежелательно было, чтобы Винсона вырыли, но у кого были основания подстерегать кого-то, имевшего достаточные причины его вырыть, обнаружил, что его уже вырыли, – ты говорил, это около десяти было, когда вы с Алеком поставили пикап в кусты? – а ведь сейчас уже и в семь достаточно темно, чтобы пойти разрыть могилу, – так что у него было три часа; и вот я представляю себе, как Кроуфорд… – сказал дядя, и на этот раз он заметил, что дядя даже остановился и подождал, и снова что-то передалось, опять без движения, без звука, шляпка как была – неподвижно, на самой макушке, перчатки с аккуратной точностью зажаты в руке, и сумка на коленях, и ботинки стоят на полу один рядом с другим, словно она поставила их на обведенный мелом квадрат, – сторожит, спрятавшись за оградой в сорняках, и видит, что его не просто шантажируют, но и предают, и опять ему терпеть все эти мучения и опять ждать, уж не говоря – надрываться физически, потому что, если хотя бы один человек знает, что этот труп не может выдержать полицейской экспертизы, то неизвестно, сколько других могут это знать или подозревать, так что тело нужно убрать из могилы немедля, и в этом смысле ему сейчас даже помогают, догадывается об этом сам помощник или нет; и, по всей вероятности, он дождался, пока Джек вырыл тело и уже приготовился взвалить его на мула (и еще мы выяснили, что это был тот самый пахотный мул Гаури, на котором нынче утром приехали близнецы, Джек сам же и попросил его в воскресенье под вечер, и, может быть, вы догадываетесь, у кого именно, – да, так оно и есть: у Кроуфорда), ну, конечно, на этот раз он, как ему ни хотелось, все-таки не рискнул стрелять, но он не пожалел бы уплатить Джеку еще раз за его шантаж, только чтобы иметь возможность уложить его тут же на месте чем ни попадя, что он и сделал: проломил ему череп, свалил в гроб и засыпал могилу, – и опять эта страшная безотлагательность муки, одиночество парии, от которого в ужасе отречется, отшатнется всякий, и сколько еще усилий, чтобы одолеть эту немыслимую инертность земли и грозный равнодушный бег времени, но и это он наконец все преодолевает, могила снова в порядке, даже цветы на месте, и улика его первого преступления скрыта, и теперь уже надежно. – И тут опять, – но на этот раз дядя даже не остановился. – Наконец-то он может теперь выпрямиться и вздохнуть, первый раз с той минуты, когда Джек подошел к нему, сжав пятерню и потирая большим пальцем кончики пальцев; и вдруг в этот самый момент он слышит что-то, что заставляет его ринуться обратно к часовне, ползти ползком, приникнуть, задыхаясь, к ограде, на этот раз не просто в ужасе и бешенстве, а почти в ошеломлении, почти не веря, как это на одного человека обрушивается столько напастей, и смотреть, как вы, трое, не только разрушаете его труд – и это уже во второй раз, – но еще и удваиваете ему работу, потому что вы ведь засыпали могилу и даже цветы положили обратно: уж если он не мог допустить, чтобы его брат Винсон был найден в могиле, как же он может допустить, чтобы в ней нашли Джека Монтгомери, когда (ему это уже было известно) Хоуп Хэмптон явится туда утром.
Тут дядя остановился, подождал, и она сказала:
– Он бросил родного брата в зыбучий песок.
– Да, – сказал дядя, – такой момент может наступить для всякого, когда просто ничего больше уж не остается, как только уничтожить своего брата, или там мужа, или дядю, двоюродную сестру или тещу. Но вы не бросите их в зыбучий песок. Вы это хотите сказать?
– Он бросил его в зыбучий песок, – сказала она спокойно, с какой-то несокрушимой непререкаемостью, не двинувшись, не шелохнувшись, только едва шевеля губами; потом подняла руку и, открыв часики, приколотые на груди, посмотрела на циферблат.
– Они еще не доехали до Уайтлифской низины, – сказал дядя. – Но не беспокойтесь, он будет там. Может быть, до него как-никак дошло и то, что я передал, но, уж во всяком случае, ни один человек у нас в округе, даже если бы он и хотел, не может не услышать того, что под строгим секретом доверили Уилли Инграму; да ведь ничего другого ему и не остается, потому что убийцы – они как игроки, и как игрок-любитель, так и убийца-любитель, они верят прежде всего не в свое везение, а в отчаянный риск, то есть просто в то, что риск обеспечивает выигрыш, ну а если он даже и понимает, что он пропал и ему уже ничто больше повредить не может, что бы там ни показал Лукас о Джеке Монтгомери или о ком бы то ни было, и что единственный его ничтожный шанс – это убраться из этого края, или, допустим даже, он понимает, что и это уже ни к чему, знает наверняка, что у него уже подходят к концу последние крохи того, что он может назвать свободой, знает даже, что завтра для него уже не взойдет солнце, ну – что бы вам тут в первую очередь больше всего хотелось сделать? Каким последним деянием, до того как навеки проститься с родным краем или, может быть, даже распрощаться с жизнью, – утвердить, проявить заложенные в вас бессмертные чаяния, когда вы носите имя Гаури и ваша кровь, ваши мысли и поступки всю жизнь были этим Гаури, и вы знаете, думаете или хотя бы даже только надеетесь, что в такой-то момент около полуночи в глухом уединении заброшенного русла реки вы можете подстеречь идущую чуть ли не ползком машину и в ней – причину и источник всех ваших мук, крушения, унижения, отчаяния и срама, причем это даже и не человек вашей расы, а какой-то негр, и при вас еще ваш немецкий пистолет, хотя бы только с одной-единственной, уцелевшей из десяти, немецкой пулей?.. Но не беспокойтесь, – быстро перебил он самого себя. – Не беспокойтесь насчет Хэмптона: он, наверно, даже и не вынет свой револьвер, и, по правде сказать, я даже не уверен, взял ли он его с собой; потому что он умеет в любом положении и обстоятельствах – и у него это как-то само собой получается – не то что примирить или успокоить разыгравшиеся дурные чувства, но, во всяком случае, хотя бы на время приостановить всякое буйство и насилие, ну просто тем, что он так медленно двигается, тяжело дышит; помню, это было, кажется, в двадцатых годах – с тех пор у него было два или три перерыва в службе, – некая леди из Французовой Балки[137] – не будем называть имен – поссорилась с другой леди из-за чего-то, что началось (как выяснилось) с торта, который там кому-то вручали на благотворительном церковном базаре, а муж – это второй леди – был обладателем перегонного куба, с помощью которого он в течение многих лет снабжал виски весь этот поселок Французова Балка, и никому от этого не было никаких неприятностей до тех самых пор, пока первая леди не подала мистеру Хэмптону официальную жалобу, требуя, чтобы он отправился туда, уничтожил куб и арестовал владельца, а еще недели через полторы явилась самолично в город и заявила, что если он этого не сделает, то она подаст на него жалобу губернатору штата, а то и самому президенту в Вашингтон, так что Хоупу на этот раз пришлось-таки туда отправиться; и она даже подробно объяснила ему, как пройти, но он потом рассказывал, что тропа туда была с такими глубокими, по колено, ухабами, оттого что по ней много лет возили громадные бидоны с самогоном, что ее легко можно было найти даже и без фонаря, хоть он и захватил его с собой. И действительно, оказалось, что куб очень ловко пристроен в самом укромном месте, укрытом со всех сторон, но пройти к нему все-таки можно, и там под котлом горел костер, за которым следил негр, и он, разумеется, знать не знал, кто хозяин куба, и вообще ничего не знал, даже и после того, как узнал Хэмптона по его громадному росту и по значку, и, как рассказывает Хоуп, он тут же предложил ему выпить, потом принес ему бутылку родниковой воды, усадил поудобнее около какого-то дерева и даже развел костер посильнее, чтобы он мог просушить ноги и подождать спокойно, пока явится хозяин; и Хоуп говорил, что они так уютно посиживали у костра в темноте, беседовали о том о сем, а негр время от времени его спрашивал, не хочется ли ему еще родниковой воды; а потом, говорит Хэмптон, он услышал такой гвалт пересмешников, что открыл наконец глаза и, щурясь от солнца, – смотрит: действительно, в трех футах прямо над ним на ветке пересмешник, ну и, значит, пока они там грузили и вывозили этот куб, кто-то даже успел сходить в дом неподалеку, принести лоскутное одеяло, его укрыли, подсунули под голову подушку, и Хоуп даже говорил, что на подушке была чистая наволочка – он заметил это, когда понес подушку и одеяло в лавку Варнера, чтобы там возвратили по принадлежности и поблагодарили от него, ну и потом вернулся в город. А в другой раз…
– Да я не беспокоюсь, – сказала мисс Хэбершем.
– Ну конечно, нет, – сказал дядя. – Потому что я-то знаю Хоупа Хэмптона…
– Да, – сказала мисс Хэбершем. – Я-то знаю Лукаса Бичема.
– А-а! – сказал дядя. Потом: – Да! – сказал он. – Конечно. – И потом: – А не попросить ли нам Чика включить чайник, и мы могли бы выпить кофе, пока мы здесь дожидаемся. А? Что вы насчет этого думаете?
– Неплохо было бы, – сказала мисс Хэбершем.
Глава одиннадцатая
Наконец он встал и подошел к одному из окон, выходивших на Площадь, потому что если понедельник – это был день оптовых торгов, день купли-продажи, то суббота – это, конечно, был день радио и автомобиля; в понедельник здесь были преимущественно мужчины, они приезжали, ставили свои грузовики и машины по краю Площади и направлялись прямехонько в скотные торговые ряды, где оставались до обеда, когда они снова высыпали на Площадь и шли поесть, а затем снова шли в торговые ряды и не показывались до тех пор, пока не пора было усаживаться в машины и ехать, чтобы попасть домой дотемна. Но только не в субботу – в субботу здесь были и мужчины, и женщины, и дети, и старики, и грудные ребята, и молодые люди – жених с невестой, приехавшие внести плату и получить разрешение на брак, чтобы обвенчаться завтра в деревенской церкви, – и те, кому надо было закупить продуктов на неделю, сласти, бананы, двадцатипятицентовые коробки сардин, пирожные и торты машинного изготовления, платья, чулки, корма, удобрения, запасные части для плугов; на это требовалось немного времени, а кое-кому даже и вовсе не требовалось, так что некоторые машины почти даже и не стояли совсем, и обычно не проходило и часа, как уже целое множество их торжественно и чинно кружило по Площади, чаще всего на второй скорости, из-за тесноты, одна за другой, кругом, кругом, потом они выезжали на главные, обсаженные деревьями улицы и, доехав до конца, поворачивали и возвращались снова кружить по Площади, как будто они только затем и приехали из дальних окраинных поселков, уединенных ферм и сельских лавок, чтобы насладиться этой многолюдной сутолокой, движением, узнать друг друга и эту пленительную гладкость залитых асфальтом улиц и даже переулков, поглядеть на опрятные, новенькие, маленькие выкрашенные домики посреди опрятных маленьких двориков и нарядных палисадничков с цветочными клумбами – за последние несколько лет их столько здесь понастроили, что они жмутся друг к дружке вплотную, как сардинки или бананы, – а в результате этого и радио приходится кричать громче, чем когда-либо, через перегруженные усилители, чтобы его можно было расслышать в этом клекоте и шуме выхлопных газов, свисте колес, скрежете передач и непрерывном вое гудков, так что еще задолго до того, как вы доходили до Площади, вы не только не могли понять, где что у какого громкоговорителя началось или окончилось, но даже и не пытались уловить, что они там играют или стараются сообщить.
Но уж эта суббота как будто затмила собой все другие субботы, так что даже дядя поднялся из-за стола и подошел к другому окну – поэтому-то они и увидели Лукаса еще до того, как он вошел в контору, только это еще не тогда было, а позже; а пока он стоял (как ему казалось) один у окна, глядя вниз, на толкущуюся на Площади толпу, – такой толчеи он еще не видывал; пронизанный солнцем, почти горячий воздух насыщен запахом акации, цветущей на дворе перед судом, тротуары запружены тесными медлительными толпами людей, черных и белых, которые приехали сегодня в город, словно сговорившись собраться всем вместе и сбросить не только со счета, но и из памяти тоже ту, прошлую субботу, всего только семь дней тому назад, которой их лишил этот старый негр, умудрившийся попасть в такое положение, что им волей-неволей пришлось поверить, будто он убил белого, – с той субботы, воскресенья и понедельника ведь всего только неделя прошла, а как будто их даже и не было, ничего от них не осталось; Винсон и его брат Кроуфорд (похороненный как самоубийца – чужие люди еще долго будут спрашивать, что это за тюрьма и что это за шериф такой в Йокнапатофском округе, если у человека, которого запрятали за смертоубийство, оказался в руках пистолет Люгера, пусть даже с одним-единственным зарядом, и долго еще в Йокнапатофском округе никто не сможет ответить на этот вопрос) лежат рядом, бок о бок, возле могильной плиты своей матери на кладбище у Шотландской часовни, а Джек Монтгомери – в округе Кроссмен, откуда затребовали его тело, должно быть, по тем же причинам, что здесь затребовали тело Кроуфорда; а мисс Хэбершем сидит у себя в передней, штопает носки, пока еще не пора кормить цыплят, а Алек Сэндер – здесь, внизу, на Площади, в яркой праздничной рубахе и в узких брюках, в руках горсть арахиса или бананы, а сам он стоит у окна и следит за этой тесной неторопливой толпой, которую никто не торопит, не подгоняет, и за деловитой и почти всюду сразу мелькающей блестящей кокардой на околыше фуражки Уилли Инграма, а больше всего за этой сутолокой и гвалтом радио, машин, музыкальных автоматов в баре, в бильярдной, в кафе и ревущих громкоговорителей на стенах – не только на стене музыкального магазина, где торгуют пластинками и приемниками, но и на стене магазина военного и морского обмундирования и даже на стенах обеих бакалейных лавок, и (чтобы какой-нибудь, не дай Бог, не оплошал) кто-то стоит на скамейке во дворе суда и держит речь в микрофон еще одного громкоговорителя, водруженного на крыше машины, у которого зев прямо чуть ли не с жерло осадной пушки, и уж не говоря о тех, что кричат в квартирах и домах, где хозяйки и горничные оправляют постели, убирают, собираются готовить обед, так что нигде во всем городе, в пределах самой крайней последней замыкающей его черты, ни одному мужчине, ни женщине, ни ребенку, ни гостю, ни одному приезжему не угрожает ни секунды тишины; а машины – потому что, уж если говорить честно, ему совсем не было видно самой Площади, а только сплошную непроницаемую массу – капоты и верха машин, двигающихся черепашьим шагом двумя рядами вокруг Площади в едкой невидимой пелене выхлопных газов, реве гудков, легком непрестанном стуке сталкивающихся буферов и медленно выбирающихся одна за другой на улицы вон с Площади, в то время как машины из другого, встречного, ряда медленно, одна за другой, вливаются в нее; так незаметно их неуловимо малое движение, что его даже и нельзя назвать «движением», вы могли бы, просто шагая по ним, перейти Площадь и, пожалуй, даже и выйти из города или, уж коли на то пошло, проехать по ним верхом. Взять хотя бы Хайбоя – для него прыжок в пять-шесть футов с одного верха машины через капот на верх другой – это ведь сущий пустяк; или, скажем, перекинуть через эти верха такой гладкий сплошной настил вроде мостков и пустить по нему не Хайбоя, а настоящую скаковую лошадь, и он представил себе, как он мчится на высоте семи футов в воздухе, словно птица какая-нибудь быстролетная – ястреб или орел, – и у него даже екнуло в груди, и под ложечкой такое чувство, будто там взорвалась целая бутылка содовой, как только он представил себе этот безудержный, великолепный, поистине громоподобный грохот, когда он промчится вскачь по этим незакрепленным мосткам, протянутым на две мили в ту и другую сторону, – но тут дядя у другого окна вдруг заговорил:
– Американец, по правде говоря, не любит ничего, кроме своей машины, у него на первом месте не жена, не ребенок, не отчизна, даже не текущий счет в банке (на самом деле он вовсе не так уж привержен к своему текущему счету, как это думают иностранцы, потому что он способен истратить его чуть ли не весь целиком, сразу, на какую-нибудь совершенно бессмысленную затею), а его машина, потому что машина стала нашим национальным символом пола. И ничто нам по-настоящему не доставляет удовольствия, если это как-то не связано с ней. Вместе с тем все наше прошлое, то, как нас растили и воспитывали, не позволяет нам действовать втихомолку или прибегать к обману. Поэтому мы вынуждены, например, развестись сегодня с женой, чтобы снять с нашей любовницы клеймо любовницы, затем, чтобы завтра развестись с женой и снять с любовницы… и так далее. А в результате американская женщина становится холодной и бесполой, она переносит свое либидо[138] на машину – и не только потому, что ее блеск и всякие там приборы и приспособления потакают ее тщеславию и ее неспособности ходить (из-за одежды, которую ей навязывает наша отечественная торговля через поставщиков), а потому, что машина ее не мнет, не терзает, не заставляет ее метаться, растрепанную, всю в поту. Поэтому, чтобы овладеть хоть чем-то, что еще осталось в ней, и удержать это, мужчина-американец вынужден сделать эту машину своей собственностью. И вот так и выходит, что он может жить в какой угодно наемной дыре, но у него будет не только собственная машина, но каждый год новая, во всей ее девственной неприкосновенности: он никому никогда не одолжит ее, никого и никогда не посвятит в интимную тайну невинных капризов и шалостей ее рычагов и педалей, хотя ему, собственно, и ездить-то в ней некуда, а если бы и было куда, так он не поедет – из страха, как бы не загрязнить, не поцарапать, не попортить ее. И каждое воскресенье с утра он моет ее, и чистит, и гладит, натирает до блеска, потому что, делая это, он ласкает тело женщины, которая давно уже не пускает его к себе в постель.
– Все это неправда! – сказал он.
– Мне уже шестой десяток пошел, – сказал дядя. – Пожалуй, лет пятнадцать из них я только и делал, что волочился за юбками. И я из своего опыта вынес, что очень немногим из них нужна любовь или даже физические ощущения. Просто они хотят выйти замуж.
– Все равно я этому не верю, – сказал он.
– Правильно! – сказал дядя. – И не верь, и даже когда тебе за пятьдесят перевалит, все равно продолжай не верить.
И тут, кажется, чуть ли не оба сразу они увидели Лукаса, переходившего Площадь, – сдвинутую набок шляпу и тоненький яркий лучик от сверкнувшей золотой зубочистки, и он сказал:
– Как вы думаете, где она, по-вашему, была у него все это время? Я ведь ее ни разу не видел. А конечно, она была при нем в тот день, в субботу, когда он не только нарядился в свой черный костюм, но даже и пистолет нацепил. Не мог же он тогда пойти без своей зубочистки?
– А я разве тебе не говорил? – сказал дядя. – Когда Хэмптон приехал к Скипуорту и вошел в комнату, где Скипуорт приковал Лукаса к ножке кровати, первое, что сделал Лукас, – это протянул Хэмптону свою зубочистку и сказал ему, чтобы он подержал ее у себя, пока он не спросит.
– О-о! – сказал он. – Вон он идет сюда.
– Да, – сказал дядя, – позлорадствовать. Да нет, он джентльмен, – тут же поправился он. – Он не припомнит мне, не скажет в лицо, что я ошибся, просто спросит, сколько он мне должен как адвокату.
И потом, когда он уселся на своем стуле около охладителя, а дядя опять у себя за столом, они услышали протяжный гулкий грохот и скрип ступенек и затем твердые, но совсем не торопливые шаги Лукаса, и Лукас вошел – на этот раз без галстука и даже без воротничка, но с запонкой, в допотопном белом жилете, не столько запачканном, сколько запятнанном под черным сюртуком и выпущенной петлей потертой золотой цепочкой, – то же лицо, которое он в первый раз увидел четыре года тому назад в то утро, когда он только что вылез из едва затянувшегося льдом рукава речки и вода текла с него ручьями, – ничуть не изменившееся, как будто с ним ничего и не произошло за это время, даже годы не прибавились, – и, пряча зубочистку в верхний карман жилета, он сказал, входя:
– Джентльмены! – А потом к нему: – Молодой человек! – Вежливый, неподатливый, более чем обходительный, ну просто почти приветливый, и, снимая свою сдвинутую набок шляпу: – Ну как, больше не падал в ручей, а?
– Нет, все в порядке. Жду, когда там у вас побольше льда нарастет.
– Всегда вам рад, добро пожаловать, можете и не ждать, пока замерзнет.
– Садись, Лукас, – сказал дядя, но тот уже усаживался, выбрав тот самый жесткий стул около двери, на который никто никогда не садился, кроме мисс Хэбершем, и, сев, даже слегка подбоченился, словно он позировал перед фотоаппаратом, и, положив свою шляпу тульей вверх на согнутую руку и по-прежнему не сводя глаз с них обоих, повторил:
– Джентльмены!
– Ты, конечно, пришел ко мне не затем, чтобы я сказал тебе, что делать, ну а я тебе все-таки скажу, – сказал дядя.
Лукас быстро мигнул. Поглядел на дядю.
– Да, не сказал бы, что я за этим пришел. – Потом добавил живо: – Но я всегда готов послушать добрый совет.
– Поди навести мисс Хэбершем, – сказал дядя.
Лукас уставился на дядю. Мигнул на этот раз дважды.
– Не очень-то я охоч в гости ходить, – сказал он.
– Я думаю, ты не очень охоч и до виселицы, – сказал дядя. – Но ведь нет надобности тебе говорить, как близко ты от нее был.
– Нет, – сказал Лукас. – Чего уж там говорить. А что вы хотите, чтобы я ей сказал?
– Ты не можешь, – сказал дядя. – Ты не умеешь сказать «спасибо». Но я об этом позаботился: отнеси ей цветы.
– Цветы? – сказал Лукас. – Да я вроде как и не видал их с тех пор, как померла моя Молли.
– Это мы тоже уладим, – сказал дядя, – я позвоню домой, и моя сестра приготовит тебе букет цветов, Чик отвезет тебя на машине, ты возьмешь цветы, а потом он отвезет тебя до ворот дома мисс Хэбершем.
– Ну, уж об этом можно и не беспокоиться, – сказал Лукас. – Раз цветы будут у меня, я и прогуляться могу.
– Да ведь ты и цветы можешь бросить, – сказал дядя. – Но если ты будешь в машине с Чиком, я буду уверен, что ты не сделаешь ни того, ни другого.
– Что ж! – сказал Лукас. – Если на вас ничем другим не угодишь… [И когда он, уже вернувшись обратно в город, наконец-то едва-едва нашел место за три квартала поставить машину и, поднявшись по лестнице, вошел в контору, дядя, опять чиркая спичкой и поднося ее к трубке, заговорил через нее дымом: – Ты и Букер Т. Вашингтон[139], нет, не так, ты, и мисс Хэбершем, и Алек Сэндер, и шериф Хэмптон, и Букер Т. Вашингтон – потому что он-то сделал только то, что все от него и ожидали, так что никакой, собственно, причины считать себя вынужденным это делать у него не было, тогда как вы все сделали не только то, чего от вас никто не ожидал, но весь Джефферсон, и весь Йокнапатофский округ, узнай они об этом своевременно, все разом с единодушной – в кои-то веки – решимостью бросились бы помешать вам это сделать, и даже год спустя кое-кто (при случае, если придется кстати) нет-нет да и помянет об этом с неодобрением и даже с отвращением, не потому, что вы вурдалаки и забыли о том, что вы белые, – все это по отдельности они, может быть, вам и спустили бы, – но потому, что вы осквернили могилу белого, чтобы спасти негра, а следовательно, у вас были причины считать себя вынужденными это сделать. Так вот, не останавливайся на этом. – И он сказал:
– Но вы же не думаете, просто потому что сегодня опять суббота, что кто-нибудь залег там в кустах жасмина у мисс Хэбершем и ждет, когда Лукас ступит па крыльцо. К тому же у Лукаса сегодня нет с собой его пистолета, и, кроме того, Кроуфорд Гаури… – И дядя сказал:
– А почему бы и нет; то, что сейчас лежит в могиле у Шотландской часовни, было Кроуфордом Гаури всего на одну-две секунды в прошлую субботу, а Лукас Бичем со своим цветом кожи впутается еще в десять тысяч историй, которых более осмотрительный человек избежал бы и от которых человек с более светлой кожей десять тысяч раз убежал бы, после того как то, что в прошлую субботу было на какую-то секунду Лукасом Бичемом, тоже теперь лежит в земле возле своей Шотландской часовни, потому что этот наш Йокнапатофский округ, все те, кто в ту воскресную ночь остановили бы тебя, и Алека Сэндера, и мисс Хэбершем, – они, в сущности, правы, им нет дела до жизни Лукаса, ни как он там живет, ест, спит, дышит, так же как им нет дела до тебя и до меня, они дорожат только своим незыблемым правом жить в спокойствии и безопасности. И по правде сказать, жить было бы куда удобнее, если бы на земле было бы поменьше Бичемов, Стивенсов и Мэллисонов всех цветов и оттенков и если бы существовал какой-то безболезненный способ уничтожать бесследно не их громоздкие, занимающие место останки – это-то можно сделать, – но то, чего нельзя уничтожить, – память, бессмертную, неизгладимую память, сознание, что человек был когда-то жив, то, что остается навеки через десятки тысяч лет в десятках тысяч воспоминаний о несправедливости, о страданиях; нас слишком много не потому, что мы занимаем много места, а потому, что мы готовы перепродать, уступить нашу свободу за любую ничтожную цену ради того, что мы считаем своим собственным, а это есть не что иное, как узаконенное конституцией право добиваться каждому счастья и благосостояния на свой лад, не заботясь, кто от этого страдает или кому чего это стоит, и даже ценой распятия кого-то, чья форма носа или цвет кожи нам не нравятся; но даже и с этим можно бороться, если те немногие другие, которые ценят человеческую жизнь просто потому, что всякому дано право дышать независимо от того, какого цвета кожу расширяют и сокращают легкие или через какой формы нос в них поступает воздух, – готовы защищать это право любой ценой, – ведь не так уж их много и надо – в ту воскресную ночь оказалось достаточно троих, даже и одного может оказаться достаточно; и вот когда некоторое количество этих одиночек будет не только стыдиться и огорчаться, но отважится пойти на нечто большее – вот тогда Лукасу можно будет не опасаться, что ему внезапно в любую минуту может потребоваться, чтобы его спасли.
– Пожалуй, нас в ту ночь не трое было. Вернее было бы сказать: одна и две половинки, – сказал он, а дядя на это:
– Я уже говорил тебе, что ты вправе этим гордиться. И даже похвастаться вправе. Только не останавливайся на этом], – и тут он подошел к столу, положил на него шляпу, вытащил из внутреннего кармана сюртука кожанки кошелек с защелкивающимся запором, вытертый, потемневший, словно старое серебро, и величиной чуть ли не с сумку мисс Хэбершем, и сказал:
– Я полагаю, у вас есть ко мне небольшой счетец?
– За что? – сказал дядя.
– За то, что вы вели мое дело, – сказал Лукас. – Назовите вашу цену, ну, так чтобы не втридорога. Я хочу рассчитаться с вами.
– Я тут ни при чем, – сказал дядя. – Я ничего не делал.
– Я же посылал за вами. Я поручил вам. Сколько я вам должен?
– Нисколько, – сказал дядя. – Потому что я тебе не поверил. Вот этот мальчуган, он – причина того, что ты сегодня разгуливаешь.
Теперь Лукас глядел на него, держа в одной руке кошелек, а другой готовясь вот-вот щелкнуть запором, – то же лицо, и не то что с ним ничего не произошло, но оно просто отвергало, отказывалось это принять; он уже открыл кошелек.
– Отлично, я заплачу ему.
– А я тут же арестую вас, того и другого, – сказал дядя, – тебя – за совращение несовершеннолетнего, а его за то, что он занимается судебной практикой, не имея на это права.
Лукас снова перевел глаза на дядю; он смотрел, как они уставились друг на друга. Затем Лукас снова мигнул дважды.
– Хорошо, – сказал он. – Ну, тогда я вам уплачу за издержки. Назовите, ну, так чтобы не втридорога, и давайте покончим с этим.
– Издержки? – протянул дядя. – Да, конечно, издержки у меня были, это когда я сидел тут в прошлый вторник и пытался записать все те никак не связанные между собой подробности, которые я в конце концов из тебя выудил, так чтобы мистеру Хэмптону было хоть за что зацепиться, чтобы выпустить тебя из тюрьмы; и чем больше я старался, тем хуже у меня получалось, а чем хуже у меня получалось, тем больше я раздражался, а когда я наконец решил все начать снова, гляжу – моя авторучка торчит, как стрела, вонзившись концом в пол; бумага-то, разумеется, была казенная, а вот ручка – моя. И мне стоило два доллара вставить в нее новое перо. Значит, ты должен мне два доллара.
– Два доллара? – сказал Лукас. И опять мигнул дважды. А потом еще два раза. – Всего два доллара? – Теперь он мигнул только раз – и не то чтобы как-то особенно вздохнул, но просто глубоко выдохнул в полез большим и указательным пальцем в кошелек. – Вроде как маловато, по-моему, но оно ведь конечно, я земледелец, а вы законник; и знаете вы там свое дело или нет, не моей тележки дело, как поет этот заводной ящик, учить вас, как поступать. – И он вытащил из кошелька затрепанную долларовую кредитку, скомканную в комочек величиной с ссохшуюся оливку, отвернул кончик, посмотрел, затем развернул ее и положил на стол, а из кошелька вынул еще монету в полдоллара и тоже положил на стол, затем отсчитал прямо из кошелька на стол четыре десятицентовика и еще две монетки по пять центов и пересчитал все снова, двигая монеты указательным пальцем, шевеля губами под щетиной усов и все еще держа в другой руке открытый кошелек; потом подцепил со стола два десятицентовика и монету в пять центов и положил их в руку, которой держал кошелек, а из кошелька вынул двадцать пять центов и положил на стол, потом быстро окинул взглядом всю кучку монет, снова положил на стол два десятицентовика и пять центов, а пятьдесят центов сунул обратно в кошелек.
– Тут всего семьдесят пять центов, – сказал дядя.
– Не беспокойтесь, – сказал Лукас и, взяв со стола двадцатипятицентовик, положил его обратно в кошелек; а он, следя за Лукасом, увидел, что в кошельке этом по меньшей мере два отделения, а может быть, и еще больше, и второе отделение, такое глубокое, что рука чуть не до локтя уйдет, сейчас под пальцами Лукаса открылось, и Лукас некоторое время стоял и заглядывал в него, ну совсем так же, как заглядываешь в колодец и смотришь на свое отражение в воде; потом он вытащил из этого отделения завязанный узелком грязный матерчатый мешочек для табака, туго набитый, по-видимому, чем-то очень твердым, потому что, когда он бросил его на стол, мешочек звякнул с каким-то глухим стуком.
– Вот теперь как раз, – сказал он. – Здесь ровно пятьдесят центов по пенни. Я было собирался их в банк отнести, но вы можете меня от этого избавить. Угодно пересчитать?
– Конечно! – сказал дядя. – Но ведь ты платишь, значит, ты и считай.
– Ровно пятьдесят, – сказал Лукас.
– Придется потрудиться, – сказал дядя. И Лукас развязал мешочек, высыпал монеты на стол и стал считать вслух, подвигая их указательным пальцем одну за другой к маленькой кучке десяти– и пятицентовиков, и потом, защелкнув кошелек, засунул его во внутренний карман сюртука, а другой рукой подвинул всю кучку монет и скомканную кредитку через стол к дяде, пока они не уткнулись в бювар; затем он достал из бокового кармана пестрый носовой платок, вытер руки, сунул платок обратно и стоял, выпрямившись, неподатливый, невозмутимый, не глядя теперь уже ни на кого из них, в то время как непрестанный рев радио, захлебывающиеся гудки едва ползущих машин и весь разноголосый шум субботней толпы, собравшейся со всех концов округа, разносились в ясном солнечном дне.
– Ну, – сказал дядя. – Чего же ты еще дожидаешься?
– Расписки, – сказал Лукас.
Основные даты жизни и творчества Уильяма Фолкнера
1897
25 сентября
Уильям Катберт Фолкнер родился в г. Нью-Олбени, штат Миссисипи, в семье железнодорожного служащего. Род Фолкнеров играет важную роль в экономической и политической жизни штата. Дед – владелец железной дороги, основатель банка в г. Оксфорде, юрист, политический деятель.
1902
сентябрь
Переход железной дороги в другие руки; отец Фолкнера лишается должности. Семья поселяется в Оксфорде – центре округа Лафайетт.
1905–1915
Уильям Фолкнер учится в школе в Оксфорде; выбывает из 11-го класса без аттестата.
1916
Служит делопроизводителем в банке (оставляет работу в 1917 г.). Знакомства в среде студентов университета штата Миссисипи. Сближение с выпускником Йейла Ф. Стоуном, оказавшим большое влияние на развитие литературных интересов Фолкнера.
май
В университетском альманахе «Ол Мисс» на 1916–1917 гг. помещен рисунок Фолкнера.
1918
март
Попытка поступить в школу военных летчиков.
весна
Два рисунка Фолкнера в альманахе «Ол Мисс».
апрель – июнь
Служит клерком в оружейной фирме в Нью-Хейвене (Коннектикут).
14 июня
Фолкнер под видом англичанина зачислен в школу британских военных летчиков, организованную в Канаде.
10 июля
Прибывает в Торонто. Меняет написание своей фамилии (вместо Falkner – Faulkner). Теоретические и практические занятия в школе.
декабрь
Демобилизован в связи с заключением перемирия. Возвращение в Оксфорд. Отец получает место управляющего хозяйством и казначея в университете Миссисипи; переезд семьи в студенческий городок.
1919
апрель – июнь
Написан цикл стихотворений в пасторальном духе.
6 августа
Журнал «Нью Рипаблик» помещает стихотворение Фолкнера «Послеполуденный отдых фавна».
сентябрь – ноябрь
Фолкнер – студент университета Миссисипи в Оксфорде. Занимается английской литературой, французским и испанским языками.
1920
Публикует стихи и переводы в студенческом журнале «Миссисипиан». Участвует в создании и деятельности любительской театральной труппы «Марионетки». Эпизодически подрабатывает в качестве маляра.
1921
Пишет одноактную пьесу «Марионетки», иллюстрируя рукопись рисунками в духе О. Бёрдслея; цикл стихов «Весеннее видение».
осень – зима
Фолкнер в Нью-Йорке; случайные заработки; поступает продавцом в книжный магазин.
декабрь
Возвращение в Оксфорд; Фолкнер – почтмейстер на университетской почте.
1922 январь – 1924 сентябрь
Поездки в Новый Орлеан, посещения редакции созданного в 1921 г. авангардистского журнала «Дабль дилер» («Double Dealer»).
март
Смерть деда, Д. Т. У. Фолкнера.
весна
Рисунки Фолкнера в альманахе «Ол Мисс».
июнь
В «Дабль дилер» напечатано стихотворение «Портрет».
1923
июнь
Отправляет в бостонское издательство рукопись поэтического сборника «Орфей и другие стихотворения» (не опубликован).
1924
май
Ф. Стоун субсидирует издание книги стихов Фолкнера – переработанного «пасторального» цикла «Мраморный фавн».
июль – сентябрь
Переписка Фолкнера с издательством; написана автобиография для сборника.
сентябрь – октябрь
Жалобы клиентов на недобросовестное выполнение Фолкнером обязанностей почтмейстера, ревизия. Фолкнер уходит со службы.
октябрь – ноябрь
Знакомство и встречи в Новом Орлеане с Шервудом Андерсоном.
15 декабря
Выход в свет первой книги – «Мраморный фавн» с предисловием Ф. Стоуна.
1925
январь – май
Живет в Новом Орлеане. Знакомства в литературных кругах, попытка совместной работы с Ш. Андерсоном (начато юмористическое произведение в письмах). Печатает стихи, очерки и рассказы в журнале «Дабль дилер» и газете «Таймз-пикейн». Начинает работу над романом «День в мае», в окончательном варианте – «Солдатская награда». Ш. Андерсон рекомендует книгу Фолкнера нью-йоркскому издательству «Бони и Ливрайт».
июль
Вместе с художником У. Спрэтлингом Фолкнер отплывает из Нового Орлеана в Европу на грузовом судне.
август – декабрь
Совершает путешествие пешком и поездом по Италии, Швейцарии, Франции, Англии. Работает над рассказами, незавершенной повестью «Эльмер». Начат роман «Москиты».
1926
зима – весна
Фолкнер в Оксфорде и Новом Орлеане.
25 февраля
Выход в свет романа «Солдатская награда».
лето
Заканчивает роман «Москиты».
октябрь – декабрь
Лилиан Хеллман – рецензент «Бони и Ливрайт» – дает положительный отзыв на рукопись «Москитов». Фолкнер работает над повестью «Отец Авраам» (в дальнейшем – глава романа о Сноупсах) и романом «Флаги в пыли».
декабрь
Предисловие Фолкнера в сборнике рисунков и шаржей У. Спрэтлинга «Шервуд Андерсон и другие знаменитые креолы», пародирующее стиль Ш. Андерсона.
1927
февраль
Фолкнер пишет повесть для детей «Дерево желаний» в подарок дочери своей будущей жены Эстеллы Франклин.
апрель – май
Небывалое наводнение в долине Миссисипи. (Отражено позднее в романе «Дикие пальмы».)
30 апреля
Выход в свет романа «Москиты».
осень
Завершение «Флагов в пыли». Фолкнер дополняет литературные гонорары заработками в качестве маляра – пишет вывески.
ноябрь – декабрь
«Флаги в пыли» отклонены «Бони и Ливрайт»; переговоры в связи с долгом Фолкнера издательству.
1928
март – август
Эпизодические заработки, материальная поддержка со стороны отца.
апрель
Начало работы над романом «Шум и ярость».
сентябрь – ноябрь
Издательство «Харкорт, Брейс» принимает роман «Флаги в пыли» при условии его значительного сокращения. Завершает работу над «Шумом и яростью». Возвращается в Оксфорд.
1929
31 января
Выход в свет романа «Сарторис» – сокращенный вариант «Флагов в пыли» – первое произведение о Йокнапатофе.
февраль
Издательство «Харкорт, Брейс» отклоняет роман «Шум и ярость». Передача рукописи фирме «Кейп и Смит».
февраль – май
Работа над романом «Святилище», книга отклонена издательством «Кейп и Смит». Брак Фолкнера с Эстеллой Франклин.
7 октября
Выход в свет романа «Шум и ярость», вызвавшего широкий резонанс в печати.
осень – зима
Фолкнер работает помощником кочегара на университетской электростанции. В ночные смены пишет роман «Когда я умирала».
1930
В течение всего года рассылает в журналы новые и старые рассказы (опубликованы четыре).
январь
Закончен роман «Когда я умирала». Английский писатель Ричард Хьюз предлагает издать книги Фолкнера в Англии со своими предисловиями.
апрель – июнь
Покупка и перестройка старинной городской усадьбы, ставшей домом Фолкнера до конца его жизни.
июнь
В Англии издана «Солдатская награда» с предисловием Р. Хьюза. Появляется рецензия А. Беннета.
6 октября
Выход в свет романа «Когда я умирала».
1931
9 февраля
Выход романа «Святилище», значительно переделанного автором. Резко отрицательные отзывы в печати и первый читательский успех (к апрелю разошлось более 7 тыс. экз.).
10 июля
В мемфисской газете опубликовано первое интервью с Фолкнером.
август
Начат роман «Темный дом», первоначальное название «Света в августе».
21 сентября
Выход в свет сборника рассказов «Эти тринадцать».
23–24 октября
Участие в творческой встрече тридцати четырех писателей в университете Виргинии.
ноябрь – декабрь
Фолкнер в Нью-Йорке. Знакомство с Дороти Паркер, Лилиан Хеллман, Дэшиллом Хэмметом.
1932
февраль – март
Завершение работы над рукописью романа «Свет в августе».
апрель
Первые переводы рассказов Фолкнера на французский язык.
май – декабрь
В связи с материальными трудностями Фолкнер заключает контракт на работу в Голливуде в качестве киносценариста компании «Метро-Голдвин-Майер» («МГМ»); живет в Калифорнии.
октябрь
Выход в свет романа «Свет в августе». Подписан контракт с компанией «Парамаунт» на экранизацию «Святилища».
1933
февраль – декабрь
Занимается в мемфисской частной авиашколе и получает права пилота.
апрель
Выход в свет сборника стихотворений «Зеленая ветка». Премьера фильма «Святилище».
июнь
Рождение дочери Джилл.
лето – осень
Начинает летать на собственном самолете.
1934
Замыслы дальнейших книг йокнапатофского цикла. Работает над романом «Реквием по монахине». Публикует ряд рассказов в крупных журналах.
16 апреля
Выход в свет сборника рассказов «Доктор Мартино».
28–29 апреля
Авиационный праздник в Рипли. Фолкнер участвует в программе «воздушных аттракционов».
июль
В Голливуде пишет сценарий по роману французского писателя Блеза Сандрара.
октябрь – декабрь
Пишет и по главам отсылает в издательство роман о летчиках «Пилон» («Столб»).
1935
25 марта
Выход в свет романа «Пилон».
лето – осень
Работает над романом «Авессалом, Авессалом!».
ноябрь
Гибель младшего брата Дина, летчика-инструктора.
декабрь
Уезжает в Голливуд для сценарной работы в кинокомпании «XX век – Фокс».
1936
январь – май
Завершение романа «Авессалом, Авессалом!». Фолкнер составляет и прилагает к книге «карту округа Иокнапатофа».
26 октября
«Авессалом, Авессалом!» выходит в издательстве «Рэндом Хаус».
1937
январь – август
Фолкнер в Голливуде.
февраль – май
М. Куандро переводит на французский язык романы Фолкнера.
октябрь
Начинает писать роман «Если я позабуду тебя, Иерусалим», позднее получивший название «Дикие пальмы».
1938
январь
Компания «МГМ» приобретает права на экранизацию цикла рассказов «Непобежденные».
15 февраля
Выход в свет книги рассказов «Непобежденные».
февраль
Приобретение фермы недалеко от Оксфорда.
декабрь
В письме своему издателю Б. Хаасу Фолкнер излагает замысел трехтомной «Книги о Сноупсах». Предположительные названия томов трилогии: «Крестьяне», «Крестьянин в городе», «Падение Илиона».
1939
Выход в свет романа «Дикие пальмы».
19 января
Избран членом Национального института искусств и литературы.
февраль – сентябрь
Работа над «Крестьянами», отсылает в Нью-Йорк законченные главы. Материальные трудности.
24 октября
Передает в фонд помощи республиканской Испании рукопись романа «Авессалом, Авессалом!».
декабрь
Рассказу «Поджигатель» присуждена премия О. Генри. Установлены окончательные названия томов трилогии о Сноупсах. Завершение работы над «Деревушкой».
1940
27 января
Скончалась в возрасте 100 лет няня Фолкнера и его братьев негритянка Кэлли Барр Кларк, прожившая в их семье несколько десятилетий. Фолкнер произносит надгробное слово, ставит памятник на ее могиле.
апрель
Выход в свет романа «Деревушка».
июль – август
Напряженная работа над рассказами. Журнальные публикации и полученный аванс частично разрешают материальные проблемы Фолкнера.
осень
Дает консультации в местной авиашколе, готовит учебный курс по навигации и радиосвязи.
1941
май
Ведет переговоры с Голливудом об экранизации своих произведений.
июнь – декабрь
Переработка рассказов, предназначенных для книги «Сойди, Моисей». Написаны различные варианты повести «Медведь» и сценарий по ней. Фолкнер возглавляет организацию местной противовоздушной обороны штата.
1942
март
Выход в свет книги рассказов «Сойди, Моисей», посвященной Кэлли Барр Кларк.
апрель – май
Поездка в Вашингтон. Неудачная попытка зачислиться в ВВС для отправки на европейский фронт.
1942 июль по 1943
Фолкнер в Голливуде, на службе в кинокомпании «Уорнер Бразерс», пишет сценарии на военные темы.
август – декабрь
В Оксфорде работает над первоначальным вариантом романа «Притча».
1944
февраль – декабрь
Возвращается в Голливуд. Среди разных работ – участие в экранизации романа Хемингуэя «Иметь и не иметь».
октябрь – ноябрь
Переписка с критиком М. Каули, который готовит большую статью о Фолкнере.
1945
январь – май
Получив шестимесячный отпуск, писатель возвращается в Оксфорд. Возобновляет работу над «Притчей».
июнь – сентябрь
В Голливуде. Переписка с Каули, составляющим антологию произведений Фолкнера, построенную как история округа Иокнапатофа.
конец сентября
Разрыв с киностудией, возвращение в Оксфорд.
октябрь – декабрь
Составляет для антологии М. Каули генеалогическую таблицу рода Компсонов. Продолжает работать над «Притчей».
1946
апрель
Выход в свет антологии.
1947
14–17 апреля
Первые выступления перед студентами – Фолкнер проводит шесть бесед в университете штата Миссисипи.
август – декабрь
Вчерне закончен первый вариант романа «Притча».
1948
январь – май
Пишет роман «Осквернитель праха».
июль
Продажа прав на экранизацию «Осквернителя праха» кинокомпании «МГМ».
27 сентября
Выход в свет романа «Осквернитель праха».
ноябрь – декабрь
Дискуссия об «Осквернителе праха» в местной печати в связи с негритянскими проблемами Юга и позицией Фолкнера.
1949
январь
Фолкнер запрещает публикацию биографического очерка о себе, написанного М. Каули по заказу журнала «Лайф», сочтя его слишком личным.
февраль – июнь
Съемки в Оксфорде кинофильма «Осквернитель праха», многие жители участвуют в них вкачестве статистов.
весна – лето
Пишет повесть «Ход конем».
11 октября
В Оксфорде происходит торжественная международная премьера фильма «Осквернитель праха».
ноябрь
Фолкнер представлен на Нобелевскую премию по литературе, получает большинство голосов членов Нобелевского комитета. Ввиду того, что голосование не было единогласным, премия не присуждена никому.
1950
февраль – июнь
Работа над пьесой «Реквием по монахине».
25 апреля
Фолкнеру присуждена Золотая медаль имени Гоуэллса Американской академии искусств и литературы.
август
Выход в свет «Собрания рассказов».
10 ноября
Фолкнеру присуждена Нобелевская премия по литературе.
10 декабря
Выступление в Стокгольме с Нобелевской лекцией.
1951
январь
Учреждает на средства от Нобелевской премии Фолкнеровский фонд помощи молодым писателям; предусмотрена также выдача пособий на образование, в первую очередь – представителям негритянского населения штата Миссисипи.
февраль
В Голливуде пишет сценарий по военному роману У. И. Барретта «Левая рука Бога».
март
Присуждение Фолкнеру Национальной книжной премии 1951 г. Конфликт Фолкнера с официозными и клерикальными кругами штата, нападки в местной печати в связи с его протестом против казни негра У. Макги, обвиненного в насилии над белой женщиной.
12–30 апреля
Поездка в Европу – Лондон и Париж.
26 мая
Выступление перед выпускниками школы в Оксфорде.
июль
Завершение пьесы «Реквием по монахине». Фолкнер в Нью-Йорке, работает над сценической редакцией пьесы.
27 сентября
Опубликована пьеса «Реквием по монахине».
октябрь – ноябрь
Фолкнер в Кембридже, Массачусетс. Дальнейшая переработка «Реквиема» в связи с неосуществленным замыслом постановки пьесы в местном театре.
1952
январь – апрель
Возвращается к рукописи «Притчи». Планы показа «Реквиема» на парижском театральном фестивале, поиски средств.
май – июнь
Фолкнер в Париже, затем в Осло. Лечит тяжелую травму спины (результат падения с лошади).
июль – октябрь
Тяжелое физическое и душевное состояние, обследование в больнице.
ноябрь – декабрь
В доме Фолкнера снимается, по заказу Фонда Форда, короткометражный документальный фильм о нем в связи с Нобелевской премией. Поездка в Принстон, где писатель работает над «Притчей». Болезнь, пребывание в клинике.
1953
Пребывание в Нью-Йорке, Оксфорде, Принстоне.
январь – ноябрь
Завершение почти десятилетней работы над романом «Притча».
декабрь – февраль 1954
Пребывание в Париже, Италии, Швейцарии, Египте в связи со съемками фильма «Земля фараонов» по заказанному ему (с соавтором) сценарию.
1954
2 августа
Выход в свет романа «Притча».
7–13 августа
Фолкнер в Бразилии, участвует в международном конгрессе писателей в Сан-Паолу.
сентябрь – декабрь
В Оксфорде и Нью-Йорке. Написано эссе «О частной жизни. Что произошло с американской мечтой». Изготовлена грампластинка с записью голоса Фолкнера.
1955
январь
Присуждение Национальной книжной премии 1954 г. за роман «Притча». Чествования Фолкнера в Нью-Йорке.
1–23 августа
Фолкнер в Японии как официальный представитель США (по приглашению университета в Нагано). Лекции, выступления, встречи в нескольких городах.
сентябрь – октябрь
Возвращение домой через Европу.
декабрь
Выход в свет книги рассказов «Большой лес». Работа над романом «Город».
1956
зима – весна
Частые выступления в печати и по радио по вопросам интеграции в школе, гражданских прав негров, проблем Юга.
лето
Возобновляет работу над «Городом».
сентябрь
В Париже поставлен «Реквием по монахине».
ноябрь – декабрь
Фолкнер в Нью-Йорке, участвует в заседаниях писательского комитета, обсуждающего вопросы внешней и внутренней политики правительства США.
1957
февраль – май
Ведет занятия со студентами университета
с марта по осень
Виргинии (Шарлотсвилл). Беседы Фолкнера записываются на пленку. Пребывание в Греции по программе культурного обмена. «Реквием по монахине» поставлен в Афинах. Пребывание в Голливуде на съемках фильма «Долгое жаркое лето» по мотивам романа «Город».
1958
В течение всего года работает над романом «Особняк».
февраль – июнь
Второй преподавательский семестр в университете Виргинии.
1959
январь
На Бродвее, впервые в США, поставлен «Реквием по монахине».
март
Завершение «Особняка».
август
Приобретает дом в Шарлотсвилле.
29 сентября –2 октября
Участие в 7-й национальной конференции Американского комитета ЮНЕСКО, посвященной проблемам западного полушария (Денвер).
1959, конец года – 1960
Фолкнер – член Ученого совета университета Виргинии.
июнь
Близкое знакомство с Д. Блотнером, преподавателем литературы, своим будущим биографом. Возвращение в Оксфорд.
октябрь
Смерть матери.
декабрь
Составляет завещание, разрабатывает устав Фолкнеровского фонда. Рукописи и архив писателя завещаны этому фонду и должны храниться в университете Виргинии.
1961
январь – март
В Оксфорде.
2–14 апреля
Поездка в Каракас в качестве официального представителя США в связи с празднованием Дня независимости Республики Венесуэлы. Фолкнеру вручают орден Андреса Белло. Он произносит речь на испанском языке.
май
Читает в университете Виргинии лекции по американской литературе.
июнь – август
Работа над последним произведением – романом «Похитители», первоначально названным «Конокрады. Воспоминание».
1962
январь
Болезнь; некоторое время Фолкнер проводитв клинике.
24 мая
В Нью-Йорке Фолкнеру вручают Золотую медаль Американской академии и Института искусств и литературы за достижения в области художественной прозы.
4 июня
Выход в свет романа «Похитители».
5 июля
Сердечный приступ. Фолкнер помещен в больницу близ Оксфорда.
6 июля
Уильям Фолкнер скончался в 2 часа утра от тромбоза сердечных сосудов.
8 июля
Похороны Уильяма Фолкнера в Оксфорде.
В. БернацкаяСноски
1
Покахонтас – поселок в штате Миссисипи близ города Джексона.
(обратно)2
…вечное движение… на боку греческой вазы… – Реминисценция из «Оды греческой вазе» (1820) английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821). Описанный Китсом рисунок на вазе – бегущие девы, играющий флейтист, влюбленный, застывший «у счастья на пороге», толпа, идущая к алтарю, – для Фолкнера есть символ неизменности, самотождественности жизни, вечности, вневременной гармонии, которую он обычно связывает с природным, женским началом. Ср., например, парафразы «Оды греческой вазе» в романе «Сарторис».
(обратно)3
Армстид и Уинтерботом – йокнапатофские фермеры, персонажи нескольких произведений Фолкнера. Армстид действует или упоминается в романе «Когда я умирала» (1930), трилогии о Сноупсах, рассказе «Дранка для Господа» (1942), Уинтерботом – в «Деревушке».
(обратно)4
…до лавки Варнера… – Т. е. до поселка Французова Балка. В других произведениях йокнапатофского цикла Фолкнер увеличил расстояние между лавкой Варнера и Джефферсоном до 20 миль.
(обратно)5
«…голосовать им подавай». – Девятнадцатая поправка к конституции США, предоставляющая женщинам равные избирательные права, приобрела силу закона 26 августа 1920 г. Некоторые южные штаты, и в том числе Миссисипи, отказались ее ратифицировать.
(обратно)6
Его зовут Кристмас… – Christmas (англ.) – Рождество.
(обратно)7
…можешь получить пол-литра… – Действие романа происходит в годы полного запрета на продажу спиртных напитков в США (1920–1933). Введение сухого закона привело к появлению множества подпольных торговцев спиртным (бутлегеров). Бутлегерством занимался и Джо Кристмас.
(обратно)8
…приехала… в Реконструкцию… – Реконструкция – так в Америке называют период (1865–1877) после завершения Гражданской войны (1861–1865), в течение которого федеральное правительство осуществляло перестройку политической и социальной жизни в побежденных южных штатах.
(обратно)9
Д. Б. – доктор богословия.
(обратно)10
…пресвитерианской церкви… – Речь идет об одной из самых ортодоксальных кальвинистских церквей США. Пресвитерианская церковь состоит из отдельных общин, которыми управляют выборные старейшины (так называемые пресвитеры). Как отмечают американские исследователи, в этом романе Фолкнер намеренно преувеличил влияние фанатиков-пресвитерианцев на жизнь американского Юга, чтобы заострить тему религиозной нетерпимости. В действительности подавляющее большинство жителей штата Миссисипи принадлежит к баптистской или методистской церквам.
(обратно)11
…о горевших в Джефферсоне складах генерала Гранта… – Фолкнер переносит в мифический Джефферсон реальный эпизод Гражданской войны: налет отряда южан под командованием генерала Эрла Ван Дорна (1820–1863) на город Холли-Спрингс, расположенный в 30 милях от Оксфорда, в декабре 1862 г. Конфедератам во время рейда удалось уничтожить крупные тыловые склады одной из федеральных армий, которой тогда командовал генерал Улисс Симпсон Грант (1822–1885), впоследствии главнокомандующий всеми войсками северян и президент США (1869–1877).
(обратно)12
К. К. К. – Ку-клукс-клан, тайная террористическая расистская организация, образовавшаяся на Юге США в период Реконструкции (см. примеч. к с. 48) с целью противодействовать политическим реформам, проводимым федеральным правительством. Была возрождена в 1915 г. с новой программой – очистить Юг от всех нежелательных элементов, включая евреев, католиков, «красных» и т. д. Методы Ку-клукс-клана – избиения, похищения, суды Линча – вызвали в 1920-е гг. массовые протесты по всей стране.
(обратно)13
Мистер Макси – владелец парикмахерской в Джефферсоне; упомянут в рассказе «Волосы» (1930).
(обратно)14
Фридмен-Таун – негритянский район в родном городе Фолкнера Оксфорде.
(обратно)15
В устах младенцев он не прячет. – Парафраза библейского изречения: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу…» (Псалтирь, 8:2).
(обратно)16
Иезавель – в Библии жена израильского царя Ахава, жестокая язычница, бесстыдная распутница, румянившая лицо, как продажная девка.
(обратно)17
Литтл-Рок – столица штата Арканзас.
(обратно)18
Стихарь – длинная одежда с широкими рукавами, которую носят члены клира.
(обратно)19
Джон Джейкоб Астор (1763–1848) – легендарный американский миллионер, основатель «Американской пушной компании».
(обратно)20
…воинственный архангел Михаил. – По библейскому преданию, предводитель воинства ангелов, низвергнувший с небес Сатану. «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана…» (Откровение святого Иоанна Богослова, 20:2).
(обратно)21
…не слышал о Бийл-стрит… – улица в Мемфисе, центр ночной жизни города.
(обратно)22
Перевод А. Сергеева.
(обратно)23
Унитарианской молельни поблизости не было… – Имеется в виду унитарианская церковь, одна из наиболее либеральных протестантских церквей в США, пользующаяся особым влиянием в штатах Новой Англии. На американском Юге число унитарианцев незначительно.
(обратно)24
…проповедник-методист. – Речь идет о крупной протестантской секте (в США – церкви) методистов, основанной в XVIII в. английским священником Джоном Уэсли (1703–1791). Она требует от своих членов крайнего благочестия и строгой дисциплины. В южных штатах методисты составляют около половины всего населения.
(обратно)25
…«подальше от демократов». – Имеется в виду демократическая партия США, которая в середине XIX в. выражала интересы плантаторского Юга и поддерживала рабовладение.
(обратно)26
…как мятежника. – Т. е. как сторонника южной Конфедерации, образование которой расценивалось ее противниками как мятеж против законных властей США.
(обратно)27
Малыша (исп.).
(обратно)28
Санта-Фе – столица Нью-Мексико, образованной в 1850 г. «территории», входившей в состав США (с 1912 г. – самостоятельный штат).
(обратно)29
…грех человеческого рабства… – парафраза названия четвертой части трактата Спинозы «Этика»: «О человеческом рабстве, или О силах аффектов».
(обратно)30
…конфедератский офицер по фамилии Сарторис… – Полковник Джон Сарторис упоминается в целом ряде произведений йокнапатофского цикла («Сарторис», «Шум и ярость», «Авессалом! Авессалом!», «Непобежденные», «Сойди, Моисей» и др.). В романе «Сарторис» о нем говорится как о человеке, убившем «двух саквояжников-янки, что негров мутили». Более подробно об убийстве Берденов рассказано в новелле «Друзилла» (1934; опубл. в 1935 г. под названием «Схватка у Сарторисов»), которая впоследствии вошла в повесть «Непобежденные» (гл. VI).
(обратно)31
Саквояжники – так на Юге в период Реконструкции презрительно называли пришельцев с Севера, поскольку все их пожитки часто умещались в одном саквояже.
(обратно)32
…Линкольн для негров – все равно что Моисей… достиг обетованной земли. – Президент США А. Линкольн, издавший в 1862 г. декларацию об уничтожении рабства, отождествляется здесь с библейским пророком Моисеем, который вывел евреев из египетского плена в Ханаан, землю обетованную. Спасаясь от погони, «…пошли сыны Израилевы среди моря по суше…», среди расступившихся вод Красного (Чермного) моря (см. Исход, 14:22); преследовавшее их войско фараона утонуло, когда вода возвратилась на свое место. Очевидно, Фолкнер обыгрывает слова самого Линкольна, уподобившего страдания рабов-негров стенаниям сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве: «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу» (Исход, 2:23).
(обратно)33
…проклятием, которому Бог предал целый народ… – Имеется в виду библейское предание о том, что Ной, оскорбленный своим сыном Хамом, проклял его наследника Ханаана, сказав: «…раб рабов будет он у братьев своих» (Бытие, 9:25). В американском религиозно-бытовом сознании укоренилось представление о неграх как потомках Хама и его сына Ханаана, обреченных на рабство проклятием Ноя.
(обратно)34
…какие рисовал бы Бердслей, живи он во времена Петрония. – Речь идет об английском графике Обри Бёрдслее (1872–1898), художнике с острым гротескным стилем, мастере эротического рисунка, и о римском писателе Гае Петронии (? – 66 н. э.), распорядителе развлечений при дворе императора Нерона, авторе «Сатирикона», в котором весьма важное место занимают непристойные эпизоды. «Времена Петрония», следовательно, – это времена Нерона, отличавшиеся предельной развращенностью нравов, жестокостью и животной сексуальностью.
(обратно)35
…безумных сожалений полный. – Приведена цитата из вступления к четвертой части поэмы английского поэта Алфреда Теннисона (1809–1892) «Принцесса» (1847).
(обратно)36
…на покаянной скамье… – В некоторых протестантских церквах скамьи в первом ряду молельного дома отводятся для тех, кто хочет публично покаяться в грехе.
(обратно)37
…шум и ярость погони… –реминисценция из монолога Макбета, давшего название роману Фолкнера «Шум и ярость»: // Жизнь – это рассказ, // Рассказанный кретином, полный шума и ярости, // Но ничего не значащий. // (Акт V, сц. V.)
(обратно)38
Мотстаун. – В романе «Шум и ярость» этот вымышленный городок был назван Моттсоном.
(обратно)39
…вроде как эти мальчишки в комиксах. – Имеется в виду популярная в начале XX в. серия комиксов о семействе Катсенджеммеров. Братья Катсенджеммеры – двое мальчишек-озорников – часто рисовали свои лица на воздушных шариках, а затем подвешивали шарики над забором или стеной, чтобы сбить с толку родителей, и отправлялись устраивать всяческие проделки.
(обратно)40
…за все время, что они в Джефферсоне живут… – ошибка Фолкнера. Как явствует из текста, Хайнсы никогда не жили в Джефферсоне.
(обратно)41
…чередуются строфой и антистрофой… – Строфа и антистрофа – композиционные формы в хорах античной трагедии, когда ритм первой строфы повторяется и во второй строфе (антистрофе), исполняемой с обратным движением хора.
(обратно)42
…в краюбез расстояний… –Ср. описание ада в «Потерянном рае» Джона Мильтона (1608–1674), английского поэта и публициста: // Беспредельный океан, без границ, // Без расстояний… // (II, ст. 891–892)
(обратно)43
И в Писании так: Кристмас, сын Джо… – Подразумевается: «Христос, сын Иосифа». Ср.: «…мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Евангелие от Иоанна, 1:45).
(обратно)44
…без нее малая птица не упадет на землю. – Новозаветная аллюзия. Ср.: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего…» (Евангелие от Матфея, 10:21–29).
(обратно)45
«Генрих IV» (1597–1598) – историческая хроника Шекспира в двух частях.
(обратно)46
Гэвин Стивенс. – Впервые упоминается в рассказе «Волосы» (1930); действующее лицо романа «Осквернитель праха», пьесы «Реквием по монахине» (1951), романов «Город», «Особняк», а также детективных рассказов, вошедших в сборник «Ход конем» (1949).
(обратно)47
Фи-Бета-Каппа – старейшее студенческое общество в США (осн. в 1776 г.), в которое принимаются старшекурсники колледжей, особо отличившиеся в учебе. Вступившие в общество остаются его пожизненными членами. (Названо по первым буквам древнегреческих слов, составляющих его девиз: «Философия – руководительница жизни».)
(обратно)48
Миссисипский университет (осн. в 1844 г.) – находится в родном городе Фолкнера Оксфорде. С сентября 1919 по ноябрь 1920 г. в Миссисипском университете учился Фолкнер.
(обратно)49
…капитаном национальной гвардии. – Национальной гвардией в США называются добровольческие резервные войска, подчиняющиеся губернатору штата. Могут быть призваны на федеральную службу по приказу президента.
(обратно)50
…новый закон о реорганизации армии. – Имеется в виду закон от 4 июня 1920 г., определивший место национальной гвардии в структуре вооруженных сил США.
(обратно)51
Американский легион – крупнейшая организация (осн. в 1919 г.) ветеранов мировой войны. Занимает крайне реакционные позиции по вопросам внутренней и внешней политики. Среди целей организации, сформулированных в ее уставе, – «поддерживать и защищать конституцию США, поддерживать закон и порядок, способствовать распространению стопроцентного американизма… развивать у отдельных граждан чувство долга перед обществом, государством и народом». В каждом штате имеется «департамент» Американского легиона, руководящий работой низовых «постов» на уровне города или округа.
(обратно)52
Дядя Сэм – здесь: федеральное правительство США.
(обратно)53
Джаггернаут (Джаганнатха) – (буквально: владыка мира) – безрукий и безногий идол индуистского бога Кришны, находящийся в храме города Пури. Раз в год во время многолюдных празднеств Джаггернаута вывозят из храма на огромной колеснице. Согласно легенде, богомольцы-фанатики иногда бросаются в экстазе под колесницу и гибнут, «раздавленные Джаггернаутом».
(обратно)54
Гелиограф – в военном деле прибор для передачи световых сигналов на расстояние, использующий отражение солнечных лучей зеркалом.
(обратно)55
…из конфедератского серого сукна… – Во время Гражданской войны в США южане-конфедераты носили серо-голубую форму, а северяне – темно-синюю.
(обратно)56
Сын стал аболиционистом чуть ли не раньше… – Американские историки датируют первое употребление слова «аболиционист» по отношению к участникам антирабовладельческого движения в США 1835 г.
(обратно)57
…подобно чистой классической вазе… – реминисценция из «Оды греческой вазе» Китса.
(обратно)58
…с горстью… праха. – Строка из поэмы Томаса Стернза Элиота (1885–1965) «Бесплодная земля» (1922). Ср.: «Я покажу тебе ужас в пригоршне праха» (ч. I, строка 31. Перевод Я. Пробштейна).
(обратно)59
«Но в мире много есть того, что нашей правде и не снилось»… – Парафраза реплики Гамлета: «Гораций, в мире много кой-чего, // Что вашей философии не снилось» (акт I, сц. V. Пер. Б. Л. Пастернака).
(обратно)60
…у этих двух французов, которые все кланяются… – Имеются в виду Альфонс и Гастон, персонажи серии комиксов о семействе Катсенджеммеров.
(обратно)61
…усадьбой Старого Француза… – В более поздних произведениях Фолкнера сообщается, что владельцем усадьбы был француз Луи Гренье, один из основателей Джефферсона.
(обратно)62
…когда войска генерала Гранта хлынули в эти места по дороге на Виксберг. – Имеются в виду военные действия на территории штата Миссисипи весной и летом 1863 г. Нанеся ряд поражений противнику, армия северян, которой командовал тогда генерал Грант (см. примеч. к с. 53), окружила хорошо укрепленную крепость конфедератов Виксберг. Гарнизон крепости капитулировал 4 июля после длительной осады.
(обратно)63
…дорогих комодов работы Файфа и Чиппендейла… – Имеются в виду прославленные мастера-краснодеревцы: американец Дункан Файф (1768–1854) и англичанин Томас Чиппендейл (1718–1779). Изготовленная ими мебель считалась таким же обязательным атрибутом плантаторского дома, как и белые колонны.
(обратно)64
…не встречал такого отменного учтивца средь всех, кто начинял избирательные урны иль мулам зубы рвал. –Перифраз строк из романа в стихах Байрона «Дон Жуан», в которых речь идет о старом предводителе пиратов: // Наш старик учтивцем был отменным // Средь всех, кто корабли топил иль глотки рвал: // Столь выдержанным он казался джентльменом, // Что замыслов его никто б не разгадал. // (III, 41; перевод Г. Шенгели)
(обратно)65
Когда-то у него еще один парнишка быт, кроме Флема. – О судьбе младшего сына Эба Сноупса, Сарти, рассказывается в новелле «Поджигатель».
(обратно)66
…история с тещей полковника Сарториса, Розой Миллард… – Отсылка к четвертой и пятой главам повести «Непобежденные» («Удар из-под руки» и «Вандея»), краткое содержание которых излагает здесь Рэтлиф.
(обратно)67
…Четвертого участка… – Каждый округ штата Миссисипи делится на мелкие административные единицы – участки, имеющие порядковые номера. В романах и рассказах Фолкнера нумерация участков всегда произвольна и не совпадает с реальной.
(обратно)68
День независимости – национальный праздник США. Отмечается 4 июля.
(обратно)69
…Всевышний… ниспослал мне овна, прямо как Аврааму в Библии… – Как рассказано в Ветхом Завете, когда патриарх Авраам, исполняя волю Всевышнего, был готов принести в жертву своего любимого сына Исаака, к нему с неба воззвал Ангел Господень, сказавший: «…не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего…» (Бытие, 22:12). Обернувшись, Авраам увидел позади себя овна, «запутавшегося в чаще рогами своими» (там же, 22:13), и принес его во всесожжение вместо сына.
(обратно)70
…Бостон. Штат Мэн!.. – Южанин Рэтлиф делает вид, будто ему неизвестна география штатов Новой Англии. На самом деле город Бостон находится в Массачусетсе.
(обратно)71
…звериные ушки Фавна… – В римской мифологии Фавн – бог полей, пастбищ, животных, лесов; изображался с козлиными ногами и острыми ушами. В системе образов романа Айк Сноупс выступает как травестийное снижение мифа (отсюда – подчеркнуто «высокий», поэтический стиль в описании его содомитской «идиллии»; ср. приписываемое мифом Фавну совокупление со всеми животными).
(обратно)72
…символику древних дионисийских шествий… – В греческой мифологии Дионис – бог плодоносящих сил земли, растительности и виноделия. Считалось, что он прошел по всей Элладе, Египту, Сирии, Азии вплоть до Индии, учил людей виноделию и творил чудеса: так, он заставлял бить из-под земли фонтаны вина, молока и меда. В его экстатических шествиях участвовали вакханки и сатиры – козлоногие, хвостатые, покрытые шерстью демоны плодородия. Упоминание в романе о Дионисе и его свите призвано подчеркнуть связь Юлы со стихийным, природным началом.
(обратно)73
…похищение сабинянки. – Сабиняне – коренные жители Средней Италии. Согласно легенде, вскоре после основания Рима его первый царь Ромул пригласил на праздник соседних сабинян с их женами и дочерьми и дал приказ римлянам по условленному сигналу похитить всех девушек, ибо жителям города нужны были жены.
(обратно)74
Оксфорд – город в штате Миссисипи, где находится университет. Хотя в топографии Йокнапатофы Оксфорду соответствует Джефферсон, местонахождение университета у Фолкнера всегда совпадает с реальным.
(обратно)75
Коук и Блэкстоун. – Имеются в виду английские юристы, создатели теории права – сэр Эдвард Коук (1552–1634) и сэр Уильям Блэкстоун (1723–1780).
(обратно)76
Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н. э.) – римский поэт.
(обратно)77
Фукидид (ок. 460–400 до н. э.) – древнегреческий историк.
(обратно)78
…с пиратом елизаветинских времен. – В годы царствования английской королевы Елизаветы (1533–1603, англ. королева с 1558) многие прославленные мореплаватели, которым она покровительствовала (например, сэр Фрэнсис Дрейк, 1540–1596), были пиратами. Их нападения на испанские корабли и порты привели к победе Англии в морской войне с Испанией.
(обратно)79
Альма-Тадема, сэр Лоренс (1836–1912) – английский художник неоклассического стиля.
(обратно)80
…поселок был его горой Галилейской, его Гефсиманией и… его Голгофой… – Согласно евангелиям, на горе в Галилее Иисус Христос проповедовал перед учениками; в Гефсиманском саду близ Иерусалима провел последнюю ночь, ужасаясь и тоскуя в предчувствии казни (см. Евангелие от Матфея, 26:36). Голгофа – место его распятия.
(обратно)81
Венера и Вулкан. – В греко-римской мифологии Венера (Афродита) – богиня любви и красоты. Ее муж Вулкан (Гефест) – самый безобразный из богов, хромоногий кузнец, которого она обманывает с Марсом (Аресом), богом войны.
(обратно)82
Приапический сумбур… – В античной мифологии Приап – фаллическое божество производительных сил природы. Праздники в его честь отличались крайним сексуальным неистовством.
(обратно)83
…старым безголовым всадник, Икабод Крейн! – Не вполне точная аллюзия на новеллу американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга (1783–1859) «Легенда о Сонной лощине». Икабод Крейн в новелле – сельский учитель, влюбленный в единственную дочь богатого фермера, которая отдает предпочтение его счастливому сопернику Брому Бонсу. Чтобы избавить ее от докучливых притязаний учителя, Бонс, прикинувшись жутким призраком Всадника без головы, ночью гонится за ним на коне, после чего напуганный Икабод бесследно исчезает из поселка.
(обратно)84
…в этом осененном покровительством Пана уединении… – В греческой мифологии Пан – божество стад, лесов и полей. Козлоногий, покрытый шерстью, он входит в свиту Диониса (см. примеч. к с. 442) и участвует в его шествиях. Известен своим сладострастием и пьяным весельем.
(обратно)85
…в этом лучшем из миров. – Подразумевается афоризм из тридцатой главы философской повести Вольтера (1694–1778) «Кандид, или Оптимизм», ставший крылатой фразой: «Все к лучшему в этом лучшем из (возможных) миров».
(обратно)86
Чикасо – индейское племя, некогда населявшее северные районы Миссисипи. В 1832 г. оно продало свои земли правительству США и переселилось в Оклахому. Индейская предыстория Йокнапатофы у Фолкнера целиком вымышлена.
(обратно)87
Елена Прекрасная – в греческой мифологии спартанская царица, прекраснейшая из женщин, чьей руки добивались десятки героев Эллады. Была выдана замуж за Менелая, но увлеклась сыном троянского царя Парисом и бежала с ним в Трою, из-за чего началась Троянская война. После падения Трои Елена, прощенная Менелаем, возвратилась в Спарту.
(обратно)88
…из глаз волоокой Юноны… какой она некогда представлялась людям. – В античной мифологии Юнона (Гера) – верховная олимпийская богиня, жена Юпитера (Зевса). Известно, что в некоторых частях Греции ее почитали в виде коровы. Постоянный эпитет Геры в «Илиаде» Гомера – «волоокая».
(обратно)89
…заповеди, гласящей, что человек должен трудиться в поте лица своего… – Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие, 3:19).
(обратно)90
…жена Цезаря… – Подразумевается апокрифическая фраза: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений», якобы произнесенная Юлием Цезарем, когда он потребовал развода со своей женой Помпеей, заподозренной в неверности.
(обратно)91
…узрели исконного Змея и вкусили от Древа познания… – По ветхозаветному преданию, змей-искуситель уговорил Еву нарушить запрет и съесть плод с дерева познания добра и зла, которое росло в раю. За это Адам и Ева были изгнаны из рая.
(обратно)92
…из галвестонского публичного дома. – Галвестон – морской порт в Техасе.
(обратно)93
…представление о… грехах Марии Магдалины… – В христианских преданиях Мария Магдалина – женщина из Галилеи, последовательница Иисуса Христа, исцеленная им от одержимости бесами. В западной традиции отождествляется с грешницей, омывшей ноги Христа своими слезами, и становится образом кающейся блудницы.
(обратно)94
…десница Божия тяготеет над грешником даже после духовного возрождения… – Имеется в виду один из догматов кальвинистского учения об «абсолютном предопределении», согласно которому все люди изначально разделены на избранных к спасению и проклятых.
(обратно)95
Вавилонская блудница. – Образ из «Откровения святого Иоанна Богослова»: великая блудница, сидящая на звере багряном, имя которой «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (17: 5).
(обратно)96
Лилит – согласно преданию, первая жена Адама. В европейской традиции приобретает облик прекрасной, обольстительной женщины, перед чарами которой никто не в силах устоять.
(обратно)97
…роль вдовы сжигающей себя вместе с покойником мужем… – По древнему индийскому обычаю, соблюдавшемуся до начала XIX в., овдовевшие женщины сжигали себя на погребальном костре мужа.
(обратно)98
День благодарения – национальный праздник США. Отмечается в четвертый четверг ноября.
(обратно)99
…два или три года назад, когда там была паника. – Имеется в виду финансовая паника на Уолл-стрит в мае 1893 г., когда размер золотого запаса США сократился ниже официально установленного минимума. По этому упоминанию действие «Деревушки» следует датировать 1895–1896 гг., что, как уже отмечалось, противоречит хронологии «Города» и «Особняка».
(обратно)100
…какой Брунгильдой, какой Лорелеей на… скале… какой Еленой, вернувшейся в… Аргос… – Брунгильда – героиня германско-скандинавской мифологии и эпоса. В немецкой «Песни о Нибелунгах» – дева-воительница, правящая сказочной страной Исландией; к ней сватается Гунтер, который становится ее мужем при помощи Зигфрида, выдержавшего за него все брачные испытания и лишившего деву невинности. Лорелея – водяная нимфа Рейна, живущая на одноименной скале и завлекающая моряков своим волшебным пением. Легенда о ней не имеет фольклорных источников и восходит к произведениям немецких романтиков (Г. Гейне, 1797–1856; К. Брентано, 1778–1842, и др.). Елена – аллюзия на миф о Елене Прекрасной (см. примеч. к с. 527) здесь неточна, поскольку Елена после Троянской войны возвратилась не в Аргос, а в Спарту. С Аргосом связан другой миф – об убийстве царя Агамемнона его неверной женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом.
(обратно)101
Бертсборо – вымышленное название города.
(обратно)102
Сент-Эльм. – Странное имя мальчика (буквально: святой Эльм, как в названии физического явления «огни Святого Эльма») имеет литературное происхождение. Он получил его в честь героя мелодраматического романа американской писательницы Августы Джейн Эванс Уилсон (1835–1909) «Сент-Эльм» (1866). Роман пользовался огромной популярностью на Юге США, где именем Сент-Эльма стали называть плантации, школы, отели, пароходы и новые города, не говоря уже о детях.
(обратно)103
Парчмен – тюрьма штата Миссисипи в городе того же названия. Заключенные Парчмена, как правило, работают на хлопковых плантациях.
(обратно)104
…где тридцать лет назад промчался гонец… чтобы сообщить вести о Самтере… – Имеется в виду начало Гражданской войны в США, когда 12 апреля 1861 г. войска рабовладельческих штатов, образовавших собственную Конфедерацию, начали обстрел форта Самтер у входа в бухту города Чарлстон (Южная Каролина). Небольшой гарнизон федеральных войск, защищавший форт, вскоре капитулировал. При уточнении датировки романных событий для издания 1964 г. слова «тридцать лет назад» были заменены на «почти пятьдесят лет назад».
(обратно)105
Тысяча восемьсот семьдесят первым, – сказал он. – Как явствует из оригинала, Рэтлиф и Букрайт, прежде чем открыть мешки с деньгами, уговариваются, что тот, у кого в мешке окажется самая старая монета, выигрывает один доллар. Удача сопутствует Рэтлифу, и поэтому он забирает со стола две монеты – свою и Букрайта. В издании 1964 г. датировка монет сдвинута на двадцать лет вперед для Рэтлифа и на двадцать два года – для Букрайта.
(обратно)106
…Аарон Райдаут. – В издании 1964 г. совладелец ресторана получает имя Гровер Кливленд Уинбуш, поскольку именно так зовут соответствующего персонажа романа «Город».
(обратно)107
…всякий человек по фамилии Мэллисон должен быть непременно методистом… – Мэллисоны не происходят из старой плантаторской аристократии и потому принадлежат не к епископальной, а к методистской церкви.
(обратно)108
…Покахонтас в… одеянии вождя племени сиу или чиппева… – Покахонтас (Матоака; 1595?–1617) – дочь вождя конфедерации индейских племен, населявших ту часть виргинского побережья, где в 1607 г. была основана первая английская колония на континенте. Согласно распространенной легенде, она спасла от гибели одного из основателей колонии, капитана Джона Смита. Впоследствии приняла христианство, вышла замуж за колониста Джона Ролфа и посетила Англию, где ее чествовали при дворе как «индейскую принцессу». К индейским племенам сиу и чиппева Покахонтас не имела никакого отношения.
(обратно)109
…рассказ о мальчике и его любимце теленке… – Имеется в виду легенда о том, как развивал силу мышц знаменитый древнегреческий атлет, шестикратный чемпион Олимпийских игр Милон Кротонский. Юношей он каждый день носил на плечах теленка, пока тот не вырос в огромного быка.
(обратно)110
Комната (нем.).
(обратно)111
…такой известностью в середине двадцатым годов пользовался город Сисеро… – В 20-е гг. XX в. город Сисеро, пригород Чикаго, был известен как «столица гангстерской империи», где безраздельно правил знаменитый «король гангстеров» Аль Капоне (1899–1947). В городе ему принадлежало множество баров, игорных домов и прочих увеселительных заведений; здесь же находилась его «штаб-квартира». Гангстеры терроризировали местное население, убивая непокорных; на улицах Сисеро разыгрывались сражения между конкурирующими бандами. Обо всех этих событиях широко сообщала американская пресса.
(обратно)112
…аз воздам, сказал Господь… – Цитата из Нового Завета: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Послание к римлянам святого апостола Павла, 12:19).
(обратно)113
Холлоу, Фридмен-Таун – подлинные названия негритянских районов в Оксфорде.
(обратно)114
…все черные кошки были серы… – перифраз пословицы «Ночью все кошки серы».
(обратно)115
Глазго, Холлимаунт – вымышленные города.
(обратно)116
Суитбрайтер – женский колледж в штате Виргиния (осн. в 1901 г.).
(обратно)117
…доктор Хэбершем, содержатель трактира Холстон и младший сын некоего гугенота по имени Гренье… – Здесь впервые в произведениях йокнапатофского цикла приводятся имена основателей Джефферсона (в «Деревушке» о Гренье говорится как о французе, имя которого давно всеми забыто). Более подробно историю основания города Фолкнер расскажет в романе «Реквием по монахине».
(обратно)118
«Сирс и Робак» – одна из крупнейших торговых компаний США, специализирующаяся на продаже по почте дешевой одежды.
(обратно)119
Смотри (лат.).
(обратно)120
…из округа Кроссмен. – Все названия округов штата Миссисипи, встречающиеся в тексте, вымышлены.
(обратно)121
…устами младенцев, и сосунков, и старух… – библейская аллюзия.
(обратно)122
…члены… Ротари-клуба… – Ротари-клуб – местное отделение международного клуба для бизнесменов и представителей свободных профессий (осн. в США в 1905 г.).
(обратно)123
«Вестерн Юнион» – крупнейшая телеграфная компания США.
(обратно)124
Бранденбургские холмы – неточность Фолкнера. Бранденбург почти полностью расположен на равнине.
(обратно)125
Самбо – уничижительное прозвище негров в США.
(обратно)126
…уже четверть века свобода Лукаса Бичема была узаконена особой статьей нашей конституции… – Ошибка или, скорее, не выправленная Фолкнером опечатка. Тринадцатая поправка к конституции США, запрещающая рабство, вступила в силу в 1865 г., т. е. за три четверти века до описываемых событий.
(обратно)127
…в ночь на одиннадцатое… в Ливенуортской тюрьме… он дезертировал… – Ирония заключается в том, что 11 ноября 1918 г. между враждующими сторонами было заключено перемирие, положившее конец Первой мировой войне. Ливенуортская тюрьма – федеральная тюрьма в г. Ливенуорте (штат Канзас).
(обратно)128
…один из сыновей Маккалема… – О семействе Маккалемов Фолкнер подробно пишет в романе «Сарторис».
(обратно)129
…представление «Битвы на холме Сан-Хуан»… – Имеется в виду сражение за высоту близ кубинского города Сантьяго-де-Куба во время испано-американской войны 1898 г.
(обратно)130
…минута, когда еще не пробило два часа в тот июльский день 1863 года… – Имеется в виду решающий момент битвы при Геттисберге, отчаянный штурм высоты Семетери-Ридж, предпринятый конфедератами 3 июля в 14.00. Штурмом руководил генерал Джордж Эдвард Пиккет (1825–1875), дивизия которого входила в состав корпуса генерала армии конфедератов Лонгстрита (1821–1904). Американские историки называют атаку Пиккета, едва не увенчавшуюся успехом, «точкой наивысшего подъема Конфедерации».
(обратно)131
…момент 1492 года… – В 1492 г. Колумб открыл Америку.
(обратно)132
У одной скромной, чувствительной поэтессы в поры моей юности сказано… – Имеется в виду американская писательница и поэтесса Джуна Варне (1892–1982). Ее стихи Фолкнер цитирует также в романе «Город».
(обратно)133
…по бесконечным переходам Завтра… – Образ восходит к стихотворению Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807–1882) «Дня нет уж», где употреблена метафора «немые переходы [коридоры] времен».
(обратно)134
…скаут третьей степени….Скаут-орел… – Детская организация бойскаутов (осн. в 1908 г.) в США подразделяется на три ступени (дружины) – младшую, среднюю и старшую. Высшим знаком отличия у американских бойскаутов является значок с изображением орла.
(обратно)135
Джон Браун (1800–1859) – борец за освобождение рабов; поднял восстание в Виргинии и был казнен.
(обратно)136
…вот уже скоро сто лет, как Ли сдался… – Главнокомандующий конфедератов генерал Роберт Эдуард Ли (1807–1870) подписал капитуляцию своей армии 9 апреля 1865 г. в поселке Аппоматтокс.
(обратно)137
…из Французовой Балки – место действия романа Фолкнера «Деревушка».
(обратно)138
Либидо – психоаналитический термин, введенный Зигмундом Фрейдом (1856–1939) и означающий сексуальные влечения.
(обратно)139
Букер Т. Вашингтон (1858–1915) – негритянский общественный деятель, сын рабыни-негритянки и белого, получивший, благодаря своим незаурядным способностям и упорству, хорошее образование и посвятивший себя просветительской работе среди негров и индейцев, основатель нескольких общественных организаций и институтов.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Идея детектива, где преступление раскрывает обвиненный в нем негр, которому грозит суд Линча, возникла у Фолкнера еще в 1940 г., причем для истории создания «Осквернителя праха» немаловажно, что именно в то время он работал над двумя детективными рассказами, в которых действуют адвокат Гэвин Стивенс и его племянник Чик Мэллисон – будущие герои романа. Об этом же замысле писатель упоминал и в 1944 г., когда писал в Голливуде сценарий по детективному роману Р. Чандлера.
В январе 1948 г. Фолкнер, который переживал тогда творческий кризис, решил наконец реализовать старый замысел и приступил к работе над «Осквернителем праха». «Я пишу детектив с убийством, – сообщал он своему литературному агенту Г. Оберу, – хотя темой книги скорее являются отношения между белыми и неграми, а ее главная посылка состоит в том, что белые южане, а не северяне, правительство или кто-нибудь еще несут ответственность за судьбу негров и должны выполнить свой долг перед ними. Но прежде всего это настоящая повесть, и в ней никто не произносит проповедей… В роли детектива выступает негр, который сидит в тюрьме по обвинению в убийстве и ждет, когда явятся белые парни, вытащат его наружу, обольют бензином и подожгут. Он раскрывает преступление – ведь, черт возьми, надо же ему как-то спасаться от линчевания – таким образом: просит своих помощников куда-то пойти и что-то выяснить, а затем они возвращаются к нему и рассказывают, что им удалось обнаружить». Главными героями романа Фолкнер сделал уже знакомых читателю персонажей более ранних произведений йокнапатофского цикла – Лукаса Бичема из книги «Сойди, Моисей», которая, кстати сказать, тематически связана с «Осквернителем праха», а также Гэвина Стивенса и Чика Мэллисона. Появились и новые персонажи, многие из которых, впрочем, типологически и функционально соответствуют своим «двойникам» в других текстах (так, негритенок Алек Сэндер повторяет негритенка Ринго из «Непобежденных», а мисс Хэбершем заменяет мисс Уоршем из «Сойди, Моисей»).
В процессе работы над книгой детективный сюжет отошел в ней на второй план, уступив центральное место другому сюжету, события которого происходят в сознании шестнадцатилетнего Чика Мэллисона, переживающего момент посвящения в мир взрослых. Тайна и ее разгадка важны здесь не сами по себе, но как ряд испытаний, которым подвергается герой. В этом смысле «Осквернитель праха» представляет собой «роман воспитания», где определяющее значение имеют инициационная символика и мотивы взросления, становления юноши. Впрямую столкнувшись с жестокостью, одержимостью, несправедливостью, предрассудками, Чик Мэллисон начинает осознавать свою причастность к происходящему и, следовательно, к историческим судьбам родного края. Под воздействием событий он приобретает взрослую, идеологически полноценную точку зрения на южную общину, к которой он принадлежит, на историю, частью которой он теперь себя мыслит, на знакомых ему с детства людей, которые открываются ему новыми сторонами. Тем самым роман, говоря словами самого Фолкнера, превращается «из обычного детектива в неплохое исследование того, как шестнадцатилетний мальчик за одну ночь становится мужчиной».
Вопреки утверждению писателя, есть в «Осквернителе праха» и элементы проповеди, то есть прямые полемические суждения об острых социально-культурных проблемах американского Юга. Их Фолкнер вкладывает в уста Гэвина Стивенса – героя, которого многие критики считают резонером, рупором авторских идей. Действительно, высказываемые «либералом-почвенником» Стивенсом идеи особой целостности Юга и его нравственного превосходства над безликим индустриальным Севером во многом совпадают с тем, что неоднократно говорил сам писатель. Так, в своих интервью Фолкнер постоянно подчеркивал, что американский Юг – это «единственный по-настоящему аутентичный регион Соединенных Штатов», где «еще сохранилась нерасторжимая связь между человеком и его окружением» и где «продолжают существовать общее мировосприятие и общая мораль». Как и его герой, Фолкнер всегда настаивал на том, что расовая проблема – это внутреннее дело южан, которые должны решить ее своими силами, без вмешательства извне. Однако в контексте романа точка зрения Стивенса, хотя и близкая к авторской, отнюдь не полностью сливается с ней; более того, в ряде существенных моментов она опровергается или ставится под сомнение всем ходом повествования, и поэтому отождествление идей Фолкнера и его героя представляется не вполне корректным. Тем не менее следует отметить, что, начиная с «Осквернителя праха», в творчестве Фолкнера усиливается дидактико-морализаторская тенденция, что сопряжено с определенными художественными утратами.
Фолкнер закончил работу над романом в рекордно короткий срок – за три месяца. В сентябре 1948 г. «Осквернитель праха» выходит в свет в издательстве «Рэндом Хаус» и вызывает оживленную полемику в печати.
В октябре 1949 г. в Оксфорде состоялась премьера фильма, поставленного по роману на голливудской студии «Метро-Голдвин-Майер» (режиссер Кларенс Браун).
(обратно)(обратно)
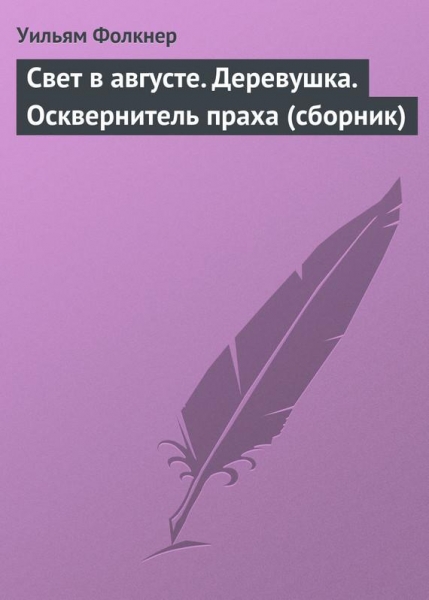

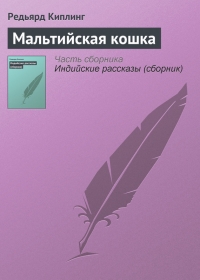




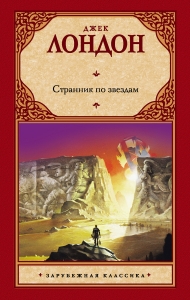

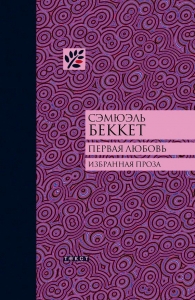
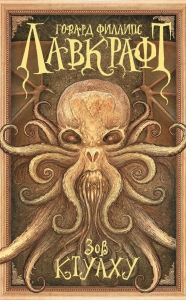

Комментарии к книге «Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха», Уильям Фолкнер
Всего 0 комментариев