Божена Немцова Карла
I
Было чудесное весеннее утро. От Лесного Мнихова к чешской границе шла группа солдат; за солдатами покачивались повозки с имуществом. В передней повозке сидели офицер и его жена, а рядом шагала женщина с маленькой девочкой на плечах. Женщина была высока ростом, широка в кости, ее крупно очерченное лицо производило приятное впечатление, хотя густые черные брови и длинные ресницы черных глаз придавали ей несколько хмурый вид. Одета она была как все крестьянки из окрестностей Домажлиц: черная грубошерстная юбка с очень узким корсажем, обшитая красной тесьмой, синий фартук, вышитая безрукавка с маленькой подушечкой на груди, рубаха с глубоким вырезом у шеи и с длинными рукавами; голову покрывал повязанный концами на затылке красный платок. Красные чулки и башмаки на каблуках с подковками и бантиками довершали ее наряд.
Дорога забирала круто в гору; по обе стороны тянулся темный лес, большей частью хвойный. Женщина с тревожным нетерпением смотрела вперед и вдруг прибавила шагу, словно у нее выросли крылья.
— Эдак ты устанешь, Маркита. Давай к нам в повозку твою девочку, — участливо предложила ей жена офицера.
— К чему это, пани? — ответила женщина. — Ведь девочка легче перышка, я ее и не чувствую на спине.
Жена офицера не стала ее уговаривать, и Маркита, пристроив ношу поудобнее, поспешила за солдатами, которые, несмотря на то, что дорога стала еще круче, торопливо шагали вперед.
На вершине холма лес поредел; путники быстро выбрались из него, и чешская земля во всей своей красе раскинулась перед ними.
На опушке то там, то тут высились одинокие пихты и ели, а внизу, в долине, зеленели пажити, среди которых расположилась деревушка. Далеко разбросанные друг от друга домики терялись во фруктовых садах.
Женщина с ребенком вышла на опушку раньше других.
— Слава богу, вот мы и дома, — вздохнула она, упав на колени.
— Мы дома! Милая Чехия! Окончились наши мытарства! — послышалось со всех сторон. Солдаты бросали шапки вверх, смеялись от счастья, а некоторые из них встретили родину радостным безмолвием. Каждый выражал свои чувства по-своему.
— До чего красивый край! — воскликнул офицер, обращаясь к жене.
— Честь имею доложить, пан надпоручик, — вступил в разговор старый служивый Барта, поглаживая длинные усы, — здесь такая красота, что вдосталь никак не насмотришься. И когда приходится покидать эти места, бывает очень тяжело. Я, честь имею, испытал это на себе тринадцать лет тому назад. Не постыдись я тогда людей, верно заплакал бы, и, думается, мне б полегчало. А один молодой рекрут так и умер у нас в пути. Похоронили мы его, честь имею, в Рехце.
— Видно, какой-нибудь маменькин сынок был! — усмехнулся офицер.
— Честь имею, пан офицер, он был крепкий малый. Но бывает, что нам трудно расстаться с родным краем, а тем более — идти на чужбину. Падет на сердце кручина, и тут уж нечем помочь, тоска по родине все равно одолеет человека.
— Эх, бросьте вы эти бредни! Что еще за «тоска по родине»? — усмехнулся офицер.
— Честь имею, пан надпоручик, пусть себе доктора говорят что угодно, но все же такая болезнь и есть тоска по родине, — возразил солдат, накручивая ус на палец, что он проделывал, когда на что-нибудь сердился, в то время как обычно он свои усы только поглаживал.
Едва солдаты вышли из лесу, как крестьяне побросали работу и уставились на холм. Игравшие на опушке и у домов на завалинках ребятишки помчались известить матерей, что из лесу вышло много народа. Тотчас же на улицу выбежали женщины с маленькими детьми на плечах — можно ли было лишить их такого зрелища! — за ними заковыляли старухи с веретенами и куделью под мышкой. А вот наконец и сами хозяева, молодые и старые, вышли из житниц и из садов, где работали в это время.
— Да ведь это наши солдаты возвращаются из Неметчины! — сообразил один крестьянин, когда, откинув со лба длинные черные волосы, поглядел из-под ладони на холм.
— Пойдемте к ним, — предложил кто-то.
Отправились. Один из мужиков крикнул жене:
— Эй, хозяйка, прихвати-ка с собой хлеб, соль и молоко: верно, проголодались солдаты!
Повернувшись на каблуках, женщина позвала: «Дорла! Ганча!» — и когда из сада выбежали, словно лани, две девушки, исчезла с ними в кладовке. Другие хозяйки так же близко к сердцу приняли слова соседа, и те, у кого был какой-нибудь запасец, поспешили назад к дому.
Мужчины шли к холму не торопясь, едва передвигая ноги, чтобы не подать виду, что их разбирает любопытство. Женщины, казалось, и вовсе не шевелились, но и они шаг за шагом приближались к желанной цели.
— Ну что, служивые, домой? — спросил один из крестьян, когда все поднялись на холм и поздоровались с солдатами.
— Так точно, хозяин, домой идем, — отвечали те.
— Что ж, это дело! В гостях хорошо, а дома все-таки лучше, — высказался крестьянин.
— Скажите, а как называется ваша деревня? — спросил офицер.
— Ходово, уважаемый пан офицер, — с готовностью ответил стоявший ближе всех старик и вежливо приподнял красную, обшитую мехом шапку.
— А вот та, пониже, где замок?
— Это Трганово, уважаемый пан. Там дальше Уезд, а вот здесь Домажлицы, — объяснял старик, указывая вдаль деревянной трубкой, которой он только что дымил. — А вправо от Домажлиц — видите, на холме? — костел. Это холм святого Вавржинца, но мы называем его по-своему — Веселая гора. Над Веселой горой — лес Рунит, за лесом — деревня Стража, за ней — гора Салка, за Салкой — деревня Пажежницы, так и идут они, гора за горой, за деревней деревня.
— Из Стража-то будем я и кума Маркита, — вмешался в разговор усач.
— И то дело, — кивнул головой старик.
Но другой крестьянин полюбопытствовал:
— А чей ты будешь?
— Бартовых, — ответил солдат. И, гордо подняв голову, обратился к офицеру. — Честь имею, пан офицер, в этих краях от стародавних времен наши предки — ходы, или, как их еще прозывают, псоглавцы — большими правами пользовались. Было у них свое знамя, свой гетман, и все они были раньше вольные. Вон там, где наша деревня, был главный сторожевой пост, и оттого по сие время у нас говорят: «Живу на Страже».
— Правда, так оно и было, — согласился старый крестьянин и вздохнул.
— А вон там, возле Домажлиц, на горе, развалины замка. Как он назывался? — расспрашивал офицер.
— Ризенберк. Сказывают люди, что под этими развалинами зарыт клад; да все враки. Неужто оставили бы его паны лежать, будь это на самом деле? Под Ризенберком — Куты, там наше начальство. А вот эти горы, что протянулись от Кдыни к баварской границе, называются Высокая и Добрая. Будто бы там, на Доброй горе, раз в году вырастает золотая метелка. Ну, а как ее сорвешь, когда никто не знает, в какой именно день она появится?
— Сказки все это. Когда я батрачил в здешних местах, так изо дня в день пас стадо на Доброй горе, но золотой метелки не видывал, — возразил старику усач.
— Верно, она вырастает только ночью, — отозвалась Маркита, — ведь и папоротник цветет ровно в полночь на святого Яна. Говорят, коли невинная девушка расстелет под золотой метелкой белый плат, то на него упадет цветок из чистого золота.
— А почему ж до сих пор ни одна не сделала этого? — улыбнулся офицер.
— Ох, дорогой сватьюшка, видно, уж та, которая бы отважилась пойти в лес в такое время, захотела б золота пуще жизни. Ведь ночь-то не свой брат! — отвечала Маркита.
— Что верно, то верно, — согласился с ней старый крестьянин.
— А вон те горы — как они у вас называются? — продолжал расспрашивать офицер.
— Я уже сказал: это Добрая гора, это Высокая, дальше Гвездинец, а вон там Серебряная, и под ней Серебряная долина. Сказывают, в прежние времена там серебро добывали. А вот те две горы, что под самые облака, — это Перси пресвятой девы Марии...
— Это Озер и Арборец, — поправил его офицер.
— Ну, это у вас так называют, а у нас по-иному, — сказал ход и, указывая трубкой влево, продолжал: — А вон там, за равниной, — видите, дорогой пан офицер? — темный холм, а на нем замок. Это Пржимда. Говорили, в старое время там в башне томился один чешский князь за то, что не захотел терпеть в нашей земле чужеземцев. Награди господь его вечной славой! Только напрасно пострадал он: тому уже не бывать. Если у вас хорошие глаза, глядите прямо: отсюда даже Пльзен видно. А холм, где мы с вами стоим, — это Черхов, за то и лес прозван Черным.
Пока старик рассказывал офицеру о своем крае, женщины принесли хлеб, молоко, масло, мед, белые пироги — все, что нашли дома.
— Отведайте, чего бог послал, — потчевали хозяйки, раскладывая снедь на траве под елью.
Офицеру и его жене принесли майоликовые тарелки, костяные ложечки и кружки для молока. Остальные черпали молоко уполовниками прямо из полных до краев крынок. Угощение пришлось по вкусу, и крестьянки радовались, глядя, как оно убывает. Те, что постарше, уселись на траве возле Маркиты, а молодые девушки убежали и, казалось, разошлись по домам, но если бы вы пристальнее всмотрелись в раскинувшиеся по долине сады, то заметили бы среди зелени не одну черноволосую головку в белом венке и косы, переплетенные красными лентами.
— Да никак я тебя уже где-то видела? — обратилась к Марките женщина, некоторое время с большим вниманием глядевшая на нее. — Уж не тебя ли лет пять тому назад принесли с этого холма без памяти в наш дом, когда твоего мужа угоняли в неметчину?
— Истинная правда, то была я. Награди вас господь за помощь! А вот ты, хозяйка, изменилась с лица, тебя и не узнать. Или занедужила? — спросила Маркита.
— Продуло меня, теперь мучаюсь — ломота во всем теле. Оттого и сохну. Надо будет посоветоваться с бабкой из Уезда — она у нас лечит такие хвори. Даст бог, и мне поможет. Ну, а который же из этих парней твой муж?
— Нет у меня теперь мужа — помер, бедняга, на чужбине, — печально проговорила Маркита.
— Утешь тебя господь! А девочка эта твоя?
— Моя.
— Куда же ты теперь думаешь идти?
— Пойду домой, в Стражу. Меня там все знают, и я всех знаю. В родной деревне лучше всего.
— Это ты верно рассудила, — одобрила крестьянка решение Маркиты.
Когда хозяева и гости вдосталь наговорились и гостеприимство было оказано по всем правилам, офицер велел выступать. Солдаты горячо благодарили крестьян.
— Дай вам бог здоровья! — говорили они.
— Счастливого пути! — отвечали крестьяне.
С песней спустились солдаты с горы и пошли на Кленеч, а в Домажлицах остановились на дневку. Там Маркита распростилась со своими друзьями.
Женщина плакала. Да и у солдат выступили на глазах слезы. Ведь они были вместе на чужбине почти пять лет! Жена офицера сунула Марките в руку два золотых на платье девочке и листок бумаги, на котором были обозначены ее имя и адрес.
— Сбереги, милая, эту записку. Раз уж не хочешь ехать со мною, то по крайней мере навести меня в Праге да привези с собой Карлу, — добавила пани.
— А если понадобится что-нибудь тебе или Карле, так обращайтесь прямо к нам, — наказывал и офицер, он тоже полюбил честную Маркиту и, согласись она, охотно бы удочерил ее кудрявую девочку.
— Ну, а я с тобой не прощаюсь. Передай дома привет и скажи, что и я, честь имею, скоро там буду, — сказал плачущей Марките Барта, поглаживая, по своему обыкновению, усы.
В городе как раз был базарный день. Маркита без труда сыскала земляка, который и отвез ее домой.
II
Стражская старостиха готовила батракам полдник. Порой по ее полному приветливому лицу пробегала тень, и она принималась потихоньку ворчать:
— Третий час уже, а он все не едет. Ох ты господи! Не затащили бы его в городе в корчму!.. Меня прямо дрожь берет. Ведь при нем столько денег!
Вдруг на площади раздался удар бича, словно из ружья выпалили. У старостихи сразу отлегло от сердца: она отлично знала, что хлопнуть бичом с такой силой не умел, кроме старосты, ни один крестьянин во всей деревне. Она весело засуетилась у печи, чтобы встретить мужа готовым обедом. Вот лошади заржали уже во дворе, минуту спустя в дом вошел староста Милота, а следом за ним женщина с девочкой на руках.
— Погляди-ка, мать, кого я из города привез! — сказал хозяин.
Старостиха посмотрела на вошедшую и радостно воскликнула:
— Богородица клатовская, да ведь это наша Маркита! Откуда ты взялась?
— Я пришла в Домажлицы с солдатами. А твой хозяин привез меня домой, — отвечала Маркита, пожимая протянутые к ней руки.
— А что, девочка эта твоя?
— Моя.
— Пускай же растет тебе на радость! Она словно вишенка! Да входи же, входи!.. Садитесь вот сюда, за стол!.. Я только накормлю работников и сейчас же вернусь к вам, — заторопилась хозяйка и исчезла в дверях.
— А твоя-то вовсе и не старится, — заметила Маркита, усаживая за стол ребенка.
— Да, грех жаловаться... Носится, словно ветер, — отвечал Милота, вешая кафтан и шляпу на гвоздь около постели.
И в самом деле, старостиха была проворной женщиной. Спустя несколько минут она уже поставила на стол обед и принесла свежесбитое масло, молоко и белый пирог, благоухающий какими-то пряностями.
— А теперь кушайте. Чем богаты, тем и рады. На вот, Маркита, отрежь-ка себе, да и девочке дай, — угощала хозяйка, придвигая к Марките початый каравай хлеба с крестом на верхней корке, где уже лежала отрезанная горбушка.
— Налей ей молока, оно обеденное, сладкое — что твой миндаль. Молочко-то ведь от Пеструхи, которую ты нам выходила. Нынче она принесла славную телку.
— Пеструха была смирной коровкой, а вот Рыжуля — та выделывала штуки. Сколько раз вышибала у меня из рук подойник! — сказала Маркита.
— Да, с ней никто не мог сладить, когда ты ушла от нас в Неметчину, — сказал хозяин. — Так и пришлось продать ее, да еще с убытком.
— Ну, расскажи нам, милая, как тебе жилось у немцев. Что поделывает твой муж, Драгонь? Он тоже воротился? — принялась расспрашивать старостиха.
— Он уж не воротится, помер, — объявил Милота.
— Помер! — ужаснулась его добросердечная жена и залилась слезами. — Пошли тебе господь утешение! Да что ж это с ним приключилось? Он ведь был такой крепкий!
— Тоска по родине, — отвечала Маркита.
— Да, уж тут ничем не поможешь, коли нельзя домой воротиться, — подтвердила старостиха.
— То-то и оно. Солдата не отпустят, пока свое не отслужит. К тому же Драгоню и верить не хотели. Все говорили, что тоска по родине — пустая выдумка, что солдат не должен быть бабой, что ему надо быть терпеливым. Однако ничего не поделаешь! Коли падет на сердце печаль, так и мужчина не совладает с нею, — вздохнула Маркита и положила ложку, потому что кусок застревал у нее в горле. Помолчав, она продолжала: — Не будь там кума Барты, Драгонь наверняка убежал бы. Барта втолковал ему, как плохо может это кончиться, утешал его, а потом написал, чтобы я пришла к ним. Да ведь ты, хозяин, сам и прочитал мне письмо... Кабы у меня в ту пору не хворал ребенок, я бы вмиг собралась; только его болезнь и задержала. Господь прибрал дитя, и вы знаете, я тогда же отправилась к мужу.
— И не повеселел он? — спросила хозяйка.
— Когда я рассказывала ему о доме и пела наши песни, ему становилось легче, а потом его опять одолевала кручина. Он даже не пожалел, что ребенок умер. «Все равно сдали бы его в солдаты, — говорил он, — так и слава богу, что прибрал мальчонку». А через год народилась вот эта девочка. Драгонь очень радовался, прямо ожил. Потом заболел чахоткой, стал хиреть да хиреть, не мог уже службу справлять и вскоре помер. Одно было у него желание — еще раз взглянуть на родные места. И это не удалось бедняге, пришлось ему лежать на чужой сторонушке. Разнесчастная эта солдатчина! Не дай господи никому... — зарыдала Маркита.
— Успокойся, Маркита, на все господня воля, — утешал Милота. — Такая беда случается со многими матерями и со многими женами. Иначе и быть не может. Государь император — наш господин, и мы обязаны служить ему.
— А давно ли помер Драгонь? — спросила старостиха.
— На пасху минул ровно год, — отвечала Маркита.
— Так отчего же ты раньше не воротилась?
— Кум Барта отсоветовал пускаться в путь одной с ребенком. Уговорил обождать до осени, пока солдаты пойдут домой. А когда настала осень, сказали, что они пойдут весной. Вот и пришлось дожидаться весны, чтобы не тащиться одной, да еще глядя на зиму. Едва-едва дождалась. Весь этот год я жила в прислугах у офицерши — она мне кумой доводится. Очень хотела она забрать меня с собой в Прагу, но я решила вернуться к вам. Ведь вы меня не прогоните, если я буду служить вам так же, как прежде служила? А коли сохранит мне господь девочку, так и для нее, наверно, найдется какая-нибудь работа, — прибавила Маркита.
— Об этом ты не заботься: кто захочет трудиться, всегда подыщет себе дело, а работа даст и кусок хлеба, — сказала хозяйка.
— Вот как мы сделаем, — немного поразмыслив, объявил Милота. — У нас есть свободный чулан. Ты и поселяйся там с девочкой. Кормить мы тебя будем. Я посею восьмушку льна — зимой, когда будешь свободнее, напрядешь на себя. Жена даст тебе двух гусей, с них насобираешь дочке на перинку. Жалованье будет прежнее. Ну как, теперь ты довольна?
— Спасибо тебе, Милота, сто раз спасибо, — проговорила женщина, и на глазах ее заблестели слезы, когда она подала Милоте руку в знак того, что поступает к ним в услужение.
Пообедав, хозяин занялся своими делами, а Маркита немедленно принялась помогать хозяйке.
— Как тебя зовут? — обратилась та к маленькой девочке.
— Карла, — отвечал ребенок, подняв на женщину серые глаза с густыми черными ресницами.
— Что это ты, Маркита, за имя выдумала? Я во всю свою жизнь и не слыхивала такого, — удивилась старостиха.
— Я тут ни при чем. Ты ведь знаешь, что имя ребенку у нас обычно дает крестная. Я и предоставила это крестной. Кто же мог подумать, что девочку нарекут Каролиной?
— Да есть ли такое имя в календаре? — допытывалась старостиха.
— Верно уж есть, коли священник ничего не имел против.
Крестьянка покачала головой и дала девочке кусок пирога. Потом погладила ее по кудрявой головке и жалостливо проговорила:
— Нечего сказать, хорошо же тебя окрестили, бедняжку!
— А где твой Петр? — чтобы переменить разговор, спросила Маркита.
— В Медакове, в школе. Ты удивишься, как он вырос: через год пойдет пахать.
— А не прибавился ли кто у вас с той поры?
— Ты же, милая, знаешь наши дела, — усмехнулась старостиха. — Была у меня одна дочка — господь прибрал ее, да сразу же наделил другою. Ей уже год, ни минутки не посидит на месте.
— А где она сейчас?
— Гусопаска взяла ее с собой на лужок. Малышка любит поваляться на травке.
— А как ты назвала ее? — спросила Маркита.
— Ганой.
— Гана — славное имя. Хорошо, что у тебя есть дочка: дочка красит дом, как роза садик. Вот и будут они с Карлой подружки. Поручи-ка мне заботу и о твоей девочке: ты ведь знаешь, как я люблю детей, — попросила Маркита.
— Охотно, — отвечала старостиха. — В страду просто не знаешь, как и быть с детьми, то ли брать с собою на поле, то ли оставлять дома. Ты, Маркита, будешь помогать мне по дому да за скотиной присматривать, а старшую батрачку, Ганчу, я пошлю в поле вместе с другими.
Маркита этого только и ждала, больше ей не требовалось никаких приказаний. В доме, где она вновь поселилась после четырехлетнего отсутствия, ничего не изменилось, ничего не сдвинулось с места, только что вот родилась Гана да продали неспокойную Рыжулю, в саду подросли молодые деревца, а в хлеву — Пеструха.
Как мимолетный ветерок, что пронесется порой по озеру и взволнует его недвижную гладь, так и весть, что Маркита, жена Драгоня, возвратилась из Неметчины и что Адам Барта тоже скоро воротится, взбудоражила тихую и однообразную жизнь сельских жителей. Мужчины, женщины, старухи и девчата, батраки и даже маленькие дети, короче говоря — все, кто бы то ни был, приходили в дом старосты поглядеть на Маркиту и ее кудрявую девочку с таким диковинным именем. Марките приходилось без конца повторять, как ей жилось у немцев, и рассказывать семье Павла о Петре, а семье Петра — о Павле. Одна хотела знать, как стряпают немки, другая — как там прядут, один расспрашивал об урожае, а другой любопытствовал, христиане ли живут в Неметчине. Маркита рассказывала все, что знала, а когда чего-нибудь не знала — отсылала к Барте. На другой день каждый ребенок в деревне уже знал, как жилось Марките все эти четыре года, а ей тоже было известно, кто у кого родился, кто сыграл свадьбу и кто умер.
III
Барту не учили никакому ремеслу. Но, еще будучи пастухом, он самоучкой наловчился вырезывать из липового дерева ложки, уполовники, солонки и прочую утварь. Из сливового дерева он делал прялки и затем красиво выкладывал их оловом. Это ремесло пригодилось ему и на военной службе. Благодаря своему искусству и бережливости за четырнадцать лет солдатчины Барта скопил немного денег. Вернувшись на родину, служивый нашел здесь и славную горенку и пропитание — все это предоставил ему, как водилось в те времена, брат. Барта был обеспечен всем. Но поначалу он сильно досадовал, что в деревне не достать табаку.
— А знаешь, Барта, — сказал староста, когда тот поделился с ним своим горем, — займись-ка ты этим сам. У тебя есть свой угол, денежки водятся, а как отбывший воинскую повинность, ты, вероятно, и разрешение получишь. Нам ведь тоже будет с руки, что не придется гонять людей в город.
Барта послушался старосты. Учитель написал ему прошение, отослал бумагу куда следовало, и вскоре пришел желанный ответ. С разрешением в кармане Барта отправился в город и заказал себе большую вывеску. По городской моде на ней был намалеван турок с длинной трубкой и огромными усами. Когда он принес вывеску домой и повесил ее над окном, сбежалась поглазеть вся деревня. Мальчишки кричали один другому:
— Антон! Адам! Живее сюда... Поглядите-ка: «Честь имею» нарисован на вывеске, с трубкой! — И ребятишки неслись к дому Барты, как на пожар.
Горница служивого сверкала чистотой. Каждая вещь имела свое место. Горе было тому, кто попытался бы здесь что-нибудь передвинуть. Барта привык делать все сам и, хоть невестка охотно согласилась бы убирать у него, никому не разрешал себя опекать. Все у него шло, как по расписанию. Поутру, прибравшись так, что нигде не оставалось и пылинки, он поливал затем стоявшую на окне герань, кормил щегленка, которого учил петь, потом раскладывал на столе весы, нож и куски дерева, закуривал трубку и, выглянув в окно на турка, чтобы проверить, не забрызган ли у него кафтан и не выбит ли глаз, — разглаживал усы и принимался за работу. Так начиналось у Барты каждое утро, кроме воскресенья, когда он шел в костел.
Дела у него было много. На ложки, уполовники и прялки всегда был большой спрос, а Барта умел их вырезывать особенно чисто. Когда он работал, то всякий раз собиралось вокруг него много зрителей. Каждый, кто бы ни шел мимо, здоровался с ним и если не покупал табак, то по крайней мере спрашивал: «Что поделываешь, Барта?»
И хозяйки приходили к нему с малыми ребятами, даже если не собирались ничего заказывать. Ведь с Бартой всегда было о чем потолковать! Он и кофе умел варить, о котором крестьянки, кроме Маркиты, знали только понаслышке. Ребятишки души не чаяли в служивом — он ведь и мухи не обидел и прощал этим ветрогонам, когда они из одного только озорства кричали ему: «Честь имею, пан Барта, отпусти-ка табачку!».
Однако больше всех старый солдат любил Маркиту и свою крестницу Карлу. Маркита пришлась ему по душе больше других. С ней он вспоминал о товарищах по службе, которых и она хорошо знала, о Драгоне, о прошлых временах. Карла прыгала у него на коленях, он рассказывал ей сказки и каждое воскресенье, возвращаясь из костела, приносил гостинец — яблоко или бублик. Одно было ему странно: Маркита никогда не соглашалась хоть на часок оставить у него Карлу.
— Честь имею, кума! Что это у тебя за глупая привычка вечно держать девчонку в кармане? — ворчал Барта всякий раз, когда она уводила ребенка.
— Да ведь ты знаешь, кум, как я к ней привязана. С самой колыбели не отходила от нее ни на шаг: и мне будет скучно и ей тоже. Девочка принадлежит матери, — оправдывалась Маркита.
— Ну и глупо, что она девчонка.
— Полно, кум, неужто пожелал бы ты мне мальчика? Нечего сказать, то-то матери радость вырастить сына, чтоб его забрали в солдаты, да и уморили бы на чужбине.
— Так ведь не все умирают. Я же вот, честь имею, жив.
— Мало ли что! Тебе все нипочем, да не все таковы!
— Что ты хочешь этим сказать, кума? — сердился Барта, наматывая ус на палец.
— Что хочу сказать? Да ничего. Был бы покойный Драгонь такой, как ты, и он сидел бы тут с нами, — вывернулась Маркита. Она часто поддразнивала служивого, не выводя его, однако, из терпения.
— Вот то-то я и говорю, — смягчился Барта. — А будь у тебя сын, я бы его вымуштровал. Знал бы он у меня артикул, честь имею, как «Отче наш».
— Отвяжись ты со своим артикулом, я о нем и слышать-то не хочу! Благодарю бога, что у меня девочка!
Тем обычно и кончались их споры.
Всякий вечер Барта отправлялся к старосте, а в воскресенье шел туда сразу же после обеда. Здесь собирались побеседовать степенные крестьяне, летом — на дворе под деревьями, а зимой — в доме. Вечерком вся компания шла в трактир выпить пива и поиграть в кости. Военная жизнь и строевая служба были излюбленными темами Барты в эти часы. Один из стариков был его постоянным противником и из воскресенья в воскресенье приводил те же самые доводы.
— К чему нам артикул! — заявлял он. — Мы и так показали себя во время французской войны. Собрали нас, дали ружья, даже в мундиры не одели и начали муштровать. Офицер, который обучал нас, был немец. Мы его не понимали, так ничему и не выучились. Их благородие долго маялись с нами и горько сетовали, что ничего не могут втолковать дубиноголовым солдатам в красных шапках. Тут приспел бой! Как схватили наши молодцы ружья за дула да как начали молотить французов! Эх, поглядели бы вы, люди добрые, на эту свалку! Где, бывало, покажется красная шапка, оттуда все и бегут, закинув ноги на плечи! Тут-то наш офицер поглядел, да и говорит: «Я и не думал, что вы так умеете драться». — «Точно так, пан офицер, мы по-нашенски», — отвечаем.
Хотя собеседники уже несчетное число раз слышали все это, рассказ им нравился, и они, довольные, покачивали головами в такт рассказу.
Тем не менее Барта продолжал упорствовать и отстаивал муштру.
Когда же случилось ему попасть в женское общество, тут его начинали донимать уговорами жениться. Ему сватали то одну, то другую невесту, но он неизменно отвечал: «Зачем идти мне к Барборе, раз все есть на своем дворе?».
Все же Милота однажды задел его за живое, начав разговор о Марките.
— Что ж, на Марките я бы женился: славная женщина, да и знает небось, что по сердцу мне. А девчонку ее, честь имею, я просто дьявольски люблю, — отвечал Барта, разглаживая усы во всю их длину.
— Ну, погоди, я буду твоим сватом. Она наверняка не станет раздумывать: ведь ты еще молодец, да и копейка у тебя водится.
— Думаю, что я чего-нибудь да стою, — приосанился Барта.
Милота обещал прийти с ответом на следующий же день.
Утром Барта поднялся раньше обычного. Прибирая в комнате, он то и дело останавливался, задумчиво поглаживая усы, и его серые глаза светились какой-то внутренней радостью. Кто знает, о чем он думал в это время! Он даже запамятовал оглядеть кафтан своего турка и, вместо того чтобы вырезать сердечко на прялке, украсил им уполовник.
После обеда в дом ввалился Милота и без обиняков выложил чистую правду:
— Вот что, дружище, не жди-ка ты дождя из этой тучки! Маркита не хочет замуж ни за тебя, ни за кого другого. Эх! Никогда не угадаешь, что у бабы на уме...
— Ну что ж, я это наперед знал, — пробурчал Барта и трижды обернул ус вокруг пальца. Помолчав, он добавил. — Послушай, Милота, ты, честь имею, не трезвонь об этом!
— А ты не убивайся, пусти-ка горе по ветру, — утешал староста.
Но Барта целых два дня терзал свои усы. И только на третий день, взглянув в зеркало и увидев, что они торчат теперь, как клыки, стал приглаживать их книзу. Целый день приводил он себя в порядок, а вечером отправился к старосте. Маркита стояла на пороге, кормила кур и гусей. Она приветливо поздоровалась с Бартой и, подав ему руку, сказала:
— Пускай все будет по-прежнему!
— Ну что ж, пусть будет так, — согласился Барта, пожал ей руку и вошел в дом. С той поры они уже никогда не поминали о случившемся, а вскоре ни одной женщине во всей деревне не пришло бы в голову спросить у Барты, когда он женится. Все наперед знали его ответ:
— Женюсь, когда у меня в очаге огонь без дров загорится.
IV
Словно елочки в соседнем лесу, вытягивались год от году Карла и Гана. Они были очень дружны, и вся деревня величала их родными сестричками, потому что и одеты-то они были всегда одинаково. Если девочки направлялись с Маркитой в церковь или на прогулку, они надевали одинаковые красные юбки, обшитые лентами одного и того же цвета, вышитые синим, красным и черным шелком фартучки, пояса и белые венки. Волосы у каждой были заплетены в одну косу, украшенную на конце и на затылке алыми бантами. По будням они ходили босиком, в темных юбчонках, в рубашках с длинными рукавами и пуговкой у ворота. Венки[1] же на их головках красовались всегда.
Карла уже два лета пасла гусей, и это ей очень нравилось.
Позавтракав спозаранку, она совала в мешок по куску хлеба для себя и для Ганы, затем, вооружившись прутиком и взяв Гану за руку, отправлялась выпускать гусей. С гоготом вылетали гуси из сарая во двор, но стоило Карле покликать: «Тега-тега-тега!» — как они тотчас успокаивались и всем стадом, чинно переваливаясь, шли на лужайку.
Когда сходились все маленькие гусопасы и гусопаски, начиналось веселье. Дети пели, играли в солнышко, в водяного, в бедного солдата, в жмурки и другие игры, а не то усаживались в кружок, и самый старший рассказывал какую-нибудь историю.
И Барта приходил сюда, когда случалось ему бывать на поле. Он обучал детей военным приемам, что особенно нравилось мальчикам. Карла тоже участвовала в игре, и ее, как девочку и свою любимицу, усач всегда назначал офицером. Но едва слух о том дошел до Маркиты, Барта и Карла получили изрядный нагоняй.
— Ведь так из тебя ничего путного не выйдет, окаянная ты девчонка! — выбранила Маркита дочку.
— Возись себе с мальчишками, а девочку своими глупостями не порть! — заявила она Барте. Тот намотал ус на палец и ушел словно оплеванный. Но когда он в другой раз заглянул на пастбище и мальчики стали просить его поиграть с ними, он опять не сумел обойтись без Карлы. Она была у него главным героем и усваивала военную науку лучше всех.
Старый солдат учил Карлу не только артикулу. Они вырезывали прялки и уполовники и нередко с большой пользой коротали время на зеленой лужайке.
Зимой Карла вместе с другими ребятишками бегала в Медаков — деревню за две горы от Стражи, где были костел и школа. Не раз настигала их вьюга, а не то случались такие туманы, что и на шаг вперед ничего не было видно. Но Карла хорошо знала дорогу — она добралась бы до дому даже с зажмуренными глазами.
Карла ходила в школу уже третью зиму, когда старостиха привезла Гане с ярмарки доску, на которой по белому были написаны черные буквы, а над ними намалеван красками петух, очень понравившийся девочке. Кроме того, Гана получила еще и рогожную сумку с узором из пестрых лоскутков.
— Пойдешь в школу, — сказала мать, вручая ей подарки. — Авось да выучишься читать. — И Гана запрыгала от радости, услыхав, что будет ходить в школу вместе с Карлой.
Карла уже не раз рассказывала ей, как хорошо в школе, когда учитель выходит из класса и мальчики начинают прыгать по лавкам, и как славно по дороге в школу, когда мальчики наломают в лесу еловых веток, а девочки съезжают на них с горы.
— А когда Петр вздумает столкнуть меня в сугроб, я наберу снега да так влеплю ему снежком, что он идет домой весь в шишках, — с гордостью заканчивала Карла, и Гана, не мигая, не дыша, слушала эти рассказы о геройских подвигах школьников.
Старостиха отдала Гану под надзор Карлы. Петр в ту зиму не ходил в школу, и девочки возвращались домой без особых приключений. Лишь однажды Гана свалилась в речушку, которую им случилось перейти, и ушибла ногу, да так, что не могла ступить на нее. Карла взвалила подружку на спину и донесла ее до самого дома. Маркита перекрестила больное место, положила на него черной мази, и к утру все зажило.
Хотя добрую половину того, что девочки выучили зимой, они за лето забывали, все же через четыре года Гана читала по книжке, а считала так, что ей не нужно было глядеть на пальцы, чтобы сложить пять да пять. Мать объявила, что этого довольно, — она и сама, мол, столько не умеет.
Карла же знала гораздо больше. Она умела читать, писать и считать. Она даже могла прочесть бумаги, которые староста получал от начальства. Все удивлялись ей, а хозяйка постоянно твердила, что из этой девочки, будь она парнем, мог бы выйти учитель.
Время текло как вода. И вот уже девочки стали девушками, от которых матери были вправе требовать помощи в домашней работе. На них уже начинали заглядываться парни, и когда заходила речь о семье старосты, то нередко возникал вопрос: «За кого-то отдадут Гану?».
Гана была круглолицая, синеглазая, очень милая девушка. Говорили, что она вся в мать, а старостиха слыла первой красавицей в деревне.
Карла не была так миловидна, как ее подруга. Но стоило повнимательнее всмотреться в ее смуглое лицо — и оно начинало нравиться. У нее было не по летам мускулистое тело, и, казалось, она станет намного выше своей матери и шире ее в кости. Серые с черными ресницами глаза, густые брови и волосы цвета воронова крыла — все это перешло к ней от Маркиты, от отца же она унаследовала красивый нос и ямочку на подбородке. Только рот у нее был, пожалуй, слишком велик для девушки. Но, несмотря на это, всем нравилось, когда она улыбалась, показывая красивые белые зубы. Карла была ловка, проворна, как рыба, и удачлива во всякой работе. Она с первого взгляда понимала, что и как надо сделать. Она пряла и ткала, варила и стирала, умела сшить рубаху и вышить фартук. Одинаково хорошо косила и жала. И ни одна девушка не могла жать дольше, чем Карла! Пахала и сеяла она не хуже Петра, а он ни за что бы не мог так ловко вскочить на лошадь, как это удавалось ей. Сколько Гана ни уговаривала коров во время доения, они все равно не стояли у нее так смирно, как у Карлы, которая на них только покрикивала.
Одним словом, из нее вышла девушка хоть куда, и старостиха часто говаривала, видя Карлу за работой: «Да, вот они, Маркитины золотые руки!». Поэтому и не досадовали они с Милотой, когда заметили, что Карла по душе их Петру. Ведь такая девка лучше, чем добрый кус поля!
Много надежд возлагала Маркита на свою дочку. В ней заключались вся ее радость и счастье. Пока Карла была ребенком, она берегла ее пуще глаза; подрастая, девочка становилась матери все дороже. Немало поточили о них свои языки соседки — ведь и в деревне и в городе есть свои кумушки-сплетницы, и осудили они Маркиту за то, что носится она с Карлой, словно с дочкой стряпчего. Многих брала зависть, ибо все уже знали, что Петр любит Карлу и что его родители не препятствуют этому. Петр был красивый парень, хозяйство — полная чаша, а Карла-то как-никак всего лишь дочь батрачки! Ей завидовали и говорили: «Это дело обстряпала Маркита, ведь она правая рука старостихи».
Но сильно заблуждались те, кто полагал, что все исходило от Маркиты. Напротив, как только заходила речь о замужестве Карлы, она говорила: «Карла не может выйти замуж и не пойдет ни за Петра, ни за кого другого».
Соседки снова терялись в догадках: «Что за притча? Видно, Маркита говорит это неспроста». Однажды старостиха спросила ее:
— Скажи-ка, Маркита, что ты все твердишь, будто Карла не пойдет замуж? Это почему же?
— Я не могу тебе этого сказать — и не требуй. Ведь ты меня знаешь, хозяйка.
— Не бери грех на душу, Маркита! На что же тогда и девка, коли не выходить замуж? — настаивала старостиха.
— Свет не погибнет оттого, выдадим мы Карлу или нет, — отвечала Маркита.
Хозяйка была удивлена. Она передала этот разговор Милоте и уговорила его потолковать с Петром: что, мол, тот скажет и не знает ли он, любит его Карла или нет.
— Вот что, Петр, признайся: по душе тебе Карла? — напрямик обратился Милота к сыну, когда они утром ехали на поле.
— Что и говорить! Мне-то она по душе, да вот я ей не люб, — хмуро отвечал Петр.
— Ну, а ты толковал с ней? — допытывался отец.
— Что вы, батя! Да разве с ней потолкуешь? Она любого осмеет. Попробуй кто-нибудь к ней хоть немножко приласкаться или обнять — она, словно шершень, сразу вцепится в волосы. Вот Вавра Будровых пришел к ней под окошко на прошлой неделе, а она взяла и окатила его водой только потому, что он не захотел сразу уйти, как она приказывала.
Милота громко расхохотался.
— В самом деле, Карла немного дикая, — сказал он. — Зато когда все это в ней перебродит, из нее получится славная женка. А вы, ребята, будьте пообходительнее с девками, вот они вас и полюбят.
— Я люблю Карлу — куда уж больше, но она и слушать ничего не хочет, — пожаловался Петр.
— А ты погоди немного. Время свое возьмет, — успокоил его отец.
Старостиха думала, что мужу все известно, а он между тем знал не больше прежнего. Женщину терзало мучительное сомнение, а так как она не могла поделиться мыслями ни с Маркитой, ни с Карлой, то излила свое горе одной доброй знакомой. Та добрая знакомая поведала своей куме, которая понесла дальше, и вскоре в догадках терялась вся деревня. Тайна Маркиты стала мучить всех. Тут одной сообразительной бабе пришло на ум, что, наверное, у Карлы имеется какой-нибудь изъян. Она немедленно сообщила о своем открытии другой, та убедила в этом третью, и наконец та же добрая знакомая принесла старостихе весть, что у Карлы на теле имеется отвратительная отметина, и Маркита не хочет выдать дочь за Петра, так как боится, что после свадьбы Карла ему опостылеет.
Маркита и не подозревала о пересудах, и когда старостиха объявила ей эту новость, она страшно рассердилась.
— Чтоб пусто было этой бабе! — воскликнула женщина. — Дочка моя воды не замутит, а все-таки мешает им, как репа на дороге. Господь знает, что человеку надобно, а чего у него нет, то ему людские языки привяжут, — добавила она, заливаясь слезами.
— Ну, успокойся, Маркита, слухам никто еще и не верит. И разве можно за что-нибудь ручаться? Если твоя Карла по душе Петру, он ни на что и не посмотрит, — сказала старостиха.
Маркита твердила, что тело у Карлы — как облупленное яичко, но все напрасно. Как ни доверяла ей хозяйка, теперь и она заколебалась, не видя иной причины, которая мешала бы Марките выдать дочь замуж.
Деревня была полна слухами. Одни преувеличивали недостаток Карлы, другие преуменьшали, тот говорил одно, этот — другое: догадкам не было ни конца ни краю.
Все эти пересуды смущали и злили Петра, но Милота однажды сказал:
— Чего это ты будто сноп вымолоченный? Не слушай болтовни. Зачем гоняться за красотой? Была б девка здорова, а бабьих толков и на коне не объедешь.
Петр послушался отца и старался вести себя с Карлой так же просто, как прежде. Но девушка отлично знала, что он верит слухам, и дразнила его пуще прежнего. Подойдет он, бывало, к ней поближе, а она:
— Берегись, Петр, берегись: я меченая! — Попытается парень обнять ее — оттолкнет: — Убирайся, у меня змея за пазухой, кто до меня дотронется, того и ужалит! — Так Карла осмеивала всех, и, казалось, ее совсем не смущала деревенская болтовня.
Больше всех негодовал Барта:
— Ведь я, честь имею, ее крестный. Думаю, что и знаю побольше других. Брешут бабы! У них с языков течет такая грязная вода, что ее, честь имею, и пить не станешь.
— Вот что, Барта! — сказал однажды Милота, когда старый солдат начал что-то уж слишком горячиться. — Нет дыму без огня. Что-нибудь тут да кроется. К чему столько толковать? Уж коли суждено им жить вместе, будут они жить, что бы ни говорили люди. Оставим это!
Одна только Гана не принимала участия в сплетнях. Если девушки приставали к ней:
— Гана, ведь ты одна знаешь все; скажи же нам, в чем тут дело? — она отвечала:
— Я-то откуда знаю?
— Так вы ведь и спите вместе и одеваетесь — все вместе.
— И не спим вместе и не одеваемся. Да и что мне до этого? Какая бы Карла ни была собой, мы все равно останемся подругами.
В конце концов к новости все привыкли и редко поминали о ней, однако все так и остались при мнении, что Карла не без изъяна.
V
Минула жатва, давно был убран овес и скошена последняя отава. Девушки выбелили полотна, ободрали перья. Потом наступили длинные непогожие вечера, а когда приехал на белом коне святой Мартин, начались посиделки. Хозяйки наготовили себе и служанкам конопли для пряжи на летнее платье мужчинам, на веревки и на мешковину. А девушки запаслись мягким льном, из которого ткали тонкие полотна.
Барта бойко торговал прялками. Каждый парень, желавший подарить девушке прялку, что считалось явным признанием в любви, покупал ее непременно у Барты, потому что никто не умел украшать их так, как он.
Первая неделя посиделок была назначена у старосты. После обеда Карла сняла с чердака прялку из сливового дерева, украшенную цветочками, птичками, сердечками и другими узорами из олова, насадила на нее пучок белоснежного льна, красиво перевязав его красной лентой. Концы ленты она скрепила булавкой, головка у которой была в виде розы из искусственных гранатов с двумя желтыми жестяными листочками. В лен Карла воткнула веретено с красным яблоком на острие. Все это выглядело очень красиво. Она только что принялась осматривать произведение своих рук, как в чулан вошла Маркита.
— Чья это прялка? — спросила она.
— Разве вы не узнаете ее, мама? Да ведь это та самая, что я сделала нынешним летом.
— Так это из-за нее ты жгла лучину и портила себе глаза? Ну, а зачем же ты ее так разукрасила? Ведь ни у одной хозяйской дочки не будет такой прялки, а ты батрачка; еще скажут люди, что ты хочешь похвалиться, — заметила мать.
— Так ведь я украсила ее не для себя. Я подарю ее Гане.
— Ты что, ума лишилась? К чему это? Парни засмеют вас: ведь это их дело — дарить прялки, — всполошилась Маркита.
— Ну, надо мною-то они не посмеются! Я с ними живо расправлюсь. А Гана до сих пор никого не любит. Почему бы ей и не принять от меня эту прялку? А коли она примет, так какое кому до этого дело?
— Старостиха уже присмотрела Гане жениха — Томаша Косину. Его отослали в обмен[2] в Неметчину, но летом он вернется. Только ты помолчи: Гана ничего не должна знать, — предупредила Маркита.
Карла так и обмерла.
— И все-таки я сделаю Гане подарок! А коли не возьмет, так брошу это в огонь! — вскричала она, порывисто схватив прялку.
— Богоматерь клатовская! Да ведь ты день ото дня становишься все чуднее! Что-то еще будет! — вздохнула Маркита.
Карла побежала через двор к дому. Гана была одна в горнице, она расставляла скамейки для прях.
— Господи, какая красивая! Да кто ж это тебе ее подарил? — спросила она Карлу, с любопытством рассматривая прялку.
— Мне ни от кого не надо, это тебе!
— От кого же? — испытующе обратилась Гана к подруге и отдернула руку от прялки.
— Да бери же, это я тебе дарю. Ведь я знаю, что ты не любишь никого из парней, вот и сделала тебе прялочку сама. А этот лен мы вместе с тобой сеяли, пололи и брали.
— Ах, какую радость ты мне доставила! — воскликнула Гана, и глаза ее засияли. — Такой прялки ни у кого не будет. Но что я скажу, если спросят кто подарил?
— А ты не отвечай. Пускай поломают головы, все равно не догадаются. Вот мы с тобой и посмеемся над ними.
— А маме сказать?
— Как хочешь!
— Что это вы затеваете? Ведь так нельзя, — разворчалась старостиха, но все-таки пообещала не говорить до конца посиделок, кто подарил Гане прялку.
Вскоре собрались в дом молодые пряхи. Одни принесли с собой совсем новенькие, только что выточенные прялочки, другие — прошлогодние. Каждая девушка похвасталась своей, но когда Гана вынесла новую прялку, все кинулись ее рассматривать, и восторгам не было конца.
— Кто ее тебе подарил, кто? — посыпалось со всех сторон.
— Этого мы вам сказать не можем, — ответила им Карла.
— Ну так все равно мы сами увидим, — заявили девушки, рассчитывая на скорое появление парней.
В подвешенный к потолку железный светец были вставлены зажженные лучины, девушки уселись в кружок, перекрестились и с песнями принялись за работу.
Вскоре подошли и парни. «Теперь-то мы увидим, кто по ком вздыхает», — подумали девушки. Парни усаживались либо рядом со своими избранницами, либо позади них. Посередине кружка остались только те, у кого еще не было милой. Они сматывали пряжу, рассказывали сказки и помогали хозяину щепать лучину.
К Гане с одной стороны подсела Карла, с другой пристроился Петр. Это удивило присутствующих — ведь они рассчитывали узнать, кого избрала себе Гана. Спросили Петра, но тот ничего не знал; принялись тормошить Карлу, но она скрытничала. Так никто и не допытался правды. До самого конца посиделок Карла держалась близ Ганы. Она была как на посту. Ни один парень не отважился подсесть к девушке из страха перед Карлой, которая умела так посмеяться над каждым, что это могло бы уронить его в глазах других девчат.
Но вот подошли святки, и посиделкам пришел конец. Веселье началось девичьей колядой. Старостиха напекла девушкам вкусных гнетанок, которые так и таяли во рту.
— Но кому же мы их подарим? — спросили друг дружку Карла и Гана, получив от хозяйки по гнетанке «для парней».
— Давай сделаем так, — предложила Карла, — твою съедим пополам, а свою я отдам Петру.
Гана, как всегда, согласилась с подругой.
После обеда молодежь сошлась на площади и с песнями отправилась в Медаково. Девушки принарядились в суконные курточки и красные платки. День был отличный, но с морозцем; снег хрустел под ногами. Парни кидались снежками; двое из них захватили с собой салазки и катали девушек с гор. Гана же не отходила от Карлы.
— Как скучно зимой! — вздохнула она, оглядывая занесенное снегом поле и темно-зеленый лес. — И травки не видно, и птичек не слыхать, даже лес — и тот не шумит листвой.
— Все спит, — отвечала Карла и затрясла стоявшую около дороги ель, ветви которой гнулись под тяжестью снега.
— Потому-то и петь мне не хочется, когда я прохожу здесь зимой. Зато летом, когда все так весело зеленеет, запоешь невольно, — говорила Гана.
— Летом, я думаю, всем весело. Но как должно быть хорошо там, где круглый год лето. Помнишь, что вчера нам рассказывал Барта об итальянской земле?
— А все равно я не согласилась бы там жить, даже если б меня кормили булками и наряжали в золото, — заметила Гана.
— Эх, и хотелось бы мне посмотреть на белый свет! — воскликнула Карла.
— Да ты взойди на Перси пречистой девы Марии, оттуда и край света увидишь.
— Ну нет, милая! Барта рассказывал мне как-то, что свет очень велик и широк. Иди сколько хочешь, хоть в сто раз дальше, чем отсюда до Клатова, и все будет земля да море, и конца этому нет.
— Ну, а как бы ты стала там жить? Никто бы тебя не знал и не сказал бы тебе «здравствуй». Ты и не думай об этом.
— У нас дома лучше всего. Я не пошла бы жить даже в Пажежницы, — сказала Гана, указав головой на деревню, находившуюся в получасе ходьбы от Стражи.
— А что, если бы тебя посватал парень из Пажежниц?
— Да стой он на коленях, все равно не пойду за него, — упорствовала Гана.
— Карла! Гана! — закричала девушкам обогнавшая их молодежь. — Ну-ка, побыстрее! Что у вас, ноги отвалились?
И подруги бросились догонять своих спутников.
В Медакове все направились прямо в трактир. Здесь девушки подарили своим избранникам гнетанки, а те, в свою очередь, угостили их вином и яблоками. И опять все следили, кому же отдадут гнетанки Карла и Гана, и снова удивились, увидав, что Карла отдала свою Петру, а Гана съела свою гнетанку пополам с Карлой, которая купила ей яблок. Теперь-то уж все убедились, что Гана или не хочет никого выбрать, или, может быть, просто не смеет.
Молодежь возвращалась домой в сумерках. Парни были навеселе. Они шалили, боролись друг с другом, кидались снежками — короче говоря, дурачились на чем свет стоит. Девушки бежали впереди, сбившись в кучку, словно овцы. Они оставили парней и доверились Карле, которая, как пастух, вышагивала впереди, возвышаясь над своим стадом на целую голову. Девушки тоже были возбуждены, пели веселые песни, помахивая платочками, но никто из них не вел себя так дико, как парни. Поэтому парней прогоняли, а тех, кто все-таки умудрялся проникнуть в их кружок, Карла заставляла вести себя прилично.
Дома всех ожидала работа. Немало потрудились и Карла с Ганой. Потом Гана пошла в свою каморку, а Карла — в чулан, потому что она всегда спала с матерью.
— Покойной ночи, Гана! — сказала Карла, проходя мимо Ганиного окошка.
Гана поспешно отворила окно и пригласила Карлу.
— Зайди, посиди со мной немного, мне еще не хочется спать.
— Нет, Гана, я останусь тут, во дворе. А ты думай, будто к тебе под окошко пришел парень.
— Ах ты выдумщица! — засмеялась девушка. Тут она оперлась о подоконник, опустила голову на руку и, задумчиво поглядев на усыпанное звездами небо, спросила не спускавшую с нее глаз подругу: — Скажи, Карла, обратила ли ты сегодня внимание на Манку и Томаша?
— Как их не заметить? Оба так пригожи, один лучше другого. Они-то наверняка будут жить дружно, как цветы на лужайке, — ответила Карла.
— А знаешь, Карла, о чем я думаю? Ведь это большая радость, когда вот так любишь кого-нибудь, — прошептала Гана.
— Да, недаром, знать, говорится: где любовь, там и ангелы.
— Ах, Карла, боязно: вдруг меня отдадут за немилого! — вздохнула Гана.
— А зачем тебе идти за него?
— Да как же не идти? Ведь родителей не ослушаешься. Но тогда я, уж верно, умру, — сказала кроткая девушка. Две слезинки выкатились из ее голубых глаз и, как роса, заблестели на украшавшем окно зеленом мхе.
— Не плачь, Гана, тому не бывать, — перебила ее Карла и прижалась лбом к плечу подруги. — Я не допущу, чтобы тебя отдали немилому; скорее убью его. Да лучше уж я сама умру, только бы никто тебя не мучил!
— Знаю, знаю, как ты меня любишь! — горячо воскликнула Гана и погладила черные волосы Карлы.
— Ложись спать, Гана! Спокойной ночи! — проговорила та, неожиданно освободившись из объятий подруги, и Гана, привыкшая к порывистости Карлы, тихонько пожелала ей спокойной ночи и затворила окошко.
VI
Наступила масленица. Что за шум, что за суматоха с раннего утра по всей деревне! А как взбудоражены парни! Вот выбежал один из дому, другой со двора, и все разодеты, умыты, словно собрались на свадьбу.
Наконец и Петр слез с чердака, уже наполовину одетый. Его черные башмаки сияли, чулки были белы как снег. На нем красовались желтые кожаные штаны и богато расшитый короткий синий жилет на красной подкладке, застегнутый только на два крючка, чтобы всем бросалась в глаза новая, до хруста накрахмаленная рубаха. Все остальное — синюю куртку, черный шелковый платок и красную шапку — Петр еще держал в руках.
— Где это у вас, мама, было зеркальце? — обратился он к хлопотавшей у очага старостихе.
— Не приставай ко мне с пустяками. Видишь, что некогда, — проворчала мать.
Маркита подбрасывала в огонь хворост.
— А вы, Маркита, не знаете?
— Да где мне и знать-то об этом! Спроси у девчат, они в чулане.
В чулане Гана месила тесто, а Карла мастерила что-то в углу.
— Только тебя и недоставало! А ну-ка, убирайся! Разве не видишь, что у нас в руках божий дар! — закричала на брата Гана, едва завидев его.
— Не сглажу я его, только скажите мне, девушки, где у вас зеркало?
— Дай-ка я сама сделаю! — предложила Карла, подскочила к Петру и мигом повязала ему галстук. — И к чему это парню зеркало? — заметила она. — Я вот никогда о нем и не вспоминаю.
— А во что же ты глядишься, когда надеваешь венок? — полюбопытствовал Петр.
— Я гляжусь в Ганино личико, — усмехнулась Карла.
— А я в таком случае буду глядеться в твои глаза, — весело ответил парень, натягивая куртку.
— Ну, этак у тебя будет слишком тусклое зеркало, Петр, — сказала Карла, вдевая красный бант в верхнюю петлицу его куртки.
— Нет, Карла, не было бы оно таким тусклым, если бы ты нарочно не заслоняла его черными занавесками, — вздохнул Петр, проводя рукой по ее глазам.
— Гляньте-ка, как он умеет ухаживать! — воскликнула Гана.
— Небось как сбросит праздничное платье, сразу переменится, — сказала Карла и тотчас добавила: — Ну, а теперь проваливай, видишь — мы заняты!
— Ухожу, ухожу, — заторопился Петр, откидывая назад длинные черные волосы и надевая шапку. — Смотрите же, девчата, дайте парням денег побольше, а то не станем с вами танцевать, — прибавил он, выходя из дверей.
Перед домом росли две елки. Петр отломил зеленую веточку, взял ее в зубы и поспешил в трактир, где уже собрались парни с волынщиком во главе. Волынка напоминала собой букет, а ее хозяин — пышный бант. У него в петлице красовалась ветка розмарина, словно у собравшегося на свадьбу дружки. На шапке торчало петушиное перо. Парни ухаживали за волынщиком и наперебой потчевали его вином. Маленький, коренастый, непрестанно ухмылявшийся, он вертелся между ними, время от времени извлекая из волынки протяжные, жалобные звуки, доносившиеся до самой площади, где уже собрались деревенские ребятишки, чтобы поглядеть, как пойдут парни к девчатам в гости.
Так начиналась ворачка[3], которую всегда праздновали во вторник на масленицу. Парни ходили от одной девушки к другой, а те давали им деньги. На эти деньги в трактире устраивалось угощение, потом все плясали три дня и три ночи. Нога волынщика, отбивавшая такт, должна была работать без отдыха. Потому-то парни и носились с ним как с важной персоной.
Карла и Гана едва успели одеться, как во дворе загудела волынка.
— Ах, какая славная музыка! — горячо вздохнула Гана, стирая пыль со стола и лавок, и без того блестевших как зеркало. — У меня сердце так и прыгает, когда я слышу волынку!
И вот волынка заныла уже в дверях. Музыкант закатывал глаза, ухмылялся, скалил зубы, дергался всем телом из стороны в сторону, как будто у него начинались судороги. Это забавляло всех, и молодежь хохотала до упаду. Зато старостиха и угостила его первого пирожками, а староста похлопал по плечу и сказал:
— Значит, верно я говорю, что лучше стражского волынщика не сыщешь.
Волынщик ничего не ответил на любезность, только еще сильнее сдавил инструмент и подпрыгнул. А Гана стояла у стола и с такой нежностью смотрела на артиста, что ему позавидовали все парни. Но вот она подала гостям серебряный талер, Карла — рейнчак, и парни отправились в следующий дом. Так они обошли все дворы, а потом потянулись к трактиру. Тем временем девушки надели праздничные платья и поспешили туда же. Парни встретили их песнями и музыкой и угостили сладкой водкой; затем начались танцы.
Карла с Ганой пришли вместе и вместе же ушли. Да и танцевали-то они все больше друг с другом. Когда в пылу веселья какой-нибудь парень прижимал Гану к себе ближе, чем этого требовал танец, Карла так сильно наступала виновнику на ногу, что тот даже приседал с воплем:
— Побойся бога, ведь ты мне совсем ноги отдавишь!
— Пустяки! Зато я славно погуляю на твоей свадьбе, — потешалась над ним Карла, не переставая кружиться.
— Честь имею, кума, надо бы и нам с тобой сплясать, чтобы у тебя уродился высокий лен, а у меня не свело под коленками жилы, — заявил развеселившийся Барта Марките, встретив ее у трактира в первый день праздника.
Последнее время они немного не ладили, потому что Барта чересчур часто напоминал ей о том, что Карле пора замуж. Маркита ведь не знала, что к служивому приставал Петр, уговаривал быть посредником в этом деле.
— Мне не до плясу, но коли иначе нельзя, так уж ладно, — недовольно ответила женщина.
— Да что это с тобой, кума? Похоже, у тебя душа не на месте. Что это ты от меня скрываешь? Ведь я тебе, честь имею, не чужой.
— Да чего мне скрывать? Видела я во сне покойника Драгоня, и думается мне, что нет ему покоя на чужой стороне. Вот и решилась сходить весной на Святую гору помолиться. А тебе он не привиделся часом?
— Славно придумала, кума! Я, честь имею, тоже собираюсь в Клатов за оловом. Тогда мы выступим в поход вместе. Бедняга Драгонь и мне не раз снился.
— Скажи-ка, голубчик, он ничего такого не говорил тебе? — спросила Маркита, вся трепеща.
— Как же! Постой-ка! А вот как он мне недавно привиделся: я, честь имею, обучал его артикулу, а он назвал меня дураком и не захотел подчиняться моей команде. Так точно оно и бывало в прежние времена. Драгонь был добрый малый, но до чего упрям! Карла вся в него. А что такое творится с девчонкой? Она давно какая-то невеселая, и лицо у нее такое хмурое.
— И-и, кум, девушки все так. То хмурятся, то смеются, — отвечала Маркита.
— Честь имею, кума, ты, конечно, не дашь мне и слова промолвить, но смотри, вспомнишь еще меня: ведь Карла любит Петра... Я бы хотел...
— Не болтай зря, — оборвала его Маркита, и они вошли в трактир, до отказа набитый молодежью.
Барта непременно принялся бы накручивать ус на палец, если бы ему не пришлось помогать себе локтями, чтобы пробиться к столу, где сидели пожилые люди.
Первый день праздника прошел очень весело. Назавтра после обеда Барта привел в трактир нового гостя. Это был его племянник, который пришел в отпуск из Пльзена погостить на праздники. В Страже парня уже знали, и молодежь приветствовала его веселым криком. Солдат тотчас же сбросил мундир и пустился в пляс. Он был красивым парнем. Все девушки исподтишка любовались им. Одной нравилось его лицо, другой — военный мундир, третьей — ловкость в танцах, что почиталось главным достоинством.
— Карла, — сказала Гана, когда они поутру шли доить коров, — а ведь племяннику Барты очень пристал мундир, не правда ли?
— Не скажу. Да и что ты в нем нашла? Он просто пустой вертопрах, и голова у него такая рыжая, разве ты не приметила? — отвечала Карла, и ее темные глаза испытующе остановились на лице подруги.
— Не приметила. Зато мне военное платье очень нравится.
— Об этом ты мне еще никогда не говорила, — упрекнула ее Карла.
— Да оно мне только сегодня и бросилось в глаза, — равнодушно проговорила Гана, от души зевнула и устало опустилась на лавочку в хлеву. — У меня глаза совсем слипаются, — призналась она подруге, — я уж больше ничего не вижу. Упала бы сейчас хоть на камень и уснула бы как убитая. А ведь нам нужно подоить коров и снова танцевать. Вот будет дело, если завтра мы...
Она не договорила, прислонилась головой к стене и уже спала.
Карла с минуту постояла возле девушки, скрестив на груди руки, пристально поглядела ей в лицо, потом с глубоким вздохом взяла подойник и принялась за дело. Прибежавшая следом за ними молоденькая служанка хотела разбудить Гану, но Карла не велела — она-де и одна со всем справится. Через час работа была закончена, а Гана все еще спала. Теперь девушкам опять нужно было идти на танцы, иначе парни подняли бы их на смех: вот, мол, сони, у них отвалились ноги! А они ни за что на свете не согласились бы так опозориться.
VII
На третий день праздника парни с раннего утра разгуливали по деревне. Они рядились кто во что горазд, всех поддразнивали, и даже старухам, на которых они нежданно-негаданно нападали, — и тем приходилось попрыгать с ними. «А ну-ка, наддай, чтобы конопля уродилась повыше!» — кричали парни, подбрасывая ввысь бабушек. Один из них вырядился медведем, другой опутал себя горохом, а вместо головы выставил большую брюкву, третий бегал на четвереньках и хватал за ноги всех встречных. Скажем прямо: они дурачились как могли, и чем глупее была шалость, тем больше она всем нравилась. Играли и танцевали до самой ночи.
Вечером пожилые женщины ушли из трактира, с ними и Маркита. Тогда Карла подсела к Барте и шепнула:
— Крестненький, сделайте для меня, о чем я вас попрошу!..
— Говори смело. Ты ведь знаешь, что я, честь имею, и радугу снял бы для тебя с неба, будь это возможно.
— Зачем она мне? Одолжите-ка лучше платье вашего племянника, я хочу нарядиться солдатом. Только никому ни слова!
— Вот чертенок! Ладно, я это сделаю. А ты гляди веселее, — согласился Барта и погладил усы.
— Да я буду смеяться и шутить хоть до завтра, раз вы этого хотите, только исполните, о чем я прошу.
Барта отозвал в сторонку родственника, переговорил с ним, тот все понял, и оба вышли. Следом за ними выскользнула и Клара. Никто ничего не заметил.
Вскоре Барта привел в трактир солдата и молодого крестьянина. Деревенский парень тотчас привлек всеобщее внимание, потому что у него были коротко подстрижены волосы, на солдата же сперва никто не взглянул, так как все приняли его за молодого Барту.
— Поглядите-ка, да ведь Ирка Бартов стал нашим братом мужиком! — послышалось вдруг, и парни обступили вошедших, осматривая их с головы до пят.
— Батюшки, так это ж Карла! — вскричал Петр, ударив по плечу переодетую девушку.
— Этот-то небось сразу узнал! — засмеялся служивый. Карлу окружили. Ее вертели во все стороны, то и дело восклицая:
— Глядите-ка, будто на нее и сшито! А ведь правда, что штаны пристали ей больше, чем юбка?
— А ну-ка, пустите меня. Сегодня я хочу быть настоящим парнем, — заявила Карла, сильной рукой расталкивая молодежь.
— А как же нам величать тебя, если ты хочешь быть парнем? — спросил кто-то.
Карла смутилась. Но племянник Барты мигом решил:
— Каролина и Карел — одно и то же имя; давайте звать ее Карел.
— Правильно, пусть она теперь будет Карел, — согласились все.
Карел — так и мы теперь будем называть Карлу — взял со стола стакан вина, подошел к Гане, обнял ее, дал ей пригубить, а потом, высоко подняв чарку, выступил на середину круга и запел звучным голосом:
— Спасибо, спасибо Моей милой маме, Баюкавшей сына В пестром одеяле. Качала, растила, Для кого — не знала, А теперь сыночка В солдаты забрали.Парни повторили под волынку последний куплет. Карел же, осушив стакан до дна, еще крепче обнял Гану, и они закружились, как веретена.
— Честь имею, соседка, — обратился к старостихе повеселевший Барта, — если бы этот парень не был девчонкой, то я бы сказал, что он парень, и парень что надо!
— Вот именно, Барта, если б тетка не была бы дядей, то наверняка уж была бы теткой; да вот, кстати, и Барта, если бы не хлебнул лишнего, так не тянул бы себя за нос, — пошутила старостиха, видя, что служивый не может найти свои усы.
Солдат хотел ей что-то ответить, но тут подошел Карел и пригласил хозяйку на танец. Старостиха пошла с ним — ведь в конце концов все это было только шуткой!
— Послушай, ты сегодня уже потанцевала со всеми, пойдем-ка теперь со мной, — предложил Петр, пойман Карела за полу.
— Танцевать парню с парнем — все равно что есть хлеб с хлебом, — со смехом ответил тот.
— Да куда уж тебе! Ты парнем не станешь, хотя бы у тебя и борода выросла, — съязвил Петр.
— Оставь-ка, Петр, свои шуточки, не то подеремся: ведь я тебе не Карла! — И, наклонившись к уху парня, Карел шепнул: — Послушай меня да займись-ка Якшовой Барой. Эта девушка — сущий клад и любит тебя. Я точно знаю.
Петр не успел и рта раскрыть, а Карел уже опять танцевал с Ганой.
С той минуты, как Карла переоделась, Гану словно подменили. Она отлично знала, что с нею все та же Карла, но когда подруга обнимала ее, когда шептала ей: «Моя милая, моя дорогая Гана»! — сердце девушки странно замирало. Она не понимала уже, где она, что с ней, и то бледнела, то разгоралась, как калина.
— Меня точно кто околдовал с тех пор, как ты надела это платье. И голова кружится! Видно, нас с тобой сглазили, — жаловалась Гана, отдыхая после танца.
— Оботри лицо платочком, — посоветовал ей Карел. Девушка послушалась, но и это не помогло. Стоило только Карелу взглянуть ей в глаза и пожать руку, как она опять становилась сама не своя.
Было около полуночи, когда молодежь начала собираться домой. С песнями и музыкой провожали парни девушек. Гана и Карел шли первые: они ведь больше всех дали на ворачку, а Гана к тому же была дочкой старосты.
— Так сдержи свое слово! — напомнил племянник Барты Карелу, когда тот входил с Ганой в свои ворота.
— Конечно, сдержу, — отвечал Карел.
Петр не пошел домой. Он сердился на Карлу и, решив насолить ей, провожал Бару.
— Гана! — начал Карел, войдя в каморку и садясь рядом с ней на сундук. — Скажи мне, Гана, это правда, что я тебе нравлюсь в таком виде и ты пошла бы за меня, если б я и в самом деле был парнем?
— Ни за кого другого! Ты мне так нравишься в мундире! — воскликнула девушка и, как обычно, обняла свою подругу. — Да будь ты парнем, уж я бы до самой смерти не пошла ни за кого другого, — прошептала она, опуская усталую голову на плечо Карела.
— Так обещай же мне это перед богом и дай руку! — серьезно сказал Карел. Гана уже не ведала, что творила. Сначала она приняла все это за шутку, но теперь ей было не до веселья. Голос Карела проник ей в сердце, и, подавая ему руку, она проговорила:
— Обещаю.
— Смотри же, запомни свои слова, что бы ни случилось, — сказал Карел. Сильными руками обняв Гану, он целовал ее лицо и глаза, называл ее самыми нежными именами, и девушка горячими поцелуями отвечала на его ласки. — Ну, а теперь ложись спать. Да хранит тебя бог. Помни же, что ты мне обещала!
Карел выпустил Гану из объятий и побежал к себе.
Вскоре он вышел из чулана, тихонько подкрался к Ганиному окошку, приклонил голову к холодной стене и горько заплакал. Потом перекрестился, долгим взглядом простился с родным домом и неслышно вышел за ворота.
VIII
Едва рассвело, как Маркита уже встала. Женщине не спалось. Страшный сон напугал ее ночью, да и Карлы не было, как обычно, рядом. Маркита отправилась на поиски дочери. У крестьян нет обычая запирать двери. Стоит поднять щеколду и повернуть ручку, как попадешь даже в хозяйскую горницу. Беспрепятственно вошла Маркита в дом. Здесь был полный покой. В полумраке она смогла разглядеть только приютившегося на печи котенка. Услышав Маркиту, он спрыгнул на пол и стал к ней ластиться. В клетке ворковали голуби, которых держали на случай зубной боли[4]. Полотняный полог у кровати был опущен, а это свидетельствовало о том, что хозяин и хозяйка еще утопают среди перин, наваленных чуть ли не до потолка.
У колодца умывалась молоденькая служанка.
— А где Карла? Она еще не поднялась? — спросила Маркита.
— Не знаю, может быть она у Ганы.
— Боже упаси! — простонала Маркита и поспешила в каморку. Там на открытой постели спала девушка, такая красивая, что казалось — на подушку упала роза. Маркита, поглядев на спящую, шепнула: «Благослови тебя господь!» — и вышла; Карлы здесь не было. Она полезла на чердак. Там храпел Петр, будто орехи пересыпал. Карлы не было и тут. Не было ее ни в хлеву, ни на конюшне, ни в сарае. «Где же сыскать непутевую девчонку?» — огорчалась Маркита. Как потерянная бродила она с места на место, перебирая четки. Бесплодное ожидание измучило ее. Она уже решила помочь служанке покормить скот, но, услышав из горницы голос хозяина, побежала туда.
— С добрым утром! Не знаете ли вы, куда запропастилась моя Карла? Я обшарила все углы.
— А у Ганы ты была? — спросила старостиха.
— Недавно оттуда, но, кроме нее, там ни души.
— Так, может быть, она заночевала у Барты? Эх, и обрадовался же он, когда Карла нарядилась солдатом! А ведь в самом деле из нее получился статный малый, — заметил Милота, потягиваясь чуть ли не до потолка и зевая во весь рот.
— О чем это ты, хозяин? Кто парень? Что говорил Барта? — заволновалась Маркита и вдруг страшно побледнела.
— Так ведь молодой Барта одолжил Карле свою одежду, а та разыгрывала в ней парня.
— Несчастная! И кто же это ее надоумил? — воскликнула бедная мать.
— Что с тобой, Маркита? Ведь Карла не сделала ничего дурного. Ей очень пристало военное платье. Все в один голос твердили, что она настоящий парень, а Барта — так тот сказал, что если бы покойник Драгонь...
— Что, что Драгонь?.. — закричала вне себя женщина. — Ох, да он, наверное, приснился Барте и рассказал ему все... А может быть, сам парень рассказал все Барте... Ох, и разнесчастная моя головушка! Вот как господь бог наказывает меня, — убивалась Маркита, ломая руки.
Хозяева ничего не понимали.
— Какой там парень, Маркита? Ты что, бредишь? Уж не больна ли? — спросила ее старостиха.
— Нету, нету ему покоя и в могиле! Согрешили мы перед богом, его мучит совесть и мне не дает спокойно спать. Что же мне теперь делать? Отнимут у меня сына, и умрет он там на чужбине.
Старостиха побледнела.
— Да говори ты толком, что случилось, — приказал хозяин, встряхнув Маркиту за плечи.
— Простите вы меня, люди добрые... Посоветуйте, как быть... Я не знаю, что и делать. Карла-то ведь не девочка, она мальчик! — вскричала Маркита, уронила голову на руки и зарыдала.
Милота и его жена остолбенели, словно их громом поразило.
— Да что ты, милая? Слыханное ли это дело! Такого и быть не может. Как же все это случилось? — спросил Милота.
— Сейчас я расскажу вам, как это случилось, — вздохнула Маркита, и точно гора свалилась у нее с плеч.
— Ведь вы знаете, — начала она, — как горевал покойник Драгонь оттого, что должен был идти в солдаты. А сколько слез пролила я в ту пору! Умер наш первый ребенок — мы и не жалели, потому что был он мальчик. Как молили мы бога, когда я опять понесла, чтобы наградил он нас дочкой! Но господь рассудил по-своему — опять у нас народился сын. Тут-то мы и согрешили. Чтобы спасти его от солдатчины, обманули добрых людей и выдали ребенка за девочку. Но бога-то ведь не обманешь! Когда умер Драгонь, девочка, вернее сказать — мальчик, была моей единой отрадой. Как я следила, чтобы не открылся наш обман! Ведь Барта — и тот ничего не подозревал: вы помните, как отвечал он на болтовню. Пока паренек был мал, все шло хорошо, но чем становился старше, тем сильнее его одолевала природа, и только мои слезы принуждали его молчать. «Потерпи еще немножко, пока не перейдешь рекрутский возраст, иначе не миновать тебе солдатчины, — уговаривала я его. — А там сам бог нам уж как-нибудь поможет». Но он становился все скучнее и скучнее и твердил свое: «Знаете что, мама, многие идут в солдаты и потом возвращаются; отчего бы и мне не пойти? Разве я хуже других, не бойтесь за меня». Но я никак не могла решиться. А тут и Драгонь стал сниться мне каждую ночь, да все такой невеселый, что сердце изболелось. Поняла я тогда, что мы с ним согрешили, не надо было нам делать этого. А в воскресенье, как сказал священник, что господь наказывает тех, кто противится его законам, у меня прямо мурашки по спине пошли, не могла себе места найти. Задумала сегодня пойти к исповеди и посоветоваться со священником. Но господь рассудил иначе: моя тайна открылась. Однако кто же рассказал обо всем Барте? Видно, сам парень?
— Нет, не думаю я, чтобы Барта знал что-нибудь. Все открылось случайно. Бог помутил твой рассудок, Маркита, вот ты сама и проговорилась.
— Ну что ж, пусть будет так! Зато теперь и я успокоюсь, и душе покойника будет легче. Сегодня он опять причудился мне между двенадцатью и часом ночи. Я видела его перед собой так, как тебя, но будто в тумане: однако ж разглядела, что на нем был военный мундир. Драгонь был такой молодой, только грустный. Я не могла и рукой двинуть, хотя что хочешь готова дать, что не спала. Помнится, он хотел перекрестить меня, но тут запел петух, и все пропало. Я молилась до самого утра.
Пока Маркита рассказывала, дом ожил. В горницу вошел Петр, потом Гана. Карлы так и не было.
— Где же Карла? — спросила старостиха.
— Да где ей быть? — ответил Петр. — Она пошла домой вместе с Ганой, и больше я ее не видел.
— А я видел Карлу этак через час после полуночи, — отозвался батрак.— Она стояла с племянником Барты возле его дома.
— Что? С кем стояла Карла? Да у тебя куриная слепота! — вспылил Петр.
— Ну, раз у меня куриная слепота, тогда нечего и спрашивать, — проворчал батрак.
— А ну-ка, Ирка, сбегай к Барте да узнай, не там ли Карла! — приказал Милота батраку, и тот немедля отправился.
— Вот что, Петр, не злись понапрасну. На Карле поставь крест. Она такой же мужик, как ты или я,— объявил сыну староста.
Петр сначала не понял отца, и тот кратко рассказал ему обо всем.
Зато Гана тотчас поняла, в чем дело. Она бредила Карелом целую ночь и, проснувшись поутру, все еще слышала его ласковый голос и ощущала на губах его поцелуи.
— Ах, если бы только все это была правда! — шептала она в слезах.
Да, Гана сразу все поняла, сразу поверила!
— Ну и что ж, я потерял невесту, зато нашел хорошего товарища, — весело решил Петр.
— Добро! — поддержал его отец.
А Гана плакала, уткнувшись в фартук.
— О чем ты плачешь, дочка? — спросила мать и заглянула в лицо ей. Она, вероятно, угадала, что происходило в душе дочери, и сказала необычайно мягко: — Перестань, Гана, успокойся! Я потеряла дочь, а ты подружку, зато ведь у отца стало сыном больше. Бог даст, все уладится. А раз нас сегодня меньше, то нужно поторапливаться. Пойди, девочка, скорее приготовь работникам завтрак! — Старостиха взяла дочь за руку и увела ее из горницы.
Тут возвратился батрак и сообщил, что Барта с племянником и Карлой отправились ночью в Кдыню, повез их брат Барты, и к восьми часам они обещали воротиться.
Рыданиями встретила Маркита эту новость, с трудом удалось Милоте ее успокоить. Еле-еле дождались они восьми часов. Петр даже навстречу вышел. Служивый сдержал слово: они вернулись, но без Карлы. Всю дорогу Барта то гладил, то крутил свои усы, он был не в духе и ворчал: «И зачем только я впутался в эту историю?».
Завидев Петра, он побледнел, но Петр сам подошел к нему, спросил о Карле и рассказал, что произошло в их доме.
— Ты снял с моей души камень, Петр, — обрадовался Барта и с легким сердцем поспешил к старосте.
— Ну, кума, честь имею, — зашумел он еще в дверях, — что это за дьявольские шуточки! Да знай я все это раньше... Ну, теперь уж ладно. Карла — или, вернее, Карел — кланяется тебе и вам всем тоже. У тебя, кума, он просит прощения, но говорит, что дольше не мог терпеть. Ты, Маркита, не плачь, а помолись, чтобы он вернулся здоровым. Парень ведь уже выехал в Прагу, честь имею, к пану надпоручику и сам вызовется идти в солдаты.
Маркита поняла, что теперь уж ничего не изменишь, и горько заплакала.
— Э, брось-ка! Ведь Карел отлично сделал. Кум похлопочет о нем, и он будет, честь имею, капралом. Ты не беспокойся, я парня уже вымуштровал — артикул и есть самое трудное на военной службе. Да, вот еще: он велел передать, что был у тебя ночью — хотел проститься, но ты спала. Так-то и лучше — обошлось без лишних слез. А твое дело, Петр, говорит он, подумать о Баре. Тебе же, Гана, он посылает вот это и наказывает не забывать своего обещания.
С этими словами Барта вытащил из кармана красный платок и подал его девушке. В нем были пояс и девичий венок ее бывшей подружки.
Гана плакала навзрыд.
— Ну а теперь положимся на бога, ему лучше известно, что кому уготовано. Весной, если будем здоровы, посмотрим и мы на Прагу. А сейчас за работу, а потом в костел: начался великий пост, — сказал Милота, и все послушно отправились по своим местам.
Когда весть об этом происшествии разнеслась по деревне, кумушки тотчас подхватили: «Да ведь мы и раньше говорили, что тут что-то неладно!».
IX
Пан надпоручик (к этому времени он стал гетманом[5]) принял Карела очень хорошо, хотя, как и следовало ожидать, поругал Маркиту за глупость. Сначала парень скучал и уже боялся, что заболеет «тоской по родине», но твердая воля помогла ему все преодолеть. Он был усерден в учении и вскоре завоевал расположение начальства.
В ту пору срок солдатской службы был сокращен с четырнадцати до восьми лет. Мог ли кто этому радоваться больше, чем Карел и его близкие в Страже! А Гана, хоть и помолилась горячо за императора, но ей этот срок казался слишком долгим. На святого Яна Милота, Гана и Маркита отправились на богомолье в Прагу. Гана ничего не видела вокруг себя, ничего не слышала. Она глядела только на своего Карела, который казался ей в тысячу раз лучше, чем прежде. И сама Маркита, как ни щемило у нее сердце, порадовалась, глядя на сына, — так он был красив в военном мундире. Да, если бы не разлука и не восьмилетняя солдатчина, все было бы хорошо!
Петр убедился, что Карел был прав, когда расхваливал Бару и говорил, что она его любит. Он долго не раздумывал и в тот же год сыграл свадьбу. В отпуск Карел пришел десятником. Это очень обрадовало Барту: ведь если он любил Карлу, то Карел был ему еще больше по душе.
Минуло три года. На четвертый Карел стал фельдфебелем. Теперь он уже был настоящим паном, мог бы дойти и до офицерского чина, потому что его ценили на службе, но вдруг так затосковал по горам и по Гане, что охотно бы променял и генеральский мундир, имей он только его, на деревенскую свитку.
Его состояние, вероятно, передалось и Гане. Из нее, казалось, ушла вся жизнь; в родных горах девушка тосковала по далекой Праге.
— Ну нет! Так продолжаться не может! Что это, в самом деле, один здесь, другой там! Соединить бы их, тогда было бы покойнее. Испеки-ка мне, мать, чего-нибудь в дорогу, а ты, Ирка, подмажь телегу — завтра поеду в Прагу! Надо разузнать кое о чем! — заявил однажды Милота.
Батрак отлично подмазал телегу, старостиха с Ганой напекли пирогов, и на следующий день хозяин уехал.
— Радуйся, Гана, все улажено! — объявил он, возвратившись.
Вскоре пришел, отбыв воинскую повинность, Карел. Он стал дельным хозяином и, кажется до сих пор благополучно здравствует со своей Ганой.
Примечания
1
Так домажлицкие крестьяне называют девичью повязку из белого полотна. (Здесь и далее примечания переводчиков. — Ред.).
(обратно)2
У чехов и немцев, населяющих пограничные районы, было принято посылать в знакомые семьи своих детей, главным образом мальчиков, для обучения их ремеслу и языку.
(обратно)3
Ворачка (от глагола vorač — «пахать») — старинный обряд. Обходя девушек, парни как бы «перепахивали» деревню, иногда они даже тащили за собой соху.
(обратно)4
Домажличане успокаивали зубную боль, приложив к щеке вместо грелки живого голубя.
(обратно)5
Гетман — воинский чин в австрийской армии.
(обратно)
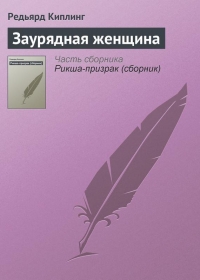
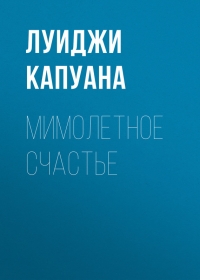
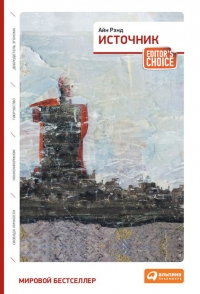
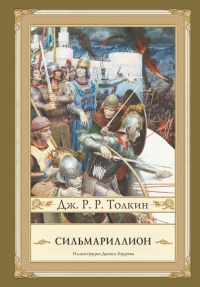
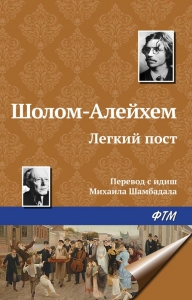




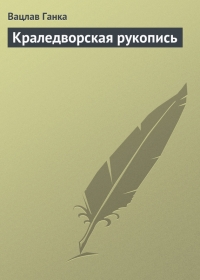
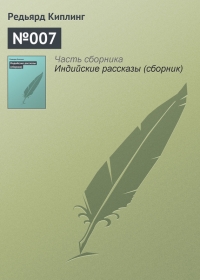

Комментарии к книге «Карла», Божена Немцова
Всего 0 комментариев