Сэмюэль Беккет Первая любовь (сборник)
© «Текст», издание на русском языке, 2015
* * *
Первая любовь
В потоке времени я связываю, по праву или ошибочно, свой брак со смертью отца. Не исключено, что между двумя этими событиями существуют и другие связи, в иных плоскостях. Мне и так достаточно тяжело рассказывать о том, что я будто бы знаю.
Недавно я посетил могилу отца, это я знаю точно, и запомнил дату его смерти, только смерти, так как дата его рождения не имела для меня значения, в тот именно день. Я отправился в путь утром и вернулся затемно, слегка перекусив на кладбище. Однако спустя несколько дней, желая узнать, в каком возрасте он умер, я вынужден был вернуться на кладбище, чтобы установить дату его рождения. Две эти предельные даты я записал на клочке бумаги и сохранил его при себе. Таким образом, я могу утверждать, с известной степенью уверенности, что ко времени моего супружества мне было около двадцати пяти лет. Ибо дату моего рождения, повторяю, моего собственного рождения, я никогда не забывал, мне никогда не приходилось ее записывать, она вычеканена в моей памяти, по крайней мере год, в цифрах, которые жизни непросто будет вытравить. Но также не забыт и день, если, конечно, я предпринимаю попытку его вспомнить, а я часто его праздную, по-своему, конечно, не скажу, что каждый год, нет, ведь он возвращается часто, увы, слишком часто.
Лично я ничего не имею против кладбищ, я прогуливаюсь по ним охотно, даже более охотно, чем в других местах, то есть в тех случаях, когда есть необходимость выйти наружу. Запах трупов, который я явственно ощущаю пробивающимся из-под дыхания травы и перегноя, не неприятен мне. Возможно, он чуть сладковат, чуть затуманивает голову, но насколько же он предпочтительнее, чем запахи живых, запах от их подмышек, ног, жоп, липкой крайней плоти и обманутых в ожиданиях яичников. А когда в дело вступают останки моего отца, сколь бы скромным ни был его вклад, на глаза мне едва не наворачиваются слезы. Живые могут мыться сколько им угодно, ну или душиться, все равно они смердят. Так что если говорить о прогулках, когда есть необходимость выйти, предоставьте мне кладбища, а сами ступайте гулять в общественных парках или в сельской местности. Свой сандвич или банан я с гораздо большим аппетитом поедаю сидя на могильном камне, а если меня охватит нужда помочиться, как это часто случается, то и тут у меня большой выбор. Или же я прогуливаюсь, заложив руки за спину, между надгробий, стоящих, плоских или покосившихся, и собираю эпитафии. Они меня никогда не подводят, эпитафии, всякий раз встретится несколько строк таких уморительных, что я вынужден схватиться за крест, или за стелу, или за ангела, чтобы не упасть. Что до своей собственной, я сочинил ее уже давно, и меня она всегда устраивала, вполне устраивала. Иные мои сочинения – не успеют чернила высохнуть, как они вызывают во мне отвращение, но вот эпитафия нравилась мне всегда. К сожалению, вероятность того, что эти строки когда-либо покинут череп, их породивший, крайне мала, если только за дело не возьмется государство. Однако прежде чем меня выкопать, им пришлось бы меня найти, а я опасаюсь, что государству найти меня мертвым будет не проще, чем живым. По этой причине я спешу запечатлеть эпитафию здесь, пока не слишком поздно:
Покойный Так долго жизни избегал венца, Что лишь теперь не избежал конца.Здесь нелады с силлабикой, но это не имеет значения, мне так кажется. Мне и не такое простят, когда меня не станет. Или вот еще, если повезет, можно наткнуться на настоящие похороны со всеми приличествующими случаю обстоятельствами, как-то: живые в трауре, а иногда и вдова, готовая броситься в разверстую могилу, и почти всегда забавная сценка с горстью праха или пыли, хотя я всегда замечал, что пыли-то в этих ямах никакой нет, а есть почти всегда одна только жирная земля, да и покойный, говоря по правде, не слишком пылевиден, если только не сильно обгорел. Так или иначе, но она веселая, эта комедия с горстью праха. Но вот к отцовскому кладбищу я не питал особой привязанности. Оно находилось в отдалении, в совершенном захолустье, на склоне холма, и было слишком маленьким, чересчур маленьким. К тому же оно было почти заполнено, если можно так выразиться, еще несколько вдов, и места не останется совсем. Гораздо больше мне нравилось кладбище Олсдорф, особенно участок Линна, в прусских землях, четыреста гектаров теснящихся мертвецов и ни одного знакомого, то есть из них я не знал никого, кроме укротителя Хагенбека, да и того понаслышке. Помнится, на его надгробии выгравирован лев. Должно быть, Хагенбеку смерть явилась в облике льва. Взад и вперед ездят автомобили, набитые вдовцами, вдовами и сиротами. Рощицы, гроты, водоемы с лебедями несут утешение скорбящим. Дело было в декабре, я никогда так не мерз, суп из угря камнем лежал в желудке, я страшился смерти, мне пришлось остановиться и проблеваться, я им завидовал.
Однако перейдем к сюжету менее печальному: после смерти отца мне пришлось покинуть дом. Ему самому хотелось, чтобы я продолжал жить в доме. Он был странный человек. Однажды он сказал: «Оставьте его в покое, он никому не мешает». Он не знал, что я подслушиваю. Эту мысль он, вероятно, высказывал не раз, но в других случаях меня не было рядом. Они так и не показали мне его завещание, а только сказали, что он завещал мне известную сумму денег. Я думал тогда и думаю по-прежнему, что в завещании он просил, чтобы мне предоставили ту же комнату, которую я занимал при его жизни, и чтобы мне приносили поесть, как и прежде. Не могу исключать и того, что последнее условие он выставил в качестве обязательного. Наверное ему нравилось чувствовать мое присутствие в доме, а иначе он не стал бы выступать против того, чтобы меня выставили вон. Может быть, он просто жалел меня. Впрочем, не думаю. Ему следовало завещать мне весь дом, тогда мне было бы спокойно, да и другим тоже, ведь я бы сказал им: «Оставайтесь, вы же у себя дома!» Дом был огромный. Да, его обдурили на всю железку, моего бедного отца, если, конечно, в его намерения действительно входило защищать меня даже из могилы. Что касается денег, будем справедливы, деньги они отдали мне сразу, назавтра после похорон. Возможно, что поступить иначе они просто не могли. Я сказал им: «Оставьте эти деньги себе и позвольте мне жить здесь, в своей комнате, как при жизни папа́». Я добавил: «Упокой Господь его душу», – в надежде их растрогать. Но они отказались. Я предложил поступить в их услужение на несколько часов в день, для выполнения мелкой починки и ремонта, в котором нуждается всякий дом, чтобы не рассыпаться в прах. Изготовление поделок, вот еще одна возможность, предложил я им уж не знаю почему. В частности, я предложил им заняться теплицей. Там я охотно проводил бы три или четыре часа в день, в оранжерейном тепле, ухаживая за томатами, гвоздиками, гиацинтами и другими растениями. В этом доме никто, кроме меня и отца, не разбирался в томатах. Но они отказались. Однажды, возвращаясь из уборной, я обнаружил, что дверь в мою комнату заперта на ключ, а мои вещи свалены в кучу перед дверью. Любопытно, способны ли вы понять, насколько жестокие о ту пору у меня случались запоры. Думаю, что запоры были следствием тревоги. Но были ли то действительно запоры? Не думаю. Тише, тише. Все же весьма вероятно, что я страдал от констипации, а иначе как объяснить эти долгие, эти жестокие сеансы в ватерклозете? Я никогда и нигде не читал, а в уборной еще меньше, чем где-либо, не мечтал и не размышлял, а только тупо смотрел на календарь, висевший на гвозде на уровне глаз, где был изображен, в цвете, бородатый юноша в окружении баранов, должно быть, Иисус, и раздвигал ягодицы руками, и толкал – раз! ух! два! ха! – с движениями гребца, и не было у меня никакого иного желания, кроме как вернуться в комнату и вытянуться на кровати. Похоже на запор, правда? Или я путаю с поносом? Все перемешалось в голове, кладбища и свадьбы, и вариации стула. Вещей было немного, они свалили их на пол, перед дверью, я все еще могу представить себе эту кучу в заполненной глубокой тенью нише, отделявшей коридор от моей комнаты. В этом крошечном пространстве, лишь с трех сторон закрытом от взглядов посторонних, мне и предстояло сменить домашний халат и ночную рубашку на выходную одежду, то есть носки, туфли, брюки, рубашку, пиджак, пальто и шляпу, надеюсь, я ничего не забыл. Прежде чем покинуть дом, я попытался открыть другие двери, поворачивая ручки и толкая, но ни одна не поддалась. Если бы мне удалось найти открытую комнату, мне кажется, я бы там забаррикадировался, выкурили бы меня только газом. Я ощущал, что в доме, как обычно, полно людей, но никого не встретил. Наверное, все, насторожившись, закрылись у себя. Потом, при звуке захлопнувшейся за мной входной двери, каждый бросился к окну, остановившись в шаге от проема, надежно укрытый шторами. А потом внутренние двери в доме распахнулись, и все вышли из своих комнат, мужчины, женщины и дети, и тут возникли голоса, и вздохи, и улыбки, и руки, и ключи в руках, и шумный выдох облегчения, а потом раздались быстрые слова приказов и распоряжений – если так, то эдак, но если эдак, то так, – воздух наполнился праздником, всем все стало понятно, к столу, к столу, комната может подождать. Сценка, конечно, разыгрывалась в моем воображении, ведь меня в доме уже не было. Все прошло, возможно, иначе, но какое имеет значение, как проходят те или иные вещи, коль скоро они проходят? Вообразить себе все губы, целовавшие меня, все сердца, любившие меня (ведь любят сердцем, не так ли, или я что-то путаю?), все руки, игравшие с моими, и умы, чуть мной не овладевшие! Люди – действительно странные существа. Бедный папочка, он, должно быть, чувствовал себя совершенно оплеванным, если только он мог меня видеть, видеть нас, оплеванным за меня, я хочу сказать. Если только, в великой своей бестелесной мудрости, он не заглядывал дальше, чем его сын, чей труп тогда еще не был вполне готов.
Однако перейдем к сюжету более веселому: имя женщины, с которой мне предстояло вскоре соединиться, ее уменьшительное имя, звучало как Люлю. По крайней мере, она уверяла меня в этом, и я не вижу, какая выгода ей могла быть в том, чтобы обманывать меня в данном вопросе. Но наверное сказать невозможно. Не будучи француженкой, она говорила – Лулу. Да и я тоже, не будучи французом, произносил вслед за ней – Лулу. Так мы оба и говорили – Лулу. Она сообщила мне и свою фамилию, но я позабыл. Мне следовало записать ее фамилию на клочке бумаги, ведь я не люблю забывать собственные имена. Я познакомился с ней на скамейке, на набережной канала, одного из каналов, так как в нашем городе их два, правда, я никогда не умел их различать. Скамейка оказалась очень удачно расположена, спинкой она подпирала насыпь из земли и твердого мусора, так что тылы мои были надежно прикрыты. Но и с боков меня защищали два почтенных, настолько почтенных, что они высохли, дерева, высившихся по обе стороны скамейки. Несомненно, что именно эти деревья в ту пору, когда на них еще колыхалась роскошная листва, подсказали кому-то мысль о том, чтобы установить здесь скамейку. Передо мной, всего в нескольких метрах, струился канал, если каналы струятся, я понятия об этом не имею, так что и с этой стороны опасность быть застигнутым врасплох представлялась ничтожно малой. И все же она застала меня врасплох. Я растянулся на скамейке, вечер был теплый, и сквозь голые ветви двух деревьев, сцепившихся высоко надо мной, сквозь редкие облака глядел на мерцающий уголок звездного неба.
– Подвинься, – сказала она.
Моим первым побуждением было уйти, однако усталость и то обстоятельство, что я не знал, куда идти, заставили меня остаться. Я чуть поджал под себя ноги, и она села. Тем вечером между нами ничего не произошло, и вскоре она ушла, не сказав мне больше ни слова. Она лишь тихонько напевала, к счастью без слов, какие-то старые народные песенки, причем напевала странно, урывками, перескакивая с одной мелодии на другую, а затем возвращаясь к той, которую недавно прервала, так и не закончив песню, которую она предпочла предыдущей. Она фальшивила, но тембр голоса был приятный. Я почувствовал в ней душу, которая быстро утомляется и никогда ни в чем не достигает успеха, то есть разновидность души наименее задристывающую. Даже скамейка вскоре ей наскучила, а что до меня, ей хватило одного брошенного на меня взгляда. В действительности она оказалась женщиной исключительно упорной. Она явилась назавтра и еще через день, причем события развивались примерно одинаково. Возможно, мы перемолвились несколькими словами. На следующий день пошел дождь, и мне показалось, что я обрел покой, но не тут-то было. Я спросил, намеревается ли она беспокоить меня ежевечерне.
– Я вам мешаю? – спросила она.
Тут она меня оглядела. Но разглядела, наверное, немного. Два века и, быть может, кончик носа и участок лба, причем в полутьме, потому что было темно.
– Я думала, мы уже поладили, – сказала она.
– Вы мне мешаете, я не могу вытянуть ноги, когда вы здесь сидите.
Я говорил в воротник пальто, но она все равно меня услышала.
– Вам непременно нужно лежать вытянувшись?
В этом и состоит ошибка – заговаривать с другими.
– Так положите ноги мне на колени, – предложила она. Меня не нужно было долго упрашивать. Под своими жалкими икрами я ощущал ее тугие ляжки. Она принялась гладить мне щиколотки. А что, если заехать ей промеж ног, подумал я? Говоришь с людьми о том, чтобы вытянуться, и вот уже лежишь перед ними растянувшись. Та вещь, которая волновала меня, царя без подданных, вещь, лишь тусклым, удаленным отражением которой было положение моего бренного остова, заключалась в мозговой распростертости, в притуплении идеи меня самого и идеи тех ядовитых пустяков, каковые именуются «не-я» или, из лени, миром. Однако в двадцать пять лет у современного человека все еще время от времени встает, в том числе и физически, такова участь каждого, и я ее не избежал, если только это можно назвать эрекцией. Она, разумеется, все поняла, бабы чуют фаллос за десять километров, задаваясь вопросом: «Как же это он оттуда меня заметил?» В подобных обстоятельствах человек перестает быть собой, а не быть собой болезненно, даже более болезненно, чем собой быть, что бы ни говорили все вокруг. Потому что если человек продолжает быть собой, то он знает, что ему делать, чтобы быть собой в меньшей степени, тогда как если он перестал быть собой, то он может быть кем угодно, и извести себя ему нет больше никакой возможности. То, что называют любовью, это ссылка, куда изредка доходит почтовая открытка с родины, так я чувствую сегодня вечером. Когда она закончила и мое естество, мое собственное, прирученное естество восстановилось в продолжение недлительного обморока, я обнаружил, что нахожусь в одиночестве. Иногда я задумываюсь о том, не выдумки ли все это и не приняли ли события в действительности другой оборот, о чем я только и мог что забыть. И все же для меня ее образ навсегда привязан к скамейке, причем к скамейке не в ночное время, а к скамейке в вечерние часы, так что говорить о скамейке – такой, какой она представала моим глазам по вечерам – для меня все равно что говорить о ней. Это ничего не доказывает, но я и не стремлюсь ничего доказать. Что касается скамейки в дневное время, тут не нужно попусту тратить слова, она никогда меня не знала, ведь я уходил ранним утром и никогда не возвращался раньше сумерек. Да, днем я рыскал в поисках еды и высматривал подходящее пристанище. Будь вы вольны задать мне вопрос, который, несомненно, вертится у вас на языке, а именно, что я сделал с деньгами, которые оставил мне отец, я отвечу, что ничего с ними не сделал, но оставил их лежать в кармане. Ведь я знал, что не всегда буду молод и что лето не длится вечно, как, впрочем, и осень, подсказывала мне подлая душонка. Лулу сильнейшим образом меня беспокоила, даже когда ее не было рядом. Поистине, она до сих пор меня беспокоит, но теперь не больше, чем другие. А теперь причиняемое мне беспокойство мало что для меня значит, мало или совсем ничего, и что это вообще такое, когда вам причиняют беспокойство, одно не отличается от другого, я изменил свою систему, я играю на мартингал[1], это девятый или десятый кон, не говоря о том, что скоро все закончится, и беспокойство, и обустройство, скоро мы перестанем болтать, о ней и о других, о дерьме и о небе.
– То есть вам не хочется, чтобы я приходила, – сказала она. Поразительно, как люди вечно повторяют только что обращенные к ним слова, будто за то, что они поверят своим ушам, им грозит смерть на костре. Я сказал ей приходить только от раза к разу. В ту пору я плохо понимал женщин. Да и теперь плохо понимаю их, что говорить. И мужчин тоже. И животных тоже. Вот что я понимаю лучше всего, хотя и тут понимание весьма скудное, так это мои собственные страдания. Я продумываю их ежедневно, это не занимает много времени, ведь мысль движется так быстро, но страдания пребывают не только в моих мыслях, по крайней мере, не все. Да, бывают минуты, особенно к вечеру, когда меня одолевает синкретичность в духе Рейнольдса. Какое равновесие! Но даже их, свои боли, я понимаю плохо. Это, должно быть, оттого, что не весь я соткан из боли, из нее одной. Вот в чем загвоздка. Затем я отдаляюсь, пока они не наполнят меня изумлением и восторгом, будто смотришь на все с другой, более благожелательной планеты. Нечасто, но большего я не прошу. Не жизнь, а мошенничество! Вот бы состоять из сплошной боли, как бы это упростило дело! Всесущая боль! Но это было бы нечестно. Тем не менее однажды я расскажу вам в подробностях, если вспомню, если сумею, о своих странных болях, различая их виды, ради пущей ясности. Я расскажу вам о болях разума, о болях сердца или болях эмоциональной природы, о болях души (тут главные красоты) и, наконец, о болях собственно тела, во-первых, о внутренних или дремлющих и, далее, о тех, что затрагивают поверхностные покровы, начиная с волос и методично продвигаясь вниз, без спешки, до болячек ног, включая мозоли, судороги, шишки, вросшие ногти, ознобление, траншейную стопу и другие музейные редкости. И еще подобным образом я расскажу вам, тем из вас, кто соблаговолит меня выслушать, в соответствии с системой, изобретателя которой я не помню по имени, о тех состояниях, когда, не будучи в дурмане наркотическом, алкогольном или экстатическом, человек ничего не чувствует. После этого она, конечно, пожелала узнать, что я подразумевал под фразой «от раза к разу», вот что случается, стоит вам лишь раскрыть рот. Раз в неделю? Раз в десять дней? Раз в две недели? Я отвечал, нет, реже, гораздо реже, настолько редко, чтобы не приходить совсем, если она сумеет, а если нет, то настолько редко, насколько возможно. На следующий день, чего уж больше, я покинул скамейку, скорее по причине самой скамейки, нежели по причине женщины, так как место перестало отвечать моим, пусть и весьма скромным, запросам, воздух теперь был куда холоднее, ну и по другим причинам, описывать которые бесполезно таким мудакам, как вы, и нашел приют в пустом коровнике, который обнаружил во время одной из своих вылазок. Он стоял на краю поля, которое на поверхности было богаче крапивой, нежели травой, и богаче грязью, нежели крапивой, но, возможно, отличалось исключительными свойствами подпочвы. Именно в этом хлеву, что был унавожен сухими, почти что полыми коровьими лепешками, проседающими с грустным вздохом, если ткнуть пальцем, мне впервые в жизни пришлось, и я, не колеблясь, сказал бы в последний раз, будь у меня под рукой достаточно морфия, столкнуться с чувством, которое постепенно приняло в моей обледеневшей душе вселяющее ужас имя любви. Очарование нашей страны, помимо, конечно, скудости ее народонаселения (несмотря на невозможность добыть и ничтожнейший презерватив), состоит в ее полной обветшалости, за единственным исключением древних испражнений истории. За фекалиями охотятся со страстью, набивают ими чучела и носят взад и вперед во время торжественных процессий. Когда бы страдающее тошнотой время ни шлепнуло на землю немного жирного навоза, вы сразу найдете наших патриотов, с горящими лицами, на четвереньках вынюхивающих окрестности. Рай для бездомных. Вот наконец и мое счастье. Все говорит мне: лежи и не двигайся. Между двумя этими замечаниями я не вижу связи. Но в том, что связь существует, и даже более чем одна, я почти не сомневаюсь. Но какая? Да, я любил ее, так я называл и, увы, по-прежнему называю свое тогдашнее времяпрепровождение. Мне нечего было принимать за образец, так как я никогда не любил прежде, но я, конечно, слышал об этой штуке – дома, в школе, в борделе и в церкви, а также читал, под руководством наставника, романы в стихах и в прозе, на английском, французском, итальянском и немецком, где этот предмет разбирали весьма обстоятельно. Следовательно, я имел возможность, несмотря ни на что, дать имя тому, что испытывал, пока выписывал имя Лулу на старой коровьей лепешке или, при лунном свете, хотя и ничком в грязи, рвал с корнем стебли крапивы. Крапива была гигантской, некоторые побеги достигали метра в высоту, и, выдирая их, я смягчал свою боль, хотя рвать сорняки мне и несвойственно, я бы скорее укутал их навозом, будь у меня навоз. Цветы – это дело другое. Любовь выявляет в человеке все самое худшее, сомнений быть не может. Вопрос в том, о какой именно разновидности любви в моем случае идет речь? О страстной любви? Почему-то мне кажется, что нет. Это ведь, так сказать, любовь приапическая? Или я подхватил другую разновидность? Их ведь так много, правда? Одна другой краше, правда ведь? Платоническая любовь, вот еще один пример, пришедший мне в голову. Она безучастна. Может быть, я любил ее платонической любовью? Все же мне кажется, что нет. Стал бы я чертить ее имя на лепешке старого коровьего дерьма, если бы любовь моя была чистой и безучастной? Да еще засунув в это дело палец, который я потом обсосал. Да как же так! Все мои мысли были сосредоточены на Лулу, и если этим сказано не все, то сказано достаточно, на мой взгляд. Так или иначе, но имя Лулу мне чертовски надоело, дам ей другое, которое больше бы ей подходило, например, Анна, оно подходит ей не больше, но это не важно. Итак, я думал об Анне, я, который приучил себя не думать ни о чем, кроме как о своих болях (причем об этих последних думать на всей скорости), и о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы не окочуриться от голода, от холода или от стыда, но никогда о живых существах как таковых (знать бы еще, что это означает), как бы я ни противоречил себе, ныне или в будущем, в данном вопросе. Однако я всегда говорил и несомненно продолжу говорить о вещах, никогда прежде не существовавших, или существовавших, если вы настаиваете на обратном, но не тем существованием, которое я им приписываю. Кепи, например, существуют вне всякого сомнения, и вряд ли есть надежда, что они когда-нибудь исчезнут, но я лично никогда не носил кепи, нет, неверно. Где-то я написал, что они дали мне… шляпу. Впрочем, в действительности «они» не давали мне никакой шляпы, я всегда носил свою собственную шляпу, ту, которую подарил мне отец, и никогда не было у меня никакой другой шляпы, кроме этой. Кстати сказать, она последовала за мной в могилу. Итак, я думал об Анне, подолгу, подолгу, до двадцати, двадцати пяти минут и даже до получаса в день. Я получил эти числа посредством сложения других, меньших величин. Так, должно быть, родилась моя любовь. Следует ли заключить, что я любил ее той рассудочной любовью, которая в ином месте произвела из меня столько глупостей? Почему-то мне кажется, что нет. Ведь если бы любовь моя была такой разновидности, стал бы я наклоняться, чтобы начертать имя Анны на доисторических коровьих лепешках? Рвать крапиву голыми руками? И ощущать, как под моим черепом сотрясаются бесноватыми валиками ее ляжки? Ну же! Для того чтобы выйти, попытаться выйти из столь плачевного состояния, я вернулся к скамейке однажды вечером, в час, когда она обычно присоединялась ко мне. Ничто не указывало на ее присутствие, и я прождал напрасно. Стоял декабрь, если не январь, и холод соответствовал времени года, что разумно, ведь чего, как не разумности, ожидать от времен года. Однако, вернувшись в хлев, я поспешил замкнуть цепь доводов, которые обеспечили мне превосходную ночь, будучи основаны на факте, что у физического часа столько же возможностей быть по-разному прописанным в воздухе, в небе и даже в сердце, сколько у года – дней. Назавтра я пришел к скамейке раньше, намного раньше, сумерки едва сгустились, и все же оказалось слишком поздно, так как она уже сидела там, на скамье, под звякающим льдинками деревом, лицом к замерзшей воде. Я уже говорил вам, что упорством она обладала необычайным. Холмик побелел от инея. Я ничего не ощутил. Какой интерес ей в том, чтобы преследовать меня таким образом? Я спросил ее об этом не садясь, тяжело ступая взад и вперед. Мороз сковал тропинку. Она ответила, что не знает. Что она во мне нашла? Объяснит ли она мне хотя бы это, если возможно? Она ответила, что не может. Казалось, что она тепло одета. Руки ее облекала муфта. Я взглянул на муфту, помнится, и слезы выступили у меня на глазах. И все же я забыл, какого она цвета. Худо мне было. До недавнего времени я всегда плакал непринужденно, впрочем, безо всякой для себя выгоды. Приди мне в голову заплакать сейчас, я мог бы тужиться до посинения – не выкатилось бы ни слезинки. Худо мне. Рыдания могли быть вызваны различными предметами. Однако горечи я не ощущал. Если без видимой на то причины я проливал слезы, это означало, что на глаза мне попалось нечто незнакомое. Так что остается гадать, что именно вызвало у меня слезы тем вечером, муфта ли, замерзшая ли до шишковатости тропинка, чьи выпуклости ощущались под ногами как булыжники, или какая другая вещь, высмотренная за порогом сознания. Я словно видел ее впервые. Она сидела, съежившись и во что-то закутавшись, голова склонена, руки в муфте на коленях, ноги крепко сжаты и вытянуты, каблуки над землей. Без формы, без возраста, почти без жизни, она могла быть кем угодно, старухой или девочкой. Да вот еще ее манера говорить: «не знаю», «не могу». Только я один не знал, не мог.
– Вы пришли сюда ради меня? – спросил я. Она выдавила из себя «да». – Что ж, вот он я.
А я? Я разве не пришел ради нее?
– Вот они мы, – добавил я. Я присел с ней рядом, но тут же вскочил как ошпаренный. Я мечтал уйти, я желал знать, что все кончилось. Но прежде чем уйти, для пущей верности, я попросил ее спеть для меня песню. Поначалу я думал, что она откажется, то есть попросту не станет петь, но нет, через мгновение она начала петь и пела довольно долго, все время одну и ту же песню, так мне показалось, не меняя позы. Песня была мне незнакома, я никогда не слышал ее раньше и никогда не услышу вновь. В ней пелось, кажется, о лимонных или апельсиновых деревьях, вот все, что я запомнил, а для меня это подвиг немалый, запомнить, что в ней пелось о лимонных или апельсиновых деревьях, так как из всех услышанных в жизни песен, а слышал я их немало, ведь, по-видимому, невозможно, физически невозможно, если только вы не поражены глухотой, пройти по жизни, даже моим путем, не услышав песни, я не сохранил в памяти ничего, ни слова, ни ноты, или всего лишь столько слов, столько нот, что – что дальше, а ничего, фраза слишком затянулась. Затем я стал удаляться, и, пока я шел, мне послышалось, как она запела другую песню или, быть может, другие куплеты той же самой, песня звучала все глуше, пока не стихла совсем, оттого ли, что она прекратила петь, или потому, что я отошел слишком далеко. В ту пору необходимость терзаться такого рода сомнениями была для меня совершенно нежелательна, и пусть я жил в сомнениях, жил сомнениями, однако от таких банальных сомнений, чисто соматических, как говорится, лучше избавляться сразу, ведь они могли докучать мне неделями, точно гнус. Поэтому я вернулся на несколько шагов и остановился. Поначалу ничего не было слышно, потом снова возник голос, но еле-еле, так тихо он звучал. Я его не слышал, а потом услышал, наверное, в какое-то мгновение я начал его слышать, но нет, начала попросту не было, так мягко он возник из тишины и так на тишину походил. Когда голос наконец затих, я подошел чуть ближе, дабы убедиться, что он действительно исчез, а не просто стал звучать глуше. Затем, отчаявшись, приговаривая – «как знать», страдая от того, что ее нет рядом, что я не стою над ней склонившись, я круто развернулся и ушел восвояси, преисполненный сомнений. Но спустя несколько недель, скорее мертвый, чем живой, я вернулся к скамейке, в четвертый или пятый раз с тех пор, как оставил ее, примерно в тот же час, я хочу сказать, примерно под теми же небесами, нет, я не хочу этого говорить, потому что небеса всегда одни и те же и всегда разные, какими словами это описать, не имею представления, точка. Ее там не оказалось. Потом внезапно она появилась, не знаю как, я не видел, как она пришла, и не слышал ее, хотя и был настороже. Скажем, шел дождь, никакой перемены, если только в погоде. Естественно, она укрылась от дождя под зонтиком, то есть гардероб у нее, вероятно, отличался внушительными размерами. Я спросил, приходила ли она ежевечерне. Нет, ответила она, только от раза к разу. Скамейка оказалась совершенно мокрой, и мы шагали взад и вперед, не осмеливаясь сесть. Я взял ее под руку, из любопытства, чтобы понять, доставит ли это мне удовольствие, но никакого удовольствия не ощутил, так что я ее отпустил. Но к чему эти частности? Чтобы отсрочить развязку. Я разглядел ее лицо чуть яснее. Оно показалось мне нормальным, лицо как миллионы других. Глаза косили, но это я понял много позже. Оно не выглядело ни молодым, ни старым, ее лицо будто застряло между возрастом цветения и возрастом увядания. В ту пору мне было тяжело выносить подобную неоднозначность. Что до того, было ли оно красивым в ту минуту, ее лицо, или когда-либо прежде, или могло ли оно стать красивым, я, признаюсь, не мог составить определенного мнения. На фотографиях я видел лица, которые мог бы счесть красивыми, если бы хоть отдаленно представлял себе, в чем должна состоять красота. Голова моего отца на гробовой подушке, его лицо, мне кажется, неким образом соотносилось с эстетикой красоты. Но вот лица живых, что сплошь гримасы и пятна, разве можно их описать? Несмотря на темноту и охватившее меня волнение, я взирал с восхищением на то, как недвижная или едва колышущаяся вода тянется, будто испытывая жажду, к воде, струящейся с неба. Она спросила, хочу ли я, чтобы она мне спела. Я ответил отрицательно, но попросил ее что-нибудь мне сказать. Я думал, она скажет, что ей нечего сказать, это было бы так на нее похоже. Поэтому меня постигло приятное удивление, когда она сказала, что у нее есть комната, удивление весьма приятное. Впрочем, я это подозревал. У кого нет своей комнаты? Ах, слышу возмущенный ропот.
– У меня две комнаты, – сказала она.
– Так сколько у вас комнат? – спросил я. Она сказала, что у нее две комнаты и кухня. Квартира устойчиво расширялась. Со временем она вспомнила бы и ванную. – Так вы сказали «две комнаты»?
– Да.
– Смежные? – Ну наконец тема, достойная беседы.
– Разделены кухней, – ответила она. Я спросил, почему она не сказала мне раньше. Должно быть, в то время я был вне себя. Мне было не по себе, когда я находился с ней рядом, но, по крайней мере, я мог думать о чем-то, кроме как о ней, а это уже огромное преимущество, о старых верных вещах, одной за другой, то есть думать в конце концов ни о чем, будто по ступенькам сходишь в глубину. Знал я и то, что вдали от нее лишусь этой свободы.
Там и правда были две комнаты, разделенные кухней, она меня не обманула. Она сказала, что мне нужно сходить за своими вещами. Я объяснил, что у меня нет вещей. Квартира располагалась на верхнем этаже старого дома, и из окон при желании можно было созерцать гору. Она зажгла керосиновую лампу.
– У вас что, нет электричества? – спросил я.
– Нет, – ответила она, – но есть водопровод и газ.
– Ишь ты, есть газ.
Она начала раздеваться. Когда они не знают, что им делать, они начинают раздеваться, и это, бесспорно, лучшее из того, что им остается. Она сняла с себя все, с неспешностью, которая взбесила бы и слона, кроме чулок, которые, несомненно, призваны были довести мое возбуждение до вершины. Именно тогда я заметил, что она косит глазами. К счастью, я не впервые в жизни видел женщину обнаженной и мог оставаться на месте, не опасаясь, что она взорвется. Я ей сказал, что желаю осмотреть вторую комнату, так как еще ее не видел. Если бы я ее уже видел, я сообщил бы ей, что желаю осмотреть ее повторно.
– А вы не разденетесь? – спросила она.
– Ох, видите ли, я, по правде говоря, не слишком часто раздеваюсь.
Я говорил правду, я вовсе не из тех людей, которые разоблачаются вот так сразу, сломя голову. Прежде чем улечься, я часто снимаю с себя туфли, я хочу сказать, прежде чем собраться (собраться!) спать, а затем и верхнюю одежду, в зависимости от температуры окружающей среды. Так, покоряясь, то есть страшась выглядеть непокорной, она прикрыла наготу домашним халатом и пошла за мной следом, с лампой в руке. Мы прошли кухней. С равным успехом мы могли бы пройти через коридор, это я осознал позже, но прошли мы кухней, уж не знаю почему. Возможно, это был кратчайший путь. С ужасом я воззрился на комнату. Плотность мебели в ней превосходила воображение. Мне показалось, что где-то я ее уже видел, эту комнату.
– Что это за комната? – воскликнул я.
– Гостиная, – ответила она.
Гостиная. Я начал выносить мебель в дверь, что вела в коридор. Она молча наблюдала за мной. Она выглядела грустной, так мне, по крайней мере, показалось, потому что сказать наверное было невозможно. Она спросила, что я делаю, вероятно, не ожидая ответа. Я выносил предметы обстановки один за другим, а иногда два за раз, и сваливал все в коридоре, у противоположной стены. Сотни предметов, больших и маленьких. В конце концов они заняли все пространство в коридоре до двери в комнату, так что теперь из нее невозможно было выйти и тем более в нее войти. Дверь можно было открывать и закрывать, так как она открывалась вовнутрь, однако она стала непроходимой. Великолепное словцо, непроходимый.
– Снимите, по крайней мере, шляпу, – сказала она.
– Возможно, я поговорю с вами о моей шляпе в другой раз.
В конечном счете в комнате осталась лишь некая разновидность софы и несколько прибитых к стене полок. Софу я оттащил в глубь комнаты, поближе к двери, а полки снял и вынес в коридор на следующий день, свалив их в общую кучу. Пока я отдирал их от стены, о странное воспоминание, мне явилось слово «фиброма» или «фиброна», не знаю, какое именно из них, и никогда не знал, так же как не знал, что оно означает, и никогда не испытывал желания узнать. Чего только не вспомнишь! И чего только не скажешь! Я привел комнату в порядок и позволил себе рухнуть на софу. Она и мизинцем не шевельнула, чтобы мне помочь.
– Я принесу вам простыни и одеяла.
– Мне в них нет никакой надобности. А вы не могли бы задернуть шторы? – спросил я.
Снаружи окно заиндевело. Оттого стекло не стало белым, конечно, ведь на дворе была ночь, но все же служило источником неяркого света. Хотя я лег спать ногами к двери, слабое и холодное свечение страшно меня беспокоило. Я вскочил и тут же поменял расположение софы так, что изголовье, ранее примыкавшее к стене, теперь оказалось обращено наружу. Тогда как изножье, то есть открытый край, теперь граничило со стеной. Потом я залез в кровать, как собака в свою корзину.
– Я оставлю вам лампу, – сказала она, хотя я умолял женщину лампу унести. – А если вам понадобится что-то ночью?
Определенно, начинался спор о пустяках.
– Вы знаете, где уборная?
Она была права, я об этом не подумал. Облегчиться в постель – это, конечно, приятно в самую минуту, но позже причиняет неудобства.
– Дайте мне ночную вазу, – сказал я. Мне очень нравились, скажем так, достаточно нравились, причем в течение довольно длительного времени, слова ночная ваза, они наводили меня на мысли о Расине или Бодлере, об одном из них или, возможно, об обоих сразу, да, увы, надо было больше читать, а через них я достигал пределов, где слова пресекаются, сиречь Данте. Однако ночной вазы у нее не оказалось.
– У меня есть что-то вроде кресла-горшка, – сказала она. Я увидел восседающую на нем бабушку, гневную и прямую как шест, Анна недавно его приобрела, пардон, подобрала на благотворительной барахолке или, быть может, выиграла в лотерею, антикварная вещица, а теперь примеряет ее на себя, точнее, пытается примерить, почти желая, чтобы ее увидели. Замедлим шаг.
– Дайте мне простую посудину, дизентерией я не болен. – Она вернулась с чем-то напоминавшим кастрюлю, но то была не настоящая кастрюля, так как у нее не наблюдалось ручки. Впрочем, посудина овальной формы оказалась снабжена двумя ушками и крышкой.
– Это супница, – вымолвила она.
– Крышка мне не нужна.
– Вам не нужна крышка? – Скажи я, что мне нужна крышка, она бы изумилась оттого, что мне нужна крышка. Посудину я засунул под одеяло, во сне мне нравится держать что-нибудь в руках, тогда мне не так страшно, а шляпа успела вымокнуть. Я отвернулся к стенке. Она взяла лампу с каминной доски, оттуда, куда она ее поставила, уточним, уточним, тень ее жестикулировала на стене, я надеялся, что она оставит меня, но нет, она склонилась надо мной через изголовье.
– Фамильные вещи, – сказала она. На ее месте я бы удалился на цыпочках. Но она не шелохнулась. Суть в том, что любовь моя уже начала угасать. Да, я уже чувствовал себя лучше, ожидая начала неспешных виражей в бездонной толще, которых по ее вине я столь долгое время был лишен. А ведь я только что прибыл. Но сначала – спать.
– А теперь только попробуйте выставить меня вон, – сказал я. Мне показалось, что смысл этих слов и даже произведенный ими крошечный шум дошли до моего сознания лишь через несколько секунд после того, как я их произнес. До того я отвык говорить, что нередко мне случалось обронить фразу, безупречную с точки зрения грамматики, но начисто лишенную, нет, не сказал бы, что значения, так как при ближайшем рассмотрении значение ее или даже множественные значения можно было бы установить, а основы. Но сотрясение воздуха, присущее речевому акту, я всегда воспринимал по мере его развития. Это был первый случай, когда звук моего голоса дошел до меня с таким запаздыванием. Я снова лег на спину, чтобы наблюдать за происходящим. Она улыбалась. Спустя некоторое время она удалилась, забрав с собой лампу. Я слышал, как она пересекла кухню и закрыла за собой дверь в комнату. Наконец я остался один, наконец во тьме. Довольно этого. Я надеялся отплыть в безмятежную ночь, несмотря на странность места, но нет, ночь выдалась крайне оживленной. Наутро я проснулся в изнеможении, одежда моя была в беспорядке, постель – тоже, а рядом лежала Анна, разумеется, голая. Как же она, наверное, себя измучила! В руке я по-прежнему держал супницу. Я заглянул внутрь. Она мне не пригодилась. Я взглянул на свой член. Если бы только он умел говорить. Довольно этого. Так прошла ночь моей любви.
Мало-помалу жизнь моя в этом доме наладилась. Она приносила мне еду в назначенный час, время от времени заходила меня проведать и справиться, здоров ли я и не испытываю ли в чем нужды, опорожняла супницу раз в день и убирала в комнате раз в месяц. Ей не всегда удавалось противостоять искушению заговорить со мной, но в общем и целом у меня не было причин жаловаться. Иногда я слышал, как она поет в своей комнате, песня проникала через ее дверь, затем пересекала кухню, проницала дверь моей комнаты и достигала моего слуха, слабая, но настойчивая. Если только она не текла через коридор. Впрочем, ее пение не слишком меня беспокоило. Однажды я попросил ее принести мне живой гиацинт в горшке. Она мне его принесла и поместила на каминную доску. За исключением каминной доски в моей комнате не осталось поверхностей, на которые можно было бы ставить предметы, если только не ставить их на пол. Я глядел на него целыми днями, на мой гиацинт. Он был розовый. Я бы предпочел синий. Вначале все шло хорошо, на нем красовалось несколько цветков, потом он сдался, и остался только вялый стебель, окруженный поникшими листьями. Луковица, наполовину вылезшая из-под земли будто в поисках кислорода, дурно пахла. Анна хотела унести горшок, но я ей велел его оставить. Ей хотелось купить мне другой гиацинт, но я сказал, что другой мне не нужен. Но еще больше меня беспокоили звуки, то есть смешки и стоны, которыми квартира таинственным образом наполнялась в определенные часы, причем не только ночью, но и днем. Я больше не думал об Анне, совсем перестал о ней думать, однако мне по-прежнему нужна была тишина, чтобы иметь возможность жить своей жизнью. Напрасно я пытался себя урезонить, рассуждая, что воздух сотворен для того, чтобы вмещать звуки мира, и что смешки и стоны неизбежно в него проникают, мне не становилось от этого легче. Я так и не определил для себя, приходил ли всегда один и тот же тип, или их было несколько. Смешки и любовные стоны так схожи между собой! Такой ужас я испытывал в то время перед этими несчастными затруднениями, что пытался их, так сказать, прояснить. Мне потребовалось долгое время, почти целая жизнь, чтобы понять, что вопросы о цвете мельком увиденного глаза или источнике далекого звука гораздо ближе к Джудекке, в аду неведения, чем тайна существования Бога, или происхождения протоплазмы, или бытия в сознании, и слишком отягощают мудрецов, чтобы они ими занимались. Многовато будет, целой жизни, чтобы прийти к столь утешительному выводу, и ведь времени, чтобы употребить его на пользу, почти не останется. Поэтому мне здорово повезло, когда она сказала, в ответ на мой вопрос, что звуки происходят от клиентов, которых она принимает потоком. Я, разумеется, мог бы подняться с места и подсмотреть в замочную скважину, если предположить, что ничто не закрывало бы мне обзор, да много ли в эти дырки увидишь?
– Итак, вы живете проституцией?
– Мы живем проституцией, – ответила она.
– Не могли бы вы просить их вести себя потише? – спросил я, как если бы поверил в то, что она мне сказала. – Или издавать какие-нибудь другие звуки?
– Им нужно визжать, – сказала она.
– Я буду вынужден уйти.
В семейном капернауме она разыскала две занавески и повесила их над нашими дверями, над моей и над своей. Я спросил ее, нет ли какой-либо возможности время от времени есть пастернак.
– Пастернак! – вскричала она так, будто я пожелал отведать иудейского младенца.
Я заметил ей, что сезон пастернака подходит к концу и что я буду ей признателен, если отныне она будет давать мне только пастернак.
– Только пастернак! – вскричала она.
Для меня пастернак обладает вкусом фиалок. Мне нравится пастернак, потому что у него вкус фиалок, и фиалки, потому что у них аромат пастернака. Если бы на земле не было пастернака, я бы не любил фиалки, а не будь фиалок, пастернак был бы мне так же безразличен, как репа или редис. Должен сказать, что даже при современном состоянии флоры, то есть в мире, где пастернак и фиалки находят способ сосуществовать, я легко обхожусь без одного и без других. Однажды она имела дерзость заявить мне, что беременна, что она на четвертом или пятом месяце, причем моими трудами. Она встала в профиль и попросила меня посмотреть на ее живот. Она даже разделась, несомненно для того, чтобы доказать мне, что не прячет под юбкой подушку, ну и, разумеется, ради чистого удовольствия разоблачиться. Может быть, это только газы, сказал я, пытаясь ее приободрить. Она взглянула на меня большими глазами, цвет которых я позабыл, точнее, своим большим глазом, так как другой, по-видимому, нацелился на останки гиацинта. Ее косоглазие усиливалось по мере того, как она сбрасывала одежду. Глядите, сказала она, наклоняясь вперед, вокруг сосков уже начало темнеть. Я собрался с последними силами:
– Сделайте аборт, заклинаю вас, соски и перестанут темнеть.
Она отдернула шторы, чтобы ни одна из ее округлостей не ускользнула от взора. Я увидел гору, неприступную, со множеством пещер, таинственную, где с утра до вечера слышен только ветер, пение куликов и далекие, серебристые удары молотков, которыми орудуют каменотесы. Днем я бы выходил на жаркую пустошь, поросшую вереском и душистым диким дроком, а вечером смотрел бы на далекие городские огни, если бы мне того хотелось, и на те, другие огни, принадлежавшие маякам на суше и маякам плавучим, которые называл мне отец, когда я был ребенком, чьи имена я мог бы восстановить в памяти, если б хотел, если б умел. С того дня дела мои в этом доме пошли плохо и чем дальше, тем хуже, и не потому, что она мной пренебрегала, сколько бы она мной ни пренебрегала, мне ее пренебрежения все равно было бы недостаточно, но потому что она зачумила меня нашим ребенком, без конца демонстрируя мне свой живот и груди, сообщая мне, что она вот-вот родит, она уже чувствует, как он прыгает у нее в утробе. Если он прыгает, сказал я, значит, он не от меня. В этом доме мне жилось не слишком плохо, это точно, хотя, очевидно, обстоятельства отстояли далеко от идеальных, но не надо и приуменьшать выгоду. Я колебался, прежде чем уйти, уже летели листья, я страшился зимы. Не следует страшиться зимы, у нее свои прелести, снег согревает и заглушает звуки, а тусклые зимние дни быстро истощаются. Но в ту пору я еще не знал, насколько доброй земля может быть к тем, у кого ничего, кроме нее, нет и как живые могут в ней хорониться. Добили меня роды. Меня разбудили. Что пришлось вынести этому ребенку! Наверное, с ней рядом находилась женщина, так как время от времени мне казалось, что я слышу шаги на кухне. На сердце лежал камень, ведь я уходил из дома, откуда меня не выгоняли. Я перелез через спинку софы, надел пиджак, пальто и шляпу, я ничего не забыл, завязал шнурки и открыл дверь в коридор. Путь мне преграждала гора хлама, но я ее преодолел, перешел через перевал, разбил преграду с шумом и грохотом. Я говорил о браке, ведь это действительно был своего рода союз. Производить шум я не стеснялся, с ее криками состязаться было совершенно невозможно. Наверное, это был ее первенец. Крики преследовали меня и на улице. Я остановился у двери дома и прислушался. Они все еще до меня доносились. Не зная, что в доме испускают крики, я, возможно, никогда бы их не услышал. Но, вооруженный знанием, я слышал их хорошо. Я не слишком хорошо понимал, где нахожусь. Среди звезд и созвездий я поискал Колесницу[2], но не нашел. Однако ее место было там. Впервые мне показал ее отец. Он показал мне и другие созвездия, но в одиночестве, то есть без него, я никогда не мог найти ни одного созвездия, кроме Колесницы. Я чуточку поиграл с криками, как некогда играл с песней, отдаляясь, останавливаясь, отдаляясь, останавливаясь, если только можно назвать это игрой. Пока шел, я не слышал криков благодаря звуку собственных шагов. Но стоило мне остановиться, как я слышал их снова, с каждым разом, конечно, слабее, но разве в конце концов важно, слабый крик или сильный? Важно лишь то, что он должен прекратиться. Много лет я думал, что крики прекратятся. Теперь я так больше не думаю. Возможно, мне следовало любить и других. Но ведь сердцу не прикажешь.
1945Конец
Они одели меня и дали мне денег. Я знал, для чего предназначены деньги, для того, чтобы я снялся с якоря. Когда бы я их истратил, мне предстояло найти еще денег, если я намеревался продолжать. То же относилось к туфлям, когда бы они износились, мне предстояло их починить, или найти себе другие, или продолжать путь босиком, если я намеревался продолжать. То же к пиджаку и к брюкам, им даже не было нужды говорить мне об этом, с той лишь разницей, что я мог продолжать ходить в одной рубашке, если мне было угодно. Одежда – туфли, носки, брюки, рубашка, пиджак и шляпа – была не новая, но покойный, должно быть, носил со мной почти один размер. То есть я хочу сказать, что он, наверное, был чуть меньше меня, чуть менее тучный, потому что вначале одежда пришлась мне чуть менее впору, чем в конце. Прежде всего, я говорю о рубашке, у которой мне долгое время не удавалось ни застегнуть верхнюю пуговицу, ни, как следствие, воспользоваться пристегивающимся воротничком, ни скрепить полы между ногами, как учила меня мать. Должно быть, он оделся по-праздничному, чтобы отправиться на консультацию, возможно, на первую встречу с врачом, не умея больше терпеть. Так или иначе, но шляпа была котелок, и в хорошем состоянии. Я сказал: «Заберите обратно свою шляпу и отдайте мне мою. – И добавил: – Верните мне пальто». Они ответили, что шляпу и пальто сожгли вместе с остальной моей одеждой. Тогда я понял, что скоро все закончится, можно было так думать, то есть довольно скоро. Позже я попытался, правда, без особого успеха, обменять котелок на картуз или на фетровую шляпу, чтобы можно было натягивать поля на лицо. Я не мог ходить с непокрытой головой, принимая во внимание состояние моего черепа. Поначалу шляпа была мне мала, но потом я ее разносил. После долгих разговоров они дали мне галстук. Он был довольно симпатичный, но мне не понравился. Когда галстук наконец прибыл, я был слишком изможден, чтобы отсылать его обратно. Все же он мне пригодился. Он был синий, с нанесенными на поле звездочками. Что-то вроде этого. Я нехорошо себя чувствовал, но они мне сказали, что состояние мое удовлетворительное. Они не сказали явно, что состояние мое такое же, какое уготовано мне на все оставшееся время, но это подразумевалось. Я лежал вытянувшись на кровати, и потребовались три женщины, чтобы натянуть на меня брюки. Они, похоже, не проявили интереса к моим гениталиям, но в последних, по правде говоря, и не было ничего примечательного. Меня и самого они не слишком интересовали. Впрочем, женщины могли бы обронить хоть словечко. Когда они закончили, я поднялся и сам завершил туалет. Мне было сказано сесть на кровать и ожидать. Все постельное белье исчезло. Меня разозлило, что они не намеревались позволить мне ожидать в привычной для меня кровати. Напротив, они вынудили меня стоять на ногах, на холоде, в одежде, которая пропахла серой. Я сказал: «Вы могли бы позволить мне ожидать в кровати до последнего». Вошли мужчины в рабочих блузах с молотками в руках. Они разобрали кровать и части унесли. Одна из женщин последовала за ними и вернулась со стулом, который поставила передо мной. Здо́рово я разыграл негодование. Но чтобы еще нагляднее показать им, насколько я зол на них за то, что они не дали мне остаться в кровати, я пинком отправил стул в полет. Вошел мужчина и знаком велел мне следовать за ним. В фойе он протянул мне на подпись бумагу.
– Что это, – спросил я, – охранная грамота?
– Это расписка в получении одежды и выданных вам денег.
– Каких денег?
Тогда они и дали мне денег. Подумать только, я чуть было не ушел без гроша в кармане. Сумма была небольшой по сравнению с другими суммами, но мне она показалась большой. Я смотрел на знакомые предметы, что служили мне спутниками на протяжении бессчетных, но вполне сносных часов. Например, табурет, самая дорогая вещь. Вспомнились долгие послеполуденные часы, что мы провели вместе с табуретом, ожидая, пока придет мое время идти в кровать. Иногда я чувствовал, как меня захватывает его деревянная жизнь, и сам точно становился старой деревяшкой. Подумать только, в нем было предусмотрено отверстие для моей кисты. Или вот еще оконное стекло, и островок на нем, лишившийся матового покрытия, к которому я приникал глазом в часы душевного расстройства, и почти всегда не напрасно.
– Премного благодарен, – сказал я, – но существует ли закон, запрещающий вам вышвырнуть меня вон голым и без средств?
– В долгосрочной перспективе это повредит нашей репутации.
– А нет ли способа подержать меня здесь еще немного, я бы хотел оказаться полезным.
– Полезным? Вы действительно хотели бы оказаться полезным? – Он продолжил, помолчав: – Если бы они думали, что вы действительно склонны предоставить себя в их распоряжение, то они бы вас не отпустили, я в этом уверен. – Сколько раз я говорил им, что хочу быть полезным, не буду даже повторяться. Какую же слабость я ощущал!
– Эти деньги, – сказал я, – может быть, они заберут деньги обратно и подержат меня здесь еще немного?
– Мы – благотворительное заведение, и деньги предназначены для вас в качестве дара при отъезде. Когда вы их истратите, вам предстоит найти еще денег, если вы намереваетесь продолжать. Во всяком случае, никогда не возвращайтесь сюда, вас не впустят. То же относится к нашим филиалам.
– Эксельманс! – воскликнул я.
– Ну же, ну же, никто не понимает и десятой части того, что вы говорите.
– Я так стар.
– Вы не так стары, как все остальные здесь.
– Вы позволите мне побыть здесь еще немного, пока не прекратится дождь?
– Можете подождать в клуатре, – сказал он, – дождь зарядил на весь день. Можете подождать в клуатре до шести вечера, услышите колокол. Если будут спрашивать, вам нужно только сказать, что вам разрешили переждать в клуатре.
– На кого мне сослаться?
– Вейр, – молвил он.
В клуатре я пробыл недолго: дождь вдруг прекратился, и выглянуло солнце. Солнце висело низко, и я заключил, что дело идет к шести вечера, учитывая время года. Я остался стоять, наблюдая сквозь просвет свода, как солнце садится за клуатр. Появился человек и спросил меня, что я здесь делаю. «Чего изволите?» – сказал он. Весьма учтиво. Я ответил ему, что месье Вейр дозволил мне оставаться в клуатре до шести вечера. Он ушел, но тут же вернулся. Должно быть, он успел переговорить с месье Вейром, так как сказал мне следующее: «Вы не вправе задерживаться в клуатре теперь, когда дождь перестал».
Я пересек сад. В воздухе был разлит тот странный свет, который порою завершает длинный дождливый день, когда закатное солнце вдруг освещает небо, но уже слишком поздно, чтобы от этого был какой-нибудь прок. Земля издавала звуки, похожие на вздох, и последние капли долетали до нас из неба, опустевшего и безоблачного. Маленький мальчик, вытянув руки и подняв лицо к голубому небу, спросил у матери, как такое возможно. «Заткни пасть», – ответила та. Я вдруг подумал о том, что забыл попросить у месье Вейра кусок хлеба. Он бы не пожалел для меня хлеба, это точно. Я, кстати, подумал об этом еще во время нашего разговора в фойе. Я сказал тогда про себя: «Покончим для начала с тем, что мы сейчас обсуждаем, а потом я попрошу его». Я отлично знал, что они меня не оставят. Мне хотелось пойти обратно, но я боялся, что один из стражников, остановив меня, скажет, что я никогда больше не увижу месье Вейра. Это могло бы огорчить меня еще больше. Кроме того, в подобных случаях я никогда не возвращаюсь.
За оградой я сразу заблудился. Давно уже я не ступал в эту часть города, и мне она показалась незнакомой. Исчезли целые здания, изменили местоположение ограды, и повсюду громоздились, большими буквами, имена коммерсантов, которые я никогда прежде не видел, и даже произнести их я бы не смог без труда. Там были улицы, внешний вид которых был мне незнаком, многие из улиц, которые я помнил, исчезли, а иные переменили имя. Общее впечатление оставалось таким же, как прежде. Правда, город я знал плохо. Быть может, это и вовсе был другой город. Я понятия не имел о том, куда мне надлежит идти. Несколько раз меня чуть не задавили, можно сказать, что мне очень повезло. Я по-прежнему вызывал в людях смех, тот задорный и беззлобный смех, который так полезен для здоровья. Стремясь, по мере возможности, держать алую кромку неба справа от себя, я наконец вышел к реке. Там на первый взгляд все выглядело примерно так же, как при моем последнем посещении этих мест. Но приглядись я повнимательней, мне, бесспорно, удалось бы заметить немало изменений. Так я впоследствии и поступил. Однако общий вид реки, струившей воды вдоль набережных и под мостами, не изменился. В частности, мне, как и раньше, казалось, что река течет в неверном направлении. Сплошная ложь, так я чувствую. Моя скамейка оказалась на месте. Она была выкована в повторение изгибов тела сидящего человека. Располагалась она рядом с водопойным желобом, даром некоей мадам Максвелл всем коням города, как гласила табличка. За время, что я провел в этом месте, даром воспользовалось несколько лошадей. Я слышал цокот копыт и позванивание упряжи. Затем тишина. Это лошадь глядела на меня. Потом будто камешки катились по грязной дороге – звук, который лошади издают на водопое. Затем снова тишина. Это лошадь снова на меня глядела. Потом опять камешки. И так до тех пор, пока лошадь не утоляла жажду или пока кучер не решал, что она напилась. Лошади – беспокойные создания. Однажды, когда шум прекратился, я обернулся и увидел глядевшую на меня лошадь. Кучер тоже на меня таращился. Мадам Максвелл была бы удовлетворена, если б могла видеть, какую службу служит ее желоб городским коням. За слишком долгими сумерками пришла ночь, и я снял досаждавшую мне шляпу. Мне захотелось снова оказаться в закрытом помещении, пустом и жарком, освещенном искусственным светом, желательно от керосиновой лампы, накрытой, если возможно, розовым абажуром. Время от времени в комнату входил бы человек, чтобы убедиться в том, что мне удобно и что я не испытываю ни в чем нужды. Прошло уже много времени с тех пор, как мне взаправду чего-нибудь хотелось, и воздействие на меня данного обстоятельства оказалось разрушительным.
В последующие дни я посетил множество домов, но без особого успеха. Чаще всего дверь закрывали перед самым моим носом, даже если я показывал им, что у меня есть деньги, обещая заплатить за неделю вперед или даже за две. Я умел щегольнуть хорошими манерами, улыбкой и гладкой речью, но двери захлопывались еще до того, как я успевал покончить с приветственной частью. В ту пору я заметно усовершенствовал изобретенный мной ранее способ снимать шляпу – жест одновременно учтивый и благородный, лишенный как самоуничижения, так и дерзости. Я живо приподнимал шляпу и, будто скользя рукой по воздуху, выносил головной убор чуть вперед, секунду удерживая шляпу так, чтобы не было видно моего черепа, затем возвращал ее на место. Непросто было придать моему жесту естественность, не произведя при этом на визави неблагоприятного впечатления. Если мне случалось рассудить, что достаточно дотронуться до шляпы рукой, я, разумеется, этим и ограничивался. Но дотронуться рукой до шляпы, соблюдая приличия, тоже совсем не просто. Впоследствии я разрешил эту проблему, обладающую особой значимостью в пору тяжелых испытаний, взяв за правило носить старое британское кепи и отдавая честь по-военному, нет, неверно в конечном счете, не знаю, на мне всегда была шляпа. Впрочем, мне хватало ума не носить медали. Некоторые женщины так нуждались в деньгах, что, не раздумывая, пускали меня в дом и показывали комнату. Но ни с одной из них мне не удалось договориться. В конце концов я поселился в подвале. С этой женщиной мы поладили быстро. Мои фантазии, как она выразилась, не внушали ей опасений. Вместе с тем она настояла на том, чтобы застилать кровать и убирать в комнате раз в неделю, вместо того чтобы делать это раз в месяц, как я ее о том просил. Она подтвердила, что во время каждой уборки, обещавшей длиться недолго, я могу ожидать во дворике. Она добавила, выказав замечательную чувствительность, что никогда не заставит меня ожидать на улице в плохую погоду. Женщина эта была не то гречанкой, не то турчанкой. Она никогда не говорила о себе. У меня сложилось впечатление, что она была вдовой или, по крайней мере, что ее бросили. Она говорила с забавным акцентом. Но то же можно было сказать обо мне, учитывая мою манеру глотать гласные и подавлять согласные звуки.
Теперь я больше не знал, где нахожусь. В голове вырисовывались лишь смутные очертания большого дома, в пять или шесть этажей. Казалось, что стенами он примыкает к соседним домам. Я пришел сюда в сумерках и не отнесся к окрестностям с тем вниманием, которое мне, возможно, следовало бы проявить, знай я, что дом этот сомкнется вокруг меня. К тому времени я, должно быть, утратил всякую надежду найти приют. Правда и то, что в день, когда я покинул этот дом, ярко светило солнце, но, уходя, я никогда не оглядываюсь. Где-то мне довелось прочитать, еще в ту пору, когда я был ребенком и не бросил читать, что уходя – лучше не оборачиваться. Все же иногда я нарушал это правило. Так или иначе, но мне казалось, что, уходя из дома, я должен был увидеть хоть что-то, пусть даже и не оглянувшись назад. Но что? Мне вспоминаются только мои ноги, одна за другой выходившие из моей тени. Туфли затвердели как камень, и солнце высвечивает трещины на коже.
Должен признаться, что в этом доме мне было хорошо. Если не считать нескольких крыс, в подвале я был совершенно один. Женщина старалась, как могла, придерживаться договоренностей. Ближе к полудню она приносила мне поднос, полный еды, и уносила вчерашний, пустой. Тогда же она доставляла мне чистый ночной горшок. У горшка имелась большая ручка, в оконце которой она просовывала руку, чтобы иметь возможность нести одновременно его и поднос. Больше я ее за день не видел, вот разве что иногда она заглядывала в комнату, чтобы проверить, все ли со мной в порядке. К счастью, в нежностях я не нуждался. С кровати мне видны были ноги прохожих, шедших по тротуару. Иногда по вечерам, если я бывал в соответствующем настроении, я выносил во дворик стул и сидел там, глядя на юбки проходивших женщин. Так я познакомился более чем с одной парой ног. Однажды я послал за луковицей крокуса и посадил его в своем темном дворике, в старый горшок. Должно быть, стояла ранняя весна, не лучшее для цветка время. Я оставил горшок снаружи, обвязав его веревочкой, другой конец которой просунул внутрь, в комнату. По вечерам, в хорошую погоду вдоль стены тянулся лучик света. Тогда я садился к окну и тянул за веревочку, так чтобы горшок оставался в луче света, там, где теплее. Это было не слишком просто, даже не знаю, как мне это удавалось. Наверное, это было не лучшее из того, что я мог сделать. Я удобрял его по мере сил и писал на него, когда земля высыхала. Пожалуй, это было не лучшее, что я мог сделать. Он дал побег, но цветка так и не появилось, лишь хилый стебель с анемичными листочками. Я был бы счастлив владеть желтым крокусом, ну или гиацинтом, но этому не суждено было случиться. Она хотела его унести, но я велел ей его оставить. Она хотела купить мне другой, но я сказал, что другого мне не нужно. Больше всего меня терзали крики разносчиков газет. Они ходили по улице ежедневно, в одни и те же часы, топоча по тротуару, выкрикивая названия газет и даже заголовки новостей. Звуки, происходившие изнутри дома, досаждали мне меньше. Маленькая девочка, если только не маленький мальчик, пела каждый вечер, в одно и то же время, где-то наверху, над головой. Я долго не мог разобрать слова. Но ввиду того, что слушать песню мне приходилось ежевечерне, некоторые слова я все-таки ухватил. Странные слова для девочки или для мальчика. Звучала ли та песня у меня в голове или она происходила извне? Кажется, это была колыбельная. Она усыпляла даже меня. Иногда в комнату приходила девочка. У нее были длинные рыжие волосы, заплетенные в две косички. Я не знал, кто она. Через некоторое время она уходила, не проронив ни слова. Однажды явился полицейский. Он сказал, что я должен находиться под надзором, не объяснив почему. Подозрительный тип, вот что он сказал мне, что я – подозрительный тип. Я не возражал, позволив ему продолжать. Он не посмел арестовать меня. Или же у него было доброе сердце, кто знает. Вот еще и священник, однажды меня посетил священник. Пришлось осведомить его, что я принадлежу к одной из ветвей реформатской церкви. Какого пастора мне хотелось бы видеть, спросил он. Да, в реформатской церкви погибель неизбежна, ничего не поделаешь. У него было доброе сердце, может быть. Он сказал мне связаться с ним, если мне потребуется помощь. Помощь! Он назвал себя и объяснил, где его можно найти. Следовало записать.
Однажды женщина сделала мне предложение. Она сказала, что ей срочно нужна наличность и что если я заплачу ей за полгода авансом, то на это время она снизит арендную плату на четверть. Должно быть, я понял ее правильно. Я выгадывал шесть недель (?) бесплатного проживания, но при этом почти до конца истощал свой скудный капитал. Впрочем, можно ли последнее обстоятельство называть недостатком? Разве не собирался я оставаться здесь, в доме, до последнего су и даже дольше, пока она не выставила бы меня за дверь? Я отдал ей деньги, а она дала мне расписку.
Однажды утром, вскоре после заключения сделки меня разбудил мужчина, который тряс меня за плечо. Вероятно, время было не позднее одиннадцати. Он попросил меня встать и немедленно покинуть его дом. Впрочем, он вел себя вполне прилично, должен признаться. Он сказал, что удивлен не меньше моего. Это его дом. Его имущество. Турчанка ушла накануне.
– Однако я видел ее вчера вечером, – возразил я.
– Должно быть, вы ошиблись, – ответил он, – потому что она принесла мне в контору ключи не позднее чем вчера утром.
– Но я ведь только недавно заплатил ей авансом за полгода аренды.
– Истребуйте с нее деньги, – сказал он.
– Но я не знаю ее имени, не говоря уж об адресе.
– Не знаете имени? – Он, наверное, подумал, что я лгу.
– Я болен, я не могу уйти просто так, без предуведомления.
– На больного вы непохожи, – сказал он. Он предложил послать за такси или за каретой «скорой помощи», если мне угодно. Он сказал, что комната ему нужна, причем немедленно, для его поросенка, который теперь мерзнет перед дверью, в тележке, под присмотром мальчишки, которого он, хозяин, даже не знает, и поэтому опасается, как бы тот не причинил поросенку страданий. Я спросил, не может ли он сдать мне какое-нибудь другое помещение, просто угол, где я мог бы вытянуться и полежать, пока мне не удастся оправиться от потрясений и привести себя в порядок. Он ответил отрицательно.
– Это не оттого, что я злой, – добавил он.
– Я мог бы жить здесь с поросенком, я бы следил за ним. – О долгие месяцы покоя, уничтоженные в считанные мгновения!
– Ну же, ну же, не распускайте сопли, будьте мужчиной, давайте поднимайтесь, довольно, оп! – В конце концов моя история его не касалась. И потом, он проявил должное терпение. Наверняка он не раз заходил в подвал, пока я спал.
Я ощущал слабость. И небезосновательно. Яркий свет ослепил меня. Автобус перевез меня в сельскую местность. Я уселся в поле, на солнцепеке. Но эти события, мне кажется, произошли гораздо позже. В свою шляпу, по кругу, я воткнул листья в целях затенения. Ночь была холодной. Я долго шагал по полям. В конце концов нашел кучу навоза. Наутро я снова отправился в город. Меня высадили из трех автобусов. Я сел на обочине дороги, на солнце, и принялся сушить одежду. Это доставило мне удовольствие. Я сказал себе: «Ни шагу дальше, прежде чем одежда не высохнет». Когда одежда высохла, я вычистил ее щеткой, чем-то вроде скребницы, которую нашел в стойле. Конюшни всегда приходили мне на помощь. Затем я пошел к дому и попросил стакан молока и кусок хлеба с маслом. Мне дали все, кроме масла.
– Можно мне отдохнуть в стойле?
– Нет, – ответили они. От меня по-прежнему смердело, но эта вонь мне нравилась. Она была куда предпочтительнее моей собственной, да к тому же забивала мои собственные запахи, которые достигали меня лишь редкими порывами. В последующие дни я предпринял попытку вернуть свои деньги. Не могу в точности восстановить ход событий, но то ли я не смог установить ее адрес, то ли адреса не существовало, то ли гречанки там не оказалось. Я поискал в карманах расписку, чтобы попытаться расшифровать ее имя. Расписки не было. Наверное, она забрала ее у меня, пока я спал. Не знаю, сколько времени я курсировал между городом и деревней, ночуя то в одном месте, то в другом. Город претерпел серьезнейшие изменения. Да и деревня была уже не той. Однако общее впечатление оставалось прежним. Однажды я увидел на улице сына. Он куда-то спешил с портфелем под мышкой. Он снял шляпу и поклонился – я заметил, что он лыс, как яйцо. Я почти уверен, что это был он. Я обернулся, чтобы проследить за ним взглядом. Он несся на всех парах своей утиной походкой, кланяясь налево и направо и вообще пресмыкаясь. Проклятый выблядок.
Однажды я встретил человека, который был мне знаком по прежней жизни. Он жил в пещере на берегу моря. У него был осел, который пасся вдоль утесов или извилистых тропинок, спускавшихся к воде. Когда погода становилась совсем скверной, осел входил в пещеру хозяина и в укрытии пережидал бурю. Вместе, прижавшись друг к другу, они пережили не одну ночь, пока выл ветер и море с ревом обрушивалось на берег. Благодаря этому ослу он доставлял в город песок, водоросли и ракушки и продавал все это горожанам, украшавшим свои садики. Он не мог перевозить много за раз, потому что осел был стар, да и мелок, а город находился далеко. Все же он зарабатывал немного денег, достаточно для того, чтобы покупать табак и спички и время от времени фунт хлеба. Во время одной из таких вылазок он меня и встретил, в одном из городских предместий. Он был счастлив меня видеть, бедняга. Он умолял меня отправиться с ним и заночевать у него.
– Живите у меня, сколько душе угодно, – сказал он.
– Что с ним, с вашим ослом? – спросил я.
– Не обращайте внимания, он вас не знает.
Я ему напомнил, что у меня нет привычки находиться в обществе кого бы то ни было дольше чем две или три минуты и что море меня ужасает. Он выглядел страшно опечаленным.
– Значит, не поедете. – Но к моему собственному удивлению, я живо оседлал осла, и мы пустились в путь, в тени горящих красным каштанов, что высились вдоль тротуара. Я ухватился за гриву животного, одна рука впереди другой. Мальчишки высмеивали нас и бросали в нас камни, но целились они плохо – в меня попали только раз, да и то в шляпу. Возникший на нашем пути ажан обвинил нас в нарушении общественного порядка. Мой друг заметил ему, что мы таковы, какими сотворила нас природа, и то же относится к мальчишкам. В подобных условиях общественный порядок нарушается неизбежно, время от времени. Позвольте нам проследовать дальше, своей дорогой, сказал он, и порядок на вашем участке немедленно восстановится. Мы ехали тихими, белыми от пыли проселочными дорогами, вдоль зарослей боярышника и фуксии, вдоль обочин, поросших сорняками и маргаритками. Пала ночь. Осел довез меня до входа в пещеру, так как в темноте я не сумел бы пройти тропинкой, что вела вниз, к морю. Потом он снова взобрался наверх, на пастбище.
Не знаю, сколько времени я там пробыл. Должен признаться, что в пещере мне было хорошо. С площицами я сражался при помощи морской воды и водорослей, но изрядное число лобковых вшей умудрилось выжить. Я прикладывал к черепу компрессы из водорослей, и они приносили мне огромное, хотя и скоротечное облегчение. Бо́льшую часть времени я лежал в пещере вытянувшись и лишь иногда смотрел в сторону горизонта. Там простиралась огромная пульсирующая пустыня, без островов и мысов. По ночам в пещеру, с регулярными промежутками, проникал свет. Здесь я и обнаружил в кармане свой флакон. Он не раскололся, стекло оказалось ненастоящим. А я думал, что месье Вейр все у меня забрал. Другой почти все время проводил на воздухе. Он кормил меня рыбой. Мужчине, если он настоящий мужчина, легко жить в пещере, вдали от всех. Он приглашал меня жить у него столь долго, сколько я пожелаю. Если мне предпочтительнее одиночество, сказал он, то он готов оборудовать для меня другую пещеру, чуть дальше вдоль берега. Он приносил мне поесть каждый день, а также время от времени заходил в пещеру с целью удостовериться в том, что мне удобно и что я ни в чем не нуждаюсь. Он был добр ко мне. Я не испытывал потребности в доброте.
– Вы, случаем, не знаете какой-нибудь приозерной пещеры? – спросил я. Я плохо переношу море, его плеск, качку, приливы и отливы и общую судорожность. Ветер, по крайней мере, иногда стихает. Подле моря у меня ощущение, что руки и ноги мне жалят тысячи муравьев. – Здесь мне скоро конец, и потом, как мне идти вперед?
– Вы утонете, – сказал он.
– Да, или брошусь со скалы.
– А я и думать не хочу о том, чтобы жить в другом месте. В своей хижине в горах я был очень несчастлив.
– В вашей хижине в горах? – Он пересказал историю своей хижины в горах, я успел ее позабыть, так что теперь будто слышал ее впервые. Я спросил, по-прежнему ли он владеет хижиной. Он ответил, что не возвращался туда с того дня, как покинул эти места, но что хижина, вероятнее всего, все еще там находится, чуть обветшавшая, последнее бесспорно. Впрочем, когда он попытался всучить мне ключ, я отказался, сказав, что все предусмотрел.
– Если я когда-нибудь вам понадоблюсь, вы всегда найдете меня здесь. – Ах, люди! Он отдал мне свой нож.
То, что он называл своей хижиной, оказалось деревянной хибаркой. Дверь кто-то унес, на растопку или в других целях. Оконное стекло отсутствовало. Крыша провалилась во многих местах. Полуразрушенная перегородка делила помещение на две неравные части. Мебели, если она имелась когда-то, не наблюдалось. Земля и стены свидетельствовали о мерзейших деяниях. Пол устилали экскременты – человеческие, коровьи, собачьи, а также, разумеется, презервативы и островки блевотины. На лепешке коровьего дерьма можно было различить рисунок сердца, пронзенного стрелой. Все же место это не относилось к туристическим достопримечательностям. Я обнаружил останки брошенных цветочных букетов. Некогда их жадно сгребли в кучу, потом долго волокли куда-то, потом бросили, потому что они стали восприниматься как ноша или попросту завяли. От такого жилища он предлагал мне ключ.
Как водится, сцена былого величия и мерзость запустения.
Все ж таки теперь у меня был кров. Я устроился на ложе из папоротников, которые с большим трудом надрал поблизости. Однажды я почувствовал, что не могу подняться. Спасла меня корова. Стрекало морозного тумана вынудило ее войти в хибару, в поисках убежища. Несомненно, она проделывала это не в первый раз. Она меня не заметила. Я попытался сосать ее, но без особого успеха. Вымя оказалось измазано испражнениями. Я снял шляпу и из последних сил попытался подоить скотину, подставив шляпу под вымя. Молоко разлилось по земле, но я сказал себе: «Это не беда, оно бесплатное». Она поволокла меня по полу, то и дело останавливаясь, чтобы отвесить мне удар копытом. Я и не подозревал, что наши коровы бывают такими подлыми. Должно быть, ее недавно доили. Схватившись одной рукой за вымя, другой я удерживал на месте шляпу. В конце концов она взяла надо мной верх. Перетащила меня через порог и доволокла до зарослей огромного, струящегося по земле папоротника, где я вынужденно ее отпустил.
Глотая молоко, я упрекал себя за содеянное. Я не мог более рассчитывать на корову, причем знал, что она введет в курс дела своих товарок. Владей я собой, я мог бы с ней подружиться. Она приходила бы ко мне каждый день, а за ней, может быть, и другие коровы. Я научился бы сбивать масло, изготавливать сыр. Но нет, сказал я себе, все к лучшему.
Стоило мне снова оказаться на широкой дороге, как дела покатились по наклонной. Появились повозки, но никто не согласился взять меня с собой. Будь на мне другая одежда, будь у меня другая внешность, кто-нибудь наверняка бы меня подобрал. Должно быть, я сильно изменился после изгнания из подвала. В частности, лицо мое достигло климактерического состояния. Улыбка смиренная и наивная, звезды и кружево, более не посещала лица моего, равно как и выражение непритворного несчастья. Я звал, но они не являлись. Маска старой кожи, засаленной и поросшей волосом, отказывалась просить, выражать благодарность или приносить извинения. Сие было прискорбно. С чем мне было ползти дальше, в будущее? Лежа на обочине, я начинал корчиться всякий раз при виде повозки. Это чтобы они не думали, будто я сплю или отдыхаю. Я пытался стонать: «На помощь!» Но тон моих вздохов больше напоминал светскую беседу. Мой час еще не пробил, и стоны не удавались. В последний раз, когда мне выдался повод застонать, я проделал это так же хорошо, как обычно, причем вокруг не оказалось ни души, то есть ни одного обладателя сердца, которое можно было бы попытаться растопить. Что станется со мной? Я сказал себе, что снова выучусь. Я мог лечь поперек дороги, там, где она сужалась, так чтобы повозки не могли проехать мимо, не переехав меня одним колесом, по меньшей мере, или двумя, если всего колес было четыре. У рыжебородого городского жителя удалили желчный пузырь, серьезная ошибка, и спустя три дня он умер в расцвете лет. Однако настал день, когда, оглядевшись, я обнаружил, что нахожусь в городских предместьях, а оттуда до старых лежбищ, по ту сторону глупой надежды на покой или умягчение боли, было совсем недалеко.
Прикрыв нижнюю часть лица черной тряпкой, я отправился просить подаяние на освещенный солнцем угол улицы. Дело в том, что мне казалось, будто глаза мои вовсе не выцвели и не потухли, благодаря, быть может, черным очкам, которые подарил мне мой наставник. Он же дал мне «Этику» Гейлинкса. Очки были для взрослого, я был ребенком. Его нашли мертвым на полу уборной, одежда в страшном беспорядке, его сразил сердечный приступ. Ах, блаженный покой! На форзаце «Этики» было начертано его имя (Вард), и очки тоже принадлежали ему. Переносье в ту эпоху, о которой я теперь говорю, было из латунной проволоки, из такой, какую используют обычно для вывешивания картин и больших зеркал, а дужками служили две длинных черных тесемки. Я накручивал их на уши и, опустив, завязывал в узел под подбородком. За годы линзы заметно пострадали, оттого что терлись друг о друга и о другие предметы, которые можно было обнаружить у меня в кармане. Я-то думал, что месье Вейр все у меня забрал. Впрочем, я более не испытывал в этих очках потребности и надевал их только изредка, чтобы смягчить блеск солнца. Лучше бы я вообще о них не говорил. Тряпка причинила мне много неприятностей. Я ее выкроил из подкладки пальто, нет, пальто у меня уже не было, значит, из подкладки пиджака. Тряпка оказалась не черной, а преимущественно серой или даже клетчатой, но приходилось довольствоваться тем, что имелось. До полудня я стоял, обратившись лицом к южному небу, а затем, с полудня до заката – к западному. Чаша для сбора милостыни причинила мне много неприятностей. Шляпой я не мог воспользоваться из-за состояния своего черепа. О том, чтобы стоять с протянутой рукой, не могло быть и речи. Я раздобыл жестяную коробку и привязал ее к пуговице пальто или как там его, пиджака, на уровне лобка. Коробка висела не прямо, а уважительно склонялась в сторону прохожего, так что ему оставалось лишь опустить в нее грош. Однако я сознавал, что таким образом прохожему пришлось бы подойти ко мне слишком близко, над ним нависала бы угроза о меня потереться. Позже я раздобыл коробку побольше, то есть большую жестяную коробку, и поместил ее у своих ног, на тротуаре. Однако подающие милостыню не слишком любят метать монеты, этот жест, в котором кроется нечто уничижительное, способен отпугнуть людей чувствительных. Не говоря о том, что приходится целиться. Скажем, человеку хочется подать, но вовсе не хочется, чтобы его дар покатился под ноги прохожим или под колеса экипажам, где кто-то, не важно кто, может его подобрать. Как следствие, человек не подает. Разумеется, есть и такие, которые не брезгуют наклоняться, однако в целом подающие милостыню люди не слишком любят, когда акт подаяния вынуждает их совершить полупоклон. Вот что им нравится, так это, приметив несчастного издалека, подготовить монетку, на полном ходу опустить ее в приемник и услышать, как «Да воздаст Господь за это дело твое!» затихает в отдалении. Я этих слов не произносил, я человек не больно верующий, да и ничего подобного тоже не говорил, но все же производил ртом небольшой шум. В конце концов я раздобыл дощечку, которую привязал к себе, обмотав веревку вокруг шеи и талии. Дощечка выдавалась наружу на должной высоте, на уровне кармана, и кромка ее была отдалена от моей персоны в такой степени, чтобы подающий мог с удобством поместить на дощечку свой обол, не подвергая себя никакой опасности. Иногда я помещал на дощечку цветы, лепестки, колосья и ту травку, которую, насколько я помню, используют для примочек при геморрое, короче говоря, все, что удавалось найти. Нарочно я их не искал, но все милые штучки, попадавшие мне в руки, оказывались на дощечке. Можно было подумать, что я люблю природу. Бо́льшую часть времени я глядел в небо, впрочем, вполне рассеянно. Небо чаще всего представляло собой смесь белого, голубого и серого, а по вечерам к трем последним присовокуплялись и другие цвета. Я ощущал, как оно мягко давит мне на лицо, я терся о него лицом, удерживая равновесие. Но часто я позволял голове бессильно опуститься на грудь. Тогда я видел свою дощечку в отдалении, тонущей в разноцветной дымке. Спиной я прислонялся к стене, но так чтобы поза моя не казалась небрежной, переминаясь с ноги на ногу, руками ухватившись за лацканы пиджака. Просить милостыню, засунув руки в карманы, – это производит неблагоприятное впечатление, это отвращает трудящихся, особенно в зимнюю пору. Перчатки тоже нельзя носить. Иногда уличные мальчишки, делая вид, что хотят подать мне монетку, лишали меня всей дневной выручки. Это они крали себе на конфеты. Иногда я украдкой расстегивал брюки, чтобы почесаться. Я чесался снизу вверх, четырьмя когтями. Я дергал волосы, чтобы смягчить зуд. Так время протекало быстрее, время протекало быстрее, когда я чесался. На мой взгляд, почесаться всласть – это лучше, чем подрочить. Дрочить можно до пятидесяти или даже до более преклонных лет, но в конце концов это превращается в простую привычку. Для того, чтобы почесаться по-настоящему, двух моих рук мне всегда было недостаточно. Зуд преследовал меня везде, в срамном месте, в зарослях волос до самого пупка, под мышками, в жопе, на островках экземы и псориаза, которые я мог воспламенить, только лишь подумав о них. Чесать жопу, вот что доставляло мне наибольшее удовлетворение. Я погружал в дырку указательный палец, аж по пясть. Если впоследствии мне приходилось посрать, боль бывала адская. Но срать я почти перестал. Время от времени в небе пролетал самолет, довольно медлительно, так мне казалось. Так случалось, что вечером, под конец дня у меня часто оказывался мокрым низ брюк. Это от собак. Сам я писать почти перестал. Если вдруг у меня возникала нужда, я справлял ее, пустив тоненькую струйку в гульфик. Заступив на пост, я не покидал его до самого вечера. Есть я почти перестал, газов мне Господь отмерил весьма скупо. После работы я покупал бутылку молока, которую выпивал вечером в каретнике. Точнее, бутылку всегда покупал для меня мальчишка, всегда один и тот же, меня самого не желали обслуживать, уж не знаю почему. Я платил ему пенни за труды. Однажды я стал свидетелем странной сцены. Как правило, я не слишком много видел вокруг себя. Да и слышал не слишком много. Не обращал внимания. В сущности, меня там не было. В сущности, мне кажется, что меня никогда нигде не было. Но в тот день мне пришлось вернуться. В течение некоторого времени меня терзал какой-то шум. Я не стал искать ему причины, говоря себе, что он прекратится. Но ввиду того что шум не прекращался, я был принужден определить его источник. Таковым оказался мужчина, который, взгромоздившись на крышу автомобиля, ораторствовал перед прохожими. Такое, по меньшей мере, у меня сложилось понимание. Он так ревел, что обрывки его речи достигали моего слуха.
– Союз… братья… Маркс… капитал… бифштекс… любовь.
Автомобиль был припаркован к тротуару, прямо передо мной, и я наблюдал оратора со спины. Тут вдруг он обернулся и указал на меня, как на экспонат.
– Только взгляните на этого подонка, – гремел он, – на эту жалкую личность. Если он и не опускается на четвереньки, то только из страха перед живодерней. Старый, волосатый, полуразложившийся тип, хоть сейчас на помойку. И таких, как он, тысяча, нет, хуже, чем он, десять тысяч, двадцать тысяч… – Голос: «Тридцать тысяч». – Каждый день вы лицезреете их на улицах, и если вам повезло на скачках, то швыряете им свой грош. Думаете ли вы? – Голос: «Нет». – Ну конечно нет, – продолжал оратор, – это вопрос риторический. Пенни, два пенса… – Голос: «Три пенса». – Вам ведь и в голову никогда не приходит, что это порабощение, уничижение, организованное убийство, что таким образом вы подаете милостыню из своих преступных доходов. Рассмотрите хорошенько этот полутруп, этого драного кота. Вы скажете, что во всем виноват он сам. Спросите-ка, его ли в этом вина. – Голос: «Спросите сами».
Тогда он нагнулся и резко окликнул меня. Свою дощечку я усовершенствовал. Теперь она состояла из двух половинок на шарнирах, так что по окончании рабочего дня я мог сложить и сунуть ее за пазуху, мастерить я всегда любил. Я стянул тряпку, положил в карман несколько полученных за день монет, сложил половинки и сунул дощечку за пазуху.
– Так говори же, прокаженный ублюдок, – неистовствовал оратор. Я ушел, хотя было еще светло. Но в целом, следует признать, мой перекресток оказался вполне безмятежным, то есть оживленным, но не многолюдным, процветающим и удобным. Наверное, то был какой-то религиозный фанатик, другого объяснения у меня нет. Или, может быть, он сбежал из палаты буйных. Лицо у него было доброе, разве что с багровым отливом.
Мне не приходилось ходить на работу ежедневно. Расходов у меня почти не было. Под конец мне даже удавалось откладывать на свои самые последние дни. Если я не выходил на работу, то проводил день лежа в каретнике. Он находился на берегу реки, на земле, некогда принадлежавшей усадьбе. Дом выходил на сумрачную, узкую и молчаливую улицу, а само поместье окружала стена, за исключением, разумеется, реки, определявшей на протяжении тридцати шагов его северную границу. Напротив, на том берегу, виднелись пристани, а за ними переплетение низеньких домов, пустырей, заборов, печных труб, башен и шпилей. Там же находилось своего рода марсово поле или плац, где солдаты круглый год играли в футбол. Только на окнах – нет… Усадьба казалась заброшенной. Решетка была на замке. Аллеи поросли травой. Только на окнах первого этажа сохранились ставни. В других окнах иногда, по ночам, угадывались огоньки, мне так казалось. Может быть, окна светились отраженным светом. В тот день, когда я вселился в каретник, я обнаружил там лодку, лежавшую кверху днищем. Я перевернул ее, заделал пробоины камешками и деревяшками, удалил гребные банки и устроил в лодке ложе. Благодаря наклону корпуса крысам непросто было бы до меня добраться. Но стремиться-то они стремились. «Подумайте только, живая плоть», – ведь я все еще был живой плотью. Я слишком долго жил среди крыс, на разных квартирах, которые уготовила мне судьба, чтобы испытывать к этим грызунам свойственное плебеям омерзение. Более того, к крысам я питал известное расположение. Они шли ко мне с величайшим доверием, без всякой опаски. Умывались они как кошки, такими же жестами. Жабы, эти-то сидели неподвижно целыми вечерами, втягивая в себя пролетавших мимо мух. Жабы располагались в убежищах, но на границе открытого воздуха, они любили пороги. Однако здесь речь идет о водяных крысах, худых и беспощадно злых. Поэтому из разрозненных досок я соорудил для лодки крышку. Поразительно, сколько в своей жизни я нашел досок, всякий раз, когда мне требовалась доска, я немедленно находил ее, стоило только нагнуться. Мне нравилось мастерить, нет, не так, но вообще-то я не имел ничего против поделок. Она закрывала лодку целиком, теперь я снова говорю о крышке. Я чуть сдвигал ее к корме, залезал в лодку с носа, полз к корме, вытягивался, приподнимал ноги и двигал крышку обратно, пока она не накрывала меня полностью. Для того чтобы осуществить толчок, я упирался ногами в траверсу, которую для этой цели прибил к внутренней стороне крышки, мне нравилось мастерить. Все же имело смысл влезать в лодку со стороны кормы и при помощи рук тянуть крышку на себя, так чтобы она закрывала меня полностью, и, схожим образом, отталкивать ее от себя, когда мне нужно было вылезти. Для того чтобы держаться руками, я вбил в крышку, в нужных местах, два больших гвоздя. Эти, с позволения сказать, мелкие столярные работы, выполненные с помощью инструментов и материалов, которые даровал мне случай, не раздражали меня. Я знал, что скоро конец, и поэтому играл роль… так ведь… чью же роль… как сказать, не знаю. Должен признаться, что в лодке мне было хорошо. Крышка оказалась пригнана так ладно, что мне пришлось проделать в ней отверстие. Не следует закрывать глаза, в темноте их нужно держать открытыми, таково мое мнение. Я говорю не о состоянии сна, я говорю о состоянии, которое, насколько мне известно, именуется бодрствованием. Впрочем, в ту пору я спал очень мало, мне не хотелось спать, или, наоборот, хотелось спать очень сильно, не знаю, или же я боялся, не знаю. Лежа на спине, я почти ничего не видел, только вот сквозь крошечные трещины в крышке до меня доходил смутный свет вошедшего в каретник серого дня. Ничего не видеть вообще, нет, это чересчур. До меня доносились приглушенные крики чаек, которые кружили где-то недалеко, над пастью сточного коллектора. Клокочущим желтоватым потоком, если мне не изменяет память, нечистоты вливались в реку, а в небе метались птицы, испуская крики голода и гнева. Я слышал плеск речной воды о пристань, о берег, но и тот другой звук, такой отличный от первого, шум вольных волн я тоже слышал. Сам я, когда пришло время тронуться с места, в меньшей степени был лодкой, чем волной, так мне казалось, а мой застой был застоем кильватера. Звучит невероятно, не исключаю. Да и дождь тоже, мне часто слышался его шум, потому что часто шел дождь. Иногда о меня взрывалась просочившаяся через крышу каретника капля. В мире наблюдалось немало жидкости. Да и ветер иногда присоединял голос к хору, выступая в собственном качестве или посредством своих многочисленных игрушек. Но что это за звуки? Шелест, вой, стоны и тяжкие вздохи. Что бы я желал услышать, так это звонкие удары молота, бам, бам, бам, раздающиеся в пустыне. Я пердел, это можно сказать со всей определенностью, но газы выходили влажные, почти илистые, растворяясь, с каким-то насосным звуком, в великом ничто. Не знаю, сколько времени я там пробыл. Должен признаться, что в моем ящике мне было хорошо. Мне казалось, что в последние годы я добился известной независимости. То, что никто не приходил, то, что никто и не мог прийти и справиться о моем благополучии, справиться о том, не испытываю ли я в чем нужды, почти перестало меня заботить. Мне было хорошо, ну да, просто отлично, и страх перед всеобщим ухудшением разве что не улетучился. Что до моих потребностей, то последние сузились, так сказать, до моих размеров, а с точки зрения качества стали настолько изысканными, что совершенно исключали какое-либо внешнее участие. Способность сознавать себя вне собственных границ, сколь бы лживым и слабым ни было это внешнее существование, некогда воспринималась мной как дар. Так вот и становишься нелюдимым. Думаешь, а на той ли планете ты родился? Даже слова оставляют нас, вот так вот. Пожалуй, в такие минуты сосуды перестают сообщаться, ну вы догадываетесь, о чем я, сосуды[3]. Так и живешь между двумя волнами, мелодия, без сомнения, одна и та же, но, Боже ж мой, доказать не удастся. Случалось так, что мне хотелось сдвинуть крышку с места и выбраться из лодки, но я оказывался бессилен это сделать, настолько я ослаб и обленился, и так мне было хорошо там, на дне. Я ощущал их совсем рядом, улицы леденящие и суматошные, и ужасающие лица, и шум, что режет пополам, пронзает, ранит, контузит. Поэтому я ждал, пока желание посрать ну или пописать не придаст мне сил. Мне не хотелось марать свое гнездо! И все же иногда приходилось это делать, причем все чаще и чаще. Стянув с себя брюки, я выгибался и чуть поворачивался на бок, ровно настолько, чтобы высвободить отверстие. Создать собственное королевство посреди вселенского дерьма, а потом насрать на него, это так на меня похоже! Они тоже были мной, мои испражнения, я отлично это понимаю, и все же. Довольно, довольно, видения, вот уже мне стали являться видения, мне, которому они никогда не являлись, разве что изредка, во сне. Строго говоря, они мне никогда не являлись. Разве что когда я был совсем маленьким. Так гласит мой миф. Я сознавал, что это – видения, потому что на дворе была ночь и в своей лодке я находился один. Что еще это могло быть? Итак, я находился в лодке и скользил по водам. Грести не приходилось, меня увлекало отливным течением. В любом случае, вёсел не наблюдалось, они их, должно быть, унесли. В моем распоряжении была доска, наверное, обломок гребной банки, и я пользовался ею, если лодку относило к берегу или если на меня надвигался торчавший из воды столб или пришвартованная баржа. На небе виднелись звезды, что ж, неплохо. Я не знал, какая погода, я не испытывал ни холода, ни жары, и все, казалось, было спокойно. Берега уходили все дальше, что было неизбежно, я перестал их видеть. Огоньки редкие и слабые помечали разраставшуюся водную пустыню. Люди спали, тела их набирались сил в преддверии трудов и радостей грядущего дня. Лодка перестала скользить, она чуть подпрыгивала, пытаясь увернуться от пощечин небольших волн теперь уже соленой воды. Все казалось безмятежным, однако пена перехлестывала через борт. Морской воздух окружал меня теперь со всех сторон, земля перестала служить защитой, да и что она в подобных условиях значит, защита. Я видел маяки, числом четыре, причем один был плавучим. Я хорошо знал их, я научился узнавать их еще совсем маленьким. Тем вечером я стоял с отцом на возвышенности, он держал меня за руку. Мне хотелось, чтобы отец притянул меня к себе, в жесте покровительственной любви, но голова его была занята другими вещами. Он обучил меня названиям гор. Но скажу, дабы покончить с видениями, что в поле моего зрения попадали и огоньки буйков, этих было немало, красных, зеленых и даже, к моему удивлению, желтых. А на склоне горы, что, удаляясь, нависала над городом, полыхали пожары, золотым и красным, красным и золотым. Я хорошо знал, что горит, это горел дрок. Сколько раз я сам, мальчиком, поджигал его спичкой. А затем, вернувшись домой, прежде чем заснуть, наблюдал из своего высокого окна пожар, причиной которого я стал. Вот и той ночью, исполненной слабыми огоньками на море, на суше и в небе, я отплыл вдаль по прихоти отлива и течений. Шляпа моя была тесемкой привязана к петлице. Я поднялся со своего места на корме. Послышался тяжелый звон. Это звенела цепь, одним концом закрепленная на носу, другим обмотанная вокруг моей талии. Должно быть, я заранее проделал в днище отверстие – вот я опустился на колени, пытаясь извлечь затычку с помощью ножа. Отверстие было маленьким, и вода прибывала медленно. Потребовалось бы добрых полчаса, учитывая все обстоятельства за исключением непредвиденных. Вновь усевшись и вытянув ноги к носу лодки, я откинулся на мешок, наполненный травой, что служил мне подушкой, и проглотил успокоительное. Море, небо, гора, острова сошлись в огромную, раздавившую меня систолу, затем снова расширились до пределов пространства. Отчужденно и без сожаления я подумал о повести, которую не сумел рассказать, о повести по образу и подобию моей жизни, то есть, я хочу сказать, подумал, не испытывая мужества закончить и не имея сил продолжать.
1945Изгнанник
Ступенек, ведущих в дом, было немного. Я считал их тысячи раз, как поднимаясь, так и спускаясь по лестнице, но числа не запомнил, оно не сохранилось в памяти. Я так и не усвоил, нужно ли говорить «раз», все еще стоя на тротуаре, «два», поставив вторую ногу на первую ступеньку, и так далее, или тротуар считать не следует. Дойдя до последней ступеньки, я сталкивался с той же дилеммой. В другом направлении, то есть сверху вниз, все было то же, и это еще мягко сказано. Я не знал, ни с чего начинать, ни чем заканчивать, назовем вещи своими именами. В результате я получил три совершенно разных числа, не имея представления о том, какое из них правильное. Так, говоря, что число не сохранилось в памяти, я подразумеваю, что в памяти у меня не запечатлелось ни одно из этих чисел. Справедливо и то, что, восстановив в памяти (там, где оно безусловно хранится) одно из этих чисел, я бы восстановил его и только его, не умея при этом вспомнить два других. И даже найди я два числа, не вспомнил бы третье. Нет, необходимо было восстановить в памяти три числа, чтобы знать их все. Воспоминания убийственны. Поэтому не нужно думать об определенных вещах, о тех, что дороги сердцу, или скорее о них следует думать, потому что если о них не думать, то возникает угроза восстановить их мало помалу в памяти. Иными словами, о них нужно хорошенько задумываться по многу раз на день, пока их не покроет непроходимый слой ила. Таков порядок.
В конце концов число ступенек совершенно не важно. Следовало запомнить только то, что ступенек было немного, а это я как раз запомнил. Ступенек было немного даже для ребенка, по сравнению с другими крылечками, которые мальчик знал ввиду того, что глядел на них ежедневно, поднимался и спускался с них, играл на их ступеньках – в бабки и в другие игры, которые он позабыл вплоть до названия. Что тогда говорить о высоте, если мы встали на точку зрения мужчины, в которого мальчик умудрился превратиться?
Так, падение оказалось нетяжелым. Все еще падая, я услышал, как хлопнула за мной дверь, и это меня утешило, пусть даже в разгар падения. Это означало, что они не станут преследовать меня, не побегут за мной на улицу с палкой – избивать меня на глазах у прохожих. Ведь если таково было их намерение, они бы не заперли дверь, но оставили ее открытой, так чтобы столпившиеся в передней люди могли насладиться зрелищем наказания и извлекли из него урок. Следовательно, на этот раз они довольствовались тем, чтобы вышвырнуть меня вон. У меня было время завершить свое умозаключение, прежде чем я утвердился в сточной канаве.
В создавшихся условиях ничто не вынуждало меня сразу подниматься на ноги. Локтем я оперся, вот чудно́е воспоминание, о тротуар, поместил ухо в сгиб руки и мысленно рассмотрел положение, в котором оказался, сколь бы знакомым для меня оно ни было. Однако звук, чуть более приглушенный, но, несомненно, происходивший, как и прежде, от того, что в доме отворили и вновь захлопнули парадную дверь, пробудил меня от грезы – в которой уже принимал очертания целый пейзаж, сновидчески разукрашенный кустами боярышника и шиповника, – и заставил меня вскинуться в тревоге, опереться обеими руками о тротуар и напрячь ноги, приготовившись к побегу. Но то оказалась всего лишь моя шляпа, которая, кружась, достигла меня по воздуху. Я поймал и надел ее. В конце концов, согласно своему Богу, они были правы. Они могли бы оставить шляпу себе, но ведь она им не принадлежала, она была моя, и вот они мне ее вернули. Но греза исчезла.
Какими словами описать эту шляпу? И для чего? Когда голова моя достигла не то чтобы окончательных, но своих максимальных размеров, отец сказал мне: «Что ж, сынок, пора идти за твоей шляпой», – как если бы моя шляпа существовала с незапамятных времен в единственно для нее предназначенном месте. В магазине он направился прямо к шляпе. Я не оказал на его решение ни малейшего влияния, так же как и шляпник. Я часто спрашивал себя, а не может ли быть так, что отец не преследовал цели меня унизить, что он, уже обрюзгший, сизоносый старик, вовсе и не завидовал мне, человеку молодому и красивому, по крайней мере, полному сил. С того дня мне запрещалось выходить на улицу с непокрытой головой, подставляя ветру задорную каштановую челку. Иногда, в глухом переулке, я снимал ее и держал в руках, но неизменно с внутренней дрожью. От меня требовалось чистить ее щеткой каждое утро и каждый вечер. Мальчики моего возраста, с которыми я, несмотря ни на что, вынужден был время от времени общаться, насмехались надо мной. Но я говорил себе: «Дело не в шляпе, ведь они смеются над шляпой, потому что она чуть выделяется на фоне других головных уборов, просто им не хватает чувства такта». Меня всегда поражало отсутствие тактичности в моих современниках, ведь моя-то душа с утра до ночи извивалась в поисках себя самой. А может быть, они, напротив, проявляли ко мне доброту, подобно людям, издевающимся над большим носом горбуна. Когда отец скончался, я был волен избавиться от шляпы, ничто меня не останавливало, ничто и никто, кроме меня самого, но я оставил все как есть. Как описать ее? В другой раз, в другой раз.
Я вновь поднялся и зашагал прочь. Уж и не знаю, сколько мне могло быть тогда лет. События, которые со мной произошли, не содержали, в рамках моего существования, никакого указания на дату. Ни для чего в моей жизни они не стали ни колыбелью, ни могилой. Хотя и напоминали собой столько колыбелей, столько могил, что я вконец запутался. Но не будет преувеличением сказать, что я был в самой поре, то есть, как говорится, в расцвете сил. Да уж, что до моих сил, остается лишь сказать со всей определенностью, что они цвели вовсю. Я перешел улицу и повернулся лицом к дому, из которого меня только что вышвырнули, я, который всегда уходит не оборачиваясь. Какой же он был красивый! На окнах виднелись горшки с геранью. Я долгие годы упражнялся с геранью. Герань – изрядная бестия, но в конце концов я научился делать с ней все, что угодно. Дверью в этот дом, увенчивавшей невысокое крыльцо, я всегда живо восхищался. Как описать ее? Выкрашенную в зеленый цвет массивную дверь летом одевали в своего рода дощатую бело-зеленую рубашку, предусмотрев отверстие для громового дверного молотка из кованого железа и соответствовавшую ящику для писем щель, которую закрывала медная пластинка с пружинкой, защищая почтовый ящик от пыли, насекомых и синичек. Вот так. С двух сторон дверь обрамляли пилястры одного с ней цвета, причем на правом крепился звонок. Шторы на окнах удовлетворяли самым взыскательным вкусам. Казалось, что дым, столбом поднимавшийся из печной трубы, что отвечала за кухню, вьется и растворяется в воздухе более печально, чем истечения из соседних труб, причем обладает особым оттенком синевы. На третьем, и последнем, этаже дома неприлично зияло мое окно. Генеральная уборка достигла зенита. Через пару часов они вновь закроют окно, задернут шторы и обработают поверхности формалином. Я хорошо их знал. Я бы с готовностью умер в этом доме. Мне привиделось (точно я грезил наяву), как дверь открывается и меня выносят оттуда ногами вперед.
Впрочем, мне не страшно было окинуть дом взглядом, ведь я знал, что они не шпионят за мной из-за занавесок, хотя при желании и могли бы за мной следить. Но я хорошо их знал. Каждый из них вернулся в свой угол, к привычным занятиям.
Однако я не причинил им никакого вреда.
Я плохо знал город – место моего рождения и первых шагов в жизни, первых и всех последующих, шагов, которые, казалось, столь сильно запутали мои следы. Я так редко выходил из дома! Время от времени, подойдя к окну, я раздвигал шторы и обозревал улицу. Но очень скоро возвращался в глубины комнаты, туда, где помещалась кровать. Мне становилось не по себе от всего этого воздуха, на пороге бесчисленных, спутанных перспектив. Все же в ту пору я еще умел действовать, когда возникала абсолютная необходимость. Но поначалу я поднимал глаза к небу, откуда спешит к нам достославная помощь, где не размечены дороги, где вы путешествуете свободно, как в пустыне, и ничто не заслоняет обзора, в какую сторону ни посмотреть, если только не сама ограниченность обзора. Поэтому, когда дела шли скверно, я и возводил очи (однообразие нарастает, но ничего не поделаешь) дарующему отдохновение небу, то подернутому облачками, то заложенному, то скрытому пеленой дождя, то ослепленному огнями города, деревни, земли. В юности мне казалось, что жить хорошо посреди равнины, и я отправился в Люнебургскую пустошь. Думая о равнине, я отправился в пустошь. Можно было выбрать и другую пустошь, гораздо ближе к дому, но голос сказал мне: «Вам нужна Люнебургская пустошь», – я ведь не терплю тыканья. Тут, наверное, сыграла свою роль лунная стихия. Что ж, Люнебургская пустошь оказалась весьма разочаровывающей, весьма. Я вернулся оттуда обманутым и одновременно утешенным. Да, не знаю почему, но я никогда не чувствовал себя обманутым, а такое часто случалось, особенно на первых порах, без того чтобы одновременно или уже очень скоро после постигшего меня разочарования не ощутить необоримый прилив утешения.
Я пустился в путь. Вот так походка! Ригидность нижних конечностей, будто природа обделила меня коленями, слишком широко расставленные по отношению к оси движения стопы. Туловище, напротив, точно в силу некого компенсационного механизма, было мягким, как набитый тряпьем мешок, и сотрясалось, повинуясь непредсказуемым рывкам таза. Не раз я пытался устранить эти дефекты, выпрямить спину, сгибать ноги в коленях и ставить ступни ровнее, ведь дефектов у меня было, по меньшей мере, пять или шесть, но всегда это заканчивалось одинаково, то есть, я хочу сказать, заканчивалось потерей равновесия и последующим падением. Ходить следует так, чтобы не задумываться о своих действиях, так же просто, как если бы вы испускали вздох, а я, когда я шагал, не думая о том, что делаю, то шагал я так, как только что описал, и, раз начав следить за собой, делал несколько вполне приличных шагов, а затем падал. Я решил пустить дело на самотек. Подобная манера ходить объяснялась, по меньшей мере отчасти, известным наклоном торса, от которого я так и не смог до конца избавиться и который, разумеется, наложил отпечаток на мои наиболее впечатлительные годы, ответственные за выковывание характера, я говорю о периоде, что тянется, насколько хватает глаз, от первых спотыканий и детского стульчика до третьего класса школы, когда и закончилось мое классическое образование. У меня выработалась дурная привычка: стоило мне обмочиться или обгадиться в штаны, что случалось со мной вполне регулярно по утрам, около десяти или половины одиннадцатого, я с величайшей решимостью продолжал и стремился завершить свой день так, будто ничего не произошло. Одна мысль о том, чтобы переодеться или довериться матушке, всегда готовой прийти мне на помощь, была для меня невыносима, и до самого отхода ко сну я влачился повсюду, испытывая сущие мучения от смердевшего, обжигавшего и пристававшего к детским ляжкам и ягодицам итога моего недержания. Отсюда и мои преувеличенно осторожные движения при ходьбе, неестественно широкая постановка стоп и отчаянное балансирование торсом, призванное конечно же пустить пыль в глаза, убедить окружающих в своей беззаботности, в том, что я весел и полон задора, а также придать правдоподобие собственным словам в объяснение малоподвижности нижней части моего тела, которую я относил на счет наследственного ревматизма. Ввиду того что на вышеописанные труды я истратил свой юношеский пыл (в той мере, в какой он был мне присущ), я превратился в человека раздражительного и недоверчивого чуть раньше положенного срока, питая склонность к одиночеству и горизонтальному положению. Решения несчастной юности, которые ничего не дают. Поэтому нечего стесняться. Можно умствовать без страха, туман не рассеется.
Стояла чудесная погода. Я тащился по улице, стремясь как можно теснее прижаться к тротуару. Стоит мне прийти в движение, как обнаруживается, что недостаточно широк для меня и самый широкий тротуар, а ведь меня ужасает мысль о неудобствах, которые я могу причинить незнакомцам. Остановивший меня полицейский сказал: «Проезжая часть для экипажей, тротуар – для прохожих». Как строчка из Ветхого Завета. Я вступил на тротуар, почти извиняясь, и сделал, совершая неописуемые пируэты, добрых двадцать шагов, пока мне не пришлось броситься на землю, чтобы не зашибить ребенка. Помню, что на нем была миниатюрная упряжка с бубенчиками, наверное, он воображал себя пони, ну или першероном, почему бы и нет. Я бы задавил его с радостью, терпеть не могу детей, это лучшее, что для него можно было бы сделать, однако я страшился расправы. Мир состоит из родителей, и это лишает нас надежды. На оживленных улицах надлежит выделять полосы для маленьких засранцев, для их колясочек, колечек, сосочек и самокатов, для их папок, мамок, нянек и воздушных шаров, для всего их паскудного благополучия. Я упал и увлек за собой старую даму, всю в кружевах и стеклярусе, весившую не менее центнера. Ее крики привлекли толпу зевак. Я льстился надеждой, что она сломала шейку бедра, старухам ничего не стоит сломать шейку бедра, но моих надежд оказалось недостаточно, увы, недостаточно. Воспользовавшись всеобщей сумятицей, я удалился, бормоча нечленораздельные проклятия, как будто это я был жертвой, да я и был жертвой, хотя и не смог бы это доказать. Вот детей, младенцев никогда не линчуют, их заранее обеляют, что бы они ни сотворили. Будь моя воля, я бы линчевал их с превеликим удовольствием, не хочу сказать, что стал бы сам мараться, нет, я не склонен к насилию, но я бы воодушевлял других и приглашал их выпить после работы. Впрочем, не успел я возобновить свою безумную сарабанду на тротуаре, как меня остановил второй полицейский, во всем похожий на первого, похожий до такой степени, что я задался вопросом, а не одно ли это лицо. Он заметил мне, что тротуар предназначен для всех, как будто само собой разумелось, что меня к этому классу приобщить невозможно.
– Не угодно ли вам, – сказал я безо всякой мысли о Гераклите, – чтобы я сошел в сточную канаву?
– Сходите, куда вам заблагорассудится, но не занимайте собой все место.
Я нацелился на его верхнюю губу, которая располагалась сантиметрах в трех от моего рта, и с силой выдохнул. Я проделал это, как мне кажется, вполне естественно, подобно человеку, который под грузом огорчительных обстоятельств испустил тяжелый вздох. Но он и бровью не повел. Наверное, он был привычен к обстановке вскрытия или эксгумации.
– Не умеете, черт собачий, ходить как все, сидели бы лучше дома. – Он выразил мои чувства. А то, что он предположил наличие у меня дома, не могло не доставить мне удовольствия. В эту минуту мимо проехал похоронный кортеж, как иногда случается. В воздух поднялся вихрь шляп. Замелькали тысячи пальцев. Лично я, если бы мне пришлось осенять себя крестом, вложил бы в это все сердце, как полагается: переносица, пупок, левый сосок, правый сосок. Но эти люди, с их скорым и неточным шелестом пальцев, обращали распятие в какой-то неряшливый шар, ни малейшего порядка, колени под подбородком, руки невесть где. Самые упорные вставали как вкопанные и начинали что-то бормотать. Что до ажана, он тоже замер, закрыл глаза и отдал честь. В окнах составлявших кортеж фиакров я углядел людей, которые оживленно беседовали: несомненно, они обсуждали эпизоды из жизни покойного или покойной. Кажется, мне говорили, что декор катафалка зависит от пола умершего, но я так и не усвоил, в чем различие. Лошади пердели и гадили так, будто направлялись на ярмарку. Никто не преклонял колена.
Но такие вещи длятся у нас недолго, я имею в виду проводы в последний путь, сколько ни ускоряй шаги, а последний фиакр, тот, в котором едет прислуга, скоро оставит вас позади, вот и конец передышке, люди расходятся, пора подумать о себе. Дошло до того, что я остановился в третий раз, теперь исключительно по собственной воле, и нанял фиакр. Экипажи, которые только что меня обогнали, заполненные оживленно спорившими людьми, должно быть, произвели на меня неизгладимое впечатление. Огромный черный короб моего фиакра раскачивался на рессорах, окна маленькие, я скрючился в углу, воздух внутри затхлый. Я ощущал, как моя шляпа трется о потолок. Чуть позже я наклонился вперед и затворил окна. И снова уселся, спиной по направлению движения. Я было задремал, но скоро вздрогнул и проснулся от голоса, принадлежавшего, как оказалось, извозчику. Он открыл дверь, несомненно отчаявшись докричаться до меня через стекло. Мне видны были только его усы.
– Куда? – спросил он.
Подумать только, он нарочно слез с козел, чтобы сказать мне это. А мне-то казалось, что я уже далеко! Я поразмыслил, выискивая в памяти название какой-нибудь улицы или памятника.
– Ваш фиакр продается? – спросил я. – Без лошади. – Что мне было делать с лошадью? Ну а с фиакром что мне было делать? Смог бы я лежать в нем вытянувшись? А кто будет приносить мне еду? – В зоосад. – Маловероятно, чтобы в столичном городе не было зоосада. – Не слишком быстро. – Он засмеялся. Должно быть, мысль о скоростной поездке в зоосад его позабавила. Если только веселье его не было вызвано перспективой остаться без фиакра. Если только веселье его не было вызвано мной, моею собственной персоной, как если бы мое присутствие в салоне фиакра совершенно его преобразило, до той степени, что извозчик, наблюдая меня в экипаже, голова тонет в тени, колени упираются в стекло двери, задался, возможно, вопросом, неужто это его фиакр, неужто это вообще фиакр. Он метнулся к лошади, чтобы в последнем удостовериться. Но разве осознает себя человек, который смеется? Все же краткость его смешка предполагала, что причина не во мне. Он закрыл дверь и уселся на козлы. Лошадь вскоре тронулась.
Кстати сказать, тогда у меня еще оставалось немного денег. Что до небольшой суммы, которую оставил мне, в качестве дара, безо всяких условий, находившийся на смертном одре отец, я все еще задаюсь вопросом, не украли ли у меня эти деньги. Так я оказался на мели. Однако жизнь продолжалась и даже, в известной степени, соответствовала моим ожиданиям. Великое неудобство такого положения вещей, которое можно охарактеризовать как полную неспособность покупать, состоит в необходимости шевелиться. Так, если у вас действительно нет денег, то крайне редко случается, чтобы вам в обиталище приносили еду, хотя бы и время от времени. Поэтому возникает нужда приводить себя в движение и выбираться наружу, хотя бы раз в неделю. В рассматриваемых условиях домашнего адреса почти никогда не бывает, такова данность. Как следствие, я с некоторым запозданием узнал о том, что меня ищут по касавшемуся меня делу. Не помню, каким путем я об этом узнал. Газет я не читал и вряд ли смогу припомнить, чтобы в те годы я обсуждал с кем-нибудь вопросы пропитания, ну разве что три или четыре раза. Но вести до меня наконец дошли, так или иначе, а то меня бы никогда не представили мэтру Ниддеру, адвокату, занятно, как иные имена застревают в памяти, и он бы никогда меня не принял. Ему потребовалось удостоверить мою личность. Это продлилось довольно долго. Я показал ему свои металлические инициалы на подкладке шляпы, они ничего не доказывали, но увеличивали мои шансы.
– Распишитесь здесь, – сказал он, поигрывая логарифмической линейкой, которой можно было убить быка. – Пересчитайте. – В продолжение встречи ему помогала молодая женщина, вероятно продажная, которая, вне всякого сомнения, выполняла роль свидетельницы. Я засунул пачку купюр в карман. – Вы совершаете ошибку. – Я подумал о том, что ему следовало попросить меня пересчитать деньги до того, как дать мне расписаться, это было бы правильнее. – Где мне найти вас в случае надобности? – задал он вопрос. Спустившись по лестнице, я кое-что вспомнил. Чуть позже я вернулся в его кабинет и спросил, откуда пришли ко мне эти деньги, и добавил, что имею право знать. Он назвал имя женщины, которое с тех пор я успел забыть. Быть может, она держала меня на коленях, когда я был еще в пеленках, и нас роднили какие-то телячьи нежности. Иногда этого бывает достаточно. Вот именно что в пеленках, потому что позже уже не до телячьих нежностей. Благодаря этим деньгам у меня и оставалось немного. Совсем немного. Если разделить ее на все еще предстоявшую мне жизнь, сумма покажется ничтожной, разве что оценки мои грешили излишним пессимизмом. Я стукнул кулаком по перегородке где-то на уровне шляпы, там, где по моим расчетам должна была находиться спина извозчика. Из обивки вырвалось облачко пыли. Я извлек из кармана камень и стал стучать им по перегородке, пока фиакр не остановился. Я отметил, что в отличие от большинства экипажей он почти не замедлил ход, прежде чем замереть в неподвижности. Нет, он просто встал как столб. Я выжидал. Фиакр подрагивал. Извозчик на своем насесте, должно быть, вслушивался в окружавшие его звуки. Лошадь предстала моему мысленному взору как во плоти. Она не впала в обычное даже для ее кратких остановок состояние страшной подавленности – нет, она чутко прислушивалась, навострив уши. Я бросил взгляд в окно: мы пришли в движение. Я стукнул по перегородке еще несколько раз, пока фиакр не замер вновь. Чертыхаясь, извозчик слез с козел. Я опустил стекло, чтобы ему не вздумалось открывать дверь.
– Быстрее, быстрее. – На лицо он стал красным пуще прежнего, почти лиловым. То ли от гнева, то ли от колючего ветра. Я сказал, что нанимаю его на целый день. Он ответил, что в три часа пополудни у него похороны. Ах мертвые. Я сказал ему, что больше не хочу ехать в зоосад.
– Не поедем в зоосад. – Он отвечал, что ему безразлично, куда мы поедем, при условии, что это недалеко, учитывая состояние его животного. А еще рассуждают о предметности, присущей речи простолюдинов. Я спросил, знает ли он поблизости какой-нибудь ресторан. Пообедаете вместе со мной, добавил я. В таких местах я предпочитаю быть в обществе завсегдатаев. Там стоял длинный стол, а по бокам две лавки ровно такой же длины. За этим столом он рассказывал мне о своей жизни, о жене, о лошади, потом снова о жизни, об ужасной жизни, что выпала ему, в основном из-за его характера. Он спросил меня, отдаю ли я себе отчет в том, что это значит – торчать на улице в любую погоду. А еще мне довелось узнать, что до сих пор встречаются извозчики, которые уютно коротают дни в тепле своих фиакров и выбираются наружу, только если их растормошил клиент. Впрочем, в современных условиях так поступать не следует, нужно действовать другими методами, если хочешь скопить себе немного на старость. Я описал ему свое собственное положение, рассказал о том, что потерял, и о том, что ищу. Мы оба старались изо всех сил – понять, объяснить. Он понял, что я потерял комнату и подыскиваю другую, но все остальное от него ускользнуло. Он вбил себе в голову, и переменить его мнение представлялось мне невозможным, что я ищу меблированную комнату. Из кармана он вытащил вчерашнюю или позавчерашнюю газету и принялся за колонки с объявлениями, пять или шесть из которых он подчеркнул огрызком карандаша, тем самым, наверное, который дрожал в его руках над табличками с цифрами. Без сомнения, он выделил именно те объявления, которые выделил бы, окажись он на моем месте, или, может быть, те, которые соотносились с домами в квартале поблизости, учитывая состояние его животного. Я бы только сконфузил его, сообщив, что в отношении мебели не приемлю в своей комнате ничего, кроме кровати, и что прежде, чем мне ступить в комнату, из нее необходимо вынести все, вплоть до прикроватного столика. Около трех часов мы разбудили лошадь и пустились в путь. Извозчик предложил мне взобраться на козлы и сесть с ним рядом, но я уже некоторое время как мечтал снова очутиться в фиакре и поэтому с готовностью занял свое место внутри. Одну за другой мы посетили, надеюсь, что следуя некоей системе, квартиры по отмеченным им адресам. Короткий зимний день клонился к закату. Порою мне кажется, что только такие дни я и знал, всегда выделяя в них самую прелестную минуту, ту, что отделяет день от утопления в ночи. Адреса, которые он подчеркнул или, точнее, пометил крестиком, по обычаю людей из народа, оказывались, один за другим, бесполезными, и он их вычеркивал диагональной чертой. Позже он показал мне газету, убеждая меня сохранить ее у себя, чтобы мне не пришлось повторно ходить по домам, которые я уже признал неподходящими. Несмотря на закрытые окна, поскрипывания фиакра и шум улицы, я слышал, как он поет, восседая на высоких козлах. Он предпочел меня похоронам, такое не забывается. Извозчик пел: «Она далеко от земли, где спит ее юный герой». Только эти слова мне и запомнились. При каждой остановке он сходил с козел и помогал мне выбраться из фиакра. Я звонил в указанную им дверь и иногда исчезал внутри дома. Вспоминаю, какое это было странное чувство – вновь, после столь долгого перерыва, ощущать вокруг себя дом. Он ожидал на тротуаре, чтобы помочь мне влезть в фиакр. Этот извозчик начал мне чертовски надоедать. Он вскарабкивался на козлы, и мы отправлялись дальше. Настал час. Он остановился. Сбросив оцепенение, я приготовился выйти из экипажа. Однако он не спешил открывать дверь, чтобы подать мне руку, так что я был вынужден выйти сам. Он зажигал фонари по сторонам фиакра. Мне нравятся керосиновые лампы, пусть даже наряду со свечами, и, не считая звезды, они были первыми огнями, которые я увидел в жизни. Я спросил его, могу ли я зажечь второй фонарь, потому как первый он уже зажег сам. Он протянул мне коробок спичек, я открыл небольшую, выпуклого стекла створку на петлях, поднес огонек и закрыл дверцу, оставив фитилек гореть пламенем безмятежным и ярким, в уюте его теплого домика, неподвластного ветру. Я познал эту радость. Нам самим свет фонарей позволял различить разве что бока лошади, да и то смутно, но вот другие, должно быть, видели нас издалека, два желтых пятна, медленно плывущих по воздуху. Когда экипаж сворачивал, я видел конский глаз, красный или зеленый, в зависимости от обстоятельств, выпуклый ромбик, чистый и пронзительный, как витражное стекло.
После того как мы разделались с последним адресом, извозчик предложил отвезти меня в гостиницу, в которой, по его сведениям, мне было бы удобно. Это не лишено смысла, извозчик, гостиница, это правдоподобно. Благодаря его ходатайству я ни в чем не буду испытывать нужды. Все удобства, сказал он, в мгновение ока. Этот разговор, кажется, произошел на тротуаре, перед домом, из которого я только что вышел. Помню лошадиный бок в свете фонаря, впалый и влажный, и руку извозчика в шерстяной перчатке на дверной ручке. Крыша фиакра находилась на уровне моей шеи. Я предложил ему выпить. Лошадь не пила и не ела целый день. Я указал на это извозчику, на что он ответил, что его животное не будет ничего есть, пока не вернется в стойло. Случись ему съесть что-нибудь во время работы, будь то яблоко или кусок сахару, как у него начнутся желудочные боли и колики, которые пригвоздят его к месту и могут даже убить. Вот почему, если по какой-то причине ему необходимо оставить лошадь без присмотра, он вынужден завязывать ей рот, чтобы она не пострадала от добросердечия прохожих. После нескольких рюмок извозчик предложил мне оказать его жене и ему самому честь переночевать у них в доме. Дом его находился недалеко. Вспоминая теперь, со всеми преимуществами, которые дарует нам отстраненность, свои тогдашние переживания, я думаю, что весь тот день он только и делал, что кружил вокруг собственного дома. Они жили над стойлом, в глубине двора. Идеальное местоположение, мне бы подошло. Представив меня жене, обладательнице зада необычайных размеров, он удалился. Она, оставшись со мной наедине, явно чувствовала себя не в своей тарелке. Я мог ее понять, в подобных случаях я не настаиваю на строгом соблюдении приличий. Нет причин продолжать или заканчивать. В таком случае нужно заканчивать. Я сказал, что спущусь в стойло и там переночую. Извозчик запротестовал. Я настаивал на своем. Он обратил внимание жены на пустулу, что была у меня на черепе, так как из вежливости я снял шляпу. Ее следует удалить, сказала жена. Извозчик назвал врача, которого высоко чтил: тот избавил его от уплотнения на ягодице. Если ему угодно спать в стойле, сказала жена извозчика, пусть спит в стойле. Извозчик взял со стола лампу и, оставив жену в полной темноте, пошел впереди меня вниз по лестнице, точнее, по пожарной лестнице, что вела в стойло. В углу, на соломе он расстелил попону и оставил мне коробок спичек на случай, если бы мне пришлось посветить себе ночью. Не помню, что все это время делала лошадь. Вытянувшись в темноте, я слышал, как она с шумом пьет, а потом еще услышал ни на что другое не похожий звук внезапно пустившихся в галоп крыс и, над головой, приглушенные голоса ругавших меня извозчика и его жены. В руке я держал коробок спичек, большой коробок шведских спичек. Ночью я раз поднялся и зажег спичку. Ее недолгое пламя позволило мне установить местонахождение фиакра. Меня охватило, затем оставило желание поджечь стойло. В темноте я нащупал фиакр, открыл дверь – крысы полились наружу, я залез внутрь. Расположившись, я заметил, что фиакр стоит наклонно, что было неизбежно, так как оглобли теперь покоились на земле. Это меня устроило, потому что я смог откинуться назад, а ноги мои на противоположной скамье оказались выше головы. Несколько раз за ночь я ощущал на себе дыхание лошади, глядевшей на меня в окно фиакра. Свободная от упряжи лошадь, должно быть, дивилась тому, что я все еще в экипаже. Мне было холодно, так как я забыл захватить попону, но недостаточно холодно для того, чтобы пойти за ней. Через окно фиакра я все более ясно различал окно стойла. Я вылез из экипажа. Теперь в стойле было не так темно, так что я видел кормушку, полку, упряжь на вешалке, что еще, ведра и щетки. Я подошел к двери, но не смог ее открыть. Лошадь не отводила от меня глаз. Неужели лошади вообще не спят? Мне подумалось, что было бы разумнее, если бы извозчик ее привязал, скажем, к кормушке. Так что я принужден был покинуть стойло через окно. Это далось нелегко. Но что в мире дается легко? Я высунулся вперед головой, и, уже опершись ладонями о землю, продолжал бить ногами воздух, пытаясь вылезти из рамы. Помню пучки травы, за которые я цеплялся обеими руками, силясь высвободиться. Сначала мне следовало снять пальто и выбросить его в окно, но, чтобы сделать это, я должен был об этом заблаговременно подумать. Не успел я выйти со двора, как мне пришла в голову мысль. Слабость. Просунув купюру под крышку спичечного коробка, я вернулся во двор и положил коробок на подоконник окна, из которого только что вылез. В окне появилась морда лошади. Однако, сделав несколько шагов по улице, я вернулся во двор и вытащил свою купюру. Спички я оставил, они мне не принадлежали. Лошадь по-прежнему стояла у окна. Мне до смерти надоела эта кляча. Рассветало. Я не знал, где нахожусь. Я пошел в направлении солнца, туда, где, по моему мнению, ему надлежало вставать, чтобы быстрее выйти на свет. Мне бы хотелось видеть морской горизонт – или пустынный. Если в дороге меня застало утро, то я шагаю навстречу заре, а вечером, если я в пути, то следую за солнцем по пятам, пока не окажусь среди мертвых. Не знаю, для чего я рассказал эту сказку. Я мог бы рассказать и любую другую. Может быть, однажды я смогу поведать другую. Живые души, вы поймете, как они все похожи.
1945Успокоительное
Я теперь и не знаю, когда я умер. Мне всегда казалось, что я умер старым, девяноста лет от роду, и каких лет, и что мое тело служит тому доказательством, с головы до пят. Но этим вечером, в одиночестве ледяной постели, я ощущаю, что стану еще старше, чем тот день, та ночь, когда небо со всеми своими огоньками и светочами обрушилось на меня, то небо, на которое я столько смотрел с первых шагов на далекой земле. Потому что сегодня я слишком напуган тем, что стану свидетелем собственного разложения, огромных красных провалов сердца, бесполезных кручений слепой кишки и завершения в моем черепе долгого, беспрерывного убийства, низвержения несокрушимых столбов, совокупления с трупами. Следовательно, я расскажу себе историю, я попытаюсь рассказать себе еще одну историю, чтобы, паче чаяния, себя успокоить, и именно в ней я, представляется мне, окажусь стариком и буду старше, чем день, когда я упал, призывая помощь, и помощь пришла. Или, как знать, в этой истории я вернусь на землю, после смерти. Нет, это на меня непохоже, возвращаться на землю после смерти.
Для чего шевелиться, если я не в гостях? Что это, меня готовы вышвырнуть вон? Нет, никого нет. Я нахожусь в какой-то пещере, вроде берлоги, где пол устлан консервными банками. Значит, это не в сельской местности. Возможно, это какие-то бесхитростные развалины, то есть развалины безумия, на городских окраинах, в поле, так как поля почти что достигают наших стен, их стен, и ночью коровы засыпают под укрытием крепостных валов. В течение своего беспорядочного бегства я столько раз менял пристанище, что теперь путаю пещеры с руинами. Но город всегда был один и тот же. Правда, иногда ходишь словно во сне, воздух чернеет от домов и фабрик, провожаешь взглядом трамваи, а под ногами, влажными от травы, внезапно оказывается мостовая. Мне известен только город моего детства, и хотя я, должно быть, видел и другие города, я неспособен в это поверить. Все сказанное мной себя избывает, в конечном счете я не скажу ничего. Голод ли выгнал меня наружу? Или меня искушала погода? Было облачно и свежо, это правда, но не настолько, чтобы вытащить меня на улицу. Я не смог заставить себя подняться ни с первой попытки, ни со второй, а поднявшись наконец на ноги и прислонившись к стене, я задался вопросом, смогу ли я оставаться в этом положении, то есть на ногах, прислонившись к стене. Выйти и прогуляться – это представлялось совершенно невозможным. Я говорю так, будто это было вчера. Можно сказать, что вчера – это недавно, но недостаточно недавно. Ведь то, о чем я повествую сегодня вечером, протекает этим же вечером, в сей же скоротекущий час. Я больше не в стане этих убийц, не на ложе ужаса, но в своем далеком убежище, руки мои сцеплены, голова склонена на грудь, я слаб, одышлив, спокоен, свободен и стар такой старостью, до какой ни при каких обстоятельствах не смог бы дожить, если верны мои расчеты. Тем не менее я поведу свою повесть в прошедшем времени, как если бы речь шла о мифе или о басне, так как сегодня вечером мне приличествует другой возраст, так чтобы мой сегодняшний возраст стал тем возрастом, когда я превратился в то, что я есть. Чума на ваши времена.
Так или иначе, но постепенно я начал выходить и прогуливаться, маленькими шажками, среди деревьев, гляди-ка, деревья! Буйная растительность заполонила вчерашние тропинки. Я прислонялся к стволам, чтобы перевести дух или, ухватившись за ветку, пройти вперед. От моего последнего путешествия не осталось и следа. Вот они, гибнущие дубы д’Обинье[4]. Но нет, всего лишь лесок. Опушка где-то поблизости, сообщил мне свет все менее зеленый и будто свисавший с деревьев лохмотьями. Да, где бы вы ни были в этом крошечном лесу, то есть даже в глубине его убогих тайн, со всех сторон просвечивал бледный денек, суливший невесть какую дурацкую вечность. Умереть без сильных болей, так, в несильных болях, это того стоит, под слепым небом закрыть самому себе глаза, вот уже скоро глазницы, затем быстро перейти в качество падали, чтобы не вводить в заблуждение ворон. Таково преимущество смерти через утопление, одно из преимуществ, крабы прибывают на место не слишком скоро. Впрочем, все это вопрос организации. Но вот странное дело, не успел я выйти из леса и перебраться через окружавший его ров, как меня заняли мысли о жестокости, о той, что вызывает смех. Передо мной лежал роскошный луг, ну или убогий, какая разница, влажный от вечерней росы или недавнего дождя. За лугом, как мне было известно, шла дорога, затем тянулось поле, затем, наконец, высились, запирая перспективу, крепостные стены и валы. Эти циклопических размеров зубчатые сооружения, которые вырисовывались на фоне неба лишь немногим менее сумрачного, чем сами стены, не выглядели руинами при взгляде от моих руин, хотя таковыми и были, я знал точно. Такая моим глазам предстала картина, вполне бесполезная, потому что знал я ее хорошо и, зная, испытывал к ней отвращение. Глазам моим предстал лысый человек в коричневом костюме, рассказчик. Он рассказывал смешную историю – историю одного фиаско. Я ничего в ней не понял. Он говорил что-то об улитках или о слизнях, ко всеобщему веселью. Женщины, похоже, получали от рассказа больше удовольствия, чем мужчины, если это возможно. Их пронзительный смех перекрывал аплодисменты, а когда последние стихли, все еще вспыхивал визгливо то тут, то там, утопив начало следующей сказки. Возможно, дамы грезили о вздымавшихся подле них членах, и с этих сладких берегов бросали крики ликования в комическую бурю, какой талант. Но ведь это со мной что-то должно сегодня произойти, с моим телом, как в мифах и в метаморфозах, со старым телом, с которым никогда ничего не происходило или происходило так мало, с телом, которое никого никогда не встречало, ничего не любило, ничего не желало, в своей луженой вселенной, вот только скверно ее вылудили, ничего не желало, если только не того, чтобы разбились вдребезги окружавшие его зеркала, плоские, кривые, увеличительные, уменьшительные, и чтобы само оно исчезло в сумятице расколотых образов. Да, сегодня вечером все должно быть так, как в сказке, которую читал мне отец, вечер за вечером, когда я был маленьким, а он – в добром здравии, чтобы меня успокоить, память сохранила из нее немного, хотя я и помню, что речь шла о приключениях некоего Джо Брима или Брина, сына смотрителя маяка, веселого парня пятнадцати лет, сильного и мускулистого, да, точно так и было написано, который, зажав в зубах нож, проплывал по ночам целые мили, охотясь за акулой, уж не знаю для чего, из чистого героизма, эту сказку отец вполне бы мог рассказывать мне по памяти, он знал ее наизусть, я тоже, однако это бы меня не успокоило, он должен был читать мне ее или делать вид, что читает, листая страницы и раскрывая смысл картинок, в которых теперь отражался я сам, одних и тех же картинок вечер за вечером, пока я не засыпал, прижавшись к его плечу. Стоило ему пропустить хоть слово, я бил его детским кулачком по большому животу, выпиравшему из-под кардигана и расстегнутых домашних брюк, в которых он отдыхал от служебного костюма. Мне удел теперь уход, борьба и, возможно, возвращение к тому старику, что я есть сегодня вечером, которому лет больше, чем когда-либо было отцу, больше, чем когда-либо будет самому мне. Вот меня довели до разговоров о будущем. Я перешел через луг на ногах одновременно негнущихся и ватных, других у меня не было. От моего последнего похода не осталось и следа, так давно это было. Поврежденные стебельки быстро восстанавливались, испытывая нужду в воздухе и свете, а сломанным стебелькам так же скоро вырастала замена. Я проник в город через ворота, именуемые Пастушьими, не встретив никого, если не считать первых летучих мышей, смахивавших на парящие распятия, не услышав ни звука, кроме звука собственных шагов, стука сердца в груди и, проходя под сводом арки, уханья филина, одновременно сладостного и свирепого, которое по ночам, зовущее, откликающееся на собственный зов в моем лесочке и в лесах неподалеку, проникало в мою лачугу как набат. Город, по мере того как я миновал квартал за кварталом, все больше поражал меня своим пустынным обликом. Он был освещен как обычно, даже ярче обычного, хотя магазины оставались закрыты. Но их залитые светом витрины, несомненно, преследовали цель завлечь клиента, который мог бы воскликнуть: «Гляди-ка, как красиво, и недорого, вернусь сюда завтра, если буду жив». Я чуть было не сказал себе – да сегодня же воскресенье! Трамваи катили по рельсам, следовали маршрутом автобусы, но этих последних было меньше, чем обычно, все ехали на малых оборотах, пустые, бесшумные, словно под водой. Я не увидел ни одной лошади! На мне было большое зеленое пальто с бархатным воротником, из тех пальто, какие носили году в тысяча девятисотом автомобилисты, принадлежавшее моему отцу, но рукавов у него не осталось, оно превратилось в огромную накидку. На мне оно висело мертвым грузом, не дающим тепла, и полы его влачились по земле, почти скребли землю, так они затвердели, так я иссох. Что станется, что может статься со мной в этом пустом городе? Однако я ощущал, что дома забиты людьми доверху, люди, скрывшись за портьерами, наблюдали за улицей или спали тяжелым сном, сидя в глубине комнаты, уронив голову на руки. Впрочем, у меня на голове была шляпа, всегда одна и та же, далеко я никогда не заходил. Я пересек город и вышел к морю, проследовав вдоль реки до устья. Я говорил себе, что вернусь, не слишком себе веря. Стоявшие на якоре корабли в порту, пришвартованные к пристани, не показались мне малочисленными по сравнению с будничным временем, как будто я что-нибудь мог знать о будничном времени. Однако пристань была пустынна, и ничто не указывало на движение кораблей, не служило знаком прибытия или отправления. Впрочем, все могло измениться в мгновение ока, явив мне чудесное преображение. Тотчас бы ожил мир людей моря и вещей моря, от моего взгляда не ускользнули бы едва заметные колебания кораблей больших и тяжелых и танец кораблей полегче, я услыхал бы страшный крик чаек и, быть может, матросов, крик пустой и белый, о котором не скажешь точно, ликующий он или горестный, крик, содержащий в себе и ужас, и гнев, так как они, матросы, принадлежат не только морю, но и земле. А может быть, мне удалось бы пробраться незамеченным на отходящий сухогруз и уплыть далеко, и там, вдалеке, провести несколько славных месяцев или даже год или два, на солнышке, в мире и покое, прежде чем умереть. И уж точно можно утверждать, даже не отплывая в дальние страны, что в многоликой, во всем искушенной портовой толпе мне удалось бы с кем-нибудь повстречаться, и эта встреча меня чуточку бы утешила, или переброситься парой слов со штурманом, слов, которые я унес бы с собой в лачугу и добавил к своей коллекции. Так я сидел, выжидая, на своего рода кабестане без навершия, и говорил себе: «Сегодня даже кабестаны вышли из строя». Внимательно осмотрев водную гладь, там, далеко за волноломами, я не обнаружил ни одной лодчонки. Стемнело, или почти стемнело, огни рассыпались по рябым волнам. Веселые маячки у входа в порт, я различал их, а равно и другие огни, мигавшие с берегов, с островов, с высоких мысов. Так и не обнаружив во всем пространстве признаков жизни, я приготовился уходить, отвернуться с грустью от этой мертвой гавани, так как бывают сцены, побуждающие нас к странному прощанию. Мне всего лишь нужно было опустить голову и вглядеться в землю под ногами, перед собой, ибо именно в таком положении я всегда черпал силы для, как сказать, не знаю… другими словами, из земли, а не с неба, пусть даже там, наверху, пребывает благость, приходила ко мне в трудные времена помощь. Там, на каменной плите, в которую я не вглядывался, для чего мне было в нее вглядываться, я вдруг увидел гавань, будто вдали, объятую гибельной черной волной, а вокруг – бурю и разрушение. Я никогда сюда не вернусь, сказал я себе. Но когда я встал на ноги, опираясь обеими руками о кромку кабестана, передо мной вдруг появился мальчишка, державший за рога козочку. Я снова сел. Он молчал, разглядывая меня, как мне показалось, без страха и отвращения. Правда, было темно. Его молчание представлялось мне естественным, ведь начинать разговор, как старшему, полагалось мне. Он был бос и одет в лохмотья. Привычный к этим местам, он свернул с дороги, завидев сутулую фигуру, которая покинуто громоздилась у края воды. Так я рассудил. Но теперь, стоя подле меня, да еще обладая орлиным глазом беспризорника, он не мог ошибиться. Однако он остался. Откуда во мне такое раболепие? Растрогавшись, потому что в конце концов ради этого я и вышел наружу, не ожидая ни малейшей выгоды от того, что могло воспоследовать, я принял решение заговорить с ним. Подготовив фразу, я открыл рот, ожидая ее услышать, но раздался только клекот, невразумительный даже для меня самого, а мне ведь известны мои собственные намерения. Но не беда, то была всего лишь афония после долгого молчания, как в известном лесу, где открываются врата ада, ну вы помните, я-то уж точно. Не отпуская козу, он подошел ко мне вплотную и предложил конфету из бумажного кулечка, из тех, что продают за пенни. Мне уже лет восемьдесят как не предлагали конфет, но я ловко схватил ее и сунул в рот, старый жест вернулся ко мне, я был страшно растроган. Конфеты в кульке слиплись, и дрожащими пальцами мне было непросто отъединить одну верхнюю, зеленую, но мальчик помог мне, и рука его коснулась моей.
– Спасибо, – сказал я. А спустя несколько мгновений, когда он зашагал прочь, увлекая за собой животное, я сделал ему знак не уходить, подавшись к нему всем телом, и прошептал жарким шепотом: – Куда ты теперь со своей козочкой, мальчик?
Не успел я это сказать, как почувствовал, что меня душит стыд. Хотя слова в точности соответствовали авторскому намерению. Куда ты со своей козочкой, мальчик? Я бы покраснел, если б мог, но кровь моя не путешествует так далеко. Будь у меня в кармане монетка в пенни, я отдал бы ему монетку, чтобы он меня простил, но в кармане у меня не было ни монетки, ни чего-то подобного, ничего, что могло бы доставить удовольствие несчастному оборванцу на заре его жизни. Мне кажется, что в тот день у меня с собой не было ничего, кроме моего камушка, учитывая, что я вышел, так сказать, непредумышленно. В его ладной фигурке мне суждено было узреть только черные, вьющиеся волосы и веселую линию длинных голых ног, грязных и мускулистых. И руку его тоже, живую и юную, я не мог бы позабыть никогда. Мысленно я поискал другую фразу, которой можно было бы продлить разговор. Но нашел ее слишком поздно, он был уже далеко, ну не слишком далеко, но все же далеко. Так тихо и не оглядываясь он ушел из моей жизни, и никогда больше ни одна его мысль не была отдана мне, разве только в старости, когда, роясь в воспоминаниях о юных днях, он разыскал эту славную ночь и вновь взялся за рога козы и остановился передо мной, кто знает, с песчинкой нежности в сердце или даже зависти, правда, на это я не особо рассчитываю. Бедные милые твари, вы бы помогли мне. Чем занимается твой папа? Вот о чем я спросил бы его, располагай я временем. Взглядом я проследил за задними ногами козы, тощими, мозолистыми, широко расставленными, потрескавшимися от резких ударов. Вскоре двоица превратилась в малоразличимое пятно, и, не знай я их ранее, я мог бы принять их за молодого кентавра. Я подумывал о том, чтобы набрать пригорошню козьих катышков, так быстро затвердевших и остывших, понюхать их или даже попробовать на вкус, но нет, тем вечером это бы мне не помогло. Я говорю – тем вечером, как если бы все это происходило одним вечером, но вечеров ведь могло быть и два? Я пошел дальше с твердым намерением вернуться к себе как можно скорее, ведь возвращался я к себе не с пустыми руками, повторяя, что никогда сюда не вернусь. Болели ноги, и каждый мой шаг вполне мог стать последним. Но быстрые косые взгляды, которые я изредка бросал на витрины справа и слева от меня, являли образ мчащегося аллюром огромного цилиндра, будто скользившего по асфальту. Должно быть, я действительно шел быстро, так как, совсем не утруждая себя, оставил позади не одного прохожего, их шаги замирали за спиной, вот и первые люди, тогда как в иное время шаг мой казался черепашьим даже в сравнении с жертвами паркинсонизма. И тем не менее каждый из моих шажков с готовностью мог оказаться последним. Так что, ворвавшись на оставшуюся незамеченной на пути в город площадь, в глубине которой вздымался собор, я решил войти внутрь, при условии, конечно, что он оказался бы открыт, и спрятаться там на время, как в Средние века. Я говорю собор, хотя ничего в этом не смыслю. Но в этой истории, которая стремится оказаться последней, было бы донельзя досадно искать убежище в простой церкви. Я обратил внимание на саксонское чередование опор – очаровательно, но не для меня. Ярко освещенный неф выглядел пустынным. Я обошел его несколько раз, не встретив ни души. Возможно, все попрятались, забравшись под скамьи или скрывшись за стволами колонн, как дятлы. Внезапно в непосредственной близости от меня, причем без приличествующего случаю подготовительного скрежета, самовлюбленно завыл орган. Я живо подскочил с коврика перед алтарем, на котором растянулся, и побежал в другой конец нефа, как если бы хотел выйти, но это оказался не главный неф, а боковой, и поглотившая меня дверь вела не туда. Ведь вместо того чтобы окунуться в ночь, я очутился у подножия винтовой лестницы, по которой тут же взбежал, судорожно хватаясь за перила, забыв о своем сердце, как будто за мной гнался маньяк-убийца. По этой лестнице, тускло освещенной, не знаю чем, возможно, вздохами, я одышливо взобрался на консольную круговую галерею, которая со стороны бездны была огорожена циничным парапетом, а с внутренней огибала гладкую стену строения, увенчанного небольшим куполом, что крыт был свинцом или патинированной медью, уф, если только это понятно. Сюда, верно, приходили любоваться видом. Падающие с такой высоты умирают еще до приземления, это известно. Чуть ли не вжавшись в стену, я вознамерился обойти галерею по часовой стрелке. Но только я сделал несколько шагов, как мне повстречался мужчина, который с исключительной осторожностью шел вокруг галереи в противоположном направлении. Как бы мне хотелось сбросить его вниз, или чтобы он сбросил меня. Он взглянул на меня дикими глазами, а затем, не смея миновать меня со стороны парапета и справедливо предположив, что я не уступлю ему стену, быстро обернулся ко мне спиной, а точнее, повернул голову, так как спина его оставалась плотно прижатой к стене, и убрался туда, откуда явился, постепенно сократившись до одной своей левой руки. Потом и рука его скользнула и пропала из виду. Мне остался от него лишь образ вылезших из орбит, горящих глаз под клетчатой кепкой. Что это за вещный кошмар, в который я погрузился? Шляпа слетела с моей головы, но шнурок не позволил ей удрать. Отвернувшись от лестницы, я навострил глаза. Пустота. Затем появилась девочка в сопровождении державшего ее за руку мужчины, они шли прижавшись к стене. Он пустил ее вперед себя по ступенькам и сам исчез в колодце лестницы, а потом вернулся на шаг и, подняв глаза, взглянул на меня так, что я поежился. Пока он сходил по ступенькам, я видел только его непокрытую голову. Потом, когда они исчезли, я подал голос. Я быстро обошел галерею. Никого. Я взглянул на горизонт, где сходятся небо и горы, море и равнина и виднеется несколько низких звезд, которые не следует путать с огнями, что зажигают по ночам люди, и с теми, которые горят сами по себе, в одиночестве. Довольно. Вновь оказавшись на улице, я принялся искать дорогу по созвездиям, из которых мне хорошо знакома была Медведица. Попадись мне человек, уж я бы его не отпустил, не испугал бы меня и самый свирепый персонаж. Я бы обратился к нему, дотронувшись до шляпы: «Простите, месье, простите, месье, Пастушьи ворота, ради всего святого». Я полагал, что идти дальше попросту не смогу, но вот импульс достиг моих ног, и я зашагал, и даже, Боже правый, с приличной скоростью. Все же я возвращался не совсем с пустыми руками, унося с собой мнимую уверенность в своей принадлежности к этому миру, да и к тому тоже, в известном смысле, но цену я заплатил. Лучше мне было провести ночь в соборе, на коврике перед алтарем, я бы продолжил путь на рассвете, или же меня бы обнаружили окоченевшим, умершим настоящей, плотской смертью под взглядом голубых, как колодец надежды, глаз и написали бы обо мне в вечерних газетах. Но вот я уже шел вниз по широкой улице, отдаленно мне знакомой, хотя при жизни я вряд ли ступал на нее. Осознав же, что я иду под гору, я повернулся кругом и зашагал в противоположном направлении, так как опасался, что, спускаясь, снова выйду к морю, куда я поклялся не возвращаться. Я сказал, что повернулся кругом, но в действительности описал большую петлю, не теряя при этом скорости, так как страшился, что, остановившись, не смогу идти дальше, да, этого я тоже страшился. Я и сегодня вечером не осмеливаюсь остановиться. Все больше меня поражал контраст между освещением улиц и их малолюдностью. Можно ли сказать, что это обстоятельство угнетало меня, – нет, нельзя, и тем не менее я говорю это в надежде себя успокоить. Можно ли сказать, что на улицах не было ни души, – нет, так далеко я бы не стал заходить, потому что заметил немало силуэтов, как мужских, так и женских, странных, но не слишком отличавшихся от обычного. Что до часа дня, то об этом я не имел ни малейшего представления, если не считать того, что на дворе, вероятно, стоял один из часов ночи. Но при этом времени могло быть три или четыре часа утра или же десять или одиннадцать часов вечера, в зависимости от того, что именно вызывало в нас большее удивление, малочисленность ли прохожих или необычайное сияние фонарей и светофоров. Ведь тому или иному из двух этих явлений надлежало удивляться, чтобы не потерять разум. Ни одного частного автомобиля, но время от времени – автобус, медлительная капсула света, молчаливая и пустая. Я бы не стал задерживаться на антиномиях, так как мы, разумеется, пребываем в черепной коробке, но вынужден сделать несколько дополнительных замечаний. Все смертные, которых я встретил, шли в одиночестве и выглядели запавшими в самих себя. Подобное можно наблюдать на улицах ежедневно, но только в соединении с другими вещами. Единственную пару на моем пути образовали двое мужчин, которые схватились в борьбе, переплетая ноги. Я увидел только одного велосипедиста! Он ехал в одном со мной направлении. Все двигались в одном со мной направлении, включая автотранспорт, я только что осознал. Велосипедист медленно катил по центру улицы, читая газету, которую держал развернутой перед самыми глазами. Время от времени он звонил, не отрываясь от чтения. Я проследил за ним взглядом, пока он не превратился в точку на горизонте. Внезапно женщина, возможно легкого поведения, растрепанная и в изодранном платье, стремглав перебежала улицу. Вот все, что я хотел добавить. И вот еще странная вещь, я совсем не испытывал боли, даже в ногах. Слабость. Добрая ночь кошмаров и банка сардин вернет мне чувствительность. Моя тень, одна из моих теней, обгоняла меня, укорачивалась, путалась под ногами, следовала за мной по пятам, как приличествует теням. Моя собственная непроницаемость казалась мне вполне убедительной. Тут впереди я увидел мужчину на одном со мной тротуаре, идущего в одном со мной направлении, нужно же замусолить одну и ту же вещь до конца, извести сказку, которую не забыть. Расстояние между нами было велико, шагов семьдесят, и, опасаясь, что он ускользнет, я прибавил шагу, да так, что понесся вперед словно на коньках. Ведь это не я, сказал я себе, но воспользуемся благополучной минутой. Я вмиг оказался в дюжине шагов от незнакомца и сбавил скорость, так чтобы не налететь на него и не усугубить отвращение, которое моя персона вызывает даже в самых своих ничтожных проявлениях. Итак, чуть позже, смиренно шагая с ним рядом, я вопросил:
– Простите, месье, как мне пройти к Пастушьим воротам, скажите Христа ради.
Со стороны он выглядел вполне нормальным, если не считать центростремительного потока, о котором я уже говорил. Я чуть обогнал его, всего на несколько шагов, обернулся, склонился в полупоклоне, дотронулся до шляпы и сказал:
– Который час, ради всего святого! – Как будто меня не существовало. А что же конфета? – Огня! – вскричал я. Учитывая мою столь острую нужду в помощи, достойно удивления то, что я не преградил ему путь. Я не посмел, вот в чем дело, я не посмел до него дотронуться. Завидев скамейку у края тротуара, я уселся и скрестил ноги, как Вальтер[5]. Должно быть, я задремал, потому что следующим делом рядом со мной, на скамейке появился сидящий мужчина. Пока я его разглядывал, он открыл глаза и сам уставился на меня, наверное в первый раз, судя по тому, как он немедленно отпрянул с понятным мне чувством.
– Откуда вы взялись? – спросил он. То, что через столь короткий промежуток времени ко мне вновь обратились с речью, произвело на меня огромное впечатление. – Что с вами такое?
Я попытался изобразить собою человека, с которым может статься только то, что ему, по его природе, присуще.
– Простите, месье, – сказал я, приподнимая шляпу, едва оторвав зад от скамьи, – который час, ради всего святого!
Он назвал мне час, уж и не помню, какой именно, но час, который ничего не объяснял, вот все, что мне запомнилось, и не принес утешения. Но был ли вообще час, способный меня утешить? Я знаю, я знаю, что он придет, но сейчас-то куда мне было деваться?
– Что вы сказали? – К несчастью, я ничего не сказал. Но я вышел из положения, спросив, не поможет ли он мне найти путь, который я потерял.
– Нет, – ответил он, – потому что я не из этих мест, а сижу на этой каменной лавке только потому, что гостиницы заполнены или не хотят меня пускать, не имею понятия. Но вы-то, вы сами, расскажите мне свою жизнь, а там поглядим.
– Мою жизнь! – воскликнул я.
– Ну да, знаете ли, такая разновидность… как сказать? – Он надолго задумался, несомненно подыскивая вещь, разновидностью которой прилично было бы назвать жизнь. Потом продолжил весьма раздраженно: – Послушайте, это известно каждому. – Он толкнул меня в бок локтем. – Подробности не нужны, только магистральные линии, магистральные линии. – Ввиду же того, что я молчал как рыба, он добавил: – Ну хотите, я расскажу вам свою, так вам будет понятнее. – Рассказ его, краткий и насыщенный, содержал только факты, без пояснений. – Вот что я называю жизнью, теперь вам понятно? – Она была недурна, его повесть, а местами даже феерична. – Ваша очередь.
– Ну а что же Полина, – сказал я, – вы по-прежнему с ней?
– Да, – отвечал он, – но я собираюсь оставить ее и взять себе другую, помоложе и потолще.
– Вы много путешествуете.
– О, изрядно, изрядно.
Ко мне постепенно возвращались слова, а также навыки их озвучения.
– Для вас с этим покончено, сомнений быть не может, – сказал он.
– Как долго вы намереваетесь пробыть среди нас? – Последняя фраза показалась мне особенно изящной.
– Не сочтите за грубость, а сколько вам лет?
– Не знаю.
– Не знаете?! – вскричал он.
– Знаю, но неточно.
– Часто ли вам рисуются бедра, жопы, вульвы и окрестности?
– Не понимаю.
– То есть самопроизвольно он у вас не встает?
– Встает?
– Уд, – сказал он, – представляете, о чем речь, уд? – Я не знал. – Вон там, между ног.
– Ах это, – сказал я.
– Он утолщается, удлиняется, твердеет и вздымается, разве не так?
Мне бы не пришло в голову использовать эти слова. Все же я согласно кивнул.
– Тогда мы и говорим, что он встает. – Он задумался, а потом воскликнул: – Феноменально. Вы не находите?
– Довольно необычно.
– Вот так оно и есть.
– Но что с ней станет? – спросил я.
– С кем?
– С Полиной.
– Она будет стареть, – проговорил он со спокойной убежденностью, – сначала медленно, потом быстрее и быстрее, в боли и горечи, схвативши черта за хвост. – Лицо его я не находил полным, но сколько я ни смотрел на него, оно оставалось облаченным в плоть, вместо того чтобы приобрести качества мелового камня, изборожденного резцом. Даже сошник – и тот сохранял бугорок. Правда, беседа никогда не приносила мне пользы. С какой болью я вспоминал теперь нежную люцерну, я бы ступал по лугу тишайшими шагами, разувшись, и тень своего леса, такого далекого от заливавшего меня ужасного свечения.
– Чего это вы так скривились? – спросил он. Он держал на коленях большой черный мешок, напоминавший сумку повитухи, можно так сказать. Открыв мешок, он велел мне заглянуть внутрь. Мешок оказался наполнен флаконами. Они мерцали и посверкивали. Я спросил его, все ли они одинаковы.
– О нет, смотря по обстоятельствам. – Он вытащил один флакон и протянул мне его. – Шиллинг и шесть пенсов.
Чего он хотел от меня? Чтобы я купил его? Исходя из данной гипотезы, я сообщил ему, что у меня нет денег.
– Нет денег?! – вскричал он.
Внезапно он шлепнул меня ладонью по затылку, его сильные пальцы сжались на шее, и он притянул меня к себе резким движением. Но вместо того, чтобы прикончить меня на месте, он принялся бормотать вещи настолько сладостные, что я обмяк и повалился головой к нему на колени. Между его ласковым голосом и терзавшими меня пальцами контраст был разительный. Но мало-помалу две эти вещи слились в одну изматывающую надежду, если позволительно будет так выразиться, а мне позволительно. Потому что сегодня мне не суждено потерять ничего из того, о чем я мог бы подумать. И если я достиг точки (в моей сказке), где теперь нахожусь, без того чтобы он что-нибудь в ней изменил, потому что если бы он что-нибудь в ней изменил, то я бы, наверное, об этом знал, одним словом, достичь известной точки – это уже кое-что, а достичь ее без того, чтобы что-либо изменилось, – это совсем немало. Нет причин торопиться. Нет, завершить надлежит нежно, не мешкая, но нежно, так, как стихают на лестнице шаги возлюбленного, который не в силах больше любить и никогда не вернется, возлюбленного, сами шаги которого о том и говорят, что он не в силах любить и никогда не вернется. Он оттолкнул меня и снова показал мне флакон.
– Здесь все. – Все же это не могло быть тем же всем, что прежде. – Желаете? – Нет, но я сказал да, чтобы его не раздражать. Он предложил мне обмен. – Отдайте мне шляпу. – Я отказался. – Какая горячность!
– У меня ничего нет.
– Поищите в карманах.
– У меня ничего нет, – ответил я. – Я вышел без ничего.
– Отдайте мне шнурок. – Я отказался. Долгое молчание. – А что, если вы подарите мне поцелуй? – Я знал, что поцелуи витают в воздухе. – Можете снять шляпу? – Я снял шляпу. – Наденьте, вам лучше в шляпе. – Как человек здравомыслящий, он призадумался. – Ну же, поцелуйте меня и покончим с этим.
А он не боялся, что я отвечу на его ухаживания отказом? Нет, поцелуй – это не шнурок от ботинок, и он, должно быть, прочитал у меня на лице, что не все страсти во мне потухли.
– Так вперед, – сказал он. Я отер губы бородой и понес их к его губам. – Минуточку, – сказал он. Я прервал полет. – Вы знаете, что это такое, поцелуй?
– Да, да, – ответил я.
– Не сочтите за грубость, а когда вы целовались в последний раз?
– Ну не то чтобы недавно, но навык меня не покинул.
Он снял шляпу, котелок, и постучал себя по лбу.
– Сюда, – сказал он, – и только сюда. – У него было благородное чело, высокое и белое. Он наклонился в мою сторону, прикрыв веки. – Быстрее.
Я сложил губы куриной гузкой, как учила меня мама, и запечатлел поцелуй в указанном месте.
– Довольно. – Он хотел было поднести ко лбу руку, но жест остался незавершенным. Он водрузил на голову шляпу. Я обернулся и бросил взгляд на противоположную сторону улицы. Только теперь я заметил, что мы расположились прямо напротив конебойни. – Вот, держите. – А я и забыл. Он поднялся. Роста, как оказалось, он был небольшого. – Все по-честному, – сказал он с лучезарной улыбкой. Зубы его сверкнули.
Я слышал, как замирают в отдалении его шаги. Когда я поднял голову, никого не было. Как рассказать остальное? Но это конец. Или все это приснилось мне и снится до сих пор? Нет, нет, ничего подобного, таков мой ответ, потому что сон – это ничто, шутка. И к тому же шутка со значением! Я сказал себе: «Оставайся на месте, пока не рассветет. Ожидай, во сне, пока не потухнут фонари и не оживут улицы. Если потребуется, спросишь дорогу у городового, он обязан тебе помочь под страхом нарушения присяги». Вместо этого я встал и пошел дальше. Мои боли вернулись, но теперь им сопутствовало какое-то необычное свойство, не позволявшее мне в них завернуться. Но я сказал себе: «Мало-помалу ты вернешься к себе». Меня можно было узнать, если бы меня знали, уже по моей походке, медленной, ригидной, словно решающей при каждом шаге неповторимую статодинамическую задачу. Я пересек улицу и остановился у окна конебойни. За решеткой обнаруживались задернутые занавески, грубоватые занавески из полотна в сине-белую полоску – цвета Пречистой Девы, – отмеченные большими розовыми пятнами. Но в середине они оказались сомкнуты неплотно, и в щелку можно было разглядеть траурные конские туши, нутрованные и подвешенные головами вниз. Я терся о стены, изголодавшись по темноте. Подумать только, что скоро все будет сказано, все придется начинать сначала. А городские часы, что с ними в конце концов было такое, отчего куранты отвешивали мне, проникая даже через кроны деревьев, страшные, морозные удары? Что еще? Ах да, мои трофеи. Я пытался думать о Полине, но она от меня ускользнула, сверкнула как молния и исчезла, как незадолго до того молодая женщина. Я предался горестным мыслям о козе, но и тут оказался бессилен сосредоточиться. Так я двинулся дальше, в нестерпимом сиянии, облаченный в свою старую плоть, вожделея найти выход, однако минуя многочисленные двери по правую руку и по левую, а разумом стремясь то к одному, то к другому, неизменно возвращаясь туда, где не было ничего. Все же мне удалось задержаться взглядом на маленькой девочке, разглядев ее чуть лучше, чем это было бы возможно в других обстоятельствах, на ней, кстати, была неопределенного вида шапочка, а в одной руке она держала книгу, возможно молитвослов, – я попытался вызвать у нее улыбку, но она не улыбнулась, а исчезла в темном парадном, не подняв на меня личико. Мне пришлось остановиться. Вначале ничего, затем потихоньку, то есть восставая из тишины и тут же утверждаясь в воздухе, возник огромный шепот, происходивший, быть может, из дома, стена которого не давала мне упасть. Это напомнило мне о том, что дома полны людей, осажденных, нет, не знаю… Я отошел на шаг, чтобы взглянуть на окна, и тут же осознал, несмотря на ставни, шторы и завесу тайны, что комнаты были освещены. Однако свет этот был настолько слабый по сравнению с тем, что заливал бульвар, что, если бы мысль не склонялась к противоположному, можно было предположить, будто весь мир уснул. Многоголосное бормотание порою прерывалось паузами огорчения. Я подумывал о том, чтобы позвонить в какую-нибудь дверь и попросить убежища до утра. Но вот уже я шел дальше. Потихоньку, потоком одновременно стремительным и сладостным, темнота облекла меня со всех сторон. Изысканными каскадами затухающих оттенков умерло море цветов. Будто со стороны я увидел самого себя, как я с восхищением наблюдаю за медленным расцветом, во всю длину фасадов, квадратиков и прямоугольников, забранных решетками и створчатых, желтых, зеленых, розовых, в зависимости от портьер и штор. Затем наконец, прежде чем упасть, сперва на колени, подобно быку, потом ничком, я оказался в гуще толпы. Сознания я не терял, уж если я потеряю сознание, то оно ко мне не вернется. Люди не обращали на меня внимания, все же стараясь не наступать на меня, жест учтивости, который не мог меня не тронуть, ради этого я и вышел наружу. Мне, напоенному темнотой и покоем, было хорошо у ног смертных, в глубине зарождавшегося дня, если то рождался день. Однако действительность, я слишком устал, чтобы искать верное слово, не замедлила утвердиться вновь, толпа отхлынула, свет вернулся, и мне не хотелось отрывать голову от асфальта только для того, чтобы вновь обнаружить себя в слепящей пустоте. Я молвил: «Оставайся там, распластанным на дружелюбных плитах ну или на худой конец на равнодушных, не открывай глаза, дождись самаритянина, дождись, пока явится день, а вместе с ним городовой или, может быть, какой еще спасатель». Но вот я опять поднялся на ноги, продолжив путь, который не был моим, вдоль ведущего в гору бульвара. К счастью, он меня не ждал, бедный папаша Брим или Брин. Я молвил: «Море на востоке, а значит, идти нужно на запад, налево от севера». Однако напрасно я возводил безнадежные очи к небу в поисках Медведицы. Потому что свет, вытопивший меня, ослепил и звезды, если предположить, что они там были, в чем я усомнился, вспомнив об облаках.
1945Далече птица
Земля, отмеченная развалинами, он шел всю ночь, сам я отрекся, почти касаясь изгороди, между дорогой и канавой, по худосочной траве, медленными шажками, целую ночь, бесшумно, часто останавливаясь, через каждые десять шагов или около того, осторожными шажками, переводя дух, потом прислушиваясь, земля, отмеченная развалинами, я отрекся еще до рождения, а иначе невозможно, но рождение было неизбежно, это был он, я был внутри, вот он снова остановился, в сотый раз за ночь, надо думать, так можно вычислить пройденное расстояние, это последняя остановка, согнувшись, он оперся на свою палку, я внутри, это он кричал, он увидел свет дня, сам я не кричал, не видел света дня, две руки, одна на другой, тяжело лежат на палке, лоб опустил на руки, он перевел дух, теперь он может слушать, туловище почти параллельно земле, ноги широко расставлены и полусогнуты в коленях, все то же старое пальто, затвердевшие полы волочатся по земле, светает, ему нужно лишь поднять глаза, лишь открыть их, лишь поднять их, он сливается с изгородью, далече птица, можно перебраться на ту сторону, это у него была жизнь, у меня жизни не было, жизнь, которую и называть так не стоит, это из-за меня, невозможно, чтобы у меня было сознание, а оно у меня есть, другой меня предвидит, нас предвидит, он из этих самых, к этому он в конце концов и пришел, я его себе воображаю, как он нас предвидит, стоя там, руки и голова будто образуют единое целое, текут часы, он не шевелится, он подыскивает мне голос, невозможно, чтобы у меня был голос, и его у меня нет, он найдет мне голос, мне оттого станет только хуже, но дело будет сделано, его дело, ни слова больше о нем, этот образ, руки и голова будто образуют небольшой холмик, туловище почти параллельно земле, локти в сторону, глаза закрыты, лицо застыло, он внемлет, глаза, которых не видно, и все лицо, которого не видно, время ничего не изменило, этот образ и ничего больше, земля, отмеченная развалинами, ночь отступает, он махнул туда, я внутри, он себя убьет, это из-за меня, я это переживу, я переживу его смерть, конец его жизни, а потом его смерть, шаг за шагом, в настоящем, поглядим, как он с этим развяжется, заранее знать невозможно, я узнаю, шаг за шагом, это он умрет, а я не умру, от него останутся только кости, я буду внутри, от него останется горстка песка, я буду внутри, по-другому и быть не может, земля, отмеченная развалинами, он перебрался через изгородь, больше он не останавливается, он никогда не скажет «я», это из-за меня, он ни с кем не заговорит, никто с ним не заговорит, он не станет говорить сам с собой, в голове у него ничего не осталось, я наполню ее всем необходимым для того, чтобы развязаться, чтобы не говорить больше «я», чтобы не раскрывать рта, воспоминания и горькое сожаление, путаница из любимых людей и невозможной юности, ссутулившись, ухватив палку посередке, он рвет, спотыкаясь, через поле, я пытался жить сам, ничего не вышло, ничего, кроме его жизни, ничтожной, это из-за меня, он говорил, что жизнь не такая, но она такая, все так же, я по-прежнему внутри, все тот же, я населю его голову лицами, именами, местами и все смешаю, чтобы было на чем ему закончить, тени, от которых надо бежать, и те последние тени, от которых надо бежать, за которыми надо гнаться, он станет путать собственную мать со шлюхами, а отца с путевым обходчиком по имени Бальф, я всучу ему старого больного пса, чтобы он снова смог полюбить, снова смог потерять, земля, отмеченная развалинами, безумными шажками.
1959Образ
Язык вываливается катается в грязи единственное снадобье затем снова в рот вращается грязь пожирать ее или выплевывать вот вопрос нужно знать питательна ли она и каковы ожидания не испытывая потребности часто пить я набираю полный рот это одно из моих средств подержать минутку во рту вот бы знать питательна ли она и каковы ожидания это не худшие минуты утомиться в этом весь вопрос язык вываливается в грязь снова розовый чем заняты руки в это время всегда нужно следить за тем чем заняты руки что ж левая как мы уже видели все еще сжимает мешок а правая что ж через некоторое время я вижу ее там до предела вытянутой по оси ключицы если так можно сказать или точнее сделать она раскрывается и сжимается в грязи раскрывается и сжимается это еще одно из моих средств этот неприметный жест мне помогает не знаю почему есть у меня такие маленькие трюки которые здорово помогают даже когда я тащусь вдоль стен под изменчивыми небесами наверное я уже тогда был хитер она не должна была уйти далеко от силы метр но мне чудится что она далеко однажды она уйдет в полном одиночестве на своих четырех пальцах включая большой потому что большой как раз на месте и покинет меня я вижу как она выбрасывает вперед пальцы будто крючья кончики увязают в грязи потом вылезают на поверхность так она удаляется частыми горизонтальными рывками я бы и сам хотел так уйти по кусочкам и ноги что делают ноги ах ноги а глаза что делают глаза конечно закрыты что ж нет потому что внезапно там проницая грязь я вдруг вижу себя я говорю себя как я говорю я как я сказал бы он потому что это меня развлекает мне лет шестнадцать и вот венец счастья дивная погода голубое яйцо неба и легкий намыв облачков я поворачиваюсь к себе спиной и девушка которую я держу за руку за жопу судя по цветам что эмалью покрывают изумрудную траву на дворе апрель или май я понятия не имею и какое счастье что не имею где я беру эти сказки о цветах и временах года откуда-то я их вытягиваю вот и все судя по некоторым обстоятельствам как-то белый барьер да изысканно-красная трибуна мы на скачках головы чуть вздернуты мы глядим воображаю прямо перед собой недвижные как статуи если не считать наши сплетенные руки что покачиваются в моей левой или свободной руке не поддающийся описанию предмет и следовательно она в своей правой руке держит поводок ведущий к терьеру пепельного цвета приличных размеров пес сидит опустив голову неподвижность этих рук вот вопрос откуда этот поводок в необозримой зелени и постепенно проступающие серые и белые пятна в которых я немедленно опознаю ягнят посреди овец я понятия не имею где беру эти сказки о животных откуда-то я их вытягиваю вот и все в приличный день я способен назвать четыре или пять совершенно различных пород собак я их вижу в первую очередь не будем пытаться понять в глубине пейзажа на расстоянии примерно четырех или пяти миль голубоватая масса столовой горы с покатыми склонами наши взгляды скользят поверх горы будто нас привела в движение пружина или точнее две одновременно распрямившиеся пружины мы каждый из нас выпускает руку из руки другого и поворачивается кругом я вправо она влево она перекладывает поводок в левую руку а я в то же мгновение в правую предмет оказавшийся белесым сверточком в форме кирпича может быть сандвичи история подходящая как раз для того чтобы заново сцепить руки что мы и делаем руки покачиваются пес не шевельнулся у меня нелепое впечатление будто мы глядим на меня я втягиваю язык закрываю рот и улыбаюсь анфас она не так уродлива впрочем интересует меня не она а я светлые волосы бобриком прыщи на большом красном лице огромный живот зияющая ширинка кривые ноги широко расставлены для большей устойчивости стукаются коленками ступни вывернуты под углом сто тридцать пять градусов самое меньшее блаженная полуулыбка в сторону горизонта метафора занимающейся жизни зеленые твидовые брюки желтые ботинки первоцвет или нечто подобное в петлице снова поворот на этот раз вовнутрь так чтобы мимолетно мы оказались друг к другу лицом а не задницей итог маневра в девяносто градусов перенос вещей из руки в руку воссоединение рук покачивание неподвижность пса ну и седалище у меня три два один левой правой в путь вздернув подбородки покачивая руками пес следом опустив голову хвост задевает яйца никакого отношения к нам он подумал о том же в ту же минуту Мальбранш минус розовая похлебка словесность мои штудии в ту пору если он остановится поссать то будет ссать не останавливаясь мне хочется крикнуть брось ее там и беги отворять себе вены три часа мерных шагов и вот мы на вершине пес садится в заросли вереска опускает морду к черно-розовому члену сил нет лизнуть мы напротив поворот вовнутрь перенос вещей воссоединение рук покачивание вкушение в молчании моря и островов головы будто на шарнирах поворачиваются как одна к столбам дыма над городом в молчании пеленгование достопримечательностей головы как на оси возвращаются в исходное положение мимолетный туман и вот мы едим сандвичи попеременно набивая рот каждый своим обмениваясь нежными словами милая я кусаю она проглатывает милый она кусает я проглатываю по крайней мере с полным ртом мы не воркуем любовь моя я кусаю она проглатывает сокровище мое она кусает я проглатываю мимолетный туман и вот мы снова удаляемся по полю рука за руку руки покачиваются голова вздернута к далеким вершинам все меньше и меньше уже не различаю пса не различаю нас сцена пустеет несколько животных овцы будто из гранита обнаженная порода лошадь которую я не заметил ранее стоит неподвижно выгнув спину опустив голову животные знают бледно-голубое небо апрельского утра проницая грязь кончено сделано смеркается сцена пуста несколько животных затем затухает нет больше синего я остаюсь там а там справа в грязи рука раскрывается и сжимается это помогает пусть уходит я отдаю себе отчет в том что все еще улыбаюсь в этом нет смысла уже давно нет смысла язык высовывается снова катается в грязи я остаюсь как есть жажды больше нет язык возвращается рот заперт теперь он верно как тонкая линия это сделано я сделал образ.
1950-еВоображение мертво, вообразите
Ни следа жизни нигде, скажете вы, подумаешь, все в порядке, воображение не мертво, ну мертво, ладно, воображение мертво, представьте себе. Острова, воды, лазурь, зелень, один взгляд и – фьюить, бесконечно, не бери в голову. Прежде всего белая в своей белизне ротонда. Нет входа, войдите, измерьте. Диаметр восемьдесят сантиметров, то же расстояние от пола до вершины свода. Два диаметра под прямым углом АВ и CD делят белый пол на два полукруга АСВ и BDA. Два белых тела лежат на полу, каждое в своем полукруге. Белый свод и белая округлая стена в сорок сантиметров высотой, на которой он покоится. Выйдите наружу, простая ротонда, вся белая в своей белизне, войдите снова, постучите, везде цельная, звенит так, как в воображении звенят кости. У света, что все выбелил, нет видимого источника, все сияет одним белым сиянием, пол, стена, свод, тела, нет теней. Сильная жара, поверхности горячие, но не обжигают, когда дотронешься, тела потеют. Выйдите обратно, подайтесь назад, строеньице исчезнет, взлетите, оно исчезнет, все белое в своей белизне, спуститесь, войдите опять. Пустота, тишина, жара, белизна, подождите, свет меркнет, мрак обнимает все, пол, стену, свод, тела, скажем, на двадцать секунд, все сплошь серое, свет гаснет, все исчезает. Одновременно температура падает, достигая нижнего предела, скажем нуля, в тот же миг, как воцаряется чернота, которая, может быть, покажется странной. Подождите некоторое время, свет и жара возвращаются, все становится белым и горячим, пол, стена, свод, тела, скажем, на двадцать секунд, все сплошь серое, пока не вернется на первоначальный уровень, откуда началось падение. На некоторое время, поскольку между конечной точкой падения и началом подъема могут вмешиваться, опыт показывает, паузы разной долготы, от доли секунды до того, что могло бы показаться в другое время и в другом месте вечностью. Это же касается и другой паузы, между конечной точкой подъема и началом падения. Конечные точки, насколько их хватает, вполне устойчивы, что, в случае с температурой, может показаться странным, по крайней мере вначале. Возможно также, опыт показывает, что падение и подъем резко прекращаются в произвольной точке и так замирают на некоторое время перед возобновлением движения или взаимной переменой направления, подъем теперь падение, падение – подъем, причем они, в свою очередь, могут завершиться или прерваться на любой точке и замереть на некоторое время перед возобновлением движения или очередной переменой направления и так далее, пока наконец одна или другая крайняя точка не будет достигнута. Такие чередования подъема и падения, сочетаясь в бессчетных ритмах, обычно сопровождают переход от белого к черному и от жаркого к холодному и наоборот. Лишь крайние точки устойчивы, что подчеркивается колебанием, которое можно наблюдать, когда встречается пауза на некоем промежуточном этапе, и не важно, каков ее уровень и длительность. Затем все сотрясается, пол, стена, свод, тела, пепельные или свинцовые, или какого-то среднего между ними цвета. Но в целом, как показывает опыт, такой нечеткий переход необычен. Чаще всего, когда свет начинает ослабевать, а вместе с ним и жара, движение продолжается непрерывно, в течение каких-нибудь двадцати секунд, до достижения совершенного черного, а вместе с тем и нулевой отметки температуры. То же касается обратного движения в сторону жары и белизны. Нередко и падение или подъем с паузами разной долготы в лихорадочных оттенках серого, без очевидной перемены направления движения. И уж если движение раз нарушено, в верхней точке или в нижней, дальнейшие колебания и перемены могут быть разнообразными до бесконечности. Но какие бы ни подстерегали опасности, рано или поздно возврат к временному затишью кажется обеспеченным, на некоторое время, в черной темноте или сияющей белизне, при соответствующей температуре, так что мир пока защищен от постоянных потрясений. Вновь чудом открытый после зияющих пустот, он уже совсем не прежний с данной точки зрения, но с другой и не посмотришь. Внешне все, как раньше, и созерцание строеньица столь же зависит от случая, и белизна его сливается с окружающей белизной. Но войдите, и теперь короче затишья, а та же буря никогда не повторяется дважды. Свет и жара накрепко связаны, будто имеют общий источник, от которого по-прежнему нет следа. По-прежнему на земле, согнутое втрое, голова у стены в точке В, зад у стены в точке А, колени у стены между В и С, ступни у стены между С и А, иначе говоря, вписанное в полукруг АСВ, слившееся бы с белым полом, если бы не длинные волосы неопределенного оттенка белизны, белое тело женщины, все ж таки. Подобным же образом вписан в другой полукруг, у стены голова в точке А, зад в В, колени между А и D, ступни между D и В, ее спутник, белым сливающийся с белым полом. Таким образом, оба на правом боку, спина к спине, валетом. Поднесите зеркало к их губам, и оно затуманится. Левыми руками они обхватили свои левые ноги чуть ниже колена, правыми – левые руки чуть выше локтя. В этом неверном свете, а сияющий белый покой теперь редок и недолговечен, наблюдение затруднено. И пусть дыхание затуманивает зеркальце, те двое вполне могли бы сойти за неодушевленных, если бы не их левые глаза, которые в неисчислимые промежутки внезапно распахиваются и всматриваются не мигая в глубины, далеко за пределы, доступные человеку. Пронзая бледную голубизну – впечатление поразительное, вначале. Никогда эти два глаза не всматриваются вместе, за исключением тех случаев, когда начало одного взгляда совпадает с концом другого, секунд на десять. Ни толстые, ни тонкие, ни большие, ни маленькие, тела кажутся целыми и хорошо сохранившимися, если судить по их частям, выставленным на обозрение. Их лица тоже, если брать в расчет две стороны единого целого, кажется, ни в чем существенном не нуждаются. Между их абсолютным покоем и судорожным светом контраст поначалу разителен для того, кто еще помнит, как был поражен противоположным. Ясно, однако, по тысяче мелких примет, которые слишком долго перечислять в воображении, что они не спят. Только шепот, не больше, в тишине, и в тот же миг хищный взгляд пресекает мельчайшую дрожь. Оставьте их там, истекающих потом и цепенеющих, есть места и получше. Нет, жизнь кончается и нет, ничего нет в другом месте, и теперь нет сомнений, что не отыщется снова эта белая крупинка, затерянная в белизне, и не дано узнать, лежат ли они безмятежно, как прежде, под натиском той бури, или бури еще более злой, или навсегда останутся в темноте, или в яркой белизне неизменными, а если нет, что вообще они делают.
1965Довольно
Все, что было прежде, забыть. Больше за один раз не вынести. Это позволит ручке записывать. Я ее не вижу, но слышу скрип там, за собой. То есть тишина. Когда прерывается, я продолжаю. А иногда отказывается. Если отказывается, я продолжаю. Чрезмерной тишины не вынести. Или это мой голос звучит порою слишком тихо. Тот, что исходит из меня. Но хватит об искусстве и способе выражения.
Все мои устремления были направлены на удовлетворение его желаний. Мне желалось того же, чего ему. За него. Всякий раз, когда он чего-то хотел, мне хотелось того же. За него. Ему нужно было только сказать. Когда ему ничего не хотелось, мне тоже не хотелось ничего. Таким образом, жизнь моя не была лишена желаний. Если бы он пожелал чего-то для меня, мне бы тоже захотелось этого. Счастья, например. Или славы. Мои желания были ограничены теми, которые выражал он. Но он, должно быть, выражал все свои желания. Все желания и потребности. Умолкнув, он становился как я. Если он велел мне лизать ему член, это исполнялось немедленно. В этом был для меня источник удовлетворения. Вероятно, у нас были одни и те же источники удовлетворения. Одни и те же потребности, одни и те же источники удовлетворения.
Однажды он приказал мне оставить его. Такой он употребил глагол. Верно, ему оставалось немного. Не знаю, подразумевал ли он, что мне следует покинуть его навсегда или просто удалиться на минуту. Этот вопрос меня не посещал. Меня никогда не посещали вопросы, кроме тех, которые задавал он. Как бы то ни было, но мне пришло в голову бежать не оглядываясь. Выйти за пределы его голоса означало покинуть пределы его жизни. Может быть, он сам этого хотел. Случаются вопросы, которые заданы не вами. Верно, ему оставалось немного. Мне, напротив, оставалось еще немало срока. Мы принадлежали к совершенно разным поколениям. Впрочем, это длилось недолго. Сегодня, когда я вплываю в ночь, в моем черепе будто мелькают дальние проблески. Земля бесплодная, но не вполне. Будь у меня три или четыре жизни, возможно, чего-то и удалось бы достичь.
По-видимому, мне было лет шесть, когда он взял меня за руку. Детство еще даже не осталось позади. Но мне не потребовалось много времени, чтобы из детства выйти. Рука была левая. Оказаться справа было бы для него пыткой. Таким образом, мы продвигались фронтом, держась за руки. Нам хватало одной пары перчаток. Свободные, или внешние, руки оставались обнаженными. Ему не нравилось ощущать своей кожей чужую кожу. Слизистые – дело другое. Впрочем, иногда он решал снять перчатку. Тогда и мне приходилось стянуть свою. Так мы могли прошагать примерно сотню метров, соприкасаясь обнаженными конечностями. Редко больше. Ему этого хватало. Если спросить меня, то мне кажется, что непарные руки плохо приспособлены для близости. Моя никогда не чувствовала себя уютно в его руке. Иногда они размыкались. Пожатие ослабевало, и они опускались в разные стороны. Иногда перед их воссоединением проходили долгие минуты. Прежде чем его – вновь сжимала мою.
Перчатки были хлопчатобумажные и довольно тугие. Вместо того чтобы смягчать формы, они их обостряли, упрощая. Моя с течением лет все больше растягивалась, что естественно. Но уже очень скоро я снова ее заполнял. Он говорил, что руки у меня, как у Водолея. Это один из небесных домов.
Все, что у меня есть, идет от него. Не стану повторять это относительно каждого клочочка своих знаний. Искусство комбинаторики – не моя вина. Это проклятие свыше. За остальное я не несу ответственности.
Наша встреча. Хотя уже тогда он был страшно сутулый, мне он показался гигантом. Под конец его туловище располагалось горизонтально. Чтобы уравновесить данную аномалию, он широко расставлял ноги и сгибал их в коленях. Его стопы, становящиеся все более плоскими, были вывернуты наружу. Горизонт ограничивался землей, которую он топтал. Крошечный подвижный ковер из дерна и сломанных цветов. Он подавал мне руку на манер большой усталой обезьяны, поднимая локоть так высоко, как это только возможно. Мне нужно было только выпрямиться, чтобы стать выше его на три с половиной головы. Однажды он встал на месте и объяснил мне, подыскивая слова, что анатомия – это целое.
Поначалу он всегда говорил на ходу. Так мне кажется. Позже – иногда на ходу, а иногда останавливаясь. В конце – только стоя на месте. Все тише и тише. Чтобы ему не приходилось повторять одно и то же два раза кряду, мне приходилось низко нагибаться. Он останавливался в ожидании, пока я приму надлежащую позу. Завидев уголком глаза, что моя голова поравнялась с его, он принимался бормотать. В девяти случаях из десяти его слова ко мне не относились. Однако он хотел, чтобы все было услышано, вплоть до междометий и обрывков молитв, которые он ронял на устланную цветами землю.
Так и тогда он остановился, ожидая, пока моя голова поравняется с его головой, а потом велел мне его покинуть. Мне оставалось лишь побыстрее высвободить руку и бежать не оглядываясь. Два шага, и он потерял меня навсегда. Мы были разъяты, если именно этого он хотел.
О геодезии он говорил редко. Но мы, должно быть, преодолели расстояние, многократно превышающее земной экватор. Так как наша средняя скорость составляла примерно пять километров днем и ночью. Мы находили приют в арифметике. Сколько вычислений, произведенных в уме совместно и напополам! Так мы возводили в третью степень целые числа. Иногда под потоками ветхозаветного ливня. Тяжело оседая в его памяти, накапливались, по мере сил, кубические корни. В ожидании обратной операции на более поздней стадии. Когда время совершит свой труд.
Если мне будет задан соответствующим образом поставленный вопрос, то в ответ прозвучит – да, окончание этой прогулки и было моей жизнью. Скажем, последние одиннадцать тысяч километров. Начиная с того дня, когда он впервые обмолвился о своей болезни, сказав, что она, на его взгляд, достигла зенита. Будущее доказало его правоту. По крайней мере, та его часть, которую нам определено было сделать нашим совместным прошлым.
Я смотрю на цветы под ногами, а вижу еще и другие. Те, которые мы топтали ровным шагом. Впрочем, это одни и те же.
В противоположность тому, во что мне долгое время хотелось верить, он не был незрячим. А всего лишь ленивым. Однажды он остановился и, подыскивая слова, описал мне то, как он видит. В заключение он сказал, что, по его мнению, его зрение хуже не станет. Не могу знать, заблуждался ли он тогда. Этот вопрос никогда не приходил мне в голову. Всегда, когда я наклонялся, чтобы выслушать его сообщение, у меня возникало чувство, будто на меня косится подернутый красным голубой глаз, по-видимому больной.
Порой он останавливался, но не произносил ни слова. То ли потому, что ему наконец нечего было сказать. То ли потому, что, хотя ему было что сказать, он в конце концов решил не говорить этого. Вот и увидев, что моя голова, как обычно, поравнялась с ним, дабы ему не нужно было повторяться, он сохранял молчание, и мы замирали в этой позе. Согнувшись пополам, соприкасаясь головами. Безмолвные, держась за руки. Тогда как везде вокруг нас минуты складывались с минутами. Рано или поздно нога его отрывалась от цветов, и мы шли дальше. Возможно, только для того, чтобы он вновь остановился через несколько минут. Так чтобы он наконец сказал то, что у него на сердце, или вновь решил этого не говорить.
Мысленному взору предстают и другие важные случаи. Непосредственное продолжительное сообщение и немедленное отправление в путь. То же и отложенное отправление в путь. Отложенное продолжительное сообщение и немедленное отправление в путь. То же и отложенное отправление в путь. Непосредственное отрывочное сообщение и немедленное отправление в путь. То же и отложенное отправление в путь. Отложенное отрывочное сообщение и немедленное отправление в путь. То же и отложенное отправление в путь.
Именно тогда мне и было суждено принять решение – жить сейчас или никогда. Так прошло десять лет, по меньшей мере. С того дня, как ребром левой ладони он неспешно обвел свои сакральные развалины и метнул в меня прогноз. До дня моего предположительного бесчестья. Помню то место в шаге от вершины. Еще два шага вперед, и вот я спускаюсь по другому склону. Даже обернувшись, мне бы не удалось его увидеть.
Он любил взбираться по склонам и, следовательно, я тоже. Он выбирал склоны самые крутые. Его бренное тело разлагалось на два равных сегмента. Равных потому, что нижняя часть его туловища была укорочена ввиду проседающих колен. При каждом втором шаге он мел головой землю. Откуда у него такие вкусы, мне неизвестно. От любви ли к земле и к тысячам ароматов и оттенков цветов. Или, грубее, от требований анатомического строения. Он никогда не поднимал этого вопроса. Вершина достигнута, увы, приходится спускаться.
Для того чтобы изредка наслаждаться видом неба, он пользовался круглым зеркальцем. Увлажнив его своим дыханием и протерев об икру, он принимался искать созвездия. «Поймал!» – восклицал он, говоря о Лире или Лебеде. И часто добавлял, что в небе ничего нет.
Тем не менее мы находились не в горах. Время от времени на горизонте можно было рассмотреть море, уровень которого, как мне казалось, превосходил наш. Находились ли мы на дне огромного испарившегося или ушедшего в почву озера? Этот вопрос никогда не приходил мне в голову.
Так или иначе, но мы часто преодолевали напоминающие сахарные головы холмы высотой в сотню метров. Увы, мне то и дело виделся на горизонте один из них. Случалось и так, что вместо того чтобы удаляться от одного из них, мы вновь поднимались по его склону.
Я говорю о нашем последнем десятилетии, заключенном между двумя упомянутыми событиями. Годы эти покрывают собой те, другие, на которые первые, должно быть, похожи как братья. Этим потонувшим годам и следует вменить мое образование. Так как я не помню ничего нового, произошедшего за те годы, которые я помню. Именно такими рассуждениями я утешаюсь, когда мне приходится окаменеть перед ликом собственной учености.
Место своего бесчестья мне довелось выбрать в непосредственной близости от вершины. Да нет же, это было на равнине посреди великого спокойствия. Стоило мне обернуться, и вот он стоял там, в прямой видимости, в том месте, где его оставили. Любой пустяк указал бы мне на мою ошибку, если таковая имела место. В последующие годы меня не раз посещала мысль, что я, быть может, снова найду его. Там же, где мы расстались, если не где-то еще. Или услышу, как он зовет меня. И одновременно говорит мне, что ему осталось немного. Но рассчитывать на это, пожалуй, не приходилось. Так, мои глаза были почти всегда прикованы к цветам. А у него уже не оставалось голоса. И как если б этого было недостаточно, мне все думалось о том, что ему осталось немного. Так что вскоре мне уже и в голову не приходило на это рассчитывать.
Не знаю, какая теперь погода. Но в пору моей жизни она всегда была чудной. Будто земля замерла в точке весеннего равноденствия. Я говорю о нашем полушарии, конечно. Внезапно на нас обрушивались отвесные короткие ливни. Без того чтобы существенно омрачалось небо. Мне было бы неочевидно безветрие в природе, если бы он не обратил на это мое внимание. На ветер, которого больше нет. На бури, которые он оставил позади. Следует сказать, что мести ничего не приходилось. Сами цветы были лишены стеблей и покрывали землю как водяные лилии. В петлицу не вденешь.
Мы не считали дни. Если у меня и получилось десять лет, то это благодаря шагомеру. Конечное расстояние, разделенное на среднесуточное расстояние. Данное число дней. Разделить. Данное число накануне дня крестца. Данное число накануне дня моего бесчестья. Среднесуточное до сего дня. Отнять. Разделить.
Ночь. Такая же длинная, как и день в эту пору бесконечного равноденствия. Она пала, и мы продолжаем. Мы отправляемся в путь еще до рассвета.
Положение лежа. Сложенные втрое – словно один угольник, вложенный в другой. Второй угол образован коленями. Я лежу внутри. Когда он изъявляет желание, мы, точно один человек, поворачиваемся на другой бок. Всю ночь я ощущаю, как он прижимается ко мне своими извивами. Мы, точнее будет сказать, просто вытягивались на земле, а не спали. Так как мы шагали в полусне. Той рукой, что была сверху, он держал и трогал меня везде, где хотел. До известного предела. Другая рука лежала, опутанная моими волосами. Он шептал мне о вещах, которых больше не было у него и никогда не могло быть у меня. О ветре, колышущем стебли. О тенях и покрове леса.
Он не был болтлив. Сотня слов за день и ночь – это в среднем. Разделенные паузами. Едва ли миллион за все время. Много повторов. Почти недостаточно, чтобы прояснить дело. Что сказать о судьбе человека? Этот вопрос никогда не приходил мне в голову. В редиске я и то разбираюсь лучше. Редиску он любил. Если мне придется увидеть ее, узнаю сразу.
Мы жили цветами. Вот и все о нашем питании. Он останавливался и, не наклоняясь, собирал рукой, как ковшом, пригоршню лепестков. Затем шел дальше, деятельно их пережевывая. Цветы, в целом, оказывали успокаивающее действие. Мы, в целом, были спокойны. Все более и более. Как и все остальное. Понятие покоя пришло ко мне от него. Без него у меня бы этого понятия не было. Теперь я сотру все, кроме цветов. Конец дождям. Конец холмам. Ничего, кроме нас двоих, влачащихся по цветам. Довольно моей старой груди ощущать его старую руку.
1965Пинг
Все известно все бело нагое тело белое метр ноги соединены будто сшиты. Свет жара пол белый площадью в квадратный метр недоступен взгляду. Стены белые метр на два потолок белый площадью в квадратный метр недоступен взгляду. Тело нагое недвижное только глаза едва. Следы размытые бледно-серые почти белые на белом. Руки свисают ладони вверх лицо без выражения ноги белые пятки вместе прямой угол. Свет жара плоскости белые блещущие. Тело нагое белое недвижное оп недвижное где-то еще. Следы размытые знаки без смысла бледно-серые почти белые. Тело нагое белое недвижное недоступно взгляду белое на белом. Только глаза едва бледно-голубые почти белые. Голова шар на возвышении глаза бледно-голубые почти белые недвижное лицо внутри тишина. Отрывочный шепот едва почти никогда все известно. Следы размытые знаки без смысла бледно-серые почти белые на белом. Ноги соединены будто сшиты пятки вместе прямой угол. Только следы незавершенные чуть раскрывают черный бледно-серые почти белые на белом. Свет жара стены белые блещущие метр на два. Тело нагое белое недвижное метр оп недвижное где-то еще. Следы размытые знаки без смысла бледно-серые почти белые. Ступни белые недоступны взгляду пятки вместе прямой угол. Только глаза неокончено чуть раскрывают голубой бледно-голубые почти белые. Шепот едва почти никогда секунду может быть не один. Тронутое розовым едва тело нагое белое недвижное метр белое на белом недоступно взгляду. Свет жара шепот едва почти никогда всегда один и тот же все известно. Руки белые недоступны взгляду свисают ладони вверх лицо без выражения. Тело нагое белое недвижное метр оп недвижное где-то еще. Только глаза едва бледно-голубые почти белые недвижное лицо. Шепот едва почти никогда секунду может быть выход. Голова шар на возвышении глаза бледно-голубые почти белые пинг шепот пинг тишина. Рот будто зашит белой нитью недоступен взгляду. Пинг может быть одной природы секунду почти никогда вот и все о памяти почти никогда. Стены белые на каждой размытый след знаки без смысла бледно-серые почти белые. Свет жара все известно все бело сходящиеся плоскости недоступны взгляду. Пинг шепот едва почти никогда секунду может быть смысл вот и все о памяти почти никогда. Ступни белые недоступны взгляду пятки вместе прямой угол оп где-то еще без звука. Руки свисают ладони вверх лицо без выражения ноги соединены будто сшиты. Голова шар на возвышении глаза бледно-голубые почти белые недвижное лицо тишина внутри. Оп где-то еще где во все времена если бы не было известно что нет. Только глаза неокончено чуть раскрывают голубые дыры бледно-голубые почти белые только один цвет недвижное лицо. Все известно все бело плоскости белые блещущие пинг шепот едва почти никогда секунду звездное время вот и все о памяти почти никогда. Тело нагое белое недвижное метр оп недвижное где-то еще белое на белом недоступно взгляду сердце вздох без звука. Только глаза чуть раскрывают голубой бледно-голубые почти белые недвижное лицо только один цвет только неокончено. Сходящиеся плоскости недоступны взгляду одна блещущая белая до бесконечности если бы не было известно что нет. Ноздри уши белые дыры рот белой нитью будто зашит недоступен взгляду. Пинг шепот едва почти никогда секунду всегда один и тот же все известно. Тронутое розовым едва тело нагое белое недвижное недоступно взгляду все известно снаружи внутри. Пинг может быть одной природы секунду с образом одновременно чуть менее голубой и белый на ветру. Потолок белый блещущий площадью в квадратный метр недоступен взгляду пинг может быть там выход секунду пинг тишина. Только следы неокончено чуть раскрывают черный размытые серые знаки без смысла бледно-серый почти белый всегда одни и те же. Пинг может быть не один секунду с образом всегда один и тот же в то же время чуть меньше вот и все о памяти почти никогда пинг тишина. Тронутые розовым едва ногти белые окончено. Длинные волосы распущенные белые недоступные взгляду окончено. Недоступные взгляду шрамы такие же белые как раненая плоть едва тронутая розовым встарь. Пинг образ едва почти никогда секунду время звездное голубое и белое на ветру. Голова шар на возвышении ноздри уши белые дыры рот белой нитью будто зашит недоступен взгляду окончено. Только глаза чуть раскрывают голубой недвижное лицо бледно-голубые почти белые только один цвет неокончено. Свет жара плоскости белые блещущие одна блещущая белая до бесконечности если бы не было известно что нет. Пинг одной природы едва почти никогда секунду с образом одновременно чуть меньше всегда один и тот же голубой и белый на ветру. Следы размытые бледно-серые глаза дыры бледно-голубые почти белые недвижное лицо пинг может быть смысл едва почти никогда пинг тишина. Белый нагой метр недвижный оп недвижный где-то еще без звука ноги соединены будто сшиты пятки вместе прямой угол руки свисают ладони вверх лицо без выражения. Голова шар на возвышении глаза дыры бледно-голубые почти белые недвижное лицо тишина внутри оп где-то еще где во все времена если бы не было известно что нет. Пинг может быть не один секунду с образом в то же время чуть меньше глаз черно-белый полуприкрытый длинные ресницы молящий вот и все о памяти почти никогда. Вдали вспышка времени все бело все окончено все встарь оп вспышка стены белые блещущие без следов глаза последний цвет оп белые окончено. Оп недвижный последний где-то еще ноги соединены будто сшиты пятки вместе прямой угол руки свисают ладони вверх лицо без выражения голова шар на возвышении глаза белые недоступны взгляду недвижное лицо окончено. Тронутый розовым едва метр недоступен взгляду нагой белый все известно снаружи внутри окончено. Потолок белый невиданный пинг встарь едва почти никогда секунду пол белый невиданный может быть там. Пинг встарь едва может быть смысл одной природы секунду почти никогда голубой и белый на ветру вот и все о памяти больше никогда. Плоскости белые без следов одна блещущая белая до бесконечности если бы не было известно что нет. Свет жара все известно все бело сердце вздох без звука. Голова шар на возвышении глаза белые недвижное лицо старый пинг шепот последний может быть не один секунду глаз тусклый черно-белый полуприкрытый длинные ресницы молящий пинг тишина оп окончено.
1966Без малого и без большого
Руины истинный приют к нему издали путями ложными. Вдаль без конца земля смешалась с небом ни звука ни шевеления. Серое лицо два бледно-голубых маленькое тело бьющееся сердце одно в рост. Затушено распались четыре стены навзничь истинный приют без выхода.
Руины повсюду смешались с песком серым пеплом истинный приют. Куб сплошь свет белизна слепящая грани безо всяких следов воспоминаний. Никогда ничего кроме серого воздуха без времени химера исчезающего света. Серый пепел небо отражение земли отражающей небо. Никогда ничего кроме неизменной грезы в час исчезающий.
Он проклянет Бога вновь как в благословенное время лицом к небу отверстому перелетный ливень. Маленькое тело серое лицо черты щелка и два крошечных отверстия бледно-голубых. Грани без следов белизна слепящая глаз спокойный никаких воспоминаний.
Химера света никогда ничего кроме серого воздуха без времени ни звука. Грани без следа почти белизна слепящая никаких воспоминаний. Маленькое тело впаянное серый пепел бьющееся сердце лицо к безбрежности. Прольется на него как в благословенное время из голубизны перелетная туча. Куб истинный приют наконец четыре стены без звука навзничь.
Серое небо без облаков ни звука ни шевеления земля песок серый пепел. Маленькое тело серое как земля небо руины одно в рост. Серый пепел везде вокруг земля небо смешались даль без конца и края.
Он дрогнет в песках нечто дрогнет в небе в воздухе в песках. Но только во сне в прекрасном сне однажды пришедшем. Маленькое тело маленький обломок бьющееся сердце серый пепел одно в рост. Земля небо смешались протянувшись без края и отметин маленькое тело одно в рост. В песках без труда еще шаг вдаль он его сделает. Молчание ни вздоха одна и та же серость везде вокруг земля небо тело руины.
Медлительная чернота руины истинный приют четыре стены без звука навзничь. Ноги единое целое руки по швам маленькое тело лицо к безбрежности. Никак иначе если не в исчезнувшем сне не проходил час долгий скорый. Одно в рост маленькое тело все серо гладко ничто не выступает за пределы несколько отверстий. Один шаг по руинам по пескам на спине к безбрежности он его сделает. Ничего кроме снов дни и ночи сотканы из снов о других ночах лучших днях. Он вновь проживет время шага вновь будет день и ночь над ним безбрежность.
В четыре стороны навзничь истинный приют без выхода руины повсюду. Маленькое тело маленькое целое срамное место размыто жопа единое целое борозда серая размыта. Истинный приют наконец без выхода повсюду четыре стены без звука навзничь. Безбрежность без конца земля смешалась с небом ни шевеления ни вздоха. Грани белые без следа глаз спокойный голова его разум никаких воспоминаний. Руины повсюду серый пепел вокруг истинный приют наконец без выхода.
Серый пепел маленькое тело одно в рост бьющееся сердце лицо к безбрежности. Что ново то и мило как в благословенное время воцарится несчастье. Земля песок такой же серый как воздух небо тело руины мелкий песок серый пепел. Свет приют белизна слепящая грани без следа никаких воспоминаний. Бесконечность без отметин маленькое тело одно в рост тот же серый всюду земля небо тело руины. Лицо к спокойной белизне почти дотронувшись глаз спокойный наконец никаких воспоминаний. Еще шаг в одиночестве в полном одиночестве по песку без поддержки он его сделает.
Затушено открыто истинный приют без выхода к нему издали путями ложными. Никогда ничего кроме молчания такого что в воображении этот дикий смех эти крики. Голова доступна глазу покой сплошная белизна покой свет никаких воспоминаний. Химера рассвета рассеивающего химеры и другая именуемая сумерки.
Он проползет на спине лицом к небу вновь раскрытому над ним руины пески и даль. Серый воздух без времени земля небо смешались тот же серый что и руины вдали без конца и края. Над ним снова будет день и ночь даль воздух сердце забьется. Истинный приют наконец руины повсюду серые как песок.
Лицо глаз спокойный почти дотронувшись сплошь белизна никаких воспоминаний. Ни разу не воображенная синева что именуется в поэзии небесной кроме как в безумной грезе. Малая пустота сплошь свет куб белизна грани безо всяких следов воспоминаний. Никогда ничего кроме серого воздуха без времени ни шевеления ни вздоха. Бьющееся сердце одно в рост маленькое тело лицо серое черты размыты два крошечных бледно-голубых. Свет белизна почти дотронувшись голова доступна глазу покой весь его разум никаких воспоминаний.
Маленькое тело тот же серый что и земля небо руины одно в рост. Тишина ни вздоха тот же серый всюду земля небо тело руины. Затушено открыто четыре стены навзничь истинный приют без выхода.
Серый пепел небо отражение земли отражающей небо. Серый воздух без времени земля небо смешались тот же серый что и руины вдали без конца и края. В песках без труда еще шаг вдаль он его сделает. Над ним снова будет день и ночь даль воздух сердце забьется.
Химера света никогда ничего кроме серого воздуха без времени ни звука. Даль без конца земля небо смешались ни шевеления ни вздоха. Прольется на него как в благословенное время из голубизны перелетная туча. Серое небо без облаков ни звука ни шевеления земля песок серый пепел.
Малая пустота сплошь свет куб белизна грани безо всяких следов воспоминаний. Бесконечность без отметин маленькое тело одно в рост тот же серый всюду земля небо тело руины. Руины повсюду смешались с песком серым пеплом истинный приют. Куб истинный приют наконец четыре стены без звука навзничь. Никогда ничего кроме неизменной грезы в час исчезающий. Никогда ничего кроме серого воздуха без времени химера исчезающего света.
Четыре стены навзничь истинный приют без выхода руины повсюду. Он вновь проживет время шага вновь будет день и ночь над ним безбрежность. Лицо к белому покою почти дотронувшись глаз спокойный наконец никаких воспоминаний. Лицо серое два бледно-голубых маленькое тело бьющееся сердце одно в рост. Он проползет на спине лицом к небу вновь раскрытому над ним руины пески и даль. Земля песок тот же серый что воздух небо тело руины песок мелкий серый пепел. Грани без следа почти дотронувшись белизна слепящая никаких воспоминаний.
Бьющееся сердце одно в рост маленькое тело лицо серое черты размыты два крошечных бледно-голубых. Одно в рост маленькое тело все серо гладко ничто не выступает за пределы несколько отверстий. Ничего кроме снов дни и ночи сотканы из снов о других ночах лучших днях. Он дрогнет в песках нечто дрогнет в небе в воздухе в песках. Шаг по руинам в песках на спине вдаль он его сделает. Никогда ничего кроме молчания такого что в воображении этот дикий смех эти крики.
Истинный приют наконец руины повсюду серые как песок. Никогда ничего кроме серого воздуха без времени ни шевеления ни вздоха. Грани белые без следа глаз спокойный голова весь его разум никаких воспоминаний. Никак иначе если не в исчезнувшем сне не проходил час долгий скорый. Куб сплошь свет белизна слепящая грани безо всяких следов воспоминаний.
Затушено открыто истинный приют без выхода к нему издали путями ложными. Голова доступна глазу покой сплошная белизна покой свет никаких воспоминаний. Что ново то и мило как в благословенное время воцарится несчастье. Серый пепел везде вокруг земля небо смешались даль без конца и края. Руины повсюду серый пепел везде вокруг истинный приют наконец без выхода. Но только во сне в прекрасном сне однажды пришедшем. Маленькое тело серое лицо черты щелка и два крошечных отверстия бледно-голубых.
Руины истинный приют наконец к нему издали путями ложными. Ни разу не воображенная синева что именуется в поэзии небесной кроме как в безумной грезе. Свет белизна почти дотронувшись голова доступна глазу покой весь его разум никаких воспоминаний.
Медлительная чернота руины истинный приют четыре стены без звука навзничь. Земля небо смешались бесконечность без отметин маленькое тело одно в рост. Еще шаг в одиночестве в полном одиночестве по песку без поддержки он его сделает. Серый пепел маленькое тело одно в рост бьющееся сердце лицо к безбрежности. Свет приют белизна слепящая грани без следа никаких воспоминаний. Даль без конца земля небо смешались ни звука ни шевеления.
Ноги единое целое руки по швам маленькое тело лицо к безбрежности. Истинный приют наконец без выхода повсюду четыре стены без звука навзничь. Грани без следа белизна слепящая никаких воспоминаний. Он проклянет Бога вновь как в благословенное время лицом к небу отверстому перелетный ливень. Лицо глаз спокойный почти дотронувшись сплошь белизна никаких воспоминаний.
Маленькое тело маленькое целое бьющееся сердце серый пепел одно в рост. Маленькое тело впаянное серый пепел бьющееся сердце лицо к безбрежности. Маленькое тело маленькое целое срамное место размыто жопа единое целое борозда серая размыта. Химера рассвета рассеивающего химеры и другая именуемая сумерки.
1967Взгляд, обращенный вовнутрь
Закрытое место. Все, что необходимо знать для изрекаемого, известно. Нет ничего, кроме того, что сказано. За исключением того, что сказано, нет ничего. О том, что происходит на арене, ничего не сказано. Если до́лжно было бы это знать, то это было бы известно. Не вызывает интереса. Недоступно для воображения. Время, пожирающее землю, здесь течет неохотно. Место, состоящее из арены и рва. Между ареной и рвом описывающая круг дорожка. Закрытое место. За пределами рва нет ничего. Это известно, потому что должно быть изречено. Обширная черная арена. Может вместить миллионы. Бредущих и неподвижных. Не видящих и не слышащих друг друга. Не касающихся друг друга. Вот все, что известно. Глубина рва. С края бортика видны тела на дне. Их там миллионы. Выглядят в шесть раз меньше, чем в жизни. Дно поделено на участки. Участки темные и светлые. Они занимают всю ширину рва. Оставшиеся светлыми участки имеют квадратную форму. С трудом разместится тело средних размеров. По диагонали. Более высоким нужно сворачиваться калачиком. Так, известна ширина рва. Она и так была бы известна. Темные участки суммируются. Светлые участки. Первых неизмеримо больше. Место это древнее. Ров древний. Вначале все светло. Одни светлые участки. Почти соприкасаются. Едва окаймлены тенью. Вначале ров кажется прямым. Затем появляется тело, уже виденное. Следовательно, речь идет о замкнутом круге. Ярчайший свет светлых участков. Свет не заходит за границу черноты. Безукоризненная чернота темных участков. Столь же плотная по краям, как и в центре. А вот свет тянется вверх вертикально. До самого уровня арены. Свет высокий, во всю глубину рва. В черном воздухе высятся башни бледного света. Сколько светлых участков, столько и башен. Столько и тел, видимых на дне. Дорожка тянется вдоль рва во всю длину. Во всю окружность. Она приподнята по отношению к арене. На целую ступеньку. Она из осенней листвы, из мертвой листвы. Память о красотах природы. Листья сухие. Воздух сухой и знойный. Мертвые, но не гниющие. Скорее, рассыпающиеся в пыль. Дорожка как раз для одного. Двое на ней никогда не пересекутся.
1969Фиаско
I
Он с непокрытой головой, босоног, облачен в жилет и тесные брюки, которые слишком ему коротки, так говорят ему его руки, снова и снова, и его ноги, он потирает одной другую, вдоль икры и голени. С этой одеждой, что слегка отдает тюрьмой, пока не соотносится ни одно из его воспоминаний, но все они, скажем так, отсылают к вещам, исполненным тяжести и густоты. Большая голова, в которой он трудится, как на каторге, это издевательство, да и только, он уйдет, он вернется. Однажды он увидит себя, всего себя, от груди вниз, и свои руки, длинные и напряженные, увидит их сперва на некотором отдалении, а затем вблизи, когда поднесет их, дрожащие, к самым глазам. Он останавливается, впервые с тех пор, как осознал, что находится в движении, одна ступня впереди другой, одна, та, что в воздухе, выпрямлена, вторая, та, что на земле, на носке, и ожидает развязки. Потом делает шаг. Он не нащупывает путь, несмотря на мрак, не вытягивает руки, не растопыривает пальцы, не задерживает ногу в воздухе, прежде чем ступить. Оттого он часто стукается, то есть на каждом повороте, о стены, которые сжимают его путь с двух сторон, о правую, когда он поворачивает налево, о левую, когда он поворачивает направо, то ногой, то макушкой, потому что он идет наклонившись вперед, это из-за подъема, а еще потому, что он всегда ходит склонившись, с сутулой спиной, подав вперед голову, потупив глаза. Он теряет кровь, это правда, но в небольших количествах, ранки успевают затянуться, прежде чем открыться вновь, так медленно он ступает. В узких местах стены почти соприкасаются, и тогда основной удар приходится на плечи. Но вместо того чтобы остановиться или даже повернуть вспять, приговаривая: «Это конец прогулки, пора вернуться в противоположный конец и начать сначала», – вместо этого он бросается вперед и постепенно протискивается через каждое горлышко, к немалому ущербу для своей грудной клетки и спины. А его глаза, так привыкшие к темноте, не приобрели ли они способность проницать мрак? Нет, и в этом одна из причин, по которой он закрывает их все чаще и чаще и держит их закрытыми все дольше и дольше. Растущая забота его в том, чтобы избавить себя от тщетного напряжения, проистекающего, например, из того, что он всматривается в темноту перед собой и даже вокруг себя, час за часом, день за днем, и ничего не видит. Сейчас не лучшее время говорить о его ошибках, но он, возможно, ошибался, не упорствуя в своих попытках проницать взглядом тьму. Потому что он мог бы достичь успеха, в известной мере: ничто не веселит сердце больше, чем внезапный лучик света. И ведь все еще может осветиться в ту или иную минуту, поначалу неощутимо, а затем, так сказать, все больше и больше, пока свет не зальет все вокруг, путь, пол, стены, свод, его самого, пока свет не зальет все вокруг, без того чтобы он это осознал. В кадре может появиться луна, лоскут звездного неба или неба более или менее освещенного солнцем, а он окажется не в состоянии получить от этого удовольствие или ускорить шаги или, напротив, повернуться кругом и, пока есть время, устремиться обратно. В конце концов пока все вяжется, и это главное. Ноги в особенности, кажется, они у него в хорошем состоянии, это важно, у Мерфи были отличные ноги. Голова слабовата, тут потребуется время, по этой части. Слабая, но она может пока оставаться на месте и даже слабеть дальше, без особых последствий. Во всяком случае, пока ни следа безумия, а это важно. Как говорится, налегке, но в полном равновесии. Сердце? Сойдет. Стучит как заведенное. Все остальное? Сойдет. С делом справится. Но вот свернув, к примеру, направо, он, вместо того чтобы свернуть налево там, чуть дальше, снова сворачивает направо. А вот еще раз, еще чуть дальше, вместо того чтобы наконец свернуть налево, он вновь сворачивает направо. И так далее, до той минуты, пока он, вместо того чтобы, как ожидалось, в очередной раз свернуть направо, сворачивает налево. Затем в течение некоторого времени его зигзаги следуют нормальному курсу, то есть правое перемежается с левым, и он движется более или менее прямо, но вдоль оси, которая отличается от оси отправления, по крайней мере с той секунды, когда он осознал, что отправился в путь, или может быть… в конце концов все равно. Ведь если случаются длительные периоды, когда правое довлеет над левым, то бывают и такие промежутки времени, когда левое довлеет над правым. Во всяком случае, это не слишком важно, пока он взбирается вверх. Но вот чуть дальше ему приходится спуститься по наклону столь резкому, что он непроизвольно откидывается назад, чтобы не упасть. Итак, где она поджидает его, жизнь, по отношению к точке его отправления, к точке, в которой он внезапно осознал себя идущим, внизу или вверху? Где они уничтожат друг друга, столкнувшись, эти долгие, не очень крутые подъемы и краткие нещадные спуски? Во всяком случае, это не слишком важно, с той минуты, как он уверовал, что на верном пути, а он в это уверовал, потому что других путей нет, если только он их не пропустил, один за другим, не осознав утрату. Стены и пол если и не каменные, то на ощупь твердые как камень и влажные. Иногда он останавливается, чтобы стену облизнуть. Фауна, если она присутствует, молчалива. Не слышно звуков, за исключением звуков двигающегося вперед тела и, время от времени, падения. То звук большой капли, которая упала с высоты и разбилась, то масса, которая покинула насиженное место и устремилась вниз, ведь малые частицы разбиваются медленнее. Тут раздается эхо, поначалу такое же сильное, как породивший его звук, и повторяющееся порою до двадцати раз, с каждым разом чуть слабее – нет, некоторые раскаты сильнее предшествующих, – прежде чем стихнуть. Потом вновь тишина, нарушаемая только шумом, слабым и сложным, перемещающего себя в пространстве тела. Все же шум падения раздается редко, чаще царит тишина, нарушаемая только звуками перемещающего себя в пространстве тела, которые исходят от трения босых ног о влажный пол, от чуть сдавленного дыхания, от ударов о стены, от протискивания через узкие места, от шевеления одежды, жилета и брюк, согласующейся с телом и противостоящей ему, отлипающей от влажной кожи и снова ее облегающей, трущейся и рвущейся в тех местах, что и так истрепаны до лохмотьев, и, наконец, от движения рук, которые то и дело почесывают все части тела, к которым они могут без напряжения добраться. Сам он еще ни разу не упал. Воздух очень плохой. Иногда он останавливается и прислоняется к стене, скрестив ноги. У него уже есть несколько воспоминаний, во-первых, о том дне, когда он внезапно осознал, что ступил туда, на тот самый путь, по которому до сих пор влачится, и, в последнюю очередь, о том, как он остановился, опершись о стену, у него уже есть свое небольшое прошлое, почти что набор привычек. Но все это очень непрочно. Нередко его охватывает удивление, иногда в пути, иногда в покое, но чаще в пути, так как отдыхает он редко, причем кажется, будто он так же беден историей в дни великих воспоминаний, как и в первый день, на том же пути, что есть его начало. Но не менее часто, стоит схлынуть первому удивлению, память к нему возвращается, и, если он пожелает, ведет его извилистыми путями к тому мгновению, за пределами которого ничего, к тому мгновению, когда он был уже стар, а значит, близок к смерти, и различал, хотя и не мог вспомнить, что жил, понятия старости и смерти, среди прочих основополагающих вещей. Но все это очень непрочно, и часто он пускается, стариком, в эти черные извивы и делает первые шаги, лишь спустя известное время осознав, что они последние, ну или недавние. Воздух такой плохой, что выжить в нем может только тот, кто никогда не дышал настоящим, вольным, или же не дышал им целую вечность. И этот вольный воздух, случись ему проникнуть в описываемое помещение, оказался бы губительным после нескольких полных вздохов. Однако переход от одного к другому будет, несомненно, мягким, постепенным, согласующимся с приближением человека к выходу. Может быть, и теперь уже воздух не так плох, как в минуту отправления, как в ту минуту, когда он, так сказать, внезапно осознал, что отправился в путь. Так или иначе, но мало-помалу приобретает очертания его история, отмеченная если и не днями добрыми и худыми, то, по крайней мере, реперами, установленными, справедливо или нет, в области событийности, такими, например, как самое узкое место, самое затяжное падение, самый длительный обвал, самое долгое эхо, самый жестокий удар, самый крутой спуск, наибольшее число поворотов, последовательно произведенных в одном направлении, крайнее утомление, самый продолжительный отдых, самая продолжительная потеря памяти и тишина, за оговоренным выше исключением шума от движения тела в пространстве, самая долгая. Ах да, и еще наиболее плодотворное почесывание всех частей тела в пределах досягаемости, выполненное, с одной стороны, руками, и, с другой – ногами, холодными и влажными. Да еще лучший в истории акт облизывания стены. Вкратце, всеми вершинами. А потом другими вершинами, вряд ли менее головокружительными, и толчком настолько сильным, что он вполне мог бы сойти за самый сильный из всех. И снова вершинами, вряд ли менее впечатляющими, актом облизывания стены настолько удачным, что ему впору сравняться с тем, который признан был лучшим. Потом затишье, почти ничего примечательного или совсем ничего, и так до зияющих бездн, столь же незабываемых, до памятных падений, шум от которых до крайности ослаблен то ли в силу удаленности, то ли ничтожности массы, то ли незначительности расстояния, пройденного между точкой отправления и точкой прибытия, так что все это могло ему привидеться или прислышаться, ну или вот еще, другой пример, до двух поворотов, следующих один за другим, один направо, другой налево, но это пример неудачный. Впрочем, достопримечательности на его пути появлялись как вследствие первых инцидентов, так и вследствие последующих. Первое узкое место, к примеру, несомненно, потому, что он его не ожидал, впечатлило его ничуть не меньше, чем самое узкое, так же как второе обрушение, несомненно, потому, что он его ожидал, оставило в нем воспоминание настолько же яркое, как и то, которое оказалось самым кратким. Так ни шатко ни валко вырисовывается постепенно его история и даже претерпевает изменения, по мере того как новые вершины и новые падения вытесняют в тень события, которые до той поры были в чести, и по мере того как иные частицы и мотивы, да те же кости, о которых подробнее чуть ниже, в череде своей значимости его историю обогащают.
II
Я отрекся еще до рождения, а иначе и быть не могло, но рождение было неизбежно, это был он, я был внутри, так я вижу вещи, это он кричал, он увидел свет дня, сам я не кричал, не видел света дня, невозможно, чтобы у меня был голос, невозможно, чтобы у меня были мысли, однако я говорю и мыслю, я делаю невозможное, а иначе не может быть, это у него была жизнь, у меня жизни не было, жизнь, которую и называть так не стоит, это из-за меня, он себя убьет, это из-за меня, я об этом расскажу, я расскажу его смерть, конец его жизни и его смерть, постепенно, в настоящем, одной его смерти недостаточно, мне будет ее недостаточно, если он захрипит, то это он будет хрипеть, я сам хрипеть не буду, это он умрет, а я не умру, его, возможно, похоронят, если найдут, я буду внутри, он истлеет, я не истлею, от него останутся только кости, я буду внутри, от него останется горстка песка, я буду внутри, а по-другому и быть не может, так я вижу вещи, конец его жизни и его смерть, как он распорядится своей жизнью, этого я не могу знать, я об этом узнаю, шаг за шагом, я неспособен это предсказать, я скажу об этом, в настоящем, обо мне речи нет, только о нем, о конце его жизни и о смерти, о погребении, если его найдут, так все окончится, не стану говорить о червях, о костях и о прахе, это никому не интересно, если только мне не придется скучать в его останках, это меня удивит, как раньше в его шкуре, тут долгая пауза, возможно, он утопится, он ведь хотел утопиться, он не хотел, чтобы его нашли, он больше неспособен хотеть, но когда-то он хотел утопиться, он не хотел, чтобы его нашли, камень на шею и в омут, порыв, угасший, как все остальные, но почему однажды налево, почему, а не в другом направлении, тут долгая пауза, больше не будет я, он никогда больше не скажет я, он никогда больше ничего не скажет, ни с кем не заговорит, никто не заговорит с ним, не заговорит сам с собой, не будет думать, он пойдет дальше, я внутри, он упадет, чтобы поспать, не важно где, спать он будет плохо, это из-за меня, он поднимется, чтобы идти дальше, идти ему будет трудно, это из-за меня, он не может оставаться на месте, это из-за меня, в голове у него ничего не осталось, я наполню ее всем необходимым.
III
Хорн приходил по ночам. Я принимал его в темноте. Я все привык сносить, кроме того, чтобы меня видели. В первое время я выпроваживал его примерно через пять-шесть минут. Потом он и сам стал уходить по истечении назначенного срока. Со своими записями он сверялся при свете электрического фонарика. Затем выключал фонарик и говорил в темноте. Свет – молчание, темнота – речь. Меня уже лет пять или шесть никто не видел, и в первую очередь я сам себя не видел. Я говорю о лице, которое столько исследовал, встарь и в недавнем прошлом. Попытаюсь произвести повторный осмотр, так чтобы он послужил мне уроком. Вернусь к своим стеклам и зеркалам. В конце концов я позволю себя узреть. Я крикну, если раздастся стук в дверь: «Войдите!» Однако я говорю о том, что было пять или шесть лет назад. Вышеприведенные указания длительности, а также те, что последуют, служат для того, чтобы мы ориентировались во времени. Собственно тело причиняло мне много страданий. Я маскировал его, как мог, но стоило мне подняться, и оно являлось во всей красе. Так как я тогда опять начал вставать с кровати. Впрочем, не в этом загвоздка. Но вот лицо, тут и говорить не о чем. Посему Хорн – только ночью. Если ему случалось забыть фонарик, он пользовался спичками. Я мог спросить его, например: «А какое в тот день на ней было платье?» Тогда он зажигал спичку, перелистывал записи, находил искомое место, тушил спичку и отвечал, к примеру: «Желтое». Он не любил, чтобы его прерывали, и я, должен сказать, делал это лишь изредка. Прервав его однажды ночью, я попросил его осветить свое лицо. Он повиновался, потом затушил источник света и возобновил рассказ на прерванном месте. Прервав его повторно, я попросил его замолчать на мгновение. Тогда дело дальше не пошло. Но на следующий день или, быть может, дня через два я попросил его осветить свое лицо сразу после прихода и держать его освещенным до новых распоряжений. Поначалу достаточно яркий, свет постепенно ослабел до желтоватого свечения. Это последнее, к моему удивлению, продержалось довольно долго. Потом внезапно наступила тьма, и Хорн ушел, так как отведенные ему пять или шесть минут истекли, вне всякого сомнения. Но тут одно из двух, либо миг полного затухания совпал, по чистой прихоти случая, с окончанием сеанса, либо Хорн, сознавая, что ему пора уходить, оборвал последние ручейки электричества. Оно мне все еще иногда является, это исчезающее во мраке лицо, которое я вижу тем яснее, чем больше его поглощает тень, таким оно запечатлелось мне в памяти. Итак, покуда необъяснимым образом оно медлило в воздухе, прежде чем раствориться во мраке, я сказал себе: «Сомнений быть не может, это он». Именно во внешнем пространстве, не путать с другим, созданы эти образы. Мне нужно лишь поставить заслон рукой или закрыть глаза, чтобы их больше не видеть, ну или снять очки, чтобы они растаяли. В этом преимущество. Но не действенная защита, как показано ниже. Вот почему я предпочитал, поднимаясь с кровати, иметь перед собой некую сплошную плоскость, вроде той, которой я мог управлять еще с кровати, я говорю о потолке. Потому что я снова начал подниматься на ноги. Мне казалось, что я уже совершил свое последнее путешествие, то самое, которое мне нужно теперь попытаться осветить вновь, чтобы оно стало для меня уроком, то самое, из которого мне лучше было не возвращаться. Но вот мне подумалось, что мне нужно предпринять еще одно путешествие. Вот я пытаюсь встать и сделать несколько шагов по комнате, держась за железки кровати. По сути дела, погубила меня атлетика и физические упражнения. Столько я прыгал и бегал, столько боксировал и боролся в своей юности и даже много позже, столько я упражнялся в некоторых дисциплинах, что износил машину раньше времени. Теперь мне за сорок, а я все еще занимаюсь метанием копья.
IV
Старая земля, довольно лжи, я ее видел, я был им, видел ястребиными глазами другого, слишком поздно. Ты покроешь меня, им будешь ты, им буду я, им будем мы, мы никогда им не были. Может быть, не завтра, но слишком поздно. Теперь недолго, как я гляжу на нее, и какой отказ, как она отвергает меня, вечно отверженная. Это год хрущей, в следующем году их не будет, и в последующий год тоже, так что гляди хорошенько. Я возвращаюсь ночью, они взлетают, покидая мой молодой дубок, и исчезают, насытившись, во мраке. Tristi fummo nel aere dolci[6]. Я возвращаюсь ночью, поднимаю руку, хватаюсь за ветку, становлюсь на ноги и вхожу в дом. Три года в земле, это те, которые не достались кротам, потом жрать, жрать, десять дней, две недели, и ежевечерний полет. К реке, возможно, они летят к реке. Я зажигаю свет, тушу свет, мучимый стыдом, остаюсь стоять у окна, перехожу от одного окна к другому, опираясь о мебель. Внезапно я вижу небо, различные небеса, затем они оборачиваются лицами, муками, ликами любви, образами счастья, да, и это тоже, к несчастью. Мгновениями жизни, что была моей, среди прочих, так и есть в конце концов. Счастье, какое счастье, но и какие смерти, какая любовь, тогда я осознавал, но было слишком поздно. Ах, любить, умирая, и видеть, как умирают дорогие существа, испытывать счастье, почему, ах, напрасный труд. Нет, но теперь только стоять там, перед окном, одной рукой опершись о стену, другой вцепившись в собственную рубашку, и глядеть в небо, долго, но нет, всхлипы и спазмы, море далекого детства, другие небеса, другое тело.
1960-еУтес
Окно между небом и землей, неизвестно где. Открывается на бесцветный утес. Вершина ускользает от взгляда, как ни смотреть. Так же и основание. С двух сторон обрамляют утес полоски неба, навечно белого. А в небе подан знак о крае земли? И что тот межевой эфир? Морских птиц – ни единой. Или слишком белесо, чтобы было их видно. Наконец, где доказательства, что есть лицо? Взгляд его не различает, как ни смотреть. Глаз капитулирует, и воцаряется безумие. Проступает, вначале, тень подоконника. Терпение, он расцветится бренными останками. Выделяется в конце концов целый череп. Единственный из заслуживающих внимания фрагментов. Затылочной частью все силится вернуться в каменную породу. В глазницах нет-нет да и проблеснут былым взглядом глаза. Порой утес исчезает. Тогда взгляд волен унестись в далекую белизну. Или обратиться вовнутрь.
1975Чтобы закончить вновь
Чтобы закончить вновь череп одинокий в темном закрытом месте лоб приткнулся к доске для начала. Спустя долгое время итак для начала время изглаживается далее место а за ним и доска много позже. Череп итак чтобы закончить одинокий в темной пустоте ни шеи ни черт лица только коробка последнее место в темной пустоте. Место останков где встарь в черноте был мерцающий остов. Останки дней крупицы света столь слабого что не было никогда света более тусклого. Итак проступает чтобы закончить вновь череп последнее место вместо того чтоб затухнуть. Так занимается наконец внезапно или мало-помалу и чудом держится в воздухе свинцовый день. Постепенно меньше черноты пока наконец не установится серость или же внезапно как по приказу выключателя не появится в поле зрения серый песок насколько хватает глаз под небом столь же серым без облаков. Череп последнее место темная пустота снаружи внутри пока внезапно или мало-помалу не займется замерзшим рассветом свинцовый день. Серое небо без облаков серый песок насколько хватает глаз долгая пустынность для начала. Песок мелкий как пыль ах но пыль глубокая настолько чтобы поглотить и самые дерзкие памятники что высились прежде то тут то там. Там наконец такой же серый сиречь недоступный любому другому глазу изгнанник прямой как шест стоит между развалинами. Все того же серого оттенка все тело с головы до ног погруженных по щиколотку если бы не глаза оставшиеся ясными. Руки все еще примыкают к туловищу и одна к другой ноги созданные для того чтобы бежать. Серое небо без облаков океан пыли ни морщинки ложная даль до бесконечности адский воздух ни вздоха ни дуновения. Смешиваясь с пылью увязают в песке крупные обломки из которых многие лишь едва виднеются над поверхностью. Вот первое изменение наконец откалывается и падает фрагмент. В падении слишком медлительном для такого плотного тела он лишь чуть зарывается в песок будто пробка упала в воду. Итак чтобы закончить вновь проступает череп последнее место вместо того чтоб затухнуть. Серое небо без облаков даль без конца воздух серый без времени воздух тех кто не годен ни Богу ни его врагам. И снова там в бесконечной дали два неожиданно возникших взрезающих песок белых карлика. Поначалу и долгое время лишь белое пятно больше не рассмотреть издали в сером воздухе они идут надрываясь по серой пыли связанные белыми носилками тоже белыми как видно сверху сквозь серый воздух. Медленно носилки трутся о песок так сгорблены спины несущих и так длинны их руки по сравнению с ногами что увязают в песке по щиколотку. Выбеленные единым одиночеством они так похожи друг на друга что глаз отказывается их различать. Они несут носилки лицом к лицу и часто меняются ролями так что флагман всегда начинает путь в обратном направлении. Замыкающий становится вперед идущим теперь он похож на рулевого что едва заметными движениями направляет скиф. Пусть он отклонится в сторону севера или другого главного румба а другой незамедлительно в сторону антипода. Пусть один остановится и ось образуемую вместе со вторым развернет на двести градусов и вот роли поменялись. Костяная белизна ткани вид сверху и ручек носилок передних и задних и карликов вплоть до макушек массивных черепов. Время от времени они вынуждены как один человек опускать носилки чтобы потом как один их поднимать не испытывая нужды наклоняться. Носилки для навоза смехотворной памяти и ручки носилок в три раза длиннее чем ложе. Ткань морщинится то спереди то сзади будто вмятинки от головы на подушке. Одновременно размыкаются четыре руки и ложе носилок так близко к песку что опускается на него беззвучно. Несоразмерно длинные верхние конечности включая череп ноги и торс недоразвитые руки несоразмерные лица крошечные. Наконец ступни как по команде сперва две левые шаг вперед за ними две правые так что иноходь возобновляется. Серая пыль насколько хватает глаз под серым небом без облаков и там внезапно или постепенно где пыль только и можно различить белизну. Остальное додумывать если он сможет белизну различить изгнанник последний среди развалин если только он смог бы ее различить а различив поверить. Между ним и нею с птичьего полета пространство не будет уменьшаться но кажется что пересечь осталось только эту последнюю пустыню. Маленькое тело предельное состояние прямо стоит как и прежде посреди развалин молчание недвижность мрамора. Первое изменение наконец фрагмент отделяется от материнской руины и в медленном падении едва тревожит песок. Пыль что все поглотив неспособна больше глотать и тем хуже для того немногого что еще виднеется над поверхностью. Или только пищеварительный ступор как некогда у боа после которого большой глоток наконец очищает пасть. Карлики белизна вдали невесть откуда неподвижная в сером воздухе там где возможна только пыль. Тяни-толкай одиночество незапамятное как один они идут вперед возвращаются стой иди взад и вперед. Тот который смотрит вперед иногда останавливается и вздымает насколько возможно голову будто для того чтобы окинуть взглядом пустыню и кто знает поправить взятый курс. Затем снова в путь так неприметно что глаз не определяет движения в путь на авось головы опущены веки прикрыты. Давно взведенный к горизонту напрасно старается глаз приблизиться но различает лишь два крошечных овала. Вершина циклопического свода выступающая на лбу белая шишка домоседства или любви к очагу. Самое последнее изменение наконец спиной к небу изгнанник падает и вытягивается посреди развалин. Ноги центр тяжести тело радиус падает цельным блоком как падает статуя все быстрее и быстрее сквозь пространство квадранта. Чертовски остер тот глаз что отныне разглядит его что смешался с развалинами что смешались с пылью под небом покинутым даже стервятниками. Пусть неслышное но дыхание еще не покинуло его и он тревожит при выдохе щепотку пыли. Лазуритовые впадины глаз отверсты они не закрылись в падении как у куклы пыль еще их не заполонила. Отныне нет и вопроса о том чтобы он не верил глазам своим зрящим белизну там вдали где смешались пыль и небо. Белизна ни на земле ни вверху карликов как будто в истечение своих трудов упокоивших носилки между собой застывших белыми телами из мрамора. Развалины молчание и недвижность мрамора маленькое тело лежащее по стойке смирно глазницы зияющие на дне светлая голубизна. Как в дни стояния руки примыкают к туловищу и одна к другой ноги созданные для того чтобы бежать. Упавший цельным блоком во всю свою малую длину лицом вперед будто его толкнула дружеская рука или дунул в спину ветер но воздух недвижим. Или пресытившись гущей жизни после длительного пребывания на ногах упавший упавший без страха что когда-нибудь сможет снова встать. Погребальный череп все ли замерзнет там навсегда носилки и карлики развалины и маленькое тело небо серое без облаков пресыщенная пыль даль без конца воздух ада. И греза о пути в пространстве где нет ни здесь ни там где все шаги никогда не приближаются и не удаляются. Но нет ведь чтобы закончить вновь мало-помалу или как по приказу выключателя чернота созиждет себя снова наконец та особая чернота на которую способен только особый прах. Через нее кто знает еще один новый конец под небом тем же черным без облаков земля и небо последнего конца если только конец должен наступить если только должен абсолютно.
1975Однажды вечером
Его нашли на земле. По воле случая. Никто о нем не тревожился. Никто его не искал. Нашла его старуха. Это смутно. Так давно все было. Она искала полевые цветы. Только желтые. Она искала только цветы, а наткнулась на него, лежащего. Он лежал ничком, раскинув руки. На нем зимнее пальто, несмотря на время года. Пальто наглухо застегнуто на пуговицы разных форм и размеров, хотя их и не видно. Когда он еще стоял на ногах, полы волочились по земле. Пока все вроде вяжется. Близ его головы лежит шляпа. Шляпа лежит полями кверху. Пальто зеленоватого оттенка, и поэтому мужчину трудно было заметить. Только седая голова привлекла ее взгляд издали. Могла ли она видеть его раньше? То есть где-то еще, стоящим на ногах? Внимание. Она вся в черном. Кайма длинной черной юбки задевала траву. Вечерело. Если бы она решила пойти на восток, то последовала бы за собственной тенью. Длинная черная тень. То было время ягнят. Но ягнят не было. Она не увидела ни одного. Случись там появиться некоему третьему лицу, он увидел бы только этих двоих. Вначале – стоящую вдову. Затем, приблизившись, распростертое тело. Пока все вроде вяжется. Пустое поле. Недвижно стоящая вдова в черном. Недвижимое тело на земле. В черной руке что-то желтое. Белые как снег волосы на траве. Восток погружается в ночь. Внимание. Погода. Небо заложено тучами весь день, до вечера. На северо-западе, над горизонтом только сейчас проблеснуло солнце. А дождь? Несколько капель с утра, если угодно. Покончим с описанием. Так давно все было. Просидев взаперти целый день, она вышла в один час с солнцем. Она спешит в поле. Удивившись, что никто ей не встретился, лихорадочно высматривает полевые цветы. Лихорадочно осознает неизбежность ночи. С удивлением отмечает отсутствие ягнят – в это время года и в этой местности. Она носит черное, она надела черное, овдовев в молодости. Она ищет цветы, которые любил он, чтобы освежить цветы на могиле. Но если бы не необходимость желтого в черной руке, их бы не было вовсе. Следовательно, цветов так мало, как это только возможно. Таково третье обстоятельство, которое удивило ее после выхода наружу. В это время года и в этой местности их обычно много. Тень, всегдашний друг, теперь раздражает ее. До такой степени, что она оборачивается лицом к солнцу. Если цветок обнаруживается в стороне от ее пути, она подходит к нему под углом. Ей хочется, чтобы поскорее зашло солнце, и тогда она снова сможет свободно ходить в свечении долгих сумерек. Досаден ей и знакомый шелест длинной черной юбки о траву. Она идет, прикрыв глаза, будто зарево ее засасывает. Она вполне могла бы отметить про себя, что так много странностей пришлось на этот мартовский или апрельский вечер. Ни души. Ни единого ягненка. И цветов почти нет. Тень и шелест – враги. А в довершение – шок от того, что она споткнулась о тело лежащего. По воле случая. Никто о нем не тревожился. Никто его не искал. Теперь черное и зеленое соприкасаются. У седой головы желтизна нескольких сорванных цветов. Лицо старухи, освещенное солнцем. Живая картинка, как говорится. С этих пор тихо. Пока она не сможет снова отправиться в путь. Солнце наконец исчезло, и с ним всякая тень. В этой местности. Медленно наплывают сумерки. Ночь безлунная и беззвездная. Пока все вроде вяжется. Но ни слова более.
1976Примечания
1
Мартингал – удвоение ставок при проигрыше. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)2
Колесница – другое название Большой Медведицы.
(обратно)3
Вероятно, юмористическая отсылка к книге французского сюрреалиста А. Бретона «Сообщающиеся сосуды».
(обратно)4
Отсылка к оде XIV Теодора Агриппы д’Обинье (1554–1630), в которой красота «великолепных дубов» увядает с приходом осени.
(обратно)5
Вероятно, подразумевается немецкий миннезингер Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1170–1230). Одно из его назидательных стихотворений начинается словами: «Я сел на камень и скрестил ноги». В такой же позе поэт изображен на иллюстрации к Манесскому кодексу (XIV в.).
(обратно)6
«В воздухе сладостном мы были скучны» (ит.). Данте, «Ад», песнь седьмая, 121.
(обратно)
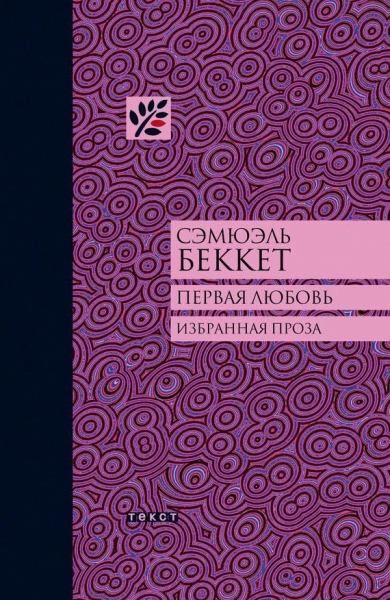



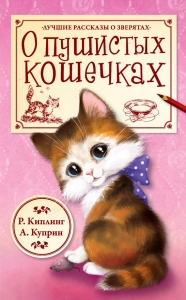

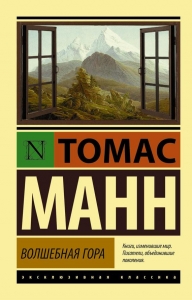


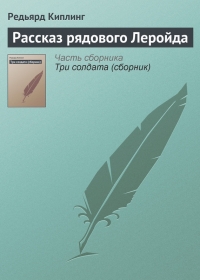

Комментарии к книге «Первая любовь», Сэмюэль Беккет
Всего 0 комментариев