Карл Филипп Мориц Антон Райзер
От переводчика
«„Веди меня к Морицу“, – сказал я поутру наемному своему лакею. – „А кто этот Мориц?“ – „Кто? Филипп Мориц, Автор, Философ, Педагог, Психолог“. – „Постойте, постойте! Вы мне много насказали; надобно поискать его в календаре под каким-нибудь одним именем. И так (вынув из кармана книгу), он Философ, говорите вы? Посмотрим“. – Простодушие сего человека, который с важностью переворачивал листы в своем всезаключающем календаре и непременно хотел найти в нем роспись Философов, заставило меня смеяться. – „Посмотри его лучше между Профессорами, – сказал я, – пока еще число любителей мудрости неизвестно в Берлине“. – „Карл Филипп Мориц, живет в“. – „Пойдем же к нему“».[1]
Так в 1789 году произошло личное знакомство русского писателя Николая Михайловича Карамзина с одним из самых оригинальных деятелей немецкого Просвещения. Будущему историку государства Российского, который в ту пору совершал ознакомительный тур по Европе, один за одним нанося стремительные визиты европейским знаменитостям, не исполнилось тогда и двадцати трех лет, но и маститому немецкому профессору было еще весьма далеко до патриарха. «Я представлял себе Морица – не знаю, почему – стариком; но как же удивился, нашедши в нем молодого человека лет в тридцать, с румяным и свежим лицом! – „Вы еще так молоды, – сказал я, – а успели написать столько прекрасного!“ – Он улыбнулся. – Я пробыл у него час, в который мы перебрали довольно разных материй».[2]
Как ни коротка была эта встреча, описанная юным Карамзиным со свойственным ему небрежным и обманчиво легкомысленным изяществом, в ней сквозит знаменательная симметрия. Карамзин весьма тщательно подготовился к этому разговору. Оба автора, при всем различии их культурных масштабов, совмещали в себе сходное сочетание талантов – писателя, поэта, критика, ученого, издателя, журналиста, оба по сей день, пускай зачастую анонимно, живут в культурной памяти своих соотечественников как зачинатели большой традиции. Карамзину предстояло своей поэзией и прозой сильнейшим образом способствовать радикальной реформе русского языка, привить ему, в основном из французского, средства и возможности описания внутренней жизни человека, тонких душевных переживаний, любовных чувств; впереди ждал труд по созданию многотомной «Истории государства Российского», положившей начало особому государственническому типу русской историографии. Его немецкому собеседнику, тридцатитрехлетнему «старику» Карлу Филиппу Морицу, несмотря на тогдашний румянец (надо думать, чахоточный) и «свежесть лица», оставалось жить всего четыре года, литературный и жизненный подвиг этого крайне болезненного, тонкого и ранимого человека близился к завершению. 26 июня 1793 года он в тяжелых мучениях скончается от хронической легочной болезни.
За отведенный ему короткий срок жизни, притом наполненной физическими страданиями, он успел сделать очень много. Богословские сочинения, ряд проницательных эстетических трактатов, положивших начало целому направлению теоретической эстетики как самостоятельной дисциплины, издание первого популярного журнала по аналитической психологии, интенсивная преподавательская деятельность и главный труд жизни – роман нового типа, полная небывало точных психологических интроспекций автобиография «Антон Райзер». У этого романа странная судьба. Один из самых ярких и запоминающихся в немецкой литературе, он в свое время так и не вошел в ее «обязательный список», а впоследствии сам его неторопливый, обстоятельный и педантичный язык стал уходить в прошлое, между тем как многочисленные психологические наблюдения, открытия и интуитивные прозрения, содержащиеся в этой книге, были подхвачены, нашли многообразное воплощение, разойдясь по всему горизонту культуры, немецкой и мировой. Сам же источник так и остался пребывать в негустой, но устойчивой тени.
Почему же так произошло? Почему великий роман, который еврейский философ ХХ века Гершом Шолем справедливо уподобил, по его «метафизическому величию», эпической средневековой хронике, так и не снискал широкого и прочного читательского интереса? Можно попытаться объяснить это нарушением жанровых границ и той самой многонаправленностью творческого метода Морица, что привела в растерянность молодого Карамзина и его немецкого слугу, не сразу обнаруживших в берлинской справочной книге («всезаключающем календаре») фамилию Морица под той или иной конкретной рубрикой. Кто он? Философ? Педагог? Психолог? К этой серии характеристик, наугад перечисляемых Карамзиным, следовало бы добавить еще одну, принципиально существенную и не сразу опознанную читателями: социолог. Мориц, безусловно, был одним из первых в истории мысли и необычайно зорким стихийным социологом.
Немецкая литература предромантического периода, которую принято обобщенно – и довольно приблизительно – именовать «эпохой Гете», разумеется, знала и умела описывать духовные поиски, томления, сомнения и страсти молодого сознания, открывающего для себя мир. Достаточно вспомнить гётевские «Страдания юного Вертера», предмет прямо-таки молитвенного преклонения и самого Морица, и его героя, или «Годы учения Вильгельма Мейстера», роман, во многих отношениях параллельный «Антону Райзеру». Эти произведения очень изощренно – и столь же выборочно – передают тонкости душевной жизни героя, но при этом помещают его в социальный вакуум. Это придает повествованию, быть может, более универсальный, но одновременно и тем самым – более отвлеченный характер. Конечно, и в этой прозе местами выхвачены яркие детали общей картины, крупицами рассеяны приметы, по которым можно составить представление об известных сторонах немецкой жизни того времени. И все же социальный и природный мир нарисован в ней весьма схематично, он – лишь фон, на котором горельефом вылепливается фигура протагониста. Обескураживающая новизна художественного метода Морица для современников – в том, что он изобразил своего героя в конкретной социальной среде, внутри немецкого общества, каким оно было в конце XVIII века по всей вертикали – от бытового устройства до духовных вершин поэтического и театрального мира. Болезненное, мучительно-беззащитное, отзывчивое, словно эолова арфа, «я» рассказчика складывается как отражение внешнего мира, как совокупность сложнейших реакций на его требования и претензии, но и сам этот окружающий мир изображен как зеркало, отражающее внутреннюю структуру богатой личности Антона.
Если попытаться одним словом обозначить характер немецкого общества времен Морица, таким словом будет – «власть». Власть князей («отцов земли», по немецкому выражению) над населением, власть отца семейства над женой и детьми, власть мастера над подмастерьями, хозяина дома над домашней челядью, проповедника над паствой, директора школы над учителями, учителей над учениками – и так до самого низа. Помимо твердых религиозно-нравственных устоев, зиждущих эту социальную иерархию, подчинение низших обеспечивалось их жесточайшей материальной зависимостью от высших. Немыслимо ослушаться старшего, иначе в тот же миг окажешься без куска хлеба, выброшенным во тьму кромешную один на один с нищетой, а то и голодной смертью.
Этой жесткой властной иерархии логично соответствовало четко расчерченное физическое пространство. Жизнь горожанина протекала в тесных интерьерах, внутри охраняемой городской стены. Простые люди были почти совсем лишены личного пространства. Мориц, как и его альтер-эго Антон Райзер, родился в семье задавленного бедностью мелкого полкового музыканта. Детство Антона прошло под неусыпным родительским контролем. Райзер – подмастерье шляпника вместе с таким же, как он, заморышем делит свои дни между тесной каморкой, чадной кухней и крошечной подземной красильней, пропитанной ядовитыми парами. Выйти за городские ворота, расправить плечи на прогулке, взглянуть на божий мир, глотнуть свежего воздуха и полюбоваться зелеными лугами и лесами, убегающими к горизонту, работникам дозволялось лишь по воскресеньям. (Вспомним выразительную сцену публичного гуляния «У ворот» из гётевского «Фауста».) Круг жизни чуть повзрослевшего Райзера-школяра так же тесен и однообразен: место за общим обеденным столом, предоставляемое из милости, угол в чужом семействе, шумном или, напротив, удушливо педантичном, крышка колченогого рояля, заменяющая стол для занятий, место в классе, строго определенное текущими школьными отметками… Регламентация всех сторон жизни доходит до крайности.
Но и этого мало. Мечтательный, тщеславный и сверх меры одаренный юноша должен был постоянно носить на себе клеймо принадлежности к своему сословию и прилюдно его демонстрировать. Старая и перекроенная солдатская шинель, в которой он, давясь слезами унижения, вынужден ежедневно являться в школу и ходить по улицам, была ему подарена благодетелями не только в видах экономии, но и для того, чтобы не дать забыть ни ему, ни окружающим о его жалком положении полу-изгоя. Несет ли он по базару корзину с продуктами, готовый провалиться сквозь землю от стыда за свое реальное или мнимое сходство с домашней служанкой, каковой только и пристало толкаться с корзинами между продуктовых рядов, пробирается ли темными переулками, подальше от людских глаз, пряча под полой раздобытый ломоть хлеба, семенит ли по улицам за своим хозяином-шляпником со стопкой крашеных шапок в руках – ему всегда кажется, что на него устремлены презрительные взгляды прохожих. За спиной он все время слышит насмешливый шепот. Где бы он ни находился, Райзер обречен всегда чувствовать себя как на сцене…
И здесь, как видится, заключена главная смысловая и сюжетная пружина романа. Каким путем подросток – не обязательно гениальный, как Антон Райзер, но любой, волею судьбы рожденный в подвальном этаже общества, – может выбраться из своей тесной ячейки, разорвать узы, обрекающие его на пожизненное социальное заключение? Таких путей было ничтожно мало, они требовали от человека огромных, непосильных жертв, почти все оказывались дорогой в никуда и все обозначены в романе на примере разных персонажей.
Вот приятель Райзера, Г., бесшабашный и вечно неудовлетворенный авантюрист, вовлекший их дружескую компанию в опасные приключения и кончивший кражей церковного имущества, затем тюрьмой. После этого его след теряется. Антона бросает в холодный пот от одной мысли об их мимолетной близости и об опасности, которой сам он чудом избежал. Ведь он кто угодно, только не преступник… Вот случайный попутчик Антона, странствующий подмастерье сапожника. Раз и навсегда осознав, что ему нипочем не раздобыть денег, нужных, чтобы внести вклад в цех башмачников, представить образец своего труда и сделаться полноправным ремесленником, он махнул на это рукой, живет вольной птицей, скитается по дорогам, ночует где придется и кормится подаянием. Такой голодной изнурительной жизни пришлось изрядно хлебнуть и Антону, проявившему невероятные чудеса выносливости и упорства, но примириться с ней он не может: дорога для него – это всегда движение к цели, но не сама цель. К тому же этот вундеркинд готов сколь угодно долго терпеть голод физический, но не интеллектуальный.
Помимо преступления и странничества есть и другие средства освобождения от тягот и унижений земного бытия, например, безумие и смерть. Первого Антон счастливо избегает, хотя порой проходит в опасной близости от него. Что же до смерти, ее образы являются ему на каждом шагу. Изуверская казнь преступников на глазах возбужденной толпы, забой скота на живодерне, юный и прекрасный утопленник, внезапно расставшийся с жизнью, собственная ужасная болезнь в раннем детстве, наконец, гибель боготворимого Вертера – все это внушает ему острейшие переживания и высокие крайне пессимистические философские мысли. Доведенный до отчаяния, он и сам решается прибегнуть к этому последнему лекарству, но его спасает случай.
Какой же исход в итоге выбирает для себя Антон Райзер, по-немецки Антон Путник? Каков его жизненный путь? Он решает – сам того не осознавая – преодолеть свои несчастья изнутри, изжить их силой своего таланта и так обрести свободу. Привыкнув к роли вечного козла отпущения, объекта нескончаемых издевательств и поношений, он, конечно же, страстно мечтает о небытии и одиночестве: умереть, провалиться сквозь землю, забиться в угол, бежать прочь от людей, часами кружить по окрестностям одиноким волком… Но не в этом состоит последний выбор Антона Райзера. Заветное желание и мечта всей его жизни – публичность. Оставаясь на виду, стяжать восхищенные взгляды многотысячной толпы, стать фокусом ее устремлений. Добиться того, чтобы люди не указывали на него пальцами, а в восторге простирали к нему руки. И это – участь актера. Прожигающая, если не сказать маниакальная, мысль посвятить жизнь театру овладевает им не сразу, но постепенно. Первым кумиром юного Антона стал гениальный проповедник пастор Паульман. Описывая его поразительные проповеди, опасно электризующие многотысячную толпу прихожан, доводящие ее до религиозного экстаза и мистического ужаса, Мориц настойчиво подчеркивает отточенные актерские приемы, которыми тот виртуозно пользуется. Честолюбивая мечта Райзера стать таким же кумиром толпы надолго облекается в черные священнические одежды и лишь постепенно оформляется в своем окончательном виде – стяжать славу великого актера. Примечательно, что тщеславие Райзера – черта, вообще говоря, малопривлекательная – совершенно не вызывает читательской неприязни. Слишком обаятелен этот герой, чересчур жестоко и несправедливо обходится с ним жизнь и слишком хорошо объясним этот его настрой неизбывной жаждой свободы. Но есть и другая причина, не менее важная – мы очень скоро начинаем понимать, что главная мечта Райзера, как и все другие его надежды и намерения, – лишь самообман и повелителем толпы он все равно никогда не сделается. Мы заранее прощаем Райзеру его юношескую амбициозность, так как видим, что он изначально находится во власти иллюзии. Ему куда сильнее сочувствуешь, чем осуждаешь.
Описание бесплодно-лихорадочных метаний героя по дорогам Саксонии в погоне за странствующей театральной труппой принадлежит к сильнейшим страницам романа. Но едва лишь цель наконец достигнута, сама труппа внезапно испаряется как дым. Пространство романа «Антон Райзер» – это пространство тотальной тщеты, и не случайно повествование, имитирующее реальную жизнь с отсутствием в ней какой-либо стройной композиции, обрывается на полуслове.
И все же, в какой мере жизнь героя, описанная в романе, «реальна», в какой – является проекцией его внутреннего «я»? Этот тонкий вопрос давно привлекает внимание исследователей. Главные персонажи романа – действительно жившие люди, их сохранившаяся переписка подтверждает многие факты и оценки, в нем отраженные. И все-таки ткань романа не столь уж прозрачна. Предромантическая эпоха сформировала новый в литературе запрос на «образ автора». Сказанное писателем стало восприниматься неотрывно от того, кем это было сказано. Поэтому условная авторская личность сделалась объектом творчества в неменьшей степени, чем «содержание» литературного произведения. Карамзин, к примеру, виртуозно разрабатывал и примерял на себя двуликий образ: любознательного русского «варвара», обращенный к европейцам, и утонченного европейца – для русского читателя. Мориц по-своему не менее филигранно лепит образ автора-героя своего романа. Основным фактором, сформировавшим личность Антона Райзера и его судьбу, рассказчик признает «угнетение» ребенка с раннего детства и преследовавшие его на каждом шагу обиды. И вот именно эти обиды и угнетение делаются движущей силой сюжетного развития романа, ключом к психологии героя. Они, как стрекало, гонят Антона к вершинам познания, питают его самолюбие и воображение, придают новые силы, окрыляют дух. Неудивительно, что Мориц целой серией тонких приемов всячески педалирует заведомую враждебность мира к своему герою. Между тем многие действительно страшные испытания, выпавшие на долю Антона, были обычными для подростков его сословия в ту эпоху и не воспринимались как личная катастрофа. Мориц регулирует сценическое освещение романа таким образом, что некоторые его герои выглядят более грозными и зловещими, чем были их прототипы в жизни. Упомянем лишь одну ключевую фигуру, отца Морица, который, по свидетельству современников, был скорее безвольным, недоучившимся и растерянным от жизни неудачником, чем семейным деспотом, выведенным в образе отца Антона Райзера…
У прозы Морица есть черта, роднящая ее с определенным типом модернистского повествования ХХ века. Рассказ у него ведется от третьего лица, однако читатель, погрузившись в перипетии романа, ловит себя на мысли, что все происходящее излагается словно бы от его собственного имени. Дело в том, что Антон Райзер, с детства ощутивший себя униженным и никчемным человеком, чье мнение никем не берется в расчет, не имеет внутри себя критериев для оценки собственной личности. Да и личности этой в объективном смысле как бы не существует. Или, что то же самое, она безразмерна. Она до такой степени неочерчена, что, узнав, например, о преступлении своего бывшего приятеля Г., Антон недалек от того, чтобы самому признаться в краже, хотя он ее не совершал. Самооценка Райзера, как маятник, все время колеблется между испепеляющей ненавистью к себе самому и самой непомерной амбицией. Подверженный постоянному искусу самоуничтожения, он должен снова и снова убеждаться в своем существовании. Поэтому ему как воздух необходимы объективирующие оценки других людей – как ни парадоксально, даже самые уничижительные. Они придают Райзеру уверенность, что он существует. Отсюда его постоянная оглядка на чужие мнения, болезненно-чуткое вслушивание в каждый шепоток за спиной. Но экзистенциальная ситуация Райзера – это лишь доведенный до крайности феномен человеческого «я» как таковой. Ведь любое рефлексирующее самосознание обретает свою конфигурацию лишь в чужих взглядах, как в многочисленных зеркалах, расставленных вокруг. Поэтому мы невольно отождествляем себя с Райзером, невзирая на, быть может, полное несходство нашего жизненного опыта. Таков механизм, втягивающий читателя, как в воронку, в ткань этого исповедального романа.
Немецкие историки литературы проводят аналогию между психологическими интуициями Морица и тем, как организует свою прозу Ф. Кафка. Автобиографизм произведений Кафки, не столько фактический, сколько обобщенно-экзистенциальный, очевиден. И герой Кафки, будь он К. или Землемер, столь же размыт, неопределенен, так же бесконечно чувствителен и восприимчив ко всем волнам и импульсам окружающей среды, как Антон Райзер. Готовый превратиться в кого-то другого или во что-то другое (вплоть до насекомого), он так же слабо, как Райзер, ощущает границы своей персоны. Он совершенно беззащитен перед любыми, сколь угодно чудовищными обвинениями и столь же безропотно, даже с облегчением, готов расстаться со своей жизнью. Рассказ о Райзере или о К. – это рассказ о человеке вообще, существе принципиально безразмерном и «всезаключающем». Поэтому эти образы так магнетически нас притягивают. Вглядываясь в них, как в зеркало, мы непременно находим там и свое отражение.
Антон Райзер
Часть первая
Этот психологический роман вполне можно было бы назвать биографией, так как приведенные в нем наблюдения по большей части взяты из действительной жизни. Кто имеет понятие о ходе вещей, внутренне свойственных человеку, кто знает, как часто малое и чуть заметное разрастается в жизни до огромного, того не смутит мнимая ничтожность иных обстоятельств, здесь описанных. Также не следует искать в книге, посвященной душевной истории одного человека, изображения чрезмерного множества характеров, ведь нам надлежит не дробить силы воображения, но собирать их воедино и всячески изощрять взгляд души, исследующей самое себя. Нечего и говорить, задача это нелегкая, и потому не всякий опыт обещает принести успех, но так или иначе, хотя бы в деле педагогики усилия, побуждающие человека заглянуть внутрь себя и почувствовать важность своего индивидуального существования, никогда не останутся вполне бесплодны.
Еще не так давно, в 1756 году, невдалеке от городка Пирмонт, славящегося целебным источником, жил в своем поместье некий дворянин, возглавлявший в Германии секту так называемых квиетистов, или сепаратистов, чье учение почти целиком содержится в писаниях мадам Гийон, известной мечтательницы, жившей во Франции в одно время с Фенелоном и имевшей с ним общение.
Господин фон Фляйшбайн, так звали этого дворянина, жил столь же отрешенно от соседей, их религии, нравов и обычаев, как отделен был от их домов его дом, окруженный со всех сторон высокой стеной.
Дом этот представлял собою маленькую республику, где царили совсем иные порядки, чем в остальной округе. Домашний уклад здесь был таков, что вся прислуга до последнего работника состояла из людей, чьи помыслы – хотя бы по видимости – клонились к возвращению в ничто (как выражается мадам Гийон), к умерщвлению страстей и к искоренению самости в себе.
Всем домашним вменялось в обязанность раз в день собираться в большом зале на своего рода священнодействие, отправляемое самим господином Фляйшбайном и состоящее в том, что они рассаживались вокруг стола и с закрытыми глазами, опустив голову на стол, ждали в продолжение получаса, не зазвучит ли в них божественный глас или сокровенное слово. Если же кто слышал нечто подобное, то рассказывал об этом всем остальным.
Господин Фляйшбайн сам также руководил чтением своих людей, и если у кого из слуг или горничных выпадали свободные четверть часа, тот усаживался с видом задумчивости за одно из творений мадам Гийон о внутренней молитве или чем-то подобном.
Даже самые мелкие хозяйственные хлопоты в этом доме были исполнены торжественной серьезности и суровости. На каждом лице читалось умерщвление и отречение, в каждом действии – исхождение из себя и восхождение в ничто.
После смерти супруги господин фон Фляйшбайн не стал жениться во второй раз и поселился со своей сестрой госпожою фон Прюшенк в уединении, позволявшем им безраздельно и в полном покое посвятить себя великому делу распространения системы мадам Гийон.
Управляющий Х. и экономка с дочерью составляли, так сказать, среднее сословие дома, далее следовала простая челядь. Все эти люди крепко держались друг друга и несказанно благоговели перед господином Фляйшбайном, ведшим воистину безупречный образ жизни, хотя окрестные жители разносили про него самые что ни на есть неблаговидные слухи.
Трижды в ночь он по часам вставал на молитву, дни же большей частью проводил за переводом с французского многотомных трудов мадам Гийон, которые затем печатал за собственный счет и безвозмездно раздавал своим присным.
Наставления, содержащиеся в этих трудах, относились преимущественно до таких уже упомянутых предметов, как исхождение из самого себя и восхождение в блаженное ничто, окончательное искоренение так называемой самости, или любви к себе, и абсолютно бескорыстная любовь к Богу, в коей – коль скоро она желает оставаться чистой – нет ни малейшей искры себялюбия и из коей под конец рождается совершенный и блаженный покой, высшая цель всех названных устремлений.
Поскольку же мадам Гийон почти всю жизнь ничем иным не занималась, как только писала книги, то и трудов у нее накопилось такое несказанное множество, что сам Мартин Лютер едва ли ее в этом превзошел. Одно лишь ее полное мистическое толкование Библии занимало около двадцати томов.
Означенная мадам Гийон претерпела множество гонений и наконец, поскольку власти сочли ее учение опасным, была заключена в Бастилию, где и оставалась вплоть до своей кончины, наступившей после десяти лет пребывания в тюрьме. Когда по смерти череп ее был трепанирован, мозг оказался почти совсем иссохшим. Приверженцы по сию пору воздают мадам Гийон почти божественное поклонение как величайшей святой, а ее изречения приравнивают к библейским, ибо считается, что путем полного искоренения самости ей удалось достичь столь тесного единения с Богом, что все ее мысли суть не что иное, как подлинные мысли Бога.
Господин Фляйшбайн впервые познакомился с трудами мадам Гийон во время своих путешествий по Франции, и сухая метафизическая мечтательность, в них царящая, настолько пришлась ему по душе, что он углубился в нее с не меньшим пылом, чем в других обстоятельствах, возможно, предался бы высшему роду стоицизма, с которым учение мадам Гийон имело много общих черт – особенно по части полного умерщвления всяческих страстей и т. п.
Он также был почитаем своими последователями подобно святому; они верили, что он может единым взглядом проникнуть в самую душу человека.
К его дому со всех сторон стекались паломники, и среди тех, кто посещал этот дом не реже одного раза в год, был и отец Антона.
Этот человек, выросший без должного воспитания, впервые женился очень рано, вел довольно разнузданную и беспорядочную жизнь, изредка перемежаемую периодами кроткого умиления, о которых он, впрочем, быстро забывал. Как вдруг, после смерти первой жены, он замкнулся, впал в глубокую задумчивость и, как говорится, переменился до неузнаваемости, после чего, посетив Пирмонт, случайно познакомился сначала с управляющим господина Фляйшбайна, а затем, через него, и с самим Фляйшбайном.
Последний стал беспрестанно потчевать его писаниями мадам Гийон, к которым тот пристрастился и вскоре сделался открытым последователем господина Фляйшбайна.
Тем не менее он надумал жениться снова. Свел знакомство с будущей матерью Антона, которая вскоре согласилась выйти за него, на что никогда бы не решилась, если бы могла предугадать, какую бездну страданий приуготовляла ей супружеская жизнь. Она надеялась, что муж окружит ее еще большей любовью и заботой, чем то было в родительском доме. Какое ужасное заблуждение!
Сколь сродственно было учение мадам Гийон об умерщвлении и изничтожении всяческих страстей, вплоть до самых кротких и нежных, грубой и холодной душе ее мужа, столь же явно сама она чуралась этих идей, против коих восставала всем сердцем.
И здесь коренились ростки всех их будущих семейных раздоров.
Муж стал презрительно высмеивать ее суждения, поскольку она не желала постигать великих тайн, преподанных госпожою Гийон.
Это презрение распространилось затем и на прочие ее суждения, и чем яснее она это осознавала, тем быстрее неизбежно таяла их супружеская любовь, а взаимное неудовольствие росло с каждым днем.
Мать Антона, весьма начитанная в Библии, неплохо разбиралась в религиозной системе, нашедшей в ней воплощение; к примеру, она весьма красноречиво говорила о том, что вера без дел мертва, и о многом другом.
Библию она с сердечным наслаждением могла читать целыми часами, но стоило мужу приняться за чтение вслух выдержек из сочинений мадам Гийон, как она начинала испытывать безотчетную тревогу, рождаемую, вероятно, опасениями, что ее сбивают с истинной веры.
В таких случаях она всячески старалась поскорее уйти. К тому же черствость и бессердечие мужа она во многом относила за счет писаний мадам, которые в душе все больше ненавидела, а во время бурных семейных ссор проклинала вслух.
Так мир, покой и благоденствие семьи годами разрушались из-за этих злополучных книг, коих ни тот, ни другая и понять толком не могли.
В такой обстановке и появился на свет маленький Антон, про которого поистине можно сказать, что он терпел угнетение с самой колыбели.
Первое, что восприняли его уши и его пробуждавшийся разум, были взаимные проклятия и обвинения, коими осыпали друг друга навеки обреченные на брачный союз супруги.
Имея и отца, и мать, он все же с раннего детства чувствовал себя покинутым ими обоими, поскольку никогда не знал, к кому из них может прибегнуть, кого держаться – оба они ненавидели друг друга, а ему были одинаково близки.
В раннем детстве он не изведал ни нежных родительских ласк, ни улыбок, ободряющих первые усилия ребенка.
Родительский дом, где он вступил в жизнь, был полон вечного недовольства, гнева, жалоб и слез.
Эти первые впечатления за всю жизнь так и не выветрились из его души, превращенной ими во вместилище мрачных мыслей, которые он не мог вытравить из себя никакой философией.
Во время Семилетней войны отец ушел воевать, и мать на два года переселилась вместе с Антоном в маленькую деревушку.
Здесь он пользовался известной свободой и получил некоторое вознаграждение за муки раннего детства.
Воспоминания о первых увиденных им лугах, о поле, убегающем по отлогому склону холма и обрамленном наверху зеленым кустарником, о горе, тонущей в голубой дымке, о кустах и деревьях, бросающих у ее подножия тень на зеленую траву и к вершине растущих все гуще, неизменно примешивались к самым приятным его мыслям и составляли фон прельстительных образов, нередко рождаемых его фантазией.
Но как быстро промелькнули два счастливых года!
Наступил мир, и мать вместе с Антоном вернулась в город, где снова стала жить с мужем.
Долгая разлука на малый срок создала иллюзию супружеского согласия, но тем ужасней оказалась буря, грянувшая после обманчивого затишья.
Сердце Антона преисполнялось тоски, когда ему приходилось счесть неправым кого-либо из родителей, и все же ему очень часто мнилось, что правота в спорах скорее на стороне отца, которого он попросту боялся, а не на стороне матери, которую любил.
Так юная его душа непрестанно колебалась меж ненавистью и любовью, меж страхом и доверием к своим родителям.
Ему не сравнялось и восьми лет, когда мать родила второго сына, которому достались жалкие крохи еще не полностью растраченной отцовской и материнской любви, так что Антону почти не уделяли внимания; теперь он нередко слышал, что о нем отзываются с презрением и пренебрежением, и это весьма больно его ранило.
Откуда же взялась у него столь острая потребность в любви, если он никогда ее не знал и потому едва ли имел о ней хотя бы малейшее понятие?
Правда, в конце концов это чувство в нем несколько притупилось; непрестанная брань по его адресу стала привычной, и если порой он ловил на себе дружелюбный взгляд, то воспринимал его как нечто необычное, противоречащее всем его представлениям.
Антон испытывал глубочайшую потребность в дружбе со сверстниками и часто, встречая мальчика своего возраста, начинал всею душою к нему тянуться; он отдал бы все, чтобы сделаться его другом, и лишь унизительное чувство отверженности, внушенное родителями, а также стыд за свое убогое, перепачканное и потертое платье удерживали его от знакомства с более счастливым ровесником.
Так он и бродил по округе, вечно печальный и одинокий: соседские мальчики в большинстве своем были одеты аккуратнее, чище и богаче, чем он, и не хотели заводить с ним знакомства, с другими же он сам не желал сближаться из-за их слишком вольного поведения, а отчасти из собственной гордости.
Оттого-то он не нашел себе ни приятеля, ни товарища детских игр, ни друга среди детей или взрослых.
Впрочем, когда ему исполнилось восемь лет, отец решил немного поучить его чтению и с этим намерением купил две маленькие книжицы; в одной из них преподавалось чтение буква за буквой, вторая содержала сочинение, направленное против побуквенного чтения.
В первой книге Антону по большей части пришлось разбирать по буквам трудные библейские имена: Навуходоносор, Авденаго и другие, о которых он не имел ни малейшего представления, отчего дело продвигалось довольно медленно.
Однако стоило ему заметить, что, складываясь друг с другом, буквы выражают подлинно разумные идеи, как желание научиться читать стало разгораться день ото дня сильнее.
Отец уделил занятиям с Антоном не более нескольких часов, и, к удивлению близких, тот за считанные недели выучился читать самостоятельно.
По сей день он с душевным удовольствием вспоминает, какая радость охватывала его, когда упорным трудом ему удавалось разобрать несколько строк, дававших пищу размышлениям.
Одного лишь не мог он понять: как возможно, что другие люди читают столь же быстро, как говорят; сам он поначалу и думать не смел, что когда-нибудь достигнет такого совершенства.
Тем сильнее были его удивление и радость, когда еще через несколько недель он овладел и этим умением.
Все это как будто вызвало некоторое уважение к нему у родителей и даже большее – у других родственников: он заметил известную перемену в их отношении, но отнюдь не эта перемена побуждала его усердие.
Отныне его страсть к чтению сделалась ненасытной. По счастью, в книге для побуквенного чтения кроме библейских изречений имелось несколько рассказов о благочестивых детях; он прочел их бессчетное количество раз, хотя сами по себе они не представляли особого интереса.
В одном повествовалось о шестилетнем мальчике, который во времена гонений на христианство не пожелал от него отречься и предпочел ужасные истязания, сделавшись вместе со своей матерью мучеником веры; в другом – о злочестивом юноше, который на двадцатом году жизни обратился и вскоре умер.
Затем пришел черед второй книги, направленной против побуквенного чтения; в ней он с великим удивлением прочитал, что учить детей читать по буквам не только вредно, но и воистину губительно для детской души.
В этой книге он нашел наставление для педагогов по обучению детей чтению, а также сочинение о том, как органы речи производят те или иные звуки; как ни сухи показались ему эти предметы, все же он, за неимением лучшего, с великим упорством дочитал книгу до конца.
Через это чтение Антону внезапно открылся новый мир, наслаждение которым отчасти затмевало все то тягостное, чем полнился мир окружающий. Когда повсюду царил только шум, свары и домашние перебранки или он отчаивался найти себе друга, он спешил к своей книге.
Так уже в раннем возрасте он оказался вытеснен из естественного детского мира в искусственный идеальный мир, отвадивший его дух от множества житейских радостей, коими столь беззаботно наслаждались другие.
Восьми лет от роду его постигла изнурительная болезнь. Все от него отвернулись, и он поминутно слышал, что о нем говорят так, словно он уже умер. Эти разговоры вызывали у него лишь улыбку, вернее, сама смерть, как он ее тогда себе представлял, не заслуживала в его глазах слишком серьезного отношения. В конце концов его тетка, которая была к нему едва ли не добрее, чем собственные родители, отвела его к врачу, и тот за месяц-другой вылечил его.
Но не прошло и нескольких недель после его выздоровления, как во время прогулки с родителями по полю, столь редкой и потому особенно для него желанной, у него заболела левая нога. После перенесенной болезни это была его первая прогулка, которая на долгое время стала и последней.
На третий день опухоль и воспаление на ноге приняли столь угрожающие размеры, что назавтра решили предпринять ампутацию. Мать Антона сидела на стуле и плакала, а отец подарил ему два пфеннига. Это первые проявления родительских чувств, которые он запомнил, и тем сильнее они на него подействовали.
Накануне предстоявшей ампутации к матери Антона зашел некий сердобольный сапожник и дал ей склянку с мазью, которая за считанные часы сняла и опухоль, и воспаление. Отнимать ногу не стали, но болезнь длилась еще четыре года, в продолжение которых Антону пришлось вытерпеть несказанные мученья, лишившие его, помимо прочего, всех детских радостей.
Порой болезнь приковывала его к постели на три месяца, после чего несколько отступала, а затем разгоралась с новой силой.
Нередко он охал и стонал всю ночь напролет и чуть не каждый день терпел при перевязке ужасные боли. Разумеется, это еще больше отдаляло его от мира и от общения со сверстниками и все сильнее привязывало к чтению и книгам. Чаще всего он читал, пока укачивал младшего брата; по книгам он тосковал как по друзьям, потому что книга сделалась ему и другом, и утешителем, и заменой всего на свете.
К девяти годам он прочел всю библейскую историю, от начала до конца, и всякий раз, когда умирал кто-нибудь из главных героев, Моисей, Самуил или Давид, он по целым дням ходил опечаленный, словно скончался его близкий друг, так привлекали его люди, многое успевшие совершить в своей жизни и тем себя прославившие.
Одним из излюбленных персонажей у Антона был Иоав, мысли о его дурных деяниях причиняли ему боль. Но особенно поражало его благородство Давида: рассказ, как Давид помиловал своего злейшего врага, оказавшегося в его власти, трогал до слез.
Как-то раз в руки Антона попала книга житий отцов церкви, которую его отец ценил чрезвычайно высоко, при всяком удобном случае ссылаясь на их авторитет. Свои моральные увещевания он обыкновенно начинал словами: «как сказано у мадам Гийон…» или «у святого Макария, Антония…»
Святые отцы, при всей напыщенности и причудливости их жизнеописаний, виделись Антону совершеннейшими образцами для подражания, и он подолгу грезил лишь о том, как бы уподобиться своему тезоименному святому, Антонию, и, подобно ему, оставив отца и мать, бежать в пустыню, которую надеялся обрести не слишком далеко от дома и куда однажды и вправду отправился, удалившись от ворот более чем на сотню шагов, после чего боль в ноге заставила его повернуть обратно. Так же всерьез он начал колоть свое тело булавками и всячески причинять себе боль, чтобы хоть немного походить на святых отцов, а ведь у него и без этого не было недостатка в мучениях.
В пору увлеченности чтением Антон получил в подарок маленькую книжку, название которой он вскоре забыл, говорилось же в ней о привитии юным страха Божия и о том, как детям от шести до четырнадцати лет следует содержать себя в благочестии. Главы этой книжицы были поименованы соответственно: «Для детей шести лет», «Для детей семи лет» и т. д. Антон прочел в ней раздел «Для детей девяти лет» и пришел к выводу, что у него еще есть время сделаться благочестивым человеком, хотя прошедшие три года потрачены впустую.
Сей вывод потряс его до глубины души, и он твердо решил стать на путь истинной веры, на что отважился бы далеко не всякий взрослый. С этой поры он самым пунктуальным образом следовал руководству книги во всем, что касалось молитвы, послушания, терпения, дисциплины и т. п., ставя себе в вину любую поспешность. «Чего только я не достигну через пять лет, – думал он, – если буду придерживаться этих правил». Причина же в том, что в маленькой книжечке путь благочестия был представлен как дело тщеславия – словно бы некий ученик, переходя из класса в класс, радуется, что поднимается все выше и выше.
Если же он, что вполне естественно, временами забывался – когда боль в ноге несколько утихала, он принимался бегать и прыгать, – то позже испытывал тягчайшие уколы совести: ему казалось, что он опустился на несколько ступеней вниз.
Эта небольшая книжка наложила стойкий отпечаток на его поступки и образ мыслей: все, что в ней находил, он старался немедленно претворить в действие. Так, он ежедневно самым добросовестным образом вычитывал утреннее и вечернее молитвенное правило, поскольку так предписывал катехизис, при этом он не забывал осенять себя крестным знамением и произносить «да будет Господня воля» – по наставлению катехизиса.
Других проявлений благочестия он вокруг себя почти не видел, хотя слышал много разговоров на эту тему, а его мать каждый вечер благословляла и крестила его на сон грядущий.
Кроме того, господин Фляйшбайн среди прочего перевел на немецкий язык духовные песнопения мадам Гийон, а отец Антона, имевший склонность к музыке, положил их на голос, придав мелодиям бодрый и живой характер.
Иной раз, когда отец после долгого отсутствия возвращался домой, он уговаривал супругу исполнить вместе с ним некоторые из этих песен, сам же подыгрывал на цитре. Это происходило обыкновенно в первые часы по его приезде, еще окрашенные радостью встречи, и делало эти часы, быть может, самыми счастливыми во всей их супружеской жизни.
В такие минуты душу Антона охватывала несказанная радость, и он часто присоединялся к пению, ставшему выражением столь редкой взаимной гармонии и согласия между его родителями.
Отец вручил эти песни сыну, сочтя его достаточно зрелым для знакомства с ними, и велел частично выучить их наизусть.
Действительно, несмотря на ходульный перевод, песнопения эти выражали нечто столь умилительное, столь неподражаемо нежное, исполненное мягкой меланхолии, и были так неотразимо привлекательны для отзывчивой души, что на всю жизнь запечатлелись в Антоновом сердце.
Нередко в часы одиночества, когда ему казалось, что весь мир от него отвернулся, он утешал себя пением о блаженном исходе из самого себя и о сладостном саморастворении перед лицом Первоисточника всего сущего.
Так благодаря своим детски-наивным понятиям уже в ту пору он часто испытывал поистине райское умиротворение.
В один из вечеров хозяин дома, где они жили, пригласил родителей Антона на маленькое семейное торжество. Антону пришлось наблюдать из окна, как соседские дети, красиво наряженные, собираются на праздник, сам же он принужден был оставаться в комнате, так как родители стыдились его бедного платья. Стемнело, и его начал мучить голод, но родители не оставили ему на ужин ни куска хлеба.
И вот, когда он сидел у себя наверху и плакал, до него донесся снизу шум веселой разноголосицы. Покинутый всеми, он сначала почувствовал горькое презрение к себе, которое внезапно обернулось глубочайшей грустью, так как в эту минуту он невзначай раскрыл песни мадам Гийон и наткнулся на одну, которая, как ему мнилось, точно выражала его состояние. Чувство саморастворения, должно быть, низошло на него благодаря песне мадам Гийон, побуждая затеряться в бездне вечной любви, как капля в океане. Поскольку, однако, муки голода сделались совершенно невыносимы, все утешения мадам Гийон перестали ему помогать, и тогда он решился сойти по лестнице вниз, где его родители пировали в шумной компании, чуть-чуть приоткрыл дверь и попросил у матери ключ от буфета и заодно – разрешение взять оттуда немного хлеба, ведь его так сильно мучает голод.
Появление его вызвало у присутствующих взрыв смеха, вскоре сменившийся жалостью и даже известной неприязнью к его родителям.
Его позвали к столу и угостили лучшими кушаньями, которые доставили ему радость, правда совсем иного рода, нежели утешительные песни мадам Гийон.
Однако и те радости – смешанные с горечью и изобилующие слезами – сохраняли для него нечто притягательное, и он предавался им, перечитывая песни мадам Гийон всякий раз, когда рушилась какая-нибудь его надежда или ему предстояло что-то неприятное, например перевязка ноги или прижигание воспаленного места ляписом.
Кроме сборника песен мадам Гийон, отец подарил ему еще одну книгу того же автора: «Наставление о внутренней молитве».
Там рассказывалось, как постепенно, шаг за шагом, можно научиться собственным разумом собеседовать Богу и ясно воспринять сердцем Его голос, Его сокровенное слово, для чего надлежит сначала сколько возможно отрешиться от своих чувств и обратиться к себе самому и своим собственным мыслям, то есть научиться внутреннему созерцанию, после чего прекратить и это и даже вовсе забыть самого себя – лишь тогда будешь в состоянии воспринять голос Бога.
Этому наставлению Антон следовал с величайшим усердием, поскольку страстно желал сподобиться чуда – услышать внутри себя голос Бога.
Поэтому он часами просиживал на стуле, закрыв глаза, пытаясь отрешиться от своих чувств. То же самое проделывал и его отец – к величайшему расстройству матери. На Антона же она не обращала внимания, ведь ей в голову не приходило, что мальчик может питать подобные намерения.
Между тем Антон вскоре зашел столь далеко, что счел свои чувства в достаточной мере побежденными и принялся всерьез беседовать с Богом, с которым сделался на довольно короткой ноге. Целыми днями – во время одиноких прогулок, во время работы и даже игры – он разговаривал с Богом, обращаясь к нему с любовью и доверием, но так, как говорят с равными себе, не особенно церемонясь, и временами ему казалось, что Бог действительно отзывается на его обращения.
Конечно, порой между ними не обходилось без небольших размолвок, когда, например, Антону бывало отказано в какой-нибудь невинной игрушке или в чем-то ином. Тогда он нередко сетовал: даже такой малости не можешь мне позволить! или: уж это ты мог бы разрешить или хотя бы подать надежду! Вообще же Антон не корил себя за то, что иногда позволял себе слегка осерчать на Бога, поскольку, хотя у мадам Гийон и не было на сей счет никаких указаний, он полагал такие размолвки неотъемлемой частью доверительных отношений.
Все эти превращения произошли с ним между девятью и десятью годами. В этот период отец, по причине больной ноги, повез его с собою в Пирмонт к целебному источнику. Как же радовался Антон предстоящему знакомству с господином фон Фляйшбайном, о котором его отец всегда говорил с таким благоговением, словно тот был каким-то сверхчеловеческим созданием, и не меньше радовался он тому, что сможет дать отчет о своих успехах в обретении истинного благочестия: фантазия его рисовала некий храм, где он будет рукоположен в сан священника и, к удивлению всех знакомых, вернется таковым домой.
Итак, он предпринял свое первое путешествие с отцом, в продолжение которого тот относился к нему несколько добрее обычного и уделял ему больше внимания, чем в домашней обстановке. Антон наблюдал здесь природу во всей ее несказанной красоте. Горы, толпившиеся вокруг до самого горизонта, живописные долины наполняли его душу восторгом и печалью, что во многом объяснялось ожиданием великих событий, которые он надеялся здесь пережить.
Перво-наперво Антон с отцом нанесли в дом господина Фляйшбайна, где отец сначала беседовал с управляющим, господином Х., потом обнял его, поцеловал и обменялся с ним самыми дружескими приветствиями.
Несмотря на сильную боль в ноге, вызванную этим путешествием, Антон, вступая в дом Фляйшбайна, был вне себя от радости. В этот день он оставался в комнате господина Х., с которым ему затем предстояло ужинать каждый вечер. В остальном же, против его ожидания, никто в этом доме не уделял ему особого внимания.
Он продолжал прилежно упражняться во внутренней молитве, однако в этих занятиях, разумеется, не мог изредка не проявляться его детский нрав. За домом в Пирмонте, где отвели комнату его отцу, раскинулся обширный фруктовый сад, там он случайно нашел садовую тачку и любил забавляться, обегая с ней дорожки.
Поскольку же вскоре ему пришло в голову, что это грех, то, чтобы его оправдать, он пустился в чрезвычайно странную затею. В писаниях мадам Гийон, да и в других книгах ему доводилось много читать про Младенца Иисуса, о котором говорилось, что он одновременно присутствует повсюду и потому с ним можно встретиться и общаться всегда и везде.
Этот детский образ вызвал в нем представление о мальчике, по возрасту еще моложе его самого, и, коль скоро он так сблизился с самим Богом, почему бы еще больше не подружиться с Его Сыном, который, конечно, никогда бы не отказался с ним поиграть и наверняка бы не возражал, если бы его покатали в тележке.
Теперь он почитал за великое счастье катать в тележке столь высокую особу и тем доставлять ей удовольствие; поскольку же особа эта была лишь плодом его воображения, он мог распоряжаться ею, как вздумается, и позволять ей наслаждаться катанием то подолгу, то более краткое время; иногда, устав от прогулки, он с величайшим почтением говорил так: «Я с удовольствием покатал бы тебя еще, но теперь больше не могу».
В конце концов он начал воспринимать это времяпрепровождение как некий вид богослужения и перестал считать за грех, если полдня проводил в саду со своей тележкой.
Теперь, однако, с позволения господина Фляйшбайна, он получил книгу, которая открыла перед ним совсем иной, новый мир. Эта была «Acerra philologika». Из нее он узнал о Троянской войне, об Одиссее, Цирцее, Тартаре, Элизии и очень скоро познакомился по ней со всеми языческими богами. Вскоре после этого ему разрешили прочесть «Телемака», опять-таки с благословения господина Фляйшбайна, давшего его весьма охотно, поскольку автором романа был сам Фенелон, знакомец мадам Гийон.
«Acerra philologika» основательно подготовила его к чтению «Телемака», ибо благодаря ей он неплохо познакомился с языческой мифологией и заинтересовался участью большинства героев, снова встреченных им в этом романе.
Все эти книги он с жадностью и упоением прочел по нескольку раз – особенно «Телемака», где впервые почувствовал вкус к ладно построенному повествованию.
К числу мест, особенно глубоко его трогавших, принадлежала волнующая речь старика Ментора на Крите, обращенная к юному Телемаку, едва не перепутавшему там добродетель с пороком, – и в этот миг перед ним явился верный, давно числившийся пропавшим Ментор, чей скорбный вид потряс Телемака до глубины души.
Эти рассказы увлекали Антона куда сильнее, чем библейская история и все, что ему довелось прочесть в житиях святых отцов или в писаниях мадам Гийон, а поскольку не нашлось никого, кто объяснил бы ему, где правда, а где вымысел, то он не находил ничего предосудительного в том, чтобы верить в языческие легенды и все, чем они наполнены.
Но и рассказы из Библии он не мог отбросить, тем более что они сделались неотъемлемы от самых ранних впечатлений, воспринятых его душой. В таком положении ему оставалось лишь одно – попытаться елико возможно совместить в своем сознании две системы: Библию с «Телемаком», жития святых отцов с «Acerra philologika», языческий мир – с христианским.
Первое Лицо Божества и Юпитер, Калипсо и мадам Гийон, Рай и Элизий, Ад и Тартар, Плутон и Дьявол – все это вместе образовало самую диковинную смесь понятий, какую только мог вместить человеческий ум, причем она столь сильно повлияла на его мысли, что он еще долго испытывал известного рода благоговение перед языческими богами.
От дома, где остановился отец Антона, до целебного источника и проходившей мимо него аллеи путь был неблизкий. И все же Антон, подволакивая больную ногу, с книгой под мышкой, добирался туда, устраивался на скамейке в аллее и, понемногу забывая о боли, вскоре переносился в воображении со скамейки в Пирмонте на какой-нибудь остров с высокими замками и башнями или в самую гущу боя.
С грустной радостью читал он теперь про гибель героев – она опечалила его, но мнилась неизбежной.
Все это не могло не сказаться на его детских играх. Клочок земли, заросший крапивой и чертополохом, казался ему вражеским войском, в гуще которого он неистовствовал, сшибая палкой головы направо и налево.
Если же он выходил на луг, то уже делал различие между противниками: представлял, как сходятся друг с другом войска желтых и белых цветов. Самые высокие из них он нарекал именами героев, а какому-нибудь одному давал свое имя. Засим он изображал слепой рок, зажмурившись и обрушивая свою палку куда придется.
Потом открывал глаза и окидывал взглядом произведенное им беспощадное опустошение; повсюду на земле лежали распростертые тела героев, и часто он с томительной, но сладкой тоскою замечал среди павших и себя самого.
После этого он недолгое время оплакивал героев и покидал ужасное поле битвы. В городе, где они жили, недалеко от дома его родителей, было кладбище, где росло целое поколение цветов и растений, подвластное его железной руке; не проходило дня, чтобы он не устроил им подобие военного смотра.
Воротившись из Пирмонта в родительский дом, он вырезал из бумаги всех героев «Телемака», расписал, глядя на гравюры, их шлемы и латы и на несколько дней оставил стоять в боевом порядке, пока, наконец, не решил их судьбу: устроил между ними кровавую резню с помощью ножа, в ярости раскроившего кому шлем, кому череп и сеявшего кругом себя лишь смерть и опустошение.
Получалось, что все его игры, например с вишневыми или сливовыми косточками, неизменно заканчивались разгромом и гибелью. Косточки эти тоже попадали под неотвратимую власть слепой судьбы, когда он, разделив их на два войска, сводил друг с другом и с закрытыми глазами колотил по ним железным молотком, и уж кто попал под удар, тому, значит, не повезло.
Убивая хлопушкой муху, Антон проделывал это с великой важностью, устроив сначала с помощью какой-нибудь медной вещицы погребальный звон по покойнице. С особым удовольствием он клеил из бумаги маленькие домики и составлял из них городок, чтобы затем спалить его и с унылой сосредоточенностью созерцать оставшиеся горы пепла.
А когда в городе, где жили его родители, однажды ночью действительно загорелся какой-то дом, это известие вызвало в нем ужас, смешанный с тайным желанием, чтобы огонь удалось потушить не сразу.
В сердцевине этого желания лежало отнюдь не злорадство, но смутная тоска по великим переменам, переселениям и революциям, которые обновят облик всех вещей и нарушат однообразие повседневности.
Даже мысль о собственной гибели вызывала у него приступ некоего сладострастия, когда вечерами, прежде чем заснуть, он живо представлял себе распад и разложение своего тела.
Трехмесячное пребывание Антона в Пирмонте во многих отношениях оказалось для него чрезвычайно благотворным, поскольку он почти всегда был предоставлен самому себе и счастливо избегал близости своих родителей; мать оставалась дома, а отец за множеством дел, занимавших его в Пирмонте, мало пекся об Антоне, но когда все же видел его, обходился с ним гораздо мягче, нежели дома.
В одном доме с отцом Антона квартировал некий англичанин, который хорошо говорил по-немецки и уделял Антону больше внимания, чем кто бы то ни было прежде; он начал посредством простого общения учить мальчика английскому языку и чрезвычайно радовался его успехам. Он беседовал с ним, вместе с ним гулял по окрестностям и вскоре почувствовал, что почти не может без него обходиться.
Англичанин этот стал первым другом, которого Антон обрел в этом мире, и расставание с ним было исполнено горечи. Прощаясь, англичанин вложил ему в руку серебряную монету, сказав, чтобы Антон сохранил ее до своего приезда в Англию, где его всегда будет ждать открытый дом; через пятнадцать лет он и вправду добрался до Англии, имея при себе подаренную монету, но первый друг его юности к тому времени уже умер.
Однажды англичанин, находясь дома, попросил Антона сообщить некоему визитеру, будто он в отлучке. Но добиться этого от мальчика оказалось невозможно, так как он ни в какую не соглашался лгать.
Этот поступок высоко поднял его в чужих глазах, но был лишь одним из многих, коими он выказал себя добродетельнее, чем был на самом деле, ибо в иных случаях он без особого труда при необходимости лгал, меж тем как подлинная внутренняя борьба, в пылу которой он приносил свои невиннейшие желания в жертву мнимому неодобрению божества, – эта борьба оставалась никем не замеченной.
Тем временем слава о добродетельном поведении Антона, утвердившаяся в Пирмонте, чрезвычайно его ободрила и несколько подняла его угнетенный дух. Боли в ногах вызывали сострадание к нему, в доме господина Фляйшбайна ему оказывали дружелюбный прием, а сам Фляйшбайн, встречаясь с ним на улице, всякий раз целовал его в лоб. Подобные встречи, для него необычайные и волнующие, прояснили его чело, сделали взгляд более открытым и вселили в него бодрость.
Он также начал писать стихи, воспевая в них все, что видел и слышал. Два сводных его брата учились в Пирмонте портняжному ремеслу у наставников, приверженных учению господина Фляйшбайна. На расставание с ними, а также с домом Фляйшбайна он сочинил и выучил наизусть весьма трогательные стихи.
Возвращение из Пирмонта вышло не таким, как он ожидал, но, что ни говори, за прошедшее короткое время и сам он сделался совсем другим человеком, и духовный его мир значительно обогатился.
Вскоре, однако, из-за возобновившихся раздоров между родителями, усугубленных, вероятно, приездом двух его сводных братьев, из-за нескончаемых перебранок и скандалов, устраиваемых матерью, возвышенные воспоминания о Пирмонте и особенно о доме господина Фляйшбайна потускнели, и он снова очутился в прежней тягостной обстановке, от которой его душа становилась мрачной и нелюдимой.
Сводные братья Антона вскоре оставили их дом, отправившись в странствие, в семье на время снова воцарился мир, и отец Антона теперь сам стал читать вслух не только из мадам Гийон, но иной раз также выдержки из «Телемака» или рассказывал эпизоды древней и новой истории, довольно основательно им пройденной, поскольку помимо занятий музыкой, в коей весьма преуспел практически, он прежде постоянно пополнял свою образованность изучением полезных книг, покуда сочинения мадам Гийон не вытеснили все остальное из круга его чтения.
Речь его по этой причине была полна книжных выражений, Антон и теперь помнит, как семи– восьмилетним мальчиком он внимательно вслушивался в речь отца и удивлялся, что слова на – ание, – ение или – ство были ему совершенно непонятны, тогда как остальные не представляли никакого труда.
Кроме того, вне дома отец Антона слыл весьма обходительным человеком и умел поддержать приятную беседу обо всем и вся. Возможно, и в семейной жизни все пошло бы на лад, не имей мать Антона злосчастного обыкновения постоянно и даже охотно становиться в позу обиженной и оскорбленной – порой безо всякого повода, – и то и дело напускать на себя траур, испытывая своего рода сострадание к самой себе и тем себя услаждая.
К несчастью, сын, по всей видимости, унаследовал этот ее душевный недуг, с которым доныне принужден бороться, порой безуспешно.
Еще в детстве, когда приходилось делить что-либо на всех и надлежащая ему часть была отложена, но ему забывали об этом сказать, он предпочитал оставить ее нетронутой, хотя отлично знал, что предназначалась она именно ему, – и все это лишь затем, чтобы испытать сладость несправедливой обиды и заявить: другим еще кое-что достается, но только не мне! Но если даже мнимая несправедливость так сильно его задевала, то насколько же больнее отзывалась в нем несправедливость подлинная. И конечно, никто так остро не чувствует несправедливость, как дети, и никому столь часто и невзначай ее не причиняют, как им, – истина, о которой всем педагогам стоило бы помнить ежедневно и ежечасно.
Нередко Антон часами размышлял, тщательно взвешивая разные доводы и основания: насколько справедливым – или несправедливым – было то или иное наказание, назначенное ему отцом.
В одиннадцать лет он впервые испытал несказанное удовольствие, пристрастившись к запретным книгам.
Его отец был заклятым врагом романов и грозился сжечь первый же, что попадется в доме ему под руку. И все-таки Антону с помощью тетки удалось раздобыть роман про прекрасную Банизу, сказки «Тысячи и одной ночи» и «Остров Фельзенбург», которые он украдкой, хотя и с ведома матери, прочел, вернее, жадно проглотил, затаясь в чулане.
То были сладчайшие часы его жизни. Входя к нему, мать всякий раз пугала его приближением отца, хотя сама не запрещала ему читать эти книги, которыми успела насладиться еще прежде Антона.
Повесть об острове Фельзенбург произвела на Антона весьма сильное впечатление, вознеся на небывалую высоту его мечты, в коих он отвел себе ни много ни мало великую мировую роль собирателя сперва небольшого, но постепенно растущего круга людей, избравших его своим средоточием: круг этот раздавался все шире, и под конец буйная фантазия Антона стала вовлекать в него также животных, растения и неодушевленные создания природы – словом, все, что его обступало в жизни, и весь этот хоровод кружился вокруг него, покуда голова у него не начинала идти кругом.
В ту пору игра воображения нередко наполняла его таким блаженством, какое ему едва ли довелось испытать впоследствии.
Итак, воображение составляло главные горести и радости его детства. Как часто пасмурным днем, когда он, исполненный отвращения и досады, сидел взаперти в своей комнате, сквозь оконное стекло вдруг проникал луч солнца, и тогда в нем неожиданно пробуждались мечты о рае, об Элизии, об острове нимфы Калипсо и долгие часы услаждали его душу.
Но уже с двух– или трехлетнего возраста память Антона хранила поведанные матерью и теткой небылицы об адских муках, не оставлявшие его ни днем, ни ночью: во сне он нередко видел себя окруженным добрыми знакомцами, которые ни с того ни с сего начинали скалиться на него, до неузнаваемости искажая свои лица отвратительными гримасами, или он взбирался сумрачной тропою куда-то ввысь, а некто ужасный преграждал ему дорогу назад, либо сам черт являлся ему в виде рябой курицы или черного платка на стене.
Пока он с матерью жил в деревне, каждая встречная старуха нагоняла на него страх и ужас, так много он наслушался рассказов про ведьм и колдуний; а когда ветер в их домике насвистывал причудливую мелодию, мать не задумываясь прибегала к аллегории и замечала, что это свистит безрукий человек.
Она бы не стала так говорить, если б знала, скольких томительно-страшных часов и бессонных ночей будет стоить ее сыну этот безрукий человек.
Но подлинным чистилищем для Антона неизменно становились четыре предрождественские недели, – чтобы их избежать, он охотно отказался бы даже от елки, утыканной восковыми свечками и увешанной посеребренными яблоками и орехами.
В такую пору не проходило дня, чтобы до него не доносился либо странный гул колоколов, либо какой-то шорох за дверью, либо глухой голос, принадлежавший не иначе как предвестнику Рождества пресловутому кнехту Рупрехту, которого Антон искренне почитал за духа или за сверхчеловеческое существо, поэтому не было и ночи, чтобы он внезапно не просыпался от ужаса весь в холодном поту.
Так продолжалось до его восьмилетнего возраста, когда вера в Рупрехта, а равно и в Христа начала в нем постепенно угасать.
Вдобавок мать внушила ему и детский страх перед грозой. Единственный способ оберечься он видел в том, чтобы крепко сцепить руки и не разжимать их, пока гроза не утихнет; это да еще крестное знамение было ему оберегом и опорой, когда он засыпал в одиночестве: он верил, что так избавляет себя от козней, чинимых дьяволом и привидениями.
У матери было странное выражение: кто хочет удрать от привидения, говорила она, у того пятки начинают расти; и он вправду ощущал этот рост всякий раз, когда в темноте ему виделось что-нибудь похожее на привидение. Про умирающих она говаривала, будто смерть сидит у них на языке, Антон и это воспринял буквально, и когда у его тетки умирал муж, он приблизился к его постели и вперился ему в рот, пытаясь разглядеть на кончике его языка смерть в образе маленькой черной фигурки.
Впервые он вырвался из круга своих детских представлений приблизительно на пятом году жизни, когда еще жил с матерью в деревне и однажды вечером они сидели в комнате вместе со старой соседкой и его сводными братьями.
Разговор коснулся младшей сестры Антона, чья недавняя смерть в двухлетнем возрасте причинила матери безутешные страдания, не оставлявшие ее почти целый год.
«Где-то теперь наша Юльхен?» – проговорила она после долгой паузы и снова замолчала. Антон глянул в окно, где ни единый луч света не пробивался сквозь ночной сумрак, и вдруг впервые постиг действие чудесной оградительной силы, которая отделила его прежнюю жизнь от нынешней почти так же, как бытие отделено от небытия.
«Где-то теперь наша Юльхен?» – подумал он вслед за матерью, и в это мгновенье в его душе стремительно пронеслись, сменяя друг друга, представления о близости и дали, тесноте и шири, о настоящем и будущем. Тогдашнее его ощущение не описать пером, тысячу раз оно вновь оживало в его душе, хотя и лишенное первоначальной силы.
Сколь же оно благодатно, это ограждение, из коего мы, однако, всеми силами пытаемся вырваться! А ведь именно оно создает счастливый островок средь бушующего моря; блажен, кто мирно почивает на его лоне, не опасаясь быть разбуженным, ему не грозят никакие бури. Но горе тому, кто, подстрекаем злосчастным любопытством, рвется прочь, на ту сторону туманной горной гряды, спасительно окаймляющей горизонт.
Он будет носиться туда-сюда по бурным волнам забот и треволнений в поисках неведомых земель, прячущихся во мгле, и островок, где он прежде жил столь беззаботно, утратит для него свою прелесть.
Одно из прекраснейших воспоминаний Антонова детства – как мать, закутав его в свое платье, бежит с ним на руках под хлещущим проливным дождем. В маленькой деревне жизнь казалась ему раем, но за голубой дымкой гор, неодолимо притягивающих взгляд, его уже подстерегали страдания, которым предстояло отравить его детские годы.
Коль скоро я повернул повествование вспять, дабы описать первые впечатления Антона и его представления об окружающем мире, уместно будет привести еще два самых ранних его воспоминания о том, как он ощущал людскую несправедливость.
Он до сих пор ясно видит себя на втором году жизни, когда они с матерью еще не жили в деревне, как он бегает по улице перед домом и, завидев богато одетого человека, кидается ему под ноги и начинает изо всех сил колотить его своими ручонками, словно пытаясь доказать себе и другим, что ему причинили несправедливость, хотя внутри чувствует, что обидчик – он сам.
Это воспоминание примечательно своей необычностью и яркостью и вполне достоверно, поскольку в силу незначительности самого происшествия, едва ли кто-то позже ему об этом рассказывал.
Второе воспоминание относится к четвертому году жизни Антона: мать выбранила его за неповиновение – он раздевался, и вышло так, что какая-то часть его платья с шорохом упала на стул; мать решила, что он швырнул ее туда из упрямства, и сурово его наказала.
Это была первая настоящая несправедливость, которая глубоко его ранила и запомнилась навсегда; с тех пор он стал считать свою мать несправедливой и при каждом следующем наказании неизменно припоминал этот случай.
Я уже говорил, какой рисовалась ему в детстве смерть. Изменилось это лишь на десятом году, когда к его родителям зашла соседка и рассказала, как ее двоюродный брат, горнорабочий, сорвался с лестницы в шахту и размозжил себе голову. С тех пор он испытывал сильный страх смерти, доставивший ему много горестных минут.
Антон слушал ее очень внимательно и при упоминании о разбитой голове вдруг ясно вообразил полное прекращение мыслей и чувств, а также исчезновение, отсутствие самого себя, и это воспоминание потом всякий раз наполняло его страхом и ужасом. С тех пор он испытывал сильный страх смерти, доставивший ему много горестных минут.
Мне остается сказать кое-что о первых воззрениях на Бога и мир, сложившихся у него примерно в десятилетнем возрасте.
Часто, когда небо заволакивало тучами и горизонт совсем сжимался, им овладевала смутная тревога: чту, если весь мир покрыт одним сводом, как покрыта потолком комната, в которой он живет? Когда же он поднимался в мыслях над этим сводом, мир представлялся ему чрезвычайно маленьким, и ему думалось, будто этот мир целиком содержится в другом мире, тот – в третьем, и так снова и снова.
Примерно так же представлял он себе и Бога, когда пытался помыслить его как высшее существо.
Однажды пасмурным вечером он сидел у порога своего дома и размышлял о Боге, поглядывая то на небо, то снова на землю, и вдруг заметил, что даже по сравнению с сумрачным небом земля совсем черная и непроглядная.
Бога он воображал себе пребывающим за небесами, но даже высочайший Бог, какого только могла сотворить его мысль, казался ему слишком маленьким, над ним непременно должен быть еще один, перед которым первый неразличим в своей малости, и так до бесконечности.
Обо всем этом ему не доводилось ни читать, ни от кого-либо слышать. Но самое удивительное, что упорные размышления и сосредоточенность на своей внутренней жизни развили в нем эгоизм, который едва не лишил его рассудка.
Поскольку же его сновидения отличались большой живостью и казались почти неотличимы от действительности, он решил, что спит и днем и что окружающие люди, а равно и все остальное, что он видит, суть плоды его воображения.
Эта мысль всегда наводила на него ужас и внушала страх перед самим собой, поэтому он всячески старался как-нибудь отвлечься и отогнать ее.
Теперь, после небольшого отступления, мы вновь обратимся к хронологическому порядку повествования о жизни Антона, которого мы оставили за чтением романов про прекрасную Банизу и про остров Фельзенбург. Теперь он получил для чтения «Разговоры мертвых» Фенелона и басни того же автора, а учитель каллиграфии стал учить его составлять письма и писать сочинения на разные темы.
Подобного воодушевления Антон никогда прежде не испытывал. В этой работе он использовал свой читательский опыт и повсюду вставлял подражания прочитанному, чем снискал одобрение и уважение своего учителя.
Его отец как музыкант участвовал в концерте, где исполнялась кантата Рамлера «Смерть Иисуса», и принес домой отпечатанный текст этого произведения. Последний содержал в себе так много привлекательного для Антона и настолько превосходил все, что ему доселе приходилось читать в поэтическом роде, что он часто и с великим воодушевлением перечитывал его, пока не вытвердил почти наизусть.
Благодаря одному лишь этому постоянно перечитываемому произведению у него выработался определенный и довольно твердый поэтический вкус, который уже не покидал его впоследствии; таким же образцом в прозе стал для него Фенелонов «Телемак», ибо он остро чувствовал, что и «Баниза», и «Остров Фельзенбург», какую бы усладу они ни доставляли ему при чтении, все же содержали в себе нечто кричащее и не вполне благородное.
Из поэтической прозы ему в руки попал «Даниил во львином рву» Карла фон Мозера; он перечитал эту вещь несколько раз, вдобавок отец имел обыкновение читать вслух выдержки из нее.
Вновь наступил курортный сезон, и отец Антона решил взять его с собой в Пирмонт, но на сей раз Антон не испытывал прежней радости, так как мать поехала вместе с ними.
Нескончаемые запреты и мелкие придирки, беспрестанные выговоры и наказания, каждый раз приходившиеся некстати, отравляли высокие переживания, памятные ему по прошлому году; его склонность к получению похвал и одобрению оказалась из-за этого настолько подавленной, что в конце концов он, во многом вопреки своей натуре, стал находить своеобразное удовольствие в общении с чумазыми уличными мальчишками и в общих шалостях с ними – просто потому, что отчаялся снискать в Пирмонте любовь и уважение, утраченные им из-за матери, которая не только с отцом, когда тот бывал дома, но и с совсем чужими людьми постоянно вела разговоры о его плохом поведении, отчего оно и впрямь начало ухудшаться и само его сердце, наверно, стало портиться. Теперь он все реже бывал в доме господина Фляйшбайна, и время, проведенное в Пирмонте, промелькнуло для него печально и безотрадно – он часто с грустью вспоминал о радостях прошлого года, хотя на этот раз ему уже не приходилось терпеть мучительные боли в ноге, ибо после удаления поврежденной кости нога стала заживать.
Вскоре по возвращении семьи в Ганновер Антону пошел двенадцатый год, и теперь ему снова предстояли большие жизненные перемены, ведь в этом году он расстанется с родителями. Но прежде его ждала впереди великая радость.
Отец Антона, по совету знакомых, определил его в городскую школу для прохождения частных уроков латыни, чтобы он при случае, как говорится, не запутался в падежах. Никаких иных школьных занятий, среди которых главным было преподавание Закона Божия, отец, к великому огорчению матери и родственников, для Антона не предусмотрел.
Итак, одно из заветнейших желаний Антона – посещать публичную школу – отчасти исполнилось.
При первом визите толстые стены школы, сумрачные своды классных комнат, вековые скамьи, источенные червями кафедры – все вместе произвело на Антона впечатление святилища и наполнило его душу благоговением.
Конректор, маленький подвижный человечек, несмотря на физиономию, далекую от торжественной серьезности, все же внушил Антону глубокое уважение своим черным кафтаном и стриженым париком.
Этот человек держался со школярами на довольно дружеской ноге, обращаясь ко всем обыкновенно на «вы», за исключением четырех старших, которых он в шутку называл ветеранами и предпочитал на старинный лад обращаться к ним в третьем лице.
Хотя он был весьма строг, Антон не слышал от него ни одного упрека, а тем паче ни разу не бывал бит, поэтому у него сложилось убеждение, что в школе можно найти больше справедливости, чем в родительском доме.
Теперь он начал учить наизусть грамматику Доната, правда удивив всех своим выговором: когда его, уже на втором занятии, попросили просклонять существительное mensa – стол, он в словах singulariter и pluraliter делал ударение на предпоследнем слоге, так как, готовя урок, в силу созвучия этих слов с amoriter – аморреи и jebusiter – иевусеи, решил, что они тоже суть названия народов и что у народа singulariter принято было говорить – mensa, а у народа pluraliter – mensae.
Как часто случаются подобные недоразумения, если учитель, довольствуясь первыми же словами ученика, не стремится уяснить себе его понятие о предмете!
Наступила пора зубрежки. Вскоре он уже мог без запинки выпалить amo, amem, amas, ames, а через шесть недель вытвердил назубок все, что надлежит – oportet, знать школьнику его класса; при этом он ежедневно учил новые вокабулы, а поскольку ни разу не пропустил ни одну, то за короткое время, продвигаясь с одной ступени на другую, вплотную приблизился к статусу «ветерана».
Сколь завидная доля, сколь чудесное поприще для Антона, впервые открывшего для себя путь к славе, о чем он так долго и безнадежно мечтал!
Даже дома он всякую минуту старался тогда провести с пользой – по утрам, пока родители пили кофе, он взялся читать им вслух из «Подражания Христу» Фомы Кемпийского и делал это с большим удовольствием.
Затем следовало обсуждение прочитанного, и ему дозволялось время от времени вставить в разговор свое слово. Впрочем, более всего он наслаждался пребыванием вне дома – регулярно, в одни и те же часы, посещал еще и уроки каллиграфии своего старого учителя, которого, несмотря на изредка получаемые подзатыльники, любил столь искренне, что мог бы пожертвовать для него всем.
Ибо этот человек часто вел с ним и другими учениками дружеские и поучительные беседы, поскольку же по натуре своей он казался довольно суровым, его дружелюбие и доброта тем паче трогали Антона и подкупали его сердце.
Итак, в течение нескольких недель положение Антона было вдвойне счастливым, но скоро его блаженство было разрушено! Чтобы он не чересчур надмевался своим счастьем, ему на первый случай уже приуготовлялись жестокие унижения.
Хотя теперь он проходил учение в обществе благопристойных детей, мать заставляла его делать по дому работу, приличную разве что самой последней служанке.
Ему приходилось носить воду, покупать в лавке масло и сыр и, словно женщина, с корзиной в руке, ходить на базар за провизией.
Надо ли говорить, сколь глубоко он был уязвлен, когда однажды поймал издевательскую улыбку на лице более счастливого товарища, случайно встретившегося ему на улице.
И все же он с готовностью переносил эти страдания ради счастья посещать латинскую школу, где за два месяца преуспел настолько, что мог выполнять общие задания с четырьмя так называемыми ветеранами, сидевшими за первым столом.
В один из дней отец повел его к достопримечательному в Ганновере человеку, которого неоднократно упоминал прежде в разговорах. Звали этого человека Тишер и было ему от роду сто пять лет.
В свое время он превзошел теологию и теперь состоял наставником при детях богатого купца, который некогда тоже ходил у него в учениках, ныне же и сам приближался к старческому возрасту и содержал бывшего учителя в своем доме.
В пятьдесят лет Тишер оглох, и если кто хотел с ним говорить, то должен был запастись пером и чернилами, дабы писать свои мысли на бумаге, он же отвечал голосом внятным и отчетливым.
В свои сто пять лет он без очков читал по-гречески Новый Завет, напечатанный в его книге мелким шрифтом, и говорил весьма разумно и связно, хотя порой слишком тихо или чересчур громко, так как сам не мог слышать своей речи.
В доме его звали не иначе как старцем. Ему приносили еду и необходимые вещи, в остальном же он не требовал особого ухода.
Итак, однажды вечером, когда Антон сидел над своим Донатом, отец взял его за руку и сказал: «Пойдем, я отведу тебя к человеку, в котором ты узнаешь вместе и святого Антония, и святого Павла, и праотца Авраама».
По пути отец подготавливал Антона к предстоящей встрече.
Они вошли в дом. Сердце Антона отчаянно колотилось.
Они пересекли длинный двор и поднялись по маленькой винтовой лестнице, приведшей в длинный темный коридор, пройдя который, они снова поднялись по какой-то лестнице, а затем спустились на несколько ступенек вниз – Антону казалось, что он блуждает по лабиринту.
Наконец, по левую руку они увидели свет, проникавший сквозь стекла из другого окна.
Уже наступила зима, и дверь снаружи была завешена сукном; отец Антона толкнул ее, и перед ними в сумеречном свете открылась просторная комната с высоким потолком и темными шпалерами на стенах; в середине ее за столом, на котором было разбросано множество книг, сидел в креслах сам старец.
Сняв головной убор, он поднялся им навстречу.
Возраст не согнул его спину, это был высокий мужчина величественного и статного вида. Лоб его обрамляли белоснежные локоны, глаза излучали несказанное дружелюбие. Они сели.
Антонов отец написал ему что-то на листке. «Давайте помолимся, – ответил старец после недолгой паузы, – и пусть мой маленький друг к нам присоединится».
Затем он, вновь обнажив голову, преклонил колени, отец Антона – справа от него, сам Антон – слева.
Действительность, что и говорить, превзошла все рассказы отца. Антону виделось, что он и впрямь стоит на коленях подле одного из апостолов Христа, и сердце его молитвенно устремилось ввысь, когда старец простер руки и вознес к небу горячую молитву, то повышая, то понижая голос.
Его слова звучали так, будто всеми помыслами и чаяниями он уже переступил могильную черту и лишь случай задерживает его на земле чуть дольше, чем сам он надеялся.
Оттого все его мысли были как бы почерпнуты из иного мира и во время молитвы, казалось, заставляли светиться особым светом его глаза и чело.
Закончив молитву, они поднялись с колен, и теперь Антон сердцем чувствовал старика как высшее, почти сверхчеловеческое существо.
И когда в тот вечер он вернулся домой, у него пропало всякое желание идти на улицу кататься со школьными товарищами на салазках: ему представилось, что этим неблагочестивым поступком он осквернил бы прошедший день.
Теперь отец стал постоянно отпускать Антона к старику, и вскоре мальчик проводил у того в доме почти все время, что не был занят в школе.
Он стал пользоваться его библиотекой, состоявшей по большей части из мистических сочинений, которые Антон тщательно прочитывал от доски до доски. Кроме того, он все время давал старику отчет о своих успехах в латинском и сочинительстве для учителя каллиграфии. Так протекло несколько счастливейших месяцев в жизни Антона.
И вдруг, в это самое время, словно гром среди ясного неба грянул над головой Антона – ему сообщили ужасную новость: его лишают латинских занятий и переводят в другую школу.
Слезы и мольбы не помогли, приговор был произнесен. О прекращении латинских занятий он узнал за две недели и чем больше успехов теперь делал, тем сильнее страдал.
Тогда он прибег к средству, облегчившему ему расставание со школой, но такому, мысль о коем едва ли можно заподозрить в мальчике его возраста. Вместо того чтобы продолжать старания, он стал либо отвечать выученный урок небрежно, либо как-нибудь иначе способствовать своему отставанию, неуклонно спускаясь со ступени на ступень, чего ни конректор, ни однокашники никак не могли взять в толк и всячески выражали ему удивление.
Антон один знал причину происходящего и носил в себе тайное горе, не расставаясь с ним ни дома, ни в школе. Каждая ступень, на которую он добровольно спускался, стоила ему многих втихомолку пролитых слез, но сколь ни горькое лекарство он себе прописал, оно подействовало.
Он предусмотрел все таким образом, чтобы ровно в последний день оказаться на самом последнем месте. Но решиться на это уже не смог. Слезы стояли у него в глазах, когда он просил в последний раз оставить его на прежнем месте, завтра же он и сам пересядет в конец.
Слова его вызвали всеобщее сочувствие, и он был оставлен в покое. Назавтра месяц кончился, и Антон больше не появился в школе.
О том, сколь дорого обошлась ему эта добровольная жертва, можно судить по труду и усилиям, затраченным им на восхождение по каждой из ступеней.
Как часто, когда конректор стоял в шлафроке у окна, Антон, проходя по двору, говорил себе: о, как хорошо было бы излить сердце этому человеку; но ему мнилось, что расстояние между ним и его учителем слишком велико.
Вскоре после этого, несмотря на все его просьбы и мольбы, он был разлучен и с дорогим ему учителем каллиграфии.
Правда, тот проглядел несколько допущенных мальчиком погрешностей в тетрадях по письму и счету, что рассердило отца Антона.
Антон с величайшим жаром взял всю вину на себя, что было сил божился и клялся впредь не допускать таких ошибок, но напрасно; ему пришлось покинуть старого верного учителя – с начала месяца его отдали учиться письму в общую городскую школу.
Оба удара, пришедшиеся одновременно, оказались слишком тяжелы для Антона.
На первых порах он еще пытался ухватиться за последнюю опору и, не желая отстать от прежних товарищей, просил их сообщать ему школьные задания, чтобы выполнять их дома, но из этого ничего не вышло, и тогда он заглушил в себе прежние добродетели и набожность и вскоре, поддавшись тоске и отчаянию, сделался одним из тех, кого принято называть скверными мальчишками.
В школе он умышленно навлекал на себя удары и переносил их с упорством и мужеством, не меняясь в лице, что доставляло ему удовольствие, надолго сохранившееся в его памяти.
Он дрался и бился с уличными мальчишками, прогуливал занятия и при каждом удобном случае мучил собаку, жившую у его родителей.
В церкви, где некогда слыл образцом набожности, он теперь во время службы только и делал, что болтал со сверстниками.
Нередко он ясно сознавал, что ступил на скользкую дорожку, и тогда с тоскою вспоминал о своем прежнем горячем желании стать благочестивым человеком, но все его порывы к раскаянию тотчас заглушались презрением к себе и неотвязной досадой, и он снова искал рассеяния в сумасбродных проказах.
Мысль о том, что его заветным желаниям и надеждам не суждено сбыться и что поприще славы, на которое он было ступил, теперь навеки ему заказано, хотя и не всегда отчетливо присутствовала в его сознании, все же точила его непрестанно и толкала на всяческие бесчинства.
Он стал лицемером перед Богом, перед людьми и перед самим собою.
Утреннюю и вечернюю молитву по-прежнему вычитывал по часам, но уже без всякого чувства.
Приходя к старцу, теперь из притворства и с постной миной проделывал все то, что раньше совершал с открытым сердцем; прибегал к заученным словам, изображая томление и устремленность к Богу – и все это, чтобы сохранить расположение старика.
Больше того, он мог тайком посмеиваться, пока старец читал его записки.
Так он постепенно стал предавать своего отца, до которого дошла молва: теперь Антон уже совсем не тот мальчик, что три года назад, когда в Пирмонте отказался солгать, будто англичанина нету дома.
Поскольку же Антон отдавал себе отчет, что как раз тогда поступил так скорее из особого жеманства, чем из отвращения ко лжи, то и говорил себе: если для снискания любви окружающих требуется так мало, значит, нечего и тратить на это больших усилий. И в этом своем ханжестве он в короткое время зашел столь далеко – скрывая его, однако, от самого себя, – что его отец в переписке с господином Фляйшбайном, рассказав о состоянии души Антона, просил у него совета в этом вопросе.
Между тем Антон, осознав серьезность своего положения, стал и сам относиться к оному серьезнее и временами со всей истовостью давал себе зарок оставить дурное поведение и обратиться к добру, так как уже не мог скрывать от себя свое лицемерие.
Но тут перед ним пронеслись годы, минувшие со времени его прежнего, подлинного обращения, и он представил себе, сколь многому мог бы научиться, проживи их иначе. Все эти мысли делали его донельзя угрюмым и мрачным.
Вдобавок он прочел в доме у старика книгу, где путь к спасению через раскаяние, веру и богоугодную жизнь был подробно описан посредством различных примет и признаков.
Покаянию должны сопутствовать слезы, угрызения совести, сердечное сокрушение и скорбь, и все это он у себя находил.
Вера сопровождается особым весельем и неотделима от душевного доверия к Богу, и это тоже у него было.
Но третьего и непременного, богоугодной жизни, он достичь никак не мог.
Антон верил, что если кто желает быть набожным и благочестивым, то надобно оставаться таковым каждое мгновенье, в каждом жесте и выражении лица и даже в мыслях ни на минуту не забывать о благочестии.
Он же, естественно, нередко забывал об этом: в его лице не хватало серьезности, в походке – степенности, а мысли постоянно отвлекались на вещи земные и светские.
Итак, думал он, все упущено, он ровным счетом ничего не достиг и теперь должен все начинать сначала.
В подобных метаниях он иногда пребывал часами, и это состояние мучило его и пугало.
И тогда он опять, но с неотступным страхом и колотящимся сердцем, предавался своим прежним проказам.
А затем сызнова начинал труд покаяния и так постоянно кидался туда и обратно, не находя себе ни покоя, ни удовлетворения, понапрасну отравляя себе невиннейшие радости юного возраста, но и в другом не продвигаясь ни на шаг.
Эти нескончаемые метания, ко всему прочему, в точности воспроизводили образ жизни его отца, которому и в его пятьдесят приходилось не слаще, но, невзирая на это, он все еще надеялся обрести истину, к коей так долго и тщетно стремился.
С Антоном дело поначалу обстояло не так уж худо: его благочестие потерпело великий ущерб, лишь когда ему было отказано в изучении латыни; в сущности, оно родилось в нем от страха и принуждения, потому-то он так долго и топтался на месте.
Где-то он прочел, что заниматься самосовершенствованием не только бесполезно, но и вредно и что человеку следует покорно сносить жизнь и предоставить действовать Божьей благодати, поэтому он часто и от всего сердца молился так: Господи, обрати меня, дабы мне обратиться! Но все тщетно.
Тем летом отец снова уехал в Пирмонт, и Антон написал ему, с каким трудом продвигается у него дело самоисправления, и что, возможно, он заблуждается на сей счет и это дело под силу лишь божественной благодати.
Мать сочла все это письмо за чистое лицемерие, от коего он и вправду еще не вполне освободился, и своей рукой подписала внизу: «Антон ведет себя точно так же, как остальные беспутные мальчишки».
Сам же он хорошо знал, какая нешуточная борьба с самим собою разгорается у него внутри, и потому неудивительно, что сравнение со школьными беспутниками было ему до крайности обидно.
Это так больно его ранило, что он снова и уже надолго выбился из колеи, нарочно связавшись с самыми буйными из своих товарищей, а материнская брань и ее фальшивые проповеди лишь укрепляли его в этом: они настолько уничижали его, что в конце концов он и сам стал считать себя обычным уличным мальчишкой и тем усерднее искал их общества.
Продолжалось это до тех пор, пока отец Антона не вернулся из Пирмонта. И перед Антоном открылись совершенно новые виды на будущее.
Еще в январе мать разродилась близнецами, из которых выжил лишь один, и крестным отцом к нему был приглашен некий шляпник из Брауншвейга, по имени Лобенштайн.
Он тоже был приверженцем господина Фляйшбайна – обстоятельство, благодаря которому отец Антона знал его уже несколько лет.
Поскольку же теперь Антона надлежало отдать в обучение какому-нибудь мастерству (ведь оба его сводных брата, пусть и против своей воли, уже овладели каждый своим ремеслом, к чему отец принудил их силой) и поскольку шляпник Лобенштайн как раз подыскивал себе ученика, которому на первых порах полагалось стать простым подручным, то вот и превосходнейшая стезя для Антона, решил отец: теперь и он, подобно двум своим братьям, в столь раннем возрасте будет приставлен к благочестивому учителю, к тому же последователю господина Фляйшбайна, и содержаться им в подлинной набожности и благочестии.
Предположительно, отец Антона уже давно питал этот замысел, потому-то, вероятно, и забрал сына заблаговременно из латинской школы.
Но еще со времени пребывания в оной в голове у Антона прочно утвердилось желание учиться, ибо он безгранично уважал всех тех, кто учился и носил черный кафтан, так что он почитал таких людей чуть ли не сверхъестественными существами.
Что же могло быть естественнее, чем его стремление к тому, что казалось ему достойнейшим на всем свете?
Говорили, что шляпник Лобенштайн из Брауншвейга желает принять к себе Антона как друг, Антон будет ему словно родное дитя и станет выполнять легкую и чистую работу: записывать счета, состоять на посылках и проч., затем ему предстояло два года учиться в школе, в завершение пройти конфирмацию и окончательно избрать себе дело жизни.
Все это звучало для Антона до крайности заманчиво, особенно пункт про школу, ибо, полагал он, если удастся добраться до этой цели, то уже ничто не помешает ему отличиться среди лучших, так что средства и возможности для дальнейшего учения откроются сами собой.
Вместе с отцом он написал письмо шляпнику Лобенштайну, которого заранее полюбил всей душой и уже радостно предвкушал те дивные времена, что проведет рядом с ним.
А как прельщала его перемена места!
Пребывание в Ганновере с его однообразными и давно приевшимися улицами и домами стало ему несносно: воображению то и дело рисовались башни, ворота, крепостные валы и замки, одна картина теснила другую.
Он не находил покоя и считал часы и минуты до отъезда.
Наконец желанный день настал. Антон попрощался с матерью и двумя братьями, из которых старшему, Кристиану, было пять лет от роду, а младшему, Симону, названному в честь шляпника Лобенштайна, едва исполнился год.
Отец его сопровождал, и до места они добирались частью пешком, частью – в недорогих попутных экипажах.
Впервые в жизни Антон вкусил радость пешего путешествия, каковую впоследствии ему довелось испытывать даже слишком часто.
Чем ближе они подходили к Брауншвейгу, тем сильнее билось сердце Антона от нетерпения. Башня святого Андрея с ее красным куполом являла собой величественное зрелище.
Опустились сумерки. Антон издали различал часовых, расхаживающих взад-вперед по высокому крепостному валу.
Тысячи представлений о том, как выглядит его будущий благодетель, каков его возраст, походка, выражение лица, возникали и вновь исчезали в его уме.
В конце концов он создал себе столь прекрасный образ, что заранее полюбил этого человека.
Антон вообще с раннего детства имел побуждение уже по звукам имени незнакомого человека или города составлять представление о том, кто или что за этим именем скрывается.
Главную роль при создании образа играла высота гласных, составляющих имя.
Так, имя Ганновер своим звучанием всякий раз рождало ощущение некоего великолепия, и, еще прежде чем очутиться в этом городе, он уже воображал себе высокие дома и башни, залитые чистым и ярким светом.
Брауншвейг казался ему вытянутым, более сумрачным и важным, а Париж – опять-таки по смутному предчувствию, навеянному его именем, – состоящим большей частью из домов светлых и белых.
Все это, однако, вполне соответствует нашей природе, ибо над всякой вещью, о которой неизвестно ничего, кроме имени, душа трудится, стараясь набросать ее образ с помощью отдаленнейших подобий, и за отсутствием других аналогий вынуждена прибегать к имени, которое произвольно присвоено этой вещи и в котором она различает звуки твердые и мягкие, насыщенные и бесцветные, высокие и низкие, глухие и звонкие и устанавливает между ними и видимыми предметами род аналогии, подчас случайно верной.
При имени Лобенштайн Антону виделся человек несколько долговязый, по-немецки прямодушный, с чистым открытым лбом.
Однако на сей раз толкование имени навело его на ложный путь.
Начинало уже смеркаться, когда Антон с отцом, преодолев большой подъемный мост и миновав сводчатые ворота, оказались в Брауншвейге.
Пройдя множеством тесных проулков, мимо замка, они добрались наконец до довольно глухой улицы, где, напротив длинного казенного здания, жил шляпник Лобенштайн.
Вот и его дом – темно-серый фасад с большой черной дверью, обитой множеством гвоздей.
Над входом вывеска с нарисованной шляпой и выведенным подле нее именем Лобенштайна.
Старуха-домоправительница отворила им дверь и провела направо, в большую комнату, стены которой были обшиты досками, выкрашенными темно-коричневой краской. На них, приглядевшись, можно было различить полустершееся изображение пяти органов чувств человека.
Здесь и встретил их хозяин дома. Человек средних лет, скорее малорослый, чем высокий, с еще довольно свежим, но бледным лицом, которое если и меняло свое меланхолическое выражение, то лишь ради беглой улыбки, поровну горестной и медоточивой; черные волосы, мечтательно-отсутствующий взгляд; речь, не чуждая известной утонченности и деликатности; движения и жесты, каких не встретишь среди ремесленного люда, и обыкновение говорить до крайности медленно и затрудненно, до бесконечности растягивая слова, особенно когда разговор заходил о благочестивых материях. Взгляд его из-под черных сдвинутых бровей становился нестерпимо сверлящим, стоило ему нахмуриться из-за подлости и злокозненности кого-нибудь из сынов человеческих, в особенности из числа соседей или собственных его работников.
В первый раз он предстал Антону в зеленой меховой шапке, голубой манишке и коричневом камзоле под черным фартуком – обычном своем домашнем наряде, и мальчик сразу понял, что вместо друга и благодетеля обрел сурового хозяина и наставника.
Вся заранее приуготовленная сердечная любовь угасла, как залитая водою искра, когда холодная, сухая и властная мина на лице чаемого благодетеля ясно выразила: ни на что иное, как на положение ученика, рассчитывать ему не приходится.
В те немногие дни, что его отец оставался в доме Лобенштайна, Антону еще оказывали некоторые послабления, но по отъезде отца велели приняться за работу наравне с другим учеником.
Его использовали на самых низких работах: он колол дрова, носил воду и подметал мастерскую.
Но как бы разительно ни отличалось все это от его ожиданий, трудности отчасти искупались прелестью новизны, и он в самом деле испытывал известное удовольствие, даже когда мел комнату, колол дрова и носил воду.
Однако его фантазия, расцвечивавшая все вокруг, пришлась в этом случае весьма кстати. Просторная мастерская с ее черными стенами, погруженными в зловещий сумрак, разгоняемый по утрам и вечерам лишь несколькими лампами, нередко казалась ему храмом, где он отправляет службу.
По утрам он разводил под большими котлами живительный священный огонь, тем самым подчиняя наступающий день трудам и заботам и давая применение многим рукам.
Вдобавок он воспринимал эту работу как род служения, наделенного известным достоинством.
Сразу за мастерской протекал Окер, на берегу были сбиты мостки для зачерпывания воды.
Антон воспринимал все это как свои владения и порою, управившись с уборкой, наполнив водой громадные вмурованные в стену котлы и разложив под ними огонь, от души радовался сделанной работе, словно бы всем отдал должное – его воображение, всегда неутомимое, оживляло все неживое вокруг и творило из него живых существ, с которыми он общался и разговаривал.
Кроме того, образцовый порядок, замеченный в здешних делах, доставлял ему удовольствие, и он охотно сознавал себя колесиком в этом механизме, столь правильно отлаженном: в родительском доме ничего подобного он не видел.
Шляпник Лобенштайн в самом деле чрезвычайно строго следил за соблюдением домашнего распорядка, где все: работа, трапезы и сон – было расписано по часам.
Отступления если и допускались, то лишь за счет сна, от которого не реже раза в неделю приходилось отказываться ради ночной работы.
В остальном же часы соблюдались неукоснительно: обед – ровно в полдень, завтрак – в восемь утра, ужин – в восемь вечера. По этим вехам делилась и вся дневная работа – так протекала жизнь Антона: приступая к трудам в шесть утра, он устремлял все свои помыслы к завтраку, живо его предвкушая, а когда получал его, то поглощал с величайшим аппетитом, какой бывает у здорового человека, хотя состоял этот завтрак всего лишь из кофейной гущи, приправленной молоком, и двухгрошовой булочки.
Затем работа возобновлялась с новой силой и, когда ее однообразие становилось утомительным, интерес утренних часов сосредоточивался на предвкушении обеда.
Ежевечерне подавалась чашка крепкого пивного супа – хорошая приманка, чтобы скрасить послеполуденную работу. А после ужина и до отхода ко сну над тягостью и скукой вечерних трудов утешительно витала уже другая мысль – о предстоящем вожделенном отдыхе.
И хотя все, конечно, знали, что назавтра жизнь потечет по-прежнему, ее мучительное однообразие скрашивалось ожиданием воскресений.
Когда утешений, доставляемых завтраками, обедами и ужинами, становилось недостаточно, они начинали считать время до воскресенья – в этот день, не занятые никакой работой, они могли выйти из темной мастерской за ворота, гулять на свободе и любоваться видами живой природы.
О, какое наслаждение испытывает мастеровой по воскресеньям – наслаждение, недоступное людям высших классов, могущим отдыхать от дел, когда сами того пожелают.
«Чтобы… успокоился сын рабы твоей»[3].
Один лишь мастеровой способен вполне почувствовать великий, прекрасный, исполненный человеколюбия смысл, заложенный в этом законе!
Если уж человек все шесть дней в неделю считает часы до одного-единственного дня отдыха, то, пожалуй, тем паче стоит в течение четырех месяцев высчитывать срок, оставшийся до трех-, а то и четырехдневных годовых праздников.
И если зачастую даже мысль о предстоящем воскресенье не могла разогнать скуку унылой повседневности, тогда прелесть жизни освежалась приближением Пасхи, Троицы или Рождества.
А когда не хватало и этого, на помощь приходила сладостная надежда, что годы учения, обретения мастерства когда-нибудь закончатся и в их жизни настанет совсем новая великая эпоха.
Дальше, однако, помыслы товарищей Антона не простирались, но от этого он нисколько хуже себя не чувствовал.
Всеблагой и мудрый ход вещей вносил в тяжелую и однообразную жизнь мастеровых разные вехи и меты, а тем самым – некий ритм и гармонию, благодаря чему жизнь их протекала незаметно, не вызывая особой скуки.
Однако романтическая душа Антона, увы, не могла согласоваться с этим ритмом.
Как раз напротив дома шляпника располагалась латинская школа, которую Антон тщетно мечтал посещать, – всякий раз, видя снующих туда-сюда школьников, он с тоской вспоминал такую же школе в Ганновере и ее конректора; когда же ему случалось проходить мимо большого здания школы святого Мартина и видеть выходящих из нее взрослых учеников, он отдал бы все, лишь бы хоть раз увидеть ее изнутри.
И хотя поступить в подобную школу в его тогдашнем положении он не смел и думать, все же вполне заглушить в себе слабый трепет надежды был не в силах.
Даже мальчики-хористы казались ему существами высшего порядка, и, едва заслышав их пение на улице, он не мог удержаться, чтобы не побежать за ними, наслаждаясь их видом и завидуя их лучезарной судьбе.
Оставаясь в мастерской наедине со своим товарищем-подмастерьем, он старался передать ему те немногие знания, что приобрел либо самостоятельным чтением, либо через занятия с учителями.
Он рассказывал ему о Юпитере и Юноне, пытался растолковать разницу между прилагательным и существительным, чтобы тот научился правильному употреблению прописных и строчных букв.
Товарищ слушал его весьма прилежно, и нередко они пускались в рассуждения на темы религии и морали. При этом собеседник Антона проявлял необычайную находчивость в изобретении новых слов для обозначения своих мыслей. Так, следование божественной воле он называл Божиим соблюдательством. Поскольку же он все время норовил передразнивать религиозные изречения господина Лобенштайна об умерщвлении и т. п., то частенько нес совершенную околесицу.
С особой многозначительностью цитировал он известные выдержки из псалмов Давида, содержащие яростные обличения врагов, когда полагал, что экономка или кто другой из домашних чернит его или оговаривает.
Итак, почти все домочадцы в той или иной степени подпали под влияние религиозного фанатизма господина Лобенштайна – кроме этого подмастерья: всякий раз, когда Лобенштайн чересчур увлекался, рассуждая об «умерщвлении» и «изничтожении», он бросал на него столь убийственный и изничтожающий взгляд, что тот с гадливостью отворачивался или замолкал.
В остальных же случаях господин Лобенштайн мог целыми часами распекать весь человеческий род. Плавным движением правой руки он рассылал одним благословенье, другим – проклятье. При этом он силился придать своему лицу сострадательное выражение, но между его черных бровей читалась нетерпимость и ненависть к людям.
Практическое воздействие его речей, довольно ловко рассчитанное, всегда сводилось к одному – чтобы люди служили ему не за страх, а за совесть, коли не хотят быть навечно ввергнутыми в геенну огненную.
Сколько ни работай, угодить ему было невозможно; он же, уходя, всякий раз осенял крестом хлеб и масло.
Антону, который, надо полагать, тоже недостаточно много работал, он отравлял жизнь бесконечными рацеями и заводил их всякий раз за обедом, лишь только Антон, взявшись за нож и вилку, подносил кусок ко рту и порой разом терял от этого аппетит, – пока однажды упомянутый подмастерье бойко не заступился за него, дав ему доесть обед в покое.
Но и в других случаях Антон не отваживался подать голос, так как в любом его слове, выражении лица, в малейших его жестах Лобенштайн находил повод для придирок; Антон ничем не мог добиться его благосклонности и наконец стал побаиваться даже проходить мимо него, потому что Лобенштайн корил его за каждый сделанный шаг. Всякая мимолетная улыбка, всякое проявление невинной радости, мелькнувшей в лице или движениях Антона, вызывали у него раздражение, которому он тем свободней давал волю, что никто в доме не решался ему перечить.
Как раз в это время совсем поблекшие изображения пяти человеческих чувств на черной обшивке стены были покрыты свежим лаком – с тех пор память об этом запахе, который держался в комнатах несколько недель, прочно связывалась у Антона с представлением о его тогдашнем положении. Всякий раз, как до него доносился запах лака, в его душе непроизвольно всплывали неприятные картины того времени, и напротив, когда он впадал в состояние, имевшее случайное сходство с чувствами, испытанными им в доме Лобенштайна, ему чудился запах лака.
Случай несколько облегчил положение Антона.
Религиозные фантазии шляпника Лобенштайна весьма отдавали ипохондрией; он верил в грядущее возмездие и имел видения, нередко повергавшие его в страх и трепет. В его доме снимала комнату некая старуха. Умерев, она стала являться ему во сне, отчего он нередко просыпался в холодном поту, а поскольку продолжал грезить наяву, то по углам спальни ему все время чудилась ее мелькающая тень. Чтобы избавить его от одиночества, Антону велели спать с ним в одной комнате. Теперь в нем появилась нужда, и Лобенштайн стал относиться к нему немного добрее. Чаще вступал с ним в беседу, расспрашивал, лежит ли его сердце к Богу, учил, что Богу следует посвятить себя целиком и полностью, если же ему выпадет счастье быть избранным в число Божьих чад, то Бог возьмет на себя дело его духовного обращения и исполнит оное до конца – и многое в том же роде. Вечерами Антон, прежде чем отойти ко сну, должен был стоя тихо помолиться, причем молитва не могла быть слишком короткой, иначе Лобенштайн спрашивал: как, ты уже управился? и тебе больше нечего сказать Богу? Для Антона это служило новым поводом к лицемерию и притворству, столь чуждым его природе. Хотя молился он тихо, но старался выговаривать слова как можно отчетливее, чтобы Лобенштайн мог их хорошо расслышать, поэтому в продолжение всей молитвы им владела мысль не столько о Боге, сколько о том, как бы выражением раскаяния, сердечного сокрушения, страстного порыва к Богу и тому подобных чувств повернее вкрасться в доверие к господину Лобенштайну. Такова была великая польза, принесенная вынужденной молитвой душе и характеру Антона.
И все же порой Антон еще обретал истинное наслаждение в уединенной молитве, которой предавался где-нибудь в отдаленном уголке мастерской, на коленях прося Бога, чтобы он произвел в его душе хотя бы одну-единственную из великих перемен, о которых он так много читал и слышал в детстве. И так велика была прельстительная сила его воображения, что иногда ему чудилось, будто в глубине его души действительно происходит нечто совсем особенное, и вслед за тем он сразу же задумывался, как бы описать это свое новое душевное состояние в письмах к отцу или к господину Фляйшбайну или как рассказать об этом Лобенштайну. Подобные воображаемые чувствования обильно питали его тщеславие, а затаенное наслаждение, которое он по этому поводу испытывал, вызывалось более всего мыслью о том, как он станет рассказывать об испытанных им божественных и небесных душевных наслаждениях – ему чрезвычайно льстило, что люди взрослые и изрядно пожившие придают столь большое значение его душевному состоянию, предмету их постоянной заботы. Тут и заключалась причина воображаемой им беспрерывной смены душевных состояний – через это он получал возможность сетовать господину Лобенштайну на внутреннюю пустоту и сухость, на то, что не ощущает в себе истинного влечения к Богу, а затем просить у него совета по поводу такого своего состояния, каковой совет бывал ему преподан с величайшей важностью, весьма для него лестной.
Дошло до того, что рассуждения о его душевном состоянии нашли место в переписке с господином Фляйшбайном и ему было показано некое место из письма Фляйшбайна, касающееся до него лично. Стоит ли удивляться, что он поддался соблазну посредством всех этих мнимых изменений своего душевного расположения пестовать собственную важность как в своих глазах, так и в глазах окружающих – коль скоро он представал им как особа, отмеченная чрезвычайно пристальным руководительством самого Бога?
Как и другой ученик, он получил теперь черный фартук, и это отнюдь не привело его в уныние, но напротив – принесло великое удовлетворение. Он почувствовал себя человеком, облеченным некой должностью и приступившим к ее исполнению. Фартук как бы вовлек его в общий порядок равных ему работников, тогда как прежде он был одинок и заброшен. В размышлениях о фартуке он даже забыл на время о своей любви к учению и стал находить своего рода удовольствие в исполнении разных ритуалов ремесленнической жизни, более всего мечтая участвовать в них. Он от всей души радовался, принимая приветствие какого-нибудь странствующего подмастерья, ожидавшего положенного в таких случаях подарка, и не мог вообразить большего счастья, чем самому в один прекрасный день сделаться таким странствующим подмастерьем и приветствовать кого-нибудь по той же предписанной форме.
Так настроение юноши зависит более от знаков, нежели от самих вещей, и по словам ребенка вряд ли можно судить о его будущем выборе занятия. Едва выучившись читать, Антон стал находить неописуемое удовольствие в посещении церкви, чему мать и тетка не могли нарадоваться. Но что же влекло его в церковь? Триумф, коим он наслаждался всякий раз, как, бросив взгляд на черную доску с выведенными на ней номерами псалмов, мог указать стоящему рядом взрослому, что это за номер, а потом быстрее иных взрослых раскрыть Псалтырь и присоединиться к хору.
Благосклонность господина Лобенштайна к Антону видимо росла по мере того, как мальчик все жарче выказывал потребность в духовном руководстве. Он часто разрешал ему участвовать в длившихся до полуночи беседах своих ближайших друзей, с которыми любил обсуждать приключившиеся ему или кому из них видения, порою столь жуткие, что у Антона от ужаса шевелились волосы на голове. Спать поэтому ложились поздно, и если вечер проходил в подобных беседах, наутро господин Лобенштайн обыкновенно спрашивал у Антона, не слыхал ли тот ночью чего особенного, к примеру чьих-нибудь шагов в комнате.
Вечерами господин Лобенштайн иногда беседовал с Антоном наедине, и они вдвоем читали сочинения Таулера, Иоанна Креста и подобные книги. Казалось, теперь между ними установится прочная дружба. Антон и впрямь испытывал к господину Лобенштайну чувство, похожее на любовь, но к нему примешивалась некая горечь, привкус умерщвления и изничтожения, вызванных медоточиво-скорбной улыбкой Лобенштайна.
Теперь Антона все чаще освобождали от тяжелой и унизительной работы. Порой Лобенштайн брал его с собой на прогулку и даже пригласил для него учителя фортепиано. Антон был наверху блаженства в своем новом положении и написал письмо отцу, выразив в нем живейшую радость.
Антон достиг в доме Лобенштайна вершины счастья, и падение его приближалось. С той поры как для него был нанят учитель фортепиано, его окружали завистливые взгляды. Как при дворе какого-нибудь князька, ему строили козни, на него клеветали и всячески старались его развенчать.
Пока Лобенштайн вел себя с ним жестоко и несправедливо, Антон пользовался сочувствием и дружбой всех домашних, но стоило им заподозрить, что Лобенштайн дарит его своей дружбой и доверием, как в той же мере увеличились вражда и недоверие. Но едва только им удалось снова низвести его до себя и учитель музыки был уволен, как все недоброжелательство исчезло и он снова стал им другом.
Однако лишить его расположения столь мнительного и недоверчивого человека, как Лобенштайн, не составляло труда; достаточно было передать ему несколько беспечных фраз Антона, указывать при каждом удобном случае на различные промахи и непорядки, действительно им допущенные, чтобы переменить отношение Лобенштайна к нему. И именно так с обдуманным расчетом и сделали экономка и прочая челядь. Но прежде чем они полностью достигли своей цели, прошло несколько месяцев, в продолжение которых Лобенштайн пытался обратить в свою веру даже учителя музыки, скромного и порядочного человека, каковой, однако, по мнению Лобенштайна, все же был еще не вполне предан Богу и не проявлял достаточного пыла в следовании ему.
Учитель часто столовался в компании господина Лобенштайна, но в конце концов навлек на себя неудовольствие тем, что намазывал на хлеб слишком толстый слой масла. Экономка тотчас указала господину Лобенштайну на это обстоятельство с известной целью – удалить учителя от Антона и уравнять последнего с его товарищами.
Вдобавок Антон не проявлял в музыке особых талантов, а потому и большого рвения на уроках. Несколько арий и хоралов – вот и все, что ему удалось выучить ценой больших усилий. Занятия фортепиано были для него тягостны, он с великим трудом усваивал аппликатуру, и Лобенштайн то и дело придирался к его растопыренным пальцам.
И все-таки однажды ему удалось, как в истории Давида и Саула, силою музыки развеять гнев господина Лобенштайна. Как-то раз он допустил небольшой промах, и, поскольку доброе расположение к нему господина Лобенштайна уже стало понемногу превращаться в ненависть, он замыслил для Антона на вечер суровое наказание. О чем Антон догадался по многим признакам. И когда час наказания приблизился, он собрался с духом и сыграл на фортепиано первый разученный им хорал, сопровождая свою игру пением. Лобенштайна это потрясло, и он признался, что именно на этот час и было назначено наказание, которое он теперь отменяет.
Антон даже дерзнул попенять ему, что прежняя его дружба и любовь начали заметно таять, в ответ тот признался, что расположение его к Антону вправду уже не столь велико, как прежде, но в том, что между ним и его былой любовью к Антону пролегла стена, виновато ухудшившееся состояние души Антона. Заключил же он об этом по указанию Бога, коему изложил означенное дело в молитве.
Все это чрезвычайно огорчило Антона, и он спросил, что же ему предпринять для исправления своего душевного состояния. Идти своим путем в простоте сердца, полностью предав себя Божьей воле, был ответ. Дальнейших указаний не последовало. Господин Лобенштайн считал недопустимым предварять решения Бога, который, казалось ему, уже и сам отвернулся от Антона. Однако, судя по его назидательным словам: «идти своим путем в простоте сердца», – он в последнее время находил Антона чересчур умным и словоохотливым, полагал, что мальчишка слишком много рассуждает и – по причине удовлетворенности своим внутренним состоянием – ведет себя слишком оживленно. Живое поведение Антона, по убеждению Лобенштайна, влекло его прямиком к гибели как человека с беззаботным выражением лица, а потому низменного и мирского, о котором нельзя подумать ничего иного, кроме как что сам Бог отвергнет его за его грехи.
Если бы Антон лучше понимал свою выгоду, он непременно исправил бы положение, напустив на себя удрученный и нелюдимый вид, изображая внутреннюю тревогу и подавленность. Ибо тогда господин Лобенштайн поверил бы, что Бог снова готов привлечь к себе эту заблудшую душу.
Но поскольку Лобенштайн был убежден, что всякий, кого Бог решит обратить, будет обращен и без его помощи и что Бог избирает кого хочет и кого хочет отторгает и ожесточает, чтобы тем нагляднее явить свою славу, то ему казалось опасным вмешиваться в дело Бога, коли, по всем приметам, кто-то окончательно им отвергнут.
У Антона же, судя по его оживленному и мирскому виду, такие приметы были налицо. Дело приняло столь нешуточный оборот, что Лобенштайн решил списаться с господином фон Фляйшбайном. И снова показал Антону место из письма Фляйшбайна, где речь шла о нем; господин Фляйшбайн выражал уверенность, что «дьявол возвел себе в сердце Антона столь прочное святилище, что разрушить его будет очень трудно».
Антона эти слова точно громом поразили, однако, заглянув в себя и сверив нынешнее свое душевное состояние с недавним, он не нашел между ними никакого различия: он столь же часто, как и прежде, бывал захвачен воображаемыми божественными чувствованиями и умильными переживаниями и, как ни старался, не сумел обнаружить никаких свидетельств своего отпадения от Божией милости и своей отверженности от Бога. С этого времени он стал сомневаться в истинности прорицаний господина Фляйшбайна.
Оттого он забыл и думать о своей униженности, которая еще недавно, скорее всего, побудила бы его добиваться благорасположения господина Лобенштайна, чью дружбу он отринул своей неизменно довольной физиономией.
Первым следствием этого стало удаление его из спальни Лобенштайна, так что ему снова пришлось ночевать рядом с другим учеником, который, перестав ему завидовать, опять сделался его другом. Вторым – что он снова принужден был исполнять самую низкую и грязную работу, подолгу задерживаясь в мастерской и не имея возможности навещать Лобенштайна. Учитель музыки оставался в доме лишь потому, что Лобенштайн положил себе завершить начатое дело его обращения и вознамерился взамен одной заблудшей души привести к Богу другую.
Наступила зима, и вот тут Антону пришлось совсем туго: его принуждали выполнять работу, для его лет совершенно непосильную. Лобенштайн как будто решил, что коль скоро душа Антона все равно ни на что не годна, пусть уж его тело найдет наилучшее применение. Казалось, он стал смотреть на него как на орудие труда, которое выбрасывают, когда оно стачивается.
Вскоре руки Антона от мороза и работы сделались совсем непригодными к фортепианной игре. Почти каждую неделю он вместе со своим товарищем раз-другой пропускал ночной сон и вынимал окрашенные в черный цвет шляпы из кипящего красильного котла, а затем немедля прополаскивал их в протекающем неподалеку Окере, для чего прежде нужно было пробить отверстие во льду. И от постоянного чередования раскаленного пара и мороза руки Антона растрескались до крови.
Это, однако, не повергло его в уныние, скорее укрепило. Он прямо-таки гордился своими руками, а многочисленные кровавые трещины на них воспринимал как знаки трудового отличия; и покуда эта тяжкая работа обладала для него прелестью новизны, она доставляла ему известное удовольствие, состоявшее более всего в ощущении собственной телесной силы, и одновременно приносила сладостное ощущение свободы, прежде ему неведомое.
Теперь, казалось ему, он может иметь к себе более снисхождения, чем прежде, коль скоро работает наравне с другими и разделяет с ними дневные тяготы и попечения. Даже в самой тяжелой работе обретал он некое внутреннее достоинство, плод крайнего напряжения сил, и все чаще думал, что едва ли согласился бы променять нынешнее свое положение на то мучительное, в коем пребывал прежде, наслаждаясь суровой дружбой господина Лобенштайна, изничтожающей всякую свободу.
Тот же начал все больше и больше его притеснять, часто заставляя весь день напролет чесать шерсть в нетопленой комнате. Сие хитрое средство было измышлено, чтобы заставить Антона больше трудиться, ведь если он не хотел закоченеть до смерти, то должен был пошевеливаться, покуда хватало сил, так что вечерами руки уже отказывались ему повиноваться, а пальцы на руках и ногах все равно промерзали у него насквозь.
Эта работа своим нескончаемым однообразием делала жребий Антона горчайшим из всех, особенно когда фантазия его никак не хотела оживать. Если, напротив, она разыгрывалась от быстрого обращения крови, дневные часы пробегали незаметно. Тогда он уносился мечтами в будущее. Порой он давал выход своим чувствам, напевая речитативы на случайно сложенную мелодию. Когда же работа особенно его изнуряла, силы совсем оставляли и жизнь пригнетала к земле, он искал радость в религиозных мечтаниях о жертве и полном самоотречении; в такие минуты выражение жертвенный алтарь казалось ему исполненным глубокого смысла и он вплетал его во все придуманные им песенки и речитативы.
Общение с товарищем (которого звали Август) вновь стало доставлять ему живейшее удовольствие, а беседа с ним стала более доверительной, так как теперь они опять сделались равны друг другу. А ночи, проведенные без сна, лишь укрепляли их дружбу. Но особенно сплачивало их совместное пребывание в так называемой сушильне. Это была проделаннаяв земле яма, сверху покрытая кирпичным сводом; там мог разместиться либо один человек стоя, либо двое кое-как усаживались рядом. В этой яме находилась большая жаровня, а по стенам висели смазанные азотной кислотой заячьи шкурки, которые таким образом умягчались и затем шли на отделку дорогих шляп.
Вот здесь-то перед жаровней, в чадном воздухе земляной дыры, куда попасть удавалось чуть ли не ползком, Антон и Август сидели рядом. Их настолько сближала теснота и уединенность пространства, слабо освещаемого лишь раскаленными углями, тишина и зловещий вид темного свода, что сердца обоих изливались взаимными дружескими чувствами. Здесь они поверяли друг другу свои заветные чаяния, здесь провели блаженнейшие часы своей жизни.
Подобно господину Фляйшбайну и все его последователям, Лобенштайн был сепаратистом и потому сторонился церкви и не принимал причастия. Пока длилась дружба между ним и Антоном, тот почти не посещал церковной службы в Брауншвейге. Теперь же Август стал по воскресеньям брать его с собою в церковь, всякий раз в другую, поскольку Антон любил слушать разных проповедников.
Как-то раз Антон и Август, сидя глубокой ночью в тесноте сушильни, обсуждали нескольких уже слышанных ими проповедников, и Август пообещал Антону в следующее воскресенье повести его в Брюдернкирхе, где он услышит проповедника, превосходящего своими речами все, что только можно себе помыслить и вообразить. Проповедник звался Паульман, и Август без умолку рассказывал, как часто этот человек трогал и потрясал его душу. Ничто не могло воодушевить Антона сильнее, чем вид публичного оратора, повелевающего сердцами тысяч. Он со вниманием слушал рассказ Августа и уже представлял себе пастора Паульмана на кафедре и в уме слышал его проповедь. Единственным его желанием было, чтобы воскресенье настало поскорее!
И наконец оно настало. Антон поднялся раньше обычного, переделал утренние дела и нарядился. Когда зазвонили к обедне, его охватило приятное предвкушение будущей проповеди. Народ потянулся к церкви. Улицы, ведущие к Брюдернкирхе, были до отказа забиты людьми. Пастор Паульман недавно хворал и теперь готовился проповедовать в первый раз после болезни: по этой-то причине Август не сразу повел Антона в эту церковь.
Войдя, им едва удалось отыскать себе местечко поближе к кафедре. Все скамьи, проходы и хоры полнились людьми, вытягивающими шеи, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Церковь была старинной готической постройки с мощными колоннами, высоким сводом и необыкновенно длинными стрельчатыми окнами, столь густо раскрашенными, что сквозь них проникал лишь слабый свет.
Еще до начала службы люди наводнили церковь. Внутри царила торжественная тишина. Внезапно в полную силу зазвучал орган и грянувший тысячеголосый хор, казалось, сотряс свод. Когда замерли последние звуки песнопений, все взоры устремились на кафедру: желание прихожан видеть проповедника не уступало их желанию его услышать.
Наконец, он явился и, прежде чем взойти на кафедру, преклонил колено на ее нижней ступени. Затем он распрямился и предстал перед народом. Человек в расцвете сил – с бледным ликом, ртом, тронутым чуть заметной улыбкой, и глазами, источающими небесное благоговение, – он уже начал проповедовать, самим выражением своего лица и смиренно сложенными руками.
Но стоило ему заговорить – что за голос, что за выразительность речи! Сначала она текла медленно и важно, потом все быстрее, подобно ускоряющемуся потоку – и по мере того, как проповедник глубже погружался в свой предмет, огонь красноречия сильнее заблистал в его глазах, зашумел в груди и заискрился на кончиках пальцев. Все в нем – лицо, тело и руки – пришло в движение, нарушая главнейшие правила риторики, но оставаясь при этом естественным, изящным и неотразимо влекущим.
Мысли и чувства изливались совершенно свободно, очередное слово рвалось из груди, не дожидаясь, пока отзвучит прежнее; и, как волны, подгоняемые приливом, набегают одна на другую, так и каждое его новое чувство тонуло в следующем, которое, однако, было не чем иным, как живым обновлением предыдущего.
Он говорил высоким тенором, но и при такой высоте голос звучал на удивление полно, как звон чистого металла, пробегая по нервам людей. Придерживаясь канвы Евангелия, он обличал несправедливость, угнетение слабых, роскошь и расточительство, и под конец с разгоревшейся страстью обратился по имени к пышному, утопающему в неге городу, жители которого большей частью собрались в этой церкви, обнажил его грехи и преступления, напомнил о войне, об осаде города, об общей опасности – времени, когда нужда всех уравняла и царило всеобщее согласие, когда богатым гражданам за столами, стонущими теперь под тяжестью яств, предстали голод и дороговизна, а их перстни и ожерелья грозили смениться на оковы. Антону казалось, что он слышит одного из пророков, который с божественным пылом возвещает кару народу Израиля и срамит Иерусалим за его грехи.
На обратном пути Антон не молвил Августу ни слова, но отныне все его помыслы – куда бы он ни шел и где бы ни находился – были только о пасторе Паульмане. Его видел он ночами во сне, о нем заговаривал днем; весь его облик, выражение лица, каждое движение прочно запечатлелись в душе Антона. Чесал ли он шерсть в мастерской или промывал шляпы – всю неделю он был точно заворожен воспоминаниями о проповеди пастора Паульмана, снова и снова вызывая в памяти обороты его речи, которые потрясли его или растрогали до слез. Силой воображения он рисовал старинную величественную церковь, толпу, обратившуюся в слух, возобновлял звучание пасторского голоса – в его фантазии даже еще более возвышенного – и считал часы и минуты до следующего воскресенья.
Оно наступило. И если что-нибудь могло произвести на душу Антона еще более сильное впечатление, чем в прошлое воскресенье, то это была нынешняя проповедь. Людей в церкви собралось едва ли не больше, чем неделю назад. Перед проповедью пропели короткую песнь, составленную на слова псалмов:
«Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?
Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;
кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего;
тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется, и не изменяет;
кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек».
Эта короткая и разительная песнь как будто возбудила в слушателях ожидание дальнейшего. Сердца их открылись для великого и возвышенного, когда пастор Паульман с торжественно-серьезным выражением лица, как бы погруженный в себя, взошел на кафедру и, не сотворив молитвы и не сделав никакого вступления, простер руку и произнес:
«Тот из вас, кто не обижал вдов и сирот, кто не знает за собой тайных прегрешений, кто не вводил в обман ближнего своего ростовщичеством, чью душу не тяготит лжесвидетельство, тот вместе со мною доверчиво воздень руки к Богу и помолись: Отче наш и т. д.»
Далее он обратился к тому месту из воскресного Евангелия, где у Иоанна Крестителя спросили, не Христос ли он. «Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Этими словами он воспользовался, чтобы обличить лжесвидетельство; прочтя их своим глуховатым размеренным голосом, он выдержал паузу и начал снова:
О горе тем, кто на земле Отринул волю Божью, Кто с мрачной думой на челе Чернит святыню ложью. Бессовестно ты Богу лгал, Его насмешкой оскорблял, О, как же пал ты низко! Теперь пред ликом Чистоты Несчастней твари нет, чем ты, Но верь – спасенье близко. Ты падать духом не спеши, Греху не погубить души. Ведь слезы потекут ручьями, Когда раскаянье придет И стихнет постепенно пламя Вины, что нас так больно жжет. О ты, что миру зло принес, Плачь, если только хватит слез, Но лишь в надежде света. Тому, кто грех свой превозмог, Свой образ снова явит Бог — Вот суть его завета.[4]Эти слова, произнесенные с долгими паузами и с величайшим пафосом, произвели невероятное действие. Когда они замерли, люди перевели дух, со лба их катился пот. Природа лжесвидетельства была исследована, и его последствия представлены в самом ужасающем свете. На голову лжесвидетеля пала молния, и погибель уже приближалась к нему, как вооруженный латник; в глубине его души трепетал грешник и взывал: «Горы, падите на меня, холмы, покройте меня!» Лжесвидетель лишился милости, гнев Предвечного навсегда уничтожил его.
Проповедник в изнеможении умолк, слушателей охватил панический ужас. Антон лихорадочно перебирал в уме все годы своей жизни, доискиваясь, не совершил ли он в прошлом какого лжесвидетельства.
Но уже звучали слова утешения – отчаявшемуся даровались милость и прощение, при условии, что он вдесятеро возместит отнятое у вдов и сирот, что будет всю оставшуюся жизнь омывать свои грехи слезами раскаяния и искупать их усердным трудом.
Милость подавалась нечестивцу не даром: он должен был добиться ее молитвой и плачем. Теперь же выходило так, будто проповедник сам, на глазах у толпы, вырывал ее у Бога своей молитвой и своими слезами, словно бы поставив себя на место сокрушенного душой грешника.
Отчаявшийся слышал обращенный к нему голос: ползай во прахе и пепле, пока не сотрешь колени, вопи: я согрешил пред небом и пред Тобой – так начинался каждый период проповеди: я согрешил пред небом и пред Тобой! – после чего чередой шли признания: я обижал вдов и сирот, отнимал у слабого последнюю опору, у голодного – хлеб и так далее по всему реестру грехов. Каждый период завершался возгласом: Господи, возможно ли мне снискать Твою милость?!
Горькие слезы лились потоком. Рефрен в конце каждого периода производил необыкновенное действие – все чувства словно бы возбуждались новыми и новыми электрическими разрядами, раскалявшими их до предела. И даже хрипота, под конец постигшая оратора, свидетельство его крайнего изнеможения (ибо он так и вопиял к Богу о снисхождении ко грехам народа), лишь усилила жалобные чувства, вызванные этой проповедью; во всей толпе не было ребенка, который бы не вздыхал и не плакал, увлеченный общим порывом.
Два с половиною часа пролетели как одна минута – неожиданно проповедник умолк и, сделав паузу, завершил проповедь теми же стихами, какими ее начал. Усталым севшим голосом он отчитал общую исповедь, принес покаяние в грехах и, наконец, произнес разрешительную молитву. Затем он помолился за тех, кто, как и он сам, готовился подойти к причастию, и, воздев руки, благословил прихожан. Само понижение его голоса после громкой проповеди имело в себе нечто торжественное и трогательное.
На сей раз Антон задержался в церкви: он хотел увидеть, как пастор Паульман будет причащаться. Каждое движение этого человека казалось исполненным святости. С бьющимся сердцем он приблизился к тому месту, где шел пастор Паульман. Чего бы он не отдал в эту минуту, чтобы его тоже допустили к причастию! Потом он смотрел, как пастор Паульман идет домой вместе с сыном, мальчиком лет девяти. Всем самым дорогим на свете Антон готов был пожертвовать, лишь бы оказаться на месте этого мальчика. Он глядел, как пастор Паульман пересекает улицу, со всех сторон теснимый прихожанами, выкрикивающими слова приветствия и благодарности, и ему казалось, будто от его головы исходит сияние и среди толпы смертных пробирается как бы некий сверхчеловек. Более всего он желал, приподняв шляпу, поймать хотя бы его мимолетный взгляд, и когда это ему удалось, он тут же поспешил домой, пытаясь сохранить этот взгляд в своем сердце.
В следующее воскресенье пастор Паульман проповедовал о любви к ближнему, и сколь потрясающей была прежняя его проповедь о лжесвидетельстве, столь трогательной оказалась эта; слова стекали с его губ, как мед, каждое движение не походило на предыдущее; само его существо словно изменилось под воздействием темы проповеди. И при этом – ни малейшей аффектации. В самом его естестве была заложена способность полностью сливаться с мыслями и чувствами, вызываемыми предметом речи.
В то же утро Антон выслушал еще одну, необыкновенно скучную проповедь другого проповедника этой церкви – и несколько раз впадал в настоящую ярость: когда дело, по всему судя, уже шло к заключительному «аминь», проповедник вдруг возвращался и прежним тоном начинал все сызнова. Теперь скучные проповеди причиняли Антону еще большие муки, чем когда-либо, поскольку он не мог удержаться от постоянных сравнений: проповедь пастора Паульмана стала для него высшим идеалом, недостижимым, как он думал, ни для кого другого.
По окончании утренней проповеди к пастору Паульману выстроилась целая очередь причастников, ожидавших его благословения, чему Антон еще никогда не бывал свидетелем. И сколь достойный образ явил при этом пастор Паульман! Он стоял в глубине церкви подле высокого алтаря и пел: «Хвалите Господа, ибо Он человеколюбец и милость Его не прейдет!» – таким неземным голосом и властным тоном, что Антон в ту минуту почувствовал себя как бы восхищенным в небесные сферы, – все это чудилось ему происходящим за некой завесой, в святая святых, куда заповедано даже приближаться ноге человека. Как завидовал он тем, кому дозволено подойти к алтарю и принять причастие из рук пастора Паульмана! Одна молодая женщина в черном платье, с бледными щеками, подступила к алтарю с выражением небесного благоговения и своим видом произвела на Антона небывалое впечатление. Впоследствии он никогда ее не видел, но образ ее на всю жизнь запечатлелся в его сердце.
Теперь его фантазия обрела новую игру. С мыслью о причастии он засыпал и с нею же просыпался. Весь день он носился с ней, работая в одиночестве; его воображению представал пастор Паульман с его мягким, волнообразно нарастающим голосом, глазами, обращенными горй и как бы озаренными неземным благоговением. Временами в его фантазии возникал образ молодой женщины, одетой в черное, бледной, с молитвенным выражением лица.
Все это настолько распалило его воображение, что он почел бы себя счастливейшим человеком на земле, если бы в следующее воскресенье его допустили к причастию. Он надеялся, вкусив причастие, получить столь возвышенное, неземное утешение, что слезы радости уже заранее текли по его щекам. Одновременно он испытывал род мягкого и успокоительного сострадания к самому себе, которое – стоило ему подумать о том, что его, подмастерья шляпника, никто подобного утешения лишить не может, – подслащало горечь и бедственность его положения. Он решил, когда ему позволят, причащаться каждые две недели, не реже, и к этому желанию примешивалась надежда, что при столь регулярном причащении пастор Паульман в конце концов обратит на него внимание, и эта мысль больше всех прочих придавала неизъяснимую сладость витающим перед ним образам. Итак, тщеславие таилось даже и здесь, в самой глубине его переживаний, где было очень нелегко его предположить.
Он и представить себе не мог, что навсегда останется таким же заброшенным и всеми забытым, как теперь. Согласно известным почерпнутым из романов идеям, которые он вбил себе в голову, непременно должно было случиться, что некий благородный господин, случайно увидев его на улице, найдет в нем нечто необычайное и возьмет на себя заботу о нем. Унылое, меланхолическое выражение, которое он придал своему лицу, лучше всего, по его расчету, привлечет к себе внимание. И потому он нередко напускал на себя куда более мрачный вид, чем свойственно его натуре. Мало того, нередко, встречая благородного господина, физиономия которого внушала ему доверие, он был готов заговорить с ним и поведать ему обстоятельства своей жизни. Но всякий раз его удерживала от этого одна и та же устрашающая мысль – что, если этот благородный господин сочтет его глупцом?
Порой, шагая по улице, он жалобным голосом запевал какую-нибудь из выученных наизусть песен мадам Гийон, находя в ней намеки на собственную свою судьбу, – ему думалось, что, поскольку в романах пение подобных жалобных песен иногда творит чудеса, то, быть может, он сумеет таким же образом привлечь к себе внимание какого-нибудь благотворителя и тем изменить свою судьбу.
Благоговение его перед пастором Паульманом было слишком велико, чтобы он отважился первым заговорить с ним. Стоило Антону к нему приблизиться, как его охватывала дрожь, словно он стоит рядом с ангелом. Он не мог и подумать – или всячески старался отогнать мысль, что пастор Паульман, как все люди, по утрам встает, вечером ложится в постель и, подобно остальным, отправляет множество естественных надобностей. Представить его в шлафроке и ночном колпаке было выше его сил – точнее, он сам избегал подобных мыслей, словно они могли пробить брешь в его душе. Особенно невыносим для него был образ пастора Паульмана в ночном колпаке – он будто вносил дисгармонию во все остальные его представления о мире.
Как-то раз, однако, случилось, что, стоя в церковном притворе, Антон услышал, как проходящий мимо пастор Паульман разговаривал со служкой о предстоящем крещении ребенка на нижненемецком диалекте.
Вряд ли существовал на свете контраст, могущий сильнее подействовать на душу Антона, – человек, которого он видел не иначе как перед толпою народа, с возвышенной, берущей за душу речью на устах, теперь, как простой ремесленник, разговаривает со служкой на нижненемецком о столь высоком деле, как крещение, да еще тоном, отнюдь не возвышенным, каким напоминают человеку, чтобы тот не забыл принести таз.
Этот случай несколько поубавил идолопоклонства в душе Антона, он стал чуть меньше превозносить пастора Паульмана – зато тем больше его полюбил.
Вместе с тем его представление о блаженстве полностью отделилось от пастора Паульмана. Он не ведал ничего более возвышенного и чарующего, нежели, подобно пастору Паульману, держать речь перед народом и временами обращаться по имени к целому городу. Последнее виделось ему исполненным особого величия и пафоса – настолько, что порой он проводил целые дни, непрестанно повторяя в мыслях подобные речи, так что однажды, выйдя на улицу купить пива и увидев дерущихся мальчишек, не преминул повторить в уме слова пастора Паульмана, предостерегая жестокосердный город от близкой погибели, – и при этом грозно воздел руку к небу. Куда бы ни шел и где бы ни находился, он произносил про себя пространные речи, а когда возбуждение доходило до крайних пределов, он обычно держал проповедь против лжесвидетельства.
Так он недолгое время витал в приятных фантазиях, которые почти вовсе заставляли его забывать и чесание шерсти в холодной комнате, и мытье шляп в ледяной проруби, и вечное недосыпание, когда ему приходилось бодрствовать по нескольку ночей подряд. Порой часы пролетали, как минуты, если ему удавалось силой фантазии зримо представить себя в роли публичного оратора.
Однако – сказалось ли тут чрезмерное напряжение душевных сил или крайняя усталость тела – он опасно заболел. Хорошего ухода он был лишен. В горячечном бреду он целые дни проводил в постели, и никто о нем не заботился.
В конце концов добрая природа взяла свое: он выздоровел. Правда, болезнь оставила в нем по себе некую слабость и удручение, и добродетельный господин Лобенштайн своими мягкими увещеваниями едва не вызвал ее смертельный рецидив.
Как-то раз вечером в сумерках Лобенштайн принимал теплую травяную ванну, уединившись в своих темнеющих покоях вместе с Антоном, который должен был ему помогать. Поскольку же он сильно потел в своей ванне и вдобавок вдруг стал охвачен сильнейшим страхом, то и обратился к Антону голосом, от которого у того мороз пошел по коже: «Антон! Антон! Берегись ада!» – и неподвижно уставился в дальний угол.
При этих словах у Антона начался озноб, дрожь прокатилась по всему телу. Его обуял невыразимый страх смерти – ведь он нимало не сомневался, что господину Лобенштайну в ту минуту предстало видение его, Антоновой погибели, оттого-то он и издал столь ужасающий вопль: Берегись, ах, берегись ада!
Прокричавши это, Лобенштайн неожиданно выскочил из ванны, и Антону пришлось проводить его до комнаты, освещая путь. Он шел впереди на подгибающихся ногах и, когда выходил из комнаты Лобенштайна, тот показался ему бледнее смерти.
Если кто на свете когда-либо обращался к Богу с подлинно беззаветной и жаркой молитвой, это был Антон: оставшись один в своем закуте, примыкающем к мастерской, он упал даже не на колени, а простерся ничком, и, как приговоренный преступник, просил Бога, умолял оставить ему жизнь – хотя бы на срок, необходимый для раскаяния, коли уж ему суждено умереть, ибо ему вспомнилось, как он больше двух десятков раз бегал и прыгал по улице и беззаботно смеялся – и теперь его ожидали муки ада, коим он будет предан навечно. Берегись, ах, берегись ада! – пронзительно звучало в его ушах, словно неведомый дух выкрикивал эти слова из могилы, и он целый час кряду молился не переставая, – и продолжал бы молиться всю ночь, когда бы страх не стал понемногу утихать, меж тем как грудь его исторгала тревожные вздохи, под конец сменившиеся потоком слез; ему стало казаться, что Бог услышал его мольбы, ибо Он всегда, как то случилось в Ниневии, предпочтет осрамить пророка, нежели погубить хоть одну живую душу. Антон унял свою лихорадку молитвой, но снова впал бы в нее, не отыщи он своим возбужденным умом эту спасительную мысль. Так нередко одно мечтание, одно безумие излечивает человека от другого – дьявол изгоняется Вельзевулом.
Изнурительное бдение сменилось спокойным сном, и наутро Антон проснулся отдохнувшим и здоровым, но вместе с ним проснулась и мысль о смерти; он полагал, что имеет впереди лишь кратчайший срок для раскаяния и теперь следует торопиться, если он все еще надеется спасти свою душу.
И он прилагал к этому все свои силы: молился ежедневно несчетное число раз, опустившись на колени в каком-нибудь укромном уголке, и, наконец, мечтаньями своими довел себя до твердой уверенности, что снискал Божью благодать, и оттого сделался столь весел душою, что уже видел себя на небесах и скорей согласился бы умереть, чем сойти с благого пути.
Не могло, однако, обойтись, чтобы натура временами не брала свое – сколь бы необузданным фантазиям он ни предавался, – и тогда естественная любовь к жизни как таковой снова пробуждалась в душе Антона. Правда, в такие минуты мысль о предстоящей смерти была ему куда как томительна и горька: он полагал, что снова отпадает от божественной благодати, и трепетал оттого, что так и не сумел заглушить в себе голос естества.
Так он пожинал сугубые плоды суеверий, что ему внушили в раннем детстве, – страдания его были не что иное, как болезнь воображения, но оттого не теряли своей действительности и лишали его радостей юного возраста.
От своей матери он узнал, что если при мытье рук от них не исходит пар, то это верный признак скорой смерти, и теперь всякий раз, подставляя руки под воду, он чувствовал, что умирает. Еще слыхал он, что если собака завоет, опустив морду книзу, значит она чует смерть кого-то из домашних, – и с тех пор в каждом собачьем подвыванье он угадывал собственную близкую смерть. Даже если курица вдруг закукарекает по-петушиному, то и это считалось у него неложным знаком чьей-то скорой кончины, а по двору как раз бродит зловещая пророчица и все время кричит не своим голосом. Погребальный звон не казался Антону столь ужасным, как ее кукареканье, и курица эта доставила Антону больше мрачных часов, чем все остальные превратности его жизни.
Когда курица, бывало, молчала несколько дней кряду, отрада и надежда вновь возвращали его к жизни, но стоило ей подать голос, как все его надежды и упования внезапно снова рушились.
В то самое время, когда он неотлучно носился с мыслями о смерти, случилось ему в первый раз после болезни зайти в церковь к пастору Паульману. Тот стоял на кафедре и проповедовал – о смерти.
Антона словно громом поразило, ибо, приученный мыслью об особой заботе о нем божественного провидения все воспринимать на свой счет, – к кому же еще, думал он, как не к нему, могла быть обращена проповедь о смерти. Преступник, выслушивающий свой смертный приговор, не больше трепещет в своем сердце, чем трепетал Антон, внимая этой проповеди. И хотя пастор Паульман привел утешительные доводы в защиту от ужаса смерти, чтó были все эти доводы в сравнении с естественной любовью к жизни, которая, вопреки всем химерам, заполонившим голову Антона, все же в нем торжествовала?
Удрученный, с опечаленным сердцем пришел он домой и две недели провел в меланхолии, навеянной этой проповедью, которую пастор Паульман – знай он, что она произведет хотя бы на двух-трех человек такое действие, – вероятно, вовсе не стал бы читать.
Так, благодаря особой заботе Провидения, избирательно оказанной ему божественной благодатью, Антон на тринадцатом году жизни сделался законченным ипохондриком, о котором можно было не обинуясь сказать, что он ежеминутно умирал при жизни. Ему, столь постыдно лишенному наслаждений юности, теперь морочили голову россказнями о всеупреждающей божественной благодати.
Между тем вновь наступила весна, и природа, всеобщая врачевательница, понемногу стала исправлять вред, нанесенный благодатью.
Антон почувствовал прилив жизненных сил; он умывался – и от рук его снова поднимался пар, собаки перестали выть, курица – кукарекать, и пастор Паульман более не произносил проповедей о смерти.
Он возобновил свои одинокие воскресные прогулки и однажды совершенно случайно очутился перед теми самыми воротами, которыми около полутора лет назад они с отцом вошли сюда дорогой из Ганновера. Он не мог противиться желанию выглянуть за ворота и побродить по обсаженному ивами широкому тракту, когда-то им пройденному. Странные ощущения родились в тот миг в его душе. Вся его жизнь, начиная с того мгновения, когда он увидел часовых, расхаживающих по валу, и стал рисовать себе различные картины: как бы этот город мог выглядеть внутри и на что похож дом Лобенштайна, – все разом предстало в его памяти. Ему чудилось, он пробудился от какого-то сна и вот – снова вернулся туда, где этот сон начался: пестрые сцены из жизни, прожитой им в Брауншвейге за полтора года, теснились перед ним, и отдельные картины стали уменьшаться – соразмерно вдруг обретенному его душой более крупному масштабу восприятия.
Вот так могущественно действует в нас представление о месте, с коим мы скрепляем прочие наши представления. Те или иные улицы и дома, которые Антон видел ежедневно, составляли краеугольный камень остальных его представлений, – на эту основу наслаивалось все преходящее в его жизни, через нее сама жизнь обретала внутреннюю согласованность и действительное существование: через это он и мог отличать явь от сна.
В детском возрасте особенно важно, чтобы все прочие идеи были привязаны к идеям места, ибо сами они не обладают еще достаточной плотностью и потому не могут держаться сами собой.
Поэтому-то в детстве так трудно отличить сон от яви, и помнится, один из наших величайших философов, доныне живущий, рассказал мне о замечательном наблюдении подобного рода, относящемся к годам его собственного детства.
Мальчиком он часто бывал наказан розгами за обычную ночную провинность, весьма распространенную среди детей. Нередко ему очень явственно представлялось во сне, что он становится к стене и… Когда же днем он действительно подходил с этой целью к стене, то сразу вспоминал о суровом наказании, которому столь часто подвергался, – и часто подолгу выстаивал, не решаясь отдать настоятельный долг природе, пока, наконец, сообразив все обстоятельства и приняв во внимание дневное время, окончательно убеждался, что не спит.
Пробуждаясь по утрам, мы нередко наполовину еще пребываем во сне, и переход к бодрствованию совершается лишь постепенно: сперва мы начинаем ориентироваться в пространстве, потом улавливаем свет, льющийся из окна, и только тогда все мало-помалу становится на свои места.
Вполне естественно поэтому, что Антон, пожив уже несколько недель в Брауншвейге у Лобенштайна, по утрам все еще полагал, что спит, когда на самом деле уже проснулся: причина в том, что стержень, на который раньше при утреннем пробуждении нанизывались идеи вчерашнего дня да и всей его прошлой жизни и благодаря которому они обретали взаимную связь и действительное существование, теперь как бы переместился, поскольку идея места стала другой.
Так стоит ли удивляться, что перемена места столь значительно способствует тому, чтобы все, о чем на самом деле нам не хочется думать, мы воспринимали как сон и забывали?
В более позднем возрасте, особенно если человек много путешествует, связь идей с определенным местом несколько утрачивает силу. Куда бы ни попадал, он видит крыши, окна, двери, булыжные мостовые, церкви и башни – либо луга, поля, пашни и пустоши. Резкие различия скрадываются: земля повсюду одинакова.
Когда Антон впервые стал ходить по улицам Брауншвейга, то особенно по вечерам в густеющих сумерках ему иногда казалось, что все происходит во сне. Такое случалось с ним и тогда, когда улица имела отдаленное сходство с какой-нибудь из улиц Ганновера. Тогда ему порой на несколько минут чудилось, будто он снова в Ганновере: разные сцены его жизни смешивались друг с другом.
Особое наслаждение во время этих прогулок доставляли ему поиски в городе ранее неведомых ему мест. В такие минуты душа его расширялась и он как бы вырывался из узкого круга своего существования – повседневные идеи куда-то исчезали, и перед ним открывались грандиозные и влекущие виды и лабиринты будущего.
И все же ему никак не удавалось единым и всеобъемлющим взглядом охватить свою жизнь в Брауншвейге, со всеми ее многообразными изменениями. Место, где он находился, всякий раз слишком напоминало ему о каком-то одном отрезке жизни, мысль о целом еще не помещалась в его сознании; все его представления ограничивались узким кругом собственного существования.
Чтобы составить наглядную картину его здешней жизни, требовалось оборвать нити, которые привязывали его внимание к сиюминутному, повседневному и разрозненному – и вновь вернуться к той точке, откуда он созерцал свою жизнь в Брауншвейге еще прежде ее начала, когда она только брезжила перед ним в виде неясного будущего.
Именно в этой точке он и оказался, когда случайно вышел за ворота, через которые около полутора лет назад вошел в город широким трактом, обсаженным ивами, и заметил часовых, ходящих по высокому валу.
Именно это место, внезапно внушив ему воспоминание о тысяче разных мелких подробностей, снова привело его в то состояние, в каком он находился непосредственно перед началом новой жизни, предстоявшей ему в этом городе. Все происшедшее с ним за это время стеснилось в его воображении подобно толпе сквозящих теней, подобно сну. Ибо он нынешний, стоящий на мосту и глядящий ввысь на гребень вала, где виднелись часовые, точь-в-точь совпал с собою, стоявшим здесь же полтора года назад и так же глядевшим ввысь на вал. Прошлое, все сцены жизни, прожитой в Брауншвейге, предстали Антону теперь заново, но так, как он полутора годами раньше еще только воображал их себе происходящими в будущем; и до чрезмерности живое представление и память об этом месте несколько ослабили яркость воспоминаний о времени, протекшем с тех пор, – иначе, по крайней мере, трудно объяснить испытанное Антоном необычайное ощущение, подобное которому – хотя бы один раз – всякий человек может обнаружить в своей памяти.
Десять раз и более Антон замышлял покинуть город и прежней дорогой вернуться в Ганновер, но его удерживала мысль о холоде и голоде, которые его подстерегали.
Но с того дня в нем окончательно окрепло решение уйти от Лобенштайна, чего бы это ему ни стоило. Окружающее сделалось ему совсем безразлично, так как он думал, что всему этому скоро придет конец. Да и самому Лобенштайну он так опостылел, что тот, наконец, написал отцу Антона и предложил забрать сына, из которого ничего путного все равно не выходит.
Ничто не могло обрадовать Антона больше, чем известие, что отец вскорости заберет его домой. В Ганновере, рассуждал он, ему все равно предстоит набираться школьной премудрости, прежде чем его допустят к причастию, а уж там он постарается так отличиться, чтобы на него обратили внимание. И как некогда он всей душой стремился в Брауншвейг, так теперь мечтал возвратиться в Ганновер и тешил себя приятными мечтами о будущем.
Несмотря на выпавшие ему тяжкие испытания, многое в Брауншвейге все же сделалось ему дорого – настолько, что к приятным надеждам часто примешивалась грусть расставания, погружавшая его в состояние кроткой меланхолии. Часто он стоял в одиночестве на берегу Окера и – сколько доставал глаз – провожал взглядом проплывающую мимо лодочку, и тогда ему вдруг казалось, что он заглядывает в собственное туманное будущее, но стоило попытаться укрепить в себе приятную иллюзию, как она немедленно исчезала.
Тогда он устроил себе торжественное прощание с теми местами города, которые посещал во время воскресных прогулок и теперь с грустью покидал, не надеясь их больше увидеть.
Он также выслушал несколько проповедей пастора Паульмана, и некоторые места из них навсегда запечатлелись в его памяти.
Неизгладимое впечатление произвел на него возрастающий аффект, с каким пастор Паульман говорил о страстях Иисуса: с состраданием смотрит Он на своих палачей и молится, молится, молится – Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят!
И еще запомнилось Антону – в речи пастора Паульмана об исповеди, посвященной евангельскому рассказу о прокаженном, коему велено было показать себя священнику, обращение к лицемерам, добросовестно соблюдающим всю внешность религии, но имеющим в груди злое сердце; каждый период этой проповеди начинался так: вы приходите в исповедальню, вы показываетесь священнику, но он не может заглянуть в ваше сердце – и т. д. Чуть позже в той же проповеди повторялось выражение, которое чрезвычайно растрогало Антона: «вы пребудете на небеси». Последнее слово, которое проскальзывало как-то слишком быстро, самим своим звуком вызывало в нем слезы каждый раз, когда он о нем вспоминал.
Столь же чарующе звучало для него и другое выражение, очень часто встречавшееся в проповедях пастора Паульмана, – вершины разума, и тому были особые причины, которые в дальнейшем не остались без последствий. Церковный клирос, где стоял орган и пел хор мальчиков, казался ему чем-то недосягаемым; часто он с тоской засматривался на него и не мечтал об ином счастье, как когда-нибудь подробно разглядеть чудесное устройство органа и то, что находилось рядом с ним, – ведь он мог видеть все это лишь издали. Эта фантазия соединялась у него с другой, привезенной еще из Ганновера, – уже там его приводила в восхищение некая башня, и он завидовал музыкантам городского оркестра, стоявшим на ее галерее и трубившим с высоты по утрам и вечерам.
Он мог часами разглядывать эту галерею, казавшуюся снизу очень маленькой, ниже колена, хотя головы музыкантов, дувших в свои инструменты, едва виднелись из-за ее парапета, и не отводить глаз от циферблатa, о котором люди, побывавшие наверху, уверяли, что он величиной с колесо телеги, хотя снизу выглядел не больше тачечного колеса. Все это до крайности возбуждало его любопытство, и он по целым дням не мог ни о чем другом думать и ничего желать, кроме как рассмотреть поближе галерею и циферблат.
Через звуковые отверстия над галереей можно было видеть и колокола, и Антон чуть ли не пожирал глазами это небывалое представление: огромная металлическая машина, производившая оглушительный звон, попеременно вздымалась и опускалась под действием железных балок, на которые ступали ногами люди, казавшиеся на большой высоте совсем крошечными.
Антону чудилось, будто он заглянул в глубочайшее чрево башни и ему открылся сокровенный источник чудесного звука, которому он прежде с волнением внимал лишь издалека. Однако это нисколько не утолило, но напротив, еще больше разожгло его любопытство: он видел лишь один гигантский бок вздымавшегося колокола, но не весь колокол целиком. О величине этого колокола он слышал еще в детстве, и воображение увеличивало его несчетно, рождая в душе самые романтические и невероятные фантазии.
В те времена, когда он страдал от боли в ноге, томился под родительским гнетом, – в чем находил он утешение? Что было сладчайшей мечтой его детства, заветнейшим желанием, заставлявшим его забыть обо всем на свете? Не что иное, как поближе рассмотреть циферблат и галерею на башне в новой части Ганновера, а заодно и колокол, который там висел.
Более года игра фантазии скрашивала печальнейшие часы его жизни, но ему пришлось оставить Ганновер, увы, так и не осуществив своей заветной мечты. Однако образ башни никак не шел у него из головы, последовал за ним в Брауншвейг и часто являлся ему во сне – высокие лестницы, лабиринты извилистых переходов: он поднимается на башню, стоит на галерее, с невыразимым наслаждением прикасается к башенному циферблату и внутренним зрением вблизи осматривает большой колокол, бесчисленные маленькие колокола и другие чудесные вещи, пока не ударяется головой о неохватный край большого колокола и не просыпается.
Вот почему стоило пастору Паульману заговорить о вершинах разума, как Антон с замиранием сердца вспоминал о вершине облюбованной им башни, о ее колоколе и циферблате, о высоких хорах, где помещался орган в Брюдернкирхе, и тогда в нем снова оживала тоска и при словах вершины разума из глаз текли слезы печали.
Умозрительную часть проповедей, произносимую пастором Паульманом с невероятной быстротой, Антон не улавливал, потому что не мог поспеть за ним своей мыслью. Но в ожидании увещевательной части он и эту слушал с большим наслаждением – ему казалось, будто сперва собираются тучи, чтобы чуть позже их рассеяла благодатная гроза или растворил теплый дождь.
Но однажды он пришел в церковь с намерением послушать проповедь пастора Паульмана и по возвращении домой записать ее. Внезапно туман в душе его прояснился – внимание сосредоточилось на другом: раньше он слушал сердцем, теперь же впервые стал воспринимать разумом и жаждал не только потрясения от того или иного места, но хотел уловить весь смысл проповеди целиком, и умозрительная ее часть увлекла его не меньше, чем увещевательная. Проповедь посвящалась любви к ближнему: сколь счастливы были бы люди, если бы каждый радел о благе остальных, а все – о благе каждого в отдельности. Эта проповедь, со всеми ее пунктами и подпунктами, прочно запечатлелась в его памяти, он слушал ее с намерением записать, что и сделал, вернувшись домой, после чего прочел ее вслух Августу, чем привел его в изумление.
Можно сказать, что запись этой проповеди подстегнула развитие разумных способностей Антона, ибо с того времени его мысли стали постепенно приходить в общий порядок – он научился самостоятельно размышлять о различных предметах и пытался выразить свои мысли, а поскольку вокруг не было никого, кому бы он мог их передать, он стал составлять письменные сочинения, пусть порой и довольно странные. Ведь если раньше он разговаривал с Богом устно, то теперь вступил с ним в переписку – сочинял длинные молитвы, в которых описывал свое душевное состояние.
Тяга к писательству развивалась в нем тем сильней, что он был полностью лишен чтения, так как Лобенштайн уже давно не давал ему ни одной книги, исключая подаренного Антону Энгельбрехтова «Описания Рая и Ада для Общества ткачей-полотнянщиков в Винзене-на-Аллере».
Большего пройдохи, чем этот Энгельбрехт, нельзя было сыскать во всем свете. Говорили про него, что он умер, затем заново ожил и убедил свою старую бабку, что побывал на небесах и в аду, женщина разнесла это по округе – так и появилась эта необыкновенная книга.
У этого плута хватило наглости утверждать, будто он парил по небу подле Христа и ангелов, держал в одной руке Солнце, в другой Луну и пересчитал все звезды на небе.
Однако уподобления его были порой весьма наивны: к примеру, он сравнивал небо с изысканным винным супом, коего людям на земле довелось отведать всего лишь несколько капель, но когда-нибудь его можно будет есть ложками, небесная же музыка превосходит земную, как прекрасный концерт – подвывание волынки или гнусавый звук, издаваемый рожком ночного сторожа.
А уж почетом, оказанным ему на небесах, он не мог вдоволь нахвастаться.
В отсутствие более питательных блюд душа Антона поневоле довольствовалась этой случайной стряпней, впрочем, занимавшей хотя бы его воображение. Разум его оставался при этом как бы неподвижным: он не верил в эти россказни, но и не сомневался в них – просто живо представлял себе все, о чем говорилось.
Между тем досада и гнев Лобенштайна на Антона стали все чаще выходить наружу тычками и бранью. Шляпник отравлял ему жизнь ужасным образом, заставляя выполнять самую рабскую и унизительную работу. Но ничто не ранило Антона сильнее, чем тот случай, когда ему впервые в жизни пришлось пройти по оживленной улице c тяжелой корзиной на спине, доверху набитой шапками, сам же Лобенштайн шествовал далеко впереди – Антону тогда казалось, что вся улица только на него и смотрит.
Когда приходилось нести какой-либо груз, под мышкой или в обеих руках, Антон никогда не испытывал стыда, – скорее гордость. Но идти согбенным, подставив шею под ярмо, подобно вьючному животному, послушно следующему за хозяином, – это сгибало и его дух, делая ношу тысячекратно тяжелее. От усталости и стыда он готов был провалиться сквозь землю, не донеся груз до места.
А местом этим был цейхгауз, служивший складом для шапок, сшитых по армейскому заказу. Нисколько не меньше, чем рассмотреть колокола и циферблат на башне в новой части Ганновера, Антон мечтал увидеть изнутри этот цейхгауз, мимо которого он столько раз проходил, даже не надеясь когда-нибудь удовлетворить свое желание. Но теперь все удовольствие было напрочь отравлено.
Ноша на спине подломила его дух сильнее, чем любое другое испытанное им унижение, больше, чем брань и тумаки Лобенштайна. Пасть ниже уже невозможно, думал он и представлялся себе едва ли не самым никчемным и забитым существом. Эта ситуация стала одной из самых страшных во всей его жизни и позже вспоминалась ему всякий раз, как он видел какой-нибудь цейхгауз, живо вставая перед глазами при слове ярмо.
Когда случалось нечто подобное, он старался спрятаться от людей, малейшие звуки веселья делались ему ненавистны; он спешил укрыться за домом, в одном местечке на берегу Окера и просиживал там часами, с задумчивой тоской созерцая течение реки. А если в такую минуту до него случайно доносился человеческий голос из соседнего дома или он слышал пение, смех, разговоры, ему казалось, что мир глумится над ним – настолько презренным и ничтожным ощущал он себя после того, как склонил шею под ярмо той корзины.
Он находил даже особый род удовольствия, присоединяясь к этому глумлению, которое чудилось его мрачной фантазии. В одну из таких ужасных минут, когда он в отчаянии разразился над собой саркастическим смехом, отвращение к жизни достигло в нем такой силы, что он весь задрожал и зашатался, стоя на узком помосте. Ноги его подкосились, и он рухнул в реку. Ангелом-хранителем его стал Август, который уже несколько времени стоял незамеченным за его спиной, он и вытащил его за руку из воды. Однако рядом случились люди, скоро сбежался весь дом, и с той минуты Антон прослыл опасным человеком, от коего следовало избавиться как можно скорее. Лобенштайн немедля отписал об этом происшествии отцу Антона, и через две недели тот, обеспокоенный, уже был в Брауншвейге, чтобы вернуть в Ганновер своего скверного сына, в чьем сердце, по мнению господина Фляйшбайна, дьявол возвел себе незыблемое святилище.
Антон оставался у шляпника Лобенштайна еще несколько дней и в присутствии отца с удвоенным рвением выполнял свои обязанности, находя удовлетворение в том, чтобы напоследок приложить к работе все свои силы. Мысленно он прощался с мастерской, сушильней, с дровяным чердаком, с Брюдернкирхе, и заветным его желанием было по приезде в Ганновер рассказать матери о пасторе Паульмане.
Чем меньше дней оставалось до расставания, тем легче становилось у него на сердце. Скоро он сбросит с себя томительный гнет и перед ним снова откроется широкий мир.
Прощание с Августом было сердечным, с Лобенштайном – холодным как лед. Хмурым воскресным днем Антон вместе с отцом покинул дом шляпника – в последний раз бросил взгляд на черную дверь, обитую большими гвоздями, и удовлетворенный вышел за ворота, за которыми еще совсем недавно совершил столь увлекательную прогулку. Высокий городской вал и башня св. Андрея вскоре пропали из виду, в сумеречной дали виднелась лишь заснеженная вершина Брокена, терявшаяся в низких густых облаках.
Отец держался с ним холодно и замкнуто, поскольку смотрел на него глазами шляпника Лобенштайна и господина Фляйшбайна как на человека, в чьем сердце возвел свое святилище дьявол; по пути они разговаривали мало, шли молча, и Антон почти не заметил, как пролетело время – всю дорогу он приятно собеседовал с собственными мыслями – ему не терпелось увидеть мать и братьев и рассказать им о превратностях своей судьбы.
Наконец четыре красивые башни Ганновера воздвиглись над горизонтом – как старинного друга после долгой разлуки, Антон узнал башню в новой части города и ощутил пробуждение своей старой любви к колоколам…
Он снова оказался в стенах Ганновера, и все здесь было ему ново – родители его переселились на другую квартиру, более тесную и темную, в отдаленной части города. Все это представлялось ему столь чуждым, что, поднимаясь по лестнице, он чувствовал, что совсем не принадлежит к этому дому. Но сколь холодным и отталкивающим было поведение отца, столь радостно-возбужденными криками встретили его мать и братья – они осмотрели его потрескавшиеся от мороза руки, и впервые за долгое время он вновь почувствовал, что его жалеют.
Выйдя из дому на следующее утро, он посетил знакомые места, где когда-то играл ребенком. Ему представилось, что за прошедшее время он повзрослел и теперь хочет предаться воспоминаниям о своей юности; он повстречал компанию своих бывших одноклассников и товарищей детства, все они, обрадованные его приездом, жали ему руку.
Когда же он наконец остался наедине с матерью, мог ли он первым делом не рассказать ей о пасторе Паульмане? Она всегда питала безграничное уважение к священству и вполне разделила чувства Антона к пастору. Каким несказанным блаженством были освящены эти часы, когда Антон смог излить свою душу и вдоволь наговориться о человеке, которого любил и почитал более всех остальных на целом свете!
Теперь он послушал и ганноверских проповедников, но – никакого сравнения с Паульманом! Он так и не смог нигде найти второго Паульмана – разве лишь некий Н. отчасти напоминал его, когда во время проповеди приходил в сильное возбуждение.
Никакой проповедник, хоть немного уступавший пастору Паульману в быстроте речи, не мог снискать расположения Антона, и – если в проповеднике видеть оратора – не знаю, так ли уж Антон был неправ. Учитель должен говорить медленно, оратор – быстро. Учитель просвещает разум постепенно, оратор овладевает сердцами с бою: разум должно вводить в действие медленно, сердце – как нельзя быстрее, если мы не хотим потерпеть неудачу. Правда, плох тот учитель, который временами не выступает оратором, и плох тот оратор, который никогда не делается учителем, однако Фокс, выступая в английском парламенте, всегда говорит с невероятной быстротой, и этот ревущий поток увлекает за собой всех и вся, потрясая души слушателей – так же, как пастор Паульман потрясал души своей проповедью о лжесвидетельстве.
Однажды Антону довелось – с превеликим неудовольствием – прослушать в гарнизонной церкви Ганновера воскресную проповедь священника по имени Марквард, также не имевшего ни малейшего сходства с пастором Паульманом, более того, своей медлительной и спокойной речью составлявшего ему почти прямую противоположность. Воротясь домой, Антон не мог удержаться и поделился с матерью острым чувством неприязни к этому проповеднику, но каково же было его удивление, когда мать сказала ему, что этот священник – ее духовник, что она принадлежит к его приходу и Антону придется посещать его занятия по Закону Божию, исповедоваться ему и принимать от него причастие.
Мог ли Антон тогда поверить, что этот человек, вызвавший у него неодолимую антипатию, впоследствии привлечет к себе его любовь, станет ему другом и благодетелем?
Между тем произошло событие, повергнувшее Антона, и без того склонного к унынию, в еще более мрачное настроение: его мать опасно заболела и две недели находилась на грани жизни и смерти. Тогдашнее состояние Антона не поддается описанию. Ему казалось, он отходит вместе с нею, настолько само его внутреннее существо было с ней слито. Узнав, что доктор уже не верит в ее выздоровление, он проплакал несколько ночей напролет. Сама мысль, что он может пережить мать, надрывала душу. Что же могло быть естественней его состояния, если он чувствовал себя покинутым всем миром и обретал себя лишь в ее любви и доверии!
Пришел пастор Марквард и причастил мать Антона святых тайн – тогда Антон окончательно уверился, что надежды нет, и отдался безутешному горю. Он молил Бога о спасении жизни матери, и тут ему вспомнился царь Езекия, получивший от Бога знак, что его просьба услышана и жизнь продлена.
Подобного знака стал теперь искать и Антон, высматривая, не двинется ли назад тень по садовой стене. И действительно, тень в конце концов как будто несколько отступила – оттого ли, что на солнце набежало легкое облако, или его фантазия сама немного отогнала ее прочь, но с этой минуты Антон обрел новую надежду и его мать действительно стала выздоравливать. Он снова воспрянул духом и не жалел усилий, чтобы заслужить любовь родителей. Но с отцом отношения у него не ладились, по его возвращении из Брауншвейга тот испытывал к нему лишь острое, непреодолимое отвращение, которое выказывал по любому поводу – его попрекали даже едой, и часто Антону приходилось в прямом смысле есть свой хлеб со слезами.
В таком положении единственным его утешением стали одинокие прогулки с двумя младшими братьями – с ними он совершал регулярные вылазки на валы, окружавшие город, при этом всякий раз избирал какую-нибудь цель, ради которой все они и отправлялись в это как бы далекое путешествие.
С ранних лет он любил это занятие: едва научившись ходить, уже ставил себе целью добраться до конца улицы, где жил с родителями, и на этом замыкались его тогдашние маленькие прогулки.
Теперь же Антон превращал вал, на который взбирался, в гору, кустарник, сквозь который продирался, – в лес, а маленький холмик в городском рве – в одинокий остров. Так на пятачке в несколько сотен шагов он пускался с братьями в многомильные путешествия. Он забывал все на свете и не раз терялся с ними в лесах, карабкался на высокие утесы, высаживался на необитаемые острова – иными словами, вместе с братьями, как мог, воссоздавал идеальный мир, который выдумывал по прочитанным романам.
Дома он затевал с ними различные игры, которые нередко заканчивались плачевно – осаждал города, брал приступом крепости, построенные из книг мадам Гийон, обрушивая на них бомбы из диких каштанов. Время от времени он проповедовал, и тогда братьям полагалось внимательно его слушать. Однажды он соорудил себе кафедру из стульев, а братьев усадил на ножные скамейки. Проповедуя, он пришел в такое исступление, что рухнул со своей кафедры на пол и спинкой стула разбил головы обоим мальчикам. Крики и суматоха отдались по всему дому – явился отец и принялся весьма немилосердно воздавать Антону за его старания. Мать, прибежавшая следом, попыталась вырвать его из рук родителя, но не сумела – гнев ее обратился в противоположную сторону, она тоже изо всех сил стала колотить Антона, и никакие мольбы и просьбы не спасли его от побоев. Наверно, ни одна проповедь не заканчивалась столь прискорбно, как первая проповедь Антона. Память об этом происшествии еще долго приводила его в содрогание даже во сне.
И все же случившееся не отпугнуло Антона: он еще чаще стал всходить на свою кафедру, чтобы от начала до конца – с цитатами из Евангелия и правильным расположением частей – прочитать записанную проповедь на ту или иную тему. Ибо с тех пор, как он впервые записал проповедь пастора Паульмана, ему стало легче упорядочивать свои мысли и связывать их друг с другом.
Теперь не проходило воскресенья, чтобы Антон не записал выслушанную проповедь, и вскоре он приобрел такую сноровку, что мог по памяти восстановить опущенные части: записав лишь главные мысли, он затем дома почти полностью воссоздавал всю проповедь на бумаге.
Антону шел уже пятнадцатый год, и, чтобы принять конфирмацию, то есть вступить в лоно христианской церкви, ему надобно было некоторое время посещать занятия по Закону Божию в какой-нибудь школе.
В Ганновере существовал институт, готовивший учителей для сельских школ, и в его стенах – бесплатная школа, где будущие учителя упражнялись в педагогическом искусстве. Таким образом, эту школу учредили для пользы учителей, от самих же учителей пользы здесь было немного. Поскольку, однако, школьникам не приходилось платить за науку, то сие заведение сделалось подлинным прибежищем для бедняков, которые могли обучать там своих детей совершенно задаром, а так как отец Антона отнюдь не горел желанием чрезмерно тратиться на своего пропащего и отлученного от Божией благодати сына, то в конце концов и отвел его в эту школу, где тот, как это с ним случалось и раньше, вознадеялся обрести совершенно новый жизненный путь.
Наутро в первый же час занятий Антону предстало торжественное зрелище: все будущие учителя и обоего пола ученики, собравшиеся в классной комнате. Инспектор этого заведения, лицо духовного звания, каждое утро проводил с учениками уроки катехизации – как образец для учителей. Последние сидели за столами, записывая вопросы и ответы, а инспектор расхаживал по классу и задавал вопросы. На послеобеденных занятиях кто-нибудь из учителей в присутствии инспектора повторял со школьниками тот же урок, что был преподан утром.
Записывание давно сделалось для Антона наилегчайшим делом, и когда учитель вечером повторял утренний урок, у Антона он был уже записан – и куда полнее – на дощечке для письма, и он мог ответить даже больше, чем у него спрашивали, – этим он привлек к себе мимолетное внимание инспектора, что чрезвычайно ему польстило.
На следующий день, однако, дабы он не слишком превозносился своим счастьем, ему было уготовано унижение, едва ли не более тяжкое, чем он испытал в Брауншвейге, когда ему впервые пришлось тащить на спине корзину.
Вторым уроком следующего дня было чтение – вызванный мальчик побуквенно разбирал какой-либо слог и зычно его выкрикивал, вслед за чем остальные хором громогласно за ним повторяли. Крик, от которого звенело в ушах, да и само упражнение показались Антону чистым безумием; гордый своим умением читать бегло и выразительно, он был изрядно смущен тем, что теперь его заново учат разбирать слоги. Между тем очередь выкрикивать очень скоро, с быстротой лесного пожара, добежала и до него – но Антон онемел, не в силах произнести ни звука, вмиг нарушив гармонию всего этого музыкального великолепия. «Ну же!» – проговорил инспектор, но, увидев, что дело не идет, окинул его презрительным взглядом: «Тупица!» – и показал на следующего. В эту минуту Антон почувствовал себя совершенно раздавленным, ибо глубоко упал во мнении человека, на одобрение которого столь твердо рассчитывал, но который даже не верит в его способность разбирать буквы.
Если раньше, в Брауншвейге, под тяжким грузом согнулось его тело, то насколько сильнее теперь поник его дух под тяжестью слова «тупица!», брошенного инспектором.
Правда, теперь о нем можно было сказать, как о Фемистокле, подвергшемся, как и он, публичному поношению в юности: «non fregit eum, sed erexit»[5]. Отныне он удесятерил свои старания, чтобы заслужить уважение учителей и тем как бы устыдить инспектора, ложно о нем помыслившего, и пробудить в нем раскаяние за несправедливо нанесенную обиду.
Утренние занятия инспектор ежедневно посвящал подробному изъяснению догматов лютеранской церкви с опровержением мнений папистов и реформатов, беря за основу Гезениево толкование Малого катехизиса Лютера. И хотя голова Антона оказалась оттого забита всяким ненужным хламом, он научился делить материал на главы и подразделы и вносить систему в свои мысли.
Его записные тетради пухли с каждым днем все быстрее, и менее чем за год он в совершенстве овладел догматикой, мог подтвердить ее положения цитатами из Библии, оспорить доводы язычников, турок, иудеев, греков, папистов и реформатов, умел как по писаному говорить о пресуществлении даров, о пяти ступенях возвышения и унижения Христа, об основах коранической веры, и ему ничего не стоило развеять сомнения вольнодумцев неопровержимыми доказательствами бытия Божия.
Он и вправду стал говорить обо всех этих предметах как по писаному. Теперь у него был богатый материал для проповедей, и братьям приходилось выслушивать содержимое его записных тетрадей, доносимое до них с «головоломной» кафедры, устроенной в комнате.
По воскресеньям его иногда приглашал к себе один из его кузенов, собиравший у себя общество подмастерьев; здесь он становился к столу и произносил перед этим собранием проповедь на избранную тему по полной форме, с цитатами из Писания и правильным разделением на части, в которой он обычно опровергал учение папистов о пресуществлении даров и доводы тех, кто отрицал существование Бога, с большим пафосом перечисляя доказательства бытия Божия и представляя во всей его нищете учение о случайных действиях Бога.
В институте, где обучался Антон, существовал обычай – всем взрослым людям, готовившимся стать школьными учителями, каждое воскресенье расходиться по разным церквам и записывать проповеди, которые затем представлялись на просмотр инспектору. Антон стал находить еще больше удовольствия в записывании проповедей, так как видел, что занимается одним делом со своими учителями, те же из них, кому он показывал записанные им проповеди, проникались к нему все большим уважением и стали относиться к нему почти как к равному.
В конце концов у Антона составился толстый том записанных проповедей, он хранил их как величайшую ценность, особенно же дорожил двумя, считая их подлинными жемчужинами своего собрания. Первой была проповедь на тему Страшного суда, прочитанная в церкви св. Эгидия пастором Уле, имевшим много сходства с пастором Паульманом по быстроте речи. С превеликим воодушевлением, и не раз, Антон произносил перед матерью эту проповедь, в которой распадение элементов, крушение мироздания, страх и трепет грешников, с одной стороны, и радостное воскресение праведников, с другой, были представлены в контрасте, до крайности возбуждавшем фантазию, что было Антону весьма по душе: он не любил холодных рассудочных проповедей. Вторую проповедь, весьма им ценимую, прочитал, прощаясь со своим приходом, пастор Леземан в церкви Креста – на всем протяжении она прерывалась слезами и рыданиями, столь любим был этот пастор прихожанами. Трогательный пафос этой проповеди произвел на Антона неизгладимое впечатление, и он не мог мечтать о большем счастье, как произнести когда-нибудь перед таким же скоплением народа, плачущего вместе с ним, подобную же прощальную речь.
Тут он был совершенно в своей стихии, испытывая невыразимое наслаждение от наполнявших его горестных чувств. Пожалуй, никто не испытывал большего удовольствия от проливаемых слез (the joy of grief) в подобных случаях. Столь сильное потрясение души при столь горячих проповедях было для него высшим блаженством, ради коего он бы с радостью пожертвовал и сном, и пищей.
Чувство дружеского расположения также обрело у него теперь новую питательную почву. Он воистину полюбил некоторых своих учителей и страстно влекся к их общению. Особенно сильно проявлялась его дружба к некоему Р., человеку внешне грубому и суровому, на деле же обладавшему благороднейшим сердцем, какое только могло обретаться в груди будущего деревенского учителя.
Антон брал у него частные уроки счета и письма, которые оплачивал отец, полагая, что счет и письмо – единственные предметы, каковые стоит труда преподавать Антону. Р. очень скоро предоставил Антону, уже хорошо владевшему орфографией, свободу самому придумывать для себя упражнения и высказывал ему одобрение, настолько Антону польстившее, что он наконец решился открыть этому учителю свое сердце и разговаривал с ним так искренне и чистосердечно, как уже давно ни с кем не говорил.
Он открыл ему свою неодолимую тягу к учению, рассказал о жестокосердии отца, пресекавшего это его стремление и позволявшего ему учиться лишь ремеслу. Суровый Р., казалось, был тронут таким доверием и побуждал Антона рассказать обо всем инспектору, который скорее поможет ему достичь этой цели. Инспектор был тот самый, что презрительно обозвал Антона тупицей, когда тот не захотел выкрикивать буквы перед классом, и он не мог забыть этого случая и теперь колебался, стоит ли открывать такому человеку свое стремление к учебе, если тот сомневается даже в его способности составлять слова из букв.
Между тем уважение, которое Антон снискал в этой школе, день ото дня росло, и он наконец добился желаемого – стать первым и привлечь к себе всеобщее внимание. Все это, конечно, настолько льстило его тщеславию, что в мыслях он уже воображал себя проповедником, особенно когда надевал черную сорочку, – в эти дни и его походка, и выражение лица приобретали особую важность.
Каждый раз в конце недели, по субботам, после общего исполнения песни «Узреть сей день мне дал Господь», один из учеников читал длинную молитву. Когда очередь доходила до Антона, для него это было истинным праздником – он воображал себя на кафедре собирающим мысли при последних стихах песни, чтобы затем, как пастор Паульман, излиться в горячей молитве. Надо сказать, однако, что декламация Антона отличалась излишней напыщенностью, и это бросалось в глаза. Вот почему учитель не слишком часто вызывал его для чтения молитвы.
Вдобавок учителя под конец стали испытывать к нему нечто похожее на зависть. Один из них задал ученикам такое упражнение: пересказать своими словами какую-то из «Библейских историй» Хюбнера. Антон разукрасил эту историю всевозможными фантазиями в поэтическом роде и пересказал ее с риторическими ухищрениями – это покоробило учителя, и он сделал Антону замечание, что следует рассказывать короче. В следующий раз Антон сократил свой рассказ до нескольких предложений и уложился в две минуты. Теперь его ответ показался учителю чересчур коротким и снова его рассердил; кончилось тем, что он вовсе перестал поручать ему пересказывать эти истории. На дневных занятиях учителя боялись задавать ему вопросы по катехизису, потому что он всегда успевал записать больше, чем они, и получилось так, что он вовсе лишился возможностей проявить свои таланты, то есть достичь своей заветной мечты – привлечь к себе всеобщее внимание.
Полный досады на то, что учителя его не спрашивают и ему дни напролет приходится сидеть как немому, он наконец, с глазами, полными слез, отправился к инспектору, который по утрам спрашивал его довольно часто и, казалось, изменил свое мнение о нем. Инспектор спросил у него, что стряслось и не допустил ли кто из учеников несправедливости к нему. Из учеников никто, ответил Антон, но учителя обходятся с ним несправедливо – никто из них не вызывает его на уроках, они им пренебрегают, никогда его не спрашивают, хотя он знает предмет лучше остальных. Он просит восстановить справедливость!
Инспектор постарался разубедить Антона и оправдать поведение учителей большим количеством учеников, однако с того дня стал относиться к нему внимательней и спрашивал его на утренних занятиях чаще, чем прежде.
Один раз в неделю проводилось занятие по псалмам: каждый ученик обязан был выбрать из них какое-нибудь поучительное место и записать его на листке бумаги или на грифельной доске, а потом прочитать вслух, что многих заставляло изрядно попотеть. На одном из таких занятий присутствовал инспектор. Антон ничего не записал, но когда настал его черед, продекламировал весь псалом, присовокупив порядочный трактат или проповедь на ту же тему. Говорил он добрых полчаса, так что инспектор в конце концов его остановил: «Довольно!» – и добавил, что нужно было не толковать весь псалом, но лишь извлечь из него моральное поучение.
Таким-то образом прошел без малого год, Антон достиг необычайных успехов своим прилежанием и вел себя столь безупречно, что его цель – привлечь к себе всеобщее внимание – оказалась более чем достигнута, он даже вызвал зависть своих учителей.
Теперь, однако, для него настала решающая минута, когда он должен был выбирать жизненный путь, а суровость отца, хлопотавшего лишь о том, как бы отделаться от Антона, возрастала день ото дня, так что школа сделалась едва ли не единственным надежным прибежищем, где он мог укрыться от домашних притеснений и преследований.
Любимого его преподавателя Р. отослали учительствовать в деревню, и теперь у Антона не осталось подлинного друга среди учителей. Прощаясь с Антоном, Р. снова советовал ему обратиться к инспектору, а поскольку медлить с принятием решения было уже никак нельзя, Антон с колотящимся от волнения сердцем отважился просить инспектора выслушать его, ибо он хочет поговорить с ним о важном деле. Инспектор привел его в свой кабинет, где Антон, почувствовав себя свободнее, поведал ему о превратностях своей судьбы и полностью ему открылся. Инспектор рассказал Антону об ожидающих его трудностях, о расходах на обучение, однако не стал вовсе лишать его надежды, но обещал употребить возможные усилия, чтобы он мог бесплатно посещать школьные уроки латыни. Все это, однако, отодвигалось в далекое будущее, так как Антон не мог рассчитывать на поддержку родителей даже в отношении жилья и питания, тем более что его отец получил скромное место за шесть миль от Ганновера и вскоре намеревался уехать из города.
Между тем инспектор переговорил о деле Антона с консисторским советником Гёттеном, в ведомстве которого состоял педагогический институт, и тот вызвал Антона к себе. При виде почтенного старца Антон поначалу совершенно упал духом, так что у него задрожали колени, но когда тот приветливо пожал ему руку и обратился к нему мягким голосом, Антон заговорил совершенно свободно и признался в своей любви к учению. Консисторский советник велел ему прочесть вслух одну из духовных од Геллерта, чтобы проверить его выговор и силу голоса, раз уж Антон собрался посвятить себя проповедничеству. Выслушав, он пообещал Антону обеспечить бесплатное обучение и снабдить нужными книгами, но это и все, что он мог для него сделать. От этих слов Антон преисполнился несказанной радости, благодарность его не знала границ, и ему казалось, он уже преодолел все мыслимые препятствия, а что помимо обучения и книг ему понадобятся пища, жилье и платье, даже не приходило ему в голову.
С ликованьем он поспешил домой и объявил родителям о свалившемся на него счастье. Но как же померкла его радость, когда отец с холодным видом объявил, что, если Антон собрался учиться, он не намерен давать ему ни гроша; вот коли тот сможет сам добывать себе деньги на хлеб и платье, то он против его учения возражать не станет. Через несколько недель сам он уезжает из Ганновера, и если Антон к тому времени не отыщет себе места в какой-нибудь ремесленной мастерской, интересно будет поглядеть, как он выпутается из своего положения и не согласится ли кто из его наставников в учебе платить также за его содержание.
Подавленный и унылый, Антон бродил по улицам, раздумывая о своей судьбе. Мысль об учении глубоко сидела в его душе, и хотя впереди его ожидало много трудностей, в голове бродило множество планов. Он вспомнил, как когда-то читал о некоем греческом юноше, который страстно влекся к наукам и ради пропитания рубил дрова и носил воду, а все свободное время посвящал учению. Означенному примеру он и решил было последовать – наняться поденщиком на несколько часов в день, с тем чтобы остальное время иметь в своем распоряжении, однако вскоре понял, что в таком случае не сможет регулярно посещать занятия, и оттого его раздумья и размышления становились все неопределеннее и печальнее. Меж тем решающий миг, когда предстояло принять какое-нибудь решение, неумолимо приближался. Теперь ему пришлось оставить школу, в которой учился, и несколько времени провести в гарнизонной школе, так как руководить его конфирмацией будет гарнизонный проповедник Марквард, чьи подготовительные занятия и уроки катехизиса он и начал посещать, причем Марквард, заметивший его хорошие ответы, был с ним весьма внимателен. Сам же Антон, поначалу не имевший к нему никакого доверия, не решался поведать ему о своих горестях.
Поскольку теперь никаких основательных видов на учение у Антона не оставалось, ему приходилось лишь решить, за какое ремесло взяться, но тут, против всякого ожидания, одно по видимости незначительное происшествие придало новый поворот его судьбе и изменило всю его будущую жизнь…
Часть вторая
Чтобы предупредить в дальнейшем превратные суждения об этой книге, отчасти уже имеющие хождение, я почитаю своим долгом объяснить, что сочинение, названное мною – по причинам, думаю, вполне очевидным – психологическим романом, является биографией в прямом смысле слова, сиречь самым истинным и достоверным описанием человеческой жизни в тончайших ее подробностях, какое только возможно себе представить.
Читатель, полагающий полезным подобное верное жизнеописание, не смутится обилием мелочей и подробностей, поначалу кажущихся вовсе незначительными, но примет в рассуждение, что искусно сплетенная ткань человеческой жизни вся состоит из несчетного множества подобных частностей, чрезвычайно важных в их общем переплетении, сколь бы незначительными они сами по себе ни представлялись на первый взгляд.
Те, кто с подобающим вниманием рассмотрит собственную протекшую жизнь, поначалу заметят в ней лишь бессмыслицу, разорванные нити, спутанные клубки, темноту и мрак; но чем пристальней они в нее вглядываются, тем более рассеивается перед ними тьма, бессмысленное наполняется смыслом, разорванные нити вновь свиваются, хаос и сумятица приходят в порядок – и какофония незаметно обращается в гармонию и благозвучие.
Происшествие, неожиданно придавшее судьбе Антона Райзера счастливый оборот, состояло в том, что он подрался на улице с двумя мальчишками, вместе с ним вышедшими из школы и всю дорогу его дразнившими, пока наконец у него не лопнуло терпение и он не вцепился им в волосы, и в этот самый миг к ним приблизился пастор Марквард. Каково же было смущение и замешательство Райзера, когда оба приятеля показали ему на пастора и со злорадством стали расписывать, как тот теперь обрушит на него свой гнев.
Как? Я и сам хочу когда-нибудь стать столь же почтенным человеком, как тот, что приближается к нам, хочу, чтобы все об этом узнали уже сейчас, – тогда, быть может, кто-нибудь захочет мне помочь и вытащит меня из грязи, и вот я застигнут здесь этим самым человеком, моим конфирматором, как раз, когда мне следовало бы предстать перед ним в наилучшем свете? Что он теперь обо мне подумает, за кого меня сочтет?
Эти мысли пронеслись в голове Райзера и настолько его оглушили, что от смущения, стыда и презрения к себе он готов был провалиться сквозь землю. Однако он взял себя в руки, чувство уверенности в себе победило удушающий стыд, наполнило его мужеством и доверием к пастору Маркварду – он быстро собрался с духом, смело подошел к пастору и, обратившись к нему прямо посреди улицы, сказал, что он один из тех мальчиков, кто ходит к нему в детские классы, и потому пастор не должен сердиться на него за эту драку, – вообще-то он никогда не позволяет себе такого, просто они сами к нему приставали, но больше это не повторится.
Пастор Марквард очень удивился, что к нему прямо на улице с подобной речью обращается незнакомый подросток, только что дравшийся с другими мальчишками. Выдержав небольшую паузу, он ответил: да, ввязываться в драку дурно и никуда не годится, однако если впредь подобное не повторится, то и говорить тут больше не о чем; затем он осведомился об имени Антона, расспросил, кто его родители, в какой школе он учится, и отпустил с миром. Как же обрадовался Райзер и какой груз свалился у него с души, когда он выпутался из опасного положения!
Но насколько сильнее он бы радовался, если бы знал, что это нечаянное происшествие скоро положит конец его томительным тревогам и составит основу его будущего счастья. Ибо после того случая пастор Марквард вознамерился ближе познакомиться с юношей и принять деятельное участие в его судьбе: он резонно полагал, что если в разговоре с ним юный Райзер не лицемерил – а порукой его искренности было само выражение его лица, – то мальчик этого возраста вряд ли мог держаться низкого образа мыслей.
На вечерних занятиях в следующее воскресенье пастор Марквард спрашивал его чаще обычного; тем самым отчасти исполнилось одно из желаний Райзера – держать в церкви публичную речь перед собравшимся народом. Он отвечал на вопросы по катехизису звонко и внятно, чем сильно отличался от других: речь его была отчетлива, тогда как остальные по привычке выводили свои ответы заунывным школярским речитативом.
После занятий пастор Марквард поманил его в сторону и пригласил на следующее утро к себе домой. Какое радостное смятение охватило тут мысли Райзера! Нашелся-таки человек, желающий позаботиться обо мне, думал он; ему льстило, что пастор Марквард обратил на него внимание благодаря его ответам, и он решил отныне полностью ему довериться и открыть все свои мечты.
Когда он, проведя бессонную ночь, на следующее утро явился к пастору Маркварду, тот перво-наперво спросил, чему он намерен посвятить свою жизнь, тем самым сразу облегчив ему разговор о заветном. Райзер открыл ему свои планы. Пастор Марквард обрисовал ему предстоящие трудности, но вместе с тем ободрил его и воодушевил, пообещав, что его собственный сын, в то время посещавший старший класс лицея в Ганновере, на той же неделе начнет обучать его латыни.
Во все время разговора Райзеру казалось, что в выражении лица и поведении пастора Маркварда сквозит нечто важное, о чем тот не хочет говорить, но лишь до поры; в этом предположении его еще сильнее утвердили таинственные недомолвки алтарника гарнизонной церкви, который на своих занятиях, также посещаемых Райзером, всегда ставил ему стул, остальных же сажал на скамьи. По окончании урока он, обращаясь к Райзеру, обычно говаривал так: «Смотрите в оба и помните, вы на особом счету. Вам уготовано нечто великое!» – и прочее в таком же роде, отчего Райзер стал мнить себя более важной персоной, чем считал прежде; его мелкое тщеславие было более чем удовлетворено и зачастую преглупо сказывалось в его походке и физиономии, когда он порой вышагивал по улице, напуская на себя важный и сановитый вид всенародного наставника, как то бывало с ним и в Брауншвейге, особенно если на нем были надеты черная жилетка и панталоны. Походкой он подражал молодому священнику, занимавшему в то время две должности – больничного проповедника в Ганновере и конректора лицея, поскольку тот держал подбородок особым образом, восхищавшим Райзера.
Трудно представить себе человека, полнее наслаждавшегося своим счастьем, нежели Райзер, ожидавший в ту пору великих уготованных ему даров. Это донельзя распаляло его воображение. А поскольку час, когда он будет допущен к причастию, неуклонно приближался, в нем опять стали возрождаться все те мечтательные идеи, которыми он заполонил голову еще в Брауншвейге; сюда добавлялось и воздействие уроков гарнизонного алтарника, который, рассказывая об аде и рае, нагонял на школьников, проходивших у него подготовку к причастию, такого страха и ужаса, что они начинали трястись, к чему, правда, примешивалось у них некое приятное чувство, с каким люди обыкновенно внимают рассказам о страшном и ужасном, самому же алтарнику доставляло удовольствие доводить своих слушателей до дрожи, вызывало у него слезы умиления, которые добавляли еще толику торжественности его вечерним речам, когда он стоял среди учеников под лампой, освещавшей класс.
Пастор Марквард тоже еженедельно проводил несколько занятий, на которых готовил будущих причастников, однако сказанное им далеко не так потрясало души, как речи его алтарника, хотя Райзеру представлялось как раз более связным и удачно выраженным. Ничто так не льстило Антону, как один пример, приведенный пастором Марквардом в разъяснение тезиса, что верующие суть Божии дети: он выбирал одного из юных слушателей, велел ему подойти к себе и беседовал с ним особо, словно тот ему ближе остальных учеников – точно так же и Божии чада ближе к Богу, чем прочие люди. Так вот, Райзер верил, что среди всех учеников пастор Марквард лишь к нему одному относится по-настоящему участливо, – но, как ни льстила эта мысль его тщеславию, вскоре она же наполнила его несказанной печалью из-за того, что другие не могут разделить с ним этого счастья и будто бы навсегда отлучены от общения с пастором Марквардом. Сходное чувство он испытал однажды в раннем детстве, когда тетка купила ему в лавке какую-то игрушку, и он, выйдя на улицу, держал ее в руках, но тут, прямо у дверей, увидел сидящую на земле оборванную девочку примерно своего возраста, которая при виде чудесной игрушки изумленно воскликнула: «Ах, Господи, какая прелесть!» Райзеру было тогда лет шесть или семь, и интонация терпеливого смирения, с каким эта оборванная девочка, сдерживая восторг, произнесла: «Ах, Господи, какая прелесть!», проникла в самую его душу. Бедной девочке позволялось лишь смотреть, как все эти прелестные вещицы проплывают мимо нее, но она и думать не смела о том, чтобы когда-нибудь ими обладать. Ее словно бы навсегда отлучили от самой возможности наслаждаться подобными изысканными вещами – с какой радостью он бы вернулся и подарил замарашке эту драгоценность, если бы тетка разрешила! Всякий раз, когда он позднее вспоминал об этом случае, его охватывало горькое раскаяние, что он в ту же минуту не отдал девочке свою игрушку. Ту же горечь сострадания испытывал он и теперь, когда ему стало казаться, что он пользуется особой благосклонностью пастора Маркварда, коей были лишены остальные ученики, незаслуженно перед ним умаленные.
И точно такое же чувство пробудилось в его душе впоследствии, при чтении первой Вергилиевой эклоги: «Нет, не завидую я…» Когда он представил себя на месте счастливого пастуха, отдыхающего под сенью дерева, меж тем как другой пастух вынужден покинуть свои дом и поле, то при словах этого последнего: «Нет, не завидую я…» у него возникало то же настроение, что от восклицания той замарашки: «Ах, господи, какая прелесть!»
Здесь я должен несколько углубиться в прошлую жизнь Райзера, после чего отчасти предварить будущее, чтобы связать воедино все, о чем я замыслил рассказать. В дальнейшем я еще не раз прибегну к подобному средству и уже не стану извиняться за эти мнимые отступления перед теми, кто проник в суть моего замысла.
Легко заметить, что тщеславие Антона Райзера, благодаря нескольким сошедшимся обстоятельствам, росло как на дрожжах. Снова потребовалось небольшое унижение, и оно не заставило себя ждать. Райзер отнюдь не без оснований тешил себя мыслью, что среди конфирмантов пастора Маркварда он, несомненно, лучший. В классе он сидел на первом месте, полагая, что никто другой не может на это претендовать. Как вдруг занятия у пастора Маркварда стал посещать молодой человек, прекрасно одетый и прекрасно воспитанный, одного с ним возраста, – и совершенно его затмил благодаря своему изысканному поведению и исключительному вниманию со стороны пастора, который сразу же указал ему на первое место.
Сладкая мечта Райзера быть первым среди учеников внезапно развеялась. Он чувствовал себя униженным и обесславленным, отброшенным в самую гущу класса. Он справился о своем грозном сопернике у пасторского слуги и узнал, что тот – сын амтмана, состоит на пансионе у пастора Маркварда и будет конфирмован одновременно со всеми. Чернейшая зависть поселилась на время в душе Антона; голубой кафтан и бархатный воротник сынка амтмана, его изысканные манеры и красивая прическа – все это его совершенно обескураживало и рождало в нем недовольство самим собой; но одновременно в нем крепло чувство собственной несправедливости, и вот уже он стал недоволен собственным недовольством.
Ах, ему совсем не следовало завидовать бедному юноше, чья звезда в скором времени закатилась. Через две недели пришло известие, что отец молодого человека уволен со службы по причине допущенных злоупотреблений. Оплачивать пансион стало теперь некому, пастор Марквард отправил его обратно к родственникам, и Райзер вновь занял первое место в классе. Он не мог сдержать радость по поводу случившегося, но и корил себя за эту радость, пытаясь усилием воли вызвать в себе сострадание – поскольку считал это справедливым, – и подавить радость, так как считал ее несправедливой; и все же радость в нем брала верх, и под конец он стал утешаться тем, что не может же он противостоять судьбе, которой было угодно сделать того юношу несчастным. Но вот в чем вопрос: если бы судьба юноши вдруг снова переменилась, принял бы тогда Райзер по первому зову души, с легким сердцем и дружелюбным участием его первенство над собой? Или ему пришлось бы насильно возбуждать в себе все эти чувства, поскольку он считал их справедливыми и благородными? Сам ход его дальнейшей жизни вскоре даст ответ на этот вопрос!
Ежевечерне Райзер брал уроки латыни у сына пастора Маркварда и сделал в ней несомненные успехи, так что уже через месяц мог недурно пересказать Корнелия Непота. Какое блаженство он испытывал, когда к ним заходил алтарник и спрашивал, как идут дела у обоих господ студентов! Или в другой раз – когда пастор Марквард выдал свою младшую дочь за молодого проповедника и в одно из воскресений тот вместо пастора вел урок: чем чаще он выслушивал ответы Райзера, тем внимательней к нему приглядывался. И каким восторгом забилось сердце Райзера, когда по окончании службы он пришел домой к пастору Маркварду, где молодой человек обратился к нему с величайшей учтивостью и сказал, что еще в церкви, выслушав первый ответ Райзера, он подумал, не об этом ли юноше тесть рассказывал ему столько хорошего, – теперь он рад, что не ошибся.
Никогда еще Антон не испытывал чувств вроде тех, что были вызваны этим уважительным обращением. А поскольку он не был обучен приемам светского общения, то в подобных случаях прибегал к оборотам книжной речи, почерпнутым из «Телемака», Библии и катехизиса, что зачастую придавало его ответам довольно причудливый и оригинальный характер – так, он мог сказать, что чувствует необоримую страсть к учению и желал бы сделаться во всех отношениях достойным благодеяний, ему оказываемых, и провести всю свою жизнь до последних дней в благочестии и набожности.
Между тем консисторский советник Гёттен, с которым Райзер прежде имел беседу, выхлопотал для него возможность бесплатного посещения школы в новой части города. Однако пастор Марквард высказался против, полагая, что до принятия конфирмации Райзеру лучше бы по-прежнему заниматься у его сына, чтобы затем продолжить обучение в школе более высокой ступени, находящейся в Старом городе, где сам директор возьмет на себя заботу о нем, поскольку же между двумя школами имеет место взаимная ревность, лучше ему не посещать ту школу. Обо всем этом Райзер должен был сам сообщить консисторскому советнику Гёттену, отказавшись таким образом от предложенного ему права бесплатного посещения занятий. Советник воспринял слова Райзера с большим огорчением и горячо убеждал его принять предложение, однако, заканчивая разговор, все-таки ободрил его обещанием позаботиться о нем иным способом.
Итак, складывалось впечатление, что судьбой Райзера, до которого еще недавно никому не было дела, вдруг озаботились все окружающие. Он слышал, как в связи с его именем говорят о ревности, разгоревшейся в двух школах. Консисторский советник Гёттен и пастор Марквард едва ли не состязались – кто из них примет в нем большее участие. Пастор Марквард заявил о своем намерении сказать консисторскому советнику Гёттену, что уже приняты меры – и не будут оставлены в дальнейшем – для основательной подготовки Райзера к обучению в старогородской школе высшей ступени, без посещения занятий в начальной школе нового города. Таким образом, упомянутые меры замышлялись ради него, мальчика, которым пренебрегали даже собственные родители.
Какими радужными мечтами и надеждами наполняло все это фантазию Райзера, незачем и говорить. Особенно интриговали его продолжавшиеся туманные намеки гарнизонного алтарника и сдержанное поведение пастора Маркварда, скрывавшее, судя по всему, нечто важное…
Наконец, пришло известие, что принц Карл Мекленбургский, по рекомендации пастора Маркварда, выразил желание взять на себя заботу о молодом Райзере и выделить ему месячное содержание размером в известное количество рейхсталеров. Итак, Райзер внезапно оказался полностью освобожден от каких бы то ни было забот о своем будущем; сладостные мечты, которые он столь страстно лелеял, нимало не надеясь на их исполнение, неожиданно осуществились, и сам он мог отныне предаваться приятным фантазиям, не опасаясь бедности и нищеты.
Сердце его дышало благодарностью к божественному Провидению. Не проходило вечера, чтобы он не помянул в своих молитвах принца и пастора Маркварда, и не раз тихие слезы благодарности и умиления сами собой изливались из его глаз, когда он думал о счастливой перемене своей судьбы.
Отец Райзера тоже перестал противиться учению Антона, лишь только узнал, что оно ничего не будет стоить. К тому же ему пришло время занять небольшую должность в местечке за шесть миль от Ганновера, так что сын уже никак не мог быть для него обузой. Возник, однако, вопрос, у кого Райзер будет жить и столоваться после отъезда родителей. Пастор Марквард не проявил готовности оказать ему гостеприимство. Оставалось поискать среди простых людей, кто бы мог его приютить. Некий гобоист по имени Фильтер, служивший в полку принца Карла, по доброй воле вызвался бесплатно предоставить ему жилье. Сапожник, у которого недолгое время жили родители Райзера, другой гобоист – придворный музыкант, хозяин трактира и вышивальщик по шелку – каждый согласился раз в неделю бесплатно его кормить.
Все это несколько умерило радость Райзера, который надеялся, что содержания, назначенного принцем, будет достаточно, чтобы избежать нахлебничества в чужих домах. И надо сказать, огорчался он не без причины: это решение доставило ему впоследствии много чрезвычайно горестных и неприятных переживаний, так что он не раз принужден был в прямом смысле слова есть свой хлеб со слезами. Ибо хотя все вокруг соперничали друг с другом в оказании ему благодеяний, каждый считал, что получает таким образом право блюсти его поведение и давать советы касательно его образа жизни, коим он должен безропотно следовать, если не хочет прогневить своих благодетелей. Так Райзер попал в зависимость от своих доброхотных кормильцев, из которых всяк имел свой особый образ мыслей и грозил лишить его поддержки, если он не последует его совету, нередко противоречившему советам остальных. Одним его прическа казалась чересчур щегольской, другим – небрежной, тот сетовал на его неприглядный вид, этот – что мальчишка, живущий благодеяниями, не должен так разряжаться. Оскорблений и унижений, каким Райзер подвергался в уплату за даровой хлеб, хватало с избытком, – они, без сомнения, довольно известны всякому школьнику, имеющему несчастье питаться за чужой кошт и все дни недели столоваться в разных домах.
Все это Райзер смутно предвидел, когда ему дали знать, что ничей бесплатный стол не отвергнут и ни одна милость не пренебрежена. В добрых намерениях не бывает недостатка, если появляется возможность способствовать юноше в учении; у людей это вызывает ревностные чувства совершенно особого свойства – каждый словно бы предвкушает: когда этот человек однажды взойдет на церковную кафедру, здесь будет и моя доля участия. О Райзере разгорелось истинное соревнование: каждый хотел сделаться его благодетелем, включая даже таких бедняков, как сапожник, вызвавшийся кормить его каждое воскресение, – и все эти предложения родители Райзера и гобоист с супругой радостно приняли, сочтя их великим счастьем для него, так как из денег, получаемых от принца, можно кое-что приберечь Антону на будущее.
Ах, радужные надежды на скорое счастье, питаемые Райзером, вскоре начали тускнеть, но поначалу столь деятельная забота и участие в его судьбе множества людей повергли его в приятное возбуждение.
Перед ним расстилалось широкое поле науки, и единственной его мыслью целыми днями было – приложить все усилия, без остатка использовать каждый час для учения; он испытывал величайшее блаженство, рисуя в воображении удивительные успехи, которых достигнет, славу и рукоплескания, которые заслужит: с этими сладкими грезами он вставал по утрам и с ними же отправлялся в постель. Однако он еще не знал, сколь тягостным и унизительным будет его положение среди других людей и как это отравит его радость. Достойное питание и приличное платье составляют непременное условие жизни молодого человека, решившего посвятить себя учению. Райзер был лишен того и другого. Близкие хотели скопить для него денег и тем обрекали на временную нужду.
Родители его уехали, и он со своими скудными пожитками перебрался к гобоисту Фильтеру, жена которого проявляла заботу о Райзере с его малых лет. В доме этой бездетной супружеской четы царил величайший порядок, какой только можно себе представить. Здесь не было ни единой вещи, будь то щетка или ножницы, которая не имела бы места, раз навсегда отведенного ей много лет назад. Не проходило утра, чтобы в восемь часов здесь не пили кофе, а в девять, с обязательным коленопреклонением, не произносили утреннего благодарения, которое госпожа Фильтер вычитывала по молитвеннику Беньямина Шмольке, Райзер при этом тоже должен был стоять на коленях. Также и вечерами после девяти, перед отходом ко сну, читалась вечерняя молитва по Шмольке, в продолжение которой каждый стоял на коленях рядом со своим стулом. Все это составляло незыблемый порядок, соблюдавшийся без малого двадцать лет, прожитых ими все в той же комнате. Супруги, несомненно, были весьма счастливы, и порукой их счастью служил ровный ход вещей, расстроить который, не нарушив их внутреннего спокойствия, зиждущегося на неукоснительном порядке, было никоим образом невозможно. Все это они учли недостаточно, когда расширили свой домашний круг, впустив в него человека, который никак не мог мгновенно приспособиться к распорядку, учрежденному двадцать лет назад и ставшему их второй натурой.
И конечно, они не могли уже вскоре не раскаяться, что взвалили на себя ношу более тяжкую, чем казалось им вначале. Поскольку в их доме имелась всего одна общая комната и один чулан, Райзеру отвели для сна именно эту комнату, и всякий раз по утрам, входя в нее, они бывали поражены непривычным видом, нарушавшим их душевный покой. Антон очень скоро заметил это, и сама мысль, что он стал для кого-то обузой, сделалась ему столь несносна и мучительна, что порой он не решался и кашлянуть, когда по взглядам своих благодетелей догадывался, что он им в тягость. Ведь ему нужно было куда-то сложить свои скудные пожитки, но где бы он их ни поместил, порядок отчасти нарушался, поскольку каждое местечко в доме уже имело свое твердое назначение. Выбраться из этого тягостного положения казалось ему невозможным. И это на долгие часы погружало его в несказанную тоску, которую он еще не мог себе объяснить и относил ее за счет неудобства нового места.
На самом деле его тяжко угнетала именно унизительная мысль, что он обременяет своих хозяев. В родительском доме или у шляпника Лобенштайна он тоже видел мало радости, но там он все же имел известные права. Как-никак, то были его родители, а у шляпника он работал. А здесь даже стул, на котором он сидел, был предоставлен ему благодеянием. Пусть задумаются об этом все, кто собирается облагодетельствовать кого-либо, и хорошенько поразмыслят, не причинит ли их несомненно добродетельное решение одни лишь муки тому, кто оказался в нужде.
Год, проведенный Райзером в доме гобоиста, изобиловал часами и минутами, несчастнейшими в его жизни, хотя окружающим Райзер представлялся баловнем судьбы.
Райзер, вероятно, мог бы сделать свое существование более сносным, обладай он свойством иных молодых людей, которое зовется искательством. Правда, искательность в человеке предполагает известную уверенность в себе, но этой способности его лишили еще в раннем детстве. Чтобы искать чьей-то благосклонности, нужно быть уверенным, что ты вообще можешь кому-то нравиться. Научить Райзера верить в себя могла бы чья-то упреждающая доброта, только она внушила бы ему смелость добиваться любви окружающих. Он же, стоило ему уловить легкую тень недовольства на чужом лице, сразу терял надежду снискать не только любовь, но и простое уважение. И оттого ему стоило чрезвычайных усилий добиваться внимания людей, когда он не знал, как они воспримут его настойчивость.
Тетка его не раз предрекала, что без толики искательства он в жизни далеко не уйдет. Она учила его, как следует вести себя с госпожой Фильтер: «Любезная госпожа Фильтер, будьте мне матерью, ведь ни отца, ни матери у меня нет, а уж я буду любить вас как родную мать». Но ничего подобного Райзер из себя выдавить не мог – слишком нелепо прозвучали бы эти слова в его устах. Ничье доброе отношение не побуждало его к таким ласковым речам, а собственный язык был недостаточно гибок. Оттого он и не мог последовать совету тетки. Когда чувства переполняли его сердце, слова для их выражения находились сами собой, но языку утонченной любезности он не был обучен. То, что принято называть искательством, у него превратилось бы в раболепие.
Между тем приближалась конфирмация, день, когда Райзеру предстояло во всеуслышание подтвердить свое вероисповедание, и это давало обильную пищу его тщеславию. Он воображал огромное стечение народа, себя как первого ученика, вызванного отвечать за всех и приковавшего взоры толпы голосом, осанкой и выражением лица. Наконец заветный день настал, Райзер, проснулся словно какой-нибудь римский полководец в день предстоящего триумфа. Его кузен, изготовитель париков по ремеслу, взбил ему волосы, он нарядился в голубоватый кафтан и черную сорочку, чтобы как можно более походить на священника.
Но как триумф великих полководцев иногда отравляли унизительные случайности, лишавшие героя доброй половины наслаждения, так произошло и с Райзером в день его славы и торжества. Как раз в тот день он должен был впервые бесплатно обедать у алтарника, а назавтра – ужинать у бедного сапожника. И хотя алтарник был человеком добросердечнейшим и даже рассказал Райзеру историю своей жизни, как он сам бедным школяром пел в хоре, но уже в семнадцать лет сменил голубое облачение на черное, жена его оказалась воплощением зависти и злобы, от ее косых взглядов кусок застревал у Райзера в горле. Правда, в первый день она еще держала себя в узде, но и того оказалось довольно, чтобы Райзер, хоть и не догадываясь о причине, побрел в церковь с упавшим сердцем и радости задолго предвкушаемого дня вкусил лишь наполовину. И вот теперь он должен был в церкви клятвенно подтвердить свое вероисповедание.
Когда он размышлял об этом, ему вспомнился давний рассказ отца, как тот проходил присягу при поступлении на службу, оставаясь при этом отнюдь не равнодушным, – Райзер же по пути в церковь, где ему предстояло принести клятву веры, находил в себе одно безразличие. На уроках катехизиса он усвоил самое высокое понятие об этом обряде и горько упрекал себя за черствость. Он всячески старался принудить себя оставить равнодушие и проникнуться волнением ввиду предстоящего важного события, негодовал на себя за черствость, однако косые взгляды жены алтарника уже прогнали все теплые и приятные чувства из его груди.
Да он и не мог по-настоящему радоваться, поскольку рядом не было близкого человека, который разделил бы его радость, а вечером ему вновь предстояло есть за чужим столом. Когда он вошел в церковь, приблизился к алтарю и поднялся на видное место, его фантазия вновь несколько ожила, но все было далеко не так, как он рисовал себе прежде. Вдобавок самое важное и торжественное – оглашение от имени всех остальных Символа веры – выпало совершить не ему, а ведь он уже много дней упражнял для этого свою мимику, осанку и голос.
Он надеялся, что вечером пастор Марквард пригласит его к себе, но так не случилось, и пока его товарищи расходились по домам, где их приветливо встречали родители, Райзер в полном одиночестве бродил по улицам – и тут ему повстречался директор лицея, который сам обратился к нему с вопросом, не он ли будет тот самый Райзерус, а получив утвердительный ответ, дружески пожал ему руку, добавив, что слышал о нем от пастора Маркварда много хорошего и хотел бы вскоре познакомиться с ним поближе.
Как окрыляюще прозвучали слова этого человека, глубоко почитаемого Антоном и теперь удостоившего его обращения прямо на улице, да еще по имени Райзерус!
Директор Бальхорн действительно внушал уважение и любовь каждому, кто его знал. Одевался он изысканно, но с подобающей строгостью, держался благородно, был прекрасно образован и имел самое приветливое выражение лица, которому при необходимости умел придать суровую важность. Своим характером он лишал оснований презрительное отношение аристократов к учительскому сословию, будто бы сплошь проникнутому педантизмом.
Уж как вышло, что он наименовал Райзера Райзерусом, бог весть, но именно так он его назвал, и впервые услышать свое имя, переиначенное на – ус, весьма польстило Райзеру, поскольку имена с таким окончанием всегда внушали ему мысль о высоком достоинстве и необыкновенной учености и он уже воображал, что его самого будут величать знаменитым ученым Райзерусом.
Это прозвание, коим случайно наградил его директор Бальхорн, позднее не раз приходило ему на ум и подстрекало его усердие, ибо маленькое – ус в конце имени будило в нем целый рой надежд – самому когда-нибудь стать знаменитым ученым вроде Эразма Роттердамского, именуемого на латинский манер Erasmus Roterodamus, или других, чьи жизнеописания он иногда читал и видел их портреты, гравированные на меди.
Итак, вечером он пришел в дом бедного сапожника, и взгляды, встретившие его, были куда приветливее, чем у жены гарнизонного алтарника. Сапожник Хайдорн, так звали его благодетеля, любил читать Таулера и других подобных авторов, поэтому в его речи встречалось много книжных оборотов и он то и дело сбивался на проповеднический тон. Желая высказать какое-то суждение, он в подтверждение своей мысли обычно цитировал некоего Периандра, например, так: «Человек должен полностью посвятить себя Богу, сказано у Периандра». Да и все остальное, что говорил сапожник Хайдорн, уже было сказано этим самым Периандром, который, в сущности, был не чем иным, как аллегорической фигурой, выведенной в Беньяновом сочинении «Путь паломника». Однако для Райзера имя Периандра звучало сладостной музыкой, вызывая мысли о чем-то возвышенном и таинственном, поэтому он слушал рассуждения Хайдорна о Периандре с большою охотой.
Добряк Хайдорн, однако, задержал у себя Райзера слишком долго, и, когда тот воротился домой, хозяева уже отчитали вечернюю молитву, но не могли сразу отойти ко сну, как было у них заведено годами. По этой причине он был встречен довольно холодно и даже мрачно и таким образом закончил день, столь трепетно предвкушаемый, в печальном настроении.
На следующей неделе он начал хождение по кругу своих гостеприимцев с небольшого трактира, владелец коего отвел ему место за столом рядом с людьми, которые сами платили за свою еду и не обращали на Райзера никакого внимания. Лучшего нельзя было и желать, поэтому Антон всегда приходил сюда с легким сердцем.
Во вторник он обедал у сапожника Шанца, в чьем доме раньше жили его родители, и здесь его приняли весьма радушно и дружески. Добрые хозяева знали Антона еще ребенком, и старая матушка Шанца уже тогда говорила: из этого мальчика выйдет толк, – теперь она радовалась, что ее предвещанье, по всему судя, сбылось. Если Райзера на минуту оставляли мысли, что он ест чужой хлеб, то лишь благодаря радушию, царившему за их столом, в этом доме он забывал свои горести и порой, придя опечаленным, выходил оттуда с прояснившимся лицом. Причина была еще и в другом: за столом Райзер с Шанцем углублялись в философские материи, пока старушка не останавливала их: «А ну-ка, дети, уймитесь, не то угощенье совсем остынет». О, что за человек был этот сапожник Шанц! Поистине он мог бы с ученой кафедры вразумлять тех, кому теперь тачал башмаки. Вместе с Райзером они с места в карьер пускались в такие рассуждения и доходили до таких предметов, о которых Райзер потом услышал от лекторов по метафизике, он же часами обсуждал их с Шанцем. Ибо они вдвоем, по собственному разумению, не пользуясь школьными терминами, но обходясь языком обыденной жизни, как могли, развивали понятия времени и пространства, субъективного и объективного миров и т. п., и выходило у них порой весьма причудливо. Так или иначе, у сапожника Шанца Райзер забывал о тяготах своего положения, восходил к высотам духовного мира и как бы облагораживал свою натуру, ибо здесь он нашел понимающего человека, с которым мог обмениваться заветными мыслями. Часы, что он проводил с друзьями детства и юности, без сомнения, принадлежат к счастливейшим в его жизни. Только здесь он мог безраздельно доверять окружающим и чувствовать себя почти как в родном доме.
По средам он столовался у своих хозяев, и даже то малое, что могло его у них радовать, почти всегда бывало чем-нибудь отравлено, как ни старались они для его пользы, – так что он боялся этого дня чуть ли не больше всех остальных. Ибо за обедом его благодетельница госпожа Фильтер имела обыкновение – не напрямую, но посредством разных околичностей, обращаясь к мужу, – разбирать поведение Райзера и всячески возжигать в нем благодарность к его попечителям, а заодно мимоходом упомянуть неких людей, которые взяли себе привычку так много есть, что их досыта и не накормишь. Райзер, как раз вошедший в пору быстрого роста, вправду имел превосходный аппетит, но при таких намеках, поднося кусок ко рту, не мог унять дрожи в руках. Что же до госпожи Фильтер, в душе она была равно чужда скупости и зависти, но делала свои намеки из одной лишь любви к порядку, который, по ее мнению, нарушался, если кто ел слишком много. Нередко она также заводила речи о ручейках и источниках благоволения, каковые порой иссякают, если из них черпать без меры.
Жена придворного музыканта, кормившая Райзера по четвергам, хоть и отличалась грубоватыми манерами, никогда не мучила его подолгу, как госпожа Фильтер со всей ее утонченностью. Но пятница снова была плохим днем, потому что в этот день он обедал с людьми, которые безо всяких околичностей, но самым бесцеремонным образом давали ему почувствовать, что он у них в нахлебниках. Они тоже знали его с детства и звали по имени, Антон, – но не ласково, а с презрением, хотя сам он уже начал причислять себя к взрослым людям. Словом, они обращались с ним так, что он всю пятницу ходил мрачный и подавленный и ни к чему не имел охоты, зачастую сам не зная отчего. Причина же состояла в том, что он подвергался унижению от людей, благодеяния которых вынужден был принимать, если не хотел прослыть неисправимым гордецом. По субботам он обедал у своего кузена, изготовителя париков, платя за стол какую-то мелочь, и здесь чувствовал себя хорошо, по воскресеньям же снова возвращался к гарнизонному алтарнику.
Роспись обедов Райзера и лиц, ему благотворивших, не столь уж маловажное дело, как может представиться на первый взгляд: все эти видимые безделицы вместе образуют жизнь человека и сильнейшим образом влияют на состояние его души. Усердие Райзера и успехи, коих он добивался в тот или другой день, очень зависели от того, что ожидало его назавтра: обед ли у сапожника Шанца, у госпожи Фильтер или у алтарника. Эти каждодневные условия наилучшим образом объясняют его дальнейшее поведение, которое в ином случае может показаться противоречащим его характеру.
Большую пользу мог бы принести Райзеру пастор Марквард, если бы раз в неделю приглашал его к себе, но пастор предпочел платить ему «столовые», так же поступил и вышивальшик по шелку. Из этих скудных грошей Райзер оплачивал свой завтрак и ужин. Так распорядилась госпожа Фильтер, ибо все, чем жаловал его принц, подлежало сбережению. Завтрак его, таким образом, состоял из небольшой чашки чая и куска хлеба, а на ужин он съедал лишь маленький бутерброд с солью. Госпожа Фильтер говорила, что его поддержкой должен стать обед, но за обедом сама же давала ему понять, чтобы он не переедал.
Такова была экономия Райзера в том, что касалось до его пропитания. Но из денег, выдаваемых принцем, и для покупки одежды ничего не отпускалось. Для него приспособили старый солдатский мундир грубого красного сукна, в котором он и посещал публичную школу, где даже беднейшие ученики были одеты лучше него, и это тоже с первого дня причиняло ему большие душевные муки.
Вдобавок хлеб, выдаваемый Райзеру в виде пайка гобоистом Фильтером, ему приходилось проносить по улицам под мышкой, что он старался делать по возможности в вечерних сумерках. Но никак нельзя было выдавать и своего стыда, это истолковали бы как непростительную гордыню, а между тем из прибереженного хлеба он мог раз в неделю сэкономить немного денег для завтраков и ужинов.
Противиться всему этому он не имел ни малейшей возможности, поскольку пастор Марквард безгранично доверял усмотрению госпожи Фильтер все, что относилось к воспитанию и устройству Райзера. В первую неделю пастор посетил семейство Фильтер, поблагодарил супругов за то, что они взяли на себя заботу о Райзере, и выразил им свое полное доверие. Райзер тогда в печальной задумчивости сидел у печи, не желая выглядеть неблагодарным и по отношению к пастору Маркварду. Однако с этого дня он стал окончательно подвластен людям, которые уже несколько дней держали его в самом бедственном положении. Их показная доброта не доставляла ему никакой радости, один лишь страх и смущение, ведь малейшее порицание, ему вынесенное, ранило его вдвойне, лишь только он вспоминал, что единственное его укромное прибежище, крыша над головой, целиком зависело от доброй воли столь щепетильных и обидчивых персон, как Фильтер, а тем паче его жена.
При всем этом, однако, его чрезвычайно воодушевляла мысль, что на следующей неделе ему предстоит первое посещение так называемой высшей школы, о котором он так долго и страстно мечтал. С каким благоговением он, проходя мимо рыночной церкви, засматривался на большое школьное здание с высокой каменной лестницей. А иногда часами простаивал перед ним, пытаясь разглядеть сквозь оконные стекла, что делается внутри. Иногда в зыбком отблеске угадывался край кафедры, возвышавшейся в старшем классе, – и как же разыгрывалась тогда его фантазия! Как часто она виделась ему во сне – эта кафедра во главе длинного ряда скамеек, сидя на которых, вкушают школьную премудрость счастливые мальчики, в чье общество он скоро будет принят.
Так с самого раннего детства лучшие доступные ему наслаждения проистекали из его богатой фантазии, которая отчасти восполняла недостаток подлинных радостей жизни, свойственных юности. Вплотную к школьной стене пролегали два узких проулка, ведшие к прилепившимся друг к другу домикам, где жили семьи священников. Это открывало Антону великолепный обзор, так что картина двух священнических домиков неподалеку от школьного здания днем и ночью стояла у него перед глазами, а наименование высшая школа, бывшее в ходу у простого люда, и слово студент, которое он тоже не раз слышал, придавали особую важность и величие привилегии посещать эту школу.
Заветный день, наконец, настал, и Антон с бьющимся сердцем ожидал мгновения, когда директор Бальхорн введет его в один из залов храма премудрости. Директор Бальхорн проэкзаменовал его и счел годным для обучения в пятом классе. Дружелюбная простота и природное благородство этого человека, который с первых же минут стал называть его «мой милый Райзер», буквально пронзили сердце Антона и наполнили его самым задушевным и безграничным почтением к директору. О, какой властью над юными душами обладает учитель, нашедший верный тон общения с учениками – дружеский и уважительно мягкий!
На следующее воскресенье после конфирмации Антон впервые подошел к причастию, при этом он истово старался применить на практике все, что записал и выучил, когда готовился к экзамену по «Руководству для кающихся и грешников», чтобы затем с радостным трепетом приступить к алтарю. Но он тщетно старался вызвать в себе радостный трепет и он горько упрекал себя за сердечную черствость. В конце концов он начал дрожать от холода, и это немного его успокоило.
Однако против ожидания ни особо возвышенных чувств, ни небесного блаженства полученная им духовная пища у него не вызвала, он винил в этом свое зачерствелое сердце и всячески терзал себя за душевный холод.
Но более всего его мучило, что он не мог до конца познать свою греховность, а ведь это – непременное условие будущего спасения. Днем раньше он скрупулезно, назубок выученной исповедью, исповедался в том, что, увы, часто и многообразно грешил как мыслями и словами, так и делом, пренебрегал добром и творил зло.
Грехи, в коих он себя винил, были по преимуществу грехами нерадения: он недостаточно усердно молился, недостаточно горячо любил Бога, мало благодарил своих покровителей и не испытывал радостного трепета, подходя к причастию. Все это он принимал очень близко к сердцу, но не мог исправиться никакими усилиями и потому был так благодарен пастору Маркварду, который отпускал ему эти провинности.
Однако он оставался собой недоволен, ибо считал, что набожность и благочестие предполагают постоянное внимание к каждому своему шагу, каждой улыбке и выражению лица, каждому произнесенному слову и пришедшей на ум мысли. Но как раз внимание часто рассеивалось у него самым естественным образом, он никак не мог удержать его более часа, и всякий раз, замечая в себе эту рассеянность, горько корил себя за нее и наконец решил, что благочестивая и набожная жизнь едва ли вообще для него возможна.
Госпожа Фильтер, у которой он обедал после причастия, попотчевала его длинной проповедью о вожделении и злой похоти, подстерегающих всякого юношу его возраста, заключив, что с ними надобно неустанно бороться. К счастью, Райзер ничего из ее слов толком не понял, а просить разъяснений не осмелился, лишь твердо решил, когда злые похоти к нему явятся, неважно в каком обличье, по-рыцарски биться с ними до последнего.
На занятиях по Закону Божию он уже слышал о всяческих грехах, о которых прежде не имел никакого понятия, – о содомии, ночных прегрешеньях и пороке самомарания, упоминаемых обычно при разборе шестой заповеди, – все эти названия он записал в свою тетрадь. Однако дальше названий его знания не простирались, поскольку учитель, к счастью, расписал эти грехи столь ужасающими красками, что Райзер боялся их себе и вообразить и даже не думал проникнуть мыслью в окутывавшую их непроглядную тьму. Вообще его представления о рождении детей были весьма смутны и зыбки, хотя он больше не верил, что их приносит аист. Мысли же его в то время, без всякого сомнения, были чисты, ибо стыдливость, по-видимому свойственная его натуре, не позволяла ему ни задерживаться на этих предметах, ни обсуждать их с другими учениками или знакомыми. Да и воспитанные у него религиозные понятия о грехе пришлись тут весьма кстати. Он страшился и того, что на свете существуют грехи с такими именами, и уж подавно боялся приблизиться к ним в мыслях.
Утром понедельника директор Бальхорн представил его пятому классу лицея, которому преподавали сам конректор и кантор. Конректор также служил проповедником, и Антон не раз слышал его проповеди. Антону так нравилась его манера держать себя и носить пасторское облачение, что время от времени он пытался ему подражать, слегка кивая подбородком, как он. Впрочем, пастор Групен (так его звали) был еще совсем молод, а кантор – в преклонных годах и порой впадал в ипохондрию.
В пятом классе учились уже довольно взрослые юноши, и Райзер изрядно гордился, что будет ходить в пятиклассниках.
Но вот занятия начались. Конректор преподавал богословие, историю, латинскую стилистику и греческий Новый Завет. Кантор – катехизис, географию и латинскую грамматику. Утренние уроки начинались в семь и длились до десяти, дневные – возобновлялись в час дня и заканчивались в четыре. В стенах этого класса Райзеру, как и двум-трем десяткам его однокашников, предстояло провести бульшую часть тогдашней жизни. Поэтому описать, как протекали школьные занятия, лишним не будет.
Каждое утро, согласно заведенному порядку, начиналось с чтения очередной главы из Библии, будь то длинной или короткой, засим, дважды в неделю, сообразно божественному плану спасения, им преподносили азы теологии, как, например, понятия «opera ad extra» и «opera ad intra», которые разбирались с особым тщанием. Под первым понимались совокупные действия трех Божественных Лиц, такие, как творение, спасение и проч. – хотя бы даже некоторые из них приписывались какому-то одному Лицу; под вторым же понимались собственные деяния Божественных Лиц, присущие каждому Лицу в отдельности, как то: рождение Отцом Сына, исхождение Святого Духа от Отца и Сына и т. п. Это различение Райзер усвоил еще на прежних занятиях, но ему доставляло великое удовольствие именовать те же понятия по-латыни. Итак, представления об «opera ad extra» и «opera ad intra» глубоко запечатлелись в его уме.
Два часа в неделю конректор преподавал им начала всемирной истории по Хольбергу, кантор – географию по Хюбнеру. Вот и вся высокая наука. Остальное время отводилось изучению латыни, единственного предмета, где ученики могли стяжать славу и похвалу учителей, так как их рассаживали в классе согласно успехам в латыни.
Кантор, по своей педагогической методе, раз в неделю диктовал им небольшой отрывок из большой Бранденбургской грамматики на тему нескольких правил, чтобы они перевели этот отрывок на латынь, причем обороты в тексте были подобраны таким образом, что в них находили применение описываемые правила. Тот, кто прилежнее других изучал комментарии и мог лучше выполнить так называемые exercitii, и перемещался вперед.
Как ни странно подчас звучали немецкие обороты, учиненные по латинским образцам, все же эти упражнения приносили много пользы и возбуждали в учениках дух соревнования. Посему Райзер в течение года продвинулся столь далеко, что мог писать по-латыни без единой грамматической ошибки и изъясняться на ней правильнее, чем по-немецки. Ибо он твердо знал, когда в латинском языке надлежит употреблять dativus, а когда – accusativus, но никогда не задумывался, что в немецком, к примеру, меня стоит в аккузативе, а мне – в дативе и что в родном языке слова склоняются и спрягаются точно так же, как и в латинском. Кроме того, он легко образовывал на латыни общие понятия и стал применять их также в немецком. Исподволь он начал составлять себе более твердые представления о том, что есть substantivum и verbum, сиречь существительное и глагол, которые он прежде нередко путал, как например, в словах gehen и Gehen. Поскольку же в латинских сочинениях эти и подобные ошибки то и дело напрашивались сами собой, он стал внимательнее и научился распознавать самые тонкие различия между частями речи и их производными и вскоре уже сам удивлялся, что еще недавно допускал столь грубые промахи.
Кантор имел обыкновение, отметив красным ошибки в латинских сочинениях, ставить внизу vidi (что означает – «мною просмотрено»). Райзер же, увидев это слово под первым своим упражнением, решил, что должен был подписать его сам, на что будто бы и указывает ему кантор, сочтя это упущение ошибкой. Во второй раз он вывел vidi внизу страницы собственной рукой, заставив кантора и его сына громко хохотать, после чего они разъяснили Райзеру недоразумение. Райзер сразу понял свою ошибку, но не мог постичь одного: как же он сам не догадался, зачем здесь стоит это слово, ведь он прекрасно знал, что оно означает.
Он словно бы очнулся от какой-то постыдной глупости, его одолевшей. Несколько мгновений он чувствовал себя столь же униженным, как в тот раз, когда инспектор на уроке назвал его тупицей за то, что он будто бы не мог разобрать слово по буквам. Подобные наплывы отупения, истинного или мнимого, случались у него частью от недостатка присутствия духа, частью – от некоторой робости и инертности, отчего природная острота его ума на некоторое время лишалась свободы проявления.
Другой постоянной темой их занятий были жизнеописания греческих полководцев по Корнелию Непоту, из книги которого следовало раз в неделю выучить главу, посвященную какому-либо военачальнику, и пересказать ее наизусть. Для Райзера подобное упражнение памяти не составляло труда – он никогда и не старался запомнить слова и смысл прочитанного перед отходом ко сну, так как, просыпаясь утром, находил в своей памяти вчерашние мысли гораздо яснее и лучше упорядоченными, словно бы душа во время сна продолжала трудиться и, пока тело пребывало в полном покое, не торопясь завершала начатое.
Все, что Райзер доверял своей памяти, каким-то образом закреплялось в ней навсегда.
В это время он снова стал пробовать свои силы в поэзии, как в детстве, когда темой его поэтических опытов были природа, сельская жизнь и другие подобные предметы: одинокие прогулки и вид зеленых лугов, открывавшийся сразу за воротами дома, только и могли привести его в состояние поэтического возбуждения.
Десятилетним мальчиком он сочинил несколько строф, начинавшихся словами:
По весне луга в цвету Славят Божью доброту, и т. д.,[6]которые его отец положил на музыку. Небольшое стихотворение, сочиненное им на сей раз, называлось «Приглашение к сельской прогулке», и слова, по меньшей мере, были подобраны в нем очень недурно. Он отдал его молодому Маркварду, а тот показал пастору и директору; те выразили свое одобрение, отчего Райзер едва не возомнил себя поэтом – заблуждение, от которого его излечил кантор, пройдя вместе с ним строчку за строчкой и указав на огрехи в размере, неловкие обороты и нарушения в связности мыслей.
Эта суровая критика явилась для Райзера поистине бесценным благодеянием. Незаслуженное восхваление первого плода его музы могло бы испортить ему всю дальнейшую жизнь.
И тем не менее furor poeticus посещал его еще не раз, а поскольку теперь истинным наслаждением и источником вдохновения стало для него учение, то он решился сочинить стихотворение в похвалу науке, начало которого звучало порядком комично:
К вам, к вам, о доблестны науки, Души простерты страстны руки, и т. д.[7]Кантор, помимо прочего, учил латинскому стихосложению и правилам просодии, усвоение которых проверял, веля школьникам скандировать вслух «Catonis disticha». Райзер получал от этого огромное удовольствие: ему казалось, что скандирование латинских стихов и умение отличить длинный слог от короткого требуют великой учености. Во время скандирования кантор отбивал такт руками. Наблюдать это и согласовывать с тактом собственный голос доставляло Райзеру истинное наслаждение. А когда кантор вперемешку диктовал слова какого-либо стиха, предлагая ученикам снова расставить их в правильном метрическом порядке, – как радовался Райзер, сумевший лишь с небольшими ошибками составить пару правильных гекзаметров и получивший за это в награду старый том Курция.
При всем том здесь царила вековечная рутина, однако Райзер всего лишь за год продвинулся так далеко, что мог без единой грамматической ошибки писать по-латыни и скандировать латинские стихи. Простейшим средством для достижения этого было частое повторение прежде пройденного материала заодно с новым – метод, который современным педагогам непременно следует взять на вооружение, ведь как бы прекрасно ни было прочитано стихотворение, оно никогда не задержится в юном уме, не будучи многократно повторено. В старину не бросали слов на ветер, когда говорили: повторение – мать учения.
С десяти до одиннадцати утра конректор давал частные уроки немецкой декламации и стилистики, чему особенно радовался Райзер, так как имел случай покрасоваться своими успехами и заодно выступить с кафедры, а это с виду немного походило на проповедничество, бывшее его заветной мечтой.
Вместе с ним учился еще один юноша, звавшийся Иффланд, который получал от декламации не меньшее наслаждение. Этот Иффланд впоследствии стал нашим первым актером и любимейшим драматическим писателем, и судьба Райзера до известного возраста имела с его судьбой много общего. Иффланд и Райзер оба наилучшим образом отличались в декламации. Иффланд далеко превосходил Райзера в легкости выражения различных чувств, но Райзер чувствовал глубже. Иффланд думал гораздо быстрее и потому обладал остроумием и неизменным присутствием духа, но ему не хватало терпения подолгу останавливаться на одном предмете. По этой причине Райзер стремительно обогнал его во всем остальном. Он уступал Иффланду там, где надобна острота и живость, но брал верх, если дело требовало усидчивой работы ума. Иффланд легко воспламенялся, но впечатления не оставляли в нем прочного следа. Он мог легко, как бы на лету, схватить какую-нибудь идею, но нередко она тотчас от него ускользала. Иффланд был рожден актером и к двенадцати годам уже в совершенстве владел своим лицом и телом и умел с необычайным мастерством изображать разные смешные людские недостатки. Во всем Ганновере не было проповедника, которого он хотя бы однажды не перекривлял. Происходило это в короткое время, пока конректор еще не появился на частном уроке. Все побаивались Иффланда, поскольку он мог высмеять каждого. Однако Райзер его любил и с радостью свел бы с ним более тесную дружбу, не помешай этому различия в их жизненных обстоятельствах. Родители Иффланда были богатыми и уважаемыми людьми, Райзер же – бедным юношей, жившим благодеяниями, и при этом он смертельно ненавидел набиваться в друзья к богачам. Впрочем, он пользовался у своих богатых и лучше одетых сверстников гораздо большим вниманием, нежели мог ожидать, что отчасти проистекало, наверное, из их осведомленности о благоволении к нему принца, отчего он представал в более выгодном свете. Да и учителя по означенной причине оказывали ему большее внимание и уважение.
Хотя среди учеников этого класса находились уже совсем взрослые люди семнадцати-восемнадцати лет, наказания здесь применялись весьма унизительные. Конректор, как и кантор, направо и налево раздавал оплеухи, а нередко пускал в ход и плеть, которая всегда лежала под рукой на кафедре; провинившихся частенько ставили у кафедры на колени.
Райзеру была невыносима сама мысль подвергнуться подобному наказанию от учителей, коих он любил и высоко почитал и чью любовь и уважение старался всеми силами заслужить. Каково же ему пришлось, когда однажды, не успев и опомниться и не зная за собой никакой вины, он – из-за учиненного в классе шума – разделил участь своего однокашника, быв вместе с ним подвергнут ударам плети. «Два сапога пара», – произнес, приблизясь к нему, конректор, не пожелавший слушать никаких извинений, и вдобавок пригрозил пожаловаться на Райзера пастору Маркварду. Чувство собственной невиновности одушевило Райзера благородным упорством, и он в ответ пригрозил пожаловаться пастору за невинно понесенное и столь унизительное наказание.
Райзер произнес свою угрозу тоном попранной невинности, конректор не ответил ни слова. Но с той поры любовь и уважение к нему словно бы ветром выдуло из Антонова сердца. А поскольку конректор и в дальнейшем раздавал свои наказания без разбору, то на его тычки и плети Райзер теперь обращал внимания не больше, чем на лай какой-нибудь неразумной собачонки. Убедившись в том, что уважение этого учителя для него ровным счетом ничего не значит, он отдался собственным склонностям и бывал внимателен на уроках уже не из чувства долга, то есть всегда, но лишь если предмет его интересовал. Он стал по целым часам болтать с Иффландом, в обществе которого ему временами приходилось простаивать на коленях перед кафедрой. Иффланд и здесь находил материю для пересмешек, так, он уподобил кафедру и опершегося на нее локтями конректора мекленбургскому гербу, а себя и Райзера – двум щитодержателям. Плутовство Иффланда нельзя было пресечь никакими мерами, разве что – как порой случалось – поставив его на час лицом к печке. Это впервые заставило его со слезами взмолиться о пощаде, к чему он никогда прежде не прибегал. Так наводилась в школе дисциплина по-конректорски. Однажды некий ученик по рассеянности сунул в карман вместо книги ночной колпак и был за то приговорен к стоянию на коленях в течение часа, с колпаком на голове перед всем классом. Иффланд рассыпал по этому поводу тысячу шуток и тем подставил под град оплеух своих товарищей, не сумевших удержаться от смеха при виде его ужимок и разных затей.
Как воздействовали дисциплинарные методы конректора на умы и нравы его подопечных, какую память он оставил по себе в сердцах учеников и какой славой оказался увенчан, – предоставим судить его собственной совести. Когда он хотел явить себя этаким героем, то любил говаривать: «Я не такой колпак, как иные», намекая – что понимал каждый – на своего коллегу кантора, который, несмотря на ипохондрический характер и педантизм, был человеком куда лучшим, чем конректор.
От кантора Райзер не получил ни одного удара, хоть вообще тот не скупился на оплеухи и нередко пускал в ход плеть. Но он понимал, как важно было Райзеру избежать побоев, и никогда не бил вслепую. На его уроках Райзер узнавал гораздо больше, чем у конректора, потому что был прилежен из чувства долга, даже когда предмет его не интересовал. Когда же ему удалось благодаря удачным латинским сочинениям перебраться на первое место, то как ободряюще прозвучала для него похвала кантора и как настоятельно – его совет: попробовать удержать за собой это место! На первого ученика в классе кантор обычно возлагал обязанности старосты, сиречь смотрителя за поведением остальных учеников, а поскольку Райзер основательно утвердился на первом месте, кантор присвоил ему почетный титул censor perpetuus, то есть постоянного старосты. Райзер исполнял свою должность с величайшей ответственностью и беспристрастием и часто от души сокрушался, видя, как мальчишки выводят из себя и отравляют жизнь кантору – который, правда, еще не нашел способа установить дисциплину в классе, – так что тот часто восклицал в сердечной печали: Quem Dii odere, paedagogum fecere, что означает: Кого боги невзлюбят, того делают учителем. Райзер готов был пожертвовать для кантора всем, ведь тот никогда не допускал к нему несправедливости, хотя далеко не всегда вел себя безупречно. Как мучительно переживал Райзер, когда на уроках катехизиса среди общего шума и грохота кантор вдруг с силой ударял книгой по кафедре: «Я несу вам слово Божие!» Жаль только, что сей добрый человек так часто произносил эту и подобные фразы, которые, будучи употреблены в надлежащее время, могли бы произвести должное действие, и что с его языка то и дело слетали набившие оскомину выражения вроде: «Мальчишку всегда узнаешь по глупости» и другие, настолько приевшиеся, что никто не обращал на них внимания, оттого на уроках кантора стоял вечный шум. Конректор же, наказывая провинившихся, был немногословен, потому-то у него на занятиях царили тишина и порядок.
Проучившись в школе недолгое время, Райзер надумал петь в хоре – не столько ради заработка, сколько с целью приобрести новое, более почетное положение, о котором он так страстно мечтал еще учеником шляпника в Брауншвейге.
Здесь для его фантазии открывался новый простор. Возвышенное, поистине неописуемое наслаждение доставляла ему возможность на виду у всех присоединить голос к общему хору славословий Господу. Само слово хор отзывалось музыкой в его ушах. Хвалить Господа полным хором – только и звучало в его сознании. Он едва мог дождаться часа, когда его допустят в сияющий круг избранных.
Один из его одноклассников, уже давно певший в хоре, сказал, правда, что сыт этим по горло, с него хватит, он готов уйти оттуда хоть завтра, а лучше бы – прямо сегодня. Райзер даже не мог понять хорошенько, о чем это тот толкует. Сам он прилежно посещал уроки пения, проводимые кантором, и всегда завидовал более голосистым товарищам.
Недалеко от Ганновера есть водопад, и, по совету кантора, он часто приходил туда, чтобы громким криком поупражнять свой голос. И все же успехи его в пении были невелики, – ему недоставало того, что зовется музыкальным слухом. Но тем усерднее изучал он теорию музыки, которую кантор пытался им втолковать, – и очень радовал кантора.
Райзер всей душой полюбил кантора и повсюду его превозносил, да и тот стал расхваливать Райзера всем и каждому. И вот однажды Райзер поблагодарил кантора за похвальный отзыв о нем, сделанный его покровителю, на что кантор возразил, что ведь и Райзер хорошо его рекомендует – отовсюду он слышит, как хорошо Райзер о нем отзывается.
Радость этой минуты Райзер не променял бы ни на что на свете, так приятно ему было, что учитель узнал о его любви к нему. Скажи кто-нибудь раньше, что кантор станет ему близким другом, Райзер бы не поверил. Вначале-то ему больше понравился конректор, чье улыбчивое и дружеское лицо, чистый лоб вызывали расположение, а вот мрачная физиономия кантора с морщинами на лбу как раз отталкивала. Ах, какой обходительный и любезный человек этот конректор, не то что брюзга кантор! – нередко говорил себе Райзер. Но при ближайшем знакомстве все обернулось иначе.
Райзер всячески старался возвыситься в глазах кантора. Доходило до того, что он нарочно старался попасться ему на глаза на публичном променаде, прохаживаясь с раскрытой книгой в руках и являя образец прилежания – еще бы, ведь он не оставлял занятий даже на прогулке. Хороша ли казалась Райзеру книга или плоха, куда большее удовлетворение он получал от сознания, что его видит кантор, откуда легко заключить об изрядной доле тщеславия в его характере. Внешность значила для него больше, чем содержание, хотя и оно было немаловажно.
О его усердии ходили легенды, и ему не раз советовали поберечь здоровье. Это Райзеру чрезвычайно льстило, и он никого не разубеждал, хотя на деле усердие его могло бы возрасти многократно, когда бы не гнетущие условия, на которых он получал пищу и жилье.
Недостойное обращение, коему он частенько подвергался, сильнейшим образом подрывало в нем уважение к себе, столь необходимое для прилежной работы. Нередко он шел в школу с упавшим сердцем, но, войдя, сразу забывал о своих горестях – в сущности, школьные уроки были счастливейшими часами его жизни.
Когда же он возвращался в дом, где ему нет-нет да и давали понять, как постыло хозяевам его присутствие, он порой просиживал целыми часами, боясь шелохнуться и не имея ни малейшего желания взяться за работу – от такого приема сердце его буквально разрывалось на части.
Так, одни лишь злые взгляды жены алтарника за обедом могли на несколько дней привести его в уныние и лишить всякой охоты к занятиям.
Конечно, он чувствовал бы себя несравненно более довольным и счастливым и проявлял бы больше прилежания, будь ему позволено самому покупать для себя пропитание на принцевы деньги, а не кормиться за чужими столами.
Нельзя без отвращения вспомнить, в какое положение он угодил однажды за столом, когда жена алтарника, затянув жалобы на худые времена, суровую зиму и нехватку дров, под конец ударилась в слезы от забот о хлебе насущном, он же, смущенный этими речами, нечаянно уронил на пол ломоть хлеба и в наступившей тишине ощутил на себе взгляд этой фурии. Но когда он сам не смог сдержать слезы от собственной неловкости, она набросилась на него с упреками в невоспитанности и неуклюжести, давая понять, что не желает терпеть за столом людей, от которых кусок застревает в горле. Добрый алтарник, который в душе жалел Райзера, не имел своего слова, он побоялся ввязываться в ссору и тут же отказал Райзеру от дома. Униженный, пристыженный и опозоренный, Райзер принужден был удалиться, но с родителями не посмел и заикнуться, что лишился у алтарника бесплатного питания.
Алтарник же, встретив его как-то на улице, вложил Райзеру в ладонь полгульдена, чтобы возместить ему злость и скупость своей жены.
Но был и другой род людей – те, что за трапезой ежеминутно повторяли, как приятно им его угощать, просили ни в коем случае не стесняться, ибо эта еда предназначена именно ему – и так далее и тому подобное, чем смущали Райзера ничуть не меньше, и еда вместо удовольствия доставляла ему истинные муки. Как счастлив он был, когда, покинув дом алтарника и ни слова не сказав об этом домашним, прогуливался по городскому валу, уписывая дрезденскую булку.
Казалось, все на свете сговорились приучать его к смирению, и его счастье, что он при этом не ударился в какую-нибудь низость – тогда, конечно, ему жилось бы куда легче и вольготней, однако ценою благородной гордости, которая одна отличает человека от животного, ищущего лишь утолить свой голод.
Самый захудалый подмастерье стоит в жизни выше молодого человека, который для продолжения учения принужден пользоваться чужими благодеяниями, даруемыми с высокомерным видом. Такой юноша, если он чувствует себя счастливым, подвержен опасности впасть в какую-нибудь низость, если же низость не по нему, то его ожидает участь Райзера: он становится угрюм, дичится людей и под конец высшее наслаждение начинает находить в одиночестве.
Однажды госпожа Фильтер приказала ему отнести в дом принца штуку холста для продажи. Возражать было бесполезно, так как пастор Марквард предоставил ей неограниченную власть над ним и всякое упорство с его стороны было бы истолковано как непростительная гордость. «Ничего с тобой не сделается, – говаривала госпожа Фильтер в таких случаях, – твой фамильный герб это не запятнает». И точно так же он не мог отказываться сходить за хлебом, который гобоист получал в полковой кухне, и хотя Райзер всегда старался проносить хлеб в сумерках, выбирая глухие улочки, чтобы не попасться на глаза своим одноклассникам, все же однажды, к его ужасу, один из них его заметил. По счастью, мальчик оказался незлым и обещал держать этот случай в тайне, впрочем, при всякой размолвке с Райзером в классе грозился все разболтать.
Наконец на деньги принца ему купили новое платье взамен старого солдатского мундира, который к тому времени совершенно износился; однако, словно не замечая его унижения, для обновки выбрали серое сукно, приличное лишь слугам, и он опять выделялся в ней среди своих товарищей, как прежде в красном солдатском мундире. Поначалу ему дозволялось надевать это платье лишь в особо торжественных случаях, например во время школьных экзаменов или к причастию.
Но что обидело его пуще всех остальных унижений и чего он никогда не мог забыть госпоже Фильтер, так это несправедливое обвинение, отвести которое он не сумел никакими доводами.
Госпожа Фильтер взяла у одной из своих родственниц маленькую девочку трех-четырех лет на воспитание. На Рождество, решив преподнести ребенку сюрприз, она установила елку, украсила ее свечками и увешала изюмом и орехами. Потом она ушла за девочкой, оставив Райзера в комнате одного рядом с елкой. И случилось так, что, когда она снова входила, то – быть может, от движения двери – елка со всеми свечами упала. Райзер бросился подхватить ее, но не успел и тут же убрал руку, вид же у него был такой, будто он все время только и делал, что возился с елкой, и теперь, когда госпожа Фильтер вошла в комнату, испугался и уронил деревце. Госпожа Фильтер решила, что Райзер хотел полакомиться изюмом и орехами и тем отравил ей и девочке невинную радость.
Это позорящее его подозрение она недвусмысленно высказала Райзеру, и чем ему было оправдаться? Свидетелей нет. Обстоятельства говорили против него. Одно то, что он подвергнулся подобным подозрениям, унижало его в собственных глазах; в ту минуту он готов был провалиться сквозь землю, исчезнуть навсегда.
Такое состояние грозит душе параличом, а исцелить болезнь ох как непросто. В подобные минуты человек мечтает исчезнуть и отдаст жизнь, лишь бы спрятаться подальше от мира.
Вера в себя, столь же необходимая для моральной деятельности, как для движений телесных необходимо дыхание, получает в этом случае сокрушительный удар, оправиться от которого чрезвычайно трудно.
Впоследствии, если при нем искали какую-нибудь вещицу, опасаясь, что она украдена, он невольно краснел и смущался потому только, что живо представлял себе, что другие, даже не отдавая себе в этом отчета, могут принять его за преступника. Вот свидетельство, сколь часто смущение и замешательство обвиняемого толкуется как его молчаливое признание в совершенном преступлении. Испытав тысячу незаслуженных унижений, человек может исполниться презрения к самому себе и, будучи невинен в своем сердце, не посмеет даже поднять глаза, тем подавая повод истолковать свое поведение как признак нечистой совести. И горе ему, если попадет он во власть мнимого прозорливца, который по первому же впечатлению от лица судит о характере.
Среди всех чувств, свойственных человеку, самым мучительным мы бы сочли стыд в его горчайшей мере.
Райзер за свою жизнь нередко его испытывал, не раз случались минуты, когда он готов был изничтожить самого себя – если, например, принимал на свой счет приветствие, похвалу, приглашение и т. п., которые на самом деле к нему не относились. Стыд и смущение, в какие повергала его такая ошибка, невозможно передать.
И совсем особое чувство возникает, когда по ошибке примешь на свой счет чей-либо учтивый поклон, предназначенный другому. Сама мысль, что ты возомнил о себе слишком много, содержит в себе нечто крайне унизительное. К тому же уверяешься, что оказался кругом смешон. Словом, никогда Райзер не чувствовал себя ужаснее, чем в этом пристыженном состоянии, когда любой пустяк приводит в отчаяние. Все остальное не столь сильно затрагивало его внутреннее существо, его «я». Именно это чувство более всего руководило и его пылким состраданием другим людям. Чтобы уберечь человека от стыда, он бы сделал куда больше, чем для спасения его от истинной опасности, ибо стыд казался ему жесточайшим из несчастий, могущих постигнуть человека.
Однажды он находился в доме ганноверского купца, который имел привычку, глядя на одного человека, обращаться к другому. Этот купец, смотря в лицо Райзеру, пригласил к столу другого гостя, находившегося в той же комнате, Райзер же решил, что приглашают его, и вежливо отказался. На это купец сухо возразил: «Я не вас имел в виду!» Это «Я не вас имел в виду!», да еще произнесенное таким сухим тоном, произвело на Райзера столь сильное действие, что он едва не сгорел со стыда. Это «Я не вас имел в виду!» преследовало его повсюду и заставляло его голос неуверенно дрожать в присутствии важных персон; гордость его так и не смогла вполне оправиться от этого удара.
«Как только он мог подумать, что его приглашают к столу!» – так истолковал Райзер это «Я не вас имел в виду!». В ту минуту он чувствовал себя столь незначительным, никчемным и ничтожным, что собственное лицо, руки, все его существо стало для него обузой, сам же он, стоя посреди комнаты, являл собою глупую и нелепую фигуру, а нелепость и глупость его поведения была ему очевидна более, чем кому-либо другому.
Встреть Райзер человека, который принял бы в его судьбе искреннее участие, возможно, подобные происшествия не ранили бы его так глубоко. Но нити участия, связывавшие его судьбу с другими людьми, были столь тонки, что мнимый разрыв одной из них заставлял его бояться, что и остальные вдруг лопнут, и ему начинало чудиться, что все перестали обращать на него внимание как на существо, которое незачем и принимать в расчет. Стыд – аффект не менее сильный, чем остальные, и весьма странно, что в известных случаях он не приводит к смертельному исходу.
Страх предстать перед людьми в смешном виде порой вырастал в Райзере до таких ужасающих размеров, что он готов был пожертвовать всем, даже собственной жизнью, чтобы его избежать.
Infelix paupertas, quia ridiculos miseros facit, Тяжек удел бедняка, ибо бедность Жалкого на смех поднять позволяет…Никто не воспринимал этих строк острее, чем он, так опасавшийся стать посмешищем. Но был и такой вид смешного, который казался ему сноснее прочих, – когда люди просто смеялись над какой-либо странностью, хотя и не желая ей подражать, но и не считая ее чем-то презренным.
Если он, например, слышал за спиной шепот: «Странный человек этот Райзер, вечерами в полной темноте трижды обходит городской вал и сам с собою разговаривает вслух, повторяя школьный урок», – его это не обижало, больше того, он чувствовал себя польщенным, представая перед другими в столь необычном свете. Но когда Иффланд высмеял его стихи:
К вам, к вам, о доблестны науки, Души простерты страстны руки,это его обидело и повергло в такой стыд, что он многое бы отдал, лишь бы эти стихи никогда не были написаны.
Проучившись три месяца пению у кантора, Райзер достиг наконец заветной мечты – стал посещать хор, где у него определили альтовый голос. Своему новому положению ученика-хориста он беззаботно радовался несколько недель, пока стояла хорошая погода. Он получал величайшее наслаждение, слушая арии и мотеты, беседуя со своими товарищами во время прогулок по городским улицам.
Такой хор во многом напоминает бродячую театральную труппу, актеры которой делят друг с другом радости и горести, погожие дни и пасмурные, что тесно их сближает.
Но больше всего радовала Райзера надежда получить голубой плащ, в котором рассчитывал долго щеголять, ибо этот плащ был похож на священническое одеяние. Но и эта надежда больно его обманула, так как госпожа Фильтер – в целях экономии – велела сшить ему плащ из двух старых голубых фартуков, а в этом наряде он не слишком блистал среди других учеников.
Среди хористов Райзер приметил одного, сильно отличавшегося от всех остальных. Даже не слышав его речи, можно было догадаться, что он иностранец: вся его мимика и манеры обличали больше живости и проворства, чем свойственно чопорным и неповоротливым ганноверцам. Райзер никак не мог отвести от него глаз, а когда тот говорил – не переставал удивляться ловко скроенным выражениям верхнесаксонского диалекта, которым этот юноша пользовался. В сравнении с ним ганноверцы изъяснялись топорно и неизящно. Префектом хора был великовозрастный и вечно нетрезвый малый, с которым этот иностранец все время вступал в перепалку и весьма остроумно и язвительно отвечал на его попытки показать свое превосходство. Когда же тот заявил однажды, что слишком давно состоит префектом, чтобы выслушивать колкости от желторотого юнца, иностранец ответил, мол, не велика честь в таком немалом возрасте все еще оставаться префектом. Несомненное преимущество в остроумии, которым иностранец мигом сбил спесь с префекта, заставило Райзера внимательнее к нему присмотреться, и когда он осведомился о его имени, оказалось, что того зовут Райзер и он уроженец Эрфурта.
Райзера чрезвычайно удивило, что сей молодой человек, так ему полюбившийся, носит одно с ним имя, хотя из-за отдаленности места рождения едва ли находится с ним в родстве. Он бы охотно тут же с ним познакомился, но не решался сделать первый шаг, поскольку тезка был на несколько классов старше. К тому же он побаивался его насмешливого ума, коему вовсе не мнил оказаться вровень, если паче чаяния сам сделался бы предметом насмешек. Между тем их сближение происходило само собой: Филипп Райзер все внимательнее приглядывался к тихой и сосредоточенной натуре Антона, подобно тому как Антона привлекал живой нрав Филиппа, и так, несмотря на всю разность характеров, они стали друзьями, выделив друг друга среди множества сверстников.
Этот Филипп Райзер обладал, несомненно, светлым умом, стесненным, однако, жизненными обстоятельствами, в которые поместила его судьба. Помимо тонкой чувствительности он был наделен остроумием и живым нравом, истинным музыкальным талантом и превосходными способностями к механике. Однако он был беден и чрезвычайно горд. Благодеяние он мог принять, лишь вконец изголодавшись, что, впрочем, случалось с ним нередко. Когда же у него заводились деньги, он становился по-царски щедр и радушен, наслаждаясь обществом товарищей, которых мог угостить. Правда, он худо умел сводить расходы с доходами и потому слишком часто имел случай поупражняться в великом искусстве добровольного воздержания от самых привычных благ. Без всяких наставлений, самостоятельно он изготовлял очень хорошие клавикорды и фортепиано, иногда приносившие ему значительный доход, но при его щедрости денег хватало ненадолго. При этом голова его всегда была полна романтическими помыслами, и он вечно пылал страстью к какой-нибудь девице. Стоило ему напасть на эту тему, как он становился похож на влюбленного рыцаря давних времен. Его верность в дружбе, горячее желание помогать страждущим и самое его гостеприимство – все это сливалось воедино, отчасти почерпнутое из романов, коими питалась его фантазия, в основном же зиждимое его добрым сердцем, ибо семена добродетелей, рассеваемые в подобных романах, могли приняться и пустить корни лишь на почве доброго сердца. В своекорыстной душе и заскорузлом сердце чтение романов, сколь угодно обильное, никогда не произвело бы подобного действия.
Теперь легко понять, почему Филипп и Антон Райзеры столь сблизились и почему казались созданными друг для друга. Первому было почти двадцать лет, когда Антон с ним познакомился; годы, что их разделяли, делали старшего чем-то вроде наставника и советчика для него, жаль только, в главном вопросе – о роли порядка в жизни – он не смог отыскать наставника и советчика получше. Однако нашел в нем первого друга своей юности, чье общение и разговор отчасти скрашивали ему пребывание в хоре.
Ибо теперь погода окончательно испортилась, начались дожди, снег и холода, и тем не менее хору надлежало пропевать на улицах свои отмеренные часы. О, с каким нетерпением Райзер, коченея от мороза, теперь считал минуты, пока закончится это постылое пение, еще недавно звучавшее в его ушах божественной музыкой.
Вечера по средам и субботам, а воскресенья вовсе с утра до вечера были заняты пением, поскольку в воскресное утро ученикам-хористам полагалось присутствовать в церкви и подпевать с клироса: «Аминь!». Субботними вечерами младшие хористы исполняли вместе с кантором приуготовительное пение перед причастием и один из них читал нужный псалом, стоя на клиросе. Для Райзера это было отрадой – публичное чтение как бы вознаграждало его за все тягости хорового пения. Он уже воображал себя пастором Паульманом из Брауншвейга, потрясающим толпу своей речью.
Вскоре, однако, пение в хоре стало для него самым тягостным делом на свете. Оно лишало его последних часов отдыха, не оставляя ни одного спокойного дня в неделю. Как быстро потускнели золотые мечты об участии в хоре, еще недавно им столь лелеемые! И с какой охотой он откупился бы от этого рабства при малейшей возможности. Однако плата за пение считалась его доходной статьей, и потому он даже думать не смел о своем освобождении.
Большинству его товарищей по рабской участи приходилось не слаще, им так же опостылела эта жизнь. А жизнь ученика-хориста, вынужденного добывать свой хлеб пением у дверей, и впрямь весьма горька. Редкий юноша не падает от нее духом. Большинство же испытывают столь ужасное унижение, что во всю жизнь не могут избавиться от его следов.
Необычайное впечатление произвело на Райзера так называемое новогоднее песнопение, длящееся три дня кряду и – благодаря быстро сменяющимся картинам – напоминающее некое приключение. Горстка хористов мерзнет, тесно прижавшись друг к другу, на заснеженной улице, ждет, пока пришлют посланца из какого-нибудь дома, где хотят услышать их пение. Тогда все отправляются в названный дом, где сначала их заводят в одну из комнат для исполнения подобающих случаю арии или мотета. Иной раз хозяин оказывается настолько учтив, что велит поднести им вина или кофе с печеньем. Пребывание в теплой комнате после долгого простаивания на морозе и угощения так веселили душу, а мелькание сменяющихся картин – порой за день им доводилось повидать домашнюю обстановку более чем двух десятков семейств – производило столь отрадное впечатление, что эти три дня они находились в некоем упоении и постоянном ожидании новых и новых картин, охотно мирясь с тяготами непогоды. Пение продолжалось порой до самой ночи, а вечернее освещение делало представавшие им картины еще более праздничными. Под Новый год им приходилось навещать и женскую богадельню. Там хористы вместе со старушками, встав кругом и молитвенно сложив ладони, вместе пели: «Узреть сей день мне дал Господь». Во время этих праздничных песнопений все глядели друг на друга дружелюбнее обычного, общались не по ранжиру, старшеклассники легко заговаривали с младшими, и всех охватывало необыкновенно радостное настроение.
Под Новый год Райзера обуяла неистовая страсть к рифмоплетству. Он написал стихотворные поздравления родителям, брату, госпоже Фильтер и еще бог знает скольким людям, воспевая серебристые ручейки, вьющиеся среди цветов, нежный зефир и златые дни, чем всех привел в удивление. Отцу больше всего понравились серебристые ручейки, мать же была удивлена тем, что он именовал отца «лучшим из отцов», тогда как отец у него был только один.
Его познания в поэзии ограничивались в то время несколькими малыми произведениями Лессинга, взятыми у Филиппа Райзера и выученными почти наизусть, столь часто он к ним возвращался. Кстати, нетрудно догадаться, что для собственных занятий у него почти не оставалось свободного времени. И все-таки он строил самые что ни на есть грандиозные замыслы. Так, стиль Корнелия Непота казался ему недостаточно возвышенным, и он вознамерился изложить деяния полководцев совсем по-иному, своего рода героическими стихами в прозе, примерно так, как написан «Даниил во львином рву» Карла Мозера.
На частных уроках у конректора разбирались комедии Теренция, и одна лишь мысль о том, что этот автор числится среди трудных, заставила Райзера штудировать его с еще большим усердием, чем, к примеру, Федра или Евтропия, и переводить дома все его пьесы, прочитанные в школе.
Когда же он за весьма короткий срок действительно достиг больших успехов, то вновь посетил глухого старца, который к тому времени уже далеко перешагнул столетний рубеж и впал было в детство, однако, ко всеобщему удивлению, за год до смерти опять полностью обрел разум. Райзер хорошо помнил его комнату, расположенную в конце длинного темного коридора; при входе его охватил легкий озноб от звука шаркающих шагов старца, тот же дружески его приветствовал и жестом пригласил написать ему записку.
В упоенье Райзер написал, что теперь учится в школе и уже переводит Теренция и греческий Новый Завет.
Старец не чинясь разделил с Райзером его детскую радость и выразил удивление, что тот уже понимает Теренция, ведь для этого надобен богатый запас слов. Под конец, желая выказать свою ученость, Райзер написал несколько слов греческими буквами, в ответ старец поощрил его к дальнейшему усердию и увещал не оставлять молитвы, после чего вместе с ним опустился на колени и, как пять лет назад, когда Райзер впервые его увидел, помолился вместе с ним.
С растроганным сердцем Райзер пошел домой и решил впредь снова обратиться к Богу, что для него означало беспрестанно думать о Боге – с грустью вспоминал он душевное состояние, в коем пребывал мальчиком, когда все время собеседовал с Богом и напряженно ждал великих превращений, готовых в нем произойти. Воспоминания эти были невыразимо сладостны, ибо роман, который благочестивая душа, наделенная экзальтированной фантазией, затевает с высшим существом – полагая себя то совсем забытой, то опять к нему приближенной, то тоскуя и алча его общения, то впадая в сухость и равнодушие, – имеет в себе нечто воистину возвышенное и великое и черпает духовные силы в беспрестанной деятельности, не оставляя ее даже в ночных снах о предметах неземного свойства. Так, Райзеру однажды приснилось, будто он принят в круг святых и купается с ними в кристально прозрачных струях. Этот сон не раз потом волновал его воображение.
Райзер снова стал брать у старика Тишера сочинения мадам Гийон и, читая их, вспоминал о счастливых временах, когда был уверен, что подвигается по пути к совершенству. Теперь, когда внешние обстоятельства жизни наводили на него тоску и уныние, а чтение не шло в голову, Библия и «Песни» мадам Гийон, благодаря манящей тьме, которая их окутывала, оставались единственным его прибежищем. Сквозь завесу загадочных оборотов к нему пробивался мерцающий свет, освежавший его потускневшую фантазию, но вот подлинное благочестие и постоянство мыслей о Боге – с этим теперь дело вовсе не ладилось. Среди нынешних его знакомых никто и думать не думал о его душевном состоянии, а в школе и на хоре столь многое его отвлекало, что он едва смог выкроить неделю, чтобы предаться столь излюбленному им внутреннему сосредоточению.
Он продолжал изредка посещать старца, пока однажды, собираясь к нему, не узнал, что тот умер и уже погребен. Последними его словами были: «Всё! Всё! Всё!», и Райзер часто – во время молитвы или в наступившем молчании – с каким-то сердечным трепетом вспоминал, что уже слышал их от него. Порой ему казалось, что с этими словами старец хотел выдохнуть из себя свой созревший для вечности дух и в тот же миг стряхнуть смертную оболочку. Вот почему на Райзера столь сильно подействовала весть об этих предсмертных словах старца – иногда ему явственно представлялось, будто старец не умер, но продолжает жить в ином мире: смерть и вечность составляли единственный предмет его размышлений во время последних бесед его с Райзером. В последний раз, собираясь посетить старца, Райзер подумал, не иначе как тот куда-то переселился, и мысль о смерти этого человека была ему внутренне очень близка, не оставляя в его душе ни грана равнодушия.
В лице старца он потерял еще одного друга своей юности, чье участие в его судьбе приносило ему столь много радости. В иные часы, сам не зная отчего, он теперь острее прежнего ощущал свое одиночество. Госпожа Фильтер, которую его присутствие тяготило все больше, крепилась девять месяцев и наконец, не выдержав, заявила, что отказывает ему от дома, присовокупив бесценный совет подыскать себе другое жилище. Как раз в эту пору ректор лицея покинул свой пост, новоизбранный же ректор, по имени Секстро, оказался добрым другом пастора Маркварда, который вознамерился пристроить Райзера к нему в дом, указав Райзеру, какой великой выгодой может обернуться счастье быть принятым в дом к такому человеку. Итак, ему предстояло переехать в дом ректора – трудно передать словами, как льстило это его тщеславию! Ведь если ему посчастливится снискать расположение ректора, говорил он себе, какие блестящие виды на будущее откроются, когда ректор, сверх того, станет его учителем, поскольку после первого года обучения он перейдет в шестой класс, где преподавали лишь директор и ректор.
В глубине души он весьма обрадовался, что госпожа Фильтер выставила его за порог: сам-то он и словом боялся обмолвиться, что мечтает от нее съехать. Теперь же к этому добавилось и нетерпеливое ожидание сделаться домочадцем ректора, его будущего учителя. Но примерно к тому же времени относится новое причудливое порождение его фантазии, имевшее глубокое влияние на всю его последующую жизнь.
Я уже упоминал, что конректор ввел в пятом классе уроки декламации. Для Райзера и Иффланда они обладали такой притягательной силой, что затмили собою все остальное, и Райзер не мечтал ни о чем другом, как только обрести случай вместе со своими товарищами представить на сцене какую-нибудь комедию и продемонстрировать всем свое искусство. Очарование было столь сильно, что он день и ночь обдумывал план новой, собственной комедии, в которой неким двум друзьям предстояла разлука и они оттого безутешно страдали и т. д. В Лейдинговой «Библиотеке на каждый день», у кого-то им взятой, он отыскал «Отшельника», чувствительную драму в стихах, каковую замыслил исполнить вместе с Иффландом. Он искал для себя роли, исполненной самых ярких чувств и возвышенного пафоса, могущей провести его через ряд переживаний, коих он так жаждал, но не обретал в действительном мире, столь холодном и скудном. Это его желание было вполне естественным; свойственные ему порывы к дружбе, благодарности, великодушию и благородной решимости дремали в нем, не находя выхода – под действием внешних обстоятельств сердце его надолго сжалось. Не удивительно, что он жаждал раскрыться в некоем идеальном мире, где он мог бы следовать своим естественным чувствам! В атмосфере игры он оказался, окончательно потерявшись в мире действительном. Из-за этого дружба их с Филиппом Райзером приобрела почти театральные черты – зачастую они даже готовы были отдать жизнь друг за друга.
Театральные мечтания заняли так много места в душе Райзера, что почти вытеснили из нее прежнюю жажду проповедничества, поскольку его фантазия находила на сцене куда более широкий простор, больше действительной жизни и близких интересов, нежели в нескончаемых монологах проповедника. Когда он мысленно, одну за одной, пробегал сцены какой-нибудь драмы – прочитанной в книге или мысленно им начертанной, – то поочередно отождествлял себя с плодами своего воображения: становился то благородным, то преисполненным благодарности, порой обиженным и страдающим, а порой мужественным и непреклонным под ударами судьбы.
Переход в шестой класс теперь виделся ему чем-то необычайно прекрасным, поскольку шестиклассники Ганноверского лицея пользовались такими для всех явными преимуществами, каких не сыскать в других школах. В новогодний праздник они – при большом стечении народа – устраивали факельное шествие под гром музыки и провозглашали здравицу директору и ректору. Вечером того же дня они поочередно: год – ректору, год – директору преподносили купленный на добровольные пожертвования подарок стоимостью обычно не менее сотни талеров, причем ученик, вручавший подарок, произносил по-латыни краткое приветственное слово. Затем их угощали вином и печеньем, они же, прямо в доме учителя, позволяли себе вольность громогласно прокричать ему «vivat!».
Разговоры о подготовке торжества начинались обычно за три месяца до праздника.
Каждый год в разгар летней жары старшеклассники представляли для публики какую-нибудь комедию, выбор и постановка которой полностью отдавались на их усмотрение. Театральные хлопоты занимали у них почти все лето. На январь приходились именины королевы, на май – короля. Оба эти празднества отмечались в лицее пышным торжеством, на котором присутствовали принц, министры и почти все важные персоны города. Подготовка к этому собранию каждый раз отнимала очень много времени. Ко всему этому следует добавить два публичных экзамена, также сопровождавшиеся немалыми торжествами. И хотя времени тратилось без счета, все эти заманчивые предприятия в течение учебного года снова и снова возбуждали юное честолюбие, стоило ему немного померкнуть.
Удостоиться чести предводительствовать факельным шествием, произнести латинскую речь при вручении подарков или получить главную роль в представлении, а то и вовсе держать поздравительную речь перед королем или королевой – вот что было заветной целью и мечтой каждого шестиклассника Ганноверского лицея. Вдобавок в лицее имелся великолепный зал с изящной двойной кафедрой из орехового дерева, всегда натертой до блеска, и с зелеными занавесками на окнах – и все это словно бы соединялось вместе, чтобы дать пищу фантазии Райзера в виде заманчивых образов будущего и до крайности разгорячить его надежды на ближайшие перемены. Быть переведенным в шестой класс сразу же после первого года обучения – счастье, о котором он едва смел мечтать.
Переполненный такими надеждами и мечтами, он на каникулы в предпасхальную неделю отправился на попутных возах навестить родителей, чтобы поделиться с ними своей радостью. Дорога шла большей частью лесом и через поле, и в пути фантазия его, без того возбужденная, разыгралась во всю силу: один за другим набрасывал он планы героических поэм, трагедий, романов и еще бог весть каких сочинений – порой ему приходило на ум описать собственную жизнь, однако начало всякий раз выходило у него на манер какой-нибудь читанной им робинзонады: родился в таком-то и таком-то году в Ганновере, в семье бедных, но благородных родителей – и далее в том же духе.
И впоследствии всякий раз, как он совершал путешествие к своим родителям – пешком или на повозке, – воображение его разыгрывалось с необычайной силой: весь круг прошедшей жизни вставал перед ним, лишь только четыре ганноверские башни исчезали из поля зрения – в этот миг поле зрения его души, а заодно и глаз расширялось. Он чувствовал, что вырвался из тесного круга своего существования в широкий мир, где возможны все чудесные вещи, о которых он столько читал в романах, и быть может, издалека, вон из-за того холма, сейчас покажутся и станут приближаться отец и мать, а он радостно поспешит к ним навстречу – ему казалось, он уже слышит звуки их голосов, и теперь, впервые проделывая этот путь, он испытывал чистейшее наслаждение от этого душевного томления по встрече с родителями: о каких только своих великих замыслах он им не расскажет!
Когда в следующий полдень он добрался до места, родители и оба брата встретили его в своем сельском жилище с распростертыми объятьями. За домом у них был садик, и жили они довольно благополучно. Но, как он вскоре с грустью убедился, мира в доме как не было, так и не стало. Он снова слышал, как отец напевает песни мадам Гийон, аккомпанируя себе на цитре. Они вдвоем беседовали о ее учении, и Райзер, в уме которого уже сформировался род метафизической системы, близкой к спинозизму, чудесным образом соглашался с отцом во многом, что касалось ее положений о полноте божественного бытия и о ничтожности твари. Оба они полагали, что хорошо понимают друг друга, Райзер упивался этими беседами – ему льстило, что отец, еще недавно считавший его недалеким юнцом, теперь на равных беседует с ним о столь возвышенных предметах. Потом они нанесли визит проповеднику и отцам города, и повсюду Райзера приглашали к беседе, он же, поскольку подобное обращение так и вливало в него уверенность, вел себя с ними весьма достойно. Соседи родителей и навещавшие их гости – все приглядывались к сыну нотариуса, юноше, которого отправил учиться сам Ганноверский принц. Чистая, ничем не замутненная радость, пережитая им в эти несколько дней и соединенная с самыми радужными надеждами на будущее, полностью возместила ему все страдания и незаслуженные унижения, которым он подвергался целый год.
Но никто не принимал в его судьбе столь близкого участия, как мать. Вечером, когда он уже лежал в постели, мать читала над ним «Подай, Господи» и крестила его лоб, как делала это и раньше, – чтобы ему лучше спалось. И не проходило дня, коего утро и вечер она не заканчивала бы молитвой о нем. С тяжелым сердцем уезжал Антон от родителей, и когда перед его глазами снова проплыли ганноверские башни, сердце его сжали мрачные предчувствия.
На другой день по возвращении он держал перед директором экзамен на переход в следующий класс и, получив задание перевести отрывок из трактата Цицерона «Об обязанностях», так неловко перевернул страницу в директорском экземпляре, что чуть было ее не порвал. Этим несчастным проступком он грубо задел чувствительные струны в душе директора, который во всем старался придерживаться высшей деликатности. Райзер тем самым выказал недостаток тонкой чувствительности и тонкого обращения. Директор резко выговорил ему за его неловкость, и вследствие испытанного по этой причине стыда доверие Райзера к нему самому потерпело значительный ущерб, никогда уже не восполненный. Робость, которую Райзер с тех пор всегда испытывал в присутствии директора, еще более способствовала его приниженности в глазах последнего. В результате от одной лишь слишком поспешно перевернутой страницы в директорском экземпляре Цицероновой книги «Об обязанностях» произошли почти все страдания, претерпленные Райзером в последующие школьные годы, тогда как в действительности виною всему был недостаток внимания со стороны директора, чье одобрение, столь для него ценное, Райзер легкомысленно утратил слишком быстрым перелистыванием страниц.
Вдобавок госпожа Фильтер, хотя он съехал с ее квартиры, заперла на замок его новое платье, и ему снова пришлось посещать старшие классы в старом мундире, полученном еще от шляпника Лобенштайна, тогда как окружавшие его товарищи по большей части были одеты вполне прилично. Этот мундир, ставший слишком коротким, придавал ему смешной вид. Он отчетливо это ощущал, его внутренняя робость от этого лишь усилилась и проявлялась в старших классах как никогда прежде. А тут еще и кантор с конректором осерчали на него за то, что он перевелся в шестой класс, не сказав им об этом и не спросив совета. Он как мог оправдывался, мол, просто забыл об этом подумать. Кантор сразу его простил, а конректор так и не смог забыть обиды и еще долго его притеснял. Так, он предъявлял к нему непомерные требования на частных уроках, которые Райзер у него брал и о которых все полагали, что они даются бесплатно, тогда как на самом деле плату за эти уроки конректор в течение нескольких лет велел отчислять из его «хоровых» денег, в коих Райзер порой отчаянно нуждался. И это тоже крайне унижало Райзера.
В доме ректора он получил комнату с чуланом, но без обстановки, поскольку ректор и сам еще не успел хорошенько устроиться в своей квартире. У Райзера было шерстяное одеяло, доставшееся от родителей, кроме того, ему, для пущей экономии, дали подушку и пару матрасов; в холодные ночи ему приходилось наваливать на себя одежду, чтобы не закоченеть. Старые клавикорды, стоявшие тут же, служили ему вместо стола, маленькая скамейка была родом из ректорской аудитории, над кроватью висела на гвозде небольшая книжная полка, а в чулане стоял старый сундук с парой поношенного платья – с этим убогим имуществом он чувствовал себя куда счастливее, чем в комнате госпожи Фильтер, где удобств было несравненно больше.
Оставаясь один в своей комнате, он испытывал неподдельное блаженство, однако рядом с ректором по-прежнему чувствовал себя скованно. Даже заставая его облаченным в шлафрок и ночной колпак, Райзер видел вокруг него как бы нимб важности и достоинства, заставлявший держаться от него на почтительном отдалении. Когда же его попросили помочь ректору привести в порядок домашнюю библиотеку, ему пришлось то и дело приближаться к нему, передавая какую-нибудь книгу, – настолько, что можно было слышать его дыхание, – при этом Райзер нередко чувствовал какой-то прилив сил, но через минуту его вновь охватывали робость и смущенье. И все же он любил ректора – романтические фантазии, заполнявшие его голову, составляли заветную картину: как они вдвоем с ректором попадают на необитаемый остров и, уравненные самой судьбой, общаются совершенно доверительно и на дружеской ноге.
Ректор делал все, чтобы вселить в Райзера мужество и уверенность, и много раз обедал с ним наедине, беседуя о разных предметах. Райзер уже тогда начал строить писательские планы: он хотел заново, более изящным слогом переложить старую «Acerra philologika», и ректор отнесся к этому весьма благосклонно, поощрив его и в будущем строить подобные планы и осуществлять их с неизменным тщанием.
Обсуждая все это с ректором, Райзер с трудом подбирал точные выражения и потому говорил отрывистыми периодами, так как часто замолкал, дабы не исказить свою мысль неверным словом. Ректор с величайшей заботливостью приходил ему на помощь, вечерами иногда приглашал его в свою комнату и просил читать вслух.
Порой Райзер отваживался задать ректору вопрос, как, например: имеем ли мы право отнести стул к категории индивидов, коль скоро он может подлежать делению, – сомнение, возникшее у него на занятиях по логике, которую преподавал им директор. Ректор с величайшим снисхождением разрешал эти сомнения, хваля Райзера за вдумчивое отношение к подобным предметам. Более того, иногда он шутил с Райзером, если же давал ему поручение – принести книгу или что-то еще, – то всегда не приказным, а просительным тоном. Поначалу все шло прекрасно, но неумение правильно листать страницы вновь сыграло с Райзером злую шутку. Однажды он разрезбл для ректора сброшюрованные книги – да так неловко, что вспорол ножом несколько листов, почти совсем испортив несколько книг. Ректор чрезвычайно рассердился и осыпал его градом упреков, будто он сделал это по злому умыслу, чтобы увильнуть от работы. Это было неправдой, и упреки ректора так больно ранили Райзера, что мужество, мало-помалу возраставшее в нем, снова стало его покидать.
И все же он опять воспрянул духом, когда однажды ректор взял его с собой в короткую поездку в близлежащий католический город, чтобы посмотреть, как там справляют праздник Тела Христова. Ректор, конректор, кантор и несколько кандидатов теологии устроились в скорой почтовой карете, где нашлось местечко и Райзеру. Он слушал, как эти почтенные мужи, тесно прижатые друг к другу, что часто бывает в небольших компаниях попутчиков, добродушно подшучивали друг над другом, и это произвело на Райзера необыкновенное действие. Нимбы над их головами постепенно растаяли, и он впервые увидел в них обычных людей, ничем не отличающихся от всех других. Никогда еще не приходилось ему видеть общества черных кафтанов, непринужденно беседующих друг с другом и на время отбросивших деревянные и церемонные манеры, так приставшие их сословию. Лишь добрый кантор никак не мог расстаться со своей чопорностью и, когда на дороге им повстречалась толпа нищих, распевавших духовные песнопения, был до крайности раздражен сей ужасной какофонией, сотрясшей его слух, так что все остальные от души ему сочувствовали. Никогда Райзер не видел, чтобы столь почтенные мужи подтрунивали друг над другом, как простые люди. И это новое впечатление позднее весьма ему пригодилось: теперь он мог представить себе в так путешествующей компании каждого священника, коего прежде считал чуть ли не сверхъестественным существом, и легко лишал его нимба, прежде столь плотно облегавшего его голову.
Правда, он опять живо почувствовал в этом обществе свое ничтожество, и когда все они, вместе с присоединившимися к ним несколькими посторонними людьми, осматривали достопримечательности монастырей и памятники католического города, он, как всегда, сознавал себя самым последним среди всех и воспринимал эту прогулку как выпавшую ему великую честь. Подобные мысли привели к тому, что он стал вести себя скованно, робко и глупо, и эту свою глупую робость чувствовал, пожалуй, сильнее, чем кто-либо из окружающих, а потому вся поездка, во время которой ему довелось услышать и увидеть так много нового, не принесла ему никакой радости и он ничего так не желал, как снова очутиться в своей уединенной комнатке со скамейкой, старыми клавикордами и книжной полкой, гвоздем прибитой над его кроватью.
Но с некоторых пор его жизнь больше всего отравляло новое и незаслуженное унижение, проистекавшее из его нынешних обстоятельств, изменить которые он был не в силах.
Когда он начал посещать шестой класс, то нередко слышал за своей спиной шепот: «Гляди, вон идет ректорский famulus!» С этой кличкой Райзер связывал самые низменные представления, поскольку не знал тогда о подлинном статусе фамулуса в университете. Для него это слово означало нечто даже более худшее, чем слуга, который ваксит башмаки своему господину. Вдобавок он заподозрил, что товарищи стали относиться к нему с каким-то презрением. Райзер представлял себе, сколь жалкую фигуру он являет в своем коротком мундире. Учась в пятом классе, он, несмотря на худое платье, пользовался уважением товарищей, ставивших ему в заслугу, что он направлен учиться самим принцем. Здесь тоже некоторые об этом знали, но слухи о том, что он – фамулус ректора, казалось, унижали его во всеобщем мнении. В шестом классе чрезвычайно большое внимание уделялось месту, где сидел ученик, высокие места добывались упорным прилежанием. Обыкновенно перебраться на лучшую скамью удавалось раз в полгода. Первые четыре скамьи были отведены для низшего уровня, последние три – для высшего. Те, кто через полгода оставался в хвосте, терпели величайшее унижение.
А тут еще на третий день обучения, когда один из старшеклассников с малой кафедры вслух зачитывал молитву, сосед Райзера шепнул ему что-то на ухо, Райзер в ответ улыбнулся, но, увидев, что застигнут директором, тотчас попытался перекроить улыбку в серьезную мину. Но поскольку память о том, как он едва не порвал книгу на экзамене, была в нем еще жива, то сразу придать своей физиономии сколько-нибудь благопристойный вид он не сумел, получилось нечто лживое, скверное и трусливое, вызвавшее гневный и презрительный взгляд директора прямо во время молитвы. Подобный директорский взгляд не мог не привлечь к себе всеобщее внимание. Когда же молитва закончилась, он в нескольких словах обрисовал Райзеру всю низменную сущность его гримасы, чем вызвал презрение к нему со стороны всего класса, привыкшего воспринимать слова директора как вещания свыше.
С тех пор Райзер более не отваживался поднять глаза на директора и на его уроках вел себя как человек, находящийся в полном пренебрежении: директор совсем перестал его вызывать. Несколько юношей, перешедших в старший класс позже Райзера, успели перейти на более высокие места, а он же уже несколько месяцев сидел в самом конце класса. Юный Реберг, светлая голова, позднее прославившийся как художник, сидел рядом с Райзером и, по всему судя, был не прочь с ним подружиться, но одного взгляда директора, брошенного на него при попытке заговорить с Райзером, было достаточно, чтобы погасить в нем малейшую искру участия и вселить отчуждение в его сердце. Отношение директора к Райзеру явилось следствием робкой и недоверчивой натуры последнего, которая как будто выдавала его низкую душу, однако директор не мог взять в толк другого: эта робкая и недоверчивая натура как раз и сформировалась под влиянием его отношения к Райзеру.
Теперь Райзер упал и во мнении своих товарищей; каждый норовил к нему задираться, каждый упражнял на нем свое остроумие, но стоило ему ответить на чью-либо насмешку, как тотчас набегали два десятка других и наперебой начинали его дразнить. Даже его храбрость, когда он отвечал кулаками чересчур зарвавшимся, дабы по возможности образумить остальных, вызывала у них лишь приступы хохота. Теперь они уже не просто шептались: «Гляди-ка, вон пошел ректорский famulus!», но встречали его по утрам возгласами: «Famulus пришел!», и это издевательское прозвище неслось к нему изо всех углов. Казалось, они сознательно сговорились травить его и высмеивать.
Жизнь стала для него адом, он выл, бушевал и впадал в исступление, но это вызывало лишь новые насмешки. Порой вместо ярости и приступов бешенства из-за уязвленной гордости на него находило отупение всех чувств, и тогда он переставал замечать, чту происходит вокруг, и позволял делать с собой что угодно, становясь воистину достойным издевательств и насмешек.
Не удивительно, что после такого унизительного обращения он, наконец, и вправду ощутил в себе известную низменность характера. Однако он еще находил в себе силы уноситься воображением из действительного мира. Только это и поддерживало его достоинство. Если в зримом мире его душа подвергалась тысяче унижений, то, читая или обдумывая роман или героическую драму, он снова и снова исполнялся благородством, решимостью, бескорыстием и мужеством. Часто, стоя с хором на лютом морозе, он задумывался над страданиями, которыми изобилует мир, или разыгрывал в уме веселые сценки, – так он мог фантазировать целыми часами, пока мелодия, звучавшая в его ушах и им же пропетая, далеко уносила его мечты.
Самой волнующей и возвышенной была для него минута, когда префект хора приступал к пению:
Лейо, солнце щедро Свет в глухие недра, Сквозь дремучий мрак —Уже первое слово, Лейо, переносило его в высшие сферы и до крайности возбуждало фантазию, так как он принимал его за какое-то восточное выражение с непонятным, а потому необычайно возвышенным смыслом, пока наконец не увидел этот текст написанным под нотными линейками и не понял, что означает он
Лей, о солнце, щедро, и т. д.Просто префект всегда пел эти слова с тюрингским выговором. И тут разом исчезло все волшебство, которое доставило Райзеру столько светлых минут. Столь же волнующе действовало на него пение «Ты хранишь нас под покровом» или «Только крепкий твой оплот нам покой и сон дает».
Сладостное сознание небесного покровительства так его убаюкивало, что он забывал и о дожде, и о морозе, и о снеге, словно спал в своей постели, овеваемой мягким ветерком.
Со стороны же казалось, будто непогода объединяет все свои силы, чтобы согнуть его и унизить.
Когда наступило лето, ректор уехал на несколько недель, оставив Райзера одного в доме, и Райзер неплохо провел это время. Он взял себе в библиотеке ректора несколько книг, среди которых были сочинения Моисея Мендельсона и «Письма о литературе», и сделал из них выписки в тетрадь.
Особенно тщательно он конспектировал книги, имеющие касательство к театру, поскольку мысль о театре уже глубоко засела в его голове как некое зерно, из коего впоследствии выросли все его бедствия и горести.
Впервые эта мысль проснулась в нем на уроках декламации еще в пятом классе и понемногу вытеснила из его головы мечты о проповедничестве: диалог со сцены вдохновлял его сильнее, чем нескончаемый монолог с кафедры. К тому же в театре он мог проявить качества, о которых мечтал, но к которым отнюдь не располагала повседневность: как часто желал он стать великодушным, добросердечным, благородным и стойким, подняться над унижением и бесчестьем и как изнывал от желания на краткий миг воплотить обманчивой игрой воображения все эти чувства, столь близкие, казалось, его натуре, но недоступные ему в жизни.
Вот, в общих чертах, чем манила его идея театра уже в то время. Он вновь воссоединялся здесь с чувствами и настроениями, которые не находили себе места в окружающем. Театр виделся ему миром более естественным и соответственным его личности, нежели мир, в котором он жил.
С наступлением летних каникул старшеклассники, как обычно, стали готовить публичные представления разных комедий. Окруженный всеобщим презрением как ректорский famulus, Райзер не мог питать и малейшей надежды получить роль, да что там, никто из сотоварищей не дал бы ему и входного билета в зал. От всего этого он мучился унижением пуще прежнего, пока наконец не придумал вместе с двумя-тремя товарищами, также не получившими роли, образовать нечто вроде партии недовольных и прямо в их общей комнате сыграть для небольшого числа зрителей свою комедию.
Для исполнения была выбрана драма «Филот», Райзер за деньги выкупил роль заглавного героя у другого ученика, исполнявшего ее дурно, и приготовлялся играть ее сам.
Теперь он оказался в своей стихии. На протяжении всего вечера он мог быть стойким и благородным; часы, проведенные в репетициях, и вечер выступления были счастливейшими в его жизни, хотя весь театр состоял из плохонькой комнаты с выбеленными стенами, а партер помещался в примыкавшем к ней чулане; на месте снятой с петель двери приспособили шерстяное одеяло, служившее занавесом. Публики же всего-то и было, что хозяин дома, по ремеслу горшечник, его жена да подмастерья, а освещение состояло из нескольких грошовых свечек, наскоро прикрепленных к стенке жидким клеем.
В качестве нахшпиля представили диалог «Умирающий Сократ» из «Историко-моральных картин» Миллера, где Райзеру досталась лишь роль одного из друзей Сократа, а другой юноша, по имени Г., играл самого умирающего Сократа, который, как положено, осушил чашу с цикутой и в ужасных судорогах скончался на кровати, специально для этого принесенной в гостиную.
Участие в этом нахшпиле отравило Райзеру почти все его школьные годы.
Его одноклассники прознали, что, кроме них, какую-то комедию представляют их оставшиеся без ролей товарищи, и восприняли это как нарушение своих прав, предпринятое лишь из упрямства и высокомерия.
Они всячески старались отомстить соперникам за это, как им казалось, ужасное оскорбление, и с этих пор четверым участникам «Филота» по вечерам уже не давали проходу на улице. Все четверо стали предметом ненависти, презрения и насмешек, Райзеру же доставалось больше других, поскольку остальные вообще редко посещали занятия. К нему и раньше-то все в классе относились с презрением, проистекавшим отчасти от необъяснимой всеобщей антипатии, отчасти же – от его униженного или казавшегося таковым положения, застенчивого вида и чересчур короткого мундира. Теперь к этому презрению присоединилось всеобщее озлобление, придававшее донельзя едкий характер шуткам, которыми его осыпали со всех сторон.
И хотя роль умирающего Сократа в нахшпиле играл не он, а Г., отныне к нему пристала кличка Умирающий Сократ и держалась едва ли не до тех пор, пока поколение его ровесников не стало понемногу покидать школу. А за год до того, как ему самому предстояло окончить школу, он тяжко заболел и перестал выходить из дома; когда же он захотел посмотреть новую комедию, которую тогда поставили на сцене старшеклассники, то пустить в зал его пустили, но окатив таким презрением и насмешками, с возгласами: «Глядите, Умирающий Сократ пришел!», что он сразу же повернулся и в тоске побрел домой.
Обычно среди людей преобладает известное добродушие: предметом насмешек делают лишь того, кому они более или менее безразличны, если же насмешники видят, что их шутки действительно ранят и обижают человека, то, по крайней мере, не дразнят его непрерывно, и в конце концов сострадание берет верх над злорадством.
Но с Райзером случилось иначе. Он чах день ото дня и скоро стал похож на бродячую тень; все сделалось ему безразлично, окончательно потеряв мужество, он повсюду искал одиночества, но это не вызвало к нему и капли сочувствия, настолько сильно сердца окружающих ожесточились ненавистью и презрением.
Кроме Райзера, предметом насмешек был некий Т., который подавал к ним повод своим заиканием. Однако он обращал на травлю мало внимания – так животному с толстой кожей бывают безразличны побои. Насмешники могли оправдаться тем, что их шутки его не ранят. Но в случае с Райзером они и не искали подобных оправданий. Все это до глубины души его ожесточило и сделало законченным мизантропом.
И в таком положении откуда было взяться у него честолюбию, старательности и рвению к учебе? Полностью вытесненный из классного соревнования, одинокий, всеми заброшенный, он искал лишь способов еще больше уединиться и устраниться. Все, чем он в одиночестве занимался в своей комнате, будь то чтение или раздумья, доставляло ему удовольствие, а к тому, что приходилось выполнять в классе наравне с другими учениками, он относился вяло и безразлично, словно со стороны. Таковым-то оказалось чудесное исполнение его мечтаний о длинных рядах скамеек и учениках, вкушающих на них мед мудрости, его упоенных фантазий о себе самом в их числе, о соревновании с товарищами за первое место.
Между тем ректор, в чьем доме он жил, вернулся из поездки и привез с собой мать, которая вознамерилась привести их домашнее хозяйство в образцовый порядок. Наступила зима, но никто не заботился об обогреве комнаты Райзера, он испытывал жесточайший холод и все надеялся, что хоть кто-нибудь наконец о нем вспомнит, – пока однажды ему не сказали, что отныне он должен проводить дневное время в комнате для прислуги.
Теперь он и вовсе перестал замечать окружающее. Отвергнутый и презираемый учителями и товарищами, никем не любимый из-за своей вечной унылости и робости, он и сам словно бы махнул рукой на людские мнения и стремился лишь к одному – полностью уйти в себя.
Он зачастил к букинисту, где брал для чтения роман за романом, комедию за комедией. Все деньги, которые удавалось скопить ценой больших лишений, он тратил на книги, когда же букинист узнал его ближе, то стал выдавать ему их в долг, не требуя платы сразу, так Райзер, сам того не заметив, оказался у него в должниках, и хотя сумма долга сама по себе была невелика, вернуть ее он в то время не имел возможности.
Он попытался частично погасить долг продажей принадлежавших ему школьных учебников, которые букинист купил по смехотворно низкой цене, дав ему за это для прочтения еще несколько книг, так что вскоре он погряз в новых долгах и боялся даже думать о том, как будет их выплачивать.
Чтение стало для него такой же потребностью, как на Востоке курение опиума, где люди приятно затуманивают им свое восприятие мира. Когда ему не хватало книг, он был готов обменять свой мундир на рубище нищего, только бы их заполучить. Эту его страсть букинист отлично умел использовать к своей выгоде: он постепенно выманил у Райзера все его книги и часто в его же присутствии продавал их кому-нибудь вшестеро дороже, чем купил у него.
Из сказанного видно, что вряд ли можно было упрекать того, кто счел бы Райзера беспутным и пропащим молодым человеком, который продает свои школьные учебники, вместо того чтобы углублять познания и прилежно слушать учителя на уроках, не читает ничего, кроме романов и комедий, а вдобавок еще и небрежет своим внешним видом, да и могло ли быть иначе, если он потерял интерес к своему телу, оттого что не люб был никому в этом мире, и потому все деньги, отпущенные ему на прачку и портного, относил в лавку букиниста, ибо потребность чтения превышала у него и жажду, и голод: он мог провести вечер за чтением «Уголино», не имея за весь день во рту маковой росинки, так как нередко пропускал свой бесплатный обед за чтением, а деньги, предназначенные для ужина, отдал за «Уголино» и свечу, при свете которой, закутавшись в шерстяное одеяло, просиживал в холодной комнате до полуночи, весьма живо ощущая муки голода, испытываемые героем трагедии.
Между тем эти часы, вырванные из хаоса жизни, были для него счастливейшими, они полностью опьяняли его сознание, и он забывал тогда целый мир.
Так он изучил подряд двенадцать или четырнадцать вышедших в то время книг о немецком театре, и, дважды или трижды с величайшим наслаждением прочитав «Сентиментальное путешествие» Стерна, взял у букиниста «Сентиментальное путешествие Шуммеля по Германии».
Уже тогда начал он записывать в особую книжицу названия прочитанных книг и свои суждения о них, так, о «Сентиментальном путешествии Шуммеля по Германии» он записал: exercitium extemporaneum[8], поскольку сам автор признался, что все разнообразные предметы, собранные в этом толстом томе, просто надерганы из разных мест, дабы читатели сами судили, в какой области письма он преуспевает лучше. Позднее автор этого «Путешествия» загладил свою неудачу трагикомической историей о «Бородке».
Однако немного нашлось бы книг, о чтении которых Райзер жалел бы больше, чем об этом «Путешествии».
Так со временем он все лучше научался отличать посредственное и дурное от хорошего.
Но что бы он ни читал, идея театра всегда владела его мыслями, драматический мир неудержимо влек его и манил – там он забывал и свои слезы, там попеременно впадал то в дикий и яростный гнев, безумие и мстительность, то в разные теплые чувства: великодушное всепрощение, всепобеждающее милосердие и безбрежное сострадание.
Все его внешние обстоятельства и отношения с окружающим миром были ему так ненавистны, что ему постоянно хотелось зажмурить глаза. Ректор дома звал его по имени, как зовут слуг, и однажды ему пришлось звать к столу школьного товарища, который приходился сыном одному из друзей ректора, и пока тот ужинал вместе с ректором, Райзер должен был подносить вино и дожидаться в комнате для прислуги рядом с гостиной, где они угощались и откуда до него доносился разговор этого юноши с ректором, тогда как сам он оставался сидеть рядом со служанкой.
Ректор давал школьникам несколько частных уроков, когда же по какой-то причине урок отменялся, Райзеру, который обычно тоже посещал эти уроки, надлежало обойти всех учеников и сообщить им об отмене, что лишь увеличивало их презрение к нему.
Подобное пренебрежение со стороны окружающих вполне объяснимо: ко всему, что происходило вне его «я», Райзер был абсолютно безучастен и к любому делу, отвлекавшему от его собственного духовного мира, относился досадливо и равнодушно. Стоит ли удивляться, что в нем, безучастном, люди тоже не хотели принимать участия, что они отвечали ему презрением, обходили его стороной да и вовсе о нем забывали?
Не понимали они лишь одного – что его поведение, из-за которого они им пренебрегали, само было следствием людского пренебрежения в более раннем его возрасте. Вот это-то пренебрежение, возникшее из-за целого ряда случайных обстоятельств, и породило такое его поведение, а вовсе не наоборот, как они думали: будто поведение юноши было причиной всеобщего пренебрежения к нему.
Так пусть это заставит всех учителей и педагогов быть осмотрительнее в своих суждениях о развитии характера молодых людей и внимательно учитывать воздействие на него бесчисленных и случайных обстоятельств, тщательно их исследовать, прежде чем дерзнуть своим суждением решать судьбу человека, которому, быть может, хватило бы одного ободряющего взгляда, чтобы внезапно переродиться, поскольку вовсе не природные черты характера, но особое стечение обстоятельств могут стать причиной его на взгляд столь дурного поведения.
Видимо, участью Антона Райзера было воспринимать благодеяния как муку. Разве не благодеянием стало для него проживание в доме госпожи Фильтер? Но какой мукой и тягостью обернулся тот год для Райзера! А приглашение ректора жить у него в доме? Но сколько унижений и презрения со стороны школьных товарищей пришлось ему перенести во время пребывания в этом доме, рисовавшегося ему в столь заманчивом свете!
Никто из наблюдавших Райзера со стороны не мог сказать о нем ни одного доброго слова. Сам ректор сказал о нем пастору Маркварду, что ему в жизни не суждено подняться выше сельского учителя. Позднее и пастор Марквард снова напомнил ему об этом, и суждение ректора, которому Райзер в ту пору еще не мог противопоставить собственного мнения о себе, еще больше его подавило.
Поскольку же ректор, по всей видимости, действительно полагал, что подняться Райзеру все равно не суждено, то и приспособил его к чему возможно – к разным мелким поручениям по дому и вне дома, так что Райзер, хотя и числился старшеклассником, по сути дела стал у него слугой.
Все-таки однажды ему довелось воспользоваться правами старшеклассника, это случилось, когда он, позаимствовав из отпущенных ему «хоровых» денег, вложил свою долю в новогодний подарок для ректора и за это получил право участвовать в факельном шествии, ибо на Новый год по установившемуся обычаю ученики приветствовали директора и ректора музыкой и выкликали в их честь здравицу.
И хотя ему отвели место в самом хвосте шествия, дух его необычайно приободрился, ведь, несмотря на пережитые унижения и обиды, он вновь оказался как бы включенным в общее целое и, со шпагой на поясе и факелом в руке, кричал «виват!» вместе с остальными.
Музыка, толпа зрителей, пламя факелов, предводители шествия в шляпах с плюмажами и шпагами наголо – все это наполняло его новым воодушевлением, так как он и сам был частью этой сверкающей процессии.
Когда же на следующий день он вместе с другими старшеклассниками присутствовал при сопровождаемом латинской речью вручении ректору серебряного блюда с новогодним подарком, в коем была и его доля участия, он с известным удовлетворением снова почувствовал, что принадлежит действительному миру, что не вовсе исключен и не вытеснен из него. Но как ужасно злоба и высокомерие школьных товарищей отравили ему и это маленькое удовольствие!
Ректор угощал старшеклассников, вручавших подарок, вином и пирожными. Те снова и снова провозглашали тосты за его здоровье и под конец, когда вино ударило им в голову, изрядно расшумелись. Райзер выпил несколько бокалов вина, не чувствуя дурных последствий, хотя, по непривычке к вину, уже после первых двух слегка захмелел. И тут его благомыслящие товарищи затеяли напоить его допьяна, что посредством хитрости, а то и угроз им удалось вполне: Райзер понес ужасающую чепуху и под конец вечера был препровожден в кровать.
Если и прежде доверие к Райзеру и мнение о нем всех знакомых были донельзя низкими, то последнее происшествие нанесло по его репутации непоправимый удар. Раньше он слыл лишь лентяем, неряхой и нерадивцем, теперь же о нем заговорили как о невоздержанном и дурном человеке, поскольку, живя в доме у своего учителя и благодетеля, он своим недостойным поведением явил всем неблагодарнейшее из сердец.
Все эти последствия Райзер смутно прозревал и, одеваясь поутру, твердо решил вымолить у ректора прощенье за свое вчерашнее поведение.
Он наизусть вытвердил свою речь, где между прочим заверил ректора, что постарается всеми способами смыть с себя это пятно, ректор же довольно сухо возразил, что последствия этого случая, если он станет известен, скрыть будет весьма трудно.
И ректор оказался прав, молва о происшедшем быстро разнеслась, и все говорили одно: Как? Юноша пользуется благодеяниями, даже принц тратит на него деньги, живет он у своего благодетеля, предоставившего ему кров, гостеприимно его приютившего, – и ведет себя подробным образом!
Но хотя последствия случившегося не заставили себя ждать и весьма огорчали Райзера, все же на следующий день, когда хористы обсмеяли его за бледный и помятый вид – плод вчерашней попойки, он странным образом испытал нечто вроде гордости, как будто похмелье придало ему удальства, и он еще нарочно пошатывался, чтобы этим притворством привлечь к себе больше внимания.
Ведь всеобщее внимание, в котором на этот раз было больше своего рода одобрения, чем насмешки, льстило ему. К тому же на него смотрели так, как люди обычно смотрят на попавшего в ту же беду, в какую порой попадали они сами, ведь префект хора, к примеру, сам нередко ходил под хмельком; тайное удовлетворение, испытанное Райзером, возомнившим, будто он смог отличиться благодаря дурному поведению, являет собой опаснейшую ловушку, коей не минует большинство молодых людей.
Между тем гордыни у Райзера заметно поубавилось, когда он вскоре почувствовал на себе последствия, напророченные ректором. Повсюду встречал он холодные и презрительные взгляды. По этой причине он все чаще стал пропускать свои бесплатные обеды, предпочитая голодать или питаться хлебом с солью, лишь бы не чувствовать на себе подобные взгляды. Лишь у сапожника Шанца он по-прежнему бывал с удовольствием, так как взгляды его домашних всегда светились дружелюбием и никто здесь не заставлял его расплачиваться за превратности его злой судьбы.
В то время ему еще и в голову не приходило оправдывать свои прегрешения. Куда больше, чем себе, он доверял мнению окружающих и лишь корил себя и горько упрекал за недочеты в учении, за пристрастие к чтению, за провинность перед букинистом. Он еще не мог постичь, что все его провинности суть естественное следствие крайне скудных обстоятельств, в коих он вынужден был существовать. В таком-то душевном состоянии, восстав на самого себя, с фантазией, распаленной от недавно прочитанной трагедии, он написал отчаянное письмо отцу, изобразив себя как величайшего преступника и употребив такое непомерное число тире, что его отец не знал, как и быть с этим письмом, и всерьез усомнился в душевном здоровье его автора. Между тем письмо было неотделимо от позы, какую в то время принял Райзер. Он находил особый род удовольствия в том, чтобы – подобно героям многих трагедий – рисовать себя самыми черными красками и с истинно трагической страстью ополчаться на самого же себя.
Поскольку никто в мире, не исключая и его самого, не был ему другом, чего он мог желать сильнее, как только забыть самого себя?
Букинистическая лавка сделалась по этой причине его постоянным прибежищем, без нее он не вынес бы своего существования, которое в иные часы умел сделать не только вполне сносным, но даже приятным, – когда, например, собирал в доме своего кузена, изготовителя париков, небольшую аудиторию, пусть и не слишком блестящую, и со всей доступной ему выразительностью декламировал перед нею какую-нибудь из своих любимых трагедий, «Эмилию Галотти», «Уголино» либо что-то слезное вроде Гесснеровой «Смерти Авеля», испытывая неописуемый восторг, когда замечал в глазах слушателей слезы, в коих прочитывал верное свидетельство, что его заветная цель – трогать сердца своим чтением – достигнута.
В то время лучшие часы своей жизни он проводил либо наедине с самим собой, либо в этом небольшом кружке, собиравшемся у кузена, где он чувствовал известную власть над людскими умами и привлекал к себе всеобщее внимание – здесь его слушали, здесь он мог читать вслух, декламировать, рассказывать и учить других. Здесь он порой вступал с подмастерьями в диспуты на чрезвычайно важные темы: о сущности души, о происхождении вещей, о мировом духе и тому подобном, привлекая их внимание к предметам, прежде им совершенно неведомым, и тем их совершенно обескураживая.
Особенно долгими выходили у него беседы с подмастерьем сапожника, который начал входить во вкус подобных разговоров. Они часами рассуждали о том, как возможно возникновение мира из ничего, и отсюда умозаключали к учению об эманации и к системе Спинозы, утверждавшего, что Бог и мир суть одно.
Когда для выражения означенных материй обходятся без школьной терминологии, они понятны всякому, даже детям.
За этими разговорами Райзер обыкновенно забывал свои заботы и печали; все, что прежде его тяготило, теперь казалось ему слишком мелким, чтобы занимать этим свое внимание, – он чувствовал себя на время изъятым из земного порядка вещей, наслаждался преимуществами духовного мира и каждого, кто в такую минуту случался рядом, вовлекал в философскую беседу и упражнял на нем силу своего ума.
Между тем, хотя и почти лишенный дружеской поддержки, зато в избытке прошедший через множество унижений, он не совсем напрасно проводил школьные часы. На уроках у директора он писал новую историю, упражнялся в догматике и логике, у ректора изучал географию, переводил отрывки из латинских авторов и потому, помимо чтения комедий и романов, успевал усвоить и кое-какие научные сведения, а также, без особых к тому намерений, сделал некоторые успехи в латинском.
Все это, однако, происходило как бы ненароком – иные уроки он пропускал, на иных зачитывался каким-нибудь романом, пока остальные штудировали Тита Ливия или другого латинского автора, – знал ведь, что директор все равно не соизволит его вызвать. Но когда он проводил часы среди ровесников, которых могло быть и шесть, и семьдесят и из которых едва ли хоть один был дружески к нему расположен, напротив, все осыпали его шутками и обдавали презрением, – естественно, что он постоянно робел и потому невольно переносился в другой, мечтательный мир, где чувствовал себя гораздо уверенней.
Но его жестоко лишили и этого прибежища – однажды, когда он до начала занятий читал какую-то книгу о немецком театре, кто-то выхватил ее у него и перед самым приходом ректора положил на кафедру. На вопрос, откуда взялась эта книга, было сказано, что она принадлежит Райзеру, который вечно читает ее на уроках. В ответ на этот донос ректор лишь бросил на Райзера уничижительно-презрительный взгляд.
Этот взгляд лишил Райзера последней частицы самоуважения, которая в нем еще оставалась: и в мыслях не имея искать самооправданий, он был уверен, что заслуживает презрения, и в ту минуту чувствовал себя именно таким презренным и ничтожным существом, каким считал его ректор.
После этого случая он еще ниже пал в глазах ректора и однажды, когда он забыл передать ректору некое поручение от неизвестного ему человека, тот впервые употребил по отношению к нему крепкое словцо, сказав, что подобное разгильдяйство есть поистине сущее тупоумие.
Это выражение на долгое время словно бы окостенило его душу. Как и кличку «Тупица!», брошенную инспектором на уроке, или «Я не вас имел в виду» купца С., он никогда не мог его забыть. Эти слова прямо-таки пропитали его сознание и не раз лишали его присутствия духа как раз в такие минуты, когда он более всего в нем нуждался.
Один из друзей ректора, который несколько недель гостил в Ганновере и которому Райзер несколько раз услужил, при отъезде оставил чаевые ему и служанке. Получая деньги, Райзер испытал целую бурю чувств: сначала он ощутил острый укол, но боль быстро прошла, потому что он подумал о букинисте и сей же час забыл обо всем на свете: за эти деньги он мог прочесть у того более двадцати книг; уязвленная гордость его возмутилась и – сдалась. Отныне Райзер вообще перестал обращать на себя внимание и во всем, что касалось его отношений с миром, окончательно махнул на себя рукой.
Его платье, день ото дня ветшавшее и приходившее в негодность, теперь оставляло его безразличным. В школе, на хоре или на улице он ощущал себя совсем одиноким среди людей, из коих ни один не заботился о нем и не принимал в нем никакого участия. Собственная судьба в мире стала ему оттого казаться столь презренной, мелкой и никчемной, что самого себя он уже не ставил ни в грош, зато принимал живейшее участие в судьбе мисс Сары Симпсон, Ромео и Юлии, мысли о которых не покидали его по целым дням.
Едва ли что было для него несносней, чем конец уроков, когда он выходил из школы вместе со стайкой товарищей, из которых каждый одевался лучше его, глядел веселее и жизнерадостней, и никому из них не было по пути с Райзером, – как часто в такие минуты он желал сбросить с себя телесную обузу, чтобы внезапная смерть вырвала его из этих мучительных отношений! Когда же, пробираясь узенькими проулками, без спутников, он наконец исчезал из поля зрения своих однокашников, с какой радостью он поспешал в самые отдаленные и пустынные городские кварталы, чтобы там без помех предаться своим безутешным мыслям.
Порой ему составлял компанию самый глупый ученик класса, точно так же всеми презираемый, и Райзер с готовностью разделял его общество – какой-никакой, а спутник; когда же они попадались на глаза товарищам, те переговаривались между собой: «Par nobile fratrum! – Вот так знатная парочка!» Так Райзера зачислили в один разряд с этим неподдельным тупицей.
Поскольку и ректор говорил, что Райзеру не суждено подняться выше сельского учителя, все это, соединяясь вместе, окончательно лишило его всякой уверенности в себе и едва ли не в своем разуме, и он порой начинал всерьез считать себя тупицей, каким считали его окружающие. Но эта мысль приобретала и другой оборот, рождая озлобленность против существующего порядка вещей: в уверенности, что рожден презреннейшим из всех людей в насмешку миру, он одновременно проклинал и этот мир, и себя самого.
Насколько далеко заходила убежденность школьных товарищей в его прирожденном тупоумии, видно из следующего случая.
Ректор разрешил Райзеру присутствовать на частных уроках, которые давал у себя на дому. Среди прочего он преподавал и английский язык. У Райзера, однако, не было книги для английского чтения, дома он упражняться не мог и поневоле поглядывал в книгу соседа, но через неделю-другую со слуха усвоил большинство правил английского произношения и, когда ректор по случайности вызвал его для чтения, прочел заданное более бегло и ясно, чем те, кто дома упражнялся по книге.
И вот однажды он услышал в соседней комнате разговор о себе, мол, Райзер, не такой уж тупица, коли сумел так скоро усвоить трудный английский выговор. Но другой ученик, желая немедля разрушить возникшее было благоприятное мнение, стал уверять других, будто отец Райзера по рождению англичанин и потому сын просто вспомнил английскую речь, слышанную еще в детстве. Остальные с готовностью поверили в этот рассказ, и таким образом Райзер снова опустился в их глазах до прежнего уровня.
Их сказанного видно, что для молодого человека в пору взросления и учения мнение школьных товарищей необычайно важно, хотя в публичных воспитательных заведениях об этом пока задумываются слишком мало.
Единственным, что бы вызволило Райзера из его отчаянного положения и вновь превратило в обыкновенного юношу, могло стать совсем небольшое усилие учителей, желающих поднять его в глазах товарищей. И достичь этого они могли бы, просто подвергнув чуть более тщательной проверке его способности и обратив на него чуть больше внимания.
Итак, зима протекла для Райзера донельзя горестно. Его маленькое хозяйство вконец развалилось – в своем ветхом платье он даже не решался явиться к принцу за месячным содержанием, перед букинистом оказался в глубоком долгу, да и прочие свои нужды, как стирку одежды и покупку башмаков, он не мог обеспечить из тех жалких грошей, что ему давали еженедельно, и «хоровых» денег, тем более что он все отдавал букинисту.
Таковы были его жизненные обстоятельства, когда на пасхальные каникулы он отправился навестить родителей. Здесь он нацепил шпагу, которой закололся в роли Филота, и снова и снова разыгрывал эту сцену перед своими братьями, отнюдь не рассказывая им о своем изгойстве в школе и о презрении, его окружавшем, но, напротив, выискивая приятное и лестное для себя: как ректор взял его с собой в компанию священников, как он посещал частные уроки английского, как участвовал в факельном шествии с музыкой, как оно было обставлено и проч.
Даже из собственных мыслей он, как мог, постарался изгнать все неприятное и унизительное, желая предстать в благоприятном, выгодном свете, сколь ни жалким было его положение в действительности.
В таком приятном самообольщении он провел у родителей несколько дней, но облегчение, которое он почувствовал, выйдя из ворот Ганновера и понемногу отвлекшись от вида четырех городских башен, лишь усугубило тяжесть, навалившуюся на его сердце, когда он вновь приблизился к городским воротам и перед его взором опять поднялись четыре башни, словно четыре булавки, отмечавшие на карте область его неисчислимых страданий.
Особенно устрашающей показалась ему граненая, увенчанная лишь маленьким шпилем рыночная башня, к которой примыкала его школа – насмешки, издевательства и перешептывания одноклассников снова всплыли в его сознании при виде этой башни: на огромный циферблат ее часов он обыкновенно бросал взгляд, когда торопился в школу, боясь опоздать. Башня эта, как и старинная рыночная церковь, была построена в готическом стиле, из красного кирпича, давным-давно почерневшего от времени.
Рядом, на этой же площади, преступникам объявляли смертные приговоры, – словом, фантазия Райзера связала с этой башней все, что только могло его сокрушить и погрузить в тяжелую тоску.
Едва ли охватившая его тоска могла усугубиться сильнее, узнай он в ту минуту, что еще суждено ему испытать в нынешнем месте его пребывания. Но если год назад, когда он, как теперь, возвращался в Ганновер из родительского дома, его печаль все же имела свои причины, то на сей раз причин было куда меньше, так как ужаснейшая минута его жизни еще только предстояла.
Но и не полагая в нем особого дара предвидения, можно счесть его тоску совершенно естественной, стоит лишь себе представить, как он в воображении пробегал узкие круги своего существования: школу, хор, ректорский дом – в этих сужающихся кругах, стеснявших все его стремления, он обречен был вращаться снова и снова. С какой охотой он променял бы тогда свое житье в Ганновере на самую темную из тюремных камер, заключавшую, без сомнения, куда меньше ужасного и страшного, чем его нынешнее положение.
Когда он, погруженный в тяжелые мысли, приблизился к городским воротам, в голове его молнией пронеслась мысль, все вокруг осветившая и вновь все представившая в лучшем свете, – он вспомнил, что еще в родительском доме слышал о приезде в Ганновер театральной труппы, собиравшейся играть там целое лето.
Это была труппа Аккермана, которая в то время объединила в себе почти все рассеянные по Германии жемчужины немецкой сцены.
Скорыми шагами Райзер поспешил в город, который недавно был ему так ненавистен, а теперь вновь сделался милее всего на свете, и, не заходя домой (время было еще раннее, так как то место, где он заночевал по пути, лежало всего в нескольких милях от Ганновера), устремился к замку, где, как он знал, висела афиша с указанием актерского состава, – там он увидел, что нынешним вечером объявлена «Эмилия Галотти».
Пока он читал афишу, сердце его трепетало от радостного предвкушения – всеми правдами и неправдами он желал пробраться в театр и увидеть на сцене пьесу, исторгшую у него столько слез, часто потрясавшую его до глубины души, но до сих пор разыгрываемую только в его воображении.
Пропустить вечерний спектакль было никак нельзя, сколько бы ни стоил входной билет. Придя домой, он обнаружил, что в комнате, где он спал, работники белят стены и что-то в ней перестраивают, так что жить в ней совершенно невозможно. Плачевный вид его укромного пристанища еще настойчивей гнал Райзера из действительного мира, но с тем большей истомой ждал он предстоящего спектакля.
Куда бы ни явился, он не мог скрыть своей радости; первое, о чем он заговорил, войдя в комнату госпожи Фильтер, была «комедия» (за что она потом долго его упрекала), так же случилось и в доме его кузена, где ему пришлось ночевать на полу, пока его комната в доме ректора не сделалась пригодной для жилья.
Приводимый ниже состав исполнителей дает примерное понятие о том, какое воздействие постановка «Эмилии Галотти» оказала на душу Райзера, находившуюся в столь возбужденном состоянии.
Покойная Шарлотта Аккерман играла Эмилию, ее сестра – Орсину, г-жа Райнике исполняла роль Клаудии, Борхерс – Одоардо, Брокман – Принца, Райнике играл Аппиани, Дауэр – Конти. Где еще «Эмилия Галотти» могла быть исполнена с таким совершенством?
Как мощно была захвачена душа Райзера, когда мир его фантазии как бы воплотился на его глазах! С этих пор он уже не мог думать ни о чем, кроме театра, и, кажется, совсем забыл о своих прежних надеждах и видах на будущее.
Все деньги, что удавалось раздобыть, он тратил на театр, без которого уже не мог провести ни одного вечера, даже когда приходилось экономить на самом необходимом. Ради театра он порой по целым дням довольствовался хлебом с солью – если матушка ректора из сострадания не присылала ему какой-нибудь еды.
Вдобавок летом он снова вселился в свою комнату, где мог оставаться в одиночестве – блаженство, которое он не променял бы и на самую изысканную еду.
Мысль о вечернем представлении утешала его по утрам, когда он просыпался в мрачном настроении, а в ином он никогда и не просыпался. Ибо презрение и насмешки товарищей, а вместе с ними и чувство собственного ничтожества не прекращались и отравляли ему жизнь. Отрешиться от этого он мог, единственно лишь притупляя внутреннюю боль, излечиться от нее он был не в состоянии, каждый день все повторялось снова, и пусть фантазия по нескольку часов кряду рисовала перед ним обманчивые картины, все же в глубине души он ненавидел и проклинал свое существование.
Обильными слезами, проливаемыми над книгами и в театре, он оплакивал не только свою судьбу, но и судьбы персонажей, возбуждавших его участие. Чуть ближе или чуть дальше, но он всегда сознавал себя в стане безвинно притесняемых, неудовлетворенных собой и всем миром, отягощенных горем и ненавидящих самих себя.
Палящий летний зной часто гнал его из комнаты в кухню или на двор, где он устраивался с книгой на куче дров и нередко поневоле прятал лицо и заплаканные глаза, когда кто-то проходил мимо.
Его снова пленила «joy of grief», услада слез, известная ему с раннего детства, когда он тоже был лишен всех других радостей жизни.
В этом своем настроении он зашел столь далеко, что даже при чтении комических пьес, таких, как «Охота», содержащих всего несколько трогательных сцен, больше плакал, чем смеялся. Но о том, какое действие тогда производила такая пьеса, можно опять-таки судить по составу исполнителей: Шарлотта Аккерман играла Рёсхен, ее сестра – Ханхен, госпожа Райнике – мать, Шрёдер – Тёффеля, сам Райнике – отца и Дауэр – Кристеля.
Если какое-либо внешнее обстоятельство могло привить острый вкус к театру, то, оставляя в стороне изначальную склонность Райзера и особые условия его жизни, таковым стал случай, сведший столь превосходных артистов в одной труппе.
Отсюда легко заключить, как были представлены «Ромео и Юлия», «Месть» Янга, опера «Кларисса», «Евгения» – пьесы, произведшие на Райзера самое сильное впечатление.
Театр до такой степени захватил его мысли, что он каждое утро начинал с того, что буквально проглатывал афишу, каждый раз скрупулезно прочитывая все надписи: «Начало – ровно в полшестого» или: «Представление состоится на сцене Королевского дворцового театра», а уж случайно встретив на улице кого-либо из известных актеров, испытывал почти такой же трепет, как некогда в Брауншвейге при виде пастора Паульмана. Все, что касалось театра, вызывало в нем благоговение, и он многое бы отдал, чтобы свести знакомство хотя бы с чистильщиком театральных канделябров.
Еще за два года до этого он успел пересмотреть «Геркулеса на Эте», «Графа Ольсбаха», «Памелу» с Экхофом, Беком, Гюнтером, Хензелем, Брандесом, его супругой и г-жой Зайлер в самых лучших ролях, и с тех пор самые трогательные сцены из названных пьес запали в его память, а Гюнтер в образе Геркулеса, Бек в роли графа Ольсбаха и Эстер Шарлота Брандес в роли Памелы, сменяя друг друга, являлись его воображению почти ежедневно. Все прочитанные им пьесы он вплоть до прибытия в город Аккермановой труппы разыгрывал в своей фантазии именно с этими актерами.
Благодаря такому совпадению оказалось, что ему посчастливилось увидеть всех лучших немецких актеров, которые в иное время были рассеяны по всей Германии.
Это создало в его голове некий идеал театрального искусства, который впоследствии нигде уже не бывал воплощен и не давал ему покоя ни днем, ни ночью, но беспрестанно гнал с места на место, сделав его жизнь беспокойной и непостоянной.
Поскольку он видел Бека, а теперь и Брокмана в ролях, исторгавших самые обильные потоки слез, два эти актера сделались его любимыми, и он почти не расставался с ними в своих мыслях.
Вот только блестящие сцены из мира театра, прочно заселившие его фантазию, не улучшали его собственных обстоятельств, день ото дня становившихся все тяжелее. Во мнении окружающих он опускался все ниже и совсем перестал следить за своим внешним видом – его платье и белье вконец обветшали, так что он начал дичиться людей – при любой возможности пропускал хор и занятия в школе и предпочитал голодные вечера бесплатным обедам своих благодетелей, исключая сапожника Шанца, у которого, несмотря на свое ужасное состояние, неизменно встречал дружеский и ласковый прием.
Наконец неисправимая безалаберность Райзера и в особенности его ежедневные поздние возвращения из театра вывели ректора из терпения, и он отказал ему от дома.
Уведомление, что к Иванову дню он должен съехать с квартиры, а за оставшееся время подыскать себе другое жилище, Райзер выслушал молча в совершенном оцепенении, а оставшись один, не пролил над своей несчастной долей ни единой слезинки, так как самому себе давно стал совершенно безразличен и уделял себе мало внимания, оставаясь глух к собственным горестям: ведь если бы его внимание, сочувствие к страданиям, наполнившие его сердце, не были целиком обращены к персонажам вымышленного мира, они со всей разрушительной силой обратились бы на него самого.
Поскольку ректор отказал ему в жилье, Райзер решил, что теперь уж и пастор Марквард наверняка оставит о нем все заботы, и расстался со всеми своими надеждами и планами на будущее.
Недели, оставшиеся ему в доме ректора, он прожил обычным образом, а потом переехал в дом щеточника, и три месяца, от Иванова до Михайлова дня, что ему пришлось провести в этом доме, оказались ужаснейшими и страшнейшими в его жизни и не раз ставили его на грань отчаяния.
Поселившись здесь, он сразу почувствовал себя отторгнутым – притом по собственной вине – от множества знакомств, коими прежде так дорожил. Принц, пастор Марквард, ректор – все, от кого зависело его будущее, теперь для него ушли в небытие, и вместе с ними пропали и все его надежды.
Не удивительно, что его душой овладела новая фантазия, с которой он носился день и ночь, найдя в ней утешение, только и спасавшее его от полного отчаяния.
Дело в том, что среди прочего он повидал на сцене оперетту «Кларисса, или Неприметная служанка», и едва ли какая другая пьеса могла в его положении вызвать в нем более интереса, чем эта.
Главным в истории, так сильно его захватившей, было решение одного молодого дворянина, впоследствии им исполненное, сделаться крестьянином. Причина, приведшая дворянина к такому решению, а именно его любовь к некой неприметной служанке, оставила Райзера равнодушным, – но его вдохновила сама мысль, что образованный молодой человек мог решиться перейти в крестьянское сословие и сделаться столь изысканным, учтивым и благовоспитанным крестьянином, что на него нельзя было не обратить внимания в толпе других.
В нынешнем своем положении Райзер терпел крайнее унижение, и ему казалось невозможным когда-нибудь снова подняться в жизни. Но для крестьянина он был образован выше всякой меры. Как крестьянин он возвышался над своим состоянием, как молодой человек, посвятивший себя учению и потому имевший надежды на будущее, видел себя отброшенным далеко назад. Мысль стать крестьянином утвердилась в его голове и на время вытеснила из нее все остальное.
В то время школу посещал сын некоего крестьянина, по имени М., которому Райзер иногда давал уроки латыни. Он поведал ему о своем решении стать крестьянином, и в ответ тот подробно описал Райзеру работы, которые приходится выполнять крестьянину-батраку, чем, конечно, изрядно отравил бы его радужные мечты, не будь фантазия Райзера так сильно возбуждена теснившимися в ней благостными картинами крестьянской жизни.
Кроме того, в самой оперетте «Кларисса» было одно место, где некий крестьянин отговаривает молодого дворянина от намерения купить у него маленький участок земли и под конец исполняет трогательную арию о том, как селянина гонит с поля грянувшая непогода:
Сверкают молнии, Грохочет гром, И селянин с досадой, С великой досадой спешит в свою хижину…Слово «досада», вдобавок весьма усиленное мелодией, само по себе могло бы обратить в руины воздушный замок, созданный фантазией, и послужить хорошим противоядием от чрезмерной чувствительности и мечтательности – чувств, способных противостоять всему – горестному, ужасному, повергающему в отчаяние или гнев, но бессильных против досадного.
Однако Райзеру это противоядие не помогло, целыми днями он бродил в одиночестве и размышлял, как бы стать крестьянином, хоть ничего для этого и не предпринимал. Погруженный в эти сладостные мечтания, он понемногу начал снова нравиться самому себе: воображая себя крестьянином, он приходил к выводу, что рожден для лучшей доли, и испытывал по отношению к себе род утешительного сострадания.
Пока эта фантазия его поддерживала, он продолжал лишь горевать и печалиться о своей участи, но не досадовать. Даже отсутствие самого необходимого доставляло ему известное удовлетворение, так как он воспринимал это как расплату за свои грехи и даже испытывал сладкое чувство жалости к себе.
Но в конце концов, когда он впервые провел три дня совсем без пищи, на одном чаю, и голод обрушился на него с неистовой силой, – прекрасный замок фантазии рухнул. Придя на грань отчаяния, он стал биться головой о стену, бушевал и неистовствовал, но тут явился его друг Филипп Райзер, о котором он совсем забыл в последнее время, и поделился с ним своими скудными средствами.
Но это лишь на время облегчило его участь, так как обстоятельства Филиппа Райзера были тогда не многим лучше, чем у Антона.
Последний и впрямь оказался в совершенно ужасном положении, близком к полному отчаянию.
По мере того как его тело лишалось питания, в нем угасала и некогда столь живая фантазия, а жалость к себе обернулась ненавистью и озлоблением против себя же. И вместо того чтобы предпринять хоть какие-то шаги к исправлению своего положения, он уже по доброй воле и с беспримерным упорством обрекал себя совершенно чудовищной нищете.
И то сказать, более месяца он по-настоящему питался лишь раз в неделю, когда бывал у сапожника Шанца, в остальные же дни голодал, поддерживая жизнь лишь чаем или теплой водой, которую еще мог получить бесплатно. При этом с каким-то ужасным удовлетворением он наблюдал, как тело его день ото дня разрушалось, подобно его одежде.
Когда он шел по улице и прохожие показывали на него пальцем, школьные товарищи шептались за его спиной и высмеивали, а уличные мальчишки отпускали шуточки, – он только крепче сжимал зубы, но внутренне соглашался с доносившимися отовсюду насмешками.
Но стоило ему оказаться у сапожника Шанца, как он начисто обо всем забывал. Здесь он находил добрых людей, здесь его сердце смягчалось. С насыщением тела мысль и воображение испытывали подъем, сама собой возобновлялась философская беседа с Шанцем, длившаяся порой часами, Райзер снова начинал дышать полной грудью, и его ум как бы получал порцию свежего воздуха – здесь в пылу разговора Райзер рассуждал о разных предметах столь весело и непринужденно, словно во всем мире не было ничего, что прежде его так угнетало. О своем жизненном положении он не заикался ни единым словом.
Даже своему кузену, изготовителю париков, он никогда не жаловался, бывая у него в доме, и всегда уходил, как только замечал приготовления к еде. И все же был у него один хитроумный прием, которым он пользовался, чтобы окончательно не погибнуть от голода.
Каждый раз он просил у кузена для своей собаки, которой никогда не имел, корки от теста, в коем тот запекал волосы для париков, эти-то корки вместе с бесплатными обедами у сапожника и теплой водой составляли все его пропитание.
Когда тело получало хоть какую-то пищу, к нему снова возвращалось бодрое расположение духа. У него оставался еще старый том Вергилия, который букинист не хотел купить. В этой книге он стал читать «Эклоги». В еженедельнике «Вечерние часы», взятом у Филиппа Райзера, его привлекло стихотворение «Отрекшийся от Бога», которое он, заодно с несколькими прозаическими отрывками, выучил наизусть. Но подступавший голод опять гасил в нем поэтическую искру и обессиливал душу. Чтобы хоть как-то предотвратить умерщвление всякой деятельности в себе, он вновь прибег к детским играм, в основе своей разрушительным, – собрал большую кучу вишневых и сливовых косточек, уселся на пол и расположил их в боевом порядке. Самые крупные среди них он с помощью чернил пометил буквами и разрисовал разными знаками, назначив их военачальниками, потом взял молоток и, зажмурив глаза, уподобился слепому року, обрушивая удары молотка направо и налево. Когда же он снова открыл глаза, то с тайным удовлетворением стал наблюдать произведенное им ужасное опустошение и погибших раздавленных героев, валявшихся тут и там среди куч безымянных тел. Потом он сравнивал воинскую удачу двух армий и подсчитывал потери с обеих сторон.
За этим занятием он нередко проводил полдня – так бессильная детская месть разрушавшей его судьбе создала своеобразный мир, который он сам мог разрушать по своему произволу. Сколь детски смешной ни показалась бы эта игра стороннему наблюдателю, в основе своей она была лишь ужаснейшим следствием, быть может, самой крайней степени отчаяния, до которой только могло довести смертного человека сцепление жизненных обстоятельств.
Отсюда, впрочем, можно видеть, как недалек он был тогда от буйного помешательства. И все же его душевное состояние было небезнадежным, покуда в нем еще теплился интерес к детской игре в сливовые и вишневые косточки, но только – пока интерес не возрождался: стоило ему начать рисовать пером на бумаге маршруты войсковых передвижений или процарапывать их ножом прямо на столе, как наступали ужаснейшие минуты: само существование ложилось на него невыносимой ношей, и это рождало в нем не боль или грусть, а досаду, – он начинал дрожать всем телом, и ничего ему не хотелось больше, чем, наконец, стряхнуть ее с себя.
Дружба с Филиппом Райзером не стала ему подспорьем, поскольку и у того жизнь складывалась немногим лучше – и как два странника, обреченные на муки жажды посреди раскаленной пустыни, бывают не в силах ни вести беседу на ходу, ни поддержать друг друга – таковы же были отношения между Антоном Райзером и Филиппом Райзером.
Но в это время тот самый Г., который некогда играл умирающего Сократа (откуда и пошла кличка Райзера), решил к нему переселиться. Обстоятельства их были схожими, хотя, в отличие от Райзера он довел себя до такого положения собственным небрежением. В нем Райзер обрел достойного компаньона.
Вскоре к ним присоединился еще один юноша, крестьянский сын М., дела которого шли столь же плохо, как и у этих двух. Так в четырех стенах собрались трое людей, беднее коих едва ли когда приютила хоть одна комната. Проходило по нескольку дней, а они все перебивались с кипятка на хлеб. Правда, Г. и М. имели еще кое-где бесплатные обеды.
Г. был, в сущности, неглупый юноша, с прекрасной речью, и, вообще говоря, Райзер испытывал к нему большое уважение. Однажды их обоих охватило необычайное усердие, они вместе принялись за чтение Вергилиевых эклог и испытали чистейшее наслаждение, когда, с великим трудом выбрав одну из них, каждый сделал и записал ее перевод. Но это, конечно, не могло продолжаться долго: стоило им вспомнить о своем бедственном положении, как охота к учению немедля пропадала.
Платье у Г. и М. было ничуть не лучше, чем у Райзера, поэтому, выходя из дома, они являли собой живописную картину неряшества и разорения, так что люди указывали на них пальцем и они, отправляясь на загородную прогулку, всегда выбирали обходные пути и узкие улочки.
По большей же части эти трое вели жизнь, отвечавшую их положению: нередко целыми днями оставались в постели или все трое сидели, уронив голову на руки, и раздумывали о своей доле. Часто они разлучались, и тогда каждый предавался своему излюбленному занятию: Райзер опускался на пол и устраивал смотр своим вишневым косточкам, М. колдовал над большим куском хлеба, который держал в тщательно запертом сундуке, а Г. валялся на кровати и лелеял разные замыслы – как всякий раз выяснялось, неосуществимые. Райзер тем временем, сидя на полу среди вишневых косточек, читал и перечитывал две книги, не имея никаких других: сочинения философа из Сан-Суси и Александра Поупа в переводе Душа – обе он позаимствовал у сапожника Шанца.
Однажды все трое решили совершить прогулку по прекрасной округе Ганновера, вдоль реки, в середине которой возвышался небольшой остров, сплошь поросший вишневыми деревьями. Вид этих деревьев, густо усеянных ягодами, так неудержимо манил трех наших побродяг, что они не смогли противиться желанию перебраться на остров и полакомиться прекрасными плодами.
Случилось так, что как раз в это время по реке сплавляли лес и множество плывущих бревен стеснились в узком месте реки, составив таким образом удобный с виду мост для переправы.
Под предводительством Г., который, как видно, поднаторел в исполнении подобных замыслов, они пустились в рискованное предприятие, едва не стоившее им жизни. Из образовавшегося в воде навала они вытащили несколько бревен и перенесли в то место, где расстояние от берега до острова казалось самым коротким. Затем стали сооружать мост: понемногу продвигаясь вперед, кидали перед собой в воду одну лесину за другой. И конечно, этот мост стал под ними разъезжаться и все трое попадали в воду, не пройдя и половины опасного пути. Но, хотя и с риском для жизни, они все же выбрались на остров.
Тут ими овладела жажда грабежа и разорения: каждый набросился на свое деревце и начал с яростью его обдирать.
Они словно брали с бою какую-то крепость – хотели стяжать добычу и получить награду за преодоленную опасность, ими же самими учиненную.
Наевшись до отвала и набив вишнями карманы, носовые и шейные платки, шляпы и все что могли, они в наступивших сумерках пустились в обратный путь по опасному мосту, часть которого уже успела унести река, и, хотя были отягощены добычей, все же благополучно добрались до берега – больше благодаря удаче, чем собственной ловкости и осторожности.
Райзер находил подобные вылазки вполне для себя приемлемыми, так как не усматривал в них воровства, но даже ставил их себе в заслугу – как требующие изрядного мужества набеги на вражескую территорию.
И кто знает, в какие еще отчаянные предприятия пустился бы он под водительством Г., если бы прожил рядом с ним подольше.
Однако по своему характеру этот Г. был скорее ушлым пройдохой, чем добрым малым. В нем достало низости обокрасть своих же товарищей, Райзера и М., – позднее выяснилось, что он стащил несколько книг и других вещей, у них еще остававшихся, и потихоньку их продал.
В общем, Г., с которым Райзер жил в одной комнате, был отпетым мошенником. Он мог по целым дням валяться в постели, измышляя новые и новые каверзы, но о добродетелях и морали говорил как по писаному, отчего Райзер поначалу и возымел к нему такое уважение.
Ибо сам он возвысил добродетель до столь беспримерного идеала, что даже это имя – добродетель – вызывало у него слезы.
Под этим именем, однако, он мыслил нечто столь всеобщее, а само понятие представлялось ему столь туманным, столь неприменимым к отдельным случаям, что ему никак не удавалось исполнить самое искреннее свое желание – сделаться добродетельным, поскольку он не имел представления, с чего следует начать.
Однажды погожим теплым вечером он возвращался с одинокой прогулки домой, и вид природы так размягчил его сердце, что слезы невольно полились у него из глаз и в вечерней тишине он поклялся самому себе отныне ни на шаг не отступать от добродетели! А поскольку решился он твердо, то и почувствовал небесное блаженство, так как ему казалось почти невозможным вновь отступиться от этого окрыляющего решения. С такими мыслями он заснул, а когда утром проснулся, в сердце его зияла все та же пустота – день ему предстоял хмурый и унылый, все его отношения с людьми были навеки порушены, невыносимая докука жизни заступила место вчерашней размягченности чувств, с которой он заснул. Больше всего он хотел теперь избавиться от себя самого – и начал свой путь к добродетели с того, что опустился на пол и расколотил все вишневые косточки, выстроенные в боевом порядке.
Отступиться от этого и прочесть какую-нибудь эклогу из потрепанного Вергилия, еще у него сохранившегося, было бы подлинным шагом к добродетели, но на подобные мелочи – при таком-то героическом настроении – ему размениваться не хотелось.
Пожелай кто-нибудь исследовать представления людей о добродетели, возможно, он убедился бы, что у большинства понятия о ней столь же смутны и запутанны, из чего во всяком случае видно, сколь бесполезно бывает проповедовать добродетель вообще, не разлагая ее на совершенно особые случаи, нередко кажущиеся совсем мелкими и ничтожными.
В то время Райзер и сам удивлялся, как быстро иссякают его внезапные порывы к добродетели, не оставляя по себе никакого следа, но он еще не понимал, что основой добродетели является самоуважение, каковое – в его возрасте – могло опираться лишь на уважение со стороны других людей, без чего прекраснейшее здание его фантазии было обречено на скорое разрушение.
Всякий раз, когда бедственное состояние все же позволяло ему скопить несколько грошей, он тотчас нес их в театр, а когда в середине лета театральная труппа уехала из города, целью его прогулок стал луг за городскими воротами – да и не просто целью, а постоянным пристанищем. Порой он целые дни просиживал там на солнечном припеке или гулял по речному берегу, радуясь, если в эти жаркие полуденные часы ему удавалось избежать встреч с людьми.
И пока он день-деньской предавался здесь своим меланхолическим раздумьям, его воображение незаметно впитывало величественные картины природы, которые лишь через год начали постепенно расти и развиваться в его сознании.
Но и отвращение к жизни достигло в нем крайних пределов. Часто во время своих прогулок он останавливался на берегу Лейне и низко склонялся над ее бушующим потоком, между тем как чудесная потребность дышать боролась в его груди с отчаянием и наконец с ужасающей силой отбрасывала его тело назад.
Часть третья
С окончанием этой части начинаются странствия Антона Райзера, а вместе с ними – подлинный роман его жизни. Здесь содержится правдивое описание некоторых сцен из его отроческих лет, могущее послужить наукой и предостережением всем, кто еще не покинул этот несравненный возраст. И возможно, в нашем описании найдутся небесполезные советы также для учителей и воспитателей, которые – кто знает? – станут более бережно относиться к иным из своих воспитанников, более справедливо и беспристрастно о них судить.
Так прошли три ужасных месяца жизни Антона Райзера, после чего пастор Марквард дал ему знать через третье лицо, что желает вновь принять его к себе в дом при условии подлинного раскаяния и искренней просьбы о прощении.
Это размягчило, наконец, сердце Райзера, так как он уже и сам устал от своего твердокаменного упрямства и нищеты, от того воспоследовавшей. Он сел за стол и написал пастору длинное письмо, в котором с великим ожесточением обвинял себя и описывал как недостойнейшего из всех, на кого льет свой свет солнце, предсказав себе плачевную судьбу – найти когда-нибудь конец, умерев от нужды и бедности в чистом поле под открытым небом.
Словом, письмо его было составлено в превыспреннем тоне и выражало крайнюю степень самоуничижения и самобичевания – и при этом являло собой ханжество чистой воды.
В то время Райзер и вправду считал себя злым и неблагодарным чудовищем, поэтому писал письмо пастору, исполнившись глубочайшего отвращения к самому себе, – он и не думал себя оправдывать, но лишь беспрестанно обвинял.
При том он прекрасно понимал, что первейшей причиной его нынешнего бедственного положения была страсть к чтению романов и комедий, к театру, но вот почему чтение романов и комедий превратилось для него в столь острую потребность – а произошло это из-за того, что с раннего детства его уделом был стыд и общее презрение, вытеснившие его из действительного мира в мир идеальный, – постичь это ему еще не хватало ума, и потому он упрекал себя даже более несправедливо, чем окружающие, в иные часы он не только презирал, но ненавидел себя, гнушался собой.
Исповедь, отосланная пастору Маркварду, была ни на что не похожа и исполнена таких ужасающих подробностей, что, читая ее, тот поражался, ибо во всю жизнь ему не доводилось слышать подобных излияний.
Отправив это письмо, Райзер весь обратился в ожидание, когда же он будет допущен к пастору Маркварду; наконец день был назначен, и теперь он ждал его со смешанным чувством страха, надежды и смиренного отчаяния.
Внутренне он приготовился к высокой театральной сцене, с которой, однако, его ждал полный провал. Он хотел броситься пастору Маркварду в ноги и вымолить у него гром и молнию на свою голову. Свою речь он подготовил заранее и носился с ней повсюду, ожидая лишь часа, когда можно будет предстать перед пастором.
Но в это самое время случилось весьма досадное событие. Отец Райзера, прослышав о происходящем, прибыл в Ганновер, чтобы подать прошение в его защиту, что для самого Райзера было крайне неприятно, поскольку он был уверен, что не нуждается ни в чьем заступничестве, но сам способен своей страстной речью, уже выученной назубок, тронуть сердце пастора Маркварда.
И вот настало утро великого дня, назначенного для встречи с пастором Марквардом. Воображение Райзера, едва он поднялся с постели, сразу наполнилось самыми живыми картинами – как он, исполненный раскаяния и отчаяния, падает к ногам пастора… как тот, растроганный, поднимает его с колен… и прощает…
Наконец он с бьющимся сердцем приблизился к дому пастора и стал ждать, когда его пригласят. Вышел слуга и сказал, что он может войти: его отец уже пожаловал.
Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. На мгновение он даже лишился дара речи. В одну минуту весь его план рассыпался в прах, – он так надеялся говорить с пастором Марквардом наедине, ведь разыграть сцену падения на колени с последующей трогательной и страстной речью он мог лишь в отсутствие свидетелей. Падать на колени перед пастором при ком-то третьем, особенно при отце, – такого он даже представить себе не мог.
Он отослал слугу обратно, велев передать, что непременно хотел бы переговорить с пастором Марквардом наедине. В этом ему было отказано, и он, так и не сыграв свою роль в продуманной до мелочей блестящей и трогательной сцене, принужден был в присутствии отца стоять с понурым видом жалкого преступника, не проронив ни единого слова из своей загодя приготовленной речи.
Им овладело чувство, прежде совсем незнакомое: видеть рядом с собою отца, склонившегося в просительной позе перед пастором Марквардом, было невыносимо – он отдал бы все на свете, лишь бы оказаться в ту минуту за сотни миль от пасторской комнаты.
В лице челобитчика-отца он чувствовал себя вдвойне униженным и опозоренным, и ко всему этому прибавлялась досада от провалившейся сцены с обниманием пасторских ног – все шло так холодно, так пóшло и буднично: Райзер переминался с ноги на ногу, как напроказивший мальчишка, которого заслуженно отчитывают за его шалости, тогда как он воображал самого себя отъявленным преступником и хотел вымолить жесточайшее наказание за свои грехи.
Меж тем едва ли когда в его жизни случай так благоприятствовал ему, как теперь. Если бы ему удалось провести задуманную сцену, бог весть, как далеко бы он зашел и какие бы еще роли сыграл. Возможно, именно в эту минуту решилась его судьба: кем ему стать – лицемером и мошенником или честным и порядочным человеком.
В сущности, задуманная сцена с падением в ноги пастору пусть и не была чистым лицемерием и притворством, но отдавала излишней аффектацией, а переход от аффектации к лицемерию и притворству – известно, как он легок!
Для Райзера стало несомненным благодеянием, что пастор Марквард пропустил мимо ушей выспренние выражения, коими пестрело его письмо, и нисколько не был ими растроган, найдя их лишь забавным и незрелым плодом фантазии, чрезмерно разгоряченной чтением романов и комедий. К тому же, будь Райзер в действительности таким злодеем, каким выставил себя в этом письме, пастор Марквард не только не принял бы в нем ни малейшего участия, но отшатнулся бы от него как от чудовища.
Не пускаясь в долгие рацеи о том, что лишь будущее примерное поведение может искупить его былые прегрешения, пастор Марквард без всякой чувствительности в голосе сразу же обратился к разбитым башмакам и рваным чулкам Райзера и к его долгам, озаботившись тем, как по ним расплатиться и как привести в порядок изорванную одежду. Он не потребовал от Райзера ни торжественного обещания впредь вести себя лучше, ни чего-либо другого, столь же трогательного.
И хотя снова принял на себя заботу о Райзере, держался он с ним сурово и холодно – именно суровость и холодность его обращения пробудили Райзера от забытья и вернули из идеального мира романов и комедий в мир действительный, а все потому, что он так и не сумел разыграть с пастором романтическую сцену и был избавлен от ужасных мук не пустыми мечтаниями вроде того, как бы сделаться крестьянином, но деятельной помощью.
Великое множество добрых намерений вновь затеснилось в его уме после такого поворота судьбы, и, хотя неудавшаяся сцена падения в ноги пастору по-прежнему растравляла его сердце, он и в этом примирился со своей судьбой. Так началась новая эпоха его жизни.
Он съехал от щеточника и снял угол у некоего портного, с которым поселился в одной комнате, ночуя на полу. Госпожа Фильтер и придворный музыкант, жившие в том же доме, снова взяли на себя заботу о нем, раз в неделю предоставляя ему стол. Госпожа Фильтер отдала ему в ученицы жившую при ней маленькую девочку для уроков письма и катехизиса. Райзер опять стал регулярно посещать школу, теперь он снова подавал надежды, сам принц пригласил его к себе и беседовал с ним в присутствии пастора Маркварда, который получил от принца деньги на его содержание и погасил из них Райзеровы долги.
Итак, жизнь его снова пошла на лад, к нему вернулась прежняя усидчивость, хотя внешние обстоятельства отнюдь не благоприятствовали учению: в комнате портного ему было отведено лишь маленькое местечко, где стояло фортепиано, служившее также столом, – под фортепиано на маленькой полочке разместилась вся его библиотека. Когда он читал или занимался, вокруг всегда шумели; зимой пришлось оставаться в хозяйской комнате, летом же он вместе с фортепиано и книгами перебрался на чердак, где мог спокойно спать и никто его не тревожил.
Через несколько недель после того, как Райзер оставил свое прежнее жилище и прежних товарищей Г. и М., случилось жуткое происшествие, которое живо напомнило ему об угрозе, над ним нависавшей.
Как-то раз, возвращаясь домой после хора, Г. был арестован прямо на улице и заключен в одну из самых мрачных тюрем, находившуюся у городских ворот и предназначенную для опаснейших преступников.
Райзера, в ужасе наблюдавшего, как Г. уводят, била крупная дрожь. Но примечательнее всего, что опасение быть принятым за соучастника неведомых ему преступлений стародавнего товарища так его смутило, словно он и вправду был соучастником: страх его воистину походил на страх преступника. Да и как могло быть иначе, если в нем с детства подавляли чувство собственного достоинства? Теперь он чувствовал себя слишком униженным, чтобы противиться приговорам окружающих. Объяви его кто-нибудь преступником, он, наверно, и сам счел бы себя таковым.
Наконец выяснилось, что бывший его товарищ Г. ограбил церковь, украв ночью золотое шитье с алтаря и серебряные оклады молитвенников, хранившихся внутри церковных скамей, для чего взломал несколько замков.
Вот каков был один из тех замыслов, что Г. лелеял в своем уме, по целым дням валяясь в кровати.
Но на церковную кражу он пустился лишь после расставания с Райзером, хотя в других местах приворовывал и прежде.
Обычно такие преступления карались виселицей, и Райзера душил страх подобной участи всякий раз, как он вспоминал, сколь близко прошел от этого человека и как легко мог бы соскользнуть в бездну по ступенькам разных лихих затей вроде тогдашней героической экспедиции на остров за вишнями. Со временем Райзер стал бы усматривать в том ночном походе все больше героического и все меньше предосудительного, и для Г. не составило бы труда подстрекнуть его на другие такие же предприятия.
И кто знает, быть может, эти размышления и смутные догадки еще усиливали смятение Райзера, стоило ему услышать в разговоре имя Г. Ему казалось, что от преступления его отделяет лишь маленький шажок, и у него начинала кружиться голова, как порой бывает у людей, еще далеких от края бездны, но неудержимо влекомых к ней самим этим страхом и уже чувствующих, будто летят в нее.
Мысль, что он легко мог стать соучастником беззакония, рождала в Райзере схожее чувство, словно он уже совершил злое дело, – отсюда и страх, и смятение.
Меж тем до повешения дело все же не дошло. После нескольких месяцев тюремного заключения Г. вынесли более мягкий приговор, навсегда высылавший его за границу. О дальнейшей его судьбе Райзер ничего не слышал. Так закончилась история с умирающим Сократом, имя которого Райзер долго носил как презрительную кличку, хотя сам исполнял вовсе не роль Сократа, но лишь одного из друзей оного, который, стоя в стороне, рыдал, пока Сократ, к вящему умилению зрителей, выпивал отравленный кубок и красиво вытягивался на смертном ложе.
К тому времени Райзер уже более года вел дневник, куда записывал все, что с ним происходило. Дневник этот получился в своем роде весьма примечательным, ибо Райзер не опускал в нем ни единого обстоятельства своей жизни, ни одного мельчайшего случая, как бы незначительны они ни казались. Поскольку же он заносил туда лишь имевшие место случаи, но не фантазии, приходившие ему в голову в течение дня, то и записи получались сухими и скучными, лишенными всякого интереса, каковы, собственно, и были сами происшествия. В сущности, Райзер проживал две жизни, весьма отличные одна от другой: внутреннюю и внешнюю, – и дневник его отражал внешнюю сторону, не заслуживающую быть закрепленной на бумаге. В то время Райзер еще не умел проследить, как внешнее, действительно случившееся влияет на внутреннее состояние духа: его самоиспытующий взгляд тогда еще не приобрел должного направления.
Со временем, однако, дневник его стал улучшаться: он все чаще записывал туда не только события, но также свои замыслы и намерения, чтобы потом проверить, какие из них ему удалось исполнить. Тогда же он установил и занес в дневник правила, коим собирался неукоснительно следовать. Порой он приносил себе торжественные клятвы, как, например, рано вставать, расписывать дни по часам и прочее в таком роде.
Но вот что странно: именно торжественные обещания зачастую исполнялись медленно и неохотно – когда дело заходило о малом, огонь его фантазии, рисовавшей все обещанное вкупе с приятными последствиями, сразу угасал, и напротив, если он отбрасывал всякую выспренность и торжественность, осуществление задуманного шло и быстрее, и веселее.
На добрые намерения он был воистину неистощим. Однако это вызывало у него постоянное недовольство собой, поскольку выполнить их все он просто не мог.
Три дня, в продолжение которых Райзер был неизменно доволен собой, он отметил в дневнике как нечто из ряда вон выходящее – и совершенно справедливо, поскольку таких трех дней на его памяти никогда еще не случалось. Счастливое стечение обстоятельств, ясная погода, приятная бодрость в теле, дружеские улыбки встречных и бог знает что еще – все вместе как нельзя лучше способствовало исполнению его замыслов.
Кстати говоря, дабы содержать себя в благочестии и добродетели, он прибегал к всевозможным средствам: каждое утро для оживления добрых и благих чувств читал вслух «Всемирную молитву» Александра Поупа, которую переписал по-английски и выучил наизусть, – и действительно, всякий раз по ее прочтении он ощущал в себе живое стремление к новым благим начинаниям. Кроме того, он выписал из одной книги «правила жизни» и регулярно прочитывал их в определенные часы. И так же добросовестно пропевал несколько мотетов, живо побуждающих к добродетели и благочестию.
Если бы и внешние его обстоятельства сложились чуть более счастливо и благоприятно, то Райзер с такими устремлениями – между прочим, совсем не частыми у молодых людей его возраста (ему в то время едва исполнилось шестнадцать лет) – мог бы сделаться образцом добродетели.
Но людское мнение о себе он не мог изменить, как ни старался, вот оно-то снова и снова лишало его уверенности и, несмотря на все его усилия стать лучше, никак не хотело склоняться в его пользу: он казался слишком испорчен и слишком сильно обманул общие надежды, чтобы надеяться вновь обрести уважение и любовь окружающих.
Особенно тяжким и совершенно незаслуженным стало павшее на него подозрение в распутстве – ведь он жил в одной комнате с таким отъявленным распутником, как Г. Однако Райзер был настолько далек от всякого распутства, что и тремя годами позже, когда к нему в руки случайно попала книга по анатомии, он впервые получил сведения относительно известных вещей, о которых имел тогда лишь самое смутное и неопределенное представление.
Даже чтение старинных книг и посещение театра ставились ему в вину и почитались за непростительный грех.
Случилось так, что в Ганновер приехала труппа бродячих акробатов, и так как место на площади стоило очень дешево, в один из вечеров он тоже пошел поглядеть на искусство храбрецов, рискующих свернуть себе шею. Его заметили, а поскольку подобное выступление тоже числилось по разряду театральных комедий, то сызнова пошли толки о его вновь возродившейся склонности – мол, дня не проходит, чтобы он не ходил глазеть на акробатов, вот, значит, на что он разбазаривает деньги, теперь уж ясно, что из него не выйдет никакого толку.
Голос его был слишком слаб, чтобы противостоять суду тех, кто будто бы ежевечерне видел его на представлении акробатов, и, таким образом, единственный вечер, проведенный на площади, отбросил его во мнении людей куда дальше назад, чем ему удалось продвинуться за месяцы прилежного и размеренного труда.
К этому добавились и другие причины для горького уныния. Подошел Новый год, и Райзер заранее предвкушал, как насладится привилегией своего положения – пройдет под музыку в составе факельного шествия вместе и наравне с остальными, не как в прошлый раз, где-то в самом хвосте.
Чтобы покрыть расходы на факел, на музыкантов и некоторые другие, он рассчитывал использовать хоровые деньги, заработанные тяжким певческим трудом на морозе и под дождем. Когда же он зашел к директору, чтобы получить их, конректор неожиданно вздумал удержать с него эти деньги в счет неоплаченных частных уроков, которые Райзер брал у него, еще учась в младших классах. Напрасно Райзер побежал за конректором, умоляя скостить с этой суммы половину, тот остался непреклонен. Когда он вернулся к директору, тот сурово отчитал его за новое посещение театра и акробатического представления и за то, что Райзер имел наглость прямо ввиду школы купить и тут же на улице съесть кусок хлеба с медом. Сам Райзер не видел в этих поступках ничего предосудительного, но они были истолкованы как величайший позор: директор назвал его скверным мальчишкой, не имеющим ни стыда, ни совести, и объявил, что отныне перестанет с ним нянчиться.
Во всей жизни Райзера трудно сыскать минуты столь же глубокой печали и безысходности, как при возвращении его домой от директора. Не замечая ветра и метели, он часа полтора блуждал по улицам и городскому валу, всецело предавшись тоске и громким пеням.
Ибо все его надежды – снова снискать своим поведением расположение директора, получить хоровые деньги, под Новый год всегда немалые, а также страстная мечта принять назавтра участие в публичном факельном шествии наравне с остальными – все пошло прахом.
Но больше всего Райзера терзало последнее лишение, и это понятно, ибо участие в шествии вернуло бы ему сознание принадлежности к школьному сословию вкупе со всеми школьными правами, столь жестоко у него отнятыми, отверженность казалась ему величайшим несчастьем всей жизни. Потому-то он так слезно умолял конректора простить ему половину долга, до чего не опустился бы ни в каком другом случае.
Как ни отчаянно старался Райзер раздобыть денег, ему это не удалось, он не смог купить даже факела, и пока его товарищи пышной и блестящей процессией шествовали по улицам мимо толпы зевак, он сидел, уныло склонившись над своим фортепиано и пытаясь хоть чем-то утешиться. Но музыка, донесшаяся издалека, произвела на его душу необыкновенное действие: он живо вообразил и отблески факельного пламени, и толкотню и давку на улицах, и своих школьных товарищей, главных героев этого великолепного торжества – а заодно увидел и себя, одинокого, отлученного от всего мира. Это погрузило его в тоску, хорошо ему знакомую по давнему случаю, когда родители оставили его в комнате одного, а сами отправились на пирушку к хозяину: снизу доносились взрывы веселого смеха и звон бокалов, он же сидел одинокий, всеми покинутый и искал утешения в песнях мадам Гийон.
Подобные происшествия еще не раз выталкивали его из мира людей в объятия одиночества, и он не стал счастливей, сидя один у своего фортепиано, читая и работая, – и теперь мечтал лишь о том, чтобы поскорее настало лето, когда можно будет перебраться на чердак, где стояла его кровать, и весь день оставаться одному.
Когда долгожданное лето настало, Райзер вполне насладился блаженством одиноких трудов. Он снова стал брать книги у букиниста, но теперь обращался исключительно к ученым трудам. Пережив столь ужасную эпоху своей жизни, о романах и комедиях он забыл и думать.
Лишь только воздух немного прогрелся, он поспешил на чердак и проводил там блаженнейшие часы за чтением и штудированием книг.
Среди других трудов он как-то принес от букиниста «Философию» Готшеда, и, несмотря на упрощенность изложения, эта книга дала первый толчок его уму – в ней он почерпнул беглое изложение всех философских направлений, благодаря чему мысли в его голове приобрели известный строй.
Как только он это осознал, в нем начала расти тяга к систематическому обзору разных предметов. Он понял, что обычное чтение не приближает его к цели, и начал набрасывать на листках небольшие таблицы, в которых старался соотнести детали с единым целым и так составить себе о предмете наглядное представление.
Уже простое переписывание оглавления книги возбуждало в нем интерес к ее содержанию, ибо, имея при чтении перед глазами лист бумаги, где были перечислены все темы сочинения, он за частностями никогда не терял из виду целое, что при постижении философской мысли составляет и самое главное требование, и самую большую трудность.
Все, что еще не было им до конца продумано, лежало на этой карте, как неизведанная земля, которую ему страстно хотелось исследовать.
Общий абрис, или контур, постройки возникал в его сознании сразу после ознакомления с целым, затем он постепенно, один за другим, заполнял обнаруженные пробелы. То, что раньше было для него пустым наименованием, понемногу наполнялось отчетливым смыслом, и если он второй раз встречал или вспоминал прежде незнакомое, темное слово, оно становилось ясным и внятным, и тогда его охватывало удивительное, прежде неведомое чувство, – он впервые ощутил на вкус блаженство мысли.
Неистощимое желание постигать целое поддерживало его при разборе частностей. В его уме каждый раз рождалось новое творение. Казалось, после предрассветных сумерек в нем понемногу занимался день, и он не мог вдоволь налюбоваться его животворящим светом.
За своими занятиями он порой забывал о еде и питье да и обо всем, что его окружало. А однажды под предлогом болезни добрых полтора месяца не спускался со своего чердака – все это время он ночи напролет просиживал с пером и книгой в руках и не успокоился, пока не прочитал ее от корки до корки.
Привычка всегда держать перед глазами содержание книги, постоянно упорядочивать и классифицировать материал в голове и на бумаге уберегала его внимание от рассеяния, как о том сказано выше.
И хотя внешние его обстоятельства не слишком улучшились, лето выдалось для него сравнительно благоприятным.
Как бы то ни было, одинокие часы, проведенные на чердаке, Райзер впоследствии причислял к счастливейшим в своей жизни. Пожалуй, с тех пор он уже не бывал так несчастен, как раньше, потому что именно тогда стало по-настоящему развиваться его мышление.
Куда бы он ни шел и где бы ни был, он теперь размышлял, а не просто фантазировал, как бывало, и мысль его обращалась к самым возвышенным умозрительным предметам, как, например, к представлению о времени и пространстве или о высшей господствующей силе и тому подобному.
Но уже тогда с ним стало происходить и другое: стоило ему на некоторое время погрузиться в размышления, как он словно бы натыкался на некое препятствие, и оно, словно глухая стена или непрозрачное покрывало, заслоняло от него весь горизонт. Ему начинало казаться, будто вся его мысль сводится к словам.
Он наталкивался на непроницаемую перегородку, отделяющую человеческую мысль от мысли высших существ, – на неизбежную потребность в языке, без которого человеческая мысль не может развиваться, но которое есть лишь искусственное средство, помогающее выразить нечто схожее с чистой мыслью, до коей мы, быть может, когда-нибудь сумеем дотянуться.
Язык казался ему препятствием для мысли, но мыслить без языка он не мог.
Порой он проводил целые часы в мучениях, пытаясь понять, возможно ли мыслить без слов. И тогда ему представлялось, что само понятие существования кладет предел человеческой мысли; все вокруг становилось сумрачным и пустынным – он окидывал взглядом короткий отрезок собственного существования, и мысль, точнее не-мысль о небытии сотрясала его душу, он не мог понять – как же так: вот сейчас он существует, а когда-нибудь перестанет существовать. Без поддержки и руководства он блуждал в глубинах метафизики.
Иногда после хора Райзер проходил мимо болтающих друг с другом товарищей и слышал, как они шушукались за его спиной: «Вон пошел меланхолик!» Тогда он задумывался над природой звука и пытался отыскать здесь то, что нельзя выразить словами. Подобные размышления заняли место прежних романтических фантазий, которым он предавался, когда тусклыми зимними вечерами под снегом и дождем пел в хоре.
Он взял у антиквара Вольфову «Метафизику» и прочел ее своим новым методом; когда же он в следующий раз пришел к сапожнику Шанцу, пищи для их философской беседы оказалось еще больше, чем ранее, – они своим умом дошли до многих систем, открытых давними и нынешними учеными мужами и превозносимых множеством людей.
В это время директор Бальхорн, на дружбу с которым Райзер возлагал столь большие надежды и столь в них разочаровался, был переведен суперинтендентом в небольшой городок неподалеку от Ганновера, и другой директор, по имени Шуман, заступил его место.
Эта перемена нимало не заинтересовала Райзера, чье внимание целиком поглотила метафизика. Новый директор был человеком в годах, но обладал солидными знаниями и изысканным вкусом, причем – весьма редкий случай – почти не страдал педантизмом, столь свойственным старым учителям.
Вследствие означенных пертурбаций занятия часто отменялись, поэтому отсутствие Райзера оставалось почти незамеченным. И если пропущенные школьные часы можно провести с пользой, то Райзер ее не упустил – за несколько месяцев он успел сильно продвинуться вперед, и ум его усвоил понятий больше, чем за любой школьный год.
Ни разу, во всяком случае, не довелось ему слышать капитального курса философии, преподанного столь же подробно, как сам он за это время продумал его для себя; иные же науки, как догматика, история и т. п. и не преподавались в университете столь досконально, как в ганноверской школе.
В детстве его учили только счету и письму, но он растерял полученные навыки, так как поупражняться в счете у него не было случаев, а свой почерк он испортил, записывая на слух. Теперь же он приобрел известные навыки в письме, вся польза от которых состояла в том, что он заметно набил в этом деле руку. Кроме того, он стал снова выполнять домашние задания и подавать выполненные упражнения ректору, который был приятно удивлен улучшением его почерка и вскоре уже поручал ему переписать что-нибудь прямо у себя дома, куда Райзер опять оказался вхож. Это породило в нем надежду вернуть себе доверие ректора, но все пошло прахом, когда в Ганновер неожиданно прибыл его отец: пастор Марквард не нашел для него иного утешения, как сказав, что его сын – вечный неудачник и ждать от него толку в будущем не приходится.
Когда отец уходил, Райзер вышел проводить его за городские ворота, и здесь отец передал ему «утешительные» слова пастора Маркварда, заодно осыпав его горькими упреками в том, что он не ценит оказываемых ему благодеяний. При этом он упомянул и бывший на сыне кафтан как незаслуженный дар благодетеля. Последние слова привели Райзера в негодование, так как этот кафтан, сшитый из грубого серого сукна и делавший его похожим на слугу, всегда был ему ненавистен, – он выпалил отцу, что носит сей позорный наряд с большой горечью и великой благодарности за него не испытывает.
Отец, свято чтивший почерпнутые у мадам Гийон нравственные принципы самоунижения и искоренения всяческой гордыни и тщеславия, пришел в бешенство, резко повернулся и на прощанье послал сыну свое проклятие. Никогда еще Райзер не испытывал таких чувств: все, что ему пришлось претерпеть от своей злой судьбы, разрыв с отцом и его проклятие словно молнией пронзили его душу.
Возвращаясь в город, он выкрикивал хулу на небеса и был близок к отчаянью; он хотел лишь одного, чтобы земля поглотила его, – казалось, что проклятие отца начинает над ним сбываться.
На некоторое время это происшествие вновь перечеркнуло все его добрые намерения и пресекло размеренные труды.
Лето подошло к концу, и возобновившийся телесный недуг стал угнетать его духовно. У него начались головные боли, не утихавшие ни днем, ни ночью в течение целого года.
Портной, у которого он прожил год, отказал ему от дома, и он переселился к некоему мяснику на отдаленную улицу. У этого мясника уже квартировали двое солдат и несколько школьников.
Теперь он, как и раньше, проводил дни вместе с другими жильцами в нижней комнате, а фортепиано с прибитой к нему полкой для книг разместилось наверху, но не на чердаке, а в маленькой спальне, которую он делил с одним хористом. Летом, в теплое время, каждый из них мог там пользоваться уединением.
Общение с хозяином-мясником, двумя солдатами и шалопаями хористами не требовало слишком тонких манер.
Зимними вечерами вся компания собиралась в одной комнате, а поскольку работать при таком шуме и гаме все равно было невозможно, он присоединялся к остальным и, как мог, развлекался с людьми, составлявшими отныне его тесный круг.
Несмотря на беспрестанную головную боль, он старался работать всякий раз, как его хоть ненадолго оставляли в покое, и за несколько недель выучил французский язык, взяв в букинистической лавке латинского Теренция с французским переводом. Ежедневно разбирая по нескольку страниц, он вскоре стал сносно понимать французские книги.
Поскольку же внешние его обстоятельства нисколько не улучшались да и телесные страдания не отступали, он погрузился в душевное состояние, которому как нельзя лучше соответствовало чтение книги, случайно попавшей тогда к нему в руки, – «Ночных размышлений» Юнга. Ему казалось, он нашел в ней собранными воедино свои собственные мысли о ничтожности жизни и тщете человеческих усилий. Он не мог вдоволь ею начитаться и помнил наперечет все мысли и чувства, в ней переданные.
Унять головную боль он мог не иначе, как растянувшись на кровати во весь рост – в этой позе он нередко оставался по целым дням, не выпуская из рук книгу. Никаких иных наслаждений ему в жизни не оставалось, и без этого убийственная скука сделала бы совсем невыносимым его убогое существование.
Чтобы хоть на время избавиться от донимавшего его гама, он, не смущаясь ни снегом, ни дождем, порой совершал прогулки по городскому валу, выбирая вечернее время, когда сгущались сумерки и он мог не бояться, что кто-то его заметит и заговорит с ним; тогда он немного приободрялся и в нем загоралась искра надежды выбраться когда-нибудь из ужасных условий, в коих он находился.
Когда он видел, как в домах, прилегающих к валу, зажигаются огни, и представлял себе, что в каждой из освещенных комнат, во множестве составлявших каждый дом, живет семья, или компания жильцов, или просто одинокий человек и что в эту самую минуту такая комната заключает в себе судьбу, жизнь и мысли одиночки или целой компании людей, когда вспоминал, что и сам после прогулки вернется в точно такую же комнату, к которой он прикован и где сосредоточено теперь все его бытие, – сначала его охватывало до странности унизительное чувство, что его судьбе так и суждено затеряться в этом запутанном клубке людских судеб, навсегда остаться малой и незаметной. Но иногда эти разрозненные домашние огоньки, напротив, укрепляли его дух – стоило ему окинуть целое единым взглядом и вырваться умом из узкого и тесного круга, заставлявшего его смешаться с малыми и неприметными жителями земли. В такие минуты он пророчил себе совершенно другую, высокую судьбу и, ускоряя шаг, предавался сладостным размышлениям, вновь оживлявшим в нем надежду и мужество.
Ряд светящихся окон в чужом, незнакомом доме, населенном семьями, о жизни и судьбе которых он знал так же мало, как они о его жизни, рождал в нем стойкое и необычайное ощущение – ему наглядно открывалась ограниченность каждого человеческого существа.
Он улавливал истину: среди тысяч и тысяч себе подобных, ныне живущих или когда-то живших, каждый человек единствен и неповторим.
Часто, когда он проходил на улице мимо какого-нибудь незнакомца, его охватывало желание постичь мыслью бытие и сущность этого совсем чужого ему человека. Мысль о чуждости этого человека, о взаимном незнании среди людей имен и судеб друг друга достигала в нем такой остроты, что он, насколько позволяли приличия, приближался к прохожему, чтобы хоть мгновение подышать его воздухом и попытаться пробить перегородку, отделяющую воспоминания и мысли этого человека от его собственных.
И еще одно его детское воспоминание было бы нелишним здесь упомянуть. В детстве ему иногда приходило в голову: чту, если бы у него были другие родители, а до этих, нынешних, ему не было бы никакого дела и он их просто не замечал? Над этой мыслью он проливал реки детских слез: каковы бы они ни были, его родители, он любил их больше всего на свете и ни за что не променял бы их даже на достойнейших и добрейших. Но уже тогда его одновременно охватывало странное чувство, будто он затерян среди множества людей: он представлял себе несметное количество других родителей, с другими детьми, затерянными среди этой толпы…
С той поры всякий раз, как он оказывался в большом скоплении народа, в нем просыпалось чувство собственной малости, отделенности от всех, незначительности, доходящей до ничтожества. Сколько здесь материи, из которой сделан и я! Какая огромная людская масса, из каких они земель, из каких воинств? Вот так же из одинаковых древесных стволов строят разные дома и башни!
Примерно таковы были мысли, будившие в нем тогда это смутное чувство, – смутное, потому что он еще не умел облечь их в слово и придать им отчетливость.
Однажды, когда на лобном месте недалеко от Ганновера готовилась казнь четырех разбойников, он вместе с толпой зевак тоже отправился поглядеть на это зрелище – и увидел всего лишь четырех человек, которым вскоре предстояло быть разрубленными и вычеркнутыми из числа людей. Это событие показалось ему столь же малым и незначительным перед лицом обнимавшей его по-прежнему огромной человеческой массы, как вырубка одного дерева в лесу или, скажем, забой вола. Когда же части тел казненных были растянуты на колесе и он ясно представил себе, как легко он сам и стоящие вокруг люди могут быть разъяты на части, человек как таковой увиделся ему столь малым и ничтожным, что его собственная судьба да и вся жизнь оказалась погребена под мыслью, что человека можно разрубить как животное, – и он возвращался домой даже не без известного удовлетворения, поглощая по пути тесто от своего парика – ибо как раз наступили месяцы, когда он по нескольку дней только этими корками и держался. Пища и платье стали ему безразличны, равно как жизнь и смерть, – какая разница, будет ли еще бродить по земле этот зыбкий кусок плоти, если этой плоти вокруг так неимоверно много! После того дня он, не в силах сдержаться, снова и снова возвращался на площадь, где были рассечены те разбойники, а части их тел намотаны на колесо, и мысленно повторял слова, сказанные еще Соломоном: «Ибо участь сынам человека и участь скоту – одна и та же им участь: как тому умирать, так умирать и этим».
С тех пор видя, как режут животное, а наблюдать такое ему приходилось в то время у мясника довольно часто, он всегда сравнивал себя с этим животным и всегда надолго задумывался, пытаясь распознать разницу между ним и собой. Он простаивал часами, разглядывая теленка, его голову, глаза, уши, рот, нос, приближался к нему как можно теснее – как прежде к незнакомым людям – в безумной надежде, не удастся ли вжиться мыслью в самую природу животного; всеми силами он пытался уяснить разницу между ним и собою и порой настолько забывался в своем созерцании, что начинал верить, будто на мгновенье действительно постиг род бытия подобного существа. Иными словами, постиг, каково бы жилось ему самому, к примеру, собакой среди людей или каким-то другим животным, – подобные мысли занимали его и раньше, с самого детства. А поскольку он теперь стал обдумывать разницу между телом и духом, самым важным для него стало отыскать и какое-то свое важное отличие от животного, иначе как было объяснить, что животное, столь схожее с ним по телесному составу, в отличие от него не имеет духа?
И что происходит с духом после разрушения и распадения тела? Ему казалось, что мысли многих тысяч людей, отделенные друг от друга перегородкой тел и сообщающиеся между собой лишь благодаря движению отдельных частей этой перегородки, после смерти людей сливаются воедино, так как исчезает то, что их разделяло, – он так и представлял себе освободившийся и уплывающий в небо разум какого-то человека, вскоре растворяющийся в воздухе.
Потом он воображал, как из чудовищного людского скопления возникает столь же чудовищное, бесформенное скопление душ, и никак не мог понять, почему их число именно таково – не больше и не меньше, а поскольку это число возрастало до бесконечности, каждый индивид становился незначительным почти до совершенной ничтожности.
Эта незначительность, эта затерянность среди людской массы зачастую тяготила его более всего.
В один из вечеров он, печальный и угрюмый, брел по улице. Уже стемнело, но не настолько, чтобы сделать его совсем незаметным для прохожих, чей вид был ему невыносим, так как он казался самому себе предметом всеобщих насмешек и презрения.
Дул сырой холодный ветер, капли дождя мешались со снегом, одежда на нем промокла до нитки, и в эту минуту в нем вдруг возникло ощущение, что убежать от самого себя никак невозможно.
Эта мысль навалилась на Райзера огромным камнем, и как ни старался он из-под него выбраться, тяжкое бремя бытия пригнетало его к земле.
День за днем просыпаться рядом с самим собой и вместе с собой отправляться в постель, повсюду таскать за собой свое ненавистное Я!
Его сознание, пронизанное чувством собственной презренности и отверженности, стало ему столь же тягостно, как тело, испытывающее холод и сырость, и он отбросил бы его от себя с такой же охотой и готовностью, как отсыревшее платье, улыбнись ему из-за какого-нибудь угла вожделенная смерть.
То, что он неизменно должен оставаться самим собой и не может стать никем другим, что он ограничен самим собой и заключен в себе самом, породило отчаяние, которое привело его к берегу реки, протекавшей в том месте без парапета…
Здесь он пробыл добрых полчаса в борьбе между ужасающим отвращением к жизни и необъяснимой жаждой по-прежнему дышать, пока наконец совершенно изможденный не опустился на поваленный ствол дерева, лежавший недалеко от берега. Там, словно в пику самой природе, он еще некоторое время подставлял себя струям дождя, но потом задрожал от холода и стал стучать зубами. Это заставило его очнуться, и тут ему неожиданно вспомнилось, что нынче у хозяина-мясника он сможет поесть свежей колбасы и что общая комната, должно быть, прекрасно натоплена. Оные вполне чувственные и вполне животные представления снова освежили в нем инстинкт жизни – он совершенно забыл о себе-человеке, как случилось с ним во время казни преступников, и всеми чувствами и ощущениями вновь обратился к себе-животному.
Как животное, Райзер цеплялся за жизнь, но как человеку всякий миг существования был ему невыносимой мукой.
Но когда тяготы его доходили до крайности, он нередко спасался от действительного мира в мире книг. На сей раз в лавке букиниста он наткнулся на Виландов перевод Шекспира – и какой огромный новый мир внезапно открылся его умственному взору и чувствам!
Этот мир содержал в себе больше, чем все, до той поры им передуманное, прочитанное и изведанное. Он читал «Макбета», «Гамлета», «Короля Лира» и чувствовал, что дух его неудержимо рвется ввысь; каждый час, проведенный за чтением Шекспира, сделался для него бесценен. Шекспиром он жил, только о нем думал и мечтал, и величайшим его желанием стало с кем-нибудь поделиться всем тем, что он пережил за чтением. И самым близким человеком, который способен это прочувствовать и которому он мог все это доверить, был его друг Филипп Райзер, живший в отдаленной части города, где он открыл новую мастерскую для изготовления фортепиано. Вдобавок он пел в хоре, но не в том же, что Антон Райзер. Итак, давно объединенные самой искренней дружбой, они на долгое время лишились общения.
Теперь же, когда Антону Райзеру стало невмоготу наслаждаться чтением в одиночестве, он первым делом поспешил к старому романтическому другу.
Прочитать ему целиком какую-нибудь из пьес Шекспира, а затем чутко прислушиваться к его оценкам – об ином наслаждении Райзер не мечтал.
Они предавались чтению ночи напролет в комнате Филиппа Райзера, который в роли хозяина после полуночи варил кофе и подбрасывал в печь поленья. Затем оба устраивались за столиком под маленькой лампой, и Филипп Райзер жадно, с любопытством слушал чтение Антона Райзера, меж тем как их восторг нарастал с каждым поворотом действия.
Эти шекспировские ночи остались приятнейшими воспоминаниями жизни Райзера. Мало того, если его разум был чем-то сформирован, то именно этим чтением, оттеснившим и заслонившим собою все остальное в драматическом роде, что ему довелось прочесть. Он научился более благородно подниматься над внешними обстоятельствами, и даже в меланхолии его фантазия обрела теперь более высокий полет.
Благодаря Шекспиру он лучше постиг мир человеческих страстей, узкий круг его идеалистического существования расширился; теперь он уже не вел ничтожную жизнь одиночки, затерявшегося в толпе, ибо мог разделить чувства тысяч других людей.
Прочитав Шекспира – и прочитав именно так, а не иначе, – он перестал быть простым и заурядным человеком, спустя недолгое время его дух сумел пробиться сквозь гнетущие обстоятельства, сквозь все насмешки и презрение, совсем недавно его удушавшие. И свидетельство тому – наше дальнейшее повествование.
Монологи Гамлета обратили его взгляд к целокупной панораме человеческой жизни, он уже не чувствовал себя одиноким в своих мучениях, угнетенности и стеснении; отныне он воспринимал это как общий удел человечества.
Оттого и жалобы его приобрели более высокий характер – чтение Юнговых «Ночных размышлений» до известной степени уже подготовило эту перемену, но Шекспир потеснил и Юнга, к тому же через Шекспира вновь окрепли ослабшие было узы дружбы между Филиппом Райзером и Антоном Райзером. Антон Райзер нуждался теперь в собеседнике, с кем мог бы обмениваться всеми мыслями и чувствами, но кто же подходил для этого лучше, чем его друг, разделивший когда-то его чувства к боготворимому Шекспиру!
Потребность излагать свои мысли и переживания привела его к решению снова взяться за дневник и записывать туда уже не мелкие происшествия, как раньше, а внутреннюю историю своего духа, причем излагать ее в форме писем к другу.
Тот же стал бы ему отвечать, и такая переписка служила бы обоим взаимным упражнением в стиле. Это упражнение впервые и сделало из Антона Райзера писателя, он начал получать несказанное удовольствие, облекая уже продуманные мысли в подходящие слова, дабы иметь возможность передать их другу. Так под его пером возникло несколько небольших сочинений, иные из которых не заставили его краснеть и в более зрелые годы.
И хотя упражнение вышло односторонним, так как Филипп Райзер не успевал отвечать, все же теперь у Антона Райзера был некто, кому он мог доверить свои чувства и суждения, к чьему одобрению или хуле прислушивался, о ком он мог думать, когда писал.
И вот что странно: поначалу, когда он только собирался что-либо написать, с его пера всякий раз сами собой сбегали строчки: «Что есть мое бытие, что есть моя жизнь?» Эти же слова стояли и на нескольких клочках бумаги, которые он намеревался исписать, но отбрасывал, когда сочинение у него не шло.
Смутные представления о жизни и бытии, этой разверстой перед ним бездне, постоянно теснились в его душе, ища выхода, и он чувствовал, что сперва должен разрешить свои сомнения и тревоги по этому главнейшему вопросу, а уж затем обращаться к другим предметам. Вот почему вполне естественно, что перо против его воли снова и снова выводило эти слова, когда он силился записать свои мысли.
В конце концов выражение пробилось сквозь мысли, сформировалось – и первое, что ему удалось облечь в более или менее подходящую словесную одежду, были метафизические раздумья о личности и самосознании.
Ибо когда он вознамеривался развить свои мысли и занести их на бумагу, ничто не казалось ему более насущным, чем эти понятия: прежде чем писать о чем-либо другом, он хотел, так сказать, разобраться в самом себе.
Вслед за тем он начал исследовать понятие индивидуум, которое представилось ему чрезвычайно важным еще несколько лет назад, едва он немного приобщился к логике. Поскольку же теперь он пришел к мысли о полной обусловленности человеческой личности внешними силами и об абсолютном тождестве личности самой себе, то по некотором размышлении пришел к выводу, что потерял самого себя и должен вновь себя обрести, последовательно вспоминая свое прошлое. Он почувствовал, что человеческое существование держится лишь непрерывной цепочкой подобных воспоминаний.
Подлинное существование он сводил к индивидууму как таковому, но помимо вечного, неизменного существа, обладающего всеохватным зрением, никакого иного индивидуума представить себе не мог.
В итоге этих размышлений собственное бытие предстало ему как чистая фикция, абстрактная идея – совокупность подобий, наследуемых каждой последующей минутой у минуты только что прошедшей. И это представление о собственной ограниченности облагораживало другое его представление. Последнее огромное понятие впервые дало ему почувствовать собственное его бытие, которое раньше ускользало у него между пальцев, бесцельное, разорванное и отрывочное…
Из этих раздумий родился его первый письменный опыт в форме письма к другу, с которым он не раз беседовал на эту тему и который, быть может, хотя бы отчасти его понимал.
Меж тем головные боли не отпускали, хотя он привык к ним настолько, что, когда они на целый день прекратились, чувствовал в этом нечто опасное и противоестественное.
Он все чаще встречался с Филиппом Райзером и вдобавок совершенно неожиданно приобрел нового друга. Это был сын кантора, по имени Винтер, один из его соучеников; выражение его лица да и само лицо всегда вызывали у Антона Райзера смутную неприязнь, и тот, казалось, в свою очередь отвечал ему презрением.
От отца Винтер узнал, что Антон Райзер некогда писал стихи, а так как он сам обещал кому-то сочинить ко дню рождения поздравительное стихотворение, то, не имея для этого охоты и времени, попросил Райзера о помощи. Для Райзера это стало поводом вновь обратиться к поэзии, которую он совсем было оставил.
Маленькое стихотворение удалось ему весьма недурно. С того времени Винтер стал чаще бывать у него и пообещал свести его с одним замечательным человеком, впрочем, пребывавшим в полной безвестности, всего-навсего изготовителем пивного уксуса. Райзер весьма этим загорелся, однако знакомство все оттягивалось.
Стихи, столь удачно сочиненные им для Винтера, вновь пробудили в нем дремлющую склонность к поэзии, но по вялости своего характера он оставался более привержен гармонической прозе, к коей его слух пристрастился после чтения Юнговых «Ночных размышлений» в превосходном переводе Эберта, и теперь ему не хватало лишь внешнего повода, который придал бы его воображению сверхобычный размах.
И такой повод возник одним хмурым и дождливым летним днем, во время хорового пения: он о чем-то разговорился с Винтером, и тот невзначай спросил, чтó Райзер читает, выразив удивление, что всегда застает его за книгой. Райзер ответил, что чтение – это единственное, что может хоть как-то вознаградить презрение, коим он окружен в школе и на хоре.
Благодаря этому разговору, давшему Райзеру повод кратко пробежать свою жизненную ситуацию, его сердце открылось для живых впечатлений. И случилось так, что Ферклас, тот самый, с кем он некогда представлял вместе с Г. «Умирающего Сократа», стал грубо над ним насмехаться и разными намеками снова выставлять на посмешище одноклассникам, которые очень скоро присоединились к нему и добрых полчаса немилосердно дразнили Райзера.
Сам он ни слова на это не ответил и ушел от всех, глубоко затаив обиду, но как ни старался претворить обиду в презрение, это ему не удавалось; мало-помалу он позволил своей фантазии довести себя до горчайшей мизантропии, развеять которую смогла только мысль о Филиппе Райзере. И в конце концов, поскольку в нем властвовало желание записывать для Филиппа свои мысли и переживания, оно и на сей раз превозмогло досаду и обиду. Он попытался облечь в слова все обидное, что до сих пор его ранило, чтобы ещё живее представить это в своем воображении. И еще прежде чем хор замолк, у него – под шум, насмешки и глумливые остроты – уже сложился этюд, который он собирался записать сегодняшним вечером. И наслаждение от сделанного словно бы приподняло его над ним самим и над всеми его горестями. Воротившись домой, он со щемящим и смешанным чувством боли от случившегося и радости от того, что удалось воплотить происшедшее в живых образах, записал следующие слова:
Райзеру
Сколь печально бытие человеческое! И мы соделываем наше ничтожное бытие еще несноснее друг для друга, вместо того чтобы в сей жизненной пустыне облегчать взаимные бремена дружеским участием.
Разве не довольно того, что мы непрестанно впадаем в безумства и заблуждения, как бы плутая по заколдованной местности?
Так еще и разнообразным чудищам реветь на нас? Еще и злому сатиру прободать нашу душу своими насмешками?
Как уныла и пустынна округа сия! И я осужден, покинутый и одинокий, скитаться по ней без опоры себе и без вожатого…
Но Боже, какое счастие! Вижу вдали горстку подобных мне человеков, так же бредущих по пустыне!
«О, позвольте, позвольте и мне примкнуть к вам, друзья мои, дабы я мог скитаться в пустыне вместе с вами, и тогда она станет для меня цветущим лугом!»
И вот они приняли меня к себе, о счастие!..
Увы, горе мне!.. Что вижу?… И это – люди? Это – мои братья?…
Личина пала… да это дьяволы! И пустыня вмиг обращена в ад!
Я бегу, но их улюлюканье настигает меня.
«Так вы обманули меня, личины человеческие?… Ха, уж больше никто из вас меня не проведет! Привет тебе, Ночь, и тебе, Одиночество, и тебе, горчайшая Меланхолия! А вы, ядовитые насмехания, вы, буйные друзья, личины смерти, отыдите от меня навеки!»
Так шел я и думал, и тяжкая скорбь наполняла мне душу.
Как вдруг явился предо мною некий юноша… взгляд его обличал в нем друга, ласковые глаза – сердечную чувствительность. Я было бросился бежать, но он братски удержал меня за руку – и я остался… Он обнял меня, я – его, наши души слились воедино…
И тут Элизий нас овеял…
И действительно, Райзер не мог бы вернее описать тогдашнее свое состояние; в его словах не было преувеличения, ибо люди, ближайшие к нему в ту пору жизни, и впрямь были какие-то духи-истязатели, и среди этих ревущих чудищ особо выделялся Ферклас, чьи грубые и ядовитые насмешки в тот воскресный вечер ранили Райзера до глубины души – тем больнее, что этот самый Ферклас набивался к нему в друзья. Во всяком случае, лишь он да позднее изгнанный Г. продолжали общаться с ним после представления той комедии, так как оба разделили тогда участь Райзера, вызывая общую ненависть и презрение однокашников. И вот теперь Ферклас стал на сторону тех, кто глумился над Райзером. Он же и поощрял эти издевательства своими дерзкими остротами, выставляя его на посмешище. Все это и навело на Райзера мизантропическое настроение, заставившее его сочинить приведенный отрывок. Однако мысль о Филиппе Райзере и о канторовом сыне, бывшем его враге, а теперь друге, настолько его смягчила, что под конец отрывка он охладил свой пыл и вновь открыл себя для кротких чувств.
Подобные маленькие этюды, обращенные к другу, стали рождаться у него с приходом весны и наступлением Пасхи, когда начались публичные школьные экзамены, на которые он тоже явился.
Но как же пал он духом, когда, сравнив себя с остальными, убедился, что одет несравненно хуже всех. Он сидел совершенно потерянный, никто не обращал на него внимания, и учитель не задал ему ни единого вопроса.
Утром он еще мог это терпеть, но, вернувшись в класс после полудня и снова почувствовав себя потерянным, не выдержал и ушел из школы еще до начала экзаменов.
Он быстрым шагом вышел из ворот – день стоял пасмурный – и устремился в маленький лесок, раскинувшийся неподалеку от Ганновера.
Как только он выбрался из городской толчеи и оставил за спиною башни Ганновера, его охватил рой сменяющихся чувств. Все вдруг представилось ему в совершенно ином свете: он будто разорвал тесную сеть ничтожных отношений, опутавших его по рукам и ногам в этом городе четырех башен, и оказался на просторном лоне природы, вдыхая всей грудью ее живительный воздух. К нему вернулись гордость и чувство собственного достоинства; все оставленное позади предстало перед ним отчетливо до мелочей и в каком-то уменьшенном виде.
Он вообразил себе священников в черных облачениях и воротниках, поднимающихся по лестнице, и рядом с ними – стайку учеников, получающих разные награды, потом увидел, как они расходятся по домам и как это движение все время повторяется по кругу. Оставленный за спиной город, от которого он теперь все более удалялся, был пронизан людскими потоками. И все это казалось столь же тесным, малым и сжатым, как кучка сгрудившихся домов, еще различаемых вдали. Теперь он думал о тишине, царившей на просторах полей, о том, что здесь его никто не видит и не шлет ему вдогонку злобных взглядов, а там, в городе, – шум, и давка, и грохот экипажей, от которых надо уворачиваться, и людские взгляды, которые его пугали. Все это рисовалось его воображению в каких-то уменьшенных размерах и рождало странное чувство, какое бывает на рубеже дня и ночи, когда одна часть неба еще озарена багрянцем, а другая уже погружена во тьму.
Он почувствовал в себе душевную силу, способную сбросить груз, пригнетавший его к земле: как мал этот суетный пятачок, вобравший в себя его горести и заботы, и как грандиозен мир, лежащий перед ним!
Но вскоре опять вернулась тоска: где же в этом огромном и пустынном мире сможет он найти себе опору, будучи исторгнут из всех человеческих отношений? Ведь на том маленьком участке земли, где сосредоточились людские судьбы, он был никем, просто никем!
Тут он осознал, что такова была его участь с раннего детства – быть отовсюду исторгнутым. Едва он хотел подступиться к чему-то стóящему, как более напористые молодцы немедля его оттесняли. Он начинал искать свободное место, где бы можно было стать в очередь, никого не отталкивая локтями, но такого места не находилось, и тогда он отходил в сторону и в одиночестве издалека наблюдал толпу.
И в этом одиночестве сама мысль, что он может спокойно созерцать толпу, не смешиваясь с нею, уже отчасти возмещала невозможность дотянуться до желаемого: одиноким он чувствовал себя и благороднее, и выше, чем затерянным в толпе. Пробуждавшаяся в нем гордость брала верх над досадой, возникшей было из-за того, что ему не удалось примкнуть к остальным, и снова обращала его к себе самому, облагораживая и возвышая его мысли и чувства.
Вот и на сей раз он испытал нечто подобное, когда под пасмурным моросящим небом вышел за городские ворота и устремился к ближайшей пустынной роще – избегая жалящих взглядов своих товарищей, отрешась от всеобщего пренебрежения и собственной нестерпимой ничтожности.
Одинокая прогулка пробудила в его душе куда больше чувств и намного лучше способствовала развитию его ума, чем все школьные занятия, вместе взятые.
Именно эта прогулка укрепила в нем чувство собственного достоинства, расширила круг мыслей и наглядно показала его подлинное, обособленное существование, уже долго ни с чем и ни с кем не связанное, но полностью сосредоточенное в себе и на себе.
Озирая человеческую жизнь в ее целокупности, он научался отличать главное от второстепенных деталей.
Все, что прежде наносило ему обиду, теперь виделось незначительным и даже не стоящим размышлений.
Теперь, однако, другие сомнения, другие тревоги, уже давно им питаемые, поднялись в его душе. Каковы источник и цель, начало и конец его существования, сокрытые в непроницаемой тьме? Откуда и куда устремлено паломничество его жизни, исполненное столь великих трудностей, причины коих ему неведомы? И каков будет итог этого странствия?
Эти вопросы повергли его в глубокую меланхолию. Пока он с усилием преодолевал покрытую желтым песком пустошь, граничившую с рощей, небо совсем заволокло тучами и мелкий дождь промочил его платье. Дойдя до рощи, он вырезал себе палку в колючем кустарнике и, опираясь на нее, пошел дальше. Наконец он добрел до какой-то деревни и, глядя на нее, погрузился в сладостные мечты о мирном покое, царившем вокруг, – пока не увидел вышедшую из одного дома пару, вероятно супругов, которые бранились между собой, а их ребенок громко кричал.
Выходит, недовольство, досада и раздоры повсюду сопутствуют человеку, подумал он и зашагал дальше. Ему захотелось поселиться в глухой пустыне, но и там его уделом оказалась бы смертельная скука, и потому пределом его мечтаний стала могила. Поскольку же он никак не мог взять в толк, почему, живя в этом мире, принужден терпеть травлю, толчки и гонения со всех сторон, то усомнился в разумных основаниях своего бытия – оно представилось ему игрой чудовищного и слепого случая.
Вечер настал раньше обычного, так как небо еще сильнее нахмурилось и дождь усилился. Когда Райзер добрался до дому, уже совсем стемнело. Он устроился под лампой и написал письмо Филиппу Райзеру:
«Насквозь промокнув под дождем и закоченев от холода, я вновь обращаюсь к тебе, – а коли не к тебе, так остается лишь к смерти, ибо с сегодняшнего дня бремя жизни, цель которой от меня сокрыта, сделалось мне совсем несносным. Твоя дружба – единственное, на что я могу опереться, если не хочу окончательно уступить всепоглощающему желанию изничтожить самого себя».
Внезапно в нем вновь загорелась мысль – выразить охватившие его чувства и тем снискать одобрение друга. Это укрепляло в нем желание жить. А поскольку во время прогулки все его чувства ожили и до крайности обострились, ему ничего не стоило их воскресить.
Начал он так:
К тебе, мой друг, спешу с признаньем, Как истомился я страданьем: О муках знаешь ты моих — Есть посильней любви отравы, Измучен весь я жаждой славы И бренных благ земных.Первые строки намекали на любовные переживания Филиппа Райзера, который изводил Антона рассказами о постепенном завоевании благосклонности своей подружки, а также на его надежды и чаяния, целиком устремленные лишь к тому, чтобы добиться ее расположения. Все это нимало не интересовало Антона Райзера, так как ему в голову не приходило домогаться девичьей любви: в столь жалком платье, окруженный всеобщим презрением, он никак не мог рассчитывать на ответное чувство.
Ибо точно так же, как презрение окружающих к его уму Райзер переносил на свою личность, он и платье мыслил как часть своего тела, казавшегося ему столь же недостойным любви, сколь его разум – недостойным уважения. Сама мысль о том, что его может полюбить женщина, виделась ему верхом нелепости, ведь герои читанных им романов и пьес, удостоившиеся женской любви, были в его глазах воплощением высшего, недостижимого идеала. Посему любовные истории он вообще находил чрезвычайно скучными, а рассказы о любовных приключениях, коими подолгу потчевал его Филипп Райзер, и того скучнее, он слушал их только из деликатности.
Впрочем, рассказы друга весьма напоминали романическое повествование. Весь процесс от первого дружеского рукопожатия – через сомнения, треволнения и маленькие, но верные шажки к цели – вплоть до форменного признания во взаимной любви шел своим предусмотренным ходом, как в романах, однако то, что Антон Райзер при чтении пропускал либо торопливо пролистывал, теперь ему приходилось выслушивать во всех подробностях.
Оттого-то мысль, что Антона уязвила вовсе не безответная любовь, а нечто совсем другое, как нельзя лучше подходила для начала стихотворения, обращенного к Филиппу Райзеру. Его угнетали сомнения и тревоги по поводу собственного робкого и бесцельного существования, и продолжал он так:
Глядим мы жадными очами В глубины мрака перед нами, Что меланхолией зовут. Она желает, как царица, На троне сердца водрузиться, И слуги вслед за ней идут.И вот налицо следствия, тревога и печаль:
За нею, смерть тая во взоре, Отчаянье приходит вскоре И прямо в сердце стрелы шлет.Затем мелодия сменяющихся впечатлений снова разрешается мягким состраданием к себе самому:
Теперь мне чуждо наслажденье, Не для меня весны цветенье… и т. д.Здесь его мысль возвышалась до созерцания всей жизненной панорамы, но под конец снова впадала в те же ужасные сомнения, в коих мелодия стиха брала начало:
Мой путь лежит в сухой пустыне, Я радости лишен отныне, Кругом бездонный серый мрак. Что отдыха тебя лишает, Зачем? – мой разум вопрошает, Советчик верный мой и друг. Но жизнь, что лишь мгновенье длится, Пугливой ланью к цели мчится, Чтоб там земной покинуть круг. Кому я бытием обязан? Какими путами я связан? Как я из хаоса возник? В какие темные глубины Я погружусь, когда кончины Настанет неизбежный миг?Это стихотворение словно бы вылилось из его сердца. Рифма и размер сложились сами собой, и трудился он над ним не более часа. После этого он принялся писать стихи просто ради стихов, но так складно у него уже не получалось.
И все же весна и лето 1775 года прошли у него под знаком поэзии. Чудесные шекспировские ночи, которые он всю зиму разделял с Филиппом Райзером, теперь сменились еще более чудесными утренними прогулками.
Недалеко от Ганновера, там, где река образует искусственный водопад, есть рощица, приятней и приветливей которой трудно сыскать.
Туда и совершали они свое паломничество на утренней заре, брали с собой немного еды и, дойдя до леса, обдирали мох с древесных стволов, устраивали себе из него сиденье и, поглощая свой завтрак, поочередно читали друг другу стихи. Особенно часто они выбирали Клейста, которого знали почти наизусть.
На следующий день, когда снова приходили в лес, они перво-наперво искали свое прежнее место, где чувствовали себя как дома средь величавой и свободной природы, что необычайно поднимало их настроение. Все окружающее вливалось в их глаза и уши, в их чувства – и молодая листва деревьев, и пение птиц, и прохладный аромат утра.
Когда же они возвращались в город, Филипп Райзер шел в свою мастерскую и принимался за изготовление фортепиано, а Антон Райзер отправлялся в школу, где к этому времени круг его одноклассников уже сменился, потому он и туда мог приходить с легким сердцем.
В иные часы Антон Райзер, хотя имел теперь друга, все же искал излюбленного уединения и в один из погожих дней набрел в речной долине под Ганновером на укромное местечко, где перекатывал гальку чистый ручей, впадавший в реку. Это место из-за частого посещения стало для него маленькой родиной в огромном мире окружающей природы. Сидя на берегу, он чувствовал себя как дома, и никакие стены не мешали ему наслаждаться видом окрестности. Сей уголок он никогда не посещал без томика Горация или Вергилия в кармане. Здесь он читал о Бандузийском источнике, – как торопливый поток
Obliquo laborat trepidare rivo,[9]отсюда созерцал закатное солнце и растущие тени деревьев. У этого ручья он провел в мечтах немало счастливых часов своей жизни. И здесь его порой посещала муза, или, лучше сказать, он сам пускался на ее поиски. Ибо теперь он силился написать большое стихотворение, но на сей раз им владело лишь стремление сочинять ради сочинительства, и ничего равного предыдущему опыту у него не получалось. Стихотворство само по себе интересовало его больше, чем предмет описания, но из этого редко выходит что-то путное.
Его мысль могла быть вычурной или совсем простой, но всегда было видно: написанное еще лишь должно стать стихотворением, правда, в этих слабых стихах просвечивала его всегдашняя меланхолия, светлые и приятные образы выглядели как подернутые некой пеленой. Первые листья зеленели лишь затем, чтобы вскорости увянуть, небо прояснялось, чтобы снова нахмуриться…
Филипп Райзер не одобрил этих стихов, но Антон Райзер все-таки ждал от него похвалы каждой рифме, дававшейся ему с немалым трудом. Однако друг оказался суровым и беспристрастным судьей и не оставил без критики ни одну туманную мысль, ни одну натужную рифму, ни одну словесную заплатку. Особенно рассмешило его одно место в стихотворении Антона Райзера:
Так горе вдруг сменяет счастье в жизни, чтоб И ей сойти однажды в мрачный, хладный гроб.Филипп Райзер без устали потешался над этим двустишием, декламируя его с комической интонацией. Называл своего друга «любезным Гансом Саксом», расточая ему множество подобных похвал, столь же сомнительных. Вместе с тем он не давал ему вовсе пасть духом, выискивая в его стихах более или менее сносные места, не заслужившие полного порицания.
Взаимный обмен мнениями и полезная критика лишь скрепляли дружбу молодых людей, а желание Антона Райзера писать стихи было неотделимо от его стремления заслужить похвалу друга.
В это время произошло событие, принесшее Антону Райзеру не слишком много чести, хотя истоки его поступка лежали в самой природе человеческой души.
Сын пастора Маркварда, поступивший меж тем в университет, заболел чахоткой и вернулся домой. Когда все лечебные средства оказались бессильны, доктора отступились от него и пророчили ему верную смерть весной. Первой же мыслью Райзера, узнавшего об этом, было: написать на этот случай стихотворение, снискать славу и похвалу, а быть может, и вернуть благосклонность пастора Маркварда. В общем, когда он уже девятый день трудился над своей поэмой, юный Марквард скончался.
Вышло так, что Райзер не потому взялся писать поэму, что был опечален случившимся, а наоборот, старался вызвать в себе род грусти, чтобы написать стихи на сей случай. Стихотворство тем самым сделало его настоящим лицемером.
Однако молодого Маркварда и в последнее время мало заботила личность Райзера, он никогда не защищал его от насмешек и оскорблений товарищей, а порой и сам присоединялся к травле. Поэтому не удивительно, что Райзеру интереснее было стихотворение о юном Маркварде, нежели сам Марквард, хотя никак нельзя одобрить и того, что он фальшиво изображал чувства, коих не испытывал. При этом он не был в ладу с самим собой, но заглушал частые укоры совести, уговаривая себя, будто и вправду скорбит о ранней смерти юноши, во цвете лет лишенного всех надежд и упований.
Поскольку же это стихотворение по сути своей было лицемерным, оно снова ему не удалось и не снискало одобрения Филиппа Райзера, который выбранил в нем почти каждую строчку. Но даже и пастор Марквард, которому эти стихи были переданы, не обратил на них особого внимания, так что Антон Райзер не достиг своей цели.
Вскоре, однако, произошло другое событие, давшее ему иной повод для поэтического вдохновения, не столь наигранного. В начале лета, купаясь, утонул в реке некий юноша девятнадцати лет, близкий друг Филиппа Райзера, обладатель изрядного состояния.
Филипп Райзер попросил Антона Райзера со всем возможным старанием написать на этот случай стихотворение – он желал предать его печати, если же нет, все же иметь в нем – буде оно удастся – достойное творение духа.
Это поручение донельзя возбудило тщеславие Антона Райзера, он попытался как можно ярче представить картину происшедшего, и в течение полутора дней, тщательно выбирая и взвешивая каждое слово, напрягая все душевные силы в надежде получить похвальный отзыв друга, наконец сочинил следующие строфы.
Когда под тяжестью годов склонясь, уже без силы, Почиет старец, память мы о нем храним. Но если друг уйдет от нас во мрак могилы В расцвете лет – как горько мы скорбим! Седую ночь сменил рассвет прекрасный, Грудь юноши легко вздымается во сне, Над ним встает Аврора зорькой ясной И весть несет о новом, светлом дне. И этот день, и сотни дней до срока Несутся перед ним веселой, дружной чередой, И нет пока еще ни звука, ни намека На близость часа, что грозит ему бедой. На землю льют потоки солнечного света И манят юношу в леса и на поля, Ни тучки в небе нет, кругом блаженство лета, В одеждах праздничных ликует вся земля. Но что за тень скользит меж блещущей лазури? О юноша, спеши в укрытье со всех ног! Но поздно! – Он не избежит грядущей бури, И вот его настиг жестокий рок. Его, таясь, погибель поджидала И с гордостью теперь свою добычу унесет, Сердца друзей скорбят, их боль острей кинжала, Потеря велика и страшен жребий тот. Но как блаженна скорая кончина, Слеза бежит легко, и Ангел реет в вышине — Когда б я умер так, была б тогда причина Друзьям печалиться и плакать обо мне!Последняя строфа намекала на прекрасную юную девушку, близкую родственницу погибшего, с братом которой тот купался в реке, когда утонул. Узнав о несчастье, она поспешила из города к тому месту и, стоя на берегу в толпе людей, не таясь рыдала. Райзер, заметивший это, растрогался и почти позавидовал покойнику, столь безутешно оплакиваемому.
Дело в том, что Райзер и сам хотел искупаться в реке и подошел к ней, как раз когда юноша утонул, а его товарищ еще даже не успел одеться. Он видел, как вокруг постепенно собираются равнодушные зеваки, безучастно глазеющие на тело вынутого из воды юноши, которого он через посредство Филиппа Райзера хорошо знал, видел тщетные попытки его оживить, и все это произвело на него столь сильное впечатление, что стихотворение, сочиненное по этому поводу, выражало его истинное настроение и тем заметно отличалось от стихов на смерть молодого Маркварда.
Это стихотворение, не считая нескольких неловких пассажей, понравилось Филиппу Райзеру, что необычайно воодушевило Антона Райзера, решившего теперь искать одобрения друга уже без всякого повода – и стихами, и прозой.
Однако без подходящего повода ни прозаические сочинения, ни стихи ему по-настоящему не удавались. Он промучился две недели, взяв темой противопоставление мирского человека, чьи надежды обрываются на грани земной жизни, и христианина, устремляющего беспечальный взор в будущее по ту сторону могилы. Эта идея возникла у него после чтения Юнговых «Ночных размышлений». Поскольку же ему было совершенно безразлично, о чем писать, – ибо у него не было никаких иных поводов для сочинительства, кроме склонности к стихотворству и желания угодить другу, – он и взял за основу первое, что пришло в голову. Замысел Юнга он развил в рациональном направлении, разрешив своему христианину наслаждаться всеми дозволенными радостями человека мирского и наделив его преимуществом радостного упования на вечную жизнь, отчего он во всех отношениях только выигрывал. В результате мысль, в основе своей верная, получила у него выражение в неестественных и вычурных стихах, снова не заслуживших одобрения Филиппа Райзера, несмотря на массу затраченного на них труда.
Светский Умник и Христианин
Шли раз дорогою одною Меж зеленеющих долин Тот, кто Христа любил душою, И некий умный господин. Тот господин был славным малым, Всегда и все от жизни брал, Он не стремился к идеалам И духом ввысь не воспарял. Умел использовать природу, Что с нас не требует долгов — Дивился каждый день восходу, Цветущей прелести лугов. Был красотою мирозданья И верующий восхищен — Ведь не для одного страданья Он был на Божий свет рожден. И только малость отличала Его от «старших» по уму: Он видел радости Начало Там, где они – Конец всему.То лето стало для Антона воистину поэтическим. Прочитанные книги вкупе с впечатлениями от прекрасной природы произвели чудесное действие на его душу, и куда бы ни ступала его нога, все представало перед ним в волшебном романтическом свете.
Но сколь ни тесны были его отношения с Филиппом Райзером, он все же предпочитал одинокие прогулки. Путь от новых ворот Ганновера прибрежным лугом до водопада возбуждал в нем больше всего романтических мыслей.
Торжественный покой, воцарявшийся над этим лугом в полуденные часы, когда одинокие дубы, рассеянные тут и там в солнечном сиянии, отбрасывали тень на луговую зелень; низкорослый кустарник, за которым совсем рядом слышалось журчанье падающей воды; уютный лес на другом берегу, где они с Райзером прогуливались по утрам; пасущиеся стада вдали и город с его четырьмя башнями и окружным валом, обсаженным деревьями, – все это походило на картинку в камере-обскуре. И все навевало удивительное настроение, какое возникает, когда мы вдруг остро чувствуем, что именно в эту минуту находимся именно здесь и ни в каком другом месте, что это и есть наш истинный мир, о котором мы часто думаем как о чем-то идеальном.
Вспомним, что, читая романы, мы зачастую составляем об описанных там местах и странах тем более удивительное представление, чем дальше эти места и страны от нас отстоят. И попытаемся вообразить, как воспринимает нас хотя бы житель Пекина, для которого мы сами вместе с вещами, нас окружающими, предстаем столь же чуждыми и необычайными. Такое расположение мысли придает окружающему нас миру некое странное мерцание, которое сообщает ему нечто столь же чуждое и необычное, словно мы проделали тысячемильное путешествие, дабы обрести этот взгляд. Рождается ощущение, что мы одновременно расширены и сжаты, и возникающее отсюда смешанное чувство рождает особый род печали, которая охватывает нас в такие мгновения.
Уже тогда Райзер начал размышлять над подобными явлениями и исследовать, как именно вещи могут производить на него впечатления такого рода, но сами впечатления были еще слишком живы и не поддавались холодному рассудку, да и сама его мысль не располагала еще достаточным опытом и достаточной силой, чтобы совладать с образами, порождаемыми его фантазией. К тому же он был склонен к известной вялости и сибаритству, что тоже отнюдь не способствовало развитию его мысли.
Тем не менее он еще с прошлого лета задумал сочинить статью о любви к романтическому и послать ее в «Ганноверский журнал». Он методически собирал идеи для этого сочинения, благо собственный опыт предоставлял ему их ежедневно. Вот только скомпоновать статью ему никак не удавалось.
К тому же он не мог понять, почему разбросанные по лугу высокие деревья, отбрасывавшие тень при полдневном солнце, производили на него столь сильное впечатление; ему не приходило в голову, что это возвышенное и торжественное зрелище, столь тронувшее его сердце, составляется именно одиноким расположением деревьев, беспорядочно разнесенных по местности на далекое расстояние. Всякий раз, когда он бродил по лугу, одинокие деревья как бы возвышали и освящали его собственное одиночество, направляли его мысли в высокие сферы. Шаг замедлялся, голова опускалась, и все его существо настраивалось на серьезный и торжественный лад, он углублялся в заросли низкорослого кустарника, устраивался в его тени близ водопада и предавался своим фантазиям либо читал.
Не проходило дня, чтобы его фантазия не черпала новых образов будь то из действительного, будь то из идеального мира…
Вдобавок ко всему в том году вышли в свет «Страдания юного Вертера», и эта книга во многом отозвалась на его тогдашние мысли и чувства об одиночестве, очаровании природы, патриархальном образе жизни, о том, что жизнь есть сон, и т. п.
Он взял ее у Филиппа Райзера в начале лета, и с тех пор она сделалась его постоянным чтением и всегда лежала у него в кармане. Все чувства, поднявшиеся в нем на прогулке в тот пасмурный день и побудившие его написать стихотворение Филиппу Райзеру, вновь ожили в его душе благодаря этой книге. Он заново обрел здесь свои мысли о близком и дальнем, которые пытался выразить в сочинении о любви к романтическому, и здесь же нашел развитие собственных размышлений о жизни и существовании. «Можешь ли ты сказать: „Это есть“, – когда все проходит, когда все проносится с быстротой урагана»[10]. Ведь эта же мысль так долго придавала собственному его существованию вид заблуждения, мечты и иллюзии.
А вот страданий самого Вертера он не мог понять по-настоящему. Чтобы проникнуться любовной страстью, ему требовалось известное напряжение. Он должен был силой принудить себя стать на место героя, если хотел заразиться его чувствами. Ибо всякий, кто любит и любим, казался ему чуждым и совершенно иным существом: он и представить себе не мог, что его когда-нибудь полюбит женщина. Вертеровы рассуждения о своей любви напоминали ему бесконечные рассказы Филиппа Райзера о том, как он постепенно добивался расположения подружки.
Но более всего Райзера восхищали общие рассуждения о жизни и существовании, об обманчивости людских желаний, о бесцельной земной сутолоке, живые зарисовки природных сценок, мысли о судьбе и о назначении человека.
То место, где Вертер сравнивает жизнь с театром марионеток, подвешенных на проволоке, где он говорит, что сам играет в этом театре, а точнее, играют им, что порой он хватает соседа за деревянную руку и в ужасе отшатывается, – это место разбудило в Райзере воспоминание о подобном чувстве, которое он нередко испытывал, подавая кому-нибудь руку. За повседневной рутиной человек забывает о своем теле, точно так же подверженном законам разрушения всех физических тел, как деревяшка, которую мы можем расколоть или распилить, забывает о том, что сам двигается согласно тем же законам, как и всякий механизм, им созданный. Лишь в редких случаях мы вдруг остро осознаем, что наше тело есть бренный физический объект, и ужасаемся самим себе, внезапно почувствовав, что всю жизнь считали себя совсем не тем, что мы суть на самом деле. В действительности же мы – то, чем быть нам страшно. Когда мы подаем другому руку или просто смотрим на его тело, касаемся его, ничего не зная о бродящих в нем мыслях, сама идея телесности рисуется нам ярче, чем при наблюдении за собственным телом, поскольку мы не можем отрешиться от мыслей о нашем теле, заслоняющих от нас само это тело.
Но всего ярче представились Райзеру слова Вертера о безнадежном и безрадостном прозябании подле Лотты, о смертном холоде, веявшем на него. В точности то же пережил однажды и Райзер, когда однажды, проходя по улице, вдруг испытал сильное желание – и невозможность – бежать от самого себя. Он тогда остро почувствовал всю тяжесть бытия, которую человек принужден каждодневно взваливать на себя, едва встав с постели, и носить до отхода ко сну. Эта мысль казалась ему невыносимой и буквально гнала к реке, где он хотел сбросить гнетущее бремя своего жалкого существования, но срок его еще не вышел.
Словом, Райзер полагал, что всеми своими мыслями и чувствованиями – за исключением относящихся к любви – он отражается в юном Вертере, как в зеркале. «Пусть эта книжка будет тебе другом, если по воле судьбы или по собственной вине ты не найдешь себе друга более близкого»[11]. Он вспоминал эти слова всякий раз, как вытаскивал книгу из кармана, будучи уверен, что они как нельзя лучше подходят к нему самому. Ведь и сам он одинок в этом мире и по воле судьбы, и по собственной вине, и ему отрадней беседовать с этой книгой, чем даже с лучшим другом.
Едва ли не каждым погожим днем он, с «Вертером» в кармане, отправлялся на прогулку по прибрежному лугу, мимо одиноко растущих деревьев, и, дойдя до зарослей низкорослого кустарника, опускался на землю, где в тени листвы, словно в беседке, чувствовал себя как дома. Постепенно он полюбил это место не меньше, чем уголок у ручья, и в хорошую погоду проводил на лоне природы больше времени, чем дома, по целым дням читая «Вертера» среди зеленых кустов, а Вергилия и Горация – на берегу ручья.
И все же не в меру частое обращение к «Вертеру» плохо сказалось на выразительности его стиля и самой способности мыслить: от постоянного повторения не только фразы, но и мысли автора сделались ему настолько привычны, что он нередко принимал их за свои и даже спустя годы, сочиняя что-либо, принужден был бороться с прямым влиянием «Вертера» – в точности как многие молодые авторы того времени. Меж тем, перечитывая «Вертера» – как раньше Шекспира, – он всякий раз возносился выше жизненных обстоятельств, и это обостренное чувство самостоятельного бытия внушало ему гордость за его человеческое естество, будто в зеркале отражающее небо и землю, – он уже не был ничтожным, отверженным существом, каким видели его другие. Потому и неудивительно, что Райзер всей душой пристрастился к чтению: оно возвращало его к себе самому!
Как раз тогда немецкая поэзия вступила в новую эпоху. Бюргер, Гёльти, Фосс, братья Штольберг и многие другие поэты отдавали свои творения в начавший тогда выходить «Альманах муз». Выпуск альманаха за тот год был полон превосходных стихотворений именно этих авторов.
Две баллады, «Ленору» Бюргера и «Адельстана» Гёльти, Райзер тотчас вытвердил наизусть, и обе они пришлись ему как нельзя более кстати во время дальних прогулок. Уже тогда он часто собирал вокруг себя небольшую компанию – порой в хозяйском доме, иногда у своего кузена, изготовителя париков, – и декламировал вслух «Ленору» либо «Адельстана и Розочку», таким образом разделяя с их создателями удовольствие от всеобщего восхищения. Ибо по своему добросердечию он воображал, будто чувствует, как это восхищение проникает к ним в души, и мечтал, чтобы эти авторы оказались рядом. Однако его преклонение перед создателем «Юного Вертера» и некоторыми поэтами из «Альманаха муз» постепенно сделалось даже чрезмерным: он их обожествлял и почел бы величайшим блаженством удостоиться их лицезрения. Между тем Гёльти жил тогда недалеко от Ганновера, а его брат учился с Райзером в одной школе и мог бы легко познакомить его с поэтом, но Райзер зашел в своем самоуничижении так далеко, что не решался открыть ему свое желание и даже находил горькое утешение, отказывая себе в столь легко достижимом и желанном наслаждении. Однако он пользовался любой возможностью заговорить с братом Гёльти и ловил каждое мимолетное слово, сказанное тем о брате. Как часто он завидовал этому юноше, имевшему брата, коего Райзер числил едва ли не среди небожителей, и могущему запросто с ним общаться, говорить ему «ты»…
Чрезмерное преклонение перед писателями и поэтами со временем лишь возрастало, он не мог вообразить большего счастья, чем быть когда-нибудь принятым в их круг, ибо допускать подобное мог лишь в воображении.
Его пешие прогулки раз от раза становились все интереснее. Он выходил из дома, думая о прочитанном, а возвращался наполненный мыслями, почерпнутыми из созерцания природы. Теперь он снова предался поэтическим опытам, оставаясь при этом в кругу общераспространенных тем и возвратившись к прежним своим излюбленным размышлениям.
Так, однажды, придя на луг с одиноко растущими деревьями, он стал следовать своим мыслям, ступенчато возвышавшимся до понятия бесконечного. Понемногу его размышления перетекли в некий род поэтического вдохновения, к которому примешалось страстное желание заслужить похвалу друга. Он вообразил себе идеал мудреца, человека с таким множеством мыслей, какое только доступно смертному, и все же видящего в них некий пробел, который может быть восполнен лишь идеей бесконечного. Об этом, преодолевая известные трудности при выборе формы выражения, он написал следующие стихи:
Душа мудреца
Однажды воспарил душою Мудрец в заоблачную высь, Куда, лишив его покоя, Все помыслы его рвались. Душа, невидимая взору, Стремится отыскать свой путь, Найти в реальности опору, Что так и хочет ускользнуть. Растут в ней мысли, как громады, Пред ней открыта высота, Ей нет закона, нет преграды, Но в ней – одна лишь пустота. Душа, отчаявшись, дерзает Проникнуть в сущность бытия И с удивленьем ощущает Ничтожность собственного «я». Теперь ей – лишь крыла расправить, Подобно смелому орлу, И прямо к Богу путь направить, Кому весь мир поет хвалу. Не в пустоте, а на просторе Ей будет радостно летать, Ее, как ласковое море, Омоет Божья благодать.Втиснув в эти стихи понятие Бога, он попытался теперь поэтически выразить и представление о мире. Таким образом, вся его поэзия целиком сосредоточилась на общих понятиях. Никакой склонности описывать природу в ее частных проявлениях – вне человека или в нем самом – он не испытывал. Его воображение постоянно работало над тем, чтобы облечь в поэтические образы обширные понятия – мир, Бог, жизнь, бытие и тому подобное, – над которыми бился его разум. И сами эти поэтические образы становились для него чем-то естественным и великим наравне с облаками, морем, солнцем и звездами.
Его стихотворение о мире было куда больше размышлением, нежели стихотворением, и потому являло собой нечто до чрезвычайности вымученное. Начиналось оно так:
Из праха ль человек восстанет, И с ним весь мир его — В могиле ль навсегда увянет, И с ним весь мир его.Филипп Райзер немилосердно разбранил это стихотворение, сделав исключение лишь для следующих строк, которые нашел более или менее сносными:
Тот – лишь богатство собирает, Тот – славу и почет; Любой в свою игру играет И только тем живет.Теперь фантазия Райзера вошла в противоречие с его мыслью, при всяком удобном случае она пыталась вторгнуться в область последней и облечь в образы наиабстрактнейшие понятия. Для Райзера это было сущее мучение, и в этом настроении он сочинил маловыразительные стихи о мире, которые представляли собой и не чистую спекуляцию, и не поэзию, но нечто среднее между тем и другим.
Наставшая дождливая пора не развеяла его поэтического одиночества. Он запирался в своей комнате, где кое-как привел в порядок и с большим трудом настроил ветхое фортепиано. Теперь он просиживал за этим фортепиано целые дни напролет и, хорошо зная ноты, разобрал почти все арии из «Охоты», из «Смерти Авеля» и другие, затем играл и пел их самому себе. А между тем он от доски до доски несколько раз перечитал Филдингова «Тома Джонса» и «Стихотворения» Халлера, проведя в уединении несколько недель – почти столь же счастливых, как прежде на чердаке, когда целиком погрузился в философию. А стихотворения Халлера он почти все выучил наизусть.
Здесь в один из дней его посетил Филипп Райзер и попросил сочинить слова для хоральной арии, которые сам намеревался потом положить на музыку. Эта просьба так польстила Антону Райзеру и вдохновила его, что, едва оставшись наедине, он тут же принялся за работу и, взяв несколько случайных аккордов, за какой-нибудь час сочинил следующие стихи:
Власть Господа благословенна — Так преклони пред Ним колена, Воспой хвалу Ему, Земля! Шумите для него, дубравы, Стелитесь, зеленея, травы, Цветите для Него, поля! Вы для Него гремите, грозы, И славьте Бога без конца Леса, пещеры, реки, горы, Пусть ваши не умолкнут хоры В честь Вечного Творца! Так пусть же вечно все творенья, Ликуя, песнь благодаренья Создателю поют — Пусть мир, что мудро Бог устроил, Что бытия Он удостоил, Восславит Божий труд.Филипп Райзер положил эти строки на музыку, и хор в самом деле их исполнил, при этом имя сочинителя объявлено не было. Новая ария, и в особенности текст, вызвала всеобщую похвалу. Антон Райзер чувствовал себя немало польщенным, слыша, как однокашники, всегда его презиравшие, распевают мелодию на его слова, да еще выражают свое одобрение. Он, однако, ни словом не обмолвился, что сам сочинил эти стихи, предпочитая наслаждаться своим нежданным триумфом втайне.
В конце концов, именно его мысль занимала внимание и певцов, и слушателей всякий раз, когда – и довольно часто – исполнялась эта новая вещь; но если что-то вообще может возбудить тщеславие сочинителя, так это желание людей положить на музыку его мысли, выраженные в словах. Каждое слово обретает при этом более высокую ценность, и чувства, охватывавшие Антона Райзера при исполнении его арий, должно быть, трогали душу каждого автора, чьи произведения собирали сколько-нибудь значительное число слушателей. Существует и множество примеров, когда подобные триумфы вызывали у авторов сильнейшие приступы тщеславия.
Впрочем, триумф Антона Райзера продлился недолго. Как только узнали имя сочинителя, сей же час обнаружили в стихах массу недостатков и некоторые из хористов, читавшие Клейста, стали утверждать, будто эти стихи выписаны из него. Действительно, в них можно было найти отголоски Клейста, но заключительная мысль о том, чтó именно Бог удостоил бытия, вращалась вокруг собственных метафизических размышлений Райзера: в какой мере верно, что лишь живые и мыслящие существа могут быть наделены собственным бытием. Филипп Райзер оказался доволен также и этим стихотворением – за исключением той сцены, где Природа, подобно даме, опускается перед Богом на колени; ее он счел слишком смелой.
Итак, если Филипп Райзер зарабатывал на жизнь изготовлением фортепиано, Антон Райзер занимался сочинением стихов, которые его друг критиковал, сам никогда не пробовав себя в стихотворстве и потому не питая к Антону ревности. Напротив, он сам иногда предлагал ему тему для обработки. Так, однажды Антону Райзеру пришлось воспеть настроение Филиппа Райзера, его любовные страдания, взлеты и падения его духа, и, хотя в то время еще никто не возносил к луне столь много вздохов и любовных пеней, как позднее автор «Зигварта», Райзер начал свою песнь такими словами:
Что смотришь ты с такой тоской С небес, прекрасная луна? Ты знаешь горький жребий мой И состраданием полна?В другом месте он так описал настроение Райзера:
Я грезил высотою, Но камнем вниз летел; И понял я с тоскою, Как горек мой удел.За всем этим Райзер не пропускал и занятий в школе, директор которой, уже упомянутый выше, при известном педантизме обладал, в сущности, неплохим вкусом и знаниями. Он учредил в классах занятия по декламации, и это сразу подняло в Райзере целую волну честолюбия.
Тому, однако, кто желал выступить с декламацией на публике, надлежало, во всяком случае, иметь приличное платье, какового у Райзера не было, – если не считать кафтана из серого сукна, делавшего его похожим на слугу, и поношенного сюртука. Ни в том, ни в другом он выступать не мог. Итак, дурное платье снова не давало ему жить и лишало душевных сил.
Но в конце концов и это препятствие было преодолено: принц дал ему денег на покупку нового платья.
Теперь все его стремления и помыслы сосредоточились на том, чтобы сочинить стихотворение, достаточно совершенное для публичной декламации.
Надо сказать, тогда не существовало обычая декламировать стихи собственного сочинения. Каждый переписывал стихи откуда-нибудь и держал их при чтении перед собой либо отдавал директору.
Райзер, однако, твердо решил сам придумать стихи для своего первого выступления и лишь испытывал затруднение с выбором темы. Ему хотелось подобрать такую, которая бы наилучшим образом раскрывала возможности публичного чтения.
И вот, гуляя в один из прекрасных лунных вечеров по городскому валу, погруженный в эти мысли, он вспомнил о своем стихотворении против безбожников, которое сочинил несколько лет назад и запомнил наизусть благодаря его декламационной выразительности, но теперь оно казалось ему по мысли чрезвычайно пресным. Сам же предмет этого стихотворения, напротив, так живо его привлек, что он снова пустился в обход вала и за время прогулки полностью сложил в уме стихотворение «Безбожник».
Мысли его приняли не вполне обычный оборот, совсем другой, чем в стихотворении, некогда выученном наизусть. Он представил себе безбожника как раба бури и грома, бушующей стихии, различных недугов и тления, иными словами – как раба лишенных разума безжизненных сил, господствующих над ним из-за того, что он отказался от почитания Духа вечной милости. И от одного лишь старания написать на эту тему стихотворение, годное для декламации, в душе Райзера разгорелась такая потребность веры в Бога, что он испытал прямо-таки праведный гнев на тех, кто хотел отнять у него сие утешение, и этот огонь он сохранял в себе до тех пор, пока не закончил стихотворение, и было оно от начала и до конца исполнено такой бодрой уверенности в существовании разумной причины всего сущего, что при всех перебоях и некоторой натянутости слога все же в целом выразило то чувство, которое до сих пор Райзеру передать не удавалось. По этой причине нелишним будет привести здесь эти стихи, хотя сами по себе они, возможно, и не заслуживают сохранения.
Безбожник
Познал я Господа – Ему, Творцу Вселенной, Обязан я судьбой – мой каждый горький вздох, Любую боль и радость плоти бренной, Что предстоит мне, – все провидит Бог. Лишь месяц среди тьмы ночной проглянет, Спеши воспеть Ему, Создателю, хвалу, Иль гром с небес в свои литавры грянет, Спеши воспеть Ему, Создателю, хвалу! Хвали любое Божие деянье, Ведь мысль о Нем уже есть благодать, А жизнь без Бога – лишь одно страданье, И нам с тобой, душа, весь век страдать! О ты, кто думает, что Бога нет на свете, Гони свои сомненья – это ложь, Лишь к мукам приведут сомненья эти, Уверуй в Господа и счастье обретешь! Не хочешь ты признать Творца всего и Бога И быть помилованным горькою судьбой? Ну что ж, пускай ведет тебя к скорбям дорога, Гнев праведный да разразится над тобой — Тогда тебя ждут горе и страданье, И черный ад, словно отверстый гроб пустой, Молись – ведь страшным будет наказанье За веру в идолов, отнявших разум твой! А там уже болезнь зловеще скалит зубы И смерть стоит с ухмылкой мерзкой позади, О как бы ни были твои все чувства грубы — Вострепещи и ниц пред Ним пади! Иначе так ты и сойдешь навек в могилу, И сгубишь душу, попадя под власть химер, Тебе Господь дал Воскресенья силу И мысль – ты их растратил, лицемер! Ведь жизнь безбожника – уже подобна аду, Лишь в Боге – свет, иное – тлен и прах, Поверишь в Бога и найдешь отраду, И воспарит душа, ликуя, в облаках.Чувства, пробегавшие в нем, пока он сочинял это стихотворение, так и сотрясали его душу. С дрожью и ужасом отпрянул он от царства слепой случайности, этой ужасной бездны, на краю которой стоял, и всеми своими чувствами и мыслями приник к утешительной идее о присутствии в мире благого Вседержителя.
Поскольку это стихотворение тоже очень понравилось Филиппу Райзеру, Антон Райзер выучил его наизусть и решил в ближайший день, когда начнутся занятия по декламации, прочесть его. Он явился перед всеми в новом наряде, выглядевшем вполне пристойно; впервые в жизни он был одет красиво, обстоятельство для него далеко не маловажное. Новое платье, благодаря коему он, вечный оборванец среди однокашников, теперь снова возвращался в их круг, придавало ему бодрости и достоинства, и, что самое удивительное, он почувствовал более уважительное отношение к себе со стороны тех, кто прежде едва удостоивал его взглядом, теперь же они говорили с ним на равных.
Когда же в той самой классной комнате, где столько раз становился предметом насмешек, он выступил с кафедры перед общим собранием товарищей, чтобы прочесть стихи собственного сочинения, его удрученный дух в первый раз по-настоящему воспарил и в душе снова пробудились надежды и упования на будущее.
Стихотворение, подготовленное для декламации, он заранее передал директору и, получая его обратно, избежал искушения признаться, что сам его сочинил, – он был вполне удовлетворен сознанием своего авторства и испытывал приятные чувства, когда товарищи спрашивали, что это за стихи, он же назвал имя некоего поэта, из коего будто бы их выписал.
Райзер испросил у директора разрешения снова прочесть их на следующей неделе и, получив таковое, немного переделал строку, обращенную к Филиппу Райзеру:
К тебе, мой друг, спешу с признаньем,назвав все стихотворение «Меланхолия». Теперь стихотворение начиналось так:
Я высказать хочу признанье, Как тяжело души страданье, Слова, мою смягчите боль!Последнюю строфу:
Кому я бытием обязан? Какими путами я связан? Как я из хаоса возник? В какие темные глубины Я погружусь, когда кончины Настанет неизбежный миг? —он продекламировал с особым пафосом, передав его голосом и жестами, и, уже смолкнув, еще мгновение стоял с воздетой рукой, как застывший символ ужасного и неразрешимого сомнения. Когда он снова забирал у директора список этого стихотворения, тот выразил похвалу его декламации и добавил, что оба прочитанных стихотворения прекрасно выбраны.
После этих слов Райзер едва не поддался соблазну признаться директору в своем авторстве и превратить заслугу выбора в поэтическую заслугу.
Тем не менее он тогда смолчал и ждал еще несколько дней, пока не настал назначенный срок нести директору на просмотр латинское сочинение, еженедельная подготовка которого в качестве упражнения в стиле входила в ученические обязанности. При этой оказии он передал директору список обоих стихотворений, которые недавно декламировал, и признался, что сам сочинил их.
Лицо директора с его довольно равнодушной миной заметно просветлело, и с этого момента он, по-видимому, сделался другом Райзера. Он пустился с ним в рассуждения о поэзии, осведомился о круге его чтения, и Райзер воротился домой, окрыленный приемом, оказанным его стихам.
На другой день он поделился своей радостью с Филиппом Райзером, и тот от души разделил ее, сказав, что теперь пренебрежению конец и его, наверно, ждут счастливые дни.
Случилось так, что в следующий понедельник Райзер немного опоздал к началу первого урока. Войдя в класс, тот самый, где директор обычно анонимно разбирал латинские сочинения учеников, он услышал, как тот с кафедры читает и строка за строкой критически разбирает начало его «Безбожника». Поначалу Райзер не поверил собственным ушам – лишь только он вошел, все глаза обратились к нему, поскольку публичная критика такого рода проводилась в первый раз.
К своей критике директор подмешивал столько поощрительной похвалы обоим стихотворениям, что уважение товарищей, столь долго над ним насмехавшихся, с этого дня окончательно утвердилось и в его жизни началась новая эпоха.
Его поэтическая слава вскоре разнеслась по всему городу, отовсюду посыпались заказы на сочинение стихов по различным случаям, школьные товарищи наперебой изъявляли желание учиться у него поэтическому мастерству и познать тайну: как пишутся стихи. Директор оказался буквально завален стихами и в конце концов вынужден был вовсе отказаться от публичного их разбора.
Но больше всего Райзера радовало, что за минувший год он заметно усовершенствовал свой вкус: годом раньше ему еще настолько нравилось стихотворение о безбожнике, что он не поленился выучить его наизусть, теперь же находил его в высшей степени безвкусным. Но за этот же год он успел прочесть Шекспира, «Вертера» и множество прекрасных стихотворений в новых выпусках «Альманаха муз», углубиться в философию Вольфа. Этому способствовало и его одиночество, и склонность к спокойному и безмятежному наслаждению природой, благодаря чему порой за какой-нибудь день он ближе приобщался к культуре, чем прежде за целые годы. Теперь к нему снова стали присматриваться, и многие из тех, кто считал его совсем пропащим, поверили, что, пожалуй, из него может что-то получиться.
Но и при этом новом, благоприятном повороте судьбы Райзер сохранил неизменно меланхолическое расположение духа, находя в этом род странного удовольствия. И даже в день, когда общество столь неожиданно проявило благосклонность к его стихам, он, одинокий и подавленный, пошел бродить по улицам под уныло моросящим дождем. Вечером он хотел зайти к Филиппу Райзеру поделиться с ним своей радостью, когда же добрался до его дома, оказалось, что тот куда-то отлучился, и все вокруг представилось ему мертвенным и безотрадным: он не мог по-настоящему радоваться своему успеху и тому, что на время привлек всеобщее внимание, пока не расскажет об этом своему другу.
Возвратясь домой в мрачном настроении, он стал развивать тот же образ: некто хочет поведать другу о своем страдании, но, не застав того дома, в унынии бредет восвояси. Увенчалось все это ужасным видением: этот некто застает друга мертвым и проклинает недавно выпавшее на его долю счастье, потому что потерял наивысшее счастье – верного друга. Из всего этого родились стихи, которые он записал, придя домой:
Искал я долго друга, Чтобы свои страдания поведать, Но не нашел его… Побрел я грустно, С тяжелым сердцем В хижину свою. Искал я долго друга, Чтобы ему о радости поведать, Но не нашел его… Тогда я стал печален, Как прежде весел был, И молча прочь побрел. Искал я долго друга, Чтобы ему о счастии поведать, Но мертвым я нашел его… Тогда я проклял счастье И клятву дал себе, Покуда слезы из очей течь могут, Оплакивать единственного друга, Ведь одного я только друга знал.В это время Райзер через канторского сына Винтера свел весьма интересное знакомство с философствующим уксусоваром, с коим тот уже несколько месяцев хотел его познакомить, но все никак не мог выбрать время. Однажды вечером Винтер все же зашел за Райзером, нетерпеливо ожидавшим этой встречи, и по дороге дал ему несколько советов, как следует себя вести в доме уксусовара: при встрече не произносить «добрый вечер», а при расставании – «доброй ночи». Они прошли по длинной Остерштрассе с ее старинными домами, затем под большой аркой, по вытянутому двору и оказались в уксусоварне, на задах которой сам мастер имел свой участок, где под утепленным укрытием тянулись ряды бочек, среди которых легко можно было затеряться. Каждое слово отдавалось здесь глухим эхом. Кругом не было видно ни души, и Винтер принялся кричать: «Ubi?», в ответ издалека донеслось: «Hic!» Они вошли в помещение, примыкавшее к сараю с бочками, и увидели уксусовара – тот стоял у окна, в белом жилете, голубом фартуке, в рубахе с засученными рукавами и что-то писал. «Готово», – сказал он и протянул Винтеру листок бумаги, на котором были написаны латинские стихи, только что им сочиненные.
Уксусовар показался Райзеру человеком лет тридцати; в каждом его движении, в каждом быстром взгляде чувствовалась затаенная сила. С первой минуты Райзера охватило благоговение к нему, сам же уксусовар поначалу его словно и не заметил. Обращаясь к Винтеру, он заговорил о новых музыкальных сочинениях и каких-то других предметах. Говорил он на нижненемецком диалекте, выражаясь при этом столь благородно и правильно, что даже этот грубейший диалект звучал в его устах прекрасной мелодией, заставлявшей неотрывно следить за его губами. Впоследствии Райзер много раз испытывал это чувство, когда уксусовар среди своих бочек преподавал ему уроки мудрости.
Наступил довольно прохладный осенний вечер, и уксусовар пригласил обоих гостей в величественную теплую залу, уставленную длинными рядами бочек, где угостил их сладким и очень вкусным пивом. Беседа сделалась общей, и когда речь зашла об одном их знакомце, старике со смешными и забавными причудами, уксусовар стал описывать его характер с мельчайшими подробностями совершенно в духе Стерна. Под конец он прочел несколько страниц из «Тома Джонса» так выразительно и с такой ясной, четкой дикцией, что более приятного времяпрепровождения Райзер даже не мог припомнить и на обратном пути только и говорил молодому Винтеру, что о наслаждении, доставленном ему этим новым знакомством.
Отныне он посещал уксусовара чуть ли не каждый вечер, иногда в компании Винтера, иногда один; они усаживались под висячей лампой подле растопленной печи среди бочек, каждый на своей деревянной скамье, и читали «Тома Джонса» либо упражнялись в описании разных характеров; и Антон Райзер был так доволен и счастлив, как бывал разве только с Филиппом Райзером. Но в обществе уксусовара он еще и чувствовал себя более уверенным и приподнятым над повседневностью, стоило ему подумать, что человек таких знаний и талантов столь терпеливо и стойко переносит свою судьбу, отказавшую ему в общении с более изысканным кругом, который мог бы дать его уму обильную духовную пищу. Сама мысль, что такой человек прозябает в темноте и безвестности, делала его достоинства более явными в глазах Райзера – так в темноте луч света кажется более ярким, нежели в сиянии множества других лучей.
В своем деле уксусовар К. (таково было его имя) был воистину великим человеком; и, пожалуй, мог бы стать большим ученым, хотя и не столь же великим, поскольку без постоянной борьбы со своей судьбой его душа не смогла бы приобрести такой возвышенной стойкости. Казалось, не было такого доброго дела, какое в его положении он мог бы себе позволить – и какого тем не менее он бы не совершал…
Свой добываемый в поте лица заработок он отчасти употреблял на то, чтобы способствовать образованию нескольких молодых людей, и это доставляло ему истинную радость. Иногда по вечерам он собирал их за своим столом или совершал с ними совместные прогулки, наслаждаясь возможностью угостить их за свой счет. Кроме того, он помогал одному бедному семейству, отрывая по грошу в день от своего скудного заработка – он ведь был только наемным работником в своей уксусоварне, владел которой его дядя-старик.
Компанию Райзера составляли теперь в основном трое – Винтер, Филипп Райзер и уксусовар, но вскоре к ним присоединился еще один юноша, который, несмотря на бедность своих родителей, вдохновленный примером Антона Райзера, твердо решил учиться. Уксусовар и его залучил через Винтера к своему столу, заботясь о его внутреннем росте. Беседы уксусовара очень напоминали сократовские диалоги, к тому же он нередко приправлял их очень тонкими насмешками над ребяческой глупостью и тщеславием своих юных друзей.
В начале зимы случилось событие, воодушевившее Райзера еще больше всех недавних событий: он получил от директора почетное задание – сочинить на немецком языке поздравительную речь ко дню рождения английской королевы, то есть к январю, каковую речь сам Райзер должен был произнести на этом торжестве.
Такое выступление было венцом заветных желаний всех воспитанников школы, добиться же этого смогли лишь весьма немногие, ибо, как правило, речь на днях рождения короля и королевы держали лишь молодые дворяне. На этом празднике обычно присутствовали принц, министры, другие именитые горожане, и все они по окончании речи желали успехов молодому человеку, который отныне считался надеждой государства. Зрелище этой церемонии прежде нередко угнетало Райзера, уверенного, что ему самому не суждено подняться на такую высоту.
И вот теперь Райзеру, еще в начале года всеми презираемому и отвергнутому, поручено столь вдохновенное дело, к исполнению коего он немедленно приступил с величайшим усердием.
Он решил написать свою речь гекзаметром; директор принес ему «Письма о литературе», посоветовав тщательно их проштудировать; среди прочего Райзер обнаружил там рецензию, автор которой бранил Цахариэ, переводчика Мильтонова «Потерянного рая», за плохие гекзаметры и сообщал много весьма полезных сведений о строении гекзаметра, цезуре и прочем. Все это Райзер хорошо усвоил и всячески старался отточить свой гекзаметр. Иногда он за день едва успевал сочинить три-четыре стиха, вечером же шел к Филиппу Райзеру, читал их ему и выслушивал его критику, после чего они принимались за чтение «Литературных писем», прочли их все, и тою же зимой возобновили свои «шекспировские ночи».
В ноябре Райзер написал свою речь почти наполовину и понес ее на суд к директору. Тот отозвался о ней с большой похвалой, однако сказал, что Райзер не сможет прочесть ее публично, ибо это повлекло бы за собой непосильные для него расходы. Даже небесный гром не мог бы поразить Райзера сильнее, чем эта новость. Все блистательные надежды, питавшие его во время сочинения речи, в одно мгновенье рухнули, и он снова очнулся в своем прежнем ничтожестве. Директор попытался его утешить, но он ушел с тяжелым сердцем и мрачной уверенностью, что ему суждена вечная безвестность. И тут ему на память пришли строки, когда-то им сочиненные для Филиппа Райзера и хорошо отражавшие его нынешнее состояние:
Я грезил высотою, Но камнем вниз летел; И понял я с тоскою, Как горек мой удел.И когда на другой день хор среди прочих пропел арию:
Ты умираешь, чтобы быть счастливым, И видишь, что напрасно умирал,он применил эти слова к себе и вдруг снова почувствовал себя таким одиноким, всеми презираемым и ничтожным, что ему расхотелось делиться своим горем даже с Филиппом Райзером. Он решил не ходить к нему, чтобы избежать разговоров о своей судьбе, снова такой ненавистной и не стоящей размышлений.
Вдоволь настрадавшись, он стал изобретать средство, как бы ему все же достичь своей цели. И оно само пришло ему на ум, лишь только он хорошенько задумался: нужно пойти к пастору Маркварду, который как-никак вновь стал возлагать на него надежды, и попросить его походатайствовать перед принцем о покупке пристойного платья и покрытии прочих расходов, необходимых для произнесения речи. Пастор Марквард сразу согласился на этот шаг и заверил Райзера в благоприятном исходе дела. У Райзера гора свалилась с плеч, и теперь ему оставалось лишь с бодрым духом приняться за продолжение речи, чтобы успеть подготовить ее ко дню рождения королевы. Меж тем вернулись холода, и он принужден был проводить вечера внизу, в комнате своих хозяев, вместе с квартировавшими в доме солдатами. Те заодно с хозяином силком вовлекали его в карточную игру, которой сами предавались для коротания долгих зимних вечеров. Здесь-то, по большей части вечерами и в сумерках, лежа головой к печи, он и сочинял будущую речь. Тогда же он измыслил и прекрасный способ развеять тяжелое настроение: лишь только вечерами оно им овладевало, он сей же час выходил из дома, под дождь и снег и в сгустившейся темноте шел гулять по городскому валу. И когда он большими шагами продвигался вперед, ни разу не случилось, чтобы в его душе не зародились новые упования и надежды, из которых, надо сказать, самые блестящие представлялись ему и самыми верными. Во время этих прогулок он сочинил лучшие пассажи своей речи, а все трудности стихосложения, казавшиеся непреодолимыми, когда он лежал головой к печке, отпадали сами собой.
С раннего детства ганноверский вал был для него особенным местом, здесь в его голове рождались самые приятные фантазии и романтические мысли, ведь отсюда ему открывался и густо застроенный город, и широкий природный простор с его садами, пашнями и лугами; обе картины тесно граничили друг с другом, но их разительный контраст неизменно будил в нем самое смелое воображение. К тому же эти окрестности, словно бы заключавшие в себе чуть ли не все главное в его судьбе, вызывали в нем тысячи смутных воспоминаний, которые, накладываясь на его нынешнее состояние, придавали жизни особый вкус. Но вид рассеянных в беспорядке огоньков, зажигавшихся по вечерам в окнах домов, прилегавших к валу, пожалуй, оказывал на него сильное воздействие.
С тех пор как он стал публично декламировать стихи, почти все школьные товарищи прониклись к нему уважением. Это казалось ему весьма непривычным, ведь он никогда в жизни не испытывал ничего подобного и едва ли мог поверить, что такое вообще возможно. Из всего пережитого он сделал вывод, что в его фигуре или выражении лица есть, по-видимому, нечто вызывающее на смех и издевательства. Теперь же общее уважение укрепило в нем уверенность в себе, сделало из него другого человека: взгляд и выражение лица изменились, он стал глядеть смелее, и если кто-то пытался его высмеять, твердо смотрел в глаза обидчику, пока с того не слетала спесь.
Его обстоятельства резко изменились. Содействием ректора и пастора Маркварда, которые опять возложили на него серьезные надежды, он вскоре набрал такое множество уроков, что месячного дохода ему с лихвой хватало для покрытия его тогдашних потребностей – сумма столь непривычная, что он не мог толком с ней управиться.
Теперь никто из богатых и заметных одноклассников не чурался гулять с Райзером по городу или навещать его в убогом его жилище. И в том же году он впервые увидел в печати свои произведения: дело в том, что по заказу одного печатника он стал сочинять маленькие новогодние поздравления в стихах, которые печатник потом продавал, и хотя имени автора на этих листках указано не было и никто не знал, что это его стихи, все же сам вид типографски набранного текста собственного сочинения доставлял ему ни с чем не сравнимое удовольствие. И когда за несколько дней до назначенной речи его имя появилось на афише рядом с именами двух других учеников из самых что ни на есть благородных семейств и выведено оно было как Райзерус, сиречь в точности так, как однажды назвал его предыдущий директор, когда он живо представил себе промежуток жизни между тем устным и этим письменным именованием, наполненный как заслуженными, так и незаслуженными страданиями, слезы боли и радости сами собой хлынули из его глаз: о таком повороте судьбы он не смел и мечтать не то что год, но даже полгода назад. Теперь же афиша на латинском языке с его именем красовалась на черной доске у входа в школу и на дверях церкви, и прохожие останавливались, чтобы ее прочесть.
Было принято, чтобы молодые люди, которым предстояло держать речь в подобных случаях, за день до торжества сами приглашали на него именитых горожан. Какая перемена в жизни Райзера! Прежде из-за своего дурного платья он даже со своими одноклассниками не решался заговорить на улице или пройтись рядом, нынче же, со шляпой под мышкой и шпагой на поясе он нанес визит вежливости самому принцу, чтобы пригласить его на день рождения его сестры, королевы Англии, и представлялся знатнейшим персонам города, которые с великой обходительностью оказывали ему поощрительные знаки внимания.
Итак, не успев толком осознать, что к чему, и уже махнув рукой на свои надежды, он внезапно достиг такого почета, о каком только мог мечтать ганноверский школьник и какого удостоивались лишь единицы.
Подобные поручения в самом деле содержат в себе нечто поощрительное для молодых людей и во многих отношениях заслуживают, чтобы их практиковали чаще. Делая приглашения, Райзер за каких-нибудь несколько дней очутился в мире, прежде совершенно ему незнакомом. Он с глазу на глаз беседовал с министрами, советниками, проповедниками, учеными – словом, с людьми разных сословий, которых раньше наблюдал лишь с почтительной дистанции, и все оказывали ему знаки внимания, говорили приятные и поощрительные слова, так что за эти несколько дней самоуважение Райзера укрепилось больше, чем за многие прошедшие годы. Среди других он пригласил на торжество и поэта Гёльти, но не успел как следует приглядеться к нему за время визита: робость Райзера могла отступить лишь перед сердечностью собеседника, но Гёльти таковой не проявил, затем что сам обыкновенно смущался при встрече с незнакомым человеком. Райзер же воспринял смущение Гёльти как знак презрения, которое ранило его тем больнее, что сам он испытывал к Гёльти величайшее уважение и потому не отважился посетить его вторично.
Вечером, исполнив свою почетную обязанность, Антон Райзер зашел к уксусовару, где его с распростертыми объятиями встретили Филипп Райзер, Винтер и тот юноша, коего он своим примером побудил приняться за учение; он рассказал им о сделанных визитах, о людях, с которыми свел знакомство, – словом, поделился с ними радостью по поводу своего нового положения.
Госпожа Фильтер и его кузен, изготовитель париков, а равно и остальные, кто прежде бесплатно его кормил, наперебой выражали ему свою радость и участие. Родители, долго не получавшие о нем вестей и давно махнувшие на него рукой, несказанно обрадовались счастливому повороту в его судьбе, когда им передали латинскую афишу, где имя их сына было напечатано крупными буквами.
Однако при всем внешнем блеске Райзер жил все на той же старой квартире, разделяя комнату с хозяином-мясником, его женой, служанкой и квартировавшими в доме солдатами.
И когда в этом убогом жилище его посещал кто-нибудь из богатых и важных товарищей, он испытывал тайное удовольствие: значит, они приходят сюда не ради уютной квартиры и внешнего удобства, а ради него самого. В такие минуты он поистине гордился своей жалкой комнатой.
Наконец пришел день триумфа, когда Райзеру предстояло взойти на вершину почета, какой только был доступен человеку его положения, но именно это навеяло ему какое-то особенно тягостное чувство: да, на этой минуте еще недавно были сосредоточены все его надежды и помыслы, на него самого устремлялись взоры множества людей, но лишь только выступление останется позади, общее внимание пойдет на убыль, вернется обычная повседневная жизнь. Эта мысль породила в Райзере очень странное, но искреннее желание: сразу по окончании речи упасть и умереть. День торжества выдался необычайно холодным, многие не отважились выйти из дома, поэтому публики в зале оказалось немного меньше обычного, но все же собрание блистало. Райзеру, однако, уже с утра все виделось совсем безжизненным и опустошенным; фантазии пришлось отступить – возобладала действительность. Само то, что столь долго вынашиваемое им в мечтах наконец стало действительным и ничем другим стать уже не могло, погрузило его в задумчивость и печаль, ибо эту мерку он приложил теперь ко всей своей будущей жизни, все предстало ему как бы во сне, в туманной дали – он никак не мог приблизить эту картину к глазам. С печальными мыслями взошел на кафедру, музыка зазвучала чуть раньше, чем он заговорил, и мысли его в ту минуту были далеки от совершавшегося триумфа – сильнее всего он сознавал и ощущал никчемность жизни, а приятное чувство, вызванное его теперешним действительным состоянием, лишь слегка мерцало в нем, как будто подернутое серой пеленой.
Чтобы дать представление о том, насколько лучше он научился подбирать форму для выражения своих мыслей, будет нелишним привести здесь выдержки из его речи. Началась она так:
Что это за фимиам струится над далью блаженной И уносится ввысь сквозь эфир к престолу Всесильного Бога? О, это молитвы счастливых народов за королеву Шарлотту – с любовью восходят к Всевышнему и пламенеют – и т. д. …Георг! – звените, Арфы! Гремите, ликуя, возгласы всех осчастливленных Наций! – Ныне умолкни, песнь моя! Ибо напрасно Пытаешься ты похвалами украсить Георга достойно — Так смело стремит свой полет орел прямо к солнцу, Парит высоко над горами и скалами, над облаками, И мнит, что теперь он к ним ближе, и не замечает, Что, подобно улитке, стелется тень его низко над самой землею, От которой он сам далеко оторвался – о, речи какие Зазвучат так могуче и стройно, чтоб изобразить Добродетель Георга хоть несколько живо и верно? – и т. д. …И Георг подымается гордо теперь на вершину Славы своей – он о благе народа, которым он правит, Неустанно печется. И бури не сломят героя, Что, как кедр величавый, своею приветливой сенью Укрывает и птиц, и зверье – даже ветр ураганный в ветвях Робко стихает и, словно листву, шевелит его кудри. Так стойко ненастьям, его сотрясающим, смело дает он отпор. Пусть же народы бунтуют, но ты, кто Георгу Верен остался, о плачь, закрывая лицо, чтоб не видеть, Как чужеземцы свергают своих королей – и т. д. Каждое чуткое сердце, стремись навстречу Шарлотте И прости, что слабый юнец сегодня отважился тоже Оду ей спеть – но молчи, моя песнь, ибо слышу Ликующий голос народа вдали, что возносит хвалы, Фимиам воскуряя своей королеве: Шарлотта да здравствует! Пусть горы, леса и долины вторят народу: да здравствует!Идеал, носившийся в голове у Райзера, пока он готовил свою речь, горячо его вдохновлял, к тому же и говорить обо всем этом ему предстояло при большом скоплении публики. Если вдохновение покидало его или временами ослабевало, на помощь тотчас приходил разум.
Поскольку, однако, он почти ничего не знал о предмете своего сочинения, то потрудился раздобыть несколько панегириков, уже произнесенных в честь короля и королевы, и внимательно их прочел, дабы извлечь оттуда некий идеал, не позаимствовав ни единой фразы, – за этим он тщательно следил, потому что боялся плагиата как огня. Он стыдился даже выражения, к которому прибег в конце своей речи: «Пусть горы, леса и долины вторят народу…», потому что оно походило на фразу из «Вертера»: «слышны были голоса лесов и гор». Порой он по недосмотру допускал слишком явные сближения с «Вертером», но, обнаружив их у себя, всякий раз покрывался краской стыда.
Я уже отметил, что в день выступления он чувствовал себя как никогда подавленным, – все казалось ему мертвенным и лишенным смысла, все, над чем так долго работало его воображение, осталось позади.
Днем Райзер вместе с двумя другими учениками, которые тоже выступали с речами, был приглашен на чашку кофе к бургомистру, что было для него небывалой честью, – он даже не знал, как вести себя в подобных случаях, – и впервые обрел бодрое расположение духа лишь вечером, когда, снявши новое платье, снова пришел в гости к уксусовару, где его уже поджидали Винтер, С. и Филипп Райзер. Все они от души радовались его успеху, и участие их было ему дороже всей пышности минувшего дня.
У Райзера появилось еще больше частных уроков, благодаря чему доход его увеличился, он снял жилье получше и уже мог позволить себе время от времени пригласить товарищей на чашку кофе, да и во всем прочем вел вполне подобающий образ жизни для ученика старшего класса. Однако нынешний доход представлялся ему столь большим в сравнении с прежними заработками и потребностями, что ценность этих денег, а равно и необходимость их экономить совершенно ускользала из его сознания; выходило так, что высокие заработки сделали его беднее, чем прежде, и счастливый поворот судьбы вскоре привел его к новому несчастью.
Снискав – неожиданно для себя – расположение людей, о нем знавших, и тех, от кого зависело его счастье, он, вполне естественно, загорелся благородным желанием стать еще более достойным их расположения. Теперь он старался извлекать из уроков еще больше пользы, еще прилежнее записывая все, что там узнавал.
Упражнения в декламации продолжались, и Райзер сочинил для них еще одно стихотворение, об изъянах разума, – эту тему предложил им для размышлений сам директор, и Райзер отразил в своем опусе все сомнения, донимавшие его с давних пор.
Понятия всё и бытие как высшие понятия человеческого рассудка его не удовлетворяли – они казались ему узкими и робкими в своей ограниченности, словно за ними должна прекратиться вся человеческая мысль. Ему вспоминались предсмертные слова старого Тишера «всё, всё, всё!», как тот в минуту отделения нового существования от старого, вновь и вновь повторял это граничное понятие, как будто хотел пробить какую-то стену. Всё и существование – эти понятия должны подчиняться понятию еще более высокому и всеобъемлющему: всё сущее должно примириться с тем, что помимо него есть еще нечто – нечто такое, что наряду со всем сущим должно рассматриваться под знаком более высокого и великого начала. Почему наша мысль считается последним пределом? Если мы не в состоянии произнести ничего более высокого, чем всё сущее, то разве более высокая и высочайшая мысль тоже не может этого произнести? Умирающий Тишер, наверно, хотел сказать что-то еще, когда повторял свое «всё», но то ли язык, то ли мысль ему отказали, и он умер.
Таковы были странные мысли, которые Райзер вложил в стихотворение об изъянах разума. Между прочими там были такие слова:
Тот мир, что мыслью человека постижим, Насколько меньше он того, где реет Серафим.Кончалось стихотворение весьма благочестиво: человек должен искать прибежище в божественном свете Откровения:
Есть свет, что нам средь сумрачных теней Дорогу осветит – верь и иди по ней!Директор весьма одобрил такое завершение, хотя в целом счел стихотворение маловразумительным, в чем, конечно, был прав.
В другой раз Райзер сочинял стихотворение о довольстве, пытаясь создать некое поучение самому себе или протянуть путеводную нить в собственной жизни. Но когда он перебрал все доводы в пользу спокойствия, достижимого вопреки превратностям жизни, и почти убаюкал себя до состояния полной безмятежности, внезапно в нем снова проснулась черная меланхолия, и он завершил описание целой череды приятных чувств картиной крайнего отчаяния:
Неисчислимые страданья Тебя в теченье жизни ждут — Теперь не думай о спасенье, Ведь прегрешеньям несть числа, Уж близок, близок час отмщенья — Встречай же смерть – она пришла!Предаваясь подобным мыслям, он испытывал некое мучительное блаженство, коль скоро таковое вообще возможно.
Это стихотворение можно считать верной картиной всех его чувствований: именно так чаще всего разрешались у него даже самые приятные и покойные настроения. Подобные превращения были следствием беспрестанных обид и унижений, испытанных им еще в раннем детстве и определивших склад его характера: самые светлые и ясные дали всегда застилались в его душе тучами мрачной меланхолии.
Всякий раз как он следовал этой линии, сочинения его получались безыскусными и правдивыми. Однажды ему заказали описать в стихах жалобы влюбленного. Вообразить себя в подобном положении он не мог, как ни старался, поскольку не допускал и мысли, что найдется женщина, которая его полюбит: находя свою наружность малопривлекательной, он заранее отказался от надежды кому-то понравиться. Потому он и не мог разделить жалобы на безответную любовь, о подобных предметах он имел лишь отвлеченные представления, но не сердечный опыт. И все же он совсем недурно передал жалобы влюбленного, кратко пересказав в стихах то, что почерпнул из романов и бесед с Филиппом Райзером.
Под конец, однако, он живо представил себе отчаяние несчастного любовника, совсем павшего духом под бременем страданий, и стал изображать отчаявшегося человека как такового, забыв о причинах его отчаяния, и уж тут легко смог стать на его место: последние стихи сами собой вылились на бумагу:
Вдали, в лесной глуши, Где смерть глядит сквозь мглу, Где нету ни души, Там, прислонясь к стволу Дубовому, я стану слезы лить, И будут звезды в небесах светить, Покуда, утешенье мне даря, Не выглянет заря.Временами ему даже удавалось передать нежные чувства, смешанные со сладкой печалью. Так, он написал для кого-то стихи на расставание с возлюбленной, где горькие жалобы завершались следующей строфой:
Прощанье – для меня лишь горе, Изныло сердце от любви, Тебя ж согреет солнце вскоре, Любимая, живи, живи!А в его речи, обращенной к королеве по случаю ее дня рождения, было такое (прежде не упомянутое мною) место, отмеченное самым сильным и искренним чувством:
С улыбкой взглянет – и счастливые ликуют, А несчастливые вдруг просветлевшим взором Глядят и, слезы отерев, благословляют День, что Шарлоттой им дарован в утешенье.В мыслях он и себя относил к «несчастливым», которые улыбкой проясняют свой затуманенный взор. Ему куда больше нравилось считать себя между несчастливыми, а не между радующимися, и это была та самая joy of grief (услада слез), знакомая ему с раннего детства.
Зима прошла более или менее благополучно, однако живость фантазии и множество противоречивых желаний и надежд, одолевавших Райзера, не могли не привести к тому, что его начало тяготить однообразие жизни. Ему шел уже девятнадцатый год, пять лет школьного учения остались позади, а он до сих пор не знал, когда же наступит для него университетская пора. Ему стало тесно в Ганновере – примерно как раньше накануне переселения в Брауншвейг к шляпнику Лобенштайну. Мысли его постепенно устремлялись вдаль, будущее рисовалось в романическом ореоле.
С приходом весны его с небывалой силой потянуло к перемене места.
Бремен расположен в двенадцати милях от Ганновера[12], на полпути до Бремена находилось местечко, где жили его родители, если же плыть от Бремена вниз по течению Везера, можно добраться до моря – таково было заветное желание Райзера, которое он лелеял уже несколько недель, распаляя воображение удивительными картинами этого путешествия.
Образ Везера с плывущими по нему кораблями, с торговым городом на берегу неотступно преследовал его днем и ночью. Наконец он упросил одного из школьных товарищей, брат которого служил у некоего бременского купца, дать ему рекомендательное письмо и пешком отправился в Бремен с одним дукатом в кармане.
Это было первое романическое путешествие, предпринятое Антоном Райзером, в дальнейшем он стал все чаще подтверждать поступками свое имя[13].
Отправляясь в путь, он раздобыл карту Нижней Саксонии и взял с собой походную чернильницу и маленькую записную книжицу с намерением в дороге вести подробный журнал.
По выходе из Ганновера в нем с каждым шагом росло предвкушение дальнейшего, крепла уверенность в себе. Путешествие так его воодушевило, что, отойдя всего несколько миль от города, он забрался на придорожный холм, воткнул в землю чернильницу, снабженную особым шипом, и принялся полулежа писать свой дневник. Мимо проезжали экипажи, седоки высовывались из окон, чтобы получше разглядеть странного человека, устроившегося с пером на верхушке придорожного холма; Райзера это немного смущало, но вскоре он справился с собой, мысленно отрешившись от чужих любопытных взглядов, – он как бы умер для них, и слова, которыми он закончил свою дневниковую запись, были таковы:
Что мне людская суета, Когда в могиле я?Тут он продолжил путь, к вечеру миновал деревню, где жили его родители, и тут же справился о другой ближайшей деревне, лежащей на дороге в Бремен. Узнав, что идти всего четверть мили, он добрался до нее и переночевал там. На следующий день он пересек безводную пустошь и стал с расспросами пробираться дальше, но до Бремена засветло дойти не успел и остался ночевать в ближайшей деревенской гостинице. На третий день вожделенная мечта сбылась – вдали показались башни Бремена, столь долго рисовавшиеся его воображению. Помимо Ганновера и Брауншвейга он никогда не видел столь больших и людных городов, само название Бремен звучало для него довольно странно, внушая представление о тёмно-сером цвете домов, и теперь ему не терпелось увидеть этот город изнутри. Не имея паспорта, он все же решился войти в ворота и, отвечая на вопрос, кто он таков, выдал себя за бременца, точнее за одного из людей купца, помощнику которого должен передать письмо. После этого его пропустили.
Войдя в город, он немного побродил по улицам, а затем поспешил узнать, не отплывает ли какое-нибудь судно в устье Везера, где в порту Бремерлее стояли тогда гессенские войска, готовые к отправке в Америку.
Случилось так, что одна из барж как раз отходила, и Райзер впервые в своей жизни совершил путешествие по реке. Проплыв от Бремена около шести миль вниз по течению, баржа бросила якорь, Райзер сошел на берег и переночевал в ближайшей деревушке.
Этот вояж, несмотря на ветреную и дождливую погоду, доставил Райзеру несказанное удовольствие: он стоял на палубе с картой в руке и сверял по ней названия незнакомых деревень, проплывавших мимо с обеих сторон, ел и пил с моряками, а вечером вместе с ними остановился на постоялом дворе.
Наутро он хотел пересесть на другой корабль и плыть дальше, к морскому побережью, и уже рисовал в мечтах огромные морские волны. Воображение его распалилось до крайности, но тут он внезапно спохватился: а каково содержимое его кошелька? И как же он опешил, когда, отсчитав шкиперу положенную плату, вдруг обнаружил, что у него осталось всего несколько грошей!
Он решил отказаться от ужина, сказался больным и сразу же попросил указать ему место ночлега. После этого он добрых полночи все прикидывал, как бы ему без позора покинуть постоялый двор, если счет превысит ту жалкую сумму, что у него еще оставалась.
Утром выяснилось, что денег у него как раз хватает в уплату за постой, но больше не осталось ни гроша, меж тем как от Ганновера его отделяло восемнадцать миль, от деревни, где жили родители, – двенадцать, а от Бремена – шесть. Он сказал спутникам, что раздумал плыть на побережье, так как путешествие его и без того сильно затянулось, и пешком пустился в Бремен, счастливый тем, что смог выпутаться из столь затруднительного положения, избежав позора.
Теперь вся надежда была на письмо к помощнику бременского купца; без этого письма, в двенадцати милях от родительского дома, ему пришлось бы совсем худо.
Райзер отправился в путь на пустой желудок и приготовился терпеть голод весь день. Дорога, поначалу шедшая вдоль берега Везера, была песчаной и отнимала много сил, однако до самого полудня, пока солнце не стало припекать совсем нещадно, он бодро продвигался вперед.
Но тут голод, жажда и усталость усугубились мыслью, что он затерян один в открытом поле, без денег, забытый всем миром. Порывшись в карманах, он обнаружил несколько завалявшихся хлебных крошек и две монеты – два так называемых бременских грота, ценою по четыре пфеннига каждый.
Он так обрадовался находке, словно нашел сокровище, и, собрав последние силы, добрался до деревни, где купил себе на грот пива, и весьма приободрился – он-то уже почти примирился с тем, что шесть миль до Бремена придется пройти голодным.
Глоток пива придал его духу твердости, помогла и монетка, лежавшая в кармане.
Правда, немного погодя голод вновь начал его донимать, но он старался заглушить его и примириться со своей долей. По дороге к нему присоединился странствующий подмастерье, который до этого выклянчил себе немного денег в ближайшей деревне. Райзера позабавила явная несуразность: бедный подмастерье завидовал его добротному платью, сам же был куда богаче его.
После полудня он добрался до Вегезака, где под голодное урчание в желудке наблюдал совсем новую для себя картину – скопление трехмачтовых кораблей в маленькой гавани. Как ни скверно было его положение, это зрелище необычайно его восхитило, поскольку же винить в случившемся он мог только собственное безрассудство, то и старался скрыть от себя свое недовольство.
К вечеру он дошел до Бремена, однако, чтобы туда попасть, нужно было переправиться через Везер, – для этого понадобился ровно один бременский грот, сохранившийся у него в кармане, что он счел великим счастьем, ведь иначе не видать бы ему города, в котором заключалась теперь вся его судьба.
С последними лучами солнца он наконец подошел к городским воротам, а поскольку одет он был вполне пристойно и как мог изображал обычного гуляку, то есть временами останавливался, блуждал взглядом по сторонам и снова делал несколько шагов вперед, его беспрепятственно пропустили.
Итак, он снова очутился в многолюдном городе, никому не знакомый, всеми забытый и одинокий. Погруженный в печальные мысли, он стоял на улице и, вглядываясь через парапет в бегущие воды Везера, чувствовал себя как на необитаемом острове.
Некоторое время Райзеру даже нравилось пребывать в этом состоянии, столь необычном и романическом, но вскоре разум возобладал над фантазиями, и первой его заботой стало извлечь какую-то пользу из имеющегося у него письма к помощнику купца.
Каково же было его отчаяние, когда соседи сказали, что тот вернется лишь поздно вечером. Он стоял на улице перед домом в густеющих сумерках… Искать гостиницу без гроша в кармане он не решился, романические грезы, еще недавно скрашивавшие его положение, вмиг развеялись, осталось лишь сознание суровой необходимости провести ночь под открытым небом посреди большого города, голодным и вконец измученным.
Пока он так стоял, уныло и растерянно озираясь по сторонам, к нему подошел хорошо одетый незнакомец и, внимательно на него поглядев, с участием спросил, не чужой ли он в этом городе. Однако Райзер не мог заставить себя признаться этому господину, в какое положение попал, предпочтя провести ночь под открытым небом. Так бы он и поступил, если бы счастливый случай неожиданно не сменил долгую череду постигших его превратностей судьбы. Помощник купца, вырвавшись из компании товарищей, за какой-то необходимостью вернулся домой и, узнав, что кто-то хотел передать ему письмо от брата, поспешил на поиски посланника, который, как ему сказали, прогуливается где-то поблизости на набережной реки. По описанной наружности он вскоре и отыскал Райзера, уже расставшегося с надеждой найти себе кров на эту ночь.
Узнав на письме руку брата, молодой купец исполнился самых добрых и дружеских чувств к Райзеру и сразу предложил проводить его до гостиницы. Тут Райзер описал ему свое положение, не упустив, правда, кое-что присочинить: он-де, против собственных правил, позволил вовлечь себя в игру и потерял всю наличность. Признаться в том, что он пустился в путь, почти не имея денег, ему было стыдно, так как он боялся еще больше пасть во мнении молодого человека, от которого только и мог ожидать помощи.
Теперь, однако, жестокая судьба неожиданно повернулась к нему доброй стороной. Купец одолжил ему денег, с лихвой достаточных для всех его нужд, и сам проводил его до хорошей гостиницы, где по его рекомендации Райзеру оказали наилучший прием; проведенный здесь вечер сполна вознаградил его за все дневные лишения.
Несколько стаканов вина, выпитых в обществе этого молодого человека после столь тяжелого и изнурительного дня, так необыкновенно его взбодрили, что он принялся развлекать всю компанию, имевшую обыкновение собираться здесь по вечерам, веселыми историями о Ганновере и разных смешных происшествиях, что вообще-то совсем не было ему свойственно; этим он снискал дружеское расположение всех членов маленького кружка, среди которых оказался и тот мужчина, что недавно заговорил с ним на улице и был единственным среди толпы людей, кто заметил его одиночество и уныние и счел возможным позаботиться о незнакомом горемыке. Райзер почувствовал необычайное расположение к этому господину, ибо такая забота о незнакомом человеке, всеми покинутом и своим видом взывающем о помощи, как раз и являет собой общечеловеческую любовь, отличающую доброго самаритянина от священников и левитов, равнодушно шествующих мимо. Райзеру нелегко было бы припомнить в своей жизни хоть один такой приятный вечер, когда в чужом городе кружок совсем чужих людей столь внимательно к нему прислушивался и выражал столь живое сочувствие его словам.
Помощник купца уговорил его задержаться в Бремене еще на несколько дней, показал ему достопримечательности города, и на том самом месте, где Райзер еще недавно стоял посреди улицы одинокий и всеми покинутый, теперь обнаружилось такое множество народу, проявлявшего к нему интерес и жаждавшего его общения, что он испытал своего рода симпатию к этим предупредительным, вежливым и дружелюбным людям, и ему было нелегко думать о скором расставании с ними.
Обедал он в благопристойной компании, где его как гостя окружали особым почетом, и такое обращение было ему в диковинку. Сумма, одолженная ему помощником купца, оказалась столь велика, что он смог не только оплатить счет в гостинице, но и без забот совершить обратный путь в Ганновер, впрочем, разумеется, пешком.
Поскольку же на сей раз его безрассудная авантюра сошла благополучно, в нем ненароком зародилась мысль более не ждать счастья, как прежде, в тесном жизненном пространстве, но поискать его в широком мире, который перед ним расстилался.
В совершенно чужом городе он обрел множество новых знакомцев, которые заботились о нем, помогли ему, сделали приятным его пребывание в Бремене – в Ганновере он такого и представить себе не мог. Он пережил трудное приключение и за короткое время – стремительные превратности счастья: часом ранее покинутый всем миром, теперь он был окружен участливыми людьми, принявшими его в свою беседу.
Потому и неудивительно, что ему захотелось сменить унылое однообразие прежней жизни на подобную смену впечатлений – и пусть ему пришлось испытать великие трудности, душа его воспрянула самым чудесным и нежданным образом.
Даже грусть, охватившая его, когда ворота города, где он еще вчера приятельски застольничал с целой компанией приветливых людей, исчезли из вида и сами очертания полюбившегося ему места растаяли вдали, – даже эта грусть имела для него новое очарование. Теперь он вырос в собственных глазах, потому что по собственной воле, без побуждений извне, совершил путешествие в чужой город, где за считанные дни нашел столько благожелательных людей, сколько за годы не встретил в Ганновере.
Пешее путешествие начинало ему нравиться, усталость он прогонял приятными фантазиями, а когда стемнело, стал неотрывно вглядываться в бегущую впереди дорогу, словно это был верный друг, ведущий его за собой. Ходьба навевала ему поэтические идеи, давала пищу для образов и сравнений, которыми он сцеплял тысячу разных вещей. «Как странник твердо держится своего пути… как путь верен страннику…» – и так далее в том же роде… Такая игра различными понятиями не оставляла его всю дорогу, и ни однообразие местности, ни густеющая тьма, ни сама необходимость неустанно переставлять ноги уже не досаждали ему, словно уйдя в небытие.
Уже совсем стемнело, когда он явился в дом своих родителей, немало удивившихся, что он сначала прошел мимо по пути в Бремен и лишь потом навестил их. Все же благодаря хорошим вестям, которые он принес, на этот раз они приняли его радушно.
У Райзера накопилось в изобилии материй для мистических собеседований с отцом, так что порой они заговаривались до поздней ночи. Райзер пытался метафизически истолковать мистические идеи о «Всецелом и Единице», о «завершении Единицы» и проч., почерпнутые отцом в писаниях мадам Гийон, и делал это без малейшего труда, ибо мистика и метафизика вообще смыкаются тем теснее, что предметы, нечаянно добываемые первой посредством силы воображения, у последней получают разумное обоснование. Отец Райзера, никогда не помышлявший услышать от сына подобные речи, теперь, казалось, воспринял у него этот высокий образ мыслей и возымел к нему некоторое уважение.
Однако склонность к меланхолии и здесь постоянно брала верх в душе Райзера. Как-то раз они с матерью стояли в дверях дома, а в это время соседи хоронили ребенка, отец которого, со свисающими на лоб волосами и с глазами, полными слез, шел за гробом. «Вот бы и мне быть так же оплаканной», – промолвила мать, которая и вправду имела мало радости в жизни. Райзер же, ожидавший тогда много радостей для себя, разделил ее желание всей душой, словно и над ним нависло тяжкое горе.
На сей раз он простился с матерью и братьями нежнее обычного и пешком отправился в Ганновер. Когда вдали снова показались четыре башни, виденные им при столь разных обстоятельствах жизни, к нему снова закралось щемящее чувство, что он из широкого мира должен вернуться в тесный круг обстоятельств и отношений, круг столь знакомый и потому столь скучный. Но стоило ему пройти через городские ворота и увидеть на углу дома театральную афишу, как душа его снова возликовала. Он сразу направился к замку, где был устроен театр и на стене снова висела афиша: давали «Клавиго», Брокман играл Бомарше, Райнике – Клавиго, старшая мадемуазель Аккерман (младшая к тому времени уже умерла) – Мари, Шрёдер – Дон Карлоса, госпожа Райнике – сестру Мари, Шюц – Буэнко и Бёхайм – друга Бомарше.
Вот так превосходно были распределены роли в этом спектакле – вплоть до самой незначительной. Райзер знал всех этих великолепных актеров, не удивительно, что он сгорал от нетерпения увидеть в их исполнении пьесу, которую хоть и не читал, но знал, что она принадлежит перу автора «Юного Вертера».
Благодаря этому случайному обстоятельству, соединившемуся с воспоминанием о превратностях его путешествия, в голове у него родилась странная романтическая идея, окрасившая собой всю его дальнейшую жизнь. Театр и путешествия мало-помалу стали играть главенствующую роль в мире его фантазий, чем и объясняется последующее его решение.
Теперь он снова по вечерам зачастил в театр, однако это настолько заполонило его голову разного рода театральными идеями, что главное его дело – учиться и учить (так как весь день у него был отдан занятиям) – начало казаться ему немного пресным и он уже не колебался время от времени пропустить урок, будь то в роли ученика или преподавателя. «Всего-то один урок…» – говорил он себе в таких случаях.
Между тем на сцене весьма искусно были представлены «Близнецы» Клингера, где Брокман играл Гвельфо, Райнике – старика Гвельфо, госпожа Райнике – мать, мадмуазель Аккерман – Камиллу, Шрёдер – Гримальди и Ламбрехт – брата Гвельфо.
Эта горькая пьеса произвела на Райзера необычайно сильное впечатление, захватив все его чувства. Гвельфо полагал себя несправедливо утесняемым с самой колыбели – и Райзер полагал себя таким же: на его долю выпали все мыслимые унижения и обиды, с раннего детства, едва в нем пробудилась мысль. Райзер забывал о княжеском достоинстве Гвельфо, о вытекающих отсюда следствиях и в этом всеми притесняемом персонаже видел лишь себя. Горький смех над собой, которым в отчаянии разражается Гвельфо, проник Райзеру в самую душу – ему разом вспомнились все те ужасные минуты, когда он сам находился на грани отчаяния и так же горько смеялся над собой, – тогда он взирал на себя с гадливостью и отвращением, и громкий хохот доставлял ему зловещее наслаждение.
Отвращение, которое Гвельфо испытал к себе самому, когда по совершении убийства разбил зеркало, увидев в нем свое лицо, и то, что потом он ничего так не желал, как уснуть… уснуть… – все это казалось Райзеру столь правдивым, словно было почерпнуто в его собственной душе, проникнутой такими же мрачными фантазиями, – и он всем своим существом без остатка вжился в роль Гвельфо.
Когда труппа Шрёдера давала спектакли в Королевском оперном театре, подошла пора летних каникул, во время которых шестиклассники всегда представляли для публики какую-нибудь комедию.
Райзер не сомневался, что на этот раз получит в ней роль, так как после его поздравительной речи ко дню рождения королевы числился среди достойнейших учеников и потому был уверен, что без него дело не обойдется.
Как же он удивился, узнав, что, напротив, дело уже начато, пьеса для исполнения выбрана и никакой роли ему не отведено. К этому времени он уже обзавелся большим числом друзей и почитателей, и потому такое пренебрежение казалось ему необъяснимым, пока он не увидел, с какой взаимной ревностью и какими боями добываются роли в спектакле. Каждый заботился лишь о себе, и, не оттолкнув другого, нечего было и надеяться заполучить роль.
Впоследствии Райзер не раз вспоминал об этом случае, размышляя над тем, сколь полно в ребяческой погоне за сущей безделицей, вроде роли в школьном спектакле, отразилась игра человеческих страстей – как будто речь шла о самоважнейшем деле. Эта взаимная ревность, желание оттеснить другого лишь затем, чтобы вскоре самому быть оттесненным, являла малый, но столь верный образ человеческой жизни, что Райзер видел в этом приуготовление всего своего дальнейшего жизненного опыта.
Надо сказать, дело приняло такой оборот еще и потому, что устроительство спектаклей и раздача ролей были целиком отданы на усмотрение самих старшеклассников. Из-за этого возобладал республиканский дух – возникали различные партии, в большом спросе оказались хитрость и коварство, плелись интриги – всё происходило как на парламентских выборах, поскольку для проведения публичных актов, таких, как шествие с музыкой и факелами, требовалось форменное голосование, коим избирался предводитель шествия либо другого публичного выступления.
Так, нимало того не ожидая, Райзер вновь оказался выброшен из круга, куда стремился всей душой и столь много претерпел, чтобы в него попасть. Он пытался внушить себе, что товарищи-де сами не ведали о допущенной ими несправедливости, но это оказалось слабым утешением; и что обиднее всего – Винтер, его друг, сам вошедший в состав исполнителей, ничего ему не сказал, хотя прекрасно знал, как он мечтает об этом.
Винтер, однако, полагал, что сам предстанет в невыгодном свете, если предложит принять в дело человека, не заинтересовавшего никого другого. И конечно, это не означало, что сам он питает вражду к Райзеру, он по-прежнему оставался ему другом – во всем, кроме этого пункта. Многим случалось испытывать в жизни нечто подобное. Нелегко сохранить дружбу с тем, против кого настроено большинство, – человек тогда перестает доверять собственным суждениям, которые всегда требуют сторонней поддержки, хотя бы самой ничтожной. Но стоит кому-то одному положить почин, каждый готов стать вторым и поддержать его, хотя выступить первым всякий боится; поистине великих высот должна достичь дружба, чтобы не поддаться разрушительной политике.
По природе Винтер был человеком бесхитростным, и, когда Райзер стал у него допытываться, что они там с друзьями затевают на своих постоянных сходках, без обиняков ответил, что не хочет об этом рассказывать, но Райзер настойчивыми расспросами все же заставил его открыться, и тогда он, чтобы выйти из неловкого положения, стал уверять его, что дело пустяковое, да и вряд ли будет доведено до конца…
Это открытие, которое Райзер впервые сделал на примере своего друга Винтера, позднее не раз находило подтверждение в его жизни.
Помимо Райзера в тогдашнем поколении ганноверских старшеклассников более всего отличался умом Иффланд, ставший впоследствии, как упомянуто ранее, одним из наших любимейших драматических писателей; несколько лет назад Райзер искал его дружбы, но тогда различие жизненных обстоятельств помешало их сближению.
Теперь же, когда Райзер начал выделяться из общего ученического ряда, Иффланд сам к нему потянулся. На уединенных прогулках они беседовали о том, что их ждет в этом мире. Иффланд, как и Райзер, жил всецело в мире фантазии и воображал себе заманчивую картину жизни сельского священника – он в то время решил изучать богословие и всячески развлекал Райзера живописанием мирного домашнего счастья, коим будет наслаждаться в кругу любящих прихожан деревенской церкви. Райзер, который и сам охотно предавался игре воображения, заранее предсказывал, что это решение не приведет к добру: став проповедником, он, скорее всего, превратится в отъявленного лицемера и будет с величайшим пылом изображать страсти, напыщенно играя свою роль. Тайное чувство подсказывало Райзеру, что нечто подобное могло бы случиться и с ним, поэтому он и чувствовал себя вправе сделать товарищу поучение.
Иффланд, как известно, не стал священником, но удивительно, что мечты о мирном домашнем счастье, которыми он так часто делился с Райзером, не пропали втуне, но воплотились почти во всех его драматических произведениях, хоть он и не смог осуществить их в жизни.
Когда же в Ганновер снова приехали актеры, все приятные фантазии о мирном деревенском бытии мигом улетучились из головы Иффланда, и они с Райзером оба оказались поглощены мыслями о театре.
В компании, которая собиралась для постановки комедии, Иффланд пользовался большим авторитетом, однако и он тоже забыл о своем друге Райзере.
Такое пренебрежение со стороны тех, кого он привык считать своими лучшими друзьями, в столь дорогом для него деле обижало Райзера до слез. Когда он сказал об этом Иффланду, тот стал оправдываться, будто не имел понятия, что Райзер продолжает этим интересоваться. Но больше всего оскорбили Райзера уверения, что при распределении ролей никто в этой компании не проявлял к нему особой вражды, просто никто о нем не вспомнил, его имя даже не упоминали.
Когда же он объявил, что тоже хочет принять участие в постановке, к нему отнеслись дружелюбно и сразу предложили выбрать любую из еще не занятых ролей. Ему пришлось согласиться, и в первой же пьесе – «Дезертире по сыновней любви» – он, чтобы не остаться совсем не у дел, сыграл роль Петера, хотя она не очень ему нравилась.
Этот с виду пустяковый случай не стоило бы упоминать, не окажи он столь значительного влияния на дальнейшую жизнь Райзера. Распределение ролей в комедиях, игранных этой школьной труппой, проявило одну из черт, характерных для него в будущем: он не любил никуда проталкиваться, но и не мог смириться, когда им пренебрегали.
Теперь, когда он стал членом театрального товарищества, у него появились обязанности, требовавшие не только трат, чрезмерных для его дохода, но и прогулов, этот доход уменьшавших: ему пришлось время от времени приглашать своих сотоварищей в гости, как делал каждый из них, и ради репетиций пропускать частные уроки, которые он сам вел. Кроме того, голова его была теперь вновь до отказа забита всевозможными фантазиями, отвлекавшими от серьезных и обстоятельных мыслей и напрочь отбившими у него охоту к прилежным занятиям.
В голове теперь бродили разные писательские замыслы, он решил написать трагедию «Клятвопреступник» и уже видел прибитую к стене афишу со своим именем. Его буквально распирало от этих мыслей, как безумный он метался по комнате из угла в угол, перебирая в уме самые мрачные и ужасные сцены своей трагедии. Клятвопреступник слишком поздно раскаялся в своем преступлении, уже повлекшем за собой убийство и кровосмешение, тогда как он, терзаемый совестью, еще только собирался искупить свой грех жертвой всего достояния, нажитого через это преступление. Особенно сладка для Райзера была мысль о том, что хорошо бы закончить пьесу уже сейчас, пока он учится в школе, – какие надежды на него это пробудило бы в окружающих и как способствовало бы его будущей славе!
Еще в девятилетнем возрасте, когда Райзер только учился писать, он вместе с одним из своих школьных товарищей решил написать книгу; оба лелеяли надежду, что книга эта послужит к их вечной славе. Тот мальчик, набросавший план книги, где предполагалось собрать разные истории из их жизни, был несомненный талант, однако чрезмерное усердие в занятиях свело его в могилу, и он умер семнадцати лет от роду.
Райзер уже тогда любил разыгрывать с ним разные пьесы, перед занятиями до прихода учителя, находя в этом развлечении несказанное удовольствие, хотя в то время еще в глаза не видел ни одной пьесы, но лишь составил себе из разных рассказов самое туманное представление о театре. Написание книги он считал чем-то столь возвышенным, а книгу вообще – столь святым и важным предметом, что даже не допускал мысли, чтобы автором ее мог быть смертный человек, разве что уже умерший.
Во всяком случае, ему и долгое время спустя казалось странным, когда он слышал, что человек, написавший какое-нибудь знаменитое произведение, еще здравствует и, в точности как он сам, пьет воду и поглощает пищу.
Когда он в шестнадцать лет впервые прочел сочинения Моисея Мендельсона, имя автора вкупе с бюстом Гомера, изображенным на титульном листе, внушило ему иллюзию, будто Моисей Мендельсон – некий древний мудрец, живший много веков назад, а его труды теперь переведены на немецкий, и в этом заблуждении он пребывал довольно долго, пока случайно не услышал от отца, что Мендельсон жив, что он – еврей, которым гордится еврейский народ, и что отец Райзера видел его в Пирмонте, что выглядит он так-то и так-то и проч. Это перевернуло все представления Райзера о старом и новом, о современном и прошлом, вызвав в его голове полную неразбериху. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что человек, отнесенный его воображением в стародавние времена, еще живет на свете. Он представлял себе его как живого бога, ходящего среди людей, и если было у него заветнейшее желание – так это когда-нибудь встретить такого человека лицом к лицу и побеседовать с ним.
Он стал перебирать разные способы для выражения своих мыслей, в нем зародилась надежда создать когда-нибудь произведение высокого духа, пробиться в тот блистательный круг и заслужить право общаться с людьми, дотянуться до коих он раньше и не мечтал. Итак, он стал писать по большей части из литературных амбиций, которые уже в ту пору не давали ему покоя ни днем, ни ночью.
Стяжать славу и хвалу – вот что издавна составляло его высшее устремление, но теперь, думал он, эта цель была близка как никогда, он надеялся получить хвалу, так сказать, из первых рук и при этом – к чему всегда побуждает нас леность – ему хотелось жать, не посеяв. И оттого, конечно, театр сильнее всего завладел его помыслами. Здесь, как ни в каком другом месте, хвала доставалась из первых рук. Встречая Брокмана или Райнике на улице, он взирал на них с благоговением, и мог ли он желать иного, чем когда-нибудь поселиться в головах других людей, как эти двое поселились в его собственной голове? Снова и снова, как они, потрясать публику, собиравшуюся в доселе невиданных количествах, разнообразными страстями: то яростью, то мстительностью, то благородством, пробирая зрителей до последнего нерва, – более живого воздействия на людей Райзер даже представить себе не мог.
Правда, в театральное товарищество он вступил слишком поздно, чтобы получить желаемую роль, и это его донельзя оскорбило, но вот тому, что роль ему досталась лишь одна, он даже радовался, так как в качестве возмещения ему поручили сочинить пролог к «Дезертиру», и пролог этот предполагалось напечатать рядом со списком действующих лиц.
Теперь они ждали только, когда настоящая актерская труппа опять уедет и они смогут играть на большой сцене Королевского оперного театра, на что старшеклассники сами выхлопотали разрешение, отчего их драматические опыты приобретали прежде невиданный блеск. Все это предприятие от начала до конца лежало на ответственности молодых людей, и Райзер на равных принимал участие во всех собраниях и спорах, к чему у него не было привычки; ему казалось странным и даже незаслуженным, что его мнение принимают в расчет.
Хотя теперь ничто не толкало его к одиночеству, оно по-прежнему его манило – все так же сладостны были для него часы прогулок от городских ворот до ветряной мельницы, где на небольшом пространстве романтически чередовались холмы и долины и где он мог спросить себе кружку молока и в какой-нибудь садовой беседке погрузиться в чтение или записывать что-то в свою тетрадку. За несколько лет этот путь стал для него одним из самых любимых, и он нередко проделывал его вместе с Филиппом Райзером.
Когда вышли в свет «Страдания юного Вертера», прелестное описание Вальхейма сразу напомнило ему и эту мельницу, и часы, проведенные там в сладком одиночестве.
К новым городским воротам примыкала небольшая искусно разбитая рощица, рассекаемая таким множеством извилистых дорожек и тропинок, что лес казался гуляющим в несколько раз больше, чем он был на самом деле. Вокруг раскинулся зеленый луг с одиноко растущими высокими деревьями, между которых так любил бродить Райзер, и низкий кустарник, где он подолгу укрывался; за ними играл поток, чьи берега стали ему до мелочей знакомы за время долгих прогулок, совершаемых в самые разные времена его жизни. Часто, когда он сидел на скамье на опушке рощи и глядел в просторную даль, перед ним всплывали картины прошлого, вспоминались горести и заботы, не отпускавшие его даже в душные летние дни, и само воспоминание о них погружало его в тихую печаль, которой он отдавался с наслаждением. Вдали были видны мостики, перекинутые через ручей, где он сиживал долгими часами, читал и сочинял. Поскольку же роща находилась совсем рядом с городом, он часто приходил сюда лунными вечерами и даже предавался «зигвартовским» чувствованиям, хотя «Зигварт» был напечатан лишь год спустя и он его, конечно, не знал.
На этом месте год назад промозглым сентябрьским вечером он отметил свой девятнадцатый день рождения, дав себе торжественный обет употребить будущую жизнь лучше, чем прошедшую.
Во время этих одиноких прогулок он сочинил и пролог, который, как и его речь к королеве, начинался словами «Что за…» В эти мягкие звуки он был прямо-таки влюблен, ему казалось, они заключают в себе всю полноту и дальнейшее развитие мысли, и потому ничего более подходящего по звучанию для пролога он подобрать не мог.
Что за богиня льет блаженство В сердца ей внемлющих? И все земное совершенство Вдруг перед взором их являет, И в рощу за собой манит, Что грустью светлою полна? Веленьем Божьим рождена, Усталых путников порою Она в цветущий дол влечет, Где, подчиняясь Божьей воле, Так безмятежно жизнь течет – и т. д.Пролог был напечатан рядом со списком действующих лиц в маленькой книжице, на обложке которой стояло: «сочинено Райзером, исполнено Иффландом». Итак, Райзер снова увидел свое имя напечатанным, больше того, товарищи поручили ему пригласить на представление самого принца, что он и исполнил, посетив вельможу в своем торжественном наряде, в коем недавно говорил речь, и со шпагой на боку.
Дворян и прочих именитых людей города также приглашала молодежь, и Райзеру снова, как перед той поздравительной речью, довелось наблюдать вблизи многих людей высшего света, которых раньше он видел лишь очень издалека. Он убедился, что министры, графы, другие аристократы, с которыми он теперь мог говорить с глазу на глаз, вовсе не диковинные существа особого рода, но, как обычные люди, порой ведут себя смешно и странно, и стоит поговорить с ними и услышать их вблизи, как нимбы над их головами сейчас же исчезают. Как ни блестяще выглядел теперь Райзер, когда шествовал по улицам и наносил визиты в лучшие дома города, истинное положение его иначе как блеском нищеты назвать было трудно. Доходы его не шли в сравнение с расходами, положение становилось критическим, и дела все больше внушали тревогу. Вдобавок его все сильнее угнетало однообразие существования и то, что он не видел никакой возможности поступить в университет на достойных условиях, и хвала из первых рук, каковую он надеялся заслужить в качестве актера, была ему столь мила и желанна, потому что он все более утверждался в своей склонности к театру, а не к обучению в университете.
То была поистине великая эпоха немецкого театра, и потому нет ничего удивительного, что столь многие молодые люди загорелись мыслью посвятить себя этому блестящему поприщу и питали на сей счет самые радужные надежды. В Ганновере театральное товарищество было исполнено подобных же настроений – им был явлен высокий образец: Брокман, Райнике, Шрёдер, объединившие свои усилия ради искусства и ежедневно пожинавшие лавры успеха, и потому намерение подражать этим людям было делом далеко не бесславным.
Чтобы достичь этой цели, незачем было сначала три года учиться в университете. Вдобавок Райзеру припала неодолимая охота к путешествиям, полностью овладевшая им после самовольного паломничества в Бремен, и в нем стало понемногу укрепляться и наконец полностью им завладело намерение вырваться из опутавших его личных связей, среди коих даже лучшие удовлетворяли его разве что наполовину, и поискать счастья в большом мире, но все это пока было лишь игрой воображения, ибо он никак не мог решиться привести свой план в исполнение.
Как раз в это время его посетил в Ганновере отец, и Райзер впервые в жизни смог принять его в своей комнате, хорошо обставленной и красиво оклеенной обоями. Свое тогдашнее положение он постарался представить в самом выгодном свете, а по поводу предстоящего спектакля сказал, что, благодаря напечатанию пролога и тому, что он лично пригласил принца, он теперь снова привлек к себе всеобщее благосклонное внимание, как недавно – публичным произнесением поздравительной речи королеве.
На что отец высказал здравую и разумную мысль, что подобные случаи, дающие возможность отличиться на публике, вроде поздравительной речи королеве, следует рассматривать как некий род победы и всячески эту победу усугублять, ибо в жизни такое бывает нечасто.
На прощание Райзер вышел с отцом за городские ворота и еще час провожал его по дороге. Когда они дошли до того места, где отец когда-то призвал на него проклятие, оба внезапно остановились (что это было то самое место, Райзер понял лишь позднее), до этой минуты они беседовали о самых что ни на есть важных и возвышенных предметах, равно принадлежащих мистике и метафизике, и тут отец Райзера заключил с сыном союз: впредь вместе стремиться к великой цели единения с Высшим мыслящим существом, после чего наложением руки благословил сына, на том самом месте, где некогда послал ему проклятие.
Райзер воротился домой в прекрасном расположении духа и пребывал в нем до тех пор, пока его воображением не завладела мысль о предстоящем распределении ролей в остальных, кроме «Дезертира», пьесах и в нем снова не забродили романические идеи, убаюканные было трезвыми рассуждениями.
Пьесы, выбранные для постановки, были: «Клавиго», «Педант» и «Паж». В «Дезертире» он довольствовался незначительной ролью и теперь рассчитывал получить хотя бы роль Клавиго, ведь все его надежды устремлялись теперь к театру, и он едва не сгорал от нетерпения заполучить эту роль, которую, однако, дали не ему, а другому юноше, который исполнил ее гораздо хуже, чем мог бы сыграть Райзер.
Райзер был настолько оскорблен случившимся, что погрузился, можно сказать, в черную меланхолию. И пускай тот, кому это покажется фальшивым и неправдоподобным, вспомнит, что на чаше весов лежала мечта, коей Райзер жил годами: явить свои таланты собравшимся жителям родного города, показать, как глубоко он чувствует все то, что произносит, и с какой силой может голосом и мимикой выразить то, что так глубоко чувствует. Передать тысячам потрясение, которое в нем самом вызвал своей игрой Райнике-Клавиго, – это стало для него безмерно великой и возвышенной целью, каковую, верно, не составляла для смертного человека ни одна роль ни в одной трагедии. Все, о чем он мечтал более пяти лет, могло бы теперь осуществиться сверх всякой меры, ибо публика собралась блестящая и многочисленная как никогда, театр, вмещавший несколько тысяч зрителей, заполнился до отказа, присутствовал и принц, окруженный знатью, духовенством, учеными и людьми искусства. Выступить перед таким залом, да еще в почти родном для него городе, где он вырос и испытал все превратности судьбы, выступить в полном обладании сильными чувствами и всеми способами их выражения, которые прежде он мог явить лишь самому себе, – да может ли что-нибудь сравниться с этим по притягательности?
Но, как видно, со времен «умирающего Сократа» гений театрального искусства хмурился на него.
Как ни добивался он роли Клавиго, ни мольбы, ни угрозы не возымели действия: его соперник одержал верх.
Тем самым была задета самая чувствительная, самая болезненная струна его души – все остальное ему сразу опостылело. Любой, кто уступил бы теперь ему роль Клавиго, потерял бы гораздо меньше, чем потерял Райзер, не получив ее. Когда наизаветнейшая часть его жизни погрузилась во тьму, все остальное тоже подернулась мраком. Глубокая скорбь воцарилась в его душе, он снова начал всюду, где можно, искать уединения, перестал следить за своей наружностью.
Тем временем Филипп Райзер продолжал мастерить фортепиано в своей комнате и не принимал участия во всех этих дурачествах. Увлекшись театральным делом, Антон Райзер почти перестал его навещать, теперь же, когда его мечты пошли прахом, снова зачастил к нему и при нем предавался своей тоске, не объясняя, однако, истинной ее причины, – ведь он не хотел себе признаться, что эта тоска имеет поводом несбывшееся выступление в роли Клавиго, и всячески убеждал себя, будто проистекает она из его наблюдений над жизнью человеческого рода как такового.
Когда ему отказали в роли Клавиго, жизнь в Ганновере стала его тяготить, он почувствовал в себе неодолимую тягу к бегству, к путешествию. Годами томившее его желание должно было, наконец, исполниться, притом неважно где и как: он просто испытывал потребность дать выход тому, что так долго в нем зрело благодаря неустанному чтению пьес и неистребимой тяге к театру.
Во время репетиции «Клавиго» он прокрался в ложу и, пока Иффланд-Бомарше неистовствовал на сцене, Райзер неистовствовал, распростершись на полу ложи, и в ярости дошел до того, что расцарапал лицо осколками стекла, валявшимися рядом, и в отчаянии рвал на себе волосы. Ибо в единый миг приковать к себе неисчислимые взгляды зрителей, явить этим испытующим взглядам сокровеннейшие силы своей души, дрожью собственных нервов заставить содрогаться нервы зрителей – всему этому он сейчас был свидетелем, сам же оставался никем, затерявшимся в толпе простым зрителем, а меж тем какой-то тупица, игравший Клавиго, привлек к себе всеобщее внимание, подобающее ему, Райзеру, способному чувствовать куда как сильнее.
После всех превратностей судьбы, перенесенных Райзером за долгие годы, роль Клавиго сделалась ни много ни мало как целью его жизни – жизни, постоянным угнетением отданной во власть фантазии, каковая теперь громко заявила свои права. Струна оказалась натянута слишком туго – и лопнула.
Когда ужасная репетиция закончилась, Райзер опять оказался в полном одиночестве, оставшись без друга, без единого человека, кому был бы небезразличен. Все же ему хотелось излить кому-нибудь свое горе, и он отправился к Иффланду, который отныне был ему ближе, чем когда-либо, так как им владела та же потребность, что тянула к нему Райзера.
Воображение Иффланда тоже было напряжено до предела, а его влечение к театру стало всепоглощающим, и он искал, кому бы открыть свои самые сокровенные желания и свое горе…
Дело в том, что его отец и старший брат, небезосновательно опасаясь, что страсть к театру, чересчур поощряемая великим успехом, вызванным его игрой, может захватить его полностью, запретили ему впредь участвовать в драматических опытах, против чего он, конечно, продолжал подыскивать всевозможные доводы и вел прения с отцом. Теперь он втайне поведал Райзеру о своем намерении целиком посвятить себя театру, как некогда поделился с ним своей решимостью сделаться деревенским священником. Среди ролей, сыгранных Иффландом, был дезертир в «Дезертире по сыновней любви» и Еврей в «Диаманте». Последнюю он сыграл так мастерски, что позже дебютировал в ней перед Экхофом и тем положил начало своей театральной карьере. Если в роли Еврея он смог проявить высшее комическое начало, то в роли Бомарше сумел достичь высшего трагизма, и действительно, его игра в этом случае была столь пленительна, что зрителям мнилось, будто они видят и слышат самого Брокмана. И вот теперь наслаждение от публичного исполнения этой роли будет ему отравлено. Он удерживал Райзера в комнате подле себя всю ночь, и оба предавались сладостным мечтам о блаженном ремесле актера, пока не заснули.
Отныне они стали неразлучны и не расставались по целым дням. И однажды, когда они теплым, хотя и пасмурным утром вместе вышли за городские ворота, Иффланд сказал: «Подходящая погода, чтобы уйти отсюда». Погода и впрямь выдалась как раз для пути: небо низко налегло на землю, округа погрузилась в сумрак, словно бы затем, чтобы не отвлекать внимание путников от дороги. Эта мысль так приглянулась им обоим, что они было решили тотчас привести ее в исполнение. Но поскольку Иффланд хотел попробовать сыграть в Ганновере роль Бомарше, они вернулись в город. Как ни хлопотал Иффланд за Райзера, все же роль Клавиго тому так и не дали, вместо этого юноша, игравший Клавиго, наконец уступил ему роль Князя в «Паже», а в «Педанте» он получил роль магистра Блазия.
Теперь Райзер горевал оттого, что не сыграет Клавиго, а Иффланд – оттого, что вообще не будет играть. Оба они, однако, уговаривали себя, что им постыла жизнь как таковая, и в одну из ночей, зарядив два пистолета, до утра развлекались, в очередь декламируя «Быть или не быть».
Райзеру жизнь опостылела до такой степени, что он даже не отстранился, когда Иффланд навел на него заряженный пистолет и положил палец на курок. Он лишь нацелил свой пистолет на Иффланда.
На другой день, однако, когда он зашел к Филиппу Райзеру, между ними разыгралась куда более серьезная сцена. Минувшей ночью он не сомкнул глаз, в его пустом взгляде сквозила тупая покорность, на челе было написано отвращение к жизни, душевные силы его покинули. Он поздоровался с Филиппом Райзером и тут же застыл как столб.
Филипп Райзер, который не раз видывал его в подобном изможденном состоянии, но никогда – столь опустившимся, начал опасаться, что он уже конченый человек, и совершенно серьезно вызвался застрелить его, коли уж он пал так глубоко и безнадежно. С Филиппом Райзером, имевшим мысли столь же романические, сколь и сумасбродные, шутки в таких делах были плохи. Антон Райзер счел это средство преждевременным и заверил друга, что и на сей раз сам справится со своей болезнью.
Между тем положение его делалось все более плачевным: затраты, потребные для выступлений на сцене, далеко превосходили его доходы, постоянные пропуски уроков, которые он давал сам, все глубже погружали его в долги, и вскоре он опять стал нуждаться в самом необходимом, поскольку не овладел искусством жить в кредит.
Один только костюм Князя в «Паже», который он, как и другие актеры, должен был приобрести сам, стоил его месячных трат на повседневные нужды, а ведь он еще не добился главного, о чем так долго мечтал, – трагической роли, в которой надеялся показать себя во всей красе.
Из трех пьес, представленных в один вечер, первым следовал «Клавиго», вторым – «Педант», последним – «Паж».
Пока шел «Клавиго», Райзер, забившись в костю-мерную, старался приглушить все чувства и заткнул себе уши. Каждый звук, долетавший со сцены, пронзал ему сердце, – на его глазах рушилось прекраснейшее здание его фантазии, которое он строил годами, а теперь принужден был смотреть на это разрушение, не в силах его предотвратить. Он пытался утешить себя тем, что занят в двух других ролях, сосредоточивал на них свое внимание, но тщетно – когда кто-то другой, не он, наяву исполнял роль Клавиго перед огромным залом, ему казалось, что пожар безвозвратно поглощает все его достояние. До последнего дня он все еще надеялся во что бы то ни стало добиться этой роли, но теперь все пропало.
Когда же и в самом деле все пропало и «Клавиго» был доигран до конца, ему немного полегчало. Но заноза по-прежнему сидела в его груди. В «Педанте», где заглавную роль исполнял Иффланд, Райзер сыграл магистра Блазия – и заслужил аплодисменты. Но не таких аплодисментов он ждал. Он мечтал вызывать не смех, но душевное потрясение. В пьесе «Паж» характер Князя содержал в себе известное благородство, но как роль был для Райзера слишком мягок, и к тому же само представление пошло вкривь и вкось, так как после «Клавиго» и «Педанта» – час был уже поздний – публика начала расходиться, и смотреть «Пажа» осталась едва ли треть зрителей. По этой причине, а также потому, что он никак не мог прогнать из головы мучительную мысль о Клавиго, сыграл он свою роль небрежно и гораздо хуже, чем мог бы, и после спектакля недовольный, в расстроенных чувствах, вернулся домой. Тем не менее он не оставлял надежды когда-нибудь исполнить свое желание и во что бы то ни стало выступить в какой-нибудь мощной и потрясающей роли. И нынешний отказ в этом наслаждении лишь сильнее разжигал его желание, да и как было ему осуществить свою заветную мечту, не сделав ее достижение главным делом жизни? Итак, мысль посвятить себя театру не исчезла, но напротив, восстала в нем с новой силой.
А поскольку мы всегда пытаемся подыскать самые убедительные резоны, чтобы оправдать в своих глазах задуманные действия, то и Райзер счел уплату мелких долгов, в коих погряз, и само раскрытие этих долгов делом столь невозможным и неприятным, что усмотрел в этом достаточную причину для ухода из Ганновера. Однако подлинным его мотивом было неодолимое стремление изменить свою жизнь и во что бы то ни стало показать себя, снискать славу и публичное признание, а для всего этого как нельзя лучше подходит театр, где человека не заподозрят в тщеславии, если он для своего возвышения хочет выходить на публику как можно чаще, но напротив, здесь это почитается заслугой.
Меж тем эти мелкие долги стали все больше его угнетать, а несколько пережитых унижений сделали его жизнь в Ганновере и вовсе несносной.
Первое унижение состояло в том, что один молодой дворянин, которому Райзер давал уроки в его доме и с которым имел обыкновение перекинуться словечком-другим после занятий, как-то раз поблагодарил Райзера за урок прежде, чем тот сам успел откланяться. Вполне вероятно, он в самом деле уловил на лице Райзера готовность попрощаться и потому чуть поспешил с поклоном, но именно эта поспешность так ужасно ранила Райзера и так его подавила, что, выйдя на улицу, он еще несколько времени стоял как вкопанный, бессильно уронив руки. Это поспешное «Позвольте поблагодарить вас за визит» внезапно соединилось в его голове с кличкой «Тупица!», брошенной инспектором, с «Я не вас имел в виду!» купца С., с насмешкой одноклассников «Рar nobile Fratrum» и возгласом ректора «Сущее тупоумие!» по его адресу. Несколько мгновений он чувствовал себя полностью уничтоженным, силы его покинули. Мысль о том, что он хотя бы на минуту оказался докучлив, навалилась на него, как гора. Он готов был немедленно сбросить с себя груз существования, докучный не только ему, но и кому-то другому.
Выйдя из ворот, он направился к кладбищу, где был похоронен сын пастора Маркварда, и там разрыдался над могилой юноши горючими слезами отчаяния и бессилия. Мир представился ему холодным и мрачным, а собственное будущее – безрадостным. Более всего он желал бы смешаться с пылью, по которой ступала его нога, и все это – из-за чересчур поспешно брошенной фразы: «Позвольте вас поблагодарить». Эти слова сидели в его душе жалом, которое он понапрасну силился вынуть, – впрочем, не признаваясь себе в этом, но выводя свое отчаяние и бессилие из общих мыслей о ничтожности человеческой жизни и тщете всего сущего. Да, он и вправду много раздумывал над этим, но без осознания главной причины все эти отвлеченные рассуждения могли занять лишь его разум, но не затрагивали сердца. Если разобраться, им овладело – и сделало жизнь столь ненавистной – ощущение человека, угнетенного общественными отношениями: Райзер вынужден был учить дворянского юношу, который ему за это платил и по окончании урока, коли заблагорассудится, мог вежливо указать ему на дверь. Какое же преступление совершил Райзер еще до своего рождения, что не появился на свет человеком, вокруг которого хлопочет множество других людей? Почему его роль – всегда работать, а роль другого – платить? Если б общественные условия, существующие в мире, сделали его счастливым и довольным, он повсюду усматривал бы целесообразность и порядок, а теперь все представлялось ему сплошным разладом, путаницей и хаосом.
По дороге домой Райзер повстречал одного из своих кредиторов, напомнившего ему о непогашенном долге, и, продолжая путь с грустно поникшей головой, услышал, как за его спиной какой-то мальчишка сказал товарищу: «Вон пошел магистр Блазий!» Это так его разозлило, что он прямо на улице отвесил мальчишке несколько оплеух, после чего тот до самого дома провожал его бранью.
С этого дня сам вид ганноверских улиц начал вызывать у Райзера отвращение, но неприятнее всех была ему улица, где мальчишка его дразнил, ее он всячески избегал, когда же все-таки не удавалось ее миновать, ему чудилось, будто дома готовы на него обрушиться, а чернь вперемежку с недовольными кредиторами бежит за ним толпой, осыпая насмешками.
Унижения так тесно следовали одно за другим, что он не успевал оправиться от этих ударов, сделавших для него ненавистным само здешнее пребывание. Мысль о том, чтобы покинуть Ганновер и пуститься по свету искать счастья, превратилась в твердую решимость, в чем он открылся одному только Филиппу Райзеру. Но друг был тогда слишком занят собой, так как закрутил новый роман и думал лишь о том, как бы выгоднее предстать перед своей подружкой. Судьба Антона Райзера поэтому волновала его куда меньше, чем в иные времена.
И хотя Антон Райзер намеревался вскорости навсегда покинуть Ганновер, Филипп Райзер посвящал его во все перипетии своего нового увлечения, словно его друг ничего так не желал, как успехов на этом поприще. Порой это выводило Антона Райзера из терпения, но как-никак Филипп Райзер был его ближайшим наперсником и ни с кем другим он не мог бы поделиться своими замыслами.
Поскольку, отправляясь скитаться по белу свету в поисках счастья, необходимо было все же назначить себе цель скитаний, Райзер избрал Веймар, где, как говорили, в то время обосновалась труппа Абеля Зайлера, выступавшая под руководством Экхофа. Именно там он надеялся обратить свои мечты в действительность, полностью отдавшись театру.
Пока он обдумывал этот план, ему снова довелось испытать унижение, которое окончательно утвердило его решимость.
Однажды он в компании товарищей из театральной труппы вышел из города прогуляться по общественному саду. Своим задумчивым и рассеянным видом он невыгодно выделялся среди остальных. И тут вдруг на него таким градом посыпались насмешки, что он просто онемел от неожиданности. А поскольку остроумие спутников не знало удержу, дурацким шуткам не было конца, к тому же свидетелями этой сцены стали несколько офицеров, стоявших неподалеку, Райзер не выдержал, вскочил из-за стола, расплатился с хозяином и со всех ног бросился прочь. Убежав от всех, он сразу разразился проклятиями по адресу своей судьбы и самого себя. Он насмехался над собой, так как был убежден, что родился на свет для насмешек и поругания.
Но как же случилось, что он оказался отдан на глумление миру, словно у него на лбу было выжжено клеймо насмешки? И почему оно в недобрый час – когда он, казалось бы, снискал уважение товарищей – вдруг снова сделало его посмешищем для всех?
Виной тому была бесхарактерность, воспитанная пренебрежением его собственных родителей, – недостаток, который он так и не сумел преодолеть, став взрослым. Он не мог смотреть на окружающих как на свою ровню – каждый казался ему в чем-то значительней и важней для мира, чем он сам, а потому в любом проявлении дружбы к своей персоне он усматривал род снисхождения. Он считал себя презренным, потому его и презирали, а нередко находил знаки презрения там, где человек, уважающий себя, ничего бы не заметил. Таков уж, видно, закон соотношения духовных сил: если какая-то энергия не находит противодействия, она устремляется вперед и сметает все на своем пути, как река, прорвавшая плотину. Сильная амбиция неудержимо поглощает слабую, будь то с помощью иронии, презрения, будь то ставя на сопернике клеймо насмешки. Быть осмеянным – значит дать себя погубить, осмеять – значит уничтожить чье-то самолюбие, менее развитое, чем твое. Но совсем другое дело – стать предметом всеобщей ненависти. Это хорошо и желательно. Ненависть окружающих не убьет самолюбие, но лишь вооружит его упорством, с которым его обладатель проживет тысячу лет, скалясь на ненавидящий его мир. Но не иметь ни друга, ни даже врага, – вот истинный ад, мучительная пагуба для мыслящего существа. Вот эти-то адские муки Райзер испытывал всякий раз, как из-за недостатка самоуважения внутренне соглашался, что заслуживает насмешки и презрение. Единственным его наслаждением в таких случаях было, оставшись наедине, с издевательским хохотом наброситься на самого себя, как бы доводя до конца начатое другими.
Когда насмешки гордых и презренье Моею сделались судьбой, Зачем к себе пустое сожаленье И плач постыдный над собой?Итак, убежав от насмешников, он бродил по пустынной местности и все более удалялся от города, не имея никакой цели, куда бы направить шаги. Он шел не разбирая пути, покуда не стало темнеть, и тут выбрался на широкую дорогу, ведшую к деревне, которая уже рисовалась впереди. Небо все плотнее затягивали тучи, собирался дождь, закаркали вóроны, и два из них, летя над его головой, словно бы вызвались ему в провожатые и наконец привели прямо к маленькому деревенскому кладбищу, окруженному, как стеной, беспорядочно наваленными камнями. Низкая островерхая церковь, крытая дранкой; толстые стены, в каждой по крошечному окошку, сквозь которые внутрь косо пробивался свет; дверь, наполовину ушедшая в землю, так что, входя, хотелось нагнуться… И столь же маленькое и неприметное, как церковь, кладбище с теснящимися могилами, скрытыми густой порослью крапивы. Край неба потемнел, само оно сумрачно надвинулось на землю, остался виден только небольшой клочок земли, где он стоял. И вот эта малость и неприметность деревни, кладбища и церкви произвела на Райзера странное действие: ему стало казаться, что все вещи мира исчезают, стекая по тонкому острию, на конце которого – тесная и душная могила, за ней же больше ничего нет, только глухая крышка гроба, заслоняющая мир от глаз смертного. Эта картина наполнила Райзера отвращением, сама мысль о медленном стекании все ближе и ближе к тонкому острию, за коим – ничто, с ужасной силой погнала его прочь от этого крошечного кладбища в непроглядную ночь, будто он убегал от гроба, уже готового его поглотить. Деревня с кладбищем преследовала его как воплощение ужаса, пока окончательно не скрылась из виду. Казалось, разверстая могила требует своей жертвы, норовит поглотить его. Лишь дойдя до соседней деревни, он немного успокоился.
Но чем особенно ужаснула его на кладбище мысль о смерти, так это представлением о малости, овладевшим его душой и породившим в ней невыносимую пугающую пустоту. Где малое, там рядом исчезновение, ничтожество; понятие о малом – вот что вызывает страдание, опустошенность и тоску. Гроб – тесный дом, могила – безмолвное, холодное и маленькое жилище. Малость порождает пустоту, пустота – тоску, а тоска ведет в ничто, бесконечная пустота и есть ничто. На маленьком кладбище Райзер испытал страх ничтожества; переход от бытия к небытию предстал ему так наглядно, с такой силой и определенностью, что само его существование будто повисло на нити, вот-вот готовой оборваться.
Усталость от жизни у него разом как рукой сняло, он попробовал накопить некий солидный запас идей, который просто помог бы ему спастись от превращения в ничто, и когда он ненароком вышел на тракт, ведущий в Эрихсхаген, где жили его родители, и вдруг узнал эту местность, то и решил за ночь одолеть оставшееся расстояние и утром снова удивить их своим появлением. Он уже на милю отошел от Ганновера, и идти оставалось еще примерно пять миль.
Однако мысль, что он не посмеет рассказать родителям о принятом решении и будет уходить от них с тяжелым сердцем, заставила его повернуть обратно, тем более что ближе к полуночи полил сильный дождь. Он пробирался под дождем, в кромешной темноте через поле высокой ржи, в сторону города. Стояла теплая летняя ночь, и в этом мизантропическом ночном странствии дождь и тьма были ему любезнейшими попутчиками. На лоне природы он чувствовал себя сильным и свободным, ничто не давило на него, ничто не стесняло, здесь в любом месте он был как дома, где всюду можно прилечь, не хоронясь от чужих взглядов. И наконец, он находил особое блаженство в том, что наугад прокладывал себе дорогу среди высоких колосьев ржи, не будучи связан никакой особой целью. В ночном безмолвии он чувствовал себя свободным, как дикарь в пустыне, вся ширь земли была ему постелью, вся природа – владением.
Так он шел ночь напролет, пока не забрезжил день, и, когда понемногу начали обозначаться очертания местности, ему показалось, что до Ганновера осталось идти не больше полумили. Но тут – он едва поверил своим глазам – прямо пред ним выросла высокая кладбищенская стена, которой он никогда не видел в этой округе. Он изо всех сил пытался сосредоточиться, распознать местность, но тщетно, – длинная кладбищенская стена никак не соединялась у него с окружающим пространством. Позднее она так и осталась в его сознании неким явлением, заставившим усомниться, спит он или бодрствует. Он протер глаза, но длинная стена не исчезла, больше того – странное ночное блуждание и отсутствие передышки, естественным образом обычно прерывающей течение дневных мыслей, расстроило его фантазию и заставило опасаться за свой рассудок. Он и правда был недалек от помешательства, но тут разглядел в тумане четыре ганноверские башни и наконец понял, где находится. Предрассветные сумерки сбили его с толку и заставили принять окружающую местность, прилегающую к городу, за другую, схожую, но лежавшую в полумиле от Ганновера. Перед ним раскинулось обширное городское кладбище с маленькой часовней посередине. Теперь Райзер быстро распознал местность – и словно очнулся от сна.
Но если что-то способно довести до умопомешательства, так это нарушение наших представлений о времени и пространстве, с каковыми связаны у нас все другие понятия. Новый день явился Райзеру не как новый, потому что между ним и предыдущим не случилось передышки в работе его воображения. Он направился в город. Час был еще ранний, и на улицах царила мертвая тишина. Дом и комната, где он жил, – все казалось ему другим, чужим, странным… Ночные блуждания произвели настоящий переворот в его мыслях: он теперь чувствовал себя в собственном жилище как бы не дома, само понятие о месте поколебалось в его голове, и весь день он ходил как лунатик. Но при всем том воспоминания об этой ночи сделались ему приятны. Карканье воронов над головой, маленькое кладбище, поля ржи, пройденные от края до края, – все соединилось в его воображении в одну сумрачную группу, прекрасный ночной образ, который потом еще не раз в одинокие часы услаждал его фантазию.
И все же, если такое возможно, жизнь в Ганновере стала ему еще ненавистней. Дух странствий теперь всецело его обуял, хотя и с другими юношами, игравшими вместе с ним на сцене, случилось нечто подобное. Один из них, по имени Тимей, слывший тихим, прилежным и исполнительным учеником, однажды признался Райзеру, что его совсем не прельщает звание богослова, к которому его готовили, и пустился в рассуждения о благословенном ремесле актера, с пылом возражая всем тем, кто незаслуженно принижает почтенное актерское сословие.
Эту беседу они вели по дороге в маленькую деревушку невдалеке от Ганновера, и настолько увлеклись, что не заметили наступления вечера, и пришлось им заночевать в этой деревне. Непривычный ночлег в незнакомом месте настроил обоих на еще более романический лад, им мерещилось, будто они уже отправились в некое опасное приключение и делят друг с другом радость и горе. И смелое намерение отважных юношей презреть предрассудки света и следовать только своим наклонностям или, как они говорили, своему призванию не пропало втуне. Райзер первым приступил к его осуществлению, и Тимей вскоре за ним последовал, хотя, на его счастье, был возвращен обратно.
Меж тем Райзер, прежде чем осуществить свое намерение, еще раз совершил ночную вылазку с Иффландом, который как-то под вечер, в одиннадцать часов зашел к нему с одним юношей из театрального товарищества и пригласил на прогулку в горы Дайстера, что лежат за три мили от Ганновера. Райзер, уже привыкший к подобным ночным прогулам, сразу согласился – ночь стояла теплая и лунная. Беседа зашла о поэтических материях, порой чересчур разгораясь, порой делаясь более задушевной. Когда дорога проходила деревней, их обдавал запах свежего сена. Приятнее этого ночного путешествия трудно было что-то вообразить, казалось, его устроил сам случай, чтобы подстегнуть воображение Райзера и дать его разгоревшейся страсти к дальнему странствию перевес над разумом.
Еще до рассвета трое путешественников остановились на ночлег в предгорной деревушке и на несколько часов отдались сну. Когда же ранним утром настало пробуждение, все картинки волшебного фонаря бесследно исчезли: душам их снова предстала суровая и холодная действительность, и они чуть не час просидели друг против друга, неудержимо зевая. Если что-то и могло излечить Райзера от его фантазий, так это утро после подобной ночи. Им расхотелось взбираться на гору, так как чувствовали они себя усталыми и разбитыми и потому сразу отправились в город, выбрав кратчайший путь, хотя и тот оказался им в тягость из-за палящего солнца. Но в дороге они предались поэтическим импровизациям, чем скрасили себе однообразие ходьбы.
Райзер, однако, по-прежнему горел решимостью отправиться в путь, отдавшись на волю судьбы. Что бы с ним ни случилось, все было лучше томительного однообразия жизни в Ганновере, не обещавшей не то что полного счастья, но даже простого довольства.
Все его мысли были устремлены вдаль. Ко всему прочему, он не знал иного способа разделаться с долгами, как снова признавшись пастору Маркварду в их существовании и тем самым полностью лишившись его заботы и дружбы. Да и многочисленные унижения, которые ему довелось испытать в последнее время, все еще оставались свежи в памяти и делали ненавистным дальнейшее пребывание в Ганновере.
Он сумел столь убедительно обрисовать ближайшему другу Филиппу Райзеру свое плачевное состояние, что под конец тот одобрил его решение покинуть Ганновер и в подробностях описал путь до Эрфурта, когда-то пешком проделанный им самим в обратном направлении – из Эрфурта в Ганновер. Оттуда Райзер предполагал направиться в Веймар, где хотел попроситься в театральную труппу Зайлера, а точнее – Экхофа. Впоследствии он предполагал, находясь в Веймаре, расплатиться по долгам, наделанным в Ганновере, и тем восстановить свое доброе имя, восстав к жизни там после гражданской смерти здесь. Это свое намерение он пестовал с особой приятностью.
Свои немногочисленные книги и бумаги он отдал на хранение Филиппу Райзеру, платье частично заложил, чтобы покрыть театральные расходы, а прочие вещи оставил хозяину в возмещение платы за постой. Ему он сказал, что должен отлучиться на неделю к тяжело заболевшему отцу и просил передать это всем, кто будет о нем спрашивать.
Теперь почти все его дела были улажены, кроме вопроса дорожных денег. Сумма, которую ему удалось добыть для путешествия длиною в сорок миль, составляла один-единственный дукат, и с этим дукатом он отважно собирался пуститься в путь, как ни убеждал его Филипп Райзер, что это чистой воды безумие. Сам же Филипп не мог ссудить его деньгами по весьма немаловажной причине: у него они водились очень редко, а в ту пору их и вовсе не было.
Таким образом, Антон Райзер мог с чистым сердцем сказать о себе: все мое ношу с собой. Добротное платье, в котором он выступал на дне рождения королевы, да сюртук – таков был весь его гардероб. Вдобавок он имел на боку золоченую придворную шпажку, на ногах – шелковые чулки и башмаки. Содержимое его сумки составляли: свежая сорочка, вторая пара шелковых чулок, томик Гомера карманного формата с латинским переводом и латинская афиша с его именем, извещавшая о поздравительной речи королеве.
Одно из воскресных утр в середине зимы он провел у Филиппа Райзера, делая последние приготовления к своему походу, который начинался в тот же день. Дни уже пошли в рост, и он надеялся засветло преодолеть три мили, отделявшие его от соседнего города.
Весело светило солнце, люди в воскресных нарядах прогуливались по улице, иные выходили за ворота, чтобы к вечеру вернуться в свои дома, Райзеру же предстояло навсегда проститься с Ганновером, и это рождало в нем чувство, которое нельзя было назвать унынием или грустью, скорее, своего рода очерствением. Расставание с Ганновером не отозвалось в нем ни единой слезой, он был почти так же холоден и безучастен, как если бы просто миновал какой-то незнакомый город. Даже прощание с Филиппом Райзером вышло скорее холодным, чем сердечным. Филипп Райзер увлеченно прилаживал новую кокарду к своей шляпе и в час расставания с другом говорил лишь о новом романе с какой-то девушкой, видимо полагая, что Антон Райзер должен от всей души желать ему успеха. В общем, беседа их шла так, словно назавтра они снова встретятся и жизнь пойдет по-прежнему. Но больше всего Антона Райзера раздражала именно кокарда, столь сильно занимавшая его единственного друга в последний час их общения. Эта кокарда еще долго носилась перед его глазами и каждый раз вызывала раздражение, стоило ему о ней вспомнить. С другой стороны, она же весьма облегчила ему расставание с единственным другом. Впрочем, Филипп Райзер был исполнен к нему самых добрых чувств и всего-навсего дал мелкому тщеславию и игривым мечтам взять в себе верх над дружеским участием, поэтому кокарда, с помощью которой он надеялся понравиться своей подружке, стала для него столь дорогим предметом, но в этом Антон Райзер, увы, совсем не разбирался.
«Холодный и бесчувственный, стучусь я в железные врата смерти!»[14]
Эти слова из «Страданий юного Вертера» все утро звучали в ушах Антона Райзера, и когда Филипп Райзер открыл перед ним широкие ворота, где им предстояло окончательно расстаться, так как не хотел провожать его дальше, дабы не возбудить подозрений в причастности к его побегу, Антон Райзер еще несколько времени стоял, не ступая наружу, и застывшим взглядом глядел на Филиппа Райзера. В эту минуту ему мнилось, что он и впрямь стучится в железные врата смерти. Он протянул руку Филиппу Райзеру, который не мог вымолвить ни слова, затворил за собой створку ворот и поспешил к ближайшему изгибу дороги, желая побыстрей скрыться с глаз своего друга.
Далее он быстрым шагом прошел по валу к воротам св. Эгидия и еще раз взглянул через плечо на свое прежнее жилище, дом ректора, открывшийся с вала. Было уже два часа дня, в церкви зазвонили, и, приближаясь к воротам, он все более ускорял шаги. Ему чудилось, что могила вновь открывает свой зев за его спиной. Когда же город с его зеленым валом остался позади, а дома стали сливаться друг с другом, на душе у него полегчало, и наконец четыре башни, свидетельницы всех его горестей и обид, совсем скрылись из вида.
Часть четвертая
Четвертая часть жизнеописания Антона Райзера посвящена важному вопросу о том, в какой мере молодой человек способен выбирать дело своей жизни.
В ней правдиво описаны различные виды самообмана, в какие неискушенного героя вовлекло ложно понятое влечение к поэзии и театральному искусству.
Она также содержит, быть может, небесполезные и ненапрасные советы учителям, воспитателям, а равно и юношам, всерьез желающим на собственном опыте распознать, какие признаки отличают истинную склонность к искусству от мнимой.
Из дальнейшего рассказа видно, что мнимая склонность, заключающая в себе влечение, но не призвание, бывает столь же властной и обнаруживает себя точно так же, как это знакомо истинному артистическому гению, готовому на любые жертвы и муки ради достижения своей цели.
Предыдущие части нашей истории ясно показали, что неодолимая страсть Райзера к театру была обусловлена всей его жизнью и судьбой, тем, что с самого детства он оказался вытеснен из действительного мира, навсегда для него отравленного, и питался больше фантазиями, чем действительностью. Поэтому театр как подлинное воплощение фантазии виделся ему убежищем от всех притеснений и превратностей жизни. Только здесь ему свободно дышалось, здесь он чувствовал себя в родной стихии.
Однако он не вовсе утратил знание того, чем полнится окружающий мир, брошенный им отнюдь не по своей воле, ведь жизнь и бытие он ощущал не менее живо, чем другие люди.
Из-за этого в нем никогда не прекращалась внутренняя борьба. Он был недостаточно легкомыслен, чтобы безоглядно следовать внушениям своей фантазии и при этом оставаться в мире с самим собой, с другой стороны, ему не хватало твердости, чтобы до конца привести в исполнение какой-либо реальный план, могущий обуздать его мечтательность.
В его душе, как и в душах столь многих людей, истина боролась с химерой, действительность – с мечтой, и победителя не было. Этим вполне и объясняется странное состояние его души.
Противоречия внешние и внутренние – из них по сию пору состояла вся его жизнь. Насущным оставался лишь вопрос: как выйти из этих противоречий?
Когда Райзер потерял из виду ганноверские башни и быстрыми шагами устремился по дороге, он задышал свободнее, всей грудью – целый мир расстилался перед ним, и душе его в великом множестве открывались новые дали.
Все путы прошлой жизни, думал он, теперь разорваны, все оковы с него свалились. Ибо, поступи он в Гёттингенский университет, судьба все равно настигла бы его: ровесники и там продолжали бы его притеснять и наверняка сломили бы его дух.
Пока он был замкнут в этом кругу, уверенность в себе не могла в нем зародиться, поэтому нужно было как можно скорей покинуть этих людей, вольно или невольно отравивших дни его юности.
И вот теперь он окончательно разлучился с этим кругом. Поприще его страданий, мир, где он сполна вкусил юношеских мытарств, осталось позади, он удалялся от него с каждым шагом, устроив все таким образом, чтобы еще неделю никто его не хватился.
Теперь он испытывал сладчайшее удовольствие, оттого что никто, кроме Филиппа Райзера, не знает о его дальнейшей судьбе и о месте, где он теперь находится, оттого что его единственный друг не слишком огорчен их расставанием, а сам он теперь отрешен от всех отношений и глубоко безразличен всем, с кем сведет его дорога.
Если есть на свете состояние, прообразующее полный уход из жизни, то именно в таком состоянии пребывал теперь Райзер.
Когда дневная жара несколько спала, солнце склонилось к закату, а тени деревьев удлинились, он прибавил шагу, чтобы засветло, как бы за одну прогулку, преодолеть три мили до Хильдесхайма, да он и чувствовал себя как на прогулке, поскольку и Хильдесхайм, и Ганновер были ему близки как родной дом.
Подойдя к городским воротам, он первым делом стряхнул пыль с башмаков, пригладил волосы, взял в руку прутик, чтобы поигрывать им на ходу, и, то и дело останавливаясь и оглядываясь, словно поджидал кого-то, стал неспешно двигаться по мосту. И поскольку на нем были шелковые чулки, то по одежде его никак нельзя было принять за человека, вознамерившегося пройти пешком еще сорок миль.
Стража его не остановила, и он вместе с горожанами через ворота вошел в Хильдесхайм. Мысль о том, что никто из этих людей не увидел в нем чужака, что никто на него не оглядывался, напротив, он был сочтен за одного из них, хотя к их числу не принадлежал, – эта мысль была ему до крайности успокоительна и приятна.
Поскольку никто здесь его не знал и не обращал на него внимания, он и не сравнивал себя ни с кем из них. Он словно бы отделился от самого себя; его личность, прежде доставлявшая ему столько мучений и так его угнетавшая, перестала его тяготить, и он с радостью прожил бы всю оставшуюся жизнь, блуждая в толпе, вот таким же неузнанным и неприметным.
Войдя в город, он стал искать гостиницу вблизи ворот, и одна из улиц показалась ему знакомой. Он вспомнил, как четыре года назад вместе с ректором, в доме которого жил в ту пору, побывал здесь на празднике Тела Христова, вспомнил, в каком щекотливом и мучительном положении тогда оказался, не будучи ни изгнанным, ни принятым в общество своих попутчиков. И при мысли, что все это осталось в далеком прошлом, он почувствовал, что с его души точно свалился камень.
В гостинице, где он остановился, его встретили по платью, и у него не хватило духу отказаться от такого приема. Он не стал противиться, когда ему приготовили ужин, отвели кровать для ночлега, а утром подали кофе. Неспешно его потягивая и заодно листая Гомера, он вдруг очнулся от своего оцепенения и понял, что вся его наличность состоит в одном-единственном дукате, и этого должно ему хватить не только на путешествие за сорок миль, но и на прожитье в новом месте.
Он спешно расплатился по счету, сделавшись от этого беднее не меньше как на шестую часть своего достояния, справился о дороге, ведущей в Зезен, и в невеселых мыслях с тяжелым сердцем вышел за городские ворота.
Было еще совсем рано, дорога шла по приятной местности лесами и лугами, отовсюду доносилось пение птиц, и утреннее солнце лежало на зеленых верхах деревьев.
Ускорив шаг, он почувствовал, что уныние рассеивается и на смену ему вновь приходят бодрые мысли, заманчивые надежды и самые смелые упования. И в конце концов у него созрело решение, которое разом прогнало тяжелые заботы и на всю дорогу сделало его богатым и независимым.
Нужно лишь ограничить питание хлебом и пивом, спать только на соломе, никогда больше не заходить в города и тем свести дневные расходы к нескольким грошам. Таким способом можно продержаться дольше месяца и к концу пути сохранить немного денег.
Приняв такое решение и с этого дня неукоснительно ему следуя, он снова почувствовал себя по-царски свободным и счастливым. Добровольный отказ от всех удобств и даже от самого необходимого вызвал в нем необычайное одушевление: он почувствовал себя существом, поднявшимся над всеми земными заботами, бестревожно погрузившимся в мир мысли и фантазии, и потому, несмотря на видимое неустройство, эта минута стала одной из прекраснейших грез его жизни.
Однако вскоре в его голову закралась мысль, все же скрепившая его нынешнее бытие с прошлой жизнью, дабы оно окончательно не обратилось в мечту. Он представил себе, как хорошо было бы вновь ожить в памяти людей через несколько лет после своей мнимой кончины в новом, более благородном облике, и чтобы мрачные годы его юности рассеялись в лучах зари новых счастливых дней.
Эта мысль прочно обосновалась в глубине его души, и он ни за что на свете не отказался бы от нее. Все прочие его мечты и фантазии кружились вокруг нее и благодаря ей обретали высшее очарование. Одно лишь предположение, что он никогда больше не увидит людей, знавших его прежде, лишало его всякого жизненного интереса, а вместе с ним – самых сладостных надежд.
Когда солнце приблизилось к полудню, он зашел в захудалую деревенскую гостиничку, где, кроме пива и хлеба, заказать было нечего, так что ему и не пришлось отказываться от лишних услуг.
Несказанно обрадовавшись, что за считанные пфенниги ему принесли знатный кусок черного хлеба, который утолит его голод на весь день, он частью покрошил его в пиво и так впервые пообедал в полном соответствии с принятым строгим правилом, от которого уже не отклонялся во все время путешествия.
Затем он поспешил из душного помещения на вольный воздух и, опустившись на траву под сенью дерева, вкусил полуденный отдых, углубившись в Гомерову «Одиссею». Трудно сказать, было ли это обращение к Гомеру навеяно чтением «Вертера», но настроению Райзера оно оказалось весьма сродни и доставило неподдельное и чистое наслаждение, – ни одна книга так близко не отвечала его состоянию, как эта, строка за строкой описывающая странствия человека, перевидавшего множество людей, городов и нравов и после долгих лет наконец вернувшегося на родину и вновь обретшего тех, кого покинул и уже не чаял когда-нибудь увидеть.
Дорога пошла подъемами и спусками, солнце припекало все сильнее, и Райзер утолял жажду даровой водою из то и дело встречавшихся ему прозрачных источников.
В деревне, где он провел первую ночь, постоялый двор был забит крестьянами, устроившими такой шум, что читать было невозможно. Он погрузился в свои мысли, и тут его внимание привлекла древняя старуха с трясущейся головой, сидевшая в кресле.
Эта старуха здесь родилась, здесь выросла, состарилась и день за днем только и видела перед собой эти стены, широкую печь, столы и скамьи. Райзер попробовал проникнуть в ее сознание и мысли и наконец так преуспел, что забыл о себе и увидел некий сон наяву: словно ему суждено остаться здесь навеки и уже никогда не покидать этого места. Подобное видéние прямо вытекало из той резкой перемены, что с ним произошла, когда же мысли его снова пришли в порядок, он вдвойне почувствовал радость разнообразия, широты и ничем не стесненной свободы, – он словно сбросил оковы, и старуха с трясущейся головой вовсе перестала его занимать.
Надо сказать, впрочем, что привычка вникать в сознание других людей вплоть до полного самозабвения была ему свойственна с самого детства, еще маленьким мальчиком ему иногда страстно хотелось взглянуть на мир глазами другого человека, узнать, каким тому кажется мир.
Тут он впервые опустился на соломенный тюфяк, мысли его блуждали далеко. Положив шпажку рядом, он накрылся своим платьем. Но мысли не давали ему покоя, будущее предстало внутреннему взору сияющим и ярким: огни зажглись, занавес пополз наверх, все напряглось ожиданием, наступил решающий миг…
До глубокой ночи он не мог заснуть и ворочался с боку на бок, а когда наутро проснулся, сцена до неузнаваемости изменилась: жалкая гостиничная каморка, пустые кружки из-под пива, кусок черного хлеба – и сонная вялость во всем теле. Такова была расплата за чарующие фантазии – скверное настроение и отвращение к жизни. Все это продолжалось более часа.
Он уронил голову на стол и попытался еще немного поспать, но тщетно. Наконец первые лучи утреннего солнца, проникшие через окно, пробудили его к жизни, и когда он, покинув душную комнату, снова вышел на дорогу, хандра с него сразу слетела и он снова предался заманчивой игре мыслей.
Так продолжалась его двойная жизнь – в воображаемом и в действительном мире. Действительность оставалась прекрасной и гармонировала с воображением, пока не наступал черед гостиницы с ее шумными постояльцами, крестьянами, и соломенными тюфяками, тут начинался разлад, – слишком широка была его свобода днем и слишком ограниченна вечером, а между тем до утра ему некуда было податься, кроме гостиницы.
Правда, внешнее окружение непрестанно воздействовало на внутренний ход его мыслей; ширь горизонта расширяла и его умственные представления, а вид новой местности рождал новые виды на дальнейшую жизнь.
Однажды ему пришлось преодолеть долгий и утомительный подъем на вершину холма, где перед ним внезапно открылась широкая равнина и вдали – маленький городок на берегу озера. Этот вид сразу оживил в нем все мысли и надежды, он не мог отвести глаз от далекой водной глади, окрылившей его новой решимостью – обязательно достичь этой дали.
Дальше дорога шла от Хильдесхайма через Бад-Зальцдетфурт, Броккенем, Зезен до Дудерштадта, оттуда прямиком через Мюльхаузен и Эрфурт до Веймара, его конечной цели.
В Веймаре он надеялся разыскать труппу Экхофа и в ней начать свою театральную карьеру. Теперь он на ходу разыгрывал в уме роли, которые в будущем вызовут овации и покроют его славой, вознаградив за перенесенные страдания.
Он был уверен, что провала случиться не может, ведь он так глубоко чувствовал каждую роль и в своем воображении прекрасно ее исполнял, но ему и в голову не приходило, что все это разворачивалось лишь внутри его сознания, а вот энергии внешнего воздействия ему не хватает. Райзеру казалось, что сила, с которой он чувствует роль, непременно увлечет за собой все остальное, заставит его забыть о себе самом.
Происходило же так потому, что при ходьбе его воображение распалялось и, чувствуя себя в полном одиночестве среди широких полей, он начинал неистовствовать заодно с Бомарше и бушевать вместе с Гвельфо.
Роль Гвельфо из «Близнецов» Клингера стала еще до ухода из Ганновера одной из его любимых – в образе Гвельфо он находил и язвительное презрение, и ненависть, и испепеляющее отвращение, какие испытывал по отношению к себе. Тот акт, в котором Гвельфо, убив брата, разбивает зеркало, отразившее его лицо, был для Райзера подлинным пиршеством. Весь этот неимоверный ужас точно опьянял его, и, пошатываясь от опьянения, он шагал по горам и долинам, и весь мир вокруг был ему сценой.
Клавиго, некогда исторгавший у него потоки слез, теперь представлялся ему слишком холодным, его место занял Бомарше. Тому на смену пришли Гамлет, Лир, Отелло, еще не представленные тогда на немецкой сцене, но их роли он сам вслух читал Филиппу Райзеру жуткими ненастными ночами и все их переиграл для себя, глубоко вживаясь в каждую.
Теперь к этому приложилась поэзия. Стихи изливались из него так мягко и мелодично, муза его была так скромна и вместе благородно-горделива, что безусловно обещала привлечь к себе все сердца. Правда, он пока не знал, чтó за стихотворение у него сложится, но не сомневался, что выйдет оно самым прекрасным и гармоничным, какое только можно помыслить, поскольку явит собой верный оттиск всех его чувств.
И вот, на самой вершине поэтического восторга его мечтам о прекрасном будущем едва не пришел внезапный конец: когда он свернул с зезенской дороги на тропинку, ведущую через луг, где в это время шла стрельба по мишеням, у самого его виска просвистела ружейная пуля. Раздались крики: «Поберегись!» Он поспешил пересечь Зезен и, успокоившись, зашагал дальше, пока не дошел до маленькой деревеньки, где и заночевал.
На второй день своего путешествия Райзер углубился в горы Гарца и с рассветом увидел на холме справа от тракта стены полуразрушенной крепости. Не в силах сдержаться, он поднялся по склону и, добравшись до верха, стал подкрепляться ломтем черного хлеба, прибереженным для завтрака. Так он сидел на руинах старинного рыцарского гнезда и сквозь стволы деревьев наблюдал видневшуюся внизу дорогу.
И то, что он, странник, ест свой хлеб у этих ветхих стен и думает о временах, когда здесь еще жили люди и точно так же видели дорогу сквозь деревья, наполняло его счастьем и казалось сбывшимся пророчеством, что стенам этим суждено опустеть и некий путник будет вкушать здесь покой и вспоминать о былых временах.
Здесь, на высоте, ломоть черного хлеба показался ему царской пищей. Подкрепившись, он спустился вниз и бодро устремился дальше, вскоре оставив самую высокую часть Гарца по левую руку от себя.
Идти ему было тем легче, что дорога шла волнами, то вздымаясь, то опадая, и перед ним все время возникали новые виды, сам же он словно отдался на волю этих волн и лишь разглядывал сменявшие друг друга картины.
Днем он передохнул в дрянной деревенской гостинице и вскоре опять выбрался на широкий простор. Однако воспоминание о гостинице тяготило его, и он решил в дальнейшем избегать подобных мест – эта мысль пришла к нему, когда он проходил полем и вспомнил апостолов Христа, которые в субботний день срывали и ели колосья.
Он тотчас предпринял схожую попытку: вылущил пригоршню зерен и стал разжевывать их в тесто, однако такое добывание пищи оказалось бесполезным занятием и от посещения гостиниц не уберегало. В этом способе пропитания утешительной была лишь идея: оставаться во всем свободным и независимым.
Итак, сделав еще один дневной переход, он все-таки зашел в деревенскую гостиницу вблизи Дудерштадта. Хозяина ее в то время не было дома.
Сумерки еще не опустились, ворота на задний двор гостиницы были открыты, во дворе возвышалась беседка, где находился стол, но ни стула, ни скамьи рядом не обнаружилось.
Усталый с дороги, Райзер разлегся прямо на этом столе и, так как света для чтения было еще довольно, раскрыл то место в «Одиссее», где говорилось о великанах-людоедах, напавших на корабли Улисса в тихой гавани и сожравших его спутников.
Как раз в это время вернулся хозяин и в полумраке увидел на своем дворе человека с книгой, лежавшего на столе посреди беседки.
Он окликнул было Райзера довольно грубо, но, когда тот поднялся и хозяин увидел перед собой хорошо одетого человека, то сразу же предположил: не иначе как Райзер – юрист? В этих краях так обычно именовали студентов, ибо теологи по большей части обучались в монастырях и их причисляли к клирикам.
У хозяина недавно умерла жена, и теперь он жил в доме один. Он, однако, оказался словоохотлив, и Райзеру пришлось есть свой ужин, состоявший по обыкновению из хлеба и пива, в его обществе.
Хозяин распространялся о так называемых юристах, которых во множестве перевидал у себя в корчме, и Райзер не стал его разубеждать, сказав, будто направляется в Эрфурт для учения.
Все эти разговоры, сами по себе ничтожные, приобретали для Райзера особую поэтическую прелесть благодаря образу гомеровского скитальца, неотступно витавшему в его воображении, и даже лукавство собственных слов имело некое сродство с этим поэтическим героем, коему споспешествовала сама Минерва, со снисходительной улыбкой внимавшая его выдумкам.
Для Райзера его гостеприимец был не просто хозяином деревенской корчмы, но человеком, прежде совсем незнакомым, впервые встреченным и вот уже целый час сидевшим с ним у одного стола за простой беседой.
Все, что в людском обиходе и в людских отношениях пренебрегалось, почитаясь низким и ничтожным, теперь властью поэзии вновь стало человечным, обрело изначальную высоту и достоинство.
Соломенного тюфяка у хозяина не нашлось, так как у него редко случались ночные постояльцы, поэтому Райзер уснул на сеновале как на покойном ложе.
На другое утро он продолжил свой путь, и вечер, проведенный наедине с хозяином, остался в его памяти одним из самых приятных воспоминаний.
В тот день мысль его работала особенно живо. Теперь он заметно приблизился к цели, но его обуяла тревога: что, если все надежды на славу и громы оваций не сбудутся и театральная карьера рухнет, не начавшись?
В нем разом заговорили крайности: не стать ли ему крестьянином или солдатом, – и вот уже поэзия и театр снова тут как тут, ведь сами мысли о крестьянской и солдатской доле были не чем иным, как театральными ролями, которые он разыгрывал в своем воображении.
В роли крестьянина он развивал самые что ни на есть возвышенные понятия, полнее всего раскрывая этим свою личность: крестьяне внимательно прислушивались к нему, нравы очищались, окружающие его люди приобщались к учению.
В роли солдата он привлекал к себе сердца чарующими речами, неотесанные солдаты начинали вникать в его учение, в них развивалось утонченное человеколюбие, каждая караулка превращалась в лекционную залу.
Итак, хотя он думал, что решился на нечто прямо противоположное театру, в действительности он опять полностью погрузился в театральные мечтания и надежды.
Но и само намерение сделаться крестьянином или солдатом содержало в себе несказанную сладость, так как он надеялся, что в новом своем состоянии сойдет за кого-то гораздо более заурядного, чем он был на самом деле.
С этими мыслями он добрался до Ворбиса, где ему встретились насельники тамошнего монастыря, францисканские монахи, дружески его приветствовавшие.
Из-за стен монастыря доносилось пение этих людей, отрешившихся от мира, не питающих никаких тревог, не лелеющих планов и надежд на будущее. Всем, чем они хотели сделаться, они сразу же и становились.
Это, конечно, произвело на него известное впечатление, но далеко не столь сильное, как немногим позже картезианский монастырь, стены коего надежно отделяли от мира членов общины, навсегда отказавшихся ступить в те места, откуда они сюда стеклись.
Странствующие францисканцы обедняли и выхолащивали саму идею уединенности. Их быстрая походка плохо вязалась с монашеской рясой, а общий облик не обладал никаким поэтическим достоинством.
Надо сказать также, что верхненемецкий язык, свойственный этой местности, всегда был приятен ушам Райзера, потому что яснее свидетельствовал о его отдаленности от тех земель, где говорят на нижненемецком диалекте.
Погода установилась чудесная, и следующий день Райзер закончил в деревушке под названием Оршла, намереваясь утром отправиться в имперский город Мюльхаузен.
Деревня эта была католической, и, подойдя к дверям гостиницы, он увидел толпу народа, там же стоял местный школьный учитель, обратившийся к нему со словами: esne litteratus? сиречь «не ученый ли ты?»
Райзер ответил утвердительно, также по-латыни, а на вопрос, куда он направляется, отвечал – в Эрфурт, изучать теологию, ибо ответить так казалось ему безопаснее.
Тем временем крестьяне обступили его, прислушиваясь, как учитель разговаривает по-латыни со странствующим студентом. Среди толпы был и сын учителя, который выучился в Хильдесхайме и теперь помогал в школе отцу.
Райзер прошел в комнату и, в доказательство того, что он действительно literatus, положил на стол томик Гомера, которого учитель сразу распознал и по-немецки сообщил крестьянам, мол, это Гомер.
С Райзером, однако, он продолжал, как умел, говорить по-латыни, допуская уморительные обороты. Поскольку рассказывал он все больше о том, сколь высокой ученостью отличаются его уроки, Райзер спросил, читает ли он с учениками Отцов Церкви? На что учитель, сначала впав в некоторое смущение, но быстро с ним справившись, ответствовал: alternatim (то есть время от времени).
Прощаясь с Райзером, который намеревался с утра пораньше вновь отправиться в дорогу, он посоветовал ему остерегаться имперских и прусских вербовщиков, орудовавших в этой местности, и не поддаваться на угрозы увести его силой.
Райзер устроился на соломенном тюфяке и спокойно уснул, когда же утром проснулся, то услышал, что на улице идет такой сильный дождь, что в его платье, башмаках и шелковых чулках нечего было и думать выйти на улицу, не говоря уж о том, чтобы продолжить путь: помимо прочего, почва в этих краях глинистая и передвигаться по ней было теперь весьма трудно.
Для Райзера этот дождь стал большой неожиданностью, он слишком понадеялся на ясную погоду, привычную в это время года, и никак не мог предвидеть подобной неприятности: ни сапог, ни плаща, ни запасного платья у него не было.
Оставалось только ждать, пока небо прояснится и земля просохнет. Однако дождь не прекратился и на следующий день.
Зато с самого утра в трактирной комнате к нему с кружкой пива подсел унтер-офицер императорской армии, проводивший вербовку в этой округе, и завел издалека речь о солдатском житье-бытье. Постепенно он делался все настойчивей и наконец прямо объявил, что в Мюльхаузене Райзеру все равно не избежать встречи с имперскими либо прусскими вербовщиками, так уж лучше ему добровольно записаться в солдаты, а положенные семь гульденов он получит на руки сразу. Итак, по всей видимости, мечта Райзера о солдатской службе была куда ближе к осуществлению, чем он сам предполагал.
Когда унтер-офицер вышел, на пороге опять появился школьный учитель. Он пожелал Райзеру доброго утра и доверительным тоном дал ему совет поостеречься вербовщика, хотя сам он не думает, что солдатская жизнь так уж плоха. Но его сын два года прослужил в Майнце, а у кого нет паспорта, тому в этих краях от вербовщиков не отвертеться.
Райзер заверил его, что имеет при себе все бумаги, удостоверяющие его личность. Это и латинская афиша о школьном действе в Ганновере, где он держал поздравительную речь в честь английской королевы, на каковой афише – в форме Райзерус, а не Райзер – было напечатано его имя. Это и типографски изданный Пролог к «Дезертиру по сыновней любви», где он был указан как автор, и стихи на вступление в должность нового учителя, под которыми в числе других старшеклассников стояло и его имя.
Он не хотел показывать эти документы без крайней необходимости, пока ему не дали ясно понять, что принимают его за бродягу.
Теперь же он предъявил эти печатные свидетельства и, по мере того как он их выкладывал, они оказывали все более сильное действие, на что он сперва даже не рассчитывал.
Для начала он извлек большую латинскую афишу и указал на ней свое имя: Райзерус. Это позволило учителю снова проявить познания в латинском языке – перевести ее на немецкий, – и заметно подняло Райзера в его глазах.
Затем Райзер достал Пролог и показал присутствующим свое имя, напечатанное немецкими буквами. Это еще больше всех убедило, а учитель по такому случаю рассказал, что когда-то тоже играл на сцене в Иезуитской школе и его имя было тогда напечатано на афише.
Напоследок Райзер выложил стихотворение, под коим его имя стояло рядом с именами его соучеников, и тем окончательно развеял все сомнения, будто он не тот, чье имя на разные лады напечатано на всех этих бумагах. Даже вербовщик сидел молча и, казалось, проникся к нему уважением.
После этого его оставили в покое. Он спросил перо и бумагу и принялся переводить немецкими гекзаметрами один из гимнов Гомера. Вечером снова явился школьный учитель и между ними завязалась беседа. Так прошел день, на исходе которого Райзер спокойно заснул.
Когда же утром он проснулся, небо было по-прежнему хмуро, дождь стучал в окно, и настроение Райзера начало портиться. Он поднялся со своего соломенного ложа и с мрачным видом уселся за стол. Продолжать работу над гомеровскими гимнами ему не хотелось, он подошел к окну и стал вглядываться в небо, не покажется ли на нем хоть небольшой просвет. В это время с утренним визитом явился вчерашний солдат.
Пока Райзер одевался и заплетал косицу, вояка снова принялся за свое: рассыпался в комплиментах его сложению и длине его волос и выразил сожаление, что Райзер чурается воинской службы.
К разговору присоединился и школьный учитель. Оказывается, они еще с вечера обратили внимание, что предъявленные документы не имели на себе печати и поэтому едва ли Райзеру удастся миновать здешних вербовщиков, так что лучше уж ему сразу сдаться первому, кто к нему приступил.
Так прошел еще день, ставший для Райзера, прочно здесь застрявшего, одним из несчастнейших в жизни. Вечером, однако, небо прояснилось, и к Райзеру снова вернулось мужество.
Он призвал на помощь все свое красноречие, дабы самым убедительным образом доказать им, что он действительно имеет твердое намерение учиться в Эрфурте, от чего ничто на свете не может его отвратить, и наконец, по всему судя, они вняли его словам.
Школьный учитель сказал ему на латыни: если он наутро соберется в Мюльхаузен, то встретит на дороге хозяина гостиницы, который уезжал, чтобы привезти сюда свое семейство (suos).
Однако солдат, к ужасу Райзера, вызвался проводить его и вывести через лес на дорогу.
Назавтра с утра пораньше солдат был уже тут как тут, в полной готовности выйти вместе с Райзером. Он хотел было заплатить за Райзера по счету, но тот наотрез отказался.
Они вышли из деревни Оршла и стали подниматься на возвышенность по направлению к Хенихену. Солдат не говорил ни слова. Когда они проходили рощей, Райзер с минуты на минуту ждал решения своей судьбы, отвратить которое он был не в силах.
Вдруг солдат остановился и с жаром заговорил: Райзеру следует еще раз подумать, не намерен ли он обратиться к другому вербовщику, ибо единственное, что его, солдата, воистину заденет за живое, так это если он узнает, что Райзер все-таки пошел служить и тем вроде как его предал. Если же Райзер и впрямь твердо решил учиться, то остается только пожелать ему удачи и счастливого пути.
С этими словами он повернулся и зашагал прочь, а Райзер все не мог прийти в себя, пока не миновал изрядный кусок дороги, где ему не встретилось ничего приметного, если не считать горбуна, гнавшего перед собой двух свиней и заговорившего с ним по-латыни, так как он принял Райзера за студента.
Это и был хозяин гостиницы в Оршле, о котором школьный учитель сказал, будто он пошел за своими (suos), тогда как на самом деле хозяин ходил за свиньями (sues), коих школьный учитель просклонял по второму склонению и тем возвысил до своих.
Как только Райзер вышел на простор и убедился, что за ним никто не следит, его неожиданно охватила радость, однако опасность, только что избегнутая, заставила его серьезнее задуматься о своем будущем.
Он убедился, что люди с большим уважением относятся к его намерению учиться в университете, да и в нем самом эта мысль не вызывала неприязни, однако так продолжалось лишь до тех пор, пока в его воображении вновь не возникали кулисы и театральные огни, и тогда все другие мысли о будущем сразу улетучивались.
До самого полудня он продвигался по дороге с большим трудом, так как земля еще не просохла, и тут с ужасом заметил, что его башмаки потихоньку начинают разваливаться, а ведь в тогдашнем его положении они были, можно сказать, невосполнимой частью его персоны.
Райзер чувствовал, что каждый его шаг грозит неминуемой потерей; к полудню небо снова затянулось тучами, предвещавшими ливень, который действительно скоро грянул, во второй раз прервав его путешествие.
К счастью, вскоре Райзер добрался до охотничьего домика, стоявшего посреди поляны, окруженной лесом. Он без опаски переступил порог и был встречен обходительно и радушно.
Казалось, будто к его приходу здесь готовились, столь дружески его приняли в этом уединенном жилище.
Казалось, эти люди и представить себе не могли, как можно не дать приют страннику в такую непогоду. Дождь лил весь день не переставая, и они сами настояли, чтобы он остался у них ночевать.
Когда его пригласили к столу, Райзер попробовал отказаться, объяснив, что стеснен в деньгах и потому не может оплатить их гостеприимство: ему предстоит долгий путь, вот и приходится во всем себя умерять. В ответ хозяин, нахмурившись, чуть не силой подвел его к столу.
Впечатление, испытанное Райзером от гостеприимства этих совсем незнакомых людей, было ни с чем не сравнимо.
Он чувствовал здесь себя как дома, в первый раз за все путешествие ему постелили настоящую постель.
На другое утро его разбудили к завтраку и опять оставили у себя на целый день, так как дождь никак не унимался.
Хозяин ушел в лес, а Райзеру, чтобы не скучал, разрешил пользоваться своей библиотекой.
Библиотека его содержала большое собрание старинных календарей, «Разговоры в царстве мертвых», историю некоего гёттингенского студента, а также эрфуртский еженедельник, называемый «Горожанин и крестьянин», в нем крестьянин изъяснялся на тюрингенском наречии, а горожанин отвечал ему на верхненемецком.
Райзер чудесно провел время за чтением, а время от времени предавался и своим мыслям: добрые его хозяева оказались людьми немногословными и совсем нелюбопытными, они даже не спросили, куда он держит путь и откуда пришел, так что он мог беспрепятственно углубиться в раздумья.
Гостеприимная комнатка, маленькое окно с видом на поле и далекий лес, немолчный шум ливня за стеной – этот образ надолго остался одним из его приятнейших воспоминаний.
На третий день небо прояснилось, Райзер стал прощаться со своими благодетелями, и, дабы он не утруждал себя выражением признательности, те взяли с него сущие гроши за трехдневный постой, даже не спросив его имени.
Память об этих людях скрасила Райзеру долгие часы ходьбы, вернула ему мужество и доверие к человечеству, в котором он теперь затерялся, как капля в океане.
Идти по дороге, размытой вчерашним дождем, поначалу было нелегко, но жаркое солнце вскоре ее подсушило, и уже к полудню Райзеру предстал новый незнакомый вид: башни имперского Мюльхаузена.
Здесь, как его предупредили, поджидала главная опасность – вербовщики. Поэтому он со всем возможным тщанием привел свое платье в опрятный вид, и, как прежде в Хильдесхайме, роль праздного гуляки удалась ему на славу, так что он благополучно миновал городские ворота, избежав расспросов стражи.
Осведомившись, где находятся ворота, выводящие на дорогу к Эрфурту, он поспешил пересечь город и всякий раз, издалека завидев что-то похожее на солдатский мундир, удваивал шаги.
С каким же облегчением отряхнул он прах этого города со своих ног и оставил позади последнюю заставу, убедившись, что прусские вербовщики за ним не тянутся!
Зеленые верхи башен – вот и все, что осталось в его памяти от этого нагромождения домов, остальное начисто стерлось, настолько быстро перелетало его воображение с одного предмета на другой.
Он все ближе подходил к цели своего путешествия и со спокойным удовлетворением окидывал взглядом пройденный путь. Теперь, когда почти все трудности остались позади, он особенно остро ощущал сладость победы, одержанной благодаря собственной бережливости и твердости характера. Но и другое чувство, род робости, овладевало им по мере того, как сокращалось расстояние между ним и неизвестностью.
Ибо всему тому, что оставалось незыблемым в его воображении, предстояло теперь встретиться с действительностью и одолеть препятствия, уже рисовавшиеся впереди. Теперь Райзер почувствовал, что пестовать блестящие и приятные замыслы было куда легче, нежели, добравшись до места назначения, претворить их в жизнь.
По этой причине Райзер, будь это в его силах, охотно отодвинул бы вдаль конечный пункт своего путешествия. Однако жалкий вид башмаков, потеря которых в его нынешнем положении стала бы невозместимой, враз пресек все его размышления о будущем и заставил глубоко задуматься о настоящем.
Достойно удивления, что ничтожные вещи из нашего окружения могут столь глубоко вторгаться в сверкающие дворцы фантазии и повергать их в прах и что именно на таких ничтожных вещах зиждется судьба человека.
Счастье, которое Райзер мечтал снискать в большом мире, зависело теперь единственно от его башмаков, ибо – при том что он не мог продать ничего из своей одежды, если хотел произвести благоприятное впечатление, – разбитые башмаки, не имевшие себе замены, делали весь остальной его наряд жалким и неприглядным.
Таким тяжелым и мрачным мыслям он предавался по дороге к Лангензальцу, пока с ним не поравнялись и не завели беседу два путника, крестьянин и подмастерье.
Подмастерье рассказал, что направляется в Саксонское курфюршество, а крестьянин имел при себе жалобу, которую намеревался вручить в Дрездене курфюрсту.
Солнце перевалило за полдень, стало душно и жарко. Подмастерью сапоги начали натирать ноги, Райзер смотрел, как с каждым шагом стираются его собственные башмаки, крестьянин жаловался на мучительную жажду – и тут они увидели на краю поля компанию мастеровых, и те предложили трем измученным путникам напиться воды из ведра, стоявшего рядом.
Когда совершенно незнакомые, прежде ни разу не встречавшиеся люди вдруг близко сходятся, подают друг другу утешение, помощь и нужный совет, словно никогда и не жили розно, – такие минуты искупали для Райзера все невзгоды пути и наполняли душу приятными воспоминаниями.
Попутчики расстались с Райзером вблизи города Лангензальца, где он не остановился, рассчитывая добраться до следующего населенного пункта и там переночевать.
Поздно вечером он пришел в гостиницу, где и провел последнюю ночь перед переходом в Эрфурт. Наутро первая его мысль была о башмаках, и как же он обрадовался, когда рядом нашелся сапожник, который за гроши, не заставив долго ждать, основательно их подлатал и тем избавил его от великого затруднения.
После этого Райзер не задерживаясь поспешил в Эрфурт. В теперешнем виде ему не стыдно было показаться людям, и он вновь обрел мужество и веру в себя.
В деревне близ Эрфурта он заказал себе кружку пива. В трактире царило оживление, говорившее о близости города, жители коего сидели здесь во множестве, и среди них – некий ученый, рассуждавший в кружке слушателей о своих трудах.
В этой деревне глазам Райзера наконец предстал Эрфурт с его старинным собором, множеством башен, высокими валами и цитаделью Петерсберг. Родной город его друга Филиппа Райзера, о котором тот ему так много рассказывал. Дорога к городу была обсажена вишневыми деревцами. Дневной жар понемногу улегся, у ворот прогуливались люди, и когда Райзер, проходя этой дорогой, вспомнил о Ганновере, ему представилось, что оттуда его отделяет лишь легкая прогулка, настолько малым виделся ему теперь оставленный позади путь.
Такого большого города, как этот, он еще никогда не видел. Все здесь было ему ново и непривычно. Он прошел широкой и красивой улицей, носившей название Ангер, и не смог удержаться, чтобы немного не побродить по городу, прежде чем снова пуститься в дорогу: он хотел еще успеть дойти до ближайшей деревни, лежавшей на дороге в Веймар.
Поблуждав по Эрфуртским улицам, он вышел на окраину города и, пока окончательно не стемнело, решил зайти в ближайшую гостиницу.
Хозяин, грузный мужчина, сидел у окна, и когда Райзер спросил у него, по-прежнему ли театральная труппа Экхофа находится в Веймаре, «Ничуть не бывало, – был ответ. – Они в Готе». Райзер продолжил расспросы: «А что Виланд? Он еще в Эрфурте?» – «Ничуть не бывало, – ответил тот снова, – он в Веймаре». И на все вопросы он с каким-то недовольным видом отвечал одно и то же: «Ничуть не бывало!» – как будто сказать просто «нет!» было ниже его достоинства.
И это черствое «ничуть не бывало!» из уст толстяка-хозяина вмиг расстроило все планы Райзера. Все его мысли были устремлены в Веймар, там он ожидал разных необычайных событий, там надеялся увидеть боготворимого им создателя «Вертера», и вот теперь вместо Веймара ему твердят о Готе.
Райзер, однако, не сдался, он бодро встал и вышел на дорогу, ведущую в Готу, чтобы, не отступая от намеченного плана, переночевать в ближайшей деревне.
Прежде чем солнце село, Эрфурт остался у него за спиной, и еще до наступления темноты он уже входил в деревню, первую на пути в Готу. Собор и древние башни Эрфурта надолго оставили в его душе след, словно бы призывающий его когда-нибудь сюда вернуться.
В деревне, где он остановился на ночлег, ему под конец дня выпало весьма неспокойное соседство на соломенном ложе. Это была компания возчиков, которые то и дело вставали и переговаривались между собой на весьма грубом диалекте. Одно из слов особенно больно ранило слух Райзера, вызвав донельзя неприятные чувства: вместо «он приходит» крестьяне говорили «он прихаживает», и это «прихаживает» казалось Райзеру выражением самого их существа, словно бы в этом слове, произносившемся с каким-то надутым видом, выражалась вся их неотесанность.
Стоило Райзеру немного задремать, как ненавистное слово его будило, и все это сделало ту ночь ужаснейшей из всех проведенных им на соломенных подстилках. На рассвете он увидел опухшие ноздреватые физиономии своих ночных сотоварищей, столь хорошо сочетавшиеся со словцом «прихаживают», еще долго царапавшим его слух, когда он ранним утром оставил гостиницу и твердо шагал по дороге к Готе.
Поскольку за ночь он не выспался, дорожные мысли его были не веселы, к тому же с каждым шагом надежды на будущее таяли и воображение выдыхалось.
Было воскресенье, и встретившийся ему по дороге сапожник, уже неделю обходивший округу, чтобы собрать у заказчиков накопившиеся долги, сказал между прочим, что жизнь в Готе очень дорога.
Это известие весьма обеспокоило Райзера, чье достояние заключалось теперь в одном гульдене, а судьбе очень скоро предстояло решиться в этом городе.
Разговор с сапожником, сетовавшим на тяготы жизни в Готе, нимало его не радовал и наводил на мрачные мысли. Он раздумывал, как будет жить в городе, где у него совсем нет знакомых и сомнительно, чтобы кто-то захотел принять участие в его судьбе или прислушаться к его желаниям.
Эти печальные размышления сделали дорогу еще труднее, ноги его отяжелели, и так продолжалось, пока впереди не показались две маленькие башни Готы, о которых сапожник сообщил, что одна из них церковная, а вторая установлена на здании театра.
Приятный контраст и живое зрительное впечатление понемногу опять взбодрили Райзера, и он удвоил шаг, так что спутник едва за ним поспевал.
Ему представилось, что одна из башенок олицетворяет собою место, где гремят овации и где бывает утолена юношеская тоска по славе.
Эта башенка твердо отстаивала свое право стоять рядом со святым храмом и сама была храмом искусства и муз, где раскрывается талант и все чувства, таящиеся в сокровенных уголках сердца, изливаются навстречу чутко внемлющей публике.
Наконец, это было место, где проливали высокие слезы сострадания к падшим князьям и рукоплескали гению, умевшему вымыслом увлекать души и растоплять сердца.
Сострадание к мертвым и прославление живых чудесно примиряли все противоречия в этом мире, и Райзер так и плавал в этой стихии, дающей заново испытать чувства, какими жили эпохи прошлого, и на малом пространстве воссоздать сцены из жизни.
Говоря иначе, то была человеческая жизнь со всеми ее превратностями и сплетениями судеб, ни больше ни меньше: она возникла перед внутренним взором Райзера при виде башенки городского театра, и в ней без остатка растворились и жалобы сапожника, шедшего рядом с ним, и его собственные тревоги.
Имея в кармане всего один гульден, Райзер чувствовал себя по-царски счастливым, пока в его уме теснилось целое богатство образов, навеянных верхушкой той башенки в Готе заодно с химерами прекрасного будущего.
Когда до города оставалось совсем немного, Райзер отстал от своего спутника и удобно устроился под деревом, чтобы хоть как-то привести в порядок свое платье и войти в Готу с достойном видом.
Он настолько в этом преуспел, что иные из ремесленников, гулявших у городских ворот, приняв его за благородного человека, стаскивали перед ним шляпы, что немало удивило Райзера, еще недавно спавшего на соломе с возчиками и уж никак не игравшего в благородство.
Пройдя в город старыми воротами, он поднялся по довольно темной улице и вскоре увидел по правую руку гостиницу «У золотого креста». Здесь он и решил остановиться, так как счел, что она совсем не претендует на особое благородство.
Едва войдя внутрь, он обнаружил у входа целую толпу подмастерьев, что-то громко горланивших. Он повернулся было к выходу, но тут явился старик хозяин и, любезно к нему обратившись, спросил, не желает ли он снять комнату. Райзер усомнился, не предназначено ли это место для странствующих подмастерьев? «Не обращайте внимания, – отвечал хозяин. – Вы останетесь довольны». С этими словами он слегка подтолкнул Райзера и провел его в свою добротно обставленную комнату, где уже находились некий пожилой капитан, придворный камердинер и еще несколько хорошо одетых господ. Хозяин представил Райзера обществу, принявшему гостя с чрезвычайной деликатностью: ему не задали ни одного нескромного, любопытного вопроса и окружили самым лестным вниманием.
В комнате стоял рояль, на котором играл молодой человек по имени Либетраут. Некоторое время назад случай привел Либетраута остановиться в этой гостинице, он познакомился с ее хозяевами, пожилой парой, уже нуждавшейся в покое, и вскоре поддался их настояниям взять эту гостиницу в аренду; теперь он и был подлинным ее хозяином, хотя старики по-прежнему давали ему наставления и разделяли с ним заботы о хозяйстве.
Вскоре сей юноша завел с Райзером беседу о поэзии и изящных искусствах, выказав тонкий вкус и хорошее образование, и, что было совсем странно, как будто бы намекнул – и намекнул недвусмысленно, – что Райзер, видно, пришел в эти края, чтобы посвятить себя театру.
Райзер не стал до поры распространяться на эту тему, и ему отвели комнату, где он мог побыть наедине. Здесь он собрался с мыслями и обдумал завтрашний день, намереваясь разыскать труппу Экхофа и подать прошение о приеме.
Пока он, стоя у окна своей комнаты, предавался своим мыслям, у дома остановился хор школьников и исполнил мотет, из тех, что когда-то, в свои школьные годы, пел под дождем и ветром сам Райзер.
Это напомнило ему о безотрадных временах, когда уныние, самоуничижение и угнетение со стороны окружающих лишали его последних проблесков радости, когда все его желания были обречены на неудачу и, кроме слабого луча надежды, у него не оставалось ничего.
Неужели, думал он, эту непроглядную тьму не рассеет наконец утренняя заря? И обманчиво-обольстительная надежда нашептывала ему, что в награду за долгие годы самомучительства отныне он будет в радость самому себе и счастливый поворот судьбы теперь уже не за горами.
Но высшим счастьем для него стала сцена, единственное место, где непременно утолится его ненасытное желание одно за одним прожить все положения человеческой жизни.
Причина же заключалась в том, что от самого детства существование его отличалось крайней узостью, – тем сильнее приковывали его судьбы других людей, и не удивительно, что со школьных лет в нем развилась страсть к чтению пьес и посещению театра. Созерцая чужие судьбы, он отрешался от самого себя и находил в других огонь жизни, который в нем самом был почти что погашен притеснением окружающих.
И потому воодушевляло его не истинное призвание, не чистая тяга к сценическому исполнению: для него важнее было разыграть жизненную сцену внутри себя, а не представить ее посторонним: он хотел иметь то, чем искусство требует жертвовать.
В действительности он желал исполнять разные сцены из человеческой жизни в угоду самому себе, так как больше любил в них себя, а не имел последней целью верную их передачу. Он обманывался, принимая за чистый порыв к искусству это желание, возникшее из случайных обстоятельств его жизни. И скольких же страданий стоил ему сей самообман, скольких радостей его лишил!
Получи он в то время верный знак и осознай уже тогда, что рожден для искусства лишь тот, кто ради него забывает о себе, – сколь многих бесплодных усилий и напрасных забот он мог бы избегнуть!
Однако его судьбой с детства были страдания от собственного воображения, разительно диссонирующего с действительной жизнью и мстящего жестокими муками за всякую прекрасную мечту.
Окончив долгое странствие, Райзер провел свою первую ночь в Готе, забывшись сладким сном, и под утро ему почудилось, будто он слышит заключительные слова арии околдованной старухи из оперы «Лизуарт и Дариолетта»:
Вот утро на пороге, Что все мои тревоги Развеет наконец.Под этот напев, неотступно звучавший в его ушах, он оделся и, обратясь к молодому хозяину, осведомился, где проживает Экхоф, которому собирался нанести визит в тот же день.
Для этой цели он приготовил печатный Пролог, сочиненный им в Ганновере и исполненный Иффландом, в надежде, что это откроет ему нужную дверь.
Молодой Либетраут чуть не силой принудил его позавтракать вместе, всячески выказывая удовольствие от общения с ним, а между тем начал доверительный рассказ о своих сердечных делах: он, мол, арендовал гостиницу, дабы как можно скорее жениться на некой молодой девице, в которую влюблен.
По дороге к дому Экхофа, уже приближаясь к цели своего странствия, Райзер снова начал перебирать в голове всевозможные варианты предстоящей встречи, которые начал обдумывать, еще отправляясь в путь; мелодия и стихи из «Лизуарта и Дариолеты» по-прежнему звучали в его ушах, и на этот раз надежды его не обманули: Экхоф, сверх всякого ожидания, принял его любезно и беседа их длилась неполный час.
Юношеский пыл, с которым Райзер предавался мечтам о сценическом искусстве, по всему судя, не вызвал осуждения у старика, пустившегося с ним в рассуждения об искусстве и отнюдь не разубеждавшего его целиком посвятить себя театру. При этом он заметил, что именно людей, чувствующих внутреннее тяготение к сцене, а не побуждаемых к ней силой внешних обстоятельств, на свете мало.
Могло ли что-нибудь ободрить Райзера сильнее, чем это замечание! В душе он уже причислил себя к ученикам этого достойнейшего мужа.
Он вынул из кармана и подал Экхофу листы с Прологом, и тот выразил полное одобрение этому сочинению и даже попросил его для себя, сказав, что актерский талант и талант поэтический сродни друг другу и что один из них нередко влечет за собой развитие другого.
В эту минуту Райзер чувствовал себя на верху блаженства, какое только способен испытать молодой человек, прошагавший сорок миль с одними сухими корками в кармане, чтобы лицезреть Экхофа, говорить с ним и сделаться актером под его водительством.
Что же касается ангажемента, сказал Экхоф, за этим ему следует обратиться к библиотекарю Райхарду, да и сам Экхоф обещал поговорить с ним о Райзере.
Не теряя ни минуты, Райзер последовал совету и от Экхофа, жившего в доме булочника, сразу отправился в дом библиотекаря Райхарда, который также принял его любезно, хотя и не уделил ему такого внимания, как Экхоф. Он, однако, подал Райзеру надежду на получение дебютной роли, бывшую для того венцом всех желаний, ибо он не сомневался, что, получив ее, наверняка достигнет своей заветной цели.
С улыбкой на лице он вернулся в гостиницу, уверившись, что начало карьере положено прекрасное и при столь благоприятных обстоятельствах желание его теперь не может не сбыться.
И хотя он не стал рассказывать хозяину обо всем случившемся, тот, видимо, уже не сомневался, что теперь он останется в Готе и здесь начнет свой театральный путь.
Исполненный веры в себя и свою судьбу, Райзер прекрасно провел день в обществе старого капитана, придворного камердинера и хозяина гостиницы и, в плену сверкающих надежд, в радостном опьянении впервые превысил возможности своего кошелька, полагая, что тем самым еще прочнее связывает себя с этим местом и еще неотступнее будет следовать своим намерениям.
Теперь он чуть не каждый день бывал у Экхофа, который посоветовал ему для начала внимательно присмотреться к репетициям труппы, и Райзер, прилежно их посещая, увидел старика Экхофа в своей стихии: тот входил во все мелочи и даже первым актерам делал полезные замечания. Райзеру позволили также бесплатно посетить спектакль, в котором некий Биндрим дебютировал в роли Отца в Вольтеровой «Заире».
Поскольку же особого успеха у публики его исполнение не имело и Райзер чувствовал, что многим местам следовало бы придать совершенно иное выражение, в нем еще сильнее разгорелось желание как можно скорее выйти на сцену, и он все настойчивее подступал к Экхофу с просьбой дать ему роль в какой-нибудь из репетируемых пьес.
В это время готовились к постановке «Модные поэты», и Райзер попросил себе роль Мутного, однако Экхоф отсоветовал ему за нее браться, так как сам ее исполняет и для начинающего актера она неподходяща, поскольку публика привыкла видеть в этой роли пожилого опытного актера.
Таким образом дебют Райзера все откладывался, меж тем как его упования и сама судьба целиком зависели от этого решения.
В общении с Экхофом Райзер черпал утешение и новые надежды, всякий раз как уже готов был пасть духом, – старик всегда охотно с ним беседовал и снова вливал в него мужество и уверенность в себе.
Однако подчас его слова больно ранили. Так, однажды при обсуждении вероятных ролей Райзер упомянул молодого человека, сыгравшего в «Модных поэтах» роль Рифмовского, на что Экхоф отвечал, что роль эта предназначена для совсем молодого исполнителя, давая понять, что по этой причине Райзер претендовать на нее уже не может. Райзеру тогда едва исполнилось девятнадцать, однако всем он казался старше своих лет. Выходило, что, лишенный радостей юного возраста, он утратил и облик юности.
В другой раз, когда речь зашла о Гёте, Экхоф сказал, что своей комплекцией он схож с Райзером, но лицом приятен, и одно это но убило бы в Райзере актера, не задай Экхоф сразу вслед за этим, по случайному ходу беседы, ободряющего вопроса: нет ли у Райзера, помимо Пролога, еще каких-нибудь поэтических сочинений? Райзер ответил утвердительно и, придя домой, записал по памяти свои стихи, чтобы передать их Экхофу.
Эта работа потребовала несколько дней, и хозяин гостиницы решил, что Райзер сочиняет что-то для сцены. Никаких разуверений он слушать не стал и пожелал Райзеру великих успехов на блестящем поприще, куда тот вступает.
Прочитав стихи Райзера, Экхоф весьма их одобрил и попросил разрешения показать их библиотекарю Райхарду. Это несказанно обрадовало Райзера, так как он всегда помнил давнишнее суждение Экхофа, что актер и поэт сродни друг другу.
Теперь он не сомневался, что эти стихи еще вернее проложат ему путь к театру и приблизят к желанной цели. Вдобавок актер Гроссман, живший тогда в Готе и повстречавшийся Райзеру на улице, еще больше его ободрил, сказав, что его, конечно, так долго не допускают к делу лишь потому, что намереваются дать ему ангажемент без предварительного испытания в дебютной роли. Ведь пошла уже третья неделя жизни Райзера в этом городе.
Эти утешительные слова и дружеская беседа Гроссмана пролились бальзамом на душу Райзера, который до этого одиноко, погруженный в мрачные мысли о своей неопределенной судьбе, бродил туда-сюда около замка, где велись строительные работы.
Домой он воротился с возрожденными надеждами и приятнейшим образом провел день в обществе хозяина.
Назавтра он пошел смотреть репетицию оперетты «Дезертир», в которой приглашенный актер, некий Нойхауз, играл Дезертира, а его жена – Лиллу.
Экхоф работал особенно усердно, Райзер же стоял за кулисами и с наслаждением наблюдал, как усилием и заботой каждого участника постепенно слагалось прекрасное произведение, коим в тот же вечер предстояло насладиться зрителям.
Он живо чувствовал, как близок теперь к этому восхитительному занятию и как очень скоро на этой самой сцене собственной игрою решит свою судьбу и самое его существование примет иной оборот.
Ибо теперь, после долгих скитаний, на этом тесном пространстве сцены сосредоточились все его желания; здесь он видел и обретал себя, здесь само будущее открывало ему бесценные сокровища золотых фантазий и разворачивало перед ним все новые и новые прекрасные дали.
Так, погруженный в думы, он часто стоял среди кулис, так стоял и в этот раз, когда заметил приближающегося к нему библиотекаря Райхарда, от которого со дня на день ждал решительного ответа.
Выражение лица библиотекаря не предвещало ничего хорошего, и, обратившись к Райзеру, он сухим тоном объявил, что, к сожалению, театрального ангажемента, равно как и дебютной роли, ему не предоставят; с этими словами он протянул Райзеру листки с переписанными стихами и, словно в утешенье, добавил, что они написаны легким слогом и ему не следует пренебрегать своим поэтическим талантом.
У Райзера отнялись руки и ноги, в ответ он не смог вымолвить ни слова, лишь отошел к заднику сцены и с отчаянием уперся лбом в холодную стену. Теперь он был по-настоящему несчастен… несчастен вдвойне.
Горести воображаемые и действительные слились в ужасном единстве, наполняя душу страхом и ужасом перед будущим.
Он не видел никакого выхода из лабиринта, куда завело его собственное безрассудство, – перед ним была холодная голая стена, лживый спектакль подошел к концу.
Он выбежал за ворота и в отчаянии стал метаться взад-вперед по аллее, где так часто предавался приятнейшим размышлениям. Мимо него с равнодушным видом шли люди, и никому не приходило в голову, что в эту минуту он расстался с единственной надеждой своей жизни и был теперь одинок как никто в мире.
Но вот что странно: в этом состоянии полнейшего одиночества в нем проснулась прежде неведомая потребность любви, ибо его отчаяние незаметно обернулось состраданием к самому себе, и теперь ему не хватало рядом существа, которое разделило бы с ним это сострадание.
Сразу вернуться в гостиницу он не решился и, оставив себя без обеда, зашел туда лишь ближе к вечеру, чтобы затем отправиться в театр, посмотреть «Дезертира», оперетту, ознаменовавшую гибель всех его надежд.
И что же? Никогда в жизни он так сильно не сопереживал судьбам других людей, как в тот вечер судьбе любовников, разлучившихся под угрозой смерти. Он вспомнил Гомера: девы, оплакивавшие гибель Патрокла, рыдали и о собственной судьбе.
Сама музыка трогала его до слез, а каждая реплика потрясала душу. Но особенно близко к сердцу принял он сцену, в которой Дезертир, уже узнавший о своем смертном приговоре, все хочет написать письмо своей возлюбленной, а подвыпивший сосед по камере пристает к нему с вопросом, как правильно пишется какое-то слово?
Здесь Райзер всей душой почувствовал, как мало людям дела друг до друга, до судеб других людей. Тут он вспомнил своего товарища и его шляпу с кокардой. Зачем было ему с таким усердием чистить кокарду, как не затем, чтобы понравиться своей девушке, той единственной, которая была тогда его богиней, он же хотел вновь обрести себя в ее любви.
Пьеса закончилась счастливо, несчастные были утешены, слезы сменились смехом, горе – весельем, но Райзер возвращался на свою квартиру подавленный и с тяжестью в сердце, впереди была только тьма и ни единого луча надежды.
Воротившись домой, он сразу повалился на кровать; чувства его омертвели, мысль не находила выхода, ему оставалось только заснуть. Пробуждения он не желал: впереди тупик, надеяться не на что и просыпаться незачем.
Мысль о саморастворении, о полном забытьи, о бесследном исчезновении всех воспоминаний и всякого сознания казалась ему столь сладостна, что в эту ночь он вполне насладился благодатной силой сна; расслабленных душевных сил не тревожило даже малейшее желание, призрачная надежда ни разу не явилась ему во сне, все осталось в прошлом и завершилось вечной могильной тьмой.
Вот так благодетельно природа подает отчаявшемуся чашу забвения всех страданий, испив из коей, он стирает в своей душе самую память о том, чего прежде желал и к чему стремился.
Когда на исходе следующего утра Райзер очнулся от глубокого сна, он почувствовал тело и душу чудесно окрепшими, ощутил в себе силу преодолеть все препятствия, вставшие на его пути к желанной цели.
Ему пришла мысль попробовать найти здесь частные уроки, жить собственным трудом и наняться в театр безвозмездно. Снова поймав слабый луч надежды, он опять поверил в свои силы и еще более утвердился в своем намерении.
С такими мыслями он оделся и сразу отправился к Экхофу, испросил у того совета и рассказал о своем решении жить собственным трудом, не раскрыв, однако, способа предполагаемого заработка.
Экхоф похвалил его за стойкость и выразил уверенность, что его просьба будет удовлетворена. Библиотекарь Райхард, которому Райзер тоже открыл свои планы, пообещал на другой день дать определенный ответ.
Райзер вернулся домой полный новых надежд, задуманное начинание представилось ему еще более достойным, поскольку сочетало в себе искусство с прилежным и полезным трудом, необходимым для пропитания, свободные же часы он намеревался полностью посвятить искусству.
В тот день он снова пообедал в обществе хозяина, за доверительной беседой, чувствуя в себе непреклонную решимость перенести ради искусства все жизненные невзгоды – ограничить себя лишь самым необходимым, сутками не спать, лишь бы практиковаться в искусстве и добросовестно преподавать.
Исполнившись благодаря этим решениям поистине героического мужества, на следующее утро он вновь явился к Райхарду – и выслушал окончательный приговор: его прошение о принятии в театр на безвозмездных условиях не может быть исполнено и никаких новых ангажементов в настоящее время в театре не предусматривается. Если бы Райзер пришел на несколько недель раньше, можно было бы подобрать ему место, но теперь поздно.
От столь неожиданного второго отказа внутри у Райзера все закипело, в эту минуту он возненавидел и запрезирал самого себя, потом спросил: так нет ли должности суфлера, переписчика ролей или чистильщика светильников? Весьма огорчительно, отвечал Райхард, что столь горячее стремление к театру не находит разрешения, остается лишь надеяться, что в другом месте ему повезет больше.
Райзер вышел от Райхарда в глубокой задумчивости и остановился близ стройки у замка, где одни люди подвозили на тачках строительные камни, другие их укладывали. Так он стоял целый час, смотрел на их работу – и вдруг почувствовал странное желание сбросить с себя чистое платье и вместе с остальными поденщиками подвозить в тачке камни для строительства.
Время шло к полудню, жара усилилась. Рабочие дали себе отдых и, расположившись прямо на земле, стали обедать. Райзер вступил в беседу с одним из этих людей и спросил, какова дневная плата за их труд. Оказалось, она на несколько пфеннигов превышает все его нынешнее достояние, и такие деньги он мог бы зарабатывать каждый день.
Райзер был полон такой решимости взяться за эту работу, что внутренне рассмеялся, когда рабочий, говоривший с ним, снял шапку, не подозревая, что с завтрашнего дня Райзер, быть может, станет его товарищем.
Единственным, что могло умерить его отвращение и презрение к себе, был этот задуманный шаг, возвращавший ему уважение к собственной персоне. Теперь он намеревался открыть Либетрауту свое истинное положение, отдать ему свою шпагу и платье в уплату за жилье и сразу приступить к перевозке камней.
Пока все эти мысли текли в его голове, он был совершенно уверен в их неоспоримой основательности, не догадываясь, что воображение снова сыграло с ним злую шутку и он лишь разыгрывает перед собой очередную роль.
Ибо положение подручного на стройке было из самых низших, что он мог занять; добровольное унижение необычайно его возбуждало, теперь он мог бы разделить образ жизни с остальными людьми своего нового сословия, по воскресеньям прилежно посещать церковь, вести тихую благочестивую жизнь, а в часы одиночества с наслаждением предаваться чтению Шекспира или Гомера, проживая внутри себя подлинную жизнь, которой был лишен во внешнем мире.
В подобных картинах милее всего была ему мысль о том, что по воскресеньям он будет прилежно посещать церковь и очень внимательно слушать проповеди. Тем самым он как бы изничтожал себя, поскольку вознамерился извлекать полезные поучения даже из проповедей самых захудалых священников и не возвышаться умом над самыми простыми людей.
Он снова воображал себя в положении ученика шляпника, когда не только на почитаемого проповедника, но даже на хористов, встреченных на улице, взирал с благоговением. В то время он не смел и думать о театре, однако сейчас ему мнилось, что это состояние ближе, чем всякое иное, может чудом подвести к исполнению его первоначального желания.
Но прежде чем действительно наняться поденщиком на строительство близ замка, он не мог удержаться, чтобы напоследок не зайти к Экхофу, – попрощаться с ним и заодно рассказать о крушении своей последней надежды.
Рассказывая, он испытывал невольное смущение и волнение, так как все время неотступно думал о своем нынешнем положении и о многом другом, чего не мог высказать.
Добрый Экхоф отвечал ему так: не стоит падать духом, в трех милях отсюда, в Айзенахе, стоит труппа Барцанти, куда его обязательно примут. Следует приобрести у них небольшую театральную практику и затем вернуться в Готу, где к тому времени, возможно, сложатся лучшие обстоятельства и ему легче будет поступить в здешнюю труппу, имея некоторый театральный опыт. Сделать это будет совсем нетрудно, а путь из Готы в Айзенах по мощеной дороге станет ему легкой прогулкой.
После этих слов Экхофа замысел Райзера наняться подвозчиком камней исчез, как его и не бывало, ибо он снова увидел совсем вблизи цель своих давнишних стремлений. Все сомнения улетучились сами собой, так как путь из Готы в Айзенах представился ему прогулкой, избавлявшей от неловкости в отношении хозяина: работая актером в Айзенахе, будет легче отдать ему долг за постой, чем выкраивая деньги из заработка поденщика.
День был уже в разгаре, и Райзер, выйдя из дома Экхофа, как был, не теряя ни минуты, сразу направился в Айзенах. И действительно, этот путь показался ему легкой прогулкой, ибо все угасшие было надежды вновь расцвели в его душе, составив живую и бодрящую противоположность мрачным мыслям, с коими он еще утром собирался наняться в поденщики.
Он вообразил, как на другой день с приятными новостями возвращается в Готу и рассказывает их хозяину. От всего этого сердце его вновь открылось навстречу красотам природы, романтический вид межгорных долин дарил глубокое наслаждение; когда же впереди показались башни древнего Вартбурга, о котором он слышал еще в детстве, душа его обняла всю округу, наполнив ее теплом и уютом, сделав еще прекрасней, а сам он словно воспарил на крыльях воображения, и все его прежние мечты стали сбываться одна за другой.
Теперь, когда он за несколько часов добрался из Готы в Айзенах, о чем еще утром и думать не думал, ему стало казаться, что он может легко перенестись куда угодно.
Сюртук и вещи, которые он обычно носил с собой, остались дома, он шел по дороге в Айзенах в лучшем своем костюме, со шпагой на поясе, в том же виде, как бывал у Экхофа и Райхарда. По случайности у него в кармане застрял листок с его стихотворением и латинская афиша с его именем, а Гомер и узелок белья вместе с сюртуком лежали дома.
Город сразу показался ему веселым и праздничным, люди – радостными, и, с добрыми предчувствиями войдя в гостиницу, где решил переночевать, он, едва опустившись на скамью, спросил, не дают ли сегодня вечером какой-нибудь спектакль.
Ответ прозвучал словно удар грома: не далее как сегодня утром театр Барцанти отбыл в Мюльхаузен! Не иначе как злая судьба гналась за ним по пятам, вознамерившись лишить всех надежд.
К тому же и на сей раз несчастье его было не выдуманным, а самым что ни на есть настоящим: у него оставалась последняя надежда добыть себе пропитание и расплатиться с долгами в Готе – на труппу Барцанти, и надо же было случиться, что в самый день его прихода в Айзенах она перебралась в другой город.
Состояние Райзера граничило с отчаянием, из-за этого ему впервые в жизни удалось воспарить над судьбой и погрузиться в какое-то забвение самого себя, придавшее ему вид бодрый и веселый. Он почувствовал, что столь внезапный и коварный удар судьбы теперь освободил его от всех уз и сделал презренным и отверженным существом, не стоящим ни малейшего внимания.
Так как за весь день во рту у него не было ни крошки, он заказал себе пиво с ломтем хлеба, а заодно постель, где и забылся глубоким сном, нимало не озабоченный своим будущим и не тревожимый ни единой мыслью ни о будущем, ни о своей судьбе, ибо всем его упованиям пришел теперь конец.
Наутро, однако, в нем снова проснулись дремлющие силы, оживленные благодетельным сном, и вместо вчерашнего безволия он почувствовал упрямое ожесточение против своей судьбы, а заодно и мужество, чтобы все претерпеть и все преодолеть на пути к своей цели: он решил отправиться следом за труппой Барцанти и вновь пройти уже знакомую дорогу от Айзенаха до Мюльхаузена.
После уплаты по счету у него осталось всего несколько пфеннигов, и с этими деньгами в кармане он дошел до Вартбурга, любуясь по дороге прекрасными видами природы.
У Вартбургских ворот унтер-офицер охраны со всей учтивостью спросил, не желает ли он осмотреть достопримечательности, на что Райзер ответил, что днем вернется сюда с большой компанией, пока же хочет лишь освоиться на местности.
Стоя на площадке и окидывая взглядом округу, он почувствовал себя поднявшимся над судьбой, ибо, несмотря на все превратности, все-таки дошел досюда и в этот чудесный миг никто не мог запретить ему любоваться пленительным видом природы. Теперь он словно бы собирал силы для предстоявшего трудного и мучительного перехода.
На этот раз он замыслил труднейшее: за все путешествие тратить деньги только на ночлег, питаться же лишь полевыми кореньями, как уже пробовал делать на пути в Готу; тогда он за целый день так проголодался, что корешки прекрасно его подкрепили.
О таком своем решении он вспомнил, едва проснувшись на следующее утро, и это лишь разожгло в нем бунт против судьбы, от которой он теперь полагал себя почти независимым.
К исполнению своего замысла он приступил с той же решимостью, с какой при первом своем переходе ограничивал себя пивом и хлебом, но теперь чувствовал себя вдвойне независимо: пока унтер-офицер, по всей видимости, поджидал его с компанией у ворот Вартенбурга, чтобы показать замок, Райзер уже в открытом поле с великим аппетитом поглощал сырые корешки, нарезая их складным ножом, полученным в подарок еще от Филиппа Райзера.
Меж тем, поскольку довольно надолго задержался в Вартенбурге, он теперь удалился от Айзенаха не более чем на милю и, насытясь корешками, почувствовал необоримую усталость и заснул прямо посреди поля. Проснулся он лишь на закате.
Решив отыскать ближайшую деревню, он сошел с прямой дороги и, добравшись до гостиницы только поздно вечером, отказался от еды и заплатил лишь за соломенную подстилку.
Выйдя на другой день из деревни, он заблудился среди полей, где вчера искал корешки, в полдневный зной его снова охватила истома, и он опять забылся сном в тени какого-то дерева. Так и получилось, что на путь от Айзенаха до Готы, недавно пройденный во встречном направлении за несколько часов, он затратил теперь неполных четыре дня.
Пути его странствий сложились в такой же лабиринт, как его судьба, и он не знал, как выбраться из обоих. Перед Готой дорога как будто поворачивала назад, ему же, чтобы попасть в Мюльхаузен, следовало двигаться дальше, а поскольку он старался избежать прямой дороги, то отчасти даже обрадовался этим своим блужданиям.
Латинская афиша, лежавшая у него в кармане, дважды выручила его в этом путешествии. Однажды он вызвал подозрения, так как не мог предъявить паспорта, в другой раз, когда у него потребовали паспорт в доказательство, что он пришел не из той местности, где свирепствовал скотский мор, он показал эту латинскую афишу, назвавшись студентом, потому-то, мол, и паспорт у него латинский. Деревенский судья или староста, желая убедить жену и присутствующих крестьян, что понимает по-латыни, с важной миной пробежал глазами листок и объявил, что паспорт исправен.
Пока Райзер словно в забытьи блуждал по местности, воображение взяло над ним полную власть: скитаясь среди полей, он чувствовал себя свободным от всяческих уз и отпустил свою фантазию на полную волю.
Но теперь ему стало недоставать романичности в своей судьбе. Мечтать сделаться актером и все время терпеть неудачу – эта роль в конце концов могла и надоесть. Нет, лучше было совершить какое-нибудь преступление, которое заставило бы его скитаться по свету. И он придумал такое преступление, подходящее к случаю: представил себе, что поступил в университет вместе с неким молодым дворянином, бравшим у него уроки еще в Ганновере, и однажды тот, будучи пьян, затеял с ним ссору, в которой сам Райзер лишь оборонялся, дворянин же, обуянный бешенством, наткнулся на его шпагу, а Райзер сбежал, так и не узнав, жив его товарищ или нет.
Вся эта им самим придуманная небылица неотступно преследовала его в скитаниях, словно была правдой, он грезил об этом во сне, видел своего недруга распростертым в луже крови, едва проснувшись, во весь голос декламировал стихи и прямо посреди какого-нибудь поля между Айзенахом и Готой разыгрывал в собственном воображении все роли, не доставшиеся ему в театре.
Только это и спасало его от отчаяния: если бы он воспринял свое состояние в истинном свете, как полное опустошение и истощение, то давно оставил бы все усилия и сгорел со стыда.
Теперь же он смог перенести горчайшие испытания. На второй день его путешествия из Айзенаха в Готу выпало воскресенье, стояла удушливая жара. Райзер проходил деревней в поисках тени и обрел ее в небольшом усаженном деревьями местечке напротив церкви. Спросив в соседнем доме стакан воды, он опустился на землю между деревьями и заснул под звуки церковных песнопений. Разбудил его сельский священник, вышедший из церкви со своим сыном, университетским выпускником. Они подошли к Райзеру и спросили, откуда он и куда идет. Райзер сначала отвечал сбивчиво, но под конец признался, что скрывается после дуэли, которую имел в Гёттингене. Ему самому признание далось с большим трудом, а мысль о том, что все это неправда, едва ли приходила ему в голову: он жил целиком в мире представлений, и потому все запечатлевшееся в его фантазии казалось ему чистой правдой. Поскольку он сам был полностью изъят из действительного мира, то и стена, отделяющая мечту от действительности, грозила рухнуть.
Священник стал всячески приглашать Райзера к себе, желая оказать ему гостеприимство. Однако Райзер, словно бы испугавшись, поспешил откланяться: в его воображаемом положении следовало избегать людского общества.
Недалеко от Готы другой священник все же завлек его в свой дом, и они полдня провели в беседе. Он рассказал Райзеру, что два или три года назад здесь проходил какой-то ученый хорошо одетый странник и тоже долго с ним разговаривал. Священник отметил тот день в календаре, будучи уверен, что это был не кто иной, как доктор Барт.
После этого священник рассказал Райзеру историю своей жизни, как он в молодости служил домашним учителем, перебираясь от одного семейства к другому, и наконец обрел покой в этом старинном приходе и теперь лишь издалека наблюдает на тем, что творится в мире.
Райзер же поведал священнику свою собственную несчастную историю, выдуманную от начала до конца, меж тем как священник угощал его фруктовым вареньем в кофейной чашке и при этом всячески подбадривал, говоря, что совершенное преступление возможно загладить. При этом он поглядывал на белые ножны Райзеровой шпаги и вдруг спросил, правда ли, что такие ножны представляют масонский знак и не принадлежит ли Райзер к этому ордену. И чем больше Райзер это отрицал, тем прочнее священник уверялся, что видит перед собой франкмасона, который просто не хочет ему открыться.
Этот священник время от времени окидывал Райзера с ног до головы испытующим взглядом, составив о нем, по-видимому, самое причудливое мнение. Он принял его за человека замкнутого и не склонного болтать лишнее, а потому его нелегко раскусить. Все же он не мог удержаться от расспросов и продолжал их, пока не стало садиться солнце и Райзер засобирался в дорогу. Прощаясь, он увещевал Райзера искупить преступление неустанным раскаянием.
Долгая беседа со священником и его увещевания еще больше разбередили воображение Райзера. Уже в сумерках он добрался до Готы и в каком-то оцепенелом бесчувствии прошел мимо гостиницы «У золотого креста», где в прошлый раз остановился, потом вышел из ворот, коими прежде попал в Готу; теперь он тою же дорогой отправился в Эрфурт, чтобы оттуда идти в Мюльхаузен и наконец догнать труппу Барцанти.
Едва он оказался в Готе, как выдуманная история, подвигнувшая его на трехдневные скитания по полям, стала понемногу забываться, взгляду открылся прежний вид, Гота снова лежала позади, оставаясь средоточием всех его путей, и если раньше он возлагал надежды на Айзенах, то теперь надеялся, что ему больше повезет в Мюльхаузене.
Однако не успел Райзер добраться до деревни, как совсем стемнело, он снова сбился с пути и проблуждал лишнюю милю, но в конце концов вышел на верную дорогу и очутился рядом с гостиницей, где недавно на пути из Эрфурта в Готу провел сквернейшую ночь в обществе мужланов-возчиков, чье словцо «прихаживает» так и засело в его памяти.
Постояльцы еще не улеглись, и какой-то подмастерье в общей комнате рассказывал кучке крестьян о своих странствиях по Саксонии. Едва Райзер вошел, как явился хозяин и велел рассказчику замолчать: мол, время позднее и всем пора на боковую.
Подмастерье и крестьяне улеглись на расстеленной соломе, где нашлось местечко и для Райзера. Подмастерье, однако, все возмущался грубостью хозяина и ворочался с боку на бок, приговаривая, что во всей Саксонии ему не доводилось слышать от гостиничных хозяев подобных грубостей.
Когда на следующее утро Райзер отсчитал положенную плату за ночлег, у него осталось всего-навсего девять пфеннигов. Он вдруг почувствовал ужасную усталость: уже много дней единственной его пищей были сырые корни, и сама мысль об оставшейся миле, которую надо пройти, наполняла его ужасом; еще с утра он был совсем разбитым, пространство между гостиницей и Мюльхаузеном представилось ему бесплодной пустыней, не сулившей в пути никакого подкрепления.
Вчерашний подмастерье, накануне допоздна рассказывавший о своих странствиях по Саксонии, направлялся в Эрфурт и предложил Райзеру пойти вместе. Райзер согласился, и они неспешным шагом отправились в путь вдвоем.
Попутчик Райзера, книжный переплетчик, человек уже немолодой, спросил у Райзера о его ремесле, в ответ Райзер назвался учеником сапожника, находя в этом известное достоинство: как ученик сапожника он хоть что-то собою представлял, а как творец беспочвенных фантазий был бы сущим нулем.
Судя по рассказам, переплетчик провел в странствиях уже много лет и превратил их в своего рода ремесло. Он, не таясь, делился с Райзером своим опытом, поучая его, как, ни в чем не нуждаясь, совершать далекие переходы, имея в кармане всего полгульдена, особенно же летом и осенью, в пору созревания плодов.
Люди охотно подают путникам фрукты, а нередко и хлеб, в остальном можно обойтись одним-двумя пфеннигами за день. Сам он таким образом исходил Саксонию вдоль и поперек и прекрасно себе чувствует. Словом, он счел Райзера достойным посвящения в свой орден, коего удобства и приятность, как он заманчиво описал Райзеру, заключены в полной независимости и постоянной смене впечатлений.
У Райзера, однако, уже подгибались колени; он так быстро терял силы, что в эту минуту охотно согласился бы на однообразную и подвластную жизнь, лишь бы обрести покой и отдых.
Попутчик как будто заметил, что он изнемог, и попытался утешить и подбодрить его, и тут, уже невдалеке от Эрфурта, они набрели на чистый и прохладный ручей, подмастерью уже знакомый, здесь они смогли скрыться от палящей жары и утолить жажду.
Наверно, еще никому из путников этот благодатный источник, хорошо известный жителям Эрфурта, не казался столь целебен, как Райзеру, изнуренному до крайности: припав к нему, он напитался животворной влагой, которую так часто стыдился просить у людей, а теперь черпал прямо из лона природы.
Подобные ситуации имели для Райзера двойную ценность, поскольку он привносил в них поэтическое начало, имевшее для него вполне действительное существование и бывшее, можно сказать, единственным вознаграждением за неизбежные следствия его сумасбродства, в коем сам он не был повинен, ибо, согласно естественному закону, оно было накрепко вплетено в его судьбу с самого детства.
Когда вдали поднялись старинные башни Эрфурта и Райзер, уже совсем в себе разуверившийся, вновь подходил к тому месту, которое покинул совсем недавно, охваченный юношеским жаром едва расцветшей надежды, его странно поразило, когда шедший рядом переплетчик вдруг заявил, что не верит, будто Райзер ученик сапожника, так как на самом деле он студент и хочет учиться в Эрфуртском университете.
И Райзера, утратившего было все силы, эти случайные слова подмастерья как будто снова вернули к жизни.
Если он впрямь хочет учиться и жить в этом городе, значит этот город – венец его мучительных скитаний, последняя цель, совсем близкое завершение пути. Здесь он сможет достойным образом изменить свой план, и чем больше он уставал, тем чудесней и заманчивей становилась мысль о жизни в этом просторном городе, где уж верно найдется местечко и для него.
Мрачную безнадежность скитаний, которая снедала его последние несколько дней, уже невозможно было рассеять никаким усилием воображения, напротив, мысль о полнейшей беспомощности с каждым шагом все больше его изнуряла, а изнурение в свою очередь усугубляло мысль о беспомощности, возникшую в нем из-за утраты мужества и телесной слабости.
Войдя в город, они проходили мимо пекарни, где на прилавке была выложена целая гора хлебных буханок, но едва лишь Райзер попытался выбрать для себя одну, чуть не вся груда рухнула на землю. Сразу поднялся такой великий шум, что Райзер и его спутник поспешили за угол, скрываясь от всеобщего поношения. Так злая судьба неотступно преследовала Райзера повсюду.
Они заглянули в какую-то гостиницу, и тут Райзер, не в силах более терпеть жажду, велел налить себе пива на все девять оставшихся у него пфеннигов. За глоток влаги он выложил деньги, которых хватило бы на три ночлега, и теперь ему оставалось лишь коротать жизнь под открытым небом.
Думая об этом, он почувствовал, что вместе с пивом выпил забвение прошлого и будущего и разом освободился от всех своих горестей. Ибо отныне он полностью предался своей судьбе и снова воспринимал себя как чужака, о коем больше незачем печалиться, потому что тот окончательно сгинул. С этой мыслью он задремал и проспал целый час.
Очнулся он за час до полудня, спутник его куда-то исчез, сам же он сидел, уронив голову на руки, в немом отчаянии, и тут сидевший напротив него человек обратился к нему и спросил, не странствующий ли он студент.
Получив утвердительный ответ, этот человек, будто зная положение Райзера, сказал, что нынешний университетский проректор, настоятель бенедиктинского монастыря, что в Петерсберге, – весьма благодетельный муж и совсем недавно оказал поддержку одному юноше, забредшему в эти края без гроша в кармане, весьма радушно его приняв. Если Райзер захочет посетить этого прелата, то пусть без боязни сделает это, он тоже непременно найдет у него добрый прием. Тут в комнату вошли другие люди, и собеседник Райзера заговорил с ними.
Меж тем Райзер, от полного упадка душевных и телесных сил забывшийся благодатным сном, снова ожил и загорелся новой надеждой и новым мужеством: теперь его мысли занимал настоятель монастыря в Петерсберге.
Не теряя времени, он вышел на дорогу и стал расспрашивать, как добраться до Петерсберга; какой-то молодой студент, случайно им встреченный, не только подробно все ему разъяснил, но и прошел с ним часть пути, дабы вернее направить его в нужную сторону. Райзер воспринял это как добрый знак. Он поднялся к укрепленному монастырю, и стража беспрепятственно его пропустила. Когда он подошел к жилищу прелата, слуга приветливо ему поклонился и, узнав, что перед ним студент, сей же час вызвался доложить о нем прелату.
Райзера провели по лестнице в большой зал, по стенам увешанный картинами, из коих одна изображала Петра, гревшегося у огня во дворе первосвященникова дома. Пока он рассматривал эту картину, в зал вошел прелат, одетый в черное орденское облачение, с молитвенником в руках. Райзер обратился к нему с коротким приветствием на латыни, продуманным еще по пути в Петерсберг, упомянул превратности своих скитаний, приведших его в Эрфурт, и выразил надежду, что найдет здесь поддержку, которая позволит ему так или иначе продолжить начатое учение.
Прелат с отменной любезностью, также на латинском языке, осведомился, какого исповедания держится Райзер, католического или аугсбургской веры, и когда Райзер указал последнее, прелат, едва ли не собственными его словами, отвечал следующее: ему очень жаль, что Райзеру волею злой судьбы пришлось терпеть превратности долгих скитаний, однако он не видит никаких средств помочь ему в поисках поддержки именно этого университета. Но лишать Райзера последней надежды он бы тоже не хотел.
Затем он спросил Райзера, где тот родился, и, услышав ответ – в Ганновере, посоветовал обратиться к доктору Фрорипу, можно сказать, земляку Райзера. Представившись Фрорипу, следовало вернуться. С этими словами прелат вложил в ладонь Райзера серебряную монету, добавив, что этого должно хватить для скромного обеда.
Если что-то на свете способно выпрямить надломленного и спасти злополучного от полного отчаяния, так это выражение лица и интонация, с какими прелат Гюнтер ответил тогда на просьбу Райзера и подал ему совет.
Растроганный этим приемом почти до слез, Райзер быстро вышел, остановился за дверью и, не в силах поверить своим глазам, стал разглядывать монету, пытаясь осознать, что теперь владеет полугульденом, тогда как совсем недавно не имел даже трех пфеннигов на ночлег. Этот полугульден казался ему теперь несказанным богатством, чем и был, ибо вновь вселил в него мужество, на коем только и держалась его судьба.
Он отправился в трактир и впервые за долгое время отведал горячей пищи. Затем сразу разузнал, где находится Купеческая церковь, рядом с которой жил доктор Фрорип. Он застал его в два часа пополудни, когда доктор Фрорип собирался читать лекцию, и заговорил с ним на латыни, как прежде с настоятелем Гюнтером.
Узнав, что Райзер родом из Ганновера, доктор Фрорип обошелся с ним более чем любезно и провел в аудиторию, где уже сидели студенты, все в головных уборах, что представилось Райзеру зрелищем тем более необычным, что они смотрели на него во все глаза, так как сам он был с непокрытой головой.
Итак, он словно по волшебству очутился среди студентов в эрфуртской аудитории профессора Фрорипа, а не далее как утром того же дня не имел иного пристанища, кроме открытого поля.
Доктор Фрорип читал церковную историю, уснащая ее забавными анекдотами, веселившими аудиторию и заставлявшими ее то и дело оглашать стены зала громовым хохотом. Все это казалось Райзеру каким-то сном. Он вспомнил годы своего детства, когда школьный класс виделся ему святилищем, и теперь, очутившись в университетском зале, не мог представить себе ничего более возвышенного.
После лекции доктор Фрорип пригласил Райзера в свой кабинет, чтобы расспросить о его прошлом, и тут Райзер придал своей истории новый оборот, сказав, что в Ганновере одним своим сочинением вызвал гнев некоего важного лица и потому был вынужден покинуть город. Поскольку же все остальные пути казались ему закрыты, он пришел к мысли посвятить себя театру, но по зрелом размышлении отверг это намерение, так как понял, что упомянутое сочинение будет вредить ему и в будущем, поэтому он решил перебраться в Эрфурт и здесь заново приняться за ученье.
Любопытно заметить, как эта ложь, которую Райзер измыслил еще во время лекции доктора Фрорипа, сама собой, еще прежде чем он ее высказал, стала претворяться в правду и как иезуитски он сам себя обманывал. Ведь он мысленно пытался убедить себя, что вполне сознает безрассудность своего предприятия, что по собственной доброй воле изменил свое решение и теперь не отступит от задуманного, даже если ему вдруг представиться возможность попасть на сцену.
Что же касается первой части его выдумки, то он старался вообразить, будто в речи, сочиненной им на день рождения королевы, содержатся некие соблазнительные места, могущие быть истолкованными ему в ущерб. Так ли было на самом деле, нимало его не беспокоило, он теперь исходил лишь из того, могло ли это случиться, потому что иначе не знал, как выйти из положения.
Ведь если он хотел, чтобы его тяга к учению выглядела правдоподобно, то никак нельзя было сказать, что он ушел из Ганновера по склонности к театру, да и история с дуэлью тоже сюда не подходила.
Доктор Фрорип, судя по всему, не дал полной веры его словам, однако составил о Райзере куда более высокое представление, чем тот мог ожидать, поскольку принял его за сына благородных родителей, с коими сын разошелся и теперь не хочет выдавать их имя. Райзер был весьма польщен, что о нем могут так думать, и это мнение было ему тем приятнее, что наилучшим образом покрывало его ложь, ибо доктор Фрорип заведомо извинил несообразности, в которые Райзер и сам не верил.
Случившееся затем оказалось выше всех его ожиданий. Доктор Фрорип сказал, что для уныния нет причин, и пообещал первым делом позаботиться о его пропитании и жилье. Райзер, еще утром убежденный, что покинут всем светом, едва верил его утешительным словам и в ту минуту смотрел на доктора Фрорипа как на своего ангела-хранителя.
Тот написал Райзеру записку к настоятелю Гюнтеру – последний, по просьбе Фрорипа, должен был, не взимая платы, зачислить Райзера в студенты.
Столь счастливый поворот судьбы погрузил Райзера в забвение всех перенесенных превратностей, теперь он нимало не сожалел о предпринятом путешествии в неизвестность, так как переживал состояние, вряд ли доступное полному пониманию тех, кто ни разу в жизни не бывал всеми брошен, лишен телесных и духовных сил, не имел перед собою ни проблеска надежды.
Охваченный радостью, он поспешил в гостиницу, где собирался переночевать, спросил бумаги и начал одно за другим по памяти записывать свои стихотворения, чтобы назавтра показать их доктору Фрорипу, тем самым хотя бы отчасти проявив себя достойным его забот.
Он работал до глубокой ночи и исписал несколько тетрадей. На другой день рано утром, полный уже совсем других мыслей, чем вчера, он снова поднялся в Петерсберг, где был ласково встречен настоятелем Гюнтером, который с готовностью удовлетворил его просьбу и сразу же выписал ему свидетельство о принятии в университет, а также вручил экземпляр университетского статута, коего соблюдение Райзер должен был торжественно подтвердить рукопожатием.
Это свидетельство, именованное «Universitas perantiqua», а также университетский статут вкупе с рукопожатием приобрели для Райзера ореол святости, и довольно долго он был уверен, что это поднимает его гораздо выше актерского ремесла. Теперь он снова оказался включен в общественный порядок, стал своим в сословии людей, объединенных стремлением отличиться от всех прочих высокой образованностью. Свидетельство определило собою все его существование, и, выйдя из Петерсберга, он почувствовал себя равным с другими людьми.
Ближе к полудню он показал полученное свидетельство доктору Фрорипу, а заодно вручил ему и свои стихи, вызвавшие на сей раз гораздо большую похвалу, чем он ожидал. Одной из причин было то, что студенты в Эрфурте еще мало прилежали к изучению изящных искусств и доктор Фрорип обрадовался появлению ученика, который в этом отношении мог в известной мере служить примером для остальных.
Благодаря этим стихам новый покровитель Райзера заинтересовался им еще больше и уже не позволил ему оставаться в гостинице, но немедля поручил университетскому квартирмейстеру, исполнявшему также должность учителя фехтования, подыскать ему комнату. Тот на первое время подселил Райзера к некоему старому студенту медицинского факультета, жившему у него в доме, а поскольку он одновременно держал бесплатный стол для студентов, то и усадил Райзера, опять-таки на первое время, за свой собственный стол.
И теперь, во всех этих счастливых обстоятельствах, Райзер порой снова чувствовал себя несчастнейшим из смертных: слишком тяжек был груз его воспитания и горьких школьных лет. Его давила сама мысль о бесплатных обедах, которыми он поневоле пользоваться школьником, и за столом фехтовального учителя он в глубине души чувствовал себя куда более несчастным, чем в поле между Готой и Айзенахом, где питался сырыми кореньями.
Оттого и вышло так, что студенты, столовавшиеся у учителя фехтования, стали считать его человеком забитым и недалеким, а поскольку и сам хозяин, державший себя на манер студента, не очень с ним церемонился, положение его стало еще более несносным, теперь он чувствовал, будто внезапно утратил ничем не стесненную свободу и задыхается в самой что ни на есть унизительной кабале.
И все же, несмотря на его робкий нрав, к нему относились довольно снисходительно, и обязан этим он был все тому же – своим стихам, о коих доктор Фрорип успел рассказать разным людям, и, сам о том не подозревая, Райзер сделал себе у эрфуртских студентов скромное имя, так что необычный его нрав они приписывали поэтическому дарованию.
У него совсем не было белья, и доверяй он хоть немного людям, то легко мог бы восполнить этот недостаток. Но у него не было сил признаться в нехватке, отравлявшей его существование и причинявшей подлинные мучения, правда, сам он всегда приписывал свои страдания чему-нибудь другому, поскольку нехватка белья казалась ему предметом слишком незначительным и непоэтическим.
Учитель фехтования отвел Райзеру постоянное жилье в общей комнате с неким студентом по имени Р., который возымел желание выпускать вместе с ним еженедельный журнал, так как составил высокое мнение о его поэтическом и писательском таланте. Вскоре Райзер разработал план такого журнала, который должен был открыться сатирой на подобные журналы и называться «Последний еженедельник». Однако новый сожитель заметил, что Райзер не только не располагает деньгами, но и не имеет сколько-нибудь определенных видов на их получение, после чего стал относиться к нему заметно прохладнее и посоветовал для начала заложить шпагу. Райзер послушался совета и тем немедленно вернул себе его расположение, ибо Р., человек по натуре весьма расчетливый, вовсе не горел желанием выкладывать деньги на их совместное литературное предприятие.
Итак, они вместе отправились к эрфуртскому типографу, звавшемуся Градельмюллер, и ознакомили его с планом нового еженедельника, однако Градельмюллер уверенно заявил, что замысел их никуда не годится и не в пример надежнее было бы печатать статьи в журнале, уже известном и хорошо принятом публикой, «Горожанин и крестьянин», который сам же он издает и который бездомные мальчишки разносят по эрфуртским пивным.
Это был тот самый «Горожанин и крестьянин», что попался Райзеру на глаза во время его первого путешествия, в охотничьем домике неподалеку от Мюльхаузена. И вот теперь редактор и издатель этого журнала зовет его с товарищем в сотрудники. Вечером их пригласили отужинать в доме, и оба товарища в таких огромных количествах поглощали редьку и нарезанный маленькими полосками весьма твердый сыр, примечательность местной кухни, что жена типографа то и дело бросала на них довольно кислые взгляды.
Первым сочинением, которое студент Р. отдал в еженедельник «Горожанин и крестьянин», было подражание прозой Горациевому «Beatus ille». Райзер же представил напыщенное стихотворение о вселенной, которое сочинил еще школьником в Ганновере.
Поскольку, однако, гонорара за свои опыты они не получили и план студента Р. обогатиться с помощью совместно выпускаемого журнала провалился, то вскоре он и к Райзеру потерял всякий интерес, в чем винить его не приходится, ведь Райзер впал в такую меланхолию из-за отсутствия белья и плачевного состояния башмаков, что сделался слишком мрачен для товарищеского общения.
По прошествии недели, что они прожили вместе, студенту Р. захотелось отселить Райзера в другое жилье. И таковое сыскалось в Киршлахе, в доме пивовара, у которого жил еще один студент, а сын учился в школе.
Здесь, как и раньше, для Райзера не нашлось отдельной комнаты, поэтому ему пришлось, как и тому студенту, делить комнату со всей семьей. Дом, однако, был расположен очень приятно, стоял в ряду маленьких домишек, мимо которых пробегала узенькая речка, а берег был усажен деревьями.
Стало быть, вовсе не узкая улица, а текущая вода и сама малость этих домиков придавали этому уголку города привольный сельский вид.
Сразу за домом тянулась старая городская стена, откуда открывался вид на картезианский монастырь. Сверху эта стена кое-где поросла травой и в некоторых местах разрушилась, так что на нее было очень легко залезть и любоваться оттуда множеством садов, окружавших Эрфурт изнутри городской черты.
В это время Райзер неукоснительно получал еду из университетской кухни, и мечта о безмятежном существовании опять настолько им завладела, что, будучи девятнадцати лет от роду, он написал своему другу в Ганновер, что надеется и желает провести остаток своих дней в Эрфурте.
Годы ученичества, по его разумению, должны были плавно перетечь в годы учительства, и таким образом сбылись бы все его мечты и желания. Сверкающие иллюзии остались позади, и радужные театральные грезы, как он думал, надолго покинули его голову.
Он внезапно перенесся в новый мир, и эта ошеломительная перемена была не в пользу Ганновера.
Прогуливаясь теперь по городскому валу, он живо чувствовал, что выбрался из прежних поистине невыносимых условий благодаря собственным стараниям и сам изменил свое положение в мире.
Когда же он слышал в Эрфурте колокольный звон, в нем постепенно оживали все воспоминания прошлого, – настоящее не ограничивало его существования, он снова вбирал в себя все, что давно ушло.
И то были счастливейшие минуты его жизни, когда его впервые по-настоящему заинтересовало собственное существование, так как явилось ему теперь цельным, а не раздробленным на мелкие кусочки.
Все единичное, разорванное и раздробленное в его жизни всегда вызывало в нем досаду и отвращение.
И возникало оно всякий раз, как под тяжестью жизненных обстоятельств его мысль не могла подняться над настоящим моментом. Тогда все становилось столь ничтожным, пустым и тоскливым, что и не заслуживало усилий ума.
Такое состояние в нем всегда взывало к приходу ночи, глубокому сну, полному забвению самого себя, время начинало ползти на манер улитки, и он никак не мог уяснить себе, чтó же в эти минуты позволяет ему жить.
В начале его пребывания в Эрфурте подобные минуты сделались очень редки, он все чаще обозревал жизнь в целом, перемена места была еще внове, а воображение еще не было сковано феноменом вечного возвращения.
Наверно, это вечное возвращение чувственных впечатлений и держит людей в узде, замыкая их в какой-нибудь тесной области. Человек все неудержимее ощущает себя втянутым в это монотонное вращение, проникается любовью ко всему привычному и бежит новизны. И вот уже выход за пределы этого круга начинает казаться кощунством, а все нас обступающее становится нашим вторым телом, поглотившим первое.
Жительство Райзера в Киршлахе словно нарочно устроилось так, чтобы снова сковать силу его воображения.
Картезианский монастырь, открывавшийся за садами, неодолимо притягивал Райзера своим романтическим видом, Райзер не мог оторвать взгляда от этого тихого уединенного места, куда втайне стремилась его душа.
Поскольку замок его фантазии рухнул, а он не имел возможности разыгрывать вселенские катастрофы ни в жизни, ни на сцене, то, как часто бывает, он всеми своими чувствами впал в противоположную крайность.
Навсегда забыть о мире, удалиться от людей и проводить дни в мирном одиночестве – такой образ жизни приобрел в его глазах невыразимую прелесть, и чем больше была приносимая им жертва, тем глубже становился смысл его отшельничества. Ибо отказался он ни больше ни меньше как от заветной мечты, слившейся с самим его существом. Театральные огни и кулисы, сверкающий амфитеатр – все это исчезло, теперь его манила монашеская келья.
Высокая стена, окружавшая картезианский монастырь, колоколенка на церкви, ряд маленьких домиков во дворе монастыря, каждый с крошечным садиком, отгороженным от других каменной стеной, являли собой необычайное зрелище, а сама вышина монастырской стены, домишки и разделявшие их садики явно и непреложно свидетельствовали об отшельнической жизни их обитателей.
Бой колоколов на колокольне всякий раз отдавался в ушах Райзера похоронным звоном по всем его земным желаниям и упованиям на земное будущее.
Ибо здесь и находилась конечная цель всего: нога посвященного уже не могла выйти за пределы круга, очерченного этими стенами, – здесь было его последнее жилище и его могила.
Сам способ, каким производился этот картезианский звон, его медленная протяжность лишь добавляли ему скорби и меланхолии. Собираясь на хорах, монахи по очереди тянули за веревку колокола и после этого занимали свое место, пока не приходили все – от самого старого до молодого.
Когда бы Райзер ни слышал теперь эти звуки, тихим полднем, в полночь или ранним утром, каждый раз они рождали в нем одно и то же чувство – полного одиночества и могильного покоя.
Ему вообразилось, будто эти затворники пережили собственную смерть и теперь бродят среди могил, протягивая друг к другу руки.
С этой мыслью он настолько свыкся и так ее полюбил, что не променял бы на самые радужные надежды.
В это время он снова получил письмо из Ганновера от Филиппа Райзера, которое, как и их давние разговоры, не обнаруживало особого интереса к судьбе товарища, зато содержало подробное описание очередного любовного увлечения и рассказ о том, как далеко он в нем зашел и что мешает ему двигаться дальше.
И все же Райзер не расставался с этим письмом и часто его перечитывал: как-никак Филипп Райзер был его единственным другом.
Невдалеке от Киршлахе пролегала тропинка, приятная для прогулок. Среди зеленых кустов вился по долине чистый ручей. Взгляд отсюда не проникал в округу, поэтому здесь можно было спокойно наслаждаться уединением.
Райзер, бывало, часами лежал на зеленой лужайке у ручья и раздумывал о своей судьбе, а когда уставал думать, перечитывал письмо друга, каковое, сколь ни мало оно его интересовало своим предметом, в конце концов выучил почти наизусть, так как ничего ближе сердцу для чтения не находил.
К тому же Филипп Райзер был родом из Эрфурта, и таким образом выходило, что они обменялись родными городами и Антон Райзер находился теперь в том самом месте, где его друг провел первые дни своего младенчества и получил первые впечатления окружающего мира.
Сидя в долине у ручья и перечитывая письмо Филиппа Райзера, воскресившее в его памяти образ друга, Антон Райзер мысленно пробегал его детство, тем расширяя свою собственную личность.
Поэтому же он среди всех студентов больше всего полюбил Окорда, знакомого с Филиппом Райзером еще с Эрфурта, и чаще всего говорил с ним о Филиппе.
Этот Окорд был в ту пору милый молодой мечтатель с фантазией, полной юных восторгов, одушевленный дружескими чувствами, не без некоторой аффектации, но наделенный поистине чувствительным сердцем.
В нем Райзер обрел близкого человека и не мог успокоиться, пока в одно из воскресений они вдвоем не отправились в картезианский монастырь, куда он не решался пойти один, дабы не привлекать к себе излишнего внимания.
По пути они рассуждали о бренности и краткости жизни (при том, заметим, что Райзеру было тогда девятнадцать, а Окорду – двадцать лет), о том, что оба не знают, на что употребить остаток своих дней, и наконец добрались до монастыря и вступили в церковь, которая уже своими пустыми белыми стенами и безлюдными хорами, казалось, проповедовала о могильном покое.
Церковь эту почти никто, кроме картезианцев, не посещал, и, поскольку прихода при ней не состояло, не было здесь ни кафедры, ни стульев или скамей, только пустые стены и ровный пол, придававший ей в тусклом свете, проникавшем через окна, строгий и сумрачный вид.
Окорд и Райзер в одиночестве преклонили колени у аналоя перед хорами, и в это время в храм стали один за одним заходить монахи в белых рясах и с поклоном по очереди дергали за веревку колокола.
Они расселись на хорах по своим местам и глубокими, скорбными голосами приступили к покаянным песнопениям. Иногда они вставали, чтобы пропеть гимны, столь же скорбно отдававшиеся от стен храма, иногда падали ниц и с глубокой горечью молили Господа о милости.
На самом краю полукружья стоял юноша с бледными щеками и на редкость красивым лицом. Райзер не мог отвести взгляда от его глаз, благочестиво возведенных горе. Окорд знал этого страдальца, постригшегося картезианцем после того, как молния убила друга в полушаге от него, и в душе Райзера образ этого юноши поселился навсегда.
Райзер по полдня простаивал на старой стене у задней стороны своего дома, душой устремляясь внутрь этих тихих стен, защищавших, как ему думалось, от заблуждений и химер мира сего.
Там он мечтал процвести и увянуть в могиле рядом с этим юношей, там хотел развести и свой уединенный сад, приветствовать по вечерам нежный луч закатного солнца в своей келье и, отрешившись от мирских надежд и желаний, покойно и весело встретить смерть.
В таком-то настроении сочинил он, стоя на этой полуразрушенной стене, нижеследующее стихотворение:
О, что за приют священный, покоя вечного вестник? Какое мне тайное чувство глаза наполняет слезами, Когда на тебя смотрю я? И ты, о старец почтенный, Пристанища тихого житель, будь счастлив – толпы презренной Тщеты и кривлянья пустого ты удалился разумно И можешь теперь спокойно сад свой возделывать скромный, Ты душу свою, что часто в благом порыве стремится Бежать из темного плена, с каждым днем подымаешь Все ближе и ближе к небу. – Возрадуйся! Благословенен Приют твой уединенный, и дух твой, давно отвыкший От мыслей земных, взлетает, подобно Ангелу, в небо И празднует возвращенье в свою родную обитель. О, старец! То был твой жребий. – Но ты, кто еще не окончил Свой путь, что полон лишений, кто сил не успел растратить, Иль ты, о юнец цветущий, что выбрал из радостей жизни Уединенную келью, – быть может, ты был обманут Друзьями иль сделался целью их грубых и подлых насмешек? А может быть, ты вдруг понял, что все мечты и надежды Гроша не стоят? И место безлюдное это тебе Убежищем служит от мира, что для тебя превратился Из рая цветов и веселья в унылую серую пустошь? Тогда возрадуйся тоже! Нашел ты оплот надежный, Тебя от зла и коварства, от глупости и лицемерья, Страстей и измен хранящий – всего, что мирскою жизнью Привычно мы называем. – Но что это? Что я вижу? Слеза дрожит на ресницах и по щеке стекает У юноши, что рыдает над жизнью своей пропащей И, словно цветок, увядает осенней дождливой порою. О ты, что в священной темнице, склонясь под невзгодами, гаснешь, Куда даже солнца лучик на радость тебе не проникнет. О юноша, плачь безутешно! Господь простит эти слезы, Которые льются невольно, души отражая смятенье! О, как бы я свои слезы с твоими смешать желал бы, Чтоб сладкий бальзам утешенья пролить в твою бедную душу! Смотри, как закат блаженно весенним вечером тает, Лучи янтарного солнца коснулись окна твоей кельи, Где ты лежишь безмятежно, мечтая о днях грядущих, Прекрасных видений полных, плывешь в золотом тумане По лабиринтам счастья, но, от дремоты очнувшись, Видишь опять свою келью, четыре стены пустые, Где лишь безнадежность и скука… Зефир, шелести крылами Над этой обителью горя, овей прохладою щеки, От слез еще влажные, пышно цветите в саду его, розы, И под окошком чуть слышно пой свою песнь, Филомела, Пока не избавит Всевышний от тяжкого бремени жизни Так долго страдавшую душу – тогда ночною порою Ты долго скорбеть еще будешь над юноши бедной могилой.Райзер так сильно прилепился душой к картезианцам, что стал всерьез обдумывать, как вместе с ними будет проводить свои дни вдали от мира, раз и навсегда отрешившись от желаний и страстей, от всего, что его угнетало и мучило.
Он пребывал в этих мыслях уже несколько дней, когда явился Окорд и сообщил, что эрфуртские студенты собираются ставить какую-то пьесу и несколько ролей в ней еще не заняты.
Это известие так взбудоражило воображение Райзера, что образ картезианского монастыря с его высокими стенами сразу побледнел, зато кулисы и театральные огни снова заиграли яркими красками; когда же Окорд прибавил, что одну роль в будущем спектакле рассчитывают предложить Райзеру, все возвышенное и меланхолическое мгновенно улетучилось из его мыслей.
Пьеса, которую готовили к постановке эрфуртские студенты, называлась «Медон, или Месть мудреца» и, можно сказать, содержала в себе всю мораль, столь поразительна была добродетель всех ее персонажей.
В этой пьесе Райзеру предложили сыграть Клелию, возлюбленную Медона, поскольку щетина у него на подбородке пробивалась еще совсем незаметно и его рост также не мог служить препятствием для исполнения женской роли, так как студент, игравший Медона, был настоящий великан. Несмотря на неожиданную странность этого предложения, Райзер не смог противиться своему желанию так или иначе пробиться на сцену, тем более что этот случай представился ему сам собой, без всяких его усилий.
Между тем доктор Фрорип написал письмо в Ганновер с запросом о поведении Райзера к бывшему его учителю ректору Зекстро, у которого он некоторое время жил, и ректор, против всякого ожидания Райзера, дал ему аттестацию, еще более укрепившую благосклонность к нему Фрорипа.
Ректор Зекстро писал, что задатки этого юноши позволяют ожидать от него очень многого, и этого оказалось достаточно, чтобы доктор Фрорип снисходительно и терпимо отнесся к указанным далее недостаткам Райзера и умножил свои усилия, дабы по возможности вернуть ему расположение принца.
Надо сказать, однако, что и сама аттестация была составлена в тоне снисходительном и терпимом, исключая упоминание о ночных прогулках Райзера, наталкивающих на подозрение в распущенности, пороке, в коем он был неповинен ни сном ни духом, поскольку угнетенность его положения, презрение к себе да и мечтательность натуры уберегали его от этого.
Далее было сказано о пристрастии Райзера к театру, чему небезосновательно приписывались различные его выходки и чему было подвержено так много молодых учеников Ганноверской школы.
И как раз когда пришло это письмо, Райзер готовился выступить на сцене в студенческом спектакле. Доктор Фрорип попытался было отговорить Райзера от этой затеи, однако, видя, как страстно тот ею завлечен, отнесся снисходительно и к этому его безрассудству и отнюдь не лишил Райзера своего расположения.
Наконец все приготовления были закончены, Райзер выучил роль Клелии наизусть и за время многочисленных репетиций близко познакомился с большинством эрфуртских студентов, которые отнеслись к нему с большой учтивостью, составив о нем самое высокое мнение, из-за чего Райзер оказался перенесен в мир, разительно несхожий с тем, что был привычен ему с детства.
За всеми этими репетициями Райзер не забывал прилежно посещать проповеднические классы доктора Фрорипа в Купеческой церкви, где несколько студентов в присутствии доктора Фрорипа и своих товарищей, при закрытых дверях, упражнялись в произнесении проповедей.
Старательность Райзера объяснялась его желанием прилюдно проявить себя в декламации, и он с особым нетерпением ждал того дня, когда доктор Фрорип позволит ему подняться на кафедру. Он заранее выбрал и тему, намереваясь в поэтических красках описать красоту природы, смену времен года и с пафосом завершить проповедь, открыв слушателям сияющий и лучезарный простор вечной жизни. Однако ему все время что-то мешало, и в Эрфурте это желание так и не осуществилось.
Людям вообще свойственно сомневаться в том, что их самые страстные мечты когда-нибудь сбудутся, так же и Райзер не был уверен, что означенная пьеса действительно будет поставлена и он сыграет в ней роль. Но его мечта сбылась. Он был со всем тщанием наряжен Клелией, светильники зажглись, занавес взвился, и вот он уже стоит перед заполненным залом и совершенно непринужденно играет свою длинную роль, ни разу не вспомнив о ее ненатуральности, столь глубоко он был захвачен мыслью, что наконец-то в самом деле играет на сцене и в эту минуту его участие всем необходимо.
Благодаря такой сосредоточенности он забыл о себе, да и зрители почти не обратили внимания на неестественность его роли и даже остались довольны его игрой. То, что он, выйдя на сцену, по-прежнему оставался студентом, усугубляло его удовольствие, и следующие дни при воспоминании об этом вечере он чувствовал себя настолько счастливым, что прочее случившееся с ним в Эрфурте за все недели его пребывания в этом городе предстало ему как бы во сне.
Время от времени он помещал в еженедельнике «Горожанин и крестьянин» какое-нибудь стихотворение, чем как автор сделал себе имя среди жителей Эрфурта. Он также держал корректуру у типографа Градельмюллера, и тот познакомил его с одним ученым, который, при всех редких качествах своего ума и сердца, до самой смерти оставался игралищем злой судьбы, так как долгое и неотступное давление обстоятельств не позволило ему представить свои достоинства в выгодном свете и даже энергия, необходимая, чтобы прочно утвердиться в этом мире и занять в нем свое место, у него иссякла.
Этот доктор Зауэр издавал у типографа Градельмюллера еженедельный журнал под названием «Медон, или Три друга», выходивший уже целый год. По этому также было видно, как он боролся с превратностями жизни и каких трудов ему стоило кропать заурядные статьи, в коих тем не менее всегда проглядывала искра угнетенного гения.
Хочешь не хочешь, ему приходилось раз в неделю писать и отсылать очередной листок, чтобы еще на год продлить свою тягостную жизнь. Когда же выход журнала прекратился, он был вынужден поддерживать существование, вновь работая правщиком. А так как свои драматические опыты превосходного качества он запрятал в стол, не решаясь их обнародовать, то и должен был со всевозможным тщанием копииста переписывать для одного знатного господина какую-то трагедию, тем добывая себе жалкое пропитание еще на несколько дней.
Как врач он ничего не зарабатывал, ибо чувствовал в себе особую потребность помогать людям, более всего нуждавшимся в помощи и менее других ее получавшим. Поскольку же эти люди как раз и не могли оплачивать его помощь, то сам врач подвергался великой опасности умереть с голода, не выпускай он своего еженедельного листка, не правь набор и не переписывай пьес.
В общем, он не только не брал платы за лечение, но и приносил бедным людям лекарства на дом, изготовляя их из того скудного избытка, а часто из того насущного, чем сам располагал. Но коль скоро он, так сказать, давно махнул на себя рукой, то солидные люди большого света не удостоивали его своим доверием, его не звали на консультации, многие даже не знали его имени, хотя в своем ремесле он приобрел немалый опыт и мастерство.
Он написал также несколько превосходных статей по медицине, которые, по несчастью, затерялись среди множества других и, подобно их автору, не привлекли внимания современников. И потому, запрятав в стол остальные свои сочинения на эту тему, вынужден был переводить на латинский язык статьи заезжего французского врача, умевшего отличиться лучше, чем доктор Зауэр, который этими переводами жил сам и находил возможность изготовлять лекарства для беспомощных и больных бедняков.
Нужно было стать совсем бесчувственным, чтобы не замечать всех этих унижений и оскорблений, наносимых судьбой. Доктор Зауэр лишь насмешливо улыбался, но вечная униженность и обида незримо подтачивали его силы и подавляли дух. Да и о каком чувстве собственного достоинства могла идти речь, если весь мир его достоинства не признавал?
Благодаря связям с типографом Градельмюллером, для которого держал корректуру, доктор Зауэр мог время от времени помещать свои статьи в знаменитый эрфуртский еженедельник «Горожанин и крестьянин», где Райзер однажды прочитал его стихотворение о борьбе американцев за свою независимость, достойное стать в один ряд с лучшими произведениями немецких поэтов. Теперь же оно затерялось на страницах журнала, выставленного на продажу в эрфуртских пивных.
Казалось, его угнетенный дух еще раз издал здесь клич свободы, такой душевный подъем и горячее сочувствие сквозили во всем настрое этого стихотворения.
Совершенно потрясенный чтением, Райзер не находил покоя, пока не свел знакомство с этим выдающимся деятелем. Правда, сделать это оказалось нелегко, так как доктор Зауэр отнюдь не горел желанием сблизиться с человеком, принадлежащим к сословию, которое, можно сказать, подвергло его остракизму.
Все же подходящий случай представился. Райзер продолжил в Эрфурте изучение английского языка и вызвался обучать ему доктора Зауэра, неоднократно выражавшего желание познакомиться с этим языком. Предложение было принято, и Райзер получил повод не реже двух раз в неделю встречаться с этим человеком, желая сойтись с ним как можно теснее.
Раз от раза доктор Зауэр становился все более откровенен, рассказывал Райзеру о многочисленных унижениях, коим подвергался с детства от родственников и учителей, поведал ему обо всех ударах судьбы, втоптавших его в грязь, так что наконец Райзер, не в силах сдержать негодования, назвал просто подлой эту цепь обстоятельств, как будто намеренно тиранивших и притеснявших личность, наделенную умом и чувством.
Когда Райзер таким образом выразил свое негодование, доктор Зауэр скривил рот слабой улыбкой, долженствовавшей показать, что он не только считает негодование ниже своего достоинства, но уже и свободен от земных уз, пророчески предчувствуя свое скорое и полное освобождение. Его борьба окончена, противостоять проискам судьбы больше нет нужды.
И все-таки жизненный огонь в нем порой снова вспыхивал. Он еще надеялся дожить до счастливых дней, с жаром взялся за изучение английского языка, многого для себя от него ожидая: он надеялся, что сможет читать английские трактаты по медицине и зарабатывать переводами с английского.
Когда ему случилось отыскать небольшой источник дохода в Эрфурте, он приписал эту удачу своему терпению. Кто хочет чего-нибудь добиться в Эрфурте, повторял он Райзеру, должен запастись терпением и ни в коем случае его не терять! Вот как скромен и воздержан он был в своих желаниях, как легко оживал, стоило впереди лишь слегка забрезжить надежде на счастье.
Он не догадывался, что удача, пришедшая извне, уже не могла ему помочь, поскольку в нем самом источник счастья иссяк, цветок жизни надломлен, и потому лепесткам суждено увянуть.
Райзер проникся к нему такой симпатией, словно у них общая судьба или, возможно, их судьбы неразрывно связаны. Он надеялся, что этот человек еще обретет свое счастье, если ход вещей ничем не будет нарушен.
Однако на этот раз, как нередко и в будущем, предчувствие обмануло Райзера, он слишком сильно верил, что перенесенные страдания непременно должны быть вознаграждены уже на земле. Через несколько лет Зауэр скончался, так и не дождавшись лучших дней. Когда счастье извне слегка ему улыбнулось, он уже был внутренне надломлен и до самой смерти остался незамеченным и непризнанным. Дошло до того, что соседи по маленькому переулку, увидев, как выносят гроб, спрашивали: кого хоронят? Поразительная неприметность для столь малонаселенного города, как Эрфурт!
Те немногие дни, что Райзер провел рядом с доктором Зауэром в Эрфурте, были для него очень важны, они дали его душе новый толчок: он исполнился решимости противостоять гнету обстоятельств, сломивших дух этого человека. И негодование, испытанное им из-за этого, придало ему еще больше упорства, укрепило неподатливость к самым большим невзгодам и желание своей стойкостью хоть как-то отомстить страдания умершего.
Как-то раз они вместе с доктором Зауэром отправились на прогулку в одну из деревень вблизи Эрфурта, к ним присоединился и Окорд. Возвращаясь под вечер, они подошли к реке, черной лентой извивавшейся в густом прибрежном кустарнике. Здесь Зауэр остановился, чтобы промерить палкой глубину течения, но дна достать не смог. Со скрещенными руками он стоял над водой и смотрел на ее черную поверхность, медленно плывущую вдаль.
Фигура Зауэра с бледными щеками и скрещенными руками, в глубокой задумчивости глядящего на эти стигийские воды, как живая предстала Райзеру, когда через несколько лет он узнал о его смерти. Ибо именно в этом образе знак и объект слились воедино.
Для Райзера, однако, вновь открывались самые приятные виды на будущее: студенты надумали поставить еще одну пьесу, так как это развлечение явно пришлось им по вкусу.
Выбранные пьесы были: «Подозрительный» и «Сокровище» Лессинга. В первой Райзер снова получил две женские роли, во второй – роль Маскариля, и таков уж был его престиж как актера, что само его согласие воспринималось как любезность и ни о какой настойчивости с его стороны не было и речи.
Во время подготовки этого второго представления Райзер приступил к сочинению трактата о чувствительности, в коем намеревался впервые заявить о себе как писатель. В этом сочинении он хотел высмеять притворную сентиментальность, а сентиментальность истинную представить в надлежащем свете.
Сочинение, задуманное как сатира, вышло у него изрядно грубым, он сравнивал сентиментальность с чумой, от которой следует беречься, а людям, живущим в местах ее распространения, запрещать доступ в города и деревни.
Такая неприязнь возникла у Райзера из-за появления бесчисленных «Сентиментальных путешествий», выходивших тогда в Германии, и многих и многих жеманных подражаний «Юному Вертеру», хотя втайне он и сам не мог не признаться себе в этом грехе, но тем резче его обличал, имея в виду и собственное исправление.
В один из вечеров, когда он трудился над этим сочинением, в его комнату вошел типограф Поквитц, приехавший из Ганновера с письмом от Филиппа Райзера. Это был тот самый печатник, для которого он еще в Ганновере сочинил несколько новогодних поздравлений, впервые увидев тогда свое имя, набранное печатными литерами.
При прощании в дверях Поквитц втиснул в ладонь Райзеру золотую монетку, и этого оказалось достаточно, чтобы вдохнуть бодрость в человека, уже многие недели не видевшего денег, хотя и ничем не выдававшего свою нищету.
Ценность этого нежданного подарка поднялась еще выше благодаря способу, каким он был вручен. Пусть эта безделица пойдет в уплату старого долга, сказал печатник Поквитц, ведь Райзер сочинял тогда новогодние поздравления, стихи и прочее лишь ради своего удовольствия.
В положении Райзера сей подарок, состоявший в золотом гульдене, был неоценимым богатством, так как разом избавлял его от множества мелких затруднений, в которых он не отважился бы признаться никому из здешних знакомых. А это означало наступление по-настоящему счастливых дней, когда ничто не угнетало его ни внутри, ни извне и будущее не было омрачено ни единым облаком.
Новое письмо от Филиппа Райзера тоже оказалось интереснее предыдущего, он писал, что многие из товарищей Райзера, игравших вместе с ним спектакли в Ганновере, теперь последовали его примеру и по большей части тайком разбежались, решив посвятить свою жизнь театру.
Среди самых заметных личностей – Иффланд, исполнявший в «Клавиго» роль Бомарше, сын кантора Винтер, староста хора Ольхорст, а также некий Тимей, священников сын, с которым Райзер незадолго до своего ухода совершил несколько романтических прогулок по пригородам Ганновера. Райзер почувствовал особый род гордости за то, что стал образцом для подражания и первым отважился сделать подобный шаг.
Далее Филипп Райзер в своем выспреннем стиле сообщал о смерти поэта Гёльти в Ганновере, закончил же письмо такими словами: «Ликуй, Поэт! Рыдай, Человек!» О продолжении его любовного романа в письме почти ничего не говорилось.
Во время подготовки своих ролей в двух спектаклях Райзер завязал в Эрфурте новую дружбу со студентом по имени Нерьес, урожденным гамбуржцем, жившим в доме доктора Фрорипа. Доктор показал ему список стихотворения Райзера «Картезианский монастырь» и тем сразу сотворил для его сочинителя нового друга.
И дружба эта была в самом что ни на есть сентиментальном вкусе, против коего Райзер как раз писал свой трактат.
Юный Нерьес в самом деле имел чувствительное сердце, однако слишком легко увлекался и при всяком удобном случае разыгрывал сентиментальность, сам того не осознавая: заодно с Райзером он пылко обличал смехотворную сущность фальшивой сентиментальности, однако поскольку желал не выглядеть сентиментальным в глазах людей, но в действительности жить чувствами, то не замечал в самом себе никакой аффектации и предавался чувствам столь истово, не допуская насмешек над собой, что постепенно вовлек и Райзера в этот водоворот, доводивший душу до немыслимо взвинченного состояния.
Райзера ободряло уже и то, что к нему, находящемуся в столь стесненных обстоятельствах, льнет человек, наделенный всеми мирскими благами. В нем неудержимо росла любовь и привязанность к молодому Нерьесу, еще укреплявшаяся благодаря неподдельному дружеству со стороны юноши, так что оба они все более уподоблялись друг другу в своих безрассудствах, взаимно усугубляя свою меланхолию и сентиментальность.
Более всего этому способствовали одинокие прогулки, во время которых они часто, слишком часто разыгрывали между собой театральные сцены, включая в них на равных правах и природу: так, при заходе солнца они читали выдержки из поэмы Клопштока об учениках в Эммаусе, в пасмурный день – «Сотворение ада» Цахариэ и т. д.
Зачастую они располагались на одном из склонов Штайгервальда, откуда хорошо был виден Эрфурт с его старинными башнями и раскинувшимися кругом садами. Сюда частенько поднимались на прогулку горожане, разводили костерки и варили на них кофе, тем возрождая дух патриархальной простоты.
Здесь многими часами просиживали и Нерьес с Райзером, попеременно читая друг другу стихи разных поэтов, – занятие, почти всегда требовавшее от них огромных усилий и труда, но они бы ни за что не признались в этом друг другу, так как не хотели расставаться со своим идеальным представлением: «Охваченные дружеским чувством, мы сидели на штайгервальдском склоне, любовались живописной долиной и услаждали свой дух прекрасными творениями поэзии».
Стоит подумать, как много мизерных обстоятельств сопутствовало такому недвижному сидению и декламации под открытым небом, и легко будет себе представить, с какими разнообразными мелкими неприятностями приходилось бороться Нерьесу и Райзеру во время этих чувствительных сцен: как часто земля оказывалась сырой, по ногам ползали муравьи, ветер трепал страницу книги и т. п.
Нерьесу доставило особое наслаждение прочитать Райзеру «Мессиаду» Клопштока от доски до доски, отчего оба испытывали ужасающую скуку, в которой не решались признаться не только друг другу, но даже и самим себе, однако у Нерьеса было хотя бы преимущество произносить стихи вслух, тем подгоняя время, Райзер же был обречен слушать и восхищаться, и все это составляло тягчайшие часы его жизни, которые как ничто другое отвращали его от самой мысли прожить свою жизнь сызнова. Ибо нет большей муки, чем ощущать совершенную пустоту души, тщетно стремящейся эту пустоту заполнить и без вины винящей самое себя в глухоте и бесчувствии к возвышенным звукам, беспрестанно отдающимся в ушах.
Хотя друзья были теперь почти неразлучны, Райзер вновь затосковал по одиноким прогулкам, всегда доставлявшим ему чистейшее наслаждение. Однако теперь отравлял себе и его, так как ожидал от подобных прогулок слишком многого и возвращался домой раздосадованный, если не обретал желаемого: лишь только Там превращалось в Здесь, оно сразу теряло свое очарование и источник радости иссякал.
Досада, сменявшая окрыленную надежду, была такого грубого, пошлого и низкого свойства, что совсем не оставляла места для мягкой грусти или иного подобного чувства. Она напоминала ощущение человека, насквозь промокшего под дождем, который, дрожа от холода, возвращается в нетопленую комнату.
Вот такую жизнь вел Райзер, продолжая при этом писать свой трактат, обличающий фальшивую сентиментальность. Однако как-то раз, гуляя в одиночестве, он имел случай наблюдать необычное проявление сентиментальности у простого человека, от которого менее всего ожидал чего-то подобного.
Райзер проходил тогда эрфуртскими садами, был сезон созревания слив, и он, не удержавшись, сорвал одну, спелую и прекрасную, с ветки, перевесившейся через забор. Хозяин сада, заметив это, весьма грубо на него набросился – да знает ли он, что сорванная слива обойдется ему в один дукат!
Райзер попытался было торговаться, но тотчас признался, что не имеет с собой ни гроша. А чтобы хоть как-то возместить хозяину уворованную сливу, Райзеру пришлось отдать свой единственный и добротный носовой платок, расставаться с коим ему было очень жаль.
Печальный, он продолжил свой путь, но, не пройдя и нескольких шагов, вдруг заметил валявшийся на земле складной нож. Он быстро поднял его и, обернувшись, крикнул хозяину, не вернет ли тот его платок взамен найденного ножа.
Как же изумился Райзер, когда хозяин, еще минутой раньше столь грубый, внезапно бросился ему на шею, расцеловал и попросился к нему в друзья, ведь Райзер не иначе как любимчик Провидения, коли сумел найти нож, потерянный не кем иным, как этим самым садовником. Он тут же с готовностью вернул платок, добавив, что отныне его сад всегда открыт для Райзера, и тот может рвать здесь слив, сколько вздумается, а сам он, хозяин, готов служить ему во всем, ибо ничего похожего на этот удивительный случай с ним никогда не происходило.
Обдумывая это странное происшествие по дороге домой, Райзер нашел самым примечательным то, что подобное приключилось с ним впервые в жизни и притом благодаря стечению обстоятельств, обычно совпадающих чрезвычайно редко.
Наверное, думал он, этой безделицей исчерпано доброе расположение его судьбы и теперь она заставит его дороже расплачиваться в большем за вину, что вменена ему самим его рождением на свет.
В этой связи ему вспомнился векфильдский священник, коему на редкость удачный бросок костей принес выигрыш в несколько пенсов – незадолго перед тем, как пришло известие о банкротстве купца, лишившем его целого состояния.
Еще недолгое время судьба воздерживалась от унизительных ударов, приуготовленных для Райзера, и позволяла ему безмятежно наслаждаться игрой в спектакле, где ему было отведено целых три роли.
Его заветнейшее желание оказалось тем самым почти исполнено, хотя блеснуть в трагической роли ему так и не довелось. Больше того, к его суждениям о театре прислушивались, у него спрашивали совета, а участием в спектакле и своими стихами он снискал известность среди студентов: все они относились к нему с учтивостью, составлявшей приятный контраст с тем, как он жил в Ганновере.
Теперь он прилежно посещал университетскую библиотеку и с особым удовольствием изучал сделанное Дюгальдом «Описание Китая», потратив на это уйму времени.
Как раз в это время вышла «Монастырская история» Зигварта, и Райзер вместе с Нерьесом прочли эту книгу несколько раз, преодолевая ужасающую скуку и всячески стараясь сохранить первоначально возникшее чувство умиления на протяжении всех трех ее томов.
Под конец Райзер задумал не больше и не меньше, как переложить сей сюжет в жанр исторической трагедии, и сделал для пробы множество набросков, затратив на это без счету драгоценного времени.
Когда же у него не стало получаться желаемое, то после каждой неудачи он часами предавался невыразимой тоске и отвращению. Природа, а заодно и собственные мысли потеряли для него всякое очарование, каждая минута его тяготила, а жизнь стала сущим терзанием.
Посему следующий раздел в истории страданий Антона Райзера следовало бы озаглавить
Муки поэзии,ибо он полнее всего отражает внутреннее и внешнее его состояние, а также показывает то, что многие люди не сознают или скрывают всю жизнь, робея доискиваться истинных оснований и причин своих неприятных ощущений.
Этим тайным мукам и сопротивлялся Райзер почти все свое детство.
Когда на него внезапно накатывала поэтическая волна, в душе рождалось печальное чувство, он представлял себе Нечто, в котором сам полностью растворялся, и все когда-либо им читанное, слышанное и передуманное перед лицом этого Нечто тоже куда-то исчезало. Верно описать его бытие стало бы неслыханным и несказанным наслаждением.
Одно по-прежнему оставалось неясным: чтó было бы здесь наиболее уместно – трагедия, баллада или элегическое стихотворение. Во всяком случае, это произведение должно было пробуждать некое чувство, о котором поэт уже смутно догадывался.
В минуты блаженного предчувствия язык мог издавать лишь отдельные лепечущие звуки. Как в некоторых одах Клопштока, где промежутки между словами заполнены точками.
Но эти разрозненные звуки всегда передавали всеобщность великого и возвышенного, вызывали слезы радости и тому подобные отклики. И это продолжалось, пока чувствительность снова не иссякала, так и не породив хотя бы нескольких разумных строк, могущих положить начало чему-то определенному.
Во время этого кризиса не рождалось ничего прекрасного, к чему могла бы прилепиться душа, на поверку оставалось лишь нечто совсем нестоящее. Как будто душа имела смутное представление о чем-то таком, чем стать не могла, но что делало постыдным само ее нынешнее существование.
Таков неложный знак отсутствия поэтического призвания: его нет, если побудить к творению тебя может одно лишь чувство целого, а прежде возникновения этого чувства или хотя бы ко времени его возникновения замысленная сцена во всей ее определенности никак не складывается. Иными словами, кто во время переживания некоего чувства не может окинуть взглядом сцену во всех ее подробностях, у того есть чувство, но нет поэтического дара.
И конечно, нет ничего опаснее, чем предаться этой обманчивой склонности. Никогда не рано бывает призвать юношу к строгому допросу самого себя: не ставит ли он свое желание на место способности творить. А поскольку заполнить это пустующее место ему не дано, то наказанием за запретное наслаждение будет вечная неудовлетворенность.
Именно так и происходило с Райзером, омрачившим лучшие часы своей жизни напрасными потугами, погоней за химерой, все время приманивающей его душу, когда же ему чудилось, будто он ее поймал, она немедленно растворялась в туманной дымке.
Едва ли контраст поэзии с жизнью и судьбой был явлен на ком-либо столь разительно, как на Райзере, который с детства жил в среде, втаптывавшей его в грязь, и, чтобы дотянуться до поэтического, ему пришлось перепрыгнуть через ступень формирования личности, а на следующей ступени он удержаться не смог.
Теперь во внешней его жизни все повторялось заново. Собственной комнаты у него не было; когда похолодало, ему пришлось переселиться в общую гостиную и вместе со своими сожителями выходить из нее всякий раз, как затевалась уборка.
В этой комнате с Райзером соседствовало целое семейство и еще один студент; все они принимали здесь гостей, и потому здесь вечно царили разговоры, детский шум, пение, ссоры и крики. Таково было окружение, в коем Райзер сочинял философский трактат о сентиментальности и пытался воплотить свои идеальные представления о поэзии.
Здесь же он вознамерился писать трагедию «Зигварт», которая начиналась у него сценой визита к отшельнику, излюбленной фантазией Райзера да и большинства молодых людей, воображающих у себя поэтический дар.
Это вполне естественно, так как жизнь отшельника имеет в себе много поэтического и поэт находит в его келье готовый материал для себя.
Однако ж тот, кто дает себя увлечь подобным предметам, почти наверняка также лишен подлинного поэтического дара, ибо ищет поэзии в предметах, тогда как она должна пребывать в нем самом и поэтизировать все, что предстает его воображению.
Равно и выбор ужасного – дурной знак, коль скоро самомнящий поэтический гений перво-наперво обращается именно к нему. Причина в том, что ужасное действительно заключает в себе много поэтического и этой материей легко можно маскировать внутреннюю пустоту и бесплодность.
Именно так произошло и с Райзером в Ганновере, когда он еще в школе попытался сгрудить и лжесвидетельство, и кровосмешение, и отцеубийство в одной трагедии, назвав ее «Лжесвидетельство» и при этом все время думая о постановке ее на сцене и о том, какой эффект она произведет на зрителей.
И этого тоже должно избегать всякому, кто всерьез желает дознаться, есть ли у него поэтическое призвание. Ибо истинный поэт и художник ожидает воздаяния себе не от эффекта, сообщаемого его произведением, но ищет наслаждения в самой работе и не сочтет, что трудился впустую, даже если никто не увидит его усилий. Произведение само безотчетно его притягивает, само заключает в себе энергию для его будущего роста, а все почести – лишь стрекало, которое его подгоняет.
Жажда славы может, конечно, побудить к созданию великого произведения, но никогда не сможет наделить необходимой для этого силой того, кто не обладал ею еще прежде, чем познал жажду славы.
И еще один, третий дурной знак, когда молодые поэты слишком охотно черпают сюжеты из далекого и неведомого, когда они чрезмерно увлекаются обработкой восточных мотивов и прочих материй, донельзя удаленных от сцен повседневной жизни и несущих поэзию уже в самих себе.
И к этому Райзер тоже был причастен. Уже довольно долго он обдумывал поэму о Творении, которая разворачивалась бы в отдаленнейших пределах, какие только можно вообразить, и где на месте подробностей, коих он избегал, выступали сплошь огромные бесформенные массы, полагаемые чем-то в высшей степени поэтическим и в качестве такового избираемые многими не слишком одаренными молодыми авторами куда более охотно, нежели предметы, более близкие к человеку. Ибо в эти последние надлежало бы еще вдохнуть возвышенную поэзию, а в первых их гений мнил отыскать ее уже готовой.
Между тем обстоятельства Райзера с каждым днем становились все более стесненными – из Ганновера, вопреки надеждам, никакой помощи не поступало, хозяева все чаще бросали на него косые взгляды, поняв, что у него нет не только денег, но и надежд на их получение. Он больше не мог платить за завтраки и ужины, которые обычно здесь получал, и ему ясно дали понять, что никакого желания ссужать его деньгами у хозяев нет. А поскольку пользы от него теперь не было никакой и своим унылым видом он только портил компанию, вполне естественно, что от него решили избавиться и отказали от квартиры.
Событие само по себе заурядное, но Райзер воспринял его трагически. Мысль о том, что он кому-то в тягость и что окружающие едва его терпят, опять сделала для него жизнь ненавистной. На него снова разом нахлынули воспоминания детства и юности. Весь позор он принял на себя и в отчаянии решил снова отдаться на волю слепой судьбы.
Он задумал в тот же день покинуть Эрфурт, великое множество романических идей теснилось у него в голове, и самая заманчивая из них была: отправиться в Веймар к создателю «Вертера» и на любых условиях попроситься к нему в услужение; таким образом он под чужим видом вошел бы в близкое окружение человека, оставившего в его душе глубочайший след. Райзер вышел за городские ворота и устремил взгляд на Эттерсберг, стоявший высокой преградой на пути его желаний.
Он навестил Фрорипа и стал прощаться с ним, не называя причины, по которой вновь покидает Эрфурт. Доктор Фрорип отнес решение Райзера за счет его мрачного настроения, стал убеждать его остаться и отпустил не прежде, чем тот пообещал повременить с уходом по крайней мере до завтрашнего утра.
Такое участие было Райзеру чрезвычайно лестно, но стоило ему остаться наедине, как его, словно злой демон, опять начала преследовать мысль, что он сделался обузой для окружающих. Не находя покоя, он стал бродить по пустынным окрестностям Эрфурта, вокруг картезианского монастыря, где всем сердцем желал бы теперь обрести надежное убежище, и с тоской глядел на его недвижные стены.
Так он блуждал по округе до вечера, но тут небо затянулось тучами и обрушился ливень, мгновенно промочивший его до нитки. Охватившая Райзера крупная дрожь лишь усиливала его внутреннюю тревогу, заставляя под проливным дождем кружить по опустевшим улицам вдоль старинных городских стен: сама мысль о возвращении в прежнее жилище казалась ему невыносимой.
Он поднялся по высокой лестнице к древнему собору и обвязал голову платком, надеясь хоть ненадолго спастись от дождя под стеной. Сначала от усталости на него навалилась какая-то отупляющая дремота, однако вскоре, разбуженный новым порывом ветра и дождя, он опять пустился кружить по улицам.
Под струями дождя, бившими в лицо, он вспомнил строку из Лира: to shut me out, in such a night as this! («Прогнать меня в такую ночь наружу!»[15]), и тут, погруженный в собственное отчаяние, принялся исполнять роль Лира, но вскоре позабыл о себе, растворившись в судьбе Лира, изгнанного родными дочерьми и призывающего стихии отомстить чудовищную обиду.
Сцена эта сначала его взбодрила, и некоторое время он с каким-то сладострастием даже упивался своим положением, но наконец и это чувство притупилось, его окружала лишь голая действительность, и, опомнившись, он презрительно расхохотался над самим собой.
В таком настроении он снова вернулся к старинному собору, который уже открылся, и в него при зажженных свечах стекались на заутреню хористы. Старинное готическое здание, мерцающие огоньки, их отражение в высоких окнах произвели волшебное впечатление на Райзера, опустившегося на скамью после целой ночи, проведенной в блужданиях. Он словно бы обрел приют от дождя, и все же здешнее пространство не было предназначено для живых. Скорее, сумрачный свод призывал к себе тех, что хотели бежать от жизни, и всякий, кто пережил ночь, подобную выпавшей Райзеру, с охотой откликался на этот зов. Сидя на скамье в храме, Райзер почувствовал себя перенесенным в область отрешенности и покоя, что доставило ему несказанное наслаждение, разом освободившее от всех горестей и скорбей и отвлекшее от воспоминаний прошлого. Райзер хлебнул летейской влаги и соскользнул в царство сладостной и безмятежной дремоты. При этом взгляд его неотрывно ловил бледное мерцание высоких окон, которое, как он чувствовал, и перенесло его в новый мир: он пробудился в торжественных спальных покоях и открыл глаза после кошмарного ночного сна.
Подобные минуты в жизни Райзера и вправду походили на горячечные сны, но они были частью его жизни и гнездились в его судьбе с самого детства. И разве не презрение к самому себе и не подавленное чувство собственного достоинства приводили его в подобные состояния? А само презрение к себе, не было ли оно вызвано постоянным давлением извне, в коем, правда, следует винить не столько людей, сколько случайные причины?
Когда окончательно рассвело, Райзер с успокоенным сердцем вышел из собора и встретил на улице своего друга Нерьеса. Юноша уже спешил на урок и, взглянув на Райзера, от неожиданности вздрогнул, настолько изнурила и обессилила того прошедшая ночь.
Нерьес не успокоился, покуда Райзер во всех подробностях не описал ему свои обстоятельства. Затем, дружески упрекнув Райзера, что тот перестал ему доверять, он привел его на старую квартиру, постарался представить его хозяевам совсем в другом свете и заплатил ничтожный долг своего друга.
Такое искреннее участие вновь укрепило в Райзере пошатнувшееся достоинство, он даже гордился своим другом и через него обрел уважение к себе.
Чтобы получить возможность уединения, он испросил себе закуток на чердаке дома, куда перенесли его постель и где, предоставленный самому себе, он не без приятности прожил две или три недели.
Он проводил время в чтении и изучении наук и в своем уединении чувствовал бы себя совершенно счастливым, не мучай его замысел поэмы о Творении, не раз ставившей его на порог отчаяния, когда он пытался выразить то, что вроде бы хорошо чувствовал, но слов найти не умел.
Больше всего мучений доставляло ему помещавшееся в начале поэмы описание хаоса, которое его болезненная фантазия была не прочь развернуть как можно шире, однако он не находил нужных слов для своих чудовищных и гротескных представлений.
Он воображал себе хаос как нечто обманчивое и мнимое, внезапно предстающее в виде сна и наваждения, как некий образ, куда более прекрасный, чем правдоподобный, и именно потому не могущий существовать сколько-нибудь долго.
Обманное солнце вставало на горизонте и возвещало наступление сверкающего дня. Под его неверными лучами бездонное болото покрывалось коростой, на которой расцветали цветы и пробивались источники, но вдруг в глубине поднимались прежде стесненные силы, мощный поток с ревом вырывался из бездны, тьма со всеми ее ужасами вылетала из своего укрытия и, поглотив новорожденный день, вновь погружала его в ужасную могилу. Всегда теснимые в самих себя, эти силы в ярости бились во все стороны, ища выхода, и роптали под невыносимым гнетом. Могучие валы вздымались и падали, стеная под порывами воющего ветра. В глубокой темнице клокотало пламя; и вздымающаяся земля, и скала, на ней утвержденная, со страшным грохотом снова обрушивались во всепоглощающую бездну.
Вот над какими ужасными образами билась фантазия Райзера, в то время как его собственная душа являла собою хаос, куда не пробивался луч бесстрастной мысли, где душевные силы теряли равновесие, сердце тонуло во тьме, действительность больше не вызывала вдохновения, а мечты и химеры казались милее порядка, истины и света.
Конечно, все эти переживания тоже коренились в идеализме, к которому он склонялся от природы и в котором утвердился благодаря философским системам, изученным в Ганновере. И на этом зыбком берегу он не находил места, где бы утвердить ногу. Смешанное со страхом чувство неудовлетворенности и внутреннее беспокойство преследовали его на каждом шагу.
Все это и гнало его из людского общества на чердаки и мансарды, где он еще мог проводить приятнейшие часы, предаваясь своим фантазиям, и это же внушало ему неодолимое влечение ко всему романтическому и театральному.
Как внутреннее, так и внешнее его состояние способствовало тому, что он снова с головой утонул в сфере идеального, поэтому неудивительно, что от первого же толчка его прежняя страсть снова разгорелась огнем и он опять стал лелеять мысли о театре, и была это не столько художественная, сколько жизненная потребность.
И случился толчок очень скоро, когда в Эрфурт приехала труппа Шпайха и ей дозволили играть в бальном зале, где прежде ставили свой спектакль студенты.
Райзер здесь уже был хорошо известен и даже стяжал известную славу своими актерскими талантами, поэтому он очень скоро познакомился с директором этого маленького театрика, и тот сразу согласился предоставить ему ангажемент, стоит только Райзеру пожелать пойти в актеры.
Это искушение – а к Райзеру теперь само шло в руки то, чего он тщетно домогался всю свою жизнь, – оказалось для него слишком сильным. Он отбросил все сомнения и теперь словно переселился в театральный мир, воспылав энтузиазмом, как в Ганновере, ко всем его частностям вплоть до театральных билетов и исполнившись своего рода зависти ко всем театральным людям вплоть до суфлеров и переписчиков ролей.
Один из таких, по имени Байль, впоследствии ставший знаменитым актером, особенно остро возбуждал любопытство Райзера. Он заметно выделялся среди остальных членов труппы, и Райзер ничего так сильно не желал, как свести с ним знакомство, что было совсем не трудно. Он не утаил свое желание от Байля, тот укрепил его в решении посвятить себя театру, и Райзер надеялся обрести в нем друга.
Отбросив всякие сомнения, он старался сколько возможно не думать о докторе Фрорипе и своем друге Нерьесе и, никому не сказавшись, принял ангажемент театрального директора, исполнившись решимости и надежды первой же своей ролью так показать себя, чтобы все одобрили его выбор.
Теперь все зависело от того, в какой роли ему дадут выступить, и случилось так, что к ближайшей постановке были намечены «Модные поэты» и ему предложили роль в этом спектакле.
Сначала он хотел сыграть Мутного и уже выучил роль наизусть, но его новый друг актер Байль отговорил его, поскольку всегда сам играл эту роль и она ему хорошо удавалась, Райзеру же лучше взять Рифмовского, которого прежде исполнял малоизвестный актер.
Райзер охотно согласился на это предложение, так как полагал, что, сыграв Маскариля и магистра Блазия, уже достаточно поднаторел в комических ролях, а потому переписал свою роль и выучил ее наизусть.
Он уже предвкушал счастливое развитие своей театральной карьеры, как вдруг заметил нечто такое, что в самом расцвете надежд повергло его в страх и ужас. Будто посланец самого сатаны нанес ему удар кулаком: над ним нависла угроза выпадения волос.
Именно теперь, когда тело должно быть во всем безупречно, постигла его эта беда, заранее внушая ему отвращение к самому себе.
Он в панике помчался к своему верному другу доктору Зауэру, и тот обнадежил его, сказав, что волосы еще можно сохранить. И вот вечером перед премьерой «Модных поэтов» он стоял в уборной за кулисами и наряжался в комическое платье, в коем ему предстояло выступить в роли смехотворного Рифмовского. Его имя красовалось в этот день на афишах, развешанных на всех углах.
Незадолго до начала спектакля в театр пришел Нерьес и осыпал Райзера горькими упреками, однако Райзер, с головой ушедший в свою роль, пребывал в столь взбудораженных чувствах, что даже его не слышал. Наконец и Нерьес поддался тому же настроению и стал хохотать над его комическим костюмом, но в эту самую минуту явился посланец и объявил директору, что доктор Фрорип немедленно отправится в магистратуру с жалобой на него, если он позволит студенту, имя которого обозначено в афише, выйти на сцену. Ослушание приведет к незамедлительной потере театром концессии на выступления в городе.
Райзер застыл как окаменелый, директор в испуге заметался, не зная, что предпринять, пока один из актеров не вызвался как-нибудь одолеть роль Рифмовского с помощью суфлера: публика в партере уже начала топать, в нетерпении ожидая поднятия занавеса.
В неописуемом бешенстве Райзер мерил шагами пространство за кулисами, впившись зубами в тетрадку с ролью. Затем он выбежал из театра и снова под дождем и ветром пустился бродить по улицам, покуда уже глубокой ночью не упал в изнеможении на каком-то крытом мосту, защитившем его от дождя, но потом опять, собравшись с силами, продолжал кружить по городу, пока не занялся день.
Такое крайнее напряжение всего естества в первые мгновения горчайшей боли только и могло хоть немного возместить его потерю. Состояние нескончаемого исступления содержало в себе нечто такое, что питало и насыщало его неутолимую тоску. Вся его несбывшаяся театральная жизнь как будто сосредоточилась в пределах этой ночи, он же одну за одной перебирал все стадии страсти, которые мог изобразить, не иначе как испытав на самом себе.
На другой день доктор Фрорип призвал его к себе для отеческого увещания. В самых лестных выражениях он уверял Райзера, что его таланты располагают к большему, нежели звание актера, что он не знает самого себя и пребывает в неведении собственных достоинств.
Райзер же, ясно осознав невозможность осуществить свое желание в Эрфурте, снова впал в самообман и убедил себя, что по собственной воле отбрасывает намерение посвятить себя театру, раз уж весь свет словно сговорился препятствовать этому, да и разубеждающая речь доктора Фрорипа содержала в себе так много лестного.
Но едва он опять остался один, как самообман начал мстить жестокими терзаниями и сомнениями, возобновилась внутренняя борьба. И наконец его постиг ужаснейший удар, которого он так надеялся избежать: волосы его стали неудержимо падать.
Мысль о необходимости носить парик – для эрфуртских студентов нечто диковинное – была ему невыносима. Тогда на оставшиеся у него скудные деньги он снял место в гостинице на самом дальнем краю города, где, однако, только ночевал и по вечерам заказывал себе пиво с ломтем хлеба, чтобы продержаться на своем запасе как можно дольше.
Днем он обычно бродил по безлюдным местам, иногда укрываясь от дождя в церквах, и так провел почти две недели, пока один из друзей не выследил его, и как-то раз Нерьес, Окорд, В. и еще несколько человек, озабоченных его пропажей, неожиданно нагрянули к нему в гостиницу с дружескими упреками, зачем-де он от них удалился.
Ему удавалось теперь зачесать волосы со лба на парик, так что под густым слоем пудры вся шевелюра могла сойти за его собственную. И он решился вместе с друзьями вернуться в людское общество, однако все время старался держаться только этой компании, пожелав, сколько возможно, жить в уединении подальше от людей.
В этом желании ему также не было отказа. Благодушный В. сразу же поговорил со своим дядей, регирунгсратом профессором Шпрингером, и в живых красках описал ему положение Райзера и его нужду в уединенном жилище.
Советник Шпрингер пригласил Райзера к себе и нашел столь ободряющие и ласковые слова, что Райзер сразу проникся к нему сердечной симпатией и почтением.
В то время Шпрингер читал лекции по статистике, иные из которых Райзер посетил, так как весьма интересовался этим предметом. Узнав об этом, советник Шпрингер стал всячески склонять его всерьез заняться этой наукой и пообещал всемерно ему содействовать.
И содействие началось с того, что он, не откладывая, предоставил Райзеру, как тот мечтал, отдельное жилье в своем садовом домике, вручив ему и особый ключ. Из окна этого дома открывался красивейший вид на сады, сплошной чередой окружавшие Эрфурт.
Теперь Райзер снова получил трехразовый даровой стол, доктор Фрорип принимал в нем самое живое участие, всячески его поддерживая; он даже стал посещать математические лекции, добрые друзья приобщили его к своим литературным вечерам, порой читали ему вслух свои произведения. Все шло чудесно, пока внезапный прилив поэтического наваждения не разрушил сложившийся порядок.
Начать с того, что нынешнее его уединенное романтическое жилище немало способствовало возбуждению фантазии. А письмо, написанное им в Ганновер Филиппу Райзеру, лишь ускорило возврат болезни.
Ибо послание это было целиком выдержано в духе Вертеровых писем и всячески побуждало к воскрешению патриархальных настроений, жаль только, что в нем не обошлось без чрезмерной аффектации.
Причина же была в том, что, собираясь его писать, Райзер сперва обзавелся чайником, одолжил у кого-то чашку и, не имея в доме дров, купил соломы, употребительного в Эрфурте материала для топки, дабы самому, не выходя из своей комнатки, вскипятить себе чаю на маленькой печке, в чем он в конце концов и преуспел, предварительно едва не задохнувшись от дыма.
И лишь когда это ему удалось, он уселся писать Филиппу Райзеру торжествующее письмо.
«Итак, дорогой друг, обстоятельства мои теперь таковы, что лучших и желать не надобно. Из малого моего окошка я обозреваю широкий луг, вижу в самой дали ряд деревец, возвышающихся на невысоком холме, и думаю о тебе, мой друг, – и далее в таком же роде… Обладатель ключа от моего уединенного жилища, я теперь хозяином и в доме, и в саду – и так далее… Когда порой я сижу подле своей маленькой печки и варю себе чай – и тому подобное…»
В таком тоне было составлено это внушительное и длинное послание. Райзер не мог противиться желанию показать его своему взыскательному другу доктору Зауэру, который лишь окончательно ухудшил положение, сделав ему комплимент в своей обычной добродушной манере: не будь ему, доктору Зауэру, столь дорого общество Райзера, он предпочел бы жить в отдалении, только бы получать от него подобные письма.
После этого уснувшая было страсть Райзера к поэзии разгорелась снова. Сперва он попытался завершить описание хаоса в стихах про творение и опять с мукой углубился в описание уродливых несообразностей и чудовищных лабиринтов мысли, пока наконец это адское нагромождение понятий не разрешилось следующим гекзаметром, навеянным Библией:
Над спящими водами мира голос Творца прозвучал, Молвил он тихо: да будет свет, и возник свет.Но удивительно: лишь только ужасное из стихов ушло, ему расхотелось их продолжать. И он выискивал один ужасный предмет, который можно бы трактовать снова и снова – но что это мог быть за предмет, как не сама смерть!
При этом ему льстила мысль, что столь серьезную тему для стихов он выбрал уже в юном возрасте, и потому он начал свое стихотворение так:
Он с самых юных лет страданий чашу пил и т. д.Но стоило ему приступить в работе и начать обдумывать первую песнь, название которой он уже красиво вывел на листе, как его постигло горькое разочарование: вопреки ожиданию, ужасные образы отнюдь не стали слетаться к нему толпой.
Крылья его души бессильно опали, а перед внутренним взором распростерлись лишь пустота и черная безысходность. Нечего было и пытаться (как он сделал в описании хаоса) изобразить тщетные порывы жизни к свету: вечная тьма покрыла все видимые формы, вечный сон сковал всякое движение.
Он яростно распалял свое воображение, дабы привнести в эту тьму живые образы, но все они сразу чернели, как тополиный венок Геракла, когда тот спускался в преисподнюю за Кербером. Все, что Райзер пробовал записать, растворялось в чадной мгле, и белый лист бумаги так и оставался нетронутым.
Тщетные потуги вымученного поэтического вдохновения наконец довели его до полного изнеможения и ввергли в подобие летаргического сна.
Как-то вечером он повалился на кровать в одежде и всю ночь и весь следующий день, пришедшийся на Рождество, провел в сонном мороке, из коего был выведен нарочным от его благодетеля, советника Шпрингера, явившимся с большим рождественским пирогом – подарком Райзеру от жены советника.
Но это лишь усилило неодолимый морок. Райзер заперся в своей комнате с этим огромным пирогом и, откусывая от него понемногу, без малого две недели пролежал на кровати – если не в беспробудном сне, то в неотвязной дремоте. К этому надо добавить, что у него не осталось и дров для отопления комнаты. Он мог бы сказать всего несколько слов, чтобы этот недостаток немедленно восполнили, однако ему было приятнее оправдывать свой странный образ жизни отсутствием дров.
И в таковом затворничестве друзья ни разу не потревожили Райзера, так как он часто говорил им, что желал бы провести одну-две недели в полном одиночестве.
Между тем этот образ жизни произвел на него необыкновенное действие. Первые восемь дней он провел в полной расслабленности и безразличии ко всему, в том самом состоянии, какое он безуспешно пытался описать в природе. Он словно бы испил летейских вод, и в нем погасла последняя искра жизни.
Но следующая неделя, если взять ее саму по себе, стала для него одной из счастливейших.
Долгий покой постепенно освежил уснувшие силы. Дремота становилась все прозрачнее, по жилам пробежала новая жизнь. В нем снова одна за другой просыпались юношеские надежды, снова его осеняла слава и оглушал гром рукоплесканий, а прекрасные мечты раскрывали перед ним блестящую будущность. Нескончаемый сон его одурманил, и когда он немного стряхивал с себя сладкую дремоту, то чувствовал в голове как бы приятный хмель. Само пробуждение казалось продолжением сна, и Райзер отдал бы многое, чтобы это состояние его не покидало.
Зрелище замерзших стекол необычайно радовало Райзера, так как еще на один день оставляло его в постели. Большой пирог на столе он берег как святыню, потому что от сохранности этого пирога зависела сохранность его собственного блаженства.
Теперь он опять ощущал в себе силы, если понадобится, одолеть любые препятствия. Сцена вновь предстала перед ним во всем ее великолепии, в душе одна за одной вздымались театральные страсти, а зрители восхищались его игрой.
В один из вечеров, когда пирог был съеден, Райзер поднялся с постели, елико возможно почистил свой костюм и первым делом отправился в театр, где, устроившись в уголке, посмотрел сначала «Инкля и Ярико», а затем «Страдания юного Вертера». Сочинитель второй пьесы ограничился тем, что переложил Вертеровы письма в диалоги и монологи, которые вышли изрядно длинными, но из-за чувствительности многих сцен публика, как и артисты, следила за действием затаив дыхание.
Но тут, в минуту высшего трагического напряжения второй пьесы, произошел весьма комичный случай. Для сцены были где-то позаимствованы два старых заржавленных пистолета, и ни у кого не дошли руки их заранее опробовать.
Актер, игравший Вертера, взял их со стола и произнес положенные слова: «Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль и т. д.». Затем, в точности следуя тексту пьесы, он велел принести себе хлеба и бокал вина, что слуга исполнил, не преминув подать заодно и столовый нож.
Далее, однако, по пьесе следовало, что друг Вертера Вильгельм, услышав выстрел, вбегает в комнату со словами: «Боже! Я слышал выстрел!»
Все шло прекрасно, но, когда Вертер взял злосчастный пистолет, приставил его к правому виску и нажал курок, произошла осечка.
Решительный актер, не потеряв хладнокровия из-за этого досадного случая, отбросил пистолет и патетически воскликнул: «Так ты не хочешь сослужить мне эту горестную службу?» Затем он схватил другой пистолет, снова нажал курок, и – о ужас! – снова осечка.
Не в силах произнести ни слова, актер взялся за столовый нож, по счастью лежавший на столе, и, к ужасу зрителей, пронзил им свой фрак и жилет. В самый миг его падения на сцену выбежал Вильгельм с криком: «О Боже! Я слышал выстрел!»
Едва ли какая-нибудь трагедия могла закончиться более комично. Но этот случай не отвадил Райзера от заоблачных мечтаний, напротив, лишь больше пристрастил к ним: Райзер увидел перед собой нечто несовершенное, что следовало заменить совершенным.
До него дошел слух, что через восемь дней театр отбывает из Эрфурта в Лейпциг и самый искусный актер, Байль, получил ангажемент в Готу. Итак, у него больше нет опасного соперника, Лейпциг – город, где можно проблистать, парик легко можно спрятать под отросшими волосами. Как много причин, чтобы на время утихшая страсть снова взяла верх над разумом!
Он немедленно известил друзей о своем решении уйти в Лейпциг вместе с труппой Шпайха и о том, что чувствует необоримое влечение, каковое непременно сделает его несчастным, попытайся он его преодолеть, и встанет на его пути в любом другом деле.
Все эти причины он представил так страстно и убедительно, что даже его друг Нерьес, всегда столь ярко живописавший, как будущей весной они снова будут декламировать Клопштока на склонах Штайгервальда, – даже он не нашелся, что возразить.
Райзер теперь проводил все свое время в компании актеров, он вернул советнику Шпрингеру ключи от садового домика, заодно в самых живых красках изобразив, сколь плачевным будет его положение, если он подавит в себе склонность к театру.
Советник Шпрингер и на сей раз отнесся к Райзеру с необыкновенным участием. Он и сам посоветовал ему следовать своему влечению, коли уж оно так неотвязно, ибо влечение, что возвращается вновь и вновь, быть может, скрывает в себе истинное призвание к искусству, каковому призванию противиться не следует. Если же, напротив, Райзер заблуждается и затея его окажется напрасной, то пусть он, в каком бы ни был положении и обстоятельствах, смело обращается к нему и рассчитывает на его помощь.
Прощаясь, Райзер был глубоко растроган и не мог вымолвить ни слова, так сильно взволновали его великодушие и снисходительность этого человека. На возвратном пути он осыпал себя горькими упреками за то, что оказался недостоин его любви и дружбы.
Доктор Фрорип, коего Райзер тоже зашел проведать, уже был осведомлен о его решении от Нерьеса и отнесся к нему с таким же сочувствием, как и другой его благодетель. Он объяснил Райзеру, что не только не противился бы его решению, но и всячески приветствовал бы его, когда бы театральная сцена являла собой школу нравственности, каковой она может и должна стать.
Под конец доктор Фрорип – с полным на то основанием – позволил себе легкую иронию. Обращаясь к маленькой дочери, сидевшей у него на руках, он сказал: «Вот вырастешь большая и непременно услышишь о знаменитом актере Райзере, он еще прославится по всей Германии!» Но и эта дружеская ирония не смягчила Райзера: глубоко растроганный, он горько себе пенял, памятуя обо всех благодеяниях доктора Фрорипа, которые сам так и не смог достойно увенчать.
Однако теперь он почувствовал, что, если хочет оставаться верным себе, не должен прислушиваться к своим же упрекам: он убедил себя, что станет несчастнейшим человеком на свете, если не последует своему влечению.
Между тем труппа Шпайха в последние недели испытывала крайнюю нужду из-за упавшей выручки. Шпайх первым отбыл в Лейпциг с театральным имуществом, остальным актерам предстояло самим выбрать средство передвижения: одни поехали верхом, другие в повозках, а некоторые отправились пешком, смотря по обстоятельствам каждого, так как общая касса давно опустела. В Лейпциге они надеялись поправить свои дела.
Попрощавшись со всеми, Райзер в тот же день снарядился в дорогу пешком. Нерьес проводил его на лошади до ближайшей деревни, где в следующее воскресенье собирался произнести проповедь.
Добравшись до гостиницы, они предались воспоминаниям о тех блаженных днях, когда на горных склонах вместе предавались чтению «Мессиады». Затем Райзер пустился в путь, и Нерьес еще долго, пока не стемнело, его провожал.
На прощание они обнялись и, исполненные самых высоких чувств, впервые именовали друг друга «брат». Райзер разжал объятия и поспешил дальше, напоследок крикнув другу: «Возвращайся!»
Пройдя еще немного, он обернулся и крикнул: «Доброй ночи!» Лишь только он произнес эти слова, как сразу исполнился досады на самого себя, которая потом охватывала его всякий раз, как он думал об этом случае. Этот возглас отравил ему самое воспоминание о трогательной сцене прощания – в самом деле, не комично ли такой будничной фразой пожелать доброй ночи человеку, с которым расстаешься надолго, если не навсегда, словно наутро вы опять увидитесь?
Холод пробирал до костей. Но Райзер, шагая налегке, весь горел предвкушением славы и рукоплесканий.
Часто, поднявшись на холм, он ненадолго останавливался, озирал окрестные поля и в голове его пробегала странная мысль, как будто он бродит здесь каким-то чужаком и уже различает в туманной дали свою судьбу. Однако наваждение исчезало так же быстро, как появлялось, и он, продолжая путь, снова думал о том, каким предстанет ему Лейпциг и в каких ролях он выйдет на сцену.
С этими приятными мыслями он и преодолел путь от Эрфурта до Лейпцига. В дороге он часто повторял имя своего возлюбленного друга Нерьеса и проливал потоки слез – пока не вспоминал свое дурацкое «доброй ночи!», которое никак не мог связать воедино с этоми волнующими воспоминаниями.
В Эрфурте ему посоветовали остановиться в лейпцигской гостинице «Золотое сердце», где всегда располагались актеры и там же держали весь театральный скарб.
Войдя в гостиную, он увидел нескольких членов труппы Шпайха, которых хотел приветствовать как будущих своих товарищей, но тут заметил, что все они чем-то до крайности удручены. Все разъяснилось, когда ему сообщили утешительную весть о том, что досточтимый хозяин труппы сразу по прибытии в Лейпциг распродал весь театральный гардероб и с деньгами бежал. Труппа Шпайха стала не более как рассеянным стадом.
Примечания
1
Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987, с. 45–46.
(обратно)2
Там же, с. 46.
(обратно)3
Исх. 23,4. – Прим. перев.
(обратно)4
Здесь и далее, если не указано иное, стихи даны в переводе Екатерины Савельевой. – Примеч. ред.
(обратно)5
Корнелий Непот в жизнеописании Фемистокла пишет, что позор «не сломил, но образумил» юношу. (Перевод Н.Н. Трухиной.) – Прим. ред.
(обратно)6
Перевод А. Ярина.
(обратно)7
Перевод А. Ярина.
(обратно)8
Ссылка на школьный обиход того времени, «упражнения, выполняемые быстро, без раздумий». – Прим. перев.
(обратно)9
С трудом струится беглый поток, меж берегов плутая (Гораций, Оды. Кн. III/13). Перевод Т. Азаркович.
(обратно)10
И.В. Гете, Страдания юного Вертера. Перевод Н. Касаткиной.
(обратно)11
И.В. Гете, Страдания юного Вертера. Перевод Н. Касаткиной.
(обратно)12
Ганноверская миля составляет чуть меньше семи с половиной километров. – Прим. перев.
(обратно)13
Reiser по-немецки означает «путник», «путешественник». – Прим. перев.
(обратно)14
И.В. Гете, Страдания юного Вертера. Перевод Н. Касаткиной.
(обратно)15
Перевод Б. Пастернака.
(обратно)

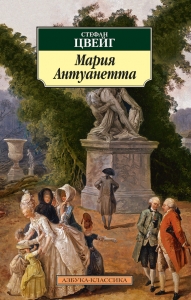









Комментарии к книге «Антон Райзер», Карл Филипп Мориц
Всего 0 комментариев