Редьярд Джозеф Киплинг Возвращение Имрея
Имрей выполнил невозможное… Без предупреждения, без какого-либо понятного повода, молодой, только что начинавший избранную им карьеру, он решился покинуть свет, т. е. исчезнуть с той маленькой индийской станции, где он жил.
Днём он был жив, здоров, счастлив; его видели многие в клубе. Наутро его не оказалось, и никакие поиски ни к чему не привели; так и не удалось узнать, где он находился. Он вышел из своего жилища; он не появился в назначенный час на службе, и его догкарта не было видно на общественных дорогах. По этим причинам и потому, что он, в микроскопических размерах, причинил затруднение администрации индийской империи, эта империя остановила своё внимание на одно мгновение, чтобы навести справки об участи Имрея. Обыскали пруды, исследовали источники, послали телеграммы по линиям железных дорог и в ближайший морской порт – за тысячу двести миль; но Имрея обнаружить не удалось. Он исчез, и его больше не видели обитатели станции. Потом работа великой индийской империи пошла вперёд быстрым ходом, потому что её нельзя было задерживать, и Имрей из человека превратился в тайну – в предмет разговора за столом в клубе в продолжение месяца, а затем был окончательно забыт. Его ружья, лошади и экипажи были проданы тому, кто дал дороже других. Его начальник написал совершенно глупое письмо матери, где говорил, что Имрей исчез непонятным образом и его бунгало стоит пустым.
Через три-четыре месяца, по окончании периода палящей жары, мой друг Стриклэнд, служивший в полиции, решил нанять это бунгало у его хозяина-туземца. Это было раньше его обручения с мисс Югхель, в то время, когда он занимался изучением туземной жизни. Его собственная жизнь была довольно оригинальна, и люди жаловались на его манеры и привычки. В доме у него всегда было что поесть, но не было определённого времени для еды. Он ел, стоя и расхаживая, то, что находил в буфете, а это нехорошо для человеческого организма. Обстановка его дома ограничивалась шестью винтовками, тремя ружьями, пятью сёдлами и коллекцией больших удочек. Все это занимало одну половину бунгало, а другая была отдана Стриклэнду и его собаке Тайтдженс – громадной рампурской суке, съедавшей каждый день порции двух человек. Тайтдженс разговаривала со Стриклэндом на своём языке; а если, гуляя, подмечала что-нибудь, могущее нарушить покой её величества королевы-императрицы, то немедленно возвращалась к своему хозяину с донесением. Стриклэнд принимал меры, и результатом его трудов были беспокойство, штрафы и заключение в тюрьму других людей. Туземцы считали Тайтдженс домовым и обращались с ней с большой почтительностью и страхом. Одна комната в бунгало была отведена специально для неё. Ей принадлежала кровать, одеяло, плошка для питья; если кто-нибудь приходил ночью в комнату Стриклэнда, она опрокидывала пришельца и лаяла, пока не приходил кто-нибудь со свечой. Стриклэнд был обязан ей жизнью. Однажды, на границе, когда он искал одного убийцу, тот пришёл на заре, чтобы при сером свете её отправить Стриклэнда гораздо дальше Андаманских островов. Тайтдженс схватила этого человека, когда он прокрадывался в палатку Стриклэнда с кинжалом в зубах; после того, как виновность его была установлена перед законом, он был повешен. С этого дня Тайтдженс носила серебряный ошейник и на её одеяле появилась монограмма, а само одеяло было из двойного кашемирского сукна, потому что Тайтдженс была деликатная, нежная собака.
Ни при каких обстоятельствах она не разлучалась со Стриклэндом и однажды, когда он был болен лихорадкой, доставила много хлопот докторам, потому что сама не знала, как помочь своему хозяину, а никому другому не позволяла оказывать помощь. Макарнат, состоявший на медицинской службе в Индии, бил её прикладом ружья по голове до тех пор, пока она не поняла, что надо дать место людям, которые могут больному давать хинин.
Вскоре после того, как Стриклэнд поселился в бунгало Имрея, мне пришлось проезжать по делу через эту станцию, и, так как все помещения в клубе были заняты, я, естественно, поместился у Стриклэнда. Бунгало было очень удобно – в восемь комнат и с крышей, так плотно покрытой соломой, что никакой дождь не мог проникать через неё. Под крышей был натянут холст, имевший вид чисто выбеленного извёсткой потолка. Холст этот заменял потолок. Хозяин выбелил его заново, когда Стриклэнд нанял бунгало. Тому, кто незнаком с постройкой индийских бунгало, и в голову не придёт, что над холстом находится двухскатный чердак, где балки и солома укрывают всевозможных крыс, летучих мышей, муравьёв и разный хлам.
Тайтдженс встретила меня на веранде с лаем, похожим на удар колокола собора св. Павла, и положила лапы на моё плечо, чтобы показать, как рада мне. Стриклэнду удалось набрать каких-то остатков кушаний (он назвал это «ленчем»). Покончив с этим, он немедленно отправился по своим делам. Я остался один с Тайтдженс и с моими собственными делами. Летняя засуха сменилась тёплыми дождями. В разгорячённом воздухе не было ни малейшего движения, но дождь падал на землю и подымался снова вверх голубым туманом. Бамбук, яблони и манговые деревья в саду стояли тихо, а тёплая вода хлестала их; лягушки начали петь среди изгородей из алоэ. До наступления темноты, пока дождь лил всего сильнее, я сидел на задней веранде, слушал, как вода с шумом падала с крыши, и почёсывался, так как от жары у меня появилась особая сыпь. Тайтдженс вышла со мной на веранду и положила голову на мои колени; она была очень печальна. Когда поспел чай, я дал ей сухарей. Чай я пил на задней веранде, так как там было несколько прохладнее. За моей спиной темнели комнаты. Я чувствовал запах сёдел Стриклэнда и масла, которым были смазаны его ружья, и мне не хотелось сидеть среди этих вещей. В сумерках пришёл мой слуга в кисейной одежде, насквозь промокшей и плотно облегавшей тело, и сказал, что какой-то джентльмен желает видеть кого-нибудь. Очень неохотно я пошёл в пустую гостиную и велел моему слуге принести свет. Может быть, кто-нибудь действительно приходил в комнату – мне показалось, что я видел за окном какую-то фигуру, – но когда принесли свечи, там никого не было, кроме капель дождя, ударявших в окна, и запаха влажной земли, который я ощущал. Я объяснил моему слуге, что он не умнее, чем ему полагается быть, и пошёл на веранду поговорить с Тайтдженс. Она вышла под дождь, и даже с помощью осыпанных сахаром сухарей мне едва удалось уговорить её вернуться. Стриклэнд пришёл домой перед самым обедом, промокший так, что вода струилась с его одежды. Первые слова его были:
– Приходил кто-нибудь?
Я, извиняясь, объяснил, что мой слуга вызвал меня понапрасну в гостиную; а может быть, то был какой-нибудь бродяга, спросивший Стриклэнда, но потом раздумавший и убежавший. Стриклэнд без дальнейших разговоров приказал подать обед, а так как обед был настоящий, поданный на белой скатерти, то мы сели за стол.
В девять часов Стриклэнд захотел лечь спать; я также устал. Тайтдженс, которая лежала под столом, встала и направилась на наименее открытую часть веранды, как только её господин вошёл в свою комнату, которая была рядом с комнатой, отведённой для Тайтдженс. Неудивительно, если бы жена вдруг вздумала спать на веранде под проливным дождём. Но ведь Тайтдженс была собака, была, значит, поумнее. Я удивился и взглянул на Стриклэнда, ожидая, что он выгонит Тайтдженс с веранды хлыстом. Он странно улыбнулся, как улыбается человек, только что рассказавший неприятную семейную тайну.
– Она делает это с тех пор, как я переехал сюда, – сказал он. – Оставьте её.
Собака принадлежала Стриклэнду, поэтому я ничего не сказал; но я понимал, что должен был чувствовать Стриклэнд при таком отношении. Тайтдженс улеглась под моим окном; порывы бури налетали один за другим, гремели по крыше и замирали вдали. Молния бороздила небо, но свет её был бледно-голубой, а не жёлтый; сквозь растрескавшиеся бамбуковые шторы я видел большую собаку. Она не спала и стояла на веранде, ощетинившись, упёршись ногами так крепко, словно железные устои на висячем мосту. Во время очень коротких пауз между раскатами грома я пробовал уснуть, но мне казалось, что моё бодрствование крайне необходимо для кого-то. Этот кто-то пробовал звать меня каким-то хриплым шёпотом. Гром замолк; Тайтдженс вышла в сад и стала выть на луну. Кто-то старался открыть мою дверь, расхаживал по дому, стоял, тяжело дыша, на веранде, и как раз в ту минуту, как я стал засыпать, мне послышался страшный стук или крик над головой или у двери.
Я вбежал в комнату Стриклэнда и спросил его, не болен ли он и не звал ли меня? Он лежал на постели полуодетый, с трубкой во рту.
– Я думал о том, что вы придёте, – сказал он. – Вы слышали, как я обходил дом?
Я сказал, что он расхаживал по столовой, курительной комнате и в других местах; он рассмеялся и сказал, чтобы я шёл спать. Я лёг спать и проспал до утра; но все время я чувствовал, что оказываю несправедливость кому-то, не позаботившись о нем. Что ему было нужно, я не мог сказать, но кто-то, шепчущий, трогающий двери, затворы, бродящий по дому, прячущийся, упрекал меня за мою неповоротливость, и в полусне я слышал вой Тайтдженс в саду и шум дождя.
Я прожил два дня в этом доме. Стриклэнд каждый день уходил на службу, оставляя меня одного на восемь или десять часов наедине с Тайтдженс. Пока было светло, я чувствовал себя спокойно, и Тайтдженс также, но в сумерках мы с ней отправлялись на заднюю веранду и прижимались друг к другу. Мы были одни в доме, но в нем был кто-то, с кем я не желал иметь дела. Я никогда не видел его, но мог видеть, как колыхались портьеры между комнатами, по которым он только что прошёл; я слышал, как скрипели бамбуковые стулья под тяжестью только что покинувшего их тела; а когда я входил в столовую за книгой, я чувствовал, что в тени передней веранды кто-то дожидается моего ухода. Когда наступали сумерки, Тайтдженс блестящими глазами, с поднявшейся дыбом шерстью, следила за движениями чего-то невидимого мне. Она никогда не входила в комнаты, но в глазах её выражался интерес, и этого было совершенно достаточно. Только когда мой слуга приходил заправлять лампы и комната принимала светлый и обитаемый вид, она входила вместе со мной и проводила время, наблюдая за невидимым лишним человеком, двигавшимся за моим плечом. Собаки – весёлые товарищи.
Я объяснил Стриклэнду, как можно любезнее, что хочу сходить в клуб и найти там себе помещение. Я восхищался его гостеприимством, мне нравились его ружья и удочки, но сам дом и царившая в нем атмосфера были неприятны мне. Он выслушал меня до конца и потом улыбнулся усталой, но не презрительной улыбкой, потому что он человек, хорошо понимающий все.
– Останьтесь, – сказал он, – и посмотрите, что все это значит. То, о чем вы говорите, известно мне с тех пор, как я нанял бунгало. Останьтесь и подождите. Тайтдженс уж покинула меня. Сделаете и вы то же?
Я раз принимал участие в одном его дельце, связанном с языческим идолом; дело это чуть не довело меня до сумасшедшего дома, и у меня не было желания помогать ему в дальнейших экспериментах. Это был человек, у которого неприятности были так же часты, как обеды у обыкновенных людей.
Поэтому я повторил ещё яснее, что я очень люблю его и рад видеться с ним днём, но не желаю спать под его кровлею. Это было после обеда, когда Тайтдженс ушла на веранду.
– Клянусь душой, не удивляюсь этому, – сказал Стриклэнд, смотря на потолок. – Взгляните-ка туда.
Хвосты двух тёмных змей висели между холстом и карнизом стены. При свете лампы они отбрасывали длинные тени.
– Конечно, если вы боитесь змей… – сказал Стриклэнд.
Я ненавижу и боюсь змей, потому что если поглядеть в глаза любой змее, то увидишь, что она знает все о тайне падения человека и чувствует все презрение, которое чувствовал дьявол, когда Адам был изгнан из рая. Не говоря о том, что её укус всегда бывает роковым, но и так неприятно, когда она обвивается вокруг ног.
– Вам нужно перекрыть крышу, – сказал я. – Дайте мне вашу большую удочку, и мы сбросим их вниз.
– Они спрячутся между стропил, – сказал Стриклэнд. – Я не выношу змей над головой. Я пойду наверх, под крышу. Стойте тут; если я стряхну их, ударьте их железным прутом и перебейте им спинные позвонки.
Мне не очень хотелось помогать Стриклэнду, но все-таки я взял прут и ждал в столовой, пока Стриклэнд принёс с веранды садовую лестницу и приставил её к стене комнаты. Змеиные хвосты втянулись и исчезли. Мы слышали сухой, шуршащий звук длинных тел, ползших по спускавшемуся в виде мешка холщовому потолку. Стриклэнд взял лампу; я напрасно старался доказать ему, как опасно охотиться за змеями между холщовым потолком и соломенной крышей, не говоря уже о порче чужой собственности – прорыве холщового потолка.
– Глупости! – сказал Стриклэнд. – Они, наверное, прячутся около стен, у холста. Кирпичи слишком холодны для них, а комнатное тепло – это именно то, что нравится им.
Он поднял руку, схватил край материи и потянул. Холст с шумом подался, и Стриклэнд просунул через дыру голову в тёмный угол стропил. Я сжал зубы и поднял прут, в полном неведении относительно того, что может спуститься с потолка.
– Гм! – сказал Стриклэнд, и голос его громко раскатился под крышей. – Тут хватит места для нескольких комнат и, клянусь Юпитером, кто-то занимает их!
– Змеи? – спросил я снизу.
– Нет. Тут целый буйвол. Дайте-ка мне удилище, ткну его. Он лежит на самой большой балке.
Я подал удочку.
– Что за гнездо для сов и змей! Нет ничего удивительного, что змеи живут тут, – сказал Стриклэнд, подымаясь выше. Я видел его руку с удочкой. – Ну, выходи, кто там есть! Берегитесь! Падает вниз.
Я увидел, что потолок опускается почти в центре комнаты, словно мешок, содержимое которого заставляло его опускаться все ниже и ниже к стоявшей на столе лампе. Я схватил лампу и встал подальше. Потолок оторвался от стен, разорвался посредине, закачался и выбросил на стол предмет, на который я не решался посмотреть. Стриклэнд спустился с лестницы и встал рядом со мной.
Он ничего не сказал, так как был вообще неразговорчив, но взял один конец скатерти и прикрыл им то, что спустилось.
– Мне кажется, – проговорил он, ставя лампу, – наш друг Имрей возвратился… Так вот оно что!..
Под столом послышалось движение; оттуда выползла маленькая змея; удар удочки переломил ей спину. Мне было так дурно, что я не сделал никакого замечания.
Стриклэнд пил и размышлял. То, что лежало под скатертью, не проявляло признаков жизни.
– Это Имрей? – сказал я.
Стриклэнд откинул на одно мгновение скатерть и взглянул.
– Это Имрей, – сказал он, – и горло у него перерезано от уха до уха.
Тут мы оба сказали друг другу и самим себе:
– Вот почему в доме кто-то ходил.
Тайтдженс бешено залаяла в саду. Несколько позже она открыла своим большим носом дверь в столовую.
Она втянула в себя воздух и остановилась. Разорванный холст потолка свисал почти до стола, и между ним и находкой оставался самый маленький промежуток.
Тайтдженс вошла и села. Она оскалила зубы и упёрлась передними лапами в пол. Взглянула на Стриклэнда.
– Плохо дела, старуха, – сказал Стриклэнд, – люди не влезают на крышу своих бунгало, чтобы умереть, и не натягивают холст, чтобы прикрыть себя. Следует хорошенько обдумать все.
– Обдумаем где-нибудь в другом месте, – сказал я.
– Превосходная идея! Потушите лампы. Мы пойдём в мою комнату.
Я не потушил ламп. Я вошёл первым в комнату Стриклэнда, предоставив ему заняться этим делом. Потом пришёл он, мы закурили трубки и стали думать. Стриклэнд размышлял. Я курил отчаянно, потому что мне было страшно.
– Имрей вернулся, – сказал Стриклэнд. – Вопрос в том, кто убил Имрея? Не говорите; у меня есть своё мнение. Когда я взял это бунгало, я вместе с тем взял и большинство слуг Имрея. Имрей был простодушный, безобидный человек, не так ли?
Я ответил утвердительно; хотя груда под простыней не имела ни простодушного, ни безобидного вида.
– Если позвать всех слуг, они столпятся и станут лгать, как истые арийцы. Что посоветуете вы?
– Зовите их поодиночке.
– Они убегут и расскажут новость всем своим товарищам, – сказал Стриклэнд. – Нужно разделить их. Как вы думаете, известно что-нибудь вашему слуге?
– Не знаю, может быть; хотя не думаю. Он пробыл здесь только два-три дня, – ответил я. – А вы что думаете?
– Не могу сказать ничего определённого. Черт возьми, как мог человек попасть по ту сторону потолка?
За дверью спальни Стриклэнда послышался тяжёлый кашель. Это означало, что его слуга Багадур-Хан проснулся и желает уложить спать Стриклэнда.
– Войди, – сказал Стриклэнд. – Очень жаркая ночь, не правда ли?
Багадур-Хан, магометанин в зеленом тюрбане, шести футов роста, сказал, что ночь очень жаркая, но что находят дожди, которые по милости неба принесут облегчение стране.
– Если будет угодно Богу, – сказал Стриклэнд, стаскивая сапоги. – У меня тяжело на душе из-за того, что я так безжалостно заставил тебя работать в продолжение многих дней – с самого того времени, что ты поступил на службу ко мне. Когда это было?
– Разве небеснорожденный забыл? Это было, когда Имрей-сахиб тайно отправился в Европу, никого не предупредив, а я – я имел честь поступить на службу к покровителю бедных.
– А Имрей-сахиб отправился в Европу?
– Так говорят его слуги.
– Ты поступишь на службу к нему, если он вернётся?
– Конечно, сахиб. Он был добрый господин и любил своих людей.
– Это правда. Я очень устал, а завтра пойду охотиться на оленей. Дай мне маленькое ружьё, которое я беру для такой охоты; оно вон там, в футляре.
Багадур-Хан нагнулся над футляром, подал ствол ружья и прочие его части Стриклэнду, который стал прилаживать все эти принадлежности, отчаянно зевая. Потом со дна футляра он вынул патрон и вложил его в ружьё.
– Так Имрей-сахиб тайно уехал в Европу? Это очень странно, не правда ли, Багадур-Хан?
– Как мне знать об обычаях белых людей, небеснорожденный?
– Конечно, ты знаешь очень мало. Но сейчас узнаешь больше. До меня дошли слухи, что Имрей-сахиб вернулся из своего продолжительного путешествия и в настоящую минуту лежит рядом в комнате, ожидая своего слугу.
– Сахиб!..
Свет лампы скользнул по дулу ружья, приставленному к широкой груди Багадур-Хана.
– Иди и посмотри! – сказал Стриклэнд. – Возьми лампу. Твой господин устал и ожидает тебя. Иди!
Багадур-Хан взял лампу и пошёл в столовую. Стриклэнд шёл за ним, слегка подталкивая его дулом ружья. Багадур-Хан взглянул на чёрные глубины за упавшим холстом, на змею, извивавшуюся на полу; затем – и тут лицо его приняло серый оттенок – на предмет, лежавший под простыней.
– Ты видел? – после некоторого молчания спросил Стриклэнд.
– Я видел. Я – глина в руках белого человека. Что сделает высокий господин?
– Повесит тебя через месяц. Что же иное?
– За то, что я убил его? Нет, сахиб, подумай. Гуляя среди нас, его слуг, он обратил внимание на моего ребёнка, которому было четыре года. Он сглазил его, и через десять дней ребёнок умер от лихорадки. Он, моё дитя!
– Что сказал Имрей-сахиб?
– Он сказал, что ребёнок красив, и погладил его по голове; от этого дитя моё умерло. Поэтому я убил Имрея-сахиба в сумерки, когда он вернулся со службы и уснул. Потом я втащил его на стропила и заделал потолок. Небеснорожденный знает все. Я слуга небеснорожденного.
Стриклэнд взглянул на меня поверх винтовки и сказал на местном наречии:
– Ты будешь свидетелем его слов? Он убил.
При свете одинокой лампы Багадур-Хан стоял смертельно бледный. Сознание необходимости оправдаться быстро вернулось к нему.
– Я попался в ловушку, – сказал он, – но вина лежит на том человеке. Он сглазил моего ребёнка, и я убил и спрятал его. Только те, кому служат дьяволы, – он посмотрел яростным взглядом на Тайтдженс, угрюмо лежавшую перед ним, – только те могли узнать, что я сделал.
– То-то!.. Тебе следовало бы подвесить и её на верёвке на балку. А теперь тебя самого повесят на верёвке. Дежурный!
Сонный полицейский явился на его зов. За ним вошёл другой. Тайтдженс сидела поразительно тихо.
– Уведите его в полицейский участок, – сказал Стриклэнд. – Его будут судить.
– Значит, я буду повешен? – сказал Багадур-Хан, не пытаясь бежать и опустив глаза в пол.
– Как солнце сияет и вода течёт – да! – сказал Стриклэнд.
Багадур-Хан отступил далеко назад, вздрогнул и остановился. Полицейские ожидали дальнейших приказаний.
– Ступайте! – сказал Стриклэнд.
– Да; я уйду очень быстро, – сказал Багадур-Хан. – Взгляните! Я уже мёртвый человек.
Он поднял ногу. К его пятке приникла голова полураздавленной змеи, крепко вцепившейся в тело в судорожной агонии.
– Я из земледельческого рода, – сказал, покачиваясь, Багадур-Хан. – Для меня было бы позорно взойти публично на эшафот; поэтому я избираю этот путь. Обратите внимание, что рубашки сахиба аккуратно подсчитаны, а в рукомойнике есть лишний кусок мыла. Мой ребёнок был заворожён, и я убил колдуна. Зачем вам пытаться убить меня верёвкой? Моя честь спасена… и… я умираю.
Через час он умер, как умирают укушенные маленькой тёмной змеёй караит, и полицейские отнесли его и таинственный предмет под простыней в назначенные им места. И то, и другое было нужно, чтобы объяснить исчезновение Имрея.
– Это называется девятнадцатым веком, – очень спокойно, влезая на кровать, сказал Стриклэнд. – Слышали вы, что говорил этот человек?
– Слышал, – ответил я. – Имрей сделал ошибку.
– Единственно из-за незнания природы восточного человека и совпадения этого случая с появлением обычной сезонной лихорадки. Багадур-Хан служил у него четыре года.
Я вздрогнул. Именно столько же времени служил у меня мой слуга. Когда я прошёл к себе в комнату, я увидел его, ожидавшего меня, чтобы снять сапоги, с лицом, лишённым всякого выражения, словно изображение головы на медном пенни.
– Что случилось с Багадур-Ханом? – сказал я.
– Его укусила змея, и он умер. Остальное известно сахибу, – последовал ответ.
– А что знал ты об этом деле?
– Столько, сколько можно узнать от того, кто выходит в сумерки искать удовлетворения. Осторожнее, сахиб. Позвольте мне снять вам сапоги.
Я только что стал засыпать от утомления, как услышал, что Стриклэнд крикнул мне с другой стороны дома:
– Тайтдженс вернулась на своё место!
Так и было. Большая охотничья собака величественно возлежала на своей постели, на своём одеяле, а рядом в комнате пустой холст с потолка, раскачиваясь, тянулся по полу.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

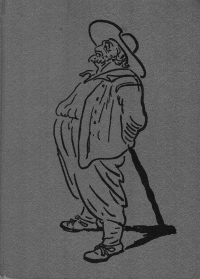

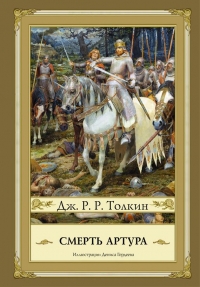
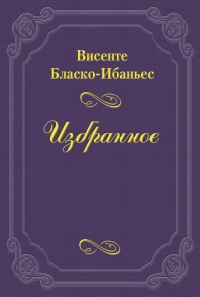


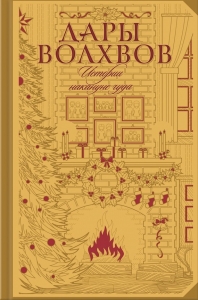

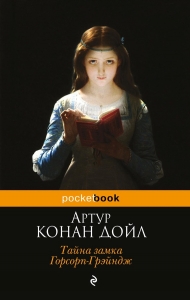

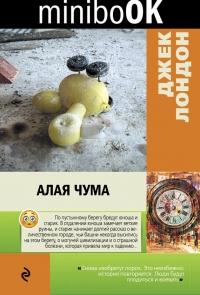
Комментарии к книге «Возвращение Имрея», Редьярд Джозеф Киплинг
Всего 0 комментариев