Редьярд Киплинг На голоде
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Часть I
– Это официальное объявление?
– Решено признать крайний недостаток припасов в данной местности и устроить вспомогательные пункты в двух округах, как говорят газеты.
– Значит, будет официально объявлено, как только найдут людей и подвижной состав. Не удивлюсь, если снова наступит «Великий голод».
– Не может быть, – сказал Скотт, слегка поворачиваясь в камышовом кресле. – У нас на севере урожай был хороший, а из Бомбея и Бенгалии докладывают, что не знают, что и делать с урожаем. Наверное, все успеют предусмотреть вовремя. Будет только местное бедствие.
Мартин взял со стола «Пионера», прочел еще раз телеграмму и положил ноги на стул. Был жаркий, темный, душный вечер. Цветы в саду клуба завяли и почернели на своих стеблях; маленький пруд с лотосами превратился в круг затвердевшей глины, а тамаринды побелели от дневной пыли. Большинство посетителей стояло у оркестра в общественном саду – с веранды клуба слышно было, как туземцы-полицейские барабанили надоевший вальс, – или на площадке для игры в поло, или на обнесенном высокой стеной дворе, где играли в мяч и где было жарко, как в голландской печке. С полдюжины грумов, сидя на корточках перед своими лошадьми, ожидали господ. Время от времени какой-нибудь всадник шагом въезжал на территорию клуба и бесцельно слонялся между выбеленными бараками главного здания, в которых помещались меблированные комнаты. Люди жили в них, встречая каждый вечер все одни и те же лица, и засиживались на своей работе в конторах как можно дольше, чтобы избежать этой скучной компании.
– Что вы будете делать? – зевая, спросил Мартин. – Выкупаемся до обеда.
– Вода теплая, – сказал Скотт. – Я был сегодня в купальне.
– Сыграем на бильярде – партию в пятьдесят.
– В зале теперь жара градусов сто пять. Сидите смирно и не будьте так отвратительно энергичны.
К портику подошел верблюд, сидевший на нем всадник стал рыться в кожаной сумке.
– Куббер – каргаз – ки – иектраа, – прохныкал он, подавая экстренное приложение к газете – клочок, с отпечатанным только на одной стороне текстом, и еще сырой. Он был приколот на обитой зеленой байкой доске среди объявлений о продающихся пони и пропавших фокстерьерах.
Мартин лениво встал, прочел и свистнул.
– Объявлено! – крикнул он. – Один, два, три – восемь округов подчиняются «Голодному закону». Назначен Джимми Хаукинс.
– Хорошее дело! – сказал Скотт, в первый раз проявляя интерес. – Когда сомневаешься, нанимай пенджабца. Я работал под начальством Джимми, когда только что приехал сюда, он из Пенджаба. В нем больше толку, чем в большинстве людей.
– Джимми теперь получил титул баронета, – сказал Мартин. – Он хороший малый, хотя штатский в третьем поколении. Что за несчастные имена у этих мадрасских округов – все на унта или рунга, пиллей, или поллиум.
Подъехал догкарт, и на веранду вошел, отирая лоб, какой-то человек. То был издатель единственной газеты в главном городе провинции, населенной двадцатью пятью миллионами туземцев и несколькими сотнями белых. Так как весь его персонал состоял из него самого и одного помощника, то число его рабочих часов колебалось от десяти до двадцати в сутки.
– Эй, Рэйнес, предполагается, что вы знаете все, – сказал Мартин, останавливая его. – Чем обернется неурожай в Мадрасе?
– Никто еще ничего не знает. По телефону получено известие величиной с вашу руку. Я оставил моего помощника набирать его. Мадрас признался, что не может один справиться со всем, и Джимми, кажется, имеет полномочие набирать, кого ему угодно. Арбутнот предупрежден быть наготове.
– Арбутнот?
– Малый из Пешавура. Да, и «Пи» телеграфирует, что Эллис и Клей уже двинулись с северо-запада и взяли с собой полдюжины людей из Бомбея. По всему видно, что голод значительный.
– Они ближе к театру действий, чем мы, но если приходится так рано прибегать к Пенджабу, то, значит, дело серьезнее, чем кажется, – сказал Мартин.
– Сегодня здесь, завтра ушли. Не навеки пришли, – сказал Скотт, бросая роман Мариетта и вставая. – Мартин, ваша сестра ждет вас.
Коренастая серая лошадь выплясывала у края веранды, откуда свет керосиновой лампы падал на коричневую амазонку из бумажной материи и на бледное лицо под серой поярковой шляпой.
– Правда, – сказал Мартин. – Я готов. Приходите-ка обедать к нам, Скотт, если не предвидится лучшего. Вилльям, что, дома есть обед?
– Поеду посмотрю, – послышался ответ. – Вы можете привезти его – в восемь, помните.
Скотт не торопясь прошел в свою комнату и переоделся в вечерний костюм, соответствовавший времени года и стране: безупречно белого цвета с головы до ног, с широким шелковым поясом.
Обед у Мартина был, несомненно, лучше по сравнению с козленком, жесткой курицей и консервами, подававшимися в клубе. Очень жаль, что Мартин не мог отослать свою сестру в горы на время жары. Как участковый полицейский надзиратель, Мартин получал в месяц великолепное жалованье – по шестьсот обесцененных серебряных рупий, что и было заметно по его маленькому бунгало в четыре комнаты. На неровном полу лежали обычные белые с голубым полосатые ковры, изготовляемые в тюрьме; обычные драпировки из амритцарских тканей, прибитые гвоздями к белой стене; полдюжины обыкновенных стульев, не подходящих друг к другу, купленных на аукционах после смерти владельцев. Все имело такой вид, как будто было распаковано накануне и должно быть уложено на следующее утро. Ни одна дверь в доме не висела на петлях как следует. Маленькие окна на высоте пятнадцати футов были затемнены осиными гнездами, а ящерицы охотились на мух между балками крыши. Но все это составляло также часть жизни Скотта. Так жили все люди, имевшие подобный доход; и в стране, где жалованье данного человека, его возраст и положение напечатаны в книге, которую могут читать все, вряд ли стоит притворяться, как на словах, так и в поступках. Скотт служил восемь лет в ирригационном департаменте и получал восемьсот рупий в месяц при условии, что если он верно прослужит государству еще двадцать два года, то может выйти в отставку с пенсией рупий четыреста в месяц. Его рабочая жизнь, проводимая большей частью в палатке или каком-нибудь временном убежище, где человек мог только есть, спать и писать письма, была связана с открытием и охраной ирригационных каналов, управлением двумя-тремя тысячами рабочих всех каст и религий и выдачей больших сумм серебряными монетами. Этой весной он закончил – и не без успеха – последнюю часть большого Мозульского канала и – против желания, потому что он ненавидел конторскую работу – был послан на жаркое время заниматься отчетами и продовольственной частью департамента, причем ему приходилось одному заведовать отделом душной конторы в главном городе провинции. Мартин знал это, Вилльям, его сестра, знала, и все знали.
Скотт знал, как и все остальные, что мисс Мартин приехала в Индию четыре года тому назад, чтобы вести хозяйство брата, который, как опять-таки все знали, занял деньги на ее приезд, и что она, как говорили все, должна была давно выйти замуж. Вместо того она отказала полдюжине младших офицеров, одному штатскому на двадцать лет старше ее, одному майору и чиновнику индийского медицинского департамента. Это было также общим достоянием. Она оставалась «внизу три жарких времени года», как говорится здесь, потому что ее брат был в долгу и не мог истратить денег на ее содержание даже в самой дешевой горной станции. Поэтому ее лицо было бело, как кость, а посередине ее лба виднелся большой серебристый шрам величиной с шиллинг – признак одной болезни, распространенной в Дели. Бывает она от питья дурной воды и медленно въедается в тело, пока не обнаруживается пятнами, которые обычно прижигают едкими веществами.
Несмотря на все, Вилльям провела эти четыре года очень весело. Дважды она чуть было не утонула, когда переезжала верхом реку вброд; один раз ее понес верблюд; она присутствовала при ночном нападении воров на лагерь ее брата, видела, как правосудие выполнялось длинными палками на открытом воздухе под деревьями, могла говорить на языке урду и даже на грубом пенджабском так свободно, что старшие завидовали ей, совершенно отвыкла писать теткам в Англию или вырезать страницы из английских журналов, пережила очень плохой холерный год, когда видела то, что не годится пересказывать, закончила свои опыты шестью неделями тифа, во время которых ей обрили голову, и надеялась справить двадцать третий год от рождения в этом сентябре. Понятно, что ее тетки не могли одобрять девушку, которая никогда не ступала ногой на землю, если вблизи бывала лошадь; которая ездила на танцы, накинув платок на платье; у которой были короткие вьющиеся волосы; которая спокойно откликалась на имя Вилльям или Биль; речь которой была усыпана цветами местного наречия; которая могла играть в любительских спектаклях, играла на банджо, управляла восемью слугами и двумя лошадьми, их счетами и болезнями и могла смотреть прямо и решительно в глаза мужчинам до и после того, как они делали ей предложение и получали отказ.
– Я люблю людей, которые делают что-нибудь, – призналась она одному из служащих в департаменте министерства народного просвещения, который обучал сыновей суконных торговцев и красильщиков красотам «Экскурсии» Уордсуорта, помещаемым в хрестоматиях, а когда он перешел к поэзии, Вилльям объявила ему, что «не очень понимает поэзию, от нее болит голова». И еще одно разбитое сердце нашло убежище в клубе. И всему этому виной была Вилльям. Она с восторгом слушала, как люди говорили о своей работе, а это самый роковой способ заставить мужчину пасть к ногам женщины.
Скотт знал ее года три, встречаясь обыкновенно в палатках, когда лагеря ее брата и Скотта стояли рядом на границе Индийской пустыни. Он много раз танцевал с ней на больших собраниях, на которых бывало около пятисот белых, приезжавших на Рождество, и он всегда питал большое уважение к тому, как она вела хозяйство, и к ее обедам.
Она имела более, чем когда-либо, мальчишеский вид. После обеда она уселась на кожаной софе и, подогнув под себя одну ногу, крутила папироски для брата, нахмурив низкий лоб под темными кудрями. Набив папиросу табаком, выставив свой круглый подбородок, жестом настоящего мальчика, швыряющего камень, она бросала готовую папироску через всю комнату Мартину, который ловил ее одной рукой, продолжая свой разговор со Скоттом. Разговор шел исключительно деловой – о каналах и об их охране, о прегрешениях поселян, которые крадут воду в большем количестве, чем платят за нее, и о еще больших прегрешениях констеблей-туземцев, потворствующих этим кражам, о перенесении деревень на новоорошенные земли и о предстоящей на юге борьбе с пустыней, когда фонд провинции гарантирует проведение давно предполагаемой системы предохранительных каналов Луни. Скотт открыто говорил о своем желании быть отправленным в известную ему местность, где ему были знакомы и почва и народ; Мартин вздыхал о получении назначения в предгорья Гималаев, а Вилльям крутила папиросы и ничего не говорила, только улыбалась с серьезным видом брату, радуясь, что он доволен.
В десять часов лошадь Скотта была доставлена к дому, и вечер закончился.
Яркий свет падал на дорогу из окон двух каменных бунгало, в которых печаталась газета. Ложиться спать было слишком рано, и Скотт заехал к издателю. Рэйнес, обнаженный по пояс, лежал в шезлонге, ожидая ночных телеграмм. У него была своя теория: он полагал, что если человек не проводит за работой целый день и большую часть ночи, он подвергается опасности захворать лихорадкой, поэтому он даже ел и пил среди своих бумаг.
– Можете вы сделать это? – сонным голосом проговорил он. – Я не рассчитывал, что вы приедете сейчас.
– О чем вы говорите? Я обедал у Мартинов.
– Ну, конечно, о голоде. Мартин также предупрежден. Людей берут отовсюду, где только могут найти их. Я только что отослал вам в клуб записку, в которой спрашиваю вас, можете ли вы посылать нам раз в неделю письмо с юга – скажем, два-три столбца. Конечно, ничего сенсационного, простые сообщения о том, кто что делает и т. д. Наша обычная плата – десять рупий за столбец.
– К сожалению, это вопрос, совершенно незнакомый мне, – ответил Скотт, рассеянно смотря на карту Индии, висевшую на стене. – Это очень тяжело для Мартина, очень. Не знаю, что он будет делать с сестрой. Не знаю, черт возьми, что будут делать и со мной. У меня нет никакого опыта относительно голода. В первый раз слышу об этом. Что же, я назначен?
– О да. Вот телеграмма. Вас назначают на вспомогательный пункт, – продолжал Рэйнес, – где толпы жителей Мадраса мрут как мухи; один местный аптекарь и полпинты холерной микстуры на десять тысяч таких, как вы. Это происходит оттого, что вы не заняты в настоящее время. Призвали, кажется, всех, кто не работает за двоих. Хаукинс, очевидно, верит в пенджабцев. По-видимому, дело примет такой скверный оборот, какого еще ни разу не было за последние десять лет.
– Тем хуже. Вероятно, завтра я получу официальное извещение. Я рад, что заглянул к вам. Теперь лучше идти домой и укладываться. Кто заменит меня здесь – вы не знаете?
Рэйнес перевернул пачку телеграмм.
– Мак-Эуан, – сказал он, – из Мурри.
Скотт рассмеялся.
– А он думал, что проведет все лето в прохладном месте. Ему это будет очень неприятно. Ну, нечего разговаривать. Спокойной ночи.
Два часа спустя Скотт с чистой совестью улегся на веревочной койке в пустой комнате. Два потертых чемодана из телячьей кожи, кожаная бутылка для воды, жестяной ящичек для льда и любимое седло, зашитое в чехол, были свалены в кучу у двери, а расписка секретаря клуба об уплате месячного счета лежала у него под подушкой. Приказ пришел на следующее утро и вместе с ним неофициальная телеграмма от сэра Джемса Хаукинса, который не забывал хороших людей. В телеграмме он предлагал Скотту отправиться как можно скорее в какое-то неудобопроизносимое место в тысяче пятистах милях к югу, потому что там голод силен и нужны белые люди.
В самый раскаленный полдень явился розовый, довольно толстый юноша, слегка жаловавшийся на судьбу и голод, не дававшие отдохнуть хотя бы три месяца Это был заместитель Скотта – другой винт механизма, двинутый вслед за своим сослуживцем, услуги которого, как говорилось в официальном сообщении, «отдавались в распоряжение мадрасского правительства для исполнения обязанностей по борьбе с голодом до следующего распоряжения». Скотт передал ему находившиеся у него суммы, показал ему самый прохладный угол в конторе, предупредил его, чтобы он не проявлял излишнего усердия, и, когда наступили сумерки, уехал из клуба в наемном экипаже со своим верным слугой Фезом Уллой и кучей безобразно наваленного багажа наверху, чтобы попасть на южный поезд, отходивший от станции, похожей на бастион с амбразурами. Жара, исходившая от толстых кирпичных стен, ударила ему в лицо, словно горячим полотенцем, и он подумал, что ему предстоит путешествовать по такой жаре, по меньшей мере, пять ночей и четыре дня. Фез Улла, привыкший ко всяким случайностям службы, нырнул в толпу на каменной платформе, а Скотт с черной трубкой в зубах дожидался, пока ему отведут купе. С дюжину туземных полицейских с ружьями и узлами протиснулись в толпу пенджабских фермеров, сейков-ремесленников, афридийских торговцев с жирными кудрями. Полицейские торжественно сопровождали чехол с мундиром Мартина, бутылки с водой, ящик со льдом и сверток с постельным бельем. Они увидели поднятую руку Феза Уллы и направились к ней.
– Мой сахиб и ваш сахиб, – сказал Фез Улла слуге Мартина, – будут путешествовать вместе. Ты и я, о брат, достанем себе места для слуг вблизи них, и, благодаря значению наших господ, никто не посмеет беспокоить нас.
Когда Фез Улла доложил, что все готово, Скотт уселся без сюртука и без сапог на широкой скамье, покрытой кожей. Жара на станции под крышей с железными арками была гораздо больше ста градусов. В последнюю минуту вошел Мартин, разгоряченный и обливавшийся потом.
– Не ругайтесь, – лениво сказал Скотт, – слишком поздно менять купе, а льдом мы будем делиться.
– Что вы здесь делаете? – спросил Мартин.
– Дан в долг мадрасскому правительству, как и вы. Клянусь Юпитером, ужасная ночь! Вы берете кого-нибудь из своих людей?
– Дюжину. Надо полагать, что мне придется руководить раздачей провизии. Я не знал, что и вы получили назначение.
– Я и сам узнал только тогда, когда ушел от вас вчера. Рэйнес раньше получил известие. Приказ пришел сегодня утром. Мак-Эуан сменил меня в четыре, и я сейчас же отправился. Не удивлюсь, если голод окажется хорошей штукой для нас… если только сами мы останемся живы.
– Джимми должен был бы назначить нас работать вместе, – сказал Мартин и после паузы прибавил: – Моя сестра здесь.
– Хорошее дело, – искренне сказал Скотт. – Вероятно, она едет на Умбаллу, а оттуда в Симлу. У кого она будет жить там?
– Не-ет, в том-то и дело. Она едет со мной.
Скотт выпрямился под масляной лапой, когда поезд с треском пронесся мимо станции Тарн-Таран.
– Что такое?.. Неужели вы не могли устроить…
– О, я накопил немножко денег.
– Прежде всего, вы могли бы обратиться ко мне, – жестко проговорил Скотт, – мы не совсем чужие друг другу.
– Ну, вам нечего горячиться. Это я мог бы сделать, но… но вы не знаете моей сестры. Я объяснял и доказывал, умолял и приказывал и т. д., целый день – вышел из себя в семь часов утра и не опомнился еще до сих пор, а она и слышать не хотела о каком-либо компромиссе. Жена имеет право путешествовать со своим мужем, если желает, и Вилльям говорит, что она находится в таком же положении. Видите, с тех пор как умерли мои родители, мы почти всегда были вместе. Она совсем не то, что обыкновенная сестра.
– Все сестры, о которых я слышал, остались бы там, где им хорошо.
– Она умна, как мужчина, черт бы ее побрал! – продолжал Мартин. – Она разобрала весь бунгало, пока я разговаривал. В три часа устроила все – слуг, лошадей. Я получил приказ только в девять часов.
– Джимми Хаукинс будет недоволен, – сказал Скотт. – Голодный край не место для женщины.
– Миссис Джим, я хочу сказать – леди Джим, в лагере с ним. Во всяком случае, она говорит, что присмотрит за моей сестрой. Вилльям телеграфировала ей, спрашивая, может ли она приехать, и выбила у меня почву из-под ног, показав ответ леди Джим.
Скотт громко расхохотался.
– Если она смогла сделать это, то может сама заботиться о себе, а миссис Джим не допустит, чтобы с ней случилось что-нибудь. Мало найдется женщин, сестер или жен, которые пошли бы с открытыми глазами на голод. А по-видимому, она знает, что это значит. Она была прошлый год на холере в Джалу.
Поезд остановился в Амритцаре, и Скотт пошел в дамское отделение, находившееся рядом с их купе. Вилльям в суконной фуражке для верховой езды любезно кивнула ему.
– Войдите и выпейте чаю, – сказала она. – Лучшая вещь на свете против апоплексии от жары.
– Разве у меня такой вид, будто мне угрожает апоплексия от жары?
– Никогда в этом случае ничего нельзя сказать наверное, – мудро заметила Вилльям. – Всегда лучше быть готовым.
Она устроила все вокруг с уменьем человека, много путешествовавшего. Обернутая в войлок бутылка с водой висела так, что на нее попадала струя воздуха из одного из прикрытых ставнями окон; сервиз из русского фарфора, уложенный в обитый жестью ящик, стоял наготове на сиденье, дорожная спиртовая лампочка была прикреплена к деревянной обшивке.
Вилльям щедро разливала им в большие чашки горячий чай, который предупреждает расширение шейных вен в жаркую ночь. Характерно было, что девушка, составив себе план действий, уже не требовала комментариев к нему. Жизнь с людьми, которым приходится работать много и в очень ограниченное время, научила ее мудро держаться в тени и проявлять себя, смотря по обстоятельствам. Ни словом, ни делом она не намекнула, что будет полезна им в путешествии, будет утешать их и украшать их жизнь, но спокойно продолжала свое дело: бесшумно спрятала чашки, когда кончили пить чай, и приготовила сигаретки для своих гостей.
– Вчера вечером в это время, – сказал Скотт, – мы и не ожидали… гм… ничего подобного, не правда ли?
– Я научилась ожидать всего, – сказала Вилльям. – Вы знаете, на нашей службе мы зависим от телеграфа, но, конечно, это может быть хорошо для всех нас в служебном отношении, если мы останемся живы.
– Это выбивает нас из колеи в нашей провинции, – ответил также серьезно Скотт. – Я надеялся к наступлению холодной погоды быть переведенным на работы по проведению новых каналов, но нельзя сказать, насколько нас задержит голод.
– Вряд ли позже октября, – сказал Мартин. – К этому времени все закончится так или иначе.
– А ехать придется почти неделю, – сказала Вилльям. – Ну уж и запылимся мы к концу пути!
В течение суток они знали, где находятся; в течение других, проезжая по узкоколейке, шедшей по краю большой Индийской пустыни, они вспоминали, как в начале своей службы ехали этой дорогой из Бомбея. Потом языки, на которых были написаны названия станций, изменились, и путешественники попали в незнакомую страну, где даже запахи были новы. Впереди них шло много длинных поездов, нагруженных зерном; рука Джимми Хаукинса чувствовалась издалека. Они ждали на импровизированных запасных путях, загороженных процессиями пустых платформ, возвращавшихся на север, и затем их прицепляли к медленно ползущим поездам, которые бросали их в полночь одному Богу известно где. Было страшно жарко, и они расхаживали среди мешков, а кругом выли собаки.
Потом они очутились в Индии, более странной для них, чем для какого-нибудь не путешествовавшего раньше англичанина, плоской, красной Индии пальмовых деревьев различной породы и риса, Индии иллюстрированных книжек для детей – Индии мертвой и высохшей от ужасного зноя. Беспрерывный поток пассажиров на север и на запад остался далеко позади них. Тут люди с трудом подходили к поезду, держа на руках детей; и когда отходил поезд, оставалась платформа, вокруг которой и над которой мужчины и женщины толпились, словно муравьи над пролитым медом. Однажды, в сумерках, они увидели на пыльной равнине полк смуглых, маленьких людей, каждый из них нес по трупу, перекинутому через плечо; когда поезд остановился, чтобы отцепить еще платформу, путники увидели, что ноша солдат состояла не из трупов, а из голодных людей, подобранных рядом с их павшими быками отрядом иррегулярных войск. Теперь встречалось больше белых людей, палатки которых стояли вблизи линии железной дороги. Они выходили по одному, по двое, вооруженные письменными предписаниями и сердитыми словами, и отцепляли платформу. Они были так заняты, что только кивали головами Скотту и Мартину и с любопытством смотрели на Вилльям, которая только и могла делать, что заваривать чай и наблюдать, как ее спутники принимали стонущих ходячих скелетов, кладя их в кучи по трое, отцепляли собственными руками отмеченные платформы да принимали бумаги от усталых белых людей с впавшими глазами, говоривших на другом жаргоне.
У них кончился запас льда, содовой воды и чая, потому что они были в пути шесть дней и семь ночей, и это время показалось им семью годами.
Наконец, на заре сухого, жаркого дня в стране смерти, освещаемой длинной вереницей красных огней на шпалах в местах, где сжигали трупы, они добрались до конца своего пути. Их встретил Джим Хаукинс, Глава Голода, небритый, немытый, но добрый и державший все в своих руках.
Он объявил, что Мартин должен до следующего распоряжения жить в вагоне поезда, ездить с пустыми платформами, наполнять их голодными, которые встретятся ему, и оставлять их в голодном лагере. Он захватит новые запасы и возвратится, а его констебли будут охранять нагруженные зерном повозки, а также подбирать людей и отвозить их в лагерь в ста милях к югу. Скотт – Хаукинс был очень рад видеть его – немедленно примет на себя охрану повозок и отправится на юг, попутно раздавая продовольствие, в другой голодный лагерь, вдали от железной дороги, где оставит своих голодающих – в голодающих не будет недостатка по пути, – и будет ожидать распоряжений по телеграфу. В общем, во всех мелких подробностях Скотт может поступать, как сочтет необходимым.
Вилльям прикусила нижнюю губу. Во всем обширном мире не было человека, подобного ее брату, но Мартину не предоставлялось свободы действий. Она вышла, покрытая пылью с головы до ног, с морщиной в виде подковы на лбу – от многого передуманного за последнюю неделю, но владеющая собой, как всегда. Миссис Джим, – собственно, леди Джим, но никто не помнил, что ее следует называть так, – слегка задыхаясь, увлекла за собой молодую девушку.
– О, я так рада, что вы здесь! – почти прорыдала она. – Конечно, вам не следовало бы быть здесь, но здесь нет ни одной женщины, кроме меня, и мы, знаете, должны помогать друг другу; тут все они такие несчастные, а маленьких детей они продают.
– Я видела несколько таких детей, – сказала Вилльям.
– Разве это не ужасно? Я уже купила двадцать; они в нашем лагере, но не хотите ли сначала поесть? У нас здесь дела хватит на десятерых. Я приготовила для вас лошадь. О, я так рада, что вы приехали! Вы ведь также пенджабка.
– Спокойней, Лиззи, – сказал Хаукинс не оборачиваясь. – Мы будем присматривать за вами, мисс Мартин. Жалею, что не могу пригласить вас на завтрак, Мартин. Вам придется поесть в пути. Оставьте двух своих людей на подмогу Скотту. Эти бедняги не могут даже встать, чтобы нагружать повозки. Саундерс (машинисту, полузаснувшему на месте), дайте задний ход и уберите пустые вагоны. У вас путь свободен до Анундрапиллая; там вам дадут приказания, куда ехать на север. Скотт, нагружайте вот эту платформу и отправляйтесь как можно скорее. Туземец в розовой рубашке будет вашим переводчиком и проводником. Во втором вагоне вы увидите связанного аптекаря. Он пробовал сбежать, присматривайте за ним. Лиззи, отвези мисс Мартин в лагерь и вели прислать мне сюда рыжую лошадь.
Скотт с Фезом Уллой и двумя полицейскими уже хлопотали вокруг повозок, вкатывая их на платформу, тогда как другие грузили мешки с пшеницей и маисом. Хаукинс наблюдал за ним, пока Скотт не нагрузил одну платформу.
– Вот молодец, – сказал он. – Если все пойдет хорошо, я славно использую его. – Таков был лучший комплимент, который, по мнению Джима Хаукинса, один человек мог сказать другому.
Час спустя Скотт был уже в пути; аптекарь угрожал ему наказанием по суду за то, что его, члена отделения медицинского департамента, взяли насильно и связали против его воли и всех законов, гарантирующих свободу личности; туземец в розовой рубашке умолял отпустить его, чтобы повидать мать, которая умирает в трех милях отсюда: «Только очень-очень маленький отпуск, и я сейчас же вернусь, сэр», два констебля с палками в руках завершали шествие. Фез Улла с презрением магометанина ко всем индусам, отражавшимся в каждой черте его лица, объяснял, что хотя Скотт-сахиб и такой человек, который может заставить поджилки трястись от страха, но он, Фез Улла, все же сам себе господин.
Процессия со скрипом проехала мимо лагеря Хаукинса – трех грязных палаток под группой засохших деревьев; за ними виднелся временный барак, где толпа отчаявшихся голодающих протягивала руки к котлам с едой.
«Дай Бог, чтобы Вилльям держалась вдали от всего этого, – сказал себе Скотт, оглядев все вокруг. – У нас, наверно, будет холера, когда начнутся дожди».
Но Вилльям, по-видимому, серьезно отнеслась к требованиям «кодекса», который, когда голод признан официально, заменяет действие обыкновенных законов.
Скотт увидел ее в центре толпы плачущих женщин, в амазонке из бумажной материи, в синевато-серой поярковой шляпе.
– Мне нужно пятьдесят рупий. Я забыла попросить у Джека перед его отъездом. Можете вы одолжить мне? Это на сгущенное молоко для детей, – сказала она.
Скотт вынул деньги из-за пояса и подал без дальнейших разговоров.
– Ради Бога, берегите себя, – сказал он.
– О, у меня все обстоит благополучно. Нам нужно бы получить молоко через два дня. Между прочим, мне поручено сказать вам, что вы должны взять одну из лошадей сэра Джима. Тут есть серая кабульская лошадь, которая, по-моему, как раз в вашем стиле. Правда?..
– Это очень мило с вашей стороны. Боюсь только, что нам с вами некогда разговаривать о стиле.
Скотт был в поношенном охотничьем костюме, побелевшем по швам и с обтрепанными рукавами. Вилльям задумчиво разглядывала его от шлема до нечищеных сапог.
– Право, вы очень милы. Вы уверены, что у вас есть все, что нужно, – хинин, хлородин и т. п.?..
– Кажется, все, – сказал Скотт, ощупав три-четыре кармана своей охотничьей одежды. Подвели лошадь, он сел и поехал рядом со своим обозом.
– Прощайте! – крикнул он.
– Прощайте, желаю вам счастья! – сказала Вилльям. – Я очень признательна вам за деньги. – Она повернулась на каблуке со шпорой и исчезла в палатке; повозки проезжали мимо построек для голодных, мимо дымящих костров, в сторону испепеленной Геенны юга.
Часть II
Ехать по жаре было чистое наказание, хотя он путешествовал только ночью, а днем отдыхал; зато, куда ни обращался взгляд Скотта, он не видел человека, которого мог бы назвать своим начальником. Он был свободен, как Джимми Хаукинс, даже свободнее, потому что правительство крепко связало Главу Голода телеграфом, и придерживайся Джимми этих телеграмм – процент смертности от голода сильно повысился бы.
В конце нескольких дней медленного путешествия Скотт ознакомился несколько с размерами той Индии, которой он служил, и эти размеры удивили его. Как известно, его повозки были нагружены пшеницей, маисом и ячменем – хорошими пищевыми продуктами, которые надо было только смолоть. Но люди, которым он привез эти живительные припасы, привыкли есть рис. Они умели толочь рис в своих ступках, но были совершенно незнакомы с тяжелыми каменными мельницами севера и тем материалом, который так тщательно охранял белый человек. Они требовали риса с громкими криками – неочищенного, плохого, к которому они привыкли, и, когда оказалось, что его нет, со слезами отходили от повозок. Зачем эти странные, жесткие зерна, которые застревают в горле? Они умрут. И многие сдержали свое слово. Другие брали свою порцию и обменивали количество маиса, достаточное для того, чтобы прокормить человека в течение целой недели, на несколько пригоршен испорченного риса, сохраненного менее несчастными людьми. Немногие положили свои доли в ступки для риса, растолкли их и сделали тесто на плохой воде, но так поступили очень немногие. Скотт смутно помнил, что много людей в Южной Индии едят обычно рис, но он провел свою службу в провинции, где употребляют зерновой хлеб, редко видел стебли или колосья риса и менее всего мог бы поверить, что во время смертельной нужды люди захотят скорее умереть, чем дотронуться до не известной им пищи, для получения которой в изобилии нужно было только протянуть руку. Напрасно переводчики переводили, напрасно оба полицейских выразительной пантомимой поясняли, что следовало делать. Голодающие тащились, еле передвигая ноги, к своей коре и травам, листьям и глине, оставляя нетронутыми открытые мешки. Иногда женщины клали своих детей-призраков к ногам Скотта и уходили, шатаясь и оглядываясь.
Фез Улла находил, что то воля Господня: чужестранцы должны умереть; оставалось только отдавать приказания насчет сожжения мертвых. Но, во всяком случае, не было причин лишать сахиба известных удобств, и Фез Улла, опытный слуга, выискал несколько худых коз и прибавил их к процессии. Чтобы они давали молоко для завтрака, он кормил их хорошим зерном, от которого они, глупые, отказывались.
– Да, – говорил Фез Улла, – если бы сахиб считал это нужным, можно было бы давать немного молока детям, но, как известно сахибу, дети дешевы, – и со своей стороны, Фез Улла полагал, что правительством не сделано распоряжений насчет детей. Скотт энергично поговорил с Фезом Уллой и обоими полицейскими и приказал им ловить коз, где только найдут их. Это сделали с большим удовольствием, так как все-таки это было развлечение, и согнали много бездомных коз. Раз накормленные, бедные животные охотно следовали за повозками, и несколько дней хорошей пищи – пищи, от недостатка которой умирали человеческие существа – возвратили им молоко.
– Но я не козий пастух, – сказал Фез Улла. – Это несовместимо с моей честью.
– Когда мы снова перейдем реку Биас, мы будем говорить о чести, – ответил Скотт. – До этого дня ты и полицейские, если я прикажу, будете метельщиками в лагере.
– Ну, так вот как это делается, – проворчал Фез Улла, – если уж желает сахиб, – и он показал, как следует доить козу, а Скотт стоял над ним.
– Ну, теперь мы покормим их, – сказал Скотт, – будем кормить три раза в день. Он наклонился над молоком, и судорога свела его лицо.
Если вам придется поддерживать непрерывную связь между беспокойной матерью козлят и находящимся при смерти ребенком, вся ваша нервная система может пострадать. Но дети были накормлены. Утром в полдень и вечером Скотт торжественно вынимал их одного за другим из их гнезда, устроенного из тростниковых рогожек под чехлами повозок. Всегда бывало много таких, которые умели только дышать, и молоко вливали в их беззубые рты капля за каплей с остановками, потому что они давились. Каждое утро кормили и коз, а так как они разбрелись бы без вожака, а туземцы были все наемные, Скотт вынужден был отказаться от верховой езды и медленно идти во главе своих стад, приноравливая шаги к их ходу. Все это было достаточно нелепо, и он сильно страдал от этой нелепости, но, по крайней мере, он спасал жизнь детям, а когда женщины увидели, что дети их не умирают, они стали понемногу есть незнакомую пищу и тащились за повозками, благословляя хозяина коз.
– Дайте женщинам какую-нибудь цель, ради которой им стоит жить, – говорил Скотт, чихая от пыли, поднимаемой сотней маленьких ног, – и они привяжутся к ней душой. Ну, моя выдумка побивает сгущенное молоко Вилльям. Я всю жизнь буду помнить это.
Очень медленно он добрался до цели своего путешествия, узнал, что из Бурмы пришло судно с рисом и что для запасов есть пригодные склады, нашел переутомленного англичанина – заведующего складом и, нагрузив повозки, отправился назад по пройденному пути. Нескольких детей и половину коз он оставил на питательном пункте. Англичанин был не особенно благодарен ему за это, так как у него было и без того слишком много детей, с которыми он не знал, что делать. У Скотта спина болела так, что он горбился, но он продолжал путь, отдавая приказания; к другим обязанностям прибавилась еще раздача риса. У него увеличилось еще число детей и коз, но теперь некоторые из детей были одеты в лохмотья, а на головах или шеях у них красовались бусы.
– Это значит, – сказал переводчик, как будто Скотт сам не понимал, в чем дело, – что их матери надеются при удобном случае официально получить их назад.
– Чем скорее, тем лучше, – сказал Скотт, но в то же время он с гордостью владельца любовался, как какой-нибудь малыш понемногу отъедался и полнел. Когда повозки были разгружены, он направился в лагерь Хаукинса по железной дороге, подгадывая свой приезд к обеденному времени, так как уже давно не ел за столом, покрытым скатертью. Он не имел ни малейшего намерения устроить драматический выход, но заходившее солнце распорядилось так, что когда он снял свой шлем, чтобы освежиться вечерним ветерком, лучи осветили его, и он ничего не видел перед собой. В это время некто, стоявший у дверей палатки, смотрел совершенно особым взглядом на молодого человека, красивого, как Парис, бога в ореоле золотой пыли, медленно идущего во главе своих стад, у колен которого бежали маленькие ноги купидонов. Однако стоявшая Вилльям в темно-серой блузе засмеялась и смеялась все время, пока Скотт, скрывая свое смущение, остановил свою армию и попросил ее полюбоваться на его детский сад. Вид был невзрачный, но приличия уже давно были отброшены в сторону – начиная с чаепития на амритцарской станции в ста пятидесяти милях к северу.
– Они славно поправляются, – сказала Вилльям. – Теперь у нас только двадцать пять детей. Женщины начинают брать их обратно.
– Так вы смотрите за детьми?
– Да, миссис Джим и я. Но мы не подумали о козах. Мы пробовали сгущенное молоко с водой.
– Есть потери?
– Больше, чем хочется вспоминать, – с дрожью проговорила Вилльям. – А у вас?
Скотт ничего не сказал. Много похорон было на его пути, много матерей, оплакивавших детей, отданных ими на попечение государства.
Потом вышел Хаукинс с бритвой в руке, на которую с жадностью посмотрел Скотт, так как отросшая у него борода не нравилась ему. Когда сели обедать в палатке, он рассказал все в немногих словах, словно доложил официальный рапорт. Миссис Джим по временам сморкалась, а Джим опускал голову, но серые глаза Вилльям были устремлены на чисто выбритое лицо, и Скотт, казалось, рассказывал только ей. Она наклонилась среди рюмок, облокотившись подбородком на руку.
Щеки у нее впали, шрам на лбу выделялся еще больше, но круглая шея подымалась, словно колонна, из рюшки вокруг ворота блузки, составлявшей установленный вечерний костюм в лагере.
– По временам выходило ужасно глупо, – говорил Скотт. – Ведь я, знаете, мало что знал о доении и о маленьких детях. То-то надо мной будут смеяться, когда рассказ об этом дойдет до севера!
– Пусть смеются, – высокомерно сказала Вилльям. – Мы тут исполняли должность кули. Я знаю, что Джек исполнял, – обратилась она к Хаукинсу, и высокий человек любезно улыбнулся.
– Ваш брат чрезвычайно деятельный офицер, Вилльям, – сказал он, – и я сделал ему честь, обращаясь с ним, как он того заслуживает. Помните, я пишу конфиденциальные рапорты.
– Тогда вы должны написать, что Вилльям – чистое золото, – сказала миссис Джим. – Не знаю, что бы мы делали без нее. Она была для нас всем.
Она положила свою руку на руку Вилльям, загрубевшую от правления лошадьми; Вилльям нежно погладила ее руку. Джим смотрел на всех с сияющим видом. Со служащими дело шло хорошо. Трое из наиболее некомпетентных людей умерли, и на их места поступили лучшие. С каждым днем приближалось время дождей.
Голод удалось остановить в пяти из восьми участков, да и смертность была уже не так велика – сравнительно. Он внимательно оглядел Скотта, как людоед оглядывает человека, и наслаждался его мускулами и здоровым видом.
«Он чуточку сдал, – сказал себе Джим, но все же может работать за двоих». Тут он заметил, что миссис Джим телеграфирует что-то ему, по домашнему коду телеграмма гласила: «Дело ясное! Взгляните на них».
Он взглянул и прислушался. Вот все, что говорила Вилльям:
– Чего же можно ожидать от страны, где «бхисти» (водовоза) называют «тунни-кутч»?
И все, что отвечал Скотт, было:
– Я буду страшно рад вернуться в клуб. Оставьте мне танец на рождественском балу. Оставите?
– Далеко отсюда до Лауренс-Холла, – сказал Джим. – Возвращайтесь пораньше, Скотт. Завтра надо отправлять повозки с рисом. Вам надо начать погрузку в пять часов.
– Неужели вы не дадите мистеру Скотту хоть одного дня отдыха?
– Очень бы хотелось, Лиззи. Боюсь, что нельзя. Пока он стоит на ногах, мы должны использовать его.
– Ну, по крайней мере, у меня был один европейский вечер… Клянусь Юпитером, чуть было не забыл! Что мне делать с моими младенцами?
– Оставьте их здесь, – сказала Вилльям, – мы позаботимся о них, а также столько коз, сколько можете выделить нам. Мне нужно научиться доить.
– Если вы встанете завтра рано, я покажу вам. Мне приходилось доить; между прочим, у половины из них бусы и какие-то вещи на шее. Пожалуйста, не снимайте, на случай, если появятся матери.
– Вы забываете, что у меня есть некоторый опыт в этом деле.
– Надеюсь, что вы не переутомитесь.
В голосе Скотта не было сдержанности.
– Я позабочусь о ней, – сказала миссис Джим, телеграфируя телеграммы в сто слов, пока уводила Вилльям, а Скотт отдавал приказания для новой кампании. Было очень поздно – почти девять часов.
– Джим, вы грубое животное, – сказала ему жена вечером.
Глава Голода хихикнул.
– Нисколько, дорогая. Я помню, как устраивал первый Джандальский поселок ради одной девушки в кринолине, а ведь какая она была тоненькая, Лиззи?.. С тех пор я ни разу не работал так хорошо. Он будет работать, как демон.
– Но ты мог бы дать ему один день.
– И довести дело до конца? Нет, дорогая, теперь для них самое счастливое время.
– Я думаю, ни один из них, милый, не знает, что такое с ним. Ну разве это не прекрасно? Разве не чудесно?
– Встанет в три часа, чтобы научиться доить, благослови ее Господь! О боги, зачем мы должны становиться старыми и толстыми!..
– Она милочка. Она сделала много под моим руководством…
– Под твоим! На следующий же день по приезде она взяла все дело в свои руки, а ты стала ее подчиненной и осталась ею до сих пор. Она управляет тобой почти так же хорошо, как ты управляешь мной.
– Она не управляет мной, и потому-то я люблю ее. Она прямолинейна, как мужчина – как ее брат.
– Ее брат слабее. Он постоянно приходит ко мне за приказаниями, но он честен и жаден до работы. Сознаюсь, я привязался к Вилльям, и если бы у меня была дочь…
Разговор прервался. Далеко от этого места, в Дераджате, уже двадцать лет виднелась могила ребенка; ни Джим, ни его жена не говорили больше о ней.
– Во всяком случае, ответственность лежит на тебе, – прибавил Джим после минутного молчания.
– Да благослови их Бог! – сонным голосом сказала миссис Джим.
Раньше чем побледнели звезды, Скотт, спавший в пустой повозке, проснулся и молча принялся за дело: будить Феза Уллу и переводчика так рано ему было жаль. Так как он опустил голову до самой земли, то не слышал, как подошла Вилльям, пока она не наклонилась над ним с чашкой чая и куском поджаренного хлеба с маслом в руках. Она была в старой амазонке темного цвета; глаза ее еще были сонными. На земле, на одеяле барахтался маленький ребенок, другой заглядывал через плечо Скотта.
– Эй, маленький буян, – сказал Скотт, – как, черт возьми, рассчитываешь ты получить свою порцию, если не успокоишься?
Свежая белая рука удержала ребенка, который задохнулся было, когда молоко полилось ему в рот.
– Доброго утра, – сказал доильщик. – Вы не можете себе представить, как извиваются эти малые.
– О, могу, – она говорила шепотом, потому что все вокруг спало. – Только я пою их с ложки или через тряпки… Ваши толще моих… И вы делали это день за днем, по два раза в день? – Голос ее был еле слышен.
– Да, это было глупое положение. Ну теперь попробуйте, – сказал он, уступая место девушке. – Смотрите! Коза не корова.
Коза протестовала против любительницы, и произошла борьба, во время которой Скотт подхватил ребенка. Пришлось делать все снова, и Скотт тихо и весело смеялся. Однако ей удалось накормить двух детей и еще третьего.
– Ну разве маленькие не хорошо берут! – сказал Скотт. – Я научил их.
Оба были очень заняты и увлечены, как вдруг совершенно рассвело, и, прежде чем они успели опомниться, лагерь проснулся, а они оказались стоящими на коленях среди коз и покрасневшими до ушей. Но даже если бы весь мир вынырнул из тьмы, он мог слушать и видеть все, что происходило между ними.
– О, – неуверенно сказала Вилльям, хватая чай и хлеб. – Я приготовила это для вас. Теперь все холодное, как лед. Я думала, что, может быть, вы не найдете ничего готового так рано. Лучше не пейте. Это холодно, как лед.
– Это мило с вашей стороны. Все хорошо. Я оставлю моих ребят и коз у вас и миссис Джим, и, конечно, всякий в лагере покажет вам, как надо доить.
– Конечно, – сказала Вилльям; она становилась все розовее и розовее, все величественнее и величественнее по мере того, как шла к своей палатке, энергично обмахиваясь блюдечком.
В лагере раздались пронзительные, жалобные крики, когда старшие из детей увидели, что их нянька отправляется без них. Фез Улла снизошел до шуток с полицейскими. Скотт побагровел от стыда, когда услышал громкий хохот Хаукинса, сидевшего на лошади.
Один ребенок вырвался от миссис Джим, побежал, словно кролик, и ухватился за сапог Скотта. Вилльям шла за ним легкими, быстрыми шагами.
– Не пойду, не пойду! – кричал ребенок, обвивая ногами ногу Скотта. – Меня убьют здесь. Я не знаю этих людей.
– Говорю тебе, – сказал Скотт на ломаном тамильском наречии. – Говорю, что она не сделает тебе ничего дурного. Пойди с ней и ешь хорошенько.
– Идем! – сказала Вилльям, задыхаясь и бросая сердитый взгляд на Скотта, который стоял беспомощно, словно подстреленный.
– Уйдите, – сказал Скотт, обращаясь к Вилльям. – Я пришлю мальчугана через минуту.
Властный тон произвел свое действие, но не совсем так, как ожидал Скотт.
Мальчик выпустил сапог и сказал серьезно:
– Я не знал, что эта женщина твоя. Я пойду.
Потом он крикнул своим товарищам, толпе мальчуганов трех, четырех и пяти лет, ожидавших результата его предприятия, прежде чем бежать:
– Ступайте назад и ешьте. Это женщина нашего господина. Она послушается его приказаний.
Джим чуть не покатился со смеху, Фез Улла и полицейские улыбались, а приказания Скотта посыпались градом на возниц.
– Таков обычай сахибов, когда говорят правду в их присутствии, – сказал Фез Улла. – Подходит время, когда мне придется искать новую службу. Молодые жены, особенно те, что говорят на нашем языке и знают полицейские обычаи, представляют собой большое затруднение для честных дворецких в смысле расходов.
Вилльям не говорила, что она думала обо всем этом. Когда ее брат десять дней спустя приехал в лагерь за приказаниями и узнал о проделках Скотта, он со смехом сказал:
– Ну, теперь решено. Он будет «Бакри» Скоттом до конца своих дней («Бакри» на местном северном наречии значит «коза»). Что за прелесть! Я отдал бы месячное жалованье, чтобы посмотреть, как он нянчит голодных детей. Я кормил некоторых рисовым отваром, но это и все.
– Прямо отвратительно, – сказала его сестра. Глаза ее метали искры. – Человек делает, что можно и что надо, а все вы, остальные мужчины, думаете только о том, какую бы ему дать глупую кличку, смеетесь и воображаете, что это забавно.
– Ах!.. – сочувственно сказала миссис Джим.
– Не тебе бы говорить, Вилльям. Ведь окрестила же ты маленькую мисс Лемби «Пуговкой-перепелкой» последней зимой. Индия – страна кличек.
– Это совсем другое дело, – сказала Вилльям. – Она только девушка и ничего не сделала за исключением того, что ходит, как перепелка, и это правда. Но нехорошо смеяться над мужчиной.
– Скотту это все равно, – сказал Мартин. – Старого Скотта не выведешь из себя. Я пробовал сделать это в течение восьми лет, а ты знаешь его только три года. Какой у него вид?
– Очень хороший, – сказала Вилльям и ушла со вспыхнувшими щеками. – «Бакри» Скотт, скажите пожалуйста! – Потом она рассмеялась, так как знала страну, в которой служила. – Все равно будет «Бакри», – медленно прошептала она несколько раз, пока не примирилась с кличкой.
Вернувшись на свою службу на железной дороге, Мартин широко распространил кличку между своими сослуживцами, так что Скотт узнал это еще по дороге. Туземцы полагали, что это какой-нибудь почетный титул, а возницы употребляли его в простоте душевной, пока Фез Улла, который не любил чужеземных шуток, чуть было не проломил им головы. Теперь было мало времени для того, чтобы возиться с козами где-либо, за исключением больших лагерей, в которых Джим, развивая идею Скотта, кормил большие стада бесполезными северными зернами. Рису было навезено достаточно, чтобы спасти людей, если быстро распределить его. Для этой цели не было никого лучше высокого инженера, который никогда не выходил из себя, не отдавал ненужных приказаний и никогда не обсуждал отданного ему самому приказания. Скотт быстро шел вперед, оберегая свой скот, ежедневно омывая ссадины на шеях упряжных волов; чтобы не терять времени по дороге, он останавливался на маленьких питательных пунктах, разгружал повозки и возвращался форсированным ночным маршем к следующему распределительному пункту, где находил неизменную телеграмму Хаукинса: «Продолжайте делать то же». И он делал то же снова и снова, а Джим Хаукинс на расстоянии пятидесяти миль отмечал на большой карте следы его колес, бороздивших охваченные голодом области. Другие хорошо исполняли свое дело – по окончании Хаукинс донес об усердной работе всех, – но Скотт превосходил всех, потому что у него были рупии, и он сразу же платил за все починки повозок и за все неожиданные, экстренные расходы, надеясь на возмещение их впоследствии. Теоретически правительство должно было бы платить за каждую подкову и чеку, за каждого рабочего, нанятого для погрузки, но казенные деньги и векселя оплачиваются медленно, и интеллигентные, искусные клерки пишут пространно, оспаривая неутвержденные расходы в восемь анн. Человек, желающий, чтобы его дело шло успешно, должен брать с собой деньги, чтобы не затрудняться в платежах.
– Я говорил тебе, что он будет работать, – сказал в конце шести недель Джимми своей жене. – У него под началом в продолжение года на севере на Мосульском канале было две тысячи человек, но с ним хлопот меньше, чем с молодым Мартином с его десятью констеблями; и я убежден – только правительство не признает нравственных обязательств, – что он около половины своего жалованья тратит на смазку колес. Взгляни-ка, Лиззи, на работу за одну неделю! Сорок миль в два дня с двенадцатью повозками; двухдневная остановка, чтобы оборудовать питательный пункт для Роджерса (Роджерс сам должен был бы устроить его, идиот!). Потом сорок миль назад, нагрузил по дороге шесть повозок и раздавал продукты целое воскресенье. Потом вечером он пишет мне полуофициальное письмо на двадцати страницах о том, что люди там, где он находится, «могли бы быть с успехом употреблены на земляные работы», и прибавляет, что он заставил их ремонтировать найденный им старинный испорченный резервуар, так как он позволит иметь большое количество воды, когда пойдут дожди. Он думает, что может построить плотину за две недели. Взгляни на чертежи на полях – не правда ли, как они отчетливы и хороши? Я знал, что он «пукка» (молодец), но не знал, что он до такой степени молодец.
– Нужно показать эти чертежи Вилльям, – сказала миссис Джим. – Она изводится с этими младенцами.
– Не больше тебя, моя милая. Ну, месяца через два мы выйдем из этого положения. Жаль, что я не могу представить тебя к награде.
Вилльям поздно вечером сидела в своей палатке, читая страницу за страницей, исписанные четким почерком, любовно поглаживая чертежи предполагаемых исправлений резервуара и хмуря брови над столбцами цифр – вычислений расхода воды.
«И он находит время для всего этого, – вскрикнула она про себя, – и… ну, я также участвовала в здешней работе! Я спасла нескольких детей».
В двадцатый раз ей приснился Бог в золотой пыли, и она проснулась освеженная, чтобы кормить безобразных черных детей, десятками подобранных на дороге, ужасных, покрытых болячками детей, кости которых почти прорывали кожу.
Скотту не позволили бросить его дела, но письмо его было отправлено правительству, и он имел утешение, нередкое в Индии, узнать, что другой человек пожал посеянное им. Это была также дисциплина, полезная для души.
– Он слишком хорош, чтобы растрачивать себя на каналы, – говорил Джимми. – Всякий может смотреть за кули. Нечего сердиться, Вилльям. Он, конечно, тоже может… Но мне нужна моя жемчужина среди руководителей транспортов, и я перевел его в округ Канда, где ему придется проделать все сначала. Он, должно быть, уже марширует теперь.
– Он не кули! – с яростью сказала Вилльям. – Он должен сделать свою настоящую работу!
– Он лучший человек в своем деле, а этим много сказано; но если приходится разбивать камни бритвой, то я предпочитаю выбрать самую лучшую.
– Не пора ли бы нам повидаться с ним? – сказала миссис Джим. – Я уверена, бедный мальчик за месяц ни разу не поел нормально. Он, вероятно, сидит в повозке и ест сардинки руками.
– Все в свое время, милая. Долг превыше приличий.
– Иногда я думаю, – сказала Вилльям, – как будем мы себя чувствовать, когда станем танцевать, или слушать оркестр, или сидеть под крышей. Мне как-то не верится, что я когда-нибудь носила бальное платье.
– Одну минуту, – сказала миссис Джим, думавшая о чем-то. – Если он поедет в Канду, то будет в пяти милях от нас. Конечно, он заедет сюда.
– О нет, не заедет, – сказала Вилльям.
– Откуда вы знаете, милая?
– Это оторвет его от дела. У него не будет времени.
– Он найдет его, – сказала, подмигивая, миссис Джим.
– Это целиком зависит от него. Абсолютно нет никакой причины не заехать, если он считает нужным побывать здесь, – сказал Джим.
– Он не сочтет это нужным, – ответила Вилльям, не выказывая ни горя, ни волнения. – Он был бы не он, если бы заехал.
– Конечно, в такие времена хорошо узнаешь людей, – сухо сказал Джим, но выражение лица Вилльям оставалось спокойным.
И Скотт не приехал, как она и предсказывала.
Дожди пошли, наконец, поздно, но зато сильные, и сухая, растрескавшаяся земля превратилась в красную грязь; слуги убивали змей в лагере, откуда никто не выходил в течение двух недель, за исключением Хаукинса, который садился на лошадь и с радостью разъезжал по окрестностям, шлепая по грязи. Правительство предписало раздать зерна для посева, а также деньги для покупки новых быков, и белым людям пришлось работать вдвое больше. Вилльям переходила дорогу по набросанным кирпичам и давала своим питомцам согревающие лекарства, от которых они поглаживали свои кругленькие животики; козы питались жесткой травой. От Скотта, находившегося в округе Канда, на юго-востоке, приходили только телеграммы – рапорты Хаукинсу. Плохие местные дороги исчезли; возницы чуть не взбунтовались; один из полицейских, взятых у Мартина, умер от холеры; Скотт принимал по тридцати гран хины в день, чтобы защититься от лихорадки, которой в тяжелое дождливое время заболевает много работающих людей, но обо всем этом он не считал нужным докладывать. По обыкновению, он отправлялся с главного продовольственного пункта на железной дороге по радиусу в пятнадцать миль, а так как взять большой груз было невозможно, то он брал только четверть положенного, и потому ему приходилось разъезжать вчетверо больше; он боялся распространения какой-нибудь эпидемии среди тысяч крестьян, если они будут собираться на питательных пунктах. Дешевле было забирать правительственных волов, заставлять их работать до смерти и оставлять в добычу воронам в придорожной грязи.
Тут сказался правильный, трудовой образ жизни, который он вел за последние восемь лет. Впрочем, в голове у него словно звучал колокол, а земля уходила из-под ног, когда он стоял, и из-под кровати, когда он спал. Если Хаукинс счел нужным превратить его в погонщика волов, думал он, то это исключительно дело его, Хаукинса. На севере есть люди, которые узнают, что он сделал; люди, служащие по тридцать лет в его департаменте, скажут: «это недурно», а главное, неизмеримо выше людей всех положений стояла в самой гуще битвы Вилльям, которая одобрит его, потому что она понимает все. Он так настроил свой ум, что он был весь подчинен ежедневной механической рутине, хотя его голос звучал словно чужой в его ушах, а пальцы, когда он писал, становились большими, как подушки, или маленькими, как горошинки. Усилием воли дотащился он до телеграфной станции на железной дороге и продиктовал телеграмму Хаукинсу, в которой извещал, что в настоящее время в Канде, по его мнению, неблагополучно и что он ожидает дальнейших распоряжений.
Телеграфист из Мадраса не одобрил высокого, худощавого человека, упавшего на него в глубоком обмороке, не за то, что тяжесть тела этого человека была велика, но из-за ругани и побоев, которыми осыпал его Фез Улла, когда нашел своего господина лежащим под скамьей.
Фез Улла собрал отовсюду, откуда мог, простыни, одеяла и лег под ними рядом со своим господином, связал ему руки веревкой, напоил его какой-то ужасной настойкой из травы, позвал полицейского, чтобы бороться с больным, когда тот намеревался освободиться от невыносимой жары под одеялами и простынями, и закрыл двери телеграфной конторы на две ночи и один день, чтобы удалить любопытных. А когда по линии железной дороги подъехала вагонетка и Хаукинс постучался в дверь, Скотт окликнул его слабым, но нормальным голосом, а Фез стал поодаль и гордился своим успехом.
– В продолжение двух ночей, небеснорожденный, он был «пагаль», {Без памяти.} – сказал Фез Улла. – Взгляните на мой нос и обратите внимание на глаз полицейского. Он бил нас связанными руками, но мы сели на него, небеснорожденный, и, хотя слова его были очень дурны, все же заставили его пропотеть. Небеснорожденный, никогда не бывало такого пота! Теперь он слабее ребенка, но лихорадка вышла из него, милостью Божьей. Остался только мой нос и глаз констебля. Сахиб, уж не просить ли мне отставки, потому что мой сахиб побил меня? – И Фез Улла осторожно положил свою длинную худую руку на грудь Скотта, чтобы удостовериться, что лихорадка у него прошла, а потом пошел открывать жестянки с консервами и обуздывать смеявшихся над его распухшим носом.
– В округе все благополучно, – шепнул Скотт. – Нет ничего нового. Вы получили мою телеграмму? Я оправлюсь за неделю. Не понимаю, как это случилось. Я поправлюсь через несколько дней.
– Вы поедете в лагерь с нами, – сказал Хаукинс.
– Но как же… ведь…
– Все кончилось, хотя шум вокруг этого дела еще продолжается. Вы, пенджабцы, нам больше не нужны. Клянусь честью, не нужны. Мартин возвращается через несколько недель, Арбутнот уже вернулся, Эллис и Клэй заканчивают последнюю линию, которую государство проводит к питательным пунктам. Мортен умер – впрочем, он бенгалец; вы его не знали. Даю слово, вы и Вилльям Мартин, по-видимому, благополучно вынесли все.
– А как она? – голос то возвышался, то падал.
– Она отлично выглядела, когда я расстался с ней. Римско-католические миссии принимают брошенных детей, чтобы обратить их в маленьких священников, базилианская миссия берет нескольких, а остальных разобрали матери. Она немножко похудела, ну да как все мы. Ну, как вы думаете, когда вы можете двинуться в путь?
– Я не могу приехать в лагерь в таком состоянии. Я не хочу, – раздраженно ответил он.
– Ну, конечно, вид у вас неважный, но, насколько я понимаю, они будут рады видеть вас во всяком состоянии. Я тут присмотрю за вашей работой денька два, если хотите, а тем временем вы наберетесь сил, и Фез Улла откормит вас.
Скотт начал ходить, хотя и шатаясь, к тому времени как Хаукинс окончил свой осмотр. Он весь вспыхнул, когда Джим сказал, что его работа в округе была «недурна», и затем прибавил, что во время голода он считал Скотта своей правой рукой и считает своим долгом официально доложить об этом по начальству.
Итак, они вернулись по железной дороге в старый лагерь, но вблизи него не было толпы, костры во рвах потухли и почернели, а бараки для голодающих были почти пусты.
– Видите! – сказал Джим. – Дела нам осталось немного. Поезжайте-ка лучше к моей жене. Там для вас устроили палатку. Обед в семь часов. Тогда я увижусь с вами.
Скотт поехал шагом, Фез Улла шел у стремени. Подъехав к палатке, Скотт увидел Вилльям в амазонке из бумажной материи коричневого цвета. Она сидела у входа в палатку-столовую, опустив руки на колени, бледная, как смерть, похудевшая, истощенная. Даже волосы потеряли свой обычный блеск. Миссис Джим не было видно. Вилльям могла только сказать:
– Какой у вас плохой вид!
– У меня был приступ лихорадки. У вас самой вид не очень хороший.
– О, я достаточно здорова. Наша работа подходит к концу, знаете?
Скотт кивнул головой.
– Мы все скоро вернемся назад. Хаукинс говорил мне.
– До Рождества, говорит миссис Джим. Рады вы будете вернуться? Я уже чувствую запах лесов, – Вилльям втянула воздух. – Мы успеем к рождественским празднествам. Я думаю, что даже пенджабское правительство не будет настолько низко, что переведет Джека на новое место до Нового года.
– Кажется, как будто это было сотни лет тому назад – Пенджаб и все остальное, не правда ли? Рады вы, что приехали?
– Теперь, когда все прошло, да. Здесь было ужасно. Вы знаете, мы должны были сидеть смирно и ничего не делать, а сэр Джим так часто уезжал.
– Ну уж и ничего не делать… Ну а как у вас шло доение коз?..
– Кое-как справлялась – после того, как вы научили меня.
Они примолкли, прислушиваясь к шуму шагов. Но миссис Джим все не было.
– Это напомнило мне, что я должна вам пятьдесят рупий за сгущенное молоко. Я думала, что вы заедете сюда, когда вас перевели в округ Канда, и я смогу тогда заплатить вам, но вы не заехали.
– Я проезжал в пяти милях от лагеря. Видите, это было во время перехода, и повозки ломались каждую минуту, мне удалось поправить их только к десяти часам вечера. Но мне страшно хотелось заехать. Вы знали, что хотелось, не правда ли?
– Я думаю, что знала, – сказала Вилльям, глядя на него. Теперь она уже не была бледна.
– Вы поняли?
– Почему вы не заехали? Конечно, поняла.
– Почему?
– Потому, что не могли. Я знала это.
– Было бы вам приятно?..
– Если бы вы приехали?.. Ведь я знала, что вы не приедете… Все же, если бы приехали, я была бы очень рада. Вы знаете это.
– Слава Богу, что я не приехал! Но как мне хотелось! Знаете, я не решился ехать впереди повозок, потому что боялся, что заставлю их свернуть как-нибудь в эту сторону.
– Я знала, что вы не сделаете этого, – с довольным видом сказала Вилльям. – Вот ваши пятьдесят рупий.
Скотт наклонился и поцеловал руку, державшую грязные бумажки. Другая рука неловко, но очень нежно погладила его по голове.
– И вы знали, не правда ли? – сказала Вилльям изменившимся голосом.
– Нет, клянусь честью, не знал. Я… у меня не хватало смелости ожидать чего-либо подобного, за исключением… Скажите, вы ездили куда-нибудь в тот день, когда я проезжал мимо по дороге в Канду?
Вилльям кивнула головой и улыбнулась, словно ангел, которого застали за добрым делом.
– Так, значит, это я видел край вашей амазонки в…
– В пальмовой роще на южной дороге. Я увидела ваш шлем, когда вы выходили из пристройки у храма, – я видела ровно столько, чтобы убедиться, что у вас все благополучно. Приятно вам это?
На этот раз Скотт не поцеловал ей руку, потому что они скрылись во мраке палатки-столовой и потому что Вилльям, колена которой дрожали так, что она должна была сесть на ближайший стул, опустила голову на руки и заплакала обильными, счастливыми слезами; и когда Скотт сообразил, что следовало бы утешить ее, она побежала в свою палатку, Скотт же вышел на воздух с широкой, идиотской улыбкой на устах. Но когда Фез Улла принес ему питье, оказалось, что Скотту необходимо поддерживать одну руку другой, не то прекрасный напиток – виски с содовой – расплескался бы. Бывают лихорадки разного рода.
Но хуже – и притом гораздо хуже – был натянутый разговор, когда они избегали смотреть друг на друга, пока слуги не удалились, и хуже всего, когда миссис Джим, еле удерживавшаяся от слез с той минуты, как подали суп, поцеловала Скотта и Вилльям, и они выпили целую бутылку шампанского, теплого, потому что не было льда. Потом Скотт и Вилльям сидели при свете звезд на воздухе до тех пор, пока миссис Джим не загнала их в палатку, боясь нового приступа лихорадки.
По поводу этого и многого другого Вилльям сказала:
– Быть помолвленной отвратительно, потому что это какое-то неопределенное положение. Мы должны быть благодарны, что у нас столько дел.
– Столько дел! – сказал Джим, когда эти слова были переданы ему. – Оба они теперь никуда не годятся. Я не могу добиться пяти часов работы от Скотта. Половину времени он витает в облаках.
– Но зато так отрадно смотреть на них, Джимми. Сердце у меня разобьется, когда они уедут. Не можешь ли ты сделать что-нибудь для них?
– Я написал донесение так, что должно получиться впечатление, будто он лично вел все это дело. Но он желает только получить место по проведению канала Луни, и Вилльям также стоит на этом. Слышала ты когда-нибудь, как они говорят о запруде, об излишке воды? Должно быть, такова их манера ухаживать.
Миссис Джим нежно улыбнулась.
– Ну, это они только так, между прочим!.. Да благослови их Господь.
Итак, любовь царствовала невозбранно в лагере при ярком свете дня в то время, как люди завершали борьбу с голодом в «восьми округах».
Утро принесло пронизывающий холод северного декабря, облака дыма костров, темный серо-голубой цвет тамариндовых деревьев, сооружения над разрушенными могилами и все запахи белых северных равнин. Поезд бежал по длинному Сеглейскому мосту, тянувшемуся на протяжении мили. Вилльям, закутанная в «поштин» – куртку из овчины, расшитую шелками и обшитую грубой мерлушкой, – смотрела на все влажными глазами и с трепетавшими от восторга ноздрями. Юг с его пагодами и пальмовыми деревьями, индусский юг остался позади. Вот страна, которую она знает и любит. Перед ней была хорошо знакомая ей жизнь среди людей ее круга и понятий.
Почти на каждой станции они забирали этих людей – мужчин и женщин, едущих на Рождество с ракетками для тенниса, связками шестов для игры в поло, с милыми, поломанными лопатками для крокета, фокстерьерами и седлами. Большая часть из них была в таких же куртках, как у Вилльям, потому что с северным холодом так же нельзя шутить, как с северной жарой. И Вилльям была среди них и одна из них. Запустив руки глубоко в карманы, подняв воротник выше ушей, она расхаживала по платформе, притоптывая ногами, чтобы согреться, и переходила из одного вагона в другой, чтобы навестить знакомых. Везде ее поздравляли. Скотт сидел в конце поезда с холостяками, которые немилосердно дразнили его тем, что он кормил грудных детей и доил коз, но по временам он подходил к окну вагона, где сидела Вилльям, и шептал:
– Хорошо, не правда ли?
И Вилльям отвечала, видимо, в полном восторге:
– Правда, хорошо.
– Приятно было слышать благозвучные имена родных городов: Умбала, Лудиана, Филлоур, Джуллундур звучали в ее ушах, словно колокола, которые должны возвестить о ее свободе, и Вилльям чувствовала глубокую, истинную жалость ко всем чужим и посторонним – гостям, путешественникам и только что принятым на службу.
Возвращение было чудесное, и, когда холостяки давали рождественский бал, Вилльям была неофициально, так сказать, главной и почетной гостьей старшин клуба, которые могли устроить все чрезвычайно приятно для своих друзей. Она танцевала со Скоттом почти все танцы, а остальное время сидела в большой, темной галерее, выходившей в великолепный зал, где блестели мундиры, звенели шпоры и развевались новые женские платья и где четыреста танцоров кружились так, что флаги, которыми были задрапированы колонны, стали развеваться, уносимые вихрем.
Около полуночи с полдюжины не любивших танцы пришли из клуба, чтобы сыграть серенаду, – то был сюрприз, приготовленный старшинами. Прежде чем присутствующие могли сообразить что-либо, оркестр умолк и невидимые голоса запели «Добрый король Венцеслав».
Вилльям, сидя на галерее, подпевала и отбивала такт ногой:
Иди за мной вослед, мой паж, Вослед твоей любви! Настанет время – в зимний хлад — Замрет огонь в крови!– Надеюсь, что они споют еще что-нибудь? Не правда ли, как красиво это пение, вдруг раздающееся из темноты? Посмотрите-посмотрите, вон миссис Грегори вытирает глаза!
– Это несколько напоминает родину, – сказал Скотт. – Я помню…
– Тс! Слушайте, милый!.. – И снова раздалось пение.
Они сидели все вокруг.– Ах! – сказала Вилльям, придвигаясь ближе к Скотту.
Господень Ангел к ним сошел — И осиян был славой луг. «Не бойтесь, – Ангел им сказал (Смущенных, страх их обуял), — Я радость возвестить сошел: Спаситель на землю пришел!»На этот раз глаза вытерла Вилльям.



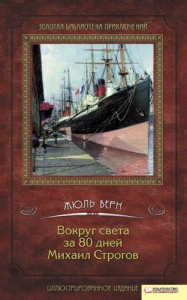
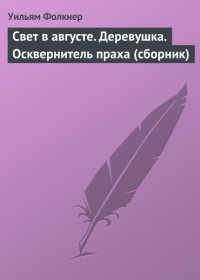
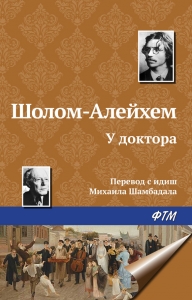
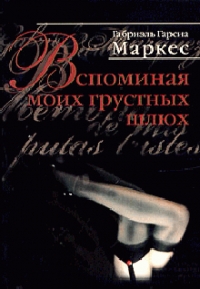
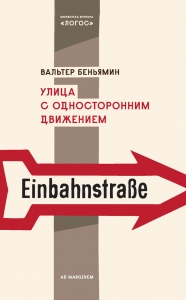
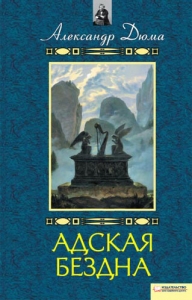
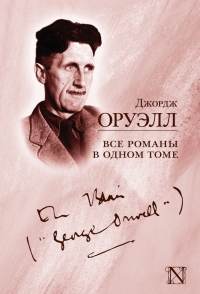
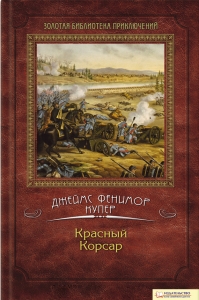
Комментарии к книге «На голоде», Редьярд Джозеф Киплинг
Всего 0 комментариев