Стояло прекрасное весеннее утро. От Вальдмюнхена[1] к чешской границе близилась группа солдат. Следом двигались повозки с вещами. На передней сидели офицер и его жена. Рядом шагала женщина с маленькой девочкой на спине. Женщина была высокая, костистая, грубые черты не лишали лицо приятности, хотя черные брови над серыми глазами и длинные черные ресницы делали его несколько мрачным с виду.
Одета она была во все крестьянское, как принято в окрестностях Домажлиц: черная в складку юбка с красной каймой и очень коротенький корсаж, синий фартук, вышитая безрукавка со шнуровкой и красной подушечкой на груди[2], рубаха с широким сборчатым воротником и длинными рукавами. Голова повязана красным платком, стянутым на затылке, ноги в красных чулках, башмаки на каблуках с подковками, спереди бантики.
Дорога круто поднималась к вершине холма, по обе стороны ее тянулся темный лес, в большей части хвойный. Женщина с тревогой и нетерпением всматривалась вперед, потом, словно окрыленная, ускорила шаг.
— Маркитка, вы же так устанете, дайте-ка хоть девочку мне в повозку,— предложила ехавшая пани.
— Ничего, дорогая пани крестная, — ответила женщина, — девочка ведь легкая как перышко, я ее за спиной вовсе не чувствую.
Пани больше не настаивала, а Маркита, поправив свою ношу, поспешила за солдатами, которые двигались быстро, хотя дорога шла в гору.
Когда поднялись на вершину, стало светлеть и вдруг лес неожиданно кончился, а путникам открылась невероятной красоты картина простершейся перед ними чешской земли.
У края леса на вырубке кое-где еще росли пихты и ели, ниже, на склоне холма, зеленели поля, а среди них, утопая в садах, отделявших редко расставленные домики, раскинулась деревня.
Опередив других, первой на поляне оказалась женщина с ребенком.
— Слава богу, мы дома! — воскликнула она, опускаясь на колени.
— Мы дома! Золотая ты наша Чехия! Теперь нам сам черт не страшен! — послышалось со всех сторон. Смеясь, солдаты бросали шапки вверх, шумно ликовали, многие застыли в молчании, словно потеряв дар речи. Всяк радовался по-своему.
— Красивый край! — вырвалось у офицера, когда он вышел с женой на поляну.
— С вашего позволения... это самое... пан надпоручик, — подхватил старый солдат, поглаживая свои длинные усы, — красота такая, глаз не оторвать. Когда человек не по своей воле с нею расстается, ох, и круто же ему приходится. Я это испытал... ну... это самое... тринадцать лет назад. В тот раз, если бы не постыдился и впрямь бы заплакал, на душе, может быть, полегче стало. Тогда у нас один молодой рекрут так и умер в пути. Похоронили мы его... это самое... в Рехце.
— Маменькин сынок небось! — усмехнулся офицер.
— С вашего позволения... пан надпоручик, парень был крепкий. Только так уж получается, что расставаться с родными местами нам тяжело, а особенно если... это самое... уходишь на чужбину. Такая печаль хватает за сердце, что нет от нее спасения, тоска по родине одолевает человека.
— Да бросьте вы про эту вашу тоску по родине!
— С вашего позволения... это самое... пан надпоручик, доктора могут говорить что угодно, а все-таки есть такая болезнь — тоска по родине, — не согласился солдат, накручивая усы на палец, что он делал, когда сердился. Обычно же он их только поглаживал.
Увидев солдат, высыпавших на поляну, крестьяне бросили работу в поле и устремили взоры к вершине холма. Ребятишки, игравшие на поляне и возле домов, опрометью бросились к матерям сообщить, что на опушку леса вышла толпа людей. Из домов стали выбегать женщины, неся малышей на плечах, чтобы детям сверху было все видно. За ними, стуча деревянными подошвами, зажав под мышкой веретена, ковыляли старухи. Мужчины — молодые и старые — тоже вышли, кто из амбара, кто из сада, отовсюду, где в эту пору работали.
Один из них, откинув со лба длинные черные волосы, глянул из-под ладони на холм и произнес:
— Так ведь это же наши солдаты возвращаются из Германии!
— Пошли к ним, — предложил кто-то.
И они двинулись. Самый догадливый крикнул жене:
— Прихвати с собой хлеба, соли и молока, солдаты небось проголодались!
Повернувшись на каблуках, крестьянка обратилась в глубь двора:
— Дорла! Ганча!
Тут же из сада, словно лани, выбежали две девушки и вместе с матерью пошли в дом.
Остальные хозяйки тоже откликнулись на слова крестьянина, и те, у кого было чем поделиться, повернули домой.
Мужчины двигались к холму не спеша, едва переставляя ноги, чтобы не показалось, будто их одолевает любопытство. Женщины несколько поотстали, но тоже шаг за шагом продвигались вперед.
— Ну что, паны солдаты, по домам? — начал разговор крестьянин, когда все добрались до вершины и поздоровались с солдатами.
— Домой идем, хозяин, домой, — откликнулись путники.
— Так, так. Всюду хорошо, а дома все же лучше,—произнес крестьянин.
— А как называется ваша деревня? — спросил офицер.
— Ходово, дорогой пан офицер, — с готовностью ответил стоявший ближе остальных старик, вежливо приподняв красную, обшитую кожей шапку.
— А та, что внизу, где замок?
— Трганово, почтенный пан. Которая подальше — Уезд, а вот там Домажлице, — стал пояснять старик, указывая на селения погасшей трубкой. — Вправо от Домажлиц на холме виден костел. Это холм святого Вавржинца, только мы называем его Веселая гора. У подножья Веселой горы лес Рмут, за лесом деревня Страж, за нею гора Салка, за Салкой деревня Пажежнице, так и идут они гора за горой, деревня за деревней.
— Мы из Стражи будем, я да вот кума Маркита, — перебил его, поглаживая усы, солдат.
— Ну, вот видите! — одобрительно кивнул старик. А другой тут же спросил:
— Кому ж ты сыном приходишься?
— Бартовым, ответил солдат. — С вашего позволения... это самое... пан надпоручик, с давних времен наши предки, ходы[3], или, как их еще прозвали, псоглавцы, большие права имели. Было у них свое знамя, свой гетман, и все они были вольные. Вон там, где наша деревня, находился главный сторожевой пост, а потому и по сей день у нас говорят, что «мы на Страже».
— Так оно и было, это правда, — подтвердил старый крестьянин со вздохом.
— А вон там, в стороне от Домажлиц, разрушенный замок на холме, как он называется? — продолжал расспрашивать офицер.
— Ризмберк. Сказывают, будто под развалинами замка лежит клад, только не похоже, что это правда. Да разве паны не достали бы его, если бы он на самом деле там лежал? Под Ризмберком находятся Куты, туда мы ходим к властям. А вон те холмы, что тянутся от Кдыни к баварской границе, называют Высокая гора, Добрая гора — на них будто бы один день в году растет золотая трава, только как нарвать ее, если день тот никто не знает?
— Сказка это. Когда я батрачил на Глубокой, то каждый день скот пас на Доброй горе, а золотой травы не видел, — перебил старика усач.
— Стало быть, растет она ночью, — вступила в разговор Маркита, — папоротник тоже ведь расцветает ровно в полночь на святого Яна Крестителя. Говорят, если невинная дева расстелет под кустиком папоротника белый платок, то упадет на него цветок из чистого золота.
— Так отчего же до сих пор ни одна дева не постелила платок? — усмехнулся офицер.
— Ох, дорогой куманек, это ж нужно до смерти золота захотеть, чтобы осмелиться в такую пору в лес идти. У ночи свои законы! — ответила Маркита.
— Верно, — согласился с нею старик.
— А остальные горы как называются? — продолжал расспрашивать офицер.
— Я же сказал, Добрая гора, Высокая, потом Гвездинец, Серебряная, под нею серебряная шахта, говорят, там когда-то добывали серебро, а вон те две горы у самых облаков, это Перси девы Марии.
— Значит, это Осер и Арборец, — дополнил его офицер.
— Ну, у вас их так называют, а у нас по-своему, — кивком головы согласился ход и, показав налево зажатой в руке трубкой, продолжал: — А вон там, на равнине, уважаемый пан офицер, видите, стоит черный холм, отдельно, а на нем замок? Это Пржимда. Говорят, давно когда-то там одного чешского князя в тюрьме держали за то, что он хотел, чтобы никаких господ на земле не было. Вечная ему слава, да много ли толку с того, что он хотел, такого быть не может.
Если глаза хорошие да смотреть прямо, до самого Пльзня видно. Наш холм, на котором стоим, — это Черхов, а лес мы зовем Черным.
Пока старик все это офицеру рассказывал, подошли крестьянки с дочками, принесли хлеб, молоко, масло, мед и пироги, у кого что нашлось дома.
— Угощайтесь, чем бог послал, — потчевали хозяйки, раскладывая яства на траве под пихтами. Офицеру и его жене дали майоликовые тарелки, костяные ложки и кружки для молока. Остальные черпали половниками прямо из наполненных крынок. Все ели с удовольствием, и крестьянки радовались этому.
Женщины уселись на траве неподалеку от Маркиты, девушки же, бегом спустившись с холма, вроде бы разошлись по домам, но внимательный взгляд мог увидеть в зелени садов не одну темноволосую головку с белым венком и косы с вплетенными в них красными лентами.
— Послушай, откуда я могу тебя знать? —обратилась к Марките одна из женщин, некоторое время пристально смотревшая на нее. — Не тебя ли это лет пять назад принесли с холма в наш дом без сознания, когда солдат угнали в Германию, а среди них был твой муж?
— Да, я это была, я. Отплати вам бог за вашу заботу. А ты сильно изменилась, хозяйка. Я тебя даже не узнала. Никак хвораешь? — спросила Маркита.
— Злым ветром меня продуло, с той поры ломит кости, от того же и худею. Надо бы в Уезд к бабке сходить, может, что присоветует, такую хворь она одолевает. Даст бог, и мне поможет. А который же тут твой муж?
— Нет больше у меня мужа, помер в Германии, бедняга, — печально ответила Маркита.
— Ну, пусть утешит тебя господь! А девчоночка твоя?
— Моя.
— И куда же ты теперь?
— Домой, в Стражу. Меня там все знают, и я знаю всех, там мне будет лучше всего.
— Это ты верно рассудила, — согласилась с нею крестьянка.
Когда после щедрого угощения солдаты и хозяева вдоволь наговорились, офицер подал команду двигаться дальше. Солдаты стали благодарить крестьян.
— Дай вам бог здоровья, — кричали они.
— Счастливого пути! — звучало в ответ.
И солдаты с песней двинулись вниз к Кленчу. В Домажлицах остановились на день для отдыха. Там Маркита распрощалась с крестной и с солдатами. Она заплакала, да и у них слезы стояли в глазах. Ведь почти пять лет прожила она с ними на чужбине! Крестная силком сунула ей в руки два талера[4] девочке на платье и листок бумаги, на котором были записаны ее фамилия и адрес.
— Спрячь, Маркита, эту записку. Коль не хочешь со мной ехать, так хоть навести меня в Праге и Карлу возьми с собой, — искренне добавила она.
— А если что понадобится тебе или Карле, обращайся к нам безо всякого, — велел ей офицер, потому как и он любил честную Маркиту, а если бы та согласилась, удочерил бы ее кудрявую девчонку.
— Ну, а я с тобою не прощаюсь. Передай дома... это самое... привет и сообщи, что я скоро приду, — сказал заплаканной Марките старый солдат, поглаживая по своему обыкновению усы.
В этот день в городе как раз был базар. Маркита вскоре нашла односельчанина и доехала с ним домой.
II
Жена стражского старосты готовила еду работникам. Временами ее пухлое приветливое лицо чем-то омрачалось, а с уст срывались тревожные слова.
— Уже третий час, а он все не едет!.. Господи, где же он? А вдруг там в городе его уговорили зайти в корчму... Меня всю колотит от страха!.. Ведь при нем столько денег!
И тут, в самый разгар ее волнений, на деревенской площади, словно выстрел, хлопнул кнут. Лицо ее мгновенно просветлело, этот хлопок был ей хорошо знаком. Так хлопнуть кнутом, кроме старосты, во всей деревне не мог никто. Она тут же бросилась к печи вытаскивать обед для мужа. Вот кони заржали уже во дворе, и минуту спустя в дверях появился сам староста Милота, а за ним женщина с девочкой.
— Глянь-ка, жена, кого я тебе из города привез! — крикнул он, не дав ей слова вымолвить.
Та бросила мимолетный взгляд на вошедшую и, радостно улыбаясь, протянула ей руки и воскликнула:
— Пресвятая богородица Клатовская, так ведь это же Маркита! Откуда ты взялась?
— Пришла я с солдатами в Домажлице, а он захватил меня с собой сюда, — ответила Маркита, радостно стискивая ее руки.
— Ну, а девочка-то твоя?
— Моя.
— Благослови ее господь, хороша, как вишенка! Ну, проходите же, проходите! Садитесь-ка за стол. Я только отдам работникам полдник и тут же вернусь, — сказала хозяйка и поспешно исчезла в дверях.
— Хозяйка нисколько не постарела, — заметила Маркита, усаживая девочку за стол.
— Слава богу, всегда, как ветер, быстрая, — ответил на это хозяин, вешая белую куртку и широкополую шляпу на гвоздь рядом с постелью.
Жена старосты и впрямь была проворной. Не прошло и нескольких минут, как она уже ставила на стол обед, только что приготовленный паштет, молоко и пирог, от которого шел аромат разных пряностей.
— Ну, ешьте. Чем богата, тем и рада. Ешьте ради бога. Отрежь, Маркита, себе и девочке дай, — угощала хозяйка, положив перед Маркитой большой каравай и на нем отрезанный ломоть. — И молока налей ребенку, полуденное, очень вкусное. Молочко-то от той самой Пеструхи, которую ты, Маркита, выходила. Она уже принесла нам отменную телочку.
— Пеструха добрая животина, а вот с Рыжей всегда были хлопоты, сколько раз она подойник из рук выбивала, — сказала Маркита.
— Когда ты ушла в Германию, никто с нею сладить не мог, — сказал хозяин, — и я решил, что ее лучше продать. А зря, много я на этом потерял.
— Ну, голубушка, рассказывай же, как тебе в Германии жилось, что поделывает Драгонь, муж твой? Он тоже вернулся? — принялась расспрашивать хозяйка.
— Он уже не вернется, ушел на веки вечные, — произнес Милота.
— Помер! — всплеснула руками добросердечная женщина и залилась слезами. — Пошли тебе господь утешение! Что же с ним стряслось? Парень ведь был крепкий!
— Тоска по родине, — ответила Маркита.
— Ох, нет от нее спасения, если нельзя вернуться на родину, — подтвердила хозяйка.
— То-то и оно. Пока солдат свое не отслужит, его не отпустят. И моему не верили. Говорили, выдумка все это, мол, солдатское сердце не бабье, должно выдержать. А какой от этих разговоров толк? Затоскует сердце, так и мужик тут ничего не поделает, — вздохнула Маркита и отложила ложку, потому что кусок не шел ей в горло. Немного помолчав, она продолжала: — Драгонь сбежал бы, не окажись там кума Барты. Тот ему растолковал, чем все это может кончиться, успокаивал его. Это Барта дал мне знать, чтобы я шла в Германию. Да ведь ты, хозяин, сам читал его письмо. Не хворай в ту пору у меня ребенок, я бы ушла тотчас. Из-за него только и осталась. А прибрал его господь бог, сами знаете, я тут же и отправилась.
— Ну как, повеселел муж, когда ты к нему пришла? — спросила жена Милоты.
— Когда я рассказывала ему, как у нас дома живется, пела наши песни, он становился веселей, а потом опять тоска его одолевала. Даже не опечалился, что у нас ребенок умер. «Вырос бы — в солдаты забрали б, — говорил он, — а так господь прибрал, оно и лучше». Через год родилась вот эта девочка. Сильно обрадовался он и весь как-то ожил. Потом вдруг заболел чахоткой, чахнул, чахнул, службу уже нести не мог, прошло немного времени и схоронили его. Одно желание у него было — хоть раз еще побывать дома. Не довелось бедняге, суждено ему лежать в чужой земле. Несчастная доля солдатская! Упаси господь от такого каждую мать, каждую жену, — рыдала Маркита.
— Успокойся, Маркита, все под богом ходим, — уговаривал ее Милота. — Немало жен и матерей постигает такое. Иначе и быть не может. Государь император наш владыка, и служить ему мы обязаны.
— Давно ли Драгонь умер? — спросила хозяйка.
— На пасху ровно год был, — ответила Маркита.
— Так что же ты раньше домой не вернулась?
— Кум Барта отговорил, сказал, чтобы не пускалась я сама с девочкой в путь, осенью, мол, пойдут домой солдаты, стоит подождать. А когда настала осень, было сказано, что они пойдут весной. Чтобы не идти зимой, пришлось ждать до весны. Еле дождалась. Весь этот год прослужила у кумы, офицерской жены. Хотела она взять меня с собою в Прагу, да я решила, что лучше уж к вам вернусь. Думаю, не откажете мне, если буду вам служить, как прежде служила. А коль бог сохранит мне девочку, может, и для нее найдете работу, — добавила Маркита.
— О ней ты не заботься. Кто хочет трудиться, работу себе всегда найдет, а будет работа, будет и кусок хлеба, — сказала хозяйка.
— Сделаем так, — сказал Милота, немного поразмыслив, — рядом с нашим домом есть пустая каморка. В той каморке ты можешь с девочкой жить. Кормить мы тебя будем. Засею я тебе кусок земли льном, чтобы зимой, когда работы не так много, ты могла бы прясть для себя. Жена даст тебе двух гусей на откорм, с них наберешь пуху дочке на перинку. И будешь служить как прежде. Ну, ты довольна?
— Спасибо тебе, хозяин, сто раз тебе спасибо, — ответила на это Маркита, и слезы заблестели у нее в глазах, когда она подала Милоте руку в знак того, что поступает к нему в услужение.
Хозяин пошел заниматься своими делами, а Маркита стала помогать хозяйке убирать со стола.
— Как тебя зовут? — спросила девочку женщина.
— Карла, — ответила та, подняв на нее серые, опушенные черными ресницами глаза.
— Слушай, Маркита, что за имя ты ей дала? Сколько живу на свете, такого не слышала, — удивилась жена старосты.
— Я тут ни при чем. Ты же знаешь, есть у нас обычай — имя ребенку дает крестная. Кто же мог ожидать, что она назовет девочку Каролиной?
— Да есть ли в календаре такое имя? — спросила жена старосты.
— Должно быть, коль пан священник слова против не сказал. Хозяйка только покачала головой, дала девочке кусок пирога, потом погладила ее по головке и произнесла страдальчески:
— Ничего не скажешь, хорошо же они тебя, бедняжка, окрестили!
— А где твой Петр? — спросила Маркита, чтобы переменить разговор.
— В Медакове, в школе. Вот удивишься, когда увидишь, как он вырос. Через год уже сам пахать сможет.
— С той поры у вас семейство не прибавилось?
— Ты же знаешь, голубушка, как оно бывает, — усмехнулась хозяйка.— Была у меня одна дочка, господь прибрал ее да тут же другую послал. Год ей, бегает уже, кукла!
— А где она?
— Ушла в поле с пастушкой гусей пасти. Любит она в траве поваляться.
— А как ее зовут?
— Гана.
— Гана — красивое имя. Я рада, что у тебя дочка. Дочка украшает дом, как роза садик. Будут они с Карлой подружки. А давай-ка я и за твоей дочкой буду ухаживать, ты же знаешь, я люблю детей, — попросила Маркита.
— Я согласна, — ответила хозяйка, — когда забот полно, ума не приложишь, куда ребятишек девать: то ли с собою в поле брать, то ли дома оставить. Ты, Маркита, будешь мне помогать по дому, за хлевом присмотришь, а Ганчу, прислугу, пошлю с остальными в поле.
Этого Марките только и нужно было, никаких указаний и распоряжений ей больше не требовалось. Во всем этом домашнем хозяйстве, к которому она спустя четыре года снова возвращалась, ничего не изменилось, ничто не сдвинулось с привычных мест, только Гана прибавилась, не стало драчливой Рыжухи, да Пеструха и молодые деревца в саду подросли.
Как порыв ветра, пронесшийся по озеру, всколыхнет тихую гладь его, так и весть о том, что Маркита, жена Драгоня, вернулась из Германии и что Адам Барта тоже вот-вот будет, взбудоражила тихую и однообразную жизнь селян.
Хозяева и работники, старухи и девчонки, даже дети малые, короче говоря, приходил всяк и отовсюду на посиделки в дом старосты поглядеть на Маркиту и ее кудрявую дочку с таким неслыханным именем. Маркита каждому повторяла, как ей жилось в Германии, семье Павла рассказывала о Петре, семье Петра о Павле. Одна хотела знать, как у немцев готовят, другая — как прядут, тот расспрашивал про урожай, этот — есть ли там христиане. Маркита сообщала, что знала, а если ответить не могла, то советовала обратиться к куму Барте. На другой день всем от мала до велика становилось известно, как Маркита эти четыре года прожила, а она тоже узнавала, у кого кто родился, кто женился, кто умер.
III
Барту никто никакому ремеслу не учил. Вырезать из липы ложки, половники, солонки и другую всячину он начал еще когда пас стадо. Из сливового дерева делал прялки и веретена, украшал оловянными узорами. На военной службе умение это ему пригодилось, и за четырнадцать солдатских лет благодаря искусности и бережливости он заработал и скопил хорошие деньги. Вернувшись на родину, нашел здесь приготовленную ему уютную комнатку и вдоволь пропитания. Этим, как и полагалось в те времена, обеспечил его брат. Жилось Барте вполне хорошо, только первое время его огорчало, что в деревне не достать табаку.
— Знаешь, Барта, — сказал староста, услышав однажды, как тот сокрушается, — открой свою торговлю табаком. Пристанище у тебя есть, деньги тоже, как ветеран право на это ты имеешь, почему бы не получить разрешение?
Барта послушался старосту. Пан учитель написал ему прошение, он его подал и вскоре получил разрешение. Отправился в город и заказал вывеску: на большой доске был нарисован турок с длинным чубуком и огромными усами.
Когда он принес вывеску домой и укрепил над окном, поглядеть на нее сбежалась вся деревня. Мальчишки кричали друг другу:
— Антон! Адам! Бегите скорей... «Это самое» нарисовал, как он курит! — И ребята, словно на пожар, мчались к окну Барты.
Комнатушка Барты сверкала чистотой, у каждой вещи было свое место, и горе тому, кто попробовал бы тут передвинуть хоть что-нибудь. Привыкший все делать сам, он не пользовался ничьими услугами, хотя невестка охотно бы у него убирала. Все шло у Барты по установленному распорядку. Утром, убрав так, что нигде не оставалось ни пылинки, он первым делом поливал пеларгонию на окне, кормил щегла, а заодно учил петь на все лады, потом клал на стол маленькие весы, нож и заготовки дерева, закуривал трубку и, выглянув в окно, смотрел на турка: не заляпан ли грязью кафтан, не выбит ли глаз, затем, поглаживая усы, усаживался за работу. У него вошло в привычку начинать так каждое утро, только в воскресенье вместо работы он шел в костел.
Дела у Барты хватало. В ложках, мешалках, прялках потребность была всегда, а Барта умел вырезывать их очень искусно. Любители поглазеть, как он работает, находились всегда. Кто бы ни шел мимо, обязательно здоровался с ним, и даже тот, кому не нужен был кулечек табаку, считал долгом спросить: «Что делаешь, Барта?» Женщины приходили к нему с детьми просто так, не собираясь ничего заказывать. С Бартой можно было обо всем поговорить, он даже умел варить кофе, о котором деревенские, кроме Маркиты, знали только понаслышке. Да и дети его любили за то, что он и мухи не обидит и не сердится на самых отчаянных сорванцов, которые просто из озорства частенько дразнили его: «Это самое, пан Барта, дай кулечек табака!»
Больше же всех он любил Маркиту и крестницу свою Карлу. Маркита понимала его лучше других, с нею он мог говорить о приятелях-сослуживцах, которых она знала, о Драгоне, вспоминать прошлое. Он сажал Карлу к себе на колени, рассказывал ей сказки и каждое воскресенье, возвращаясь из костела, приносил ей яблоко или баранки. Одно только ему не нравилось: как он ни просил, Маркита ни на час не оставляла ему Карлу.
— Вот что, кума... это самое... глупая у тебя привычка заставлять девчонку все время за твой подол держаться, — ворчал он всякий раз, когда Маркита ее уводила.
— Ведь ты же знаешь, кум, как я к ней привыкла. С самой колыбели она от меня никуда, мне скучно без нее, а ей без меня. Девочке нужна мать, — отвечала на это Маркита.
— Ну и глупо, что она девочка.
— Да что ты, кум, неужто тебе хочется, чтобы у меня был мальчик? То-то была бы мне радость превеликая! Я бы парня в лучшем виде вырастила, а у меня бы его потом забрали в солдаты, и он бы там умер.
— Так ведь не все умирают... это самое... я вот не умер.
— Это же ты, тебе все нипочем, да ведь не все такие, как ты!
— Ты что, кума... это самое... имеешь в виду? — рассердился Барта и накрутил ус на палец.
— Что имею в виду? Ничего. Если бы покойный Драгонь был таким, как ты, сидел бы и он сейчас тут с нами, — ответила на это Маркита. Она частенько дразнила Барту, но сердить его не хотела.
— Вот и я про то же, — сразу подобрел Барта. — Будь у тебя мальчик, я научил бы его делать артикул[5], он бы его знал... это самое... как «Отче наш».
— Отвяжись-ка ты со своим артикулом, я о нем и слышать-то не хочу! Слава богу, что у меня девочка! — Так обычно заканчивались их споры по этому поводу.
Как только наступал вечер, Барта отправлялся в дом старосты, а в воскресенье приходил туда сразу же пополудни. Односельчане собирались, чтобы потолковать о том о сем, летом устраивались во дворе под деревьями, зимой проводили время в доме. А когда темнело, всей компанией шли в трактир попить пива, сыграть в кости.
Больше всего Барта любил рассказывать, как было в армии и об артикуле. Один старый крестьянин всегда возражал ему, приводя каждое воскресенье один и тот же довод:
— Артикул нам ни к чему. Когда с французами война началась, забрали нас спешно, кого где нашли. Ружья нам дали, а мундиры нет. Стали артикулу учить. Пан офицер, что учил нас, был немец. Не понимали мы его, он потому нас ничему не научил. Очень с нами мучался да все жаловался, мол, у этих, которые в красных шапках, головы дубовые, потому он выучить их ничему не может. Ну, дошло до дела. Парни наши похватали ружья за стволы и стали молотить врагов, да как молотили! Эх, видели бы вы, люди добрые, эту заваруху! Где только красная шапка появлялась, французы —ноги в руки и драпать! Наш дорогой офицер поглядел на нас и сказал: «Я и не знал, что вы так умеете драться». А мы ему в ответ: «Это, пан офицер, по-нашенски!»
Хотя односельчане этот рассказ уже сто раз слышали, он им все равно нравился и всякий раз они гордились земляками и одобрительно кивали рассказчику. Тем не менее Барта оставался при своем мнении и защищал обучение артикулу.
Когда же он оказывался в женском окружении, его донимали сватовством, предлагали разных невест, на что он отвечал: «Зачем ходить мне к Барборе, коль есть все на своем дворе?»
Милота же попал в самую точку, когда однажды завел разговор о Марките.
— На ней бы я женился... она знает, что я ее люблю, и женщина она хорошая. А девчонку... это самое... я люблю чертовски, — сказал Барта и стал так усердно гладить усы, что цеплял пальцем подбородок.
— Ну что ж, тогда я замолвлю за тебя слово, надо думать, она не откажется, парень ты стоящий да и обеспеченный.
— И я думаю, что стоящий, — сказал Барта, гордо выпячивая грудь. Милота пообещал прийти к нему на следующий день с ответом. Наутро Барта проснулся раньше обычного, убирая комнату, он то и дело останавливался, в задумчивости поглаживал усы пыльной рукой, а темно-серые глаза его светились радостью. Кто знает, какие мысли проносились у него в голове? В тот день он даже забыл взглянуть на кафтан турка и вместо того, чтобы вырезать сердечко на прялке, вырезал его на ложке.
После обеда в дверях появился Милота и без обиняков выложил ему чистую правду:
— Вот что, брат, из этой тучи дождя не будет! Маркита не хочет ни тебя, ни кого-либо другого. Никогда не знаешь, чего этим бабам надо.
— Да знал я, что так выйдет, — проворчал Барта, трижды накрутив ус на палец. — Милота, ты... это самое... понимаешь, не распускай язык...— попросил он чуть погодя.
— Правильно! Не принимай близко к сердцу и забудь, — утешал его Милота.
Несмотря на утешение, Барта два дня накручивал усы. Когда же на третий день он взглянул в зеркало и увидел, что они торчат у него, как клыки, стал гладить их книзу. Приглаживал целый день, а вечером отправился к старосте. Маркита стояла на завалинке и сыпала курам зерно. Она ласково поздоровалась с ним, подала руку и сказала:
— Пусть все останется как было.
— Ну что ж, пусть так и останется, — ответил Барта, пожал ей руку и вошел в дом. С той поры они никогда больше не заводили речь об этом, а спустя какое-то время ни одной бабе даже в голову не приходило спрашивать у Барты, когда он женится. Всем было известно, что он твердо ответит: «Когда над очагом моим взойдет звезда».
IV
Каждый год понемножку подрастают елочки в соседнем лесу и, как елочки, год от года подрастали Карла и Гана. Они были очень дружны, и в деревне про них говорили «двойчата», потому что даже одевали их одинаково: на красных юбках ленты одного цвета, одинаковые фартучки и пояса, белые полоски девичьих веночков, повязанных над лбом, были вышиты синим, красным и черным шелком. Волосы у каждой заплетены в одну косу с красным бантом на конце, а второй завязан на затылке. Так их одевали, когда они с Маркитой отправлялись в костел или же когда она брала их с собой на посиделки, а так каждый день они ходили босиком, в темных юбчонках, в рубашках с длинными рукавами и воротниками, застегнутыми на булавки. Веночки же носили всегда.
Карла уже два года пасла гусей и делала это с большим удовольствием. Каждый день рано утром, позавтракав, она клала в мешок по куску хлеба себе и Гане, взяв подружку за руку, шла с хворостиной выпускать гусей. Птицы с гоготом разлетались по двору, но стоило Карле их покликать «гай, гуси, гай, гай», как они собирались и вперевалку шагали за нею на пастбище.
Когда на пастбище собирались все пастушки и пастухи, там становилось весело. Они пели, играли в «солнышко» и в «водяного», в «бедного солдата», в жмурки и во всякие другие игры. Бывало, усядутся все в кружок и кто-нибудь постарше рассказывает байку, тут же сочиненную.
Барта, когда бывал в поле, частенько заглядывал к ним, учил делать артикул, чему всегда были рады мальчишки. При этом обычно присутствовала Карла, и ее, как девочку и свою любимицу, Барта всегда назначал офицером. Но, как только про это узнала Маркита, обоим влетело как следует.
— Чертова девка, один ветер в голове! — выругала она дочку. А Барте сказала: — Ты с мальчишками играй, а девчонку мне муштрой не порть.
Тот стал крутить усы и ушел, словно его холодной водой окатили. Но когда он снова заглянул на пастбище и мальчишки стали просить, чтобы он их учил приемам, обойтись без Карлы солдат никак не мог, потому что она всегда была у него главным героем и самой способной ученицей.
Барта учил ее не только делать артикул, но и вырезать прялки, мешалки, поэтому много свободного времени на пастбище она провела с пользой.
Зимой Карла с остальной ребятней ходила учиться в деревню Медаков, где находились костел и школа. Две горы отделяли Медаков от Стражи. Не раз случалось идти в метель и бураны, в туман, когда впереди на шаг ничего не было видно, но Карла так хорошо знала дорогу, что могла туда добраться с закрытыми глазами.
Карла училась в школе уже третью зиму, когда жена Милоты привезла Гане с большой ярмарки доску, на которой черным по белому были обозначены все буковки, а над ними нарисован петух. Петух понравился Гане больше всего. Получила она также сумку, украшенную пестрыми лоскутками.
— Можешь теперь и в школу идти, — сказала мать, отдавая ей доску и сумку, — читать научишься.
Услышав, что вместе с Карлой она будет ходить в школу, Гана запрыгала от радости.
Карла рассказывала ей, как хорошо в школе, особенно когда пан учитель выйдет из класса, а мальчишки начинают прыгать по партам. И как здорово бывает идти домой через лес, где мальчишки ломают еловые лапы, а девчонки съезжают на них с горы.
— А когда Петр сталкивает меня в снег, я леплю снежки и, бывает, так его отделаю, что иногда даже шишек набью, — завершала свой рассказ Карла, а Гана слушала про геройские дела школяров не мигая, затаив дыхание.
Жена Милоты отдала Гану под охрану Карлы. Петр в ту зиму в школу уже не ходил, так что приводила ее домой Карла. Однажды лишь случилось приключение: Гана оступилась с тропинки в канаву, растянула ногу и не могла на нее ступить. Карла взяла ее на спину и донесла до самого дома. Маркита над больным местом пошептала, помазала черной мазью, и к утру все прошло.
Хотя половина из того, чему зимой детей научили, летом забывалась, за четыре зимы Гана все же выучилась читать книжку, а арифметикой овладела настолько, что сосчитать сколько будет дважды пять могла без помощи пальцев. Мать сказала: этого ей хватит, я, мол, сама столько не знаю.
Карла знала побольше: она умела читать, писать и считать, а кроме того, могла даже прочесть бумаги, которые староста получал от властей. Все удивлялись ее способностям, а хозяйка постоянно твердила, что девочка, родись она парнем, могла бы стать учителем.
Дни катились как волны, и неожиданно для себя девочки превратились в девушек, от которых матери стали требовать уже настоящей работы. Парни на улице заглядывались на них, а когда речь заходила о дочке старосты, не раз поговаривали: «Кому же все-таки Гана достанется?»
Гана была круглолица, синеока, очень миловидна. Замечали, что с возрастом она становится похожа на мать, а жена Милоты считалась самой красивой во всей деревне.
Карла была не так миловидна, как Гана, но кто попристальней вглядывался в ее смуглое лицо, тому она начинала нравиться. Несмотря на молодой возраст, фигура у нее была хорошо развита, казалось, что она будет намного выше и шире в кости, чем мать. Серые с черными ресницами глаза под густыми бровями и волосы цвета воронова крыла были тоже от матери, а от отца красивый нос и ямочка на подбородке. Только рот был великоват. Однако же, когда она смеялась, все любовались ее ровными белыми зубами. Она была ловкая и проворная, как форель, толковая в любой работе, так что стоило ей лишь взглянуть, и она уже знала, что надо делать.
Она умела и прясть, и ткать, и готовить, и стирать. Могла сшить рубаху и вышить фартук. Траву косила и серпом, и косой. Жала и косила ловко, ни одна девушка не могла жать, стоя на коленях так долго, как Карла. Пахала и сеяла не хуже Петра, а он не мог так быстро вскочить на коня, как это получалось у нее. Во время дойки Гана могла говорить коровам самые ласковые слова, и все равно они не стояли так послушно, как у Карлы, хотя та на них покрикивала. Одним словом, ладная была девушка, и жена Милоты, видя Карлу за работой, часто говаривала: «Это у нее от Маркиты золотые руки». Поэтому ни Милоту, ни его жену не огорчило, когда заметили, что Петру Карла нравится. Такая дивчина лучше, чем кусок поля.
Маркита в дочке души не чаяла, на нее возлагала все надежды. Пока девочка была маленькая, берегла ее пуще золота, и чем старше, тем дороже Карла для нее становилась. Многие бабы тут позлословили, ведь в любой деревне, в каждом городе есть свои кумушки-сплетницы. Маркиту обвинили в том, что она носится с Карлой, как с прокурорской дочкой.
Чаще всего причиной была зависть: все знали, что Петр любит Карлу, а в семье старосты ничего не имеют против. Петр был парень красивый, в доме полный достаток, а Карла всего лишь дочь старостиной батрачки.
Потому-то завидовали и говорили: «Это уж Маркита постаралась, ведь она правая рука старостихи».
Все сильно заблуждались, будто шло это от Маркиты. Когда речь заходила о замужестве дочки, она, наоборот, говорила: «Карле выходить замуж нельзя, ни за Петра она не пойдет, ни за кого другого».
И снова было непонятно, почему нельзя, ведь Маркита зря такое не скажет. Однажды жена Милоты спросила у нее:
— Скажи-ка, Маркита, отчего ты говоришь, что Карла замуж не пойдет? Почему? В чем тут дело?
— Не могу я тебе сказать, не требуй этого, ведь ты меня знаешь.
— На что ж еще девка, как не для того, чтобы замуж выходить? — расстроилась жена Милоты.
— Выйдет Карла замуж или нет, на свете все останется как было, — ответила Маркита.
Хозяйке все же это показалось странным, поведала она о своих сомнениях Милоте и уговорила его потолковать с Петром, что он на это скажет, да и уверен ли он, что Карла его любит.
— Ну-ка, Петр, скажи мне честно, нравится тебе Карла? — спросил Милота сына, когда на другой день утром они вдвоем ехали в поле.
— Мне-то она нравится, да вот я ей не нравлюсь, — огорченно ответил Петр.
— Ну, вы же говорили между собой об этом? — выпытывал у него Милота.
— Вы что, отец, думаете, я буду с нею про такое говорить? Да она кого хочешь на смех поднимет. Ее, как осу, лучше не трогать. Тому, кто попробует ее хоть чуть приласкать или обнять за талию, она тут же вцепится в волосы. На прошлой неделе Вавра Бурдов зашел полюбезничать с нею, так Карла плюхнула ему ведро воды на голову только потому, что не захотел уйти, когда она велела.
Милота громко рассмеялся и сказал:
— Карла немножко дикая, зато когда это пройдет, хорошая из нее жена будет. А вам, парням, не надо зря девчат обижать, к ним лучше с ласковыми словами подходить, и тогда они вас будут любить.
— Я люблю Карлу так, как надо, а она ничего и слышать про это не хочет, — пожаловался Петр.
— А ты не спеши, жди своего часа, там видно будет, — успокоил его отец.
Жена Милоты думала, что мужу уже все известно, а он пока знал не более того, что и раньше. Сомнения не покидали ее, а так как ни с Маркитой, ни с Карлой говорить про это она не могла, то поделилась своей печалью с доброй знакомой. Эта добрая знакомая сказала еще кому-то, постепенно о разговоре узнала вся деревня, и каждый стал строить свои догадки. Какой-то бабе пришло в голову, а нет ли у Карлы порчи. Сказала она другой бабе, та третьей, и уже известная «добрая знакомая» принесла жене старосты весть о том, что на теле у Карлы отвратительное родимое пятно, из-за которого Маркита не хочет отдавать ее замуж, опасаясь, как бы после свадьбы у Петра не возникло к ней отвращение.
Маркита ничего не знала, когда же ей про это сказала жена Милоты, она страшно рассердилась.
— Чтоб за этой бабой смерть пришла! Ведь моя дочка такая, что воды не замутит, а все кому-нибудь да мешает, как репа у дороги. Господь бог лучше знает, что к чему. Какая она есть, такая и будет, люди другой ее не сделают, — причитала Маркита плача.
— Не печалься, Маркита, мало ли что люди болтают. Да и сердцу не прикажешь, если Петру нравится Карла, он на это не обратит внимания, — успокаивала ее жена старосты.
Маркита твердила, что тело у Карлы, как ореховое ядрышко, только слова ее мало убеждали. Хозяйка ей верила во всем, но тут засомневалась, сочтя, что нет другой причины, по которой Маркита не хотела выдавать дочь замуж.
Разговоров ходило много, кто-то порок преувеличивал, кто-то преуменьшал, один сказал так, другой этак — догадок было хоть отбавляй.
Петра все это огорчало, но Милота сказал ему однажды:
— Что ты ходишь, как вымолоченный сноп? Красотой сыт не будешь, была бы дивчина здоровая. А всех бабьих сплетен и на лошади не объедешь.
Петр послушался отца и держался с Карлой так же естественно, как и прежде. Она же хорошо знала, что он верит россказням, и подзадоривала его еще больше. Стоило ему подойти к ней поближе, как она бывало скажет:
— Ты меня бойся, Петр, бойся, я ведь с пятном.
А когда он попытался было обнять ее за талию, оттолкнула, сказав:
— Проваливай, у меня змея на груди. Если кто до меня дотронется, она ужалит.
Так смеялась Карла над всеми и не огорчалась тем, что о ней болтали. Ближе всех принимал сплетни к сердцу Барта:
— Ведь я же... это самое... я все же крестный ей... уж я то знал бы. Все это бабьи сплетни. Так грязью замутили чистую воду, что ее... это самое... и пить не стоит.
— А знаешь, Барта, — сказал ему однажды Милота, когда тот чересчур уж стал возмущаться, — не бывает дыма без огня, тут что-то не так. Только какое нам до этого дело! Коли уж суждено им пожениться, так все равно поженятся, пусть кто что хочет, то и говорит. Оставим это!
Единственная, кого эти разговоры ничуточки не трогали, была Гана. Когда подружки обращались к ней:
— Гана, тебе-то лучше знать, скажи нам, как оно на самом деле? — она отвечала:
— Откуда я знаю!
— Ну как же, вы вместе спите, вместе одеваетесь.
— Не спим мы вместе и не одеваемся. Какая бы Карла ни была, я с нею дружила и буду дружить.
В конце концов к этому привыкли и вспоминали все реже. Большинство, однако, осталось в убеждении, что какой-то порок в Карле есть.
V
Жатва позади, скошены овес и отава. Полотно девушки отбелили, перья ощипали. Настали длинные, с туманами вечера, «на белом коне приехал Мартин»[6], пришло время зимних посиделок.
Хозяйки готовили себе и прислуге пеньку для пряжи на летнюю одежду мужчинам, на веревки, на мешковину. Старухи запасали кудель для грубой ткани, девушки же заправляли прялки мягким льном, чтобы получились тонкие прочные нити, из которых потом сами и ткали.
У Барты хорошо пошла торговля прялками. Каждый парень, который решался подарить девушке прялку, что считалось публичным признанием в любви, покупал ее обязательно у Барты, потому что никто, кроме него, не умел так искусно украшать. И каждый из парней старался послать своей девушке по возможности самую красивую прялку.
Первую неделю посиделки проходили в доме у старосты. Под вечер Карла достала с чердака прялку, вырезанную из дерева сливы, украшенную цветочками, птичками, сердечками и всякими узорами из олова.
На прялку она накрутила белоснежного льна и красиво обвила ее красной гарусной ленточкой. Кончик ленты закрепила булавкой, у которой головка была из искусственных гранатов в виде розы с двумя желтыми железными листочками. В лен воткнула веретено, а на него насадила красное яблоко. Выглядело все это очень красиво.
Карла любовалась своей рукотворной красотой, когда в дверях появилась Маркита.
— Чья это прялка? —спросила она у Карлы.
— Разве вы не узнаете ее, мама? Это та, что я летом сделала.
— Значит, ради нее ты лучину жгла и глаза себе портила, да? А зачем же ты для себя ее так разукрасила? Ведь ни у одной хозяйской дочки такой не будет, а ты батрачка. Не показывай ее, скажут еще, что ты хвастаешься перед подругами, — сказала мать.
— Так ведь я не для себя ее украсила. Я подарю ее Гане!
— Ты что, спятила? Это неприлично, парни засмеют вас! Оставьте это им, — выговаривала ей мать.
— Уж меня-то как-нибудь не высмеют, а то я им скажу кое-что. Гана пока никого из парней не любит, почему бы ей не взять эту прялку? Ну, возьмет она ее, так кому какое до этого дело?
— Хозяйка для нее жениха присмотрела, Томаша Косину, который на обмене[7] в Германии. Он летом вернется. Только про то никто не ведает, и ты знай, да помалкивай, даже Гана знать не должна, — предупредила Маркита.
Карла даже опешила.
— И все-таки я подарю! А не возьмет, так брошу в печку! — крикнула она и схватила прялку.
— Богоматерь Клатовская! Чем дальше, тем больше ты становишься дикарем, что же из тебя потом будет! — вздохнула Маркита.
Карла через двор побежала с прялкой в дом. Гана была в горнице одна, расставляла скамейки для прях.
— Вот это да! До чего же красивая прялка! Кто тебе ее прислал? — спросила она Карлу, любуясь прялкой с нескрываемым удовольствием.
— Мне ни от кого не надо, это тебе!
— От кого? — спросила Гана удивленно и отдернула руку от прялки.
— Да бери же, я ее тебе дарю. Я же знаю, что парня у тебя нет, ну, вот я и сделала тебе прялку сама. А лен на ней тот, что мы сеяли, пололи и дергали.
— Ах боже, что за радость ты мне доставила! — воскликнула Гана, и глаза ее при этом засияли от счастья. — Такой прялки не будет ни у кого... Слушай, Карла, а что я скажу, когда меня спросят, кто мне ее подарил?
— А ты не говори, пусть ломают голову. Никто не угадает, а нам будет смешно.
— Но маме-то я должна сказать?
— Как хочешь.
— Не дело вы затеяли, так нельзя, — отругала их жена Милоты, однако на просьбу Ганы никому не говорить, от кого прялка, пообещала, что пока посиделки не кончатся, не скажет.
Пришли девчата, принесли с собою прялки, кто совершенно новенькую, кто прошлогоднюю. Каждая хвалила свою, но когда увидели прялку Ганы, долго рассматривали ее и удивлялись.
— От кого? От кого? — со всех сторон сыпались вопросы, но Карла сказала:
— Вам этого знать нельзя.
— Так ведь мы все равно увидим, — сказали девчата, намекая, что скоро придут парни.
В железные гнезда, подвешенные к потолку, вставили горящие лучины, девушки уселись в кружок на скамеечках и лавках, перекрестились и принялись прясть и петь песни.
Вскоре подошли парни. «Теперь-то мы узнаем, кто кого любит», — подумали девчата.
Каждый парень, у которого была избранница, садился либо рядом, либо за нею. Те, у кого милых не было, остались посреди кружка, меняли догоревшие лучины, ходили от веретена к веретену, рассказывали сказки, а некоторые помогали хозяину лучину щепать.
К Гане с одной стороны подсела Карла, а с другой — Петр. Это удивило и парней, и девчат, ведь они рассчитывали узнать, кого же себе выбрала Гана. Спросили Петра, но тот ничего не знал. Девушки стали допытываться у Карлы, но она держалась загадочно, так что никто ничего не узнал. И все посиделки Карла пробыла рядом с Ганой, словно караулила ее, поэтому ни один из парней не посмел подсесть к ней, опасаясь Карлы, которая могла так высмеять, что перед девчатами стало бы стыдно.
Наступили рождественские праздники, и посиделки кончились. Веселье началось девичьей колядой[8].
Жена Милоты напекла для девочек гнетанок, вкусных, прямо таявших во рту лепешек на сметане и масле с изюмом, орехами и корицей.
— Кого же мы будем угощать ими? — спросили друг друга девушки, получив каждая по одной для своего парня.
— Мы сделаем так: твою съедим пополам, а мою я отдам Петру, — решила Карла.
Гана, как всегда, с нею согласилась.
После полудня на деревенской площади собралась вся взрослая молодежь и дружно с песнями отправилась в Медаково. На девушках были суконные курточки и красные платки.
День выдался солнечный, но морозный, обильно выпавший снег скрипел под ногами, а разбросанные по холмам деревни, казалось, были занесены по самые крыши. Парни валяли друг друга в снегу, двое прихватили с собою санки и катали на них девчат с гор. Гана же все время старалась быть рядом с Карлой.
— До чего все-таки зимой печально! — сказала Гана, оглядывая занесенное снегом пространство и темневшие зеленью леса. — Ни травинки не видно, ни птички не слышно, ни лесного шума.
— Все спит! — заметила ей на это Карла и тряхнула стоявшую у дороги пихту, ветви которой провисли под тяжестью снега.
— Видно, потому мне и не хочется петь, когда зимой я иду через поле. А летом — всюду зелень, в поле, в лесу весело, и не хочешь да невольно запоешь.
— И мне тоже летом весело. А как же должно быть хорошо там, где все время тепло и круглый год лето, как в той земле итальянской, про которую нам вчера рассказывал Барта.
— И все-таки я бы не хотела там жить, даже если бы меня кормили булочками и в золото наряжали, — задумчиво сказала Гана.
— А вот я бы хотела свет повидать! — ответила ей на это Карла.
— Да ты только поднимись на Перси пресвятой Девы Марии[9] и увидишь край света!
— Э, нет, девонька, Барта рассказывал мне как-то, что свет очень большой, даже если пройдешь во сто крат дальше, чем до Клатов, все равно по всюду будут земли да моря, и так без конца.
— Вот видишь, куда тебя может занести. Никто тебя там не знает, никто тебе там «здравствуй» не скажет. Ты даже и не думай об этом. Лучше, чем у нас, нигде нет. Я бы даже в Пажежницы жить не пошла, — кивнула Гана в сторону деревни, до которой было меньше часу ходьбы.
— А что, если бы тебя посватал парень из Пажежниц?
— Я бы не пошла за него, пусть он хоть на колени передо мной падает, — стояла Гана на своем.
— Карла! Гана! — стали звать их ушедшие вперед. — Догоняйте! Или может у вас уже ноги заболели?
Девушки бросились догонять остальных.
В Медакове направились прямо в трактир. Там девушки отдали своим избранникам лепешки, а те за это угостили их яблоками и вином
И опять все с интересом ждали, кому Карла и Гана отдадут свои лепешки, и снова все удивились, когда увидели, что Петр получил лепешку от Карлы, а Гана разделила с нею свою и приняла от нее яблоки. Тут все собственными глазами убедились, что Гана никого себе не выбрала, а может, не осмелилась выбрать.
Надвигались сумерки, когда молодежь отправилась домой. Парни были под хмельком, озорничали, валили друг друга в снег, кидались снежками, одним словом, дурачились как могли.
Девчата, сбившись в кучку словно стадо овец, убежали вперед. Оставив парней одних, они перешли под охрану Карлы, которая, как пастух, шагала впереди остальных, на голову возвышаясь над ними. Девушки тоже разгулялись, они весело пели, помахивая платочками над головой, но никто из них не озорничал, как парни. Поэтому парней они прогнали, а с теми, кто продолжал приставать к ним, расправилась Карла.
По возвращении домой каждый должен был еще сделать свои обычные дела. У Ганы и Карлы тоже хватило работы, прежде чем они смогли пойти спать. Гана отправилась в свою комнатку, Карла к себе, где она обычно спала с Маркитой.
— Спокойной ночи, Гана! Пусть тебе приснится хороший сон! — проходя мимо ее окошка, крикнула Карла и чуть задержалась возле него.
Гана поспешно распахнула окно и позвала Карлу:
— Зайди ко мне, поболтаем еще немного, мне не хочется спать.
— Нет, Гана, я останусь стоять под окошком, а ты считай, что это к тебе парень пришел.
— Ишь что выдумала! — засмеялась Гана. Она поставила локоть на подоконник и, подперев ладонью голову, задумчиво посмотрела на небо, усыпанное звездами.
— Ты обратила сегодня внимание на Манку и Томаша? — спросила она подругу, не спускавшую с нее глаз.
— Как же можно было не обратить на них внимания? Оба хороши собой, один лучше другого, эти будут жить вместе, как голубки, — ответила Карла.
— Я так думаю, Карла, что должно быть самая большая радость на свете, это когда двое любят друг друга, да? — шепнула Гана.
— Недаром же говорится: где настоящая любовь, туда и ангелы слетаются, — ответила ей на это Карла.
— Ох, Карла, страшно становится, как подумаю, а вдруг отдадут меня наши за нелюбимого! — вздохнула Гана.
— Да зачем же тебе выходить за него?
— Как же я не выйду, если должна родителей слушаться... Я тогда умру! — сказала кроткая девушка. Из голубых ее глаз выкатились две слезинки, упали на зеленый мох в окне и засверкали, как две капли росы.
— Не плачь, Гана, — порывисто произнесла Карла, опустив свою голову ей на плечо, — не будет этого. Я не допущу, чтобы ты вышла за нелюбимого, лучше уж я убью его. Пусть меня лишат жизни, только бы никто тебя не терзал.
— Ох, я знаю, что ты меня любишь! — горячо воскликнула Гана и погладила Карлу по ее черным волосам.
— Ложись спать, Гана, спокойной ночи! — Карла быстро отпрянула, и Гана, привыкшая к ее порывистости, тихонько пожелала ей спокойной ночи и закрыла окошко.
VI
Наступило последнее воскресенье масленицы. Шум и гомон стоят по всей деревне с самого раннего утра. А как суетятся парни! Вот один выбежал из дома, вот выскочил со двора второй, оба нарядные, намытые, словно на свадьбу собрались.
Спустился с чердака и Петр, правда, еще не совсем одетый. На нем черные башмаки, начищенные до блеска, чулки белые как снег, желтые кожаные штаны и богато расшитый короткий синий жилет, застегнутый всего на два крючка, чтобы видна была жестко накрахмаленная и отглаженная белая рубашка. Остальную одежду — синюю куртку, также на красной подкладке, черный шелковый платок и красную шапку — Петр нес на руке.
— Где тут у вас, мама, кусок зеркальца? — обратился Петр к матери, хлопотавшей в кухне у очага.
— Не приставай ко мне с такими пустяками, видишь, что я занята у божьего огня[10], — отмахнулась та от сына.
Маркита подкладывала в огонь хвою.
— А вы не знаете, Маркита? — спросил ее Петр.
— Да откуда ж мне знать, хлопец. У девчат спроси, они в чулане. В чулане Гана месила тесто, а Карла в углу что-то мастерила.
— Ну вот, тебя только нам тут и не хватало. Уматывай отсюда, не видишь, что мы заняты божьим даром?[11] — закричала на брата Гана, едва тот появился в дверях.
— Ладно, ведь не сглажу я вам его, вы только скажите, где у вас зеркальце?
— Давай-ка я завяжу тебе платок сама! — откликнулась Карла, подскочила к Петру и мигом завязала ему платок, приговаривая при этом:
— Ну зачем парню зеркало?
— А во что же ты глядишься, когда веночек повязываешь? — спросил Петр.
— Я гляжусь в Ганину щечку, — засмеялась Карла.
— А я буду глядеться в твои глаза, — ответил ей смехом Петр, надевая куртку.
— Ну, это будет туманное зеркальце, Петр, — сказала Карла, вдевая красную ленту в верхнюю петлю куртки.
— Оно не было бы туманным, если бы ты его не закрывала нарочно черными занавесками, — сказал Петр, касаясь рукою ее глаз.
— Вы только посмотрите, как он ей зубы заговаривает, — вмешалась в их разговор Гана.
— А вот снимет праздничный наряд, сразу заговорит иначе, — засмеялась Карла и тут же добавила: — А теперь проваливай, нам некогда!
— Ладно уж, ухожу! — успокоил их Петр, откинул назад длинные черные волосы и надел шапку. — Вы на музыканта дайте побольше, а то мы с вами не будем танцевать, — подсказал он им уже в дверях.
Перед домом росли две пихты. Петр отломил зеленую веточку, прикусил ее зубами и поспешил в трактир, где собрались уже остальные парни и среди них волынщик[12]. На волынке — сплошь цветы, волынщик — весь в лентах, и, словно у дружки на свадьбе, из жилетки у него торчал розмарин. Шапку украшало петушиное перо. Парни подходили к нему и каждый угощал его вином. Маленький плотный волынщик толкался среди них и время от времени с ухмылкой тискал мехи. Волынка издавала протяжный жалобный звук, доносившийся до самой площади, где собралась ребятня со всей деревни, чтобы увидеть, как парни пойдут к девчатам.
Это было самое начало «ворачек», гулянья, которое обычно проходило в последний день масленицы. Парни подходили к девушкам, а те должны были дать им по монетке. На эти деньги парни покупали сладкого вина и угощали им в трактире девчат. Потом три дня и три ночи танцевали, и нога волынщика, отбивавшая такт, не знала отдыха. Потому-то парни и носились с ним как с писаной торбой.
Только успели Карла и Гана одеться, как во дворе раздались звуки волынки.
— Ах боже, до чего же прекрасно, когда играет музыка! — горячо вздохнула Гана, протирая лавки и стол, и без того сверкавшие чистотой. — Когда я слышу волынку, у меня сердце в груди прыгает!
И вот уже милая ее сердцу волынка запищала в дверях, волынщик воздевал глаза к небу, смеялся и кривлялся, шатался из стороны в сторону, словно у него начинались судороги. Однако всем это очень нравилось, и смех не умолкал. Жена старосты ему первому поднесла угощение, а староста похлопал по плечу и сказал:
— Я всегда говорю, что самый лучший волынщик у нас в Страже.
Волынщик на эту любезность ничего не ответил, согнулся влево, сдавил мехи волынки и подпрыгнул. А Гана стояла у стола и с такой любовью смотрела на него, что все парни ему завидовали.
После того как Гана заплатила серебряный талер, а Карла дала монету поменьше, парни двинулись в соседний дом. Так из одного двора в другой, из дома в дом обошли они всю деревню и снова вернулись в трактир.
Тем временем девушки нарядились в платья, которые надевали только на вечеринки, и тоже отправились в трактир. Парни встретили их песнями, музыкой, угостили сладким вином, а потом начались танцы.
Гана и Карла все время держались рядом, вместе пришли, вместе ушли, да и в кругу танцевали бок о бок. Если кто-нибудь из чересчур развеселившихся парней прижимал к себе Гану слишком уж сильно, Карла тотчас же это замечала, словно у нее и на затылке были глаза, и наступала ему на ногу так, что тот от боли даже приседал с криком:
— Побойся бога, я же без ног останусь!
— Ничего, я за тебя приду на твою свадьбу, понял?— смеялась Карла и продолжала танцевать, как ни в чем не бывало.
— Ну... это самое... кума, надо бы нам с тобой потанцевать, чтобы твои лен вырос длинным, а мои жилы под коленками не стали бы короче, — обратился к Марките развеселившийся Барта, когда в первый день праздника они встретились перед трактиром. Уже некоторое время отношения между ними были натянутые из-за того, что Барта все уши прожужжал ей о замужестве Карлы. Маркита ведь не знала о том, что Барте в свою очередь прожужжал все уши Петр, уговаривая, чтобы он сосватал его.
— Мне не до танцев, но раз надо, значит, надо... — как-то неохотно ответила Маркита.
— Да что с тобой... это самое... ходишь, как будто у тебя голова чем-то забита. Что ж ты мне не расскажешь, ведь я все-таки... это самое...
кум тебе.
— Отчего же не рассказать. Часто вижу во сне покойного Драгоня и думаю — нет ему в чужой земле покоя. Что ты на это скажешь, кум? Тебе он никогда не снится? Надумала я пойти весной на Святую гору, помолиться за него.
— Сходи, Маркита... это самое... мне тоже надо в Клатов за оловом, так что я... это самое... пойду с тобой. Мне он тоже снится.
— А он тебе при этом ничего не говорит? — спросила испуганно Маркита.
— Погоди-ка, тут он мне недавно приснился. Я его учил... это самое... артикулу, а он обругал меня дураком и не захотел учиться. Он всегда был такой. Он был... это самое... добрый малый, только упрямый. Карла вся в него. А что с девчонкой происходит? Она уже давно какая-то невеселая, на личико тучки набегают.
— А-а, у девчат как легко захмурится, так легко и прояснится, — ответила Маркита.
— Это самое... кума, вот ты не согласна, но ты еще вспомнишь, как я говорил, что она любит Петра... ты не согласна... а я бы с удовольствием...
— Давай не будем об этом, — оборвала его кума, не дав ему договорить.
Они вошли в трактир, битком набитый молодежью. Барта готов был накрутить ус на палец, да пришлось пустить в ход локти, чтобы пробиться к столу, где сидели те, что постарше.
Весело кончился первый день гулянья, на другой день после полудня Барта неожиданно привел с собой в трактир гостя. Это был его племянник который служил в Пльзни. Его отпустили к дяде на праздники.
В Страже его знали, и все, кто был в трактире, шумно приветствовали гостя. Солдат сразу же почувствовал себя как дома, снял мундир и пошел танцевать. Был он красив, и девчата украдкой поглядывали на него. Одна хвалила его лицо, другой нравился мундир, третьей — как он танцует, что считалось наиболее ценным достоинством.
— Карла, — сказала Гана, когда под утро они пошли подоить и накормить коров, — а племяннику Барты военный мундир идет правда?
— Я бы не сказала. И что ты в нем нашла? Просто самодовольный ветрогон, да к тому же рыжий, ты заметила? — ответила ей Карла и пытливо глянула своими темными глазами Гане в лицо.
— Не знаю, только мне нравится военная форма.
— Раньше ты мне про это никогда не говорила, — сказала с упреком Карла.
— Я только сегодня обратила на нее внимание, — сказала Гана равнодушно, откровенно зевнула и присела на скамеечку в хлеву. — Глаза у меня до того слипаются, что я уже ничего не вижу. Даже на камень бы легла и уснула как убитая. Да вот коров надо подоить, накормить да убрать за ними и снова на танцы... То-то завтра... будет... когда...
И не договорила. Прислонила голову к стене... уснула.
Карла, сложив руки, немного постояла около нее, пристально поглядела на подругу, глубоко вздохнула, взяла подойник и пошла к коровам
Молоденькая прислуга, прибежавшая вслед за ними, хотела разбудить Гану, но Карла не дала, пусть, мол, поспит немного, она за нее все сама сделает. И действительно все сделала сама, а Гана спала больше часу. Но потом им снова пришлось отправиться на танцы, чтобы парни не подняли их на смех и не сказали, что они сони, а ноги у них пудовые. Позориться им не хотелось.
VII
На третий день праздника парни с утра ходили по деревне. Они наряжались кем только могли, ко всем приставали, любая попавшаяся старуха должна была прыгать вместе с ними. «Выше, еще выше, чтобы лен высоким вырос!» — выкрикивали они после каждого прыжка. Один нарядился медведем, другой обмотал себя стеблями гороха и надел на топорище турнепс[13] что должно было изображать голову, третий бегал на четвереньках и хватал всех за ноги, словом, вытворяли кто что мог, и, как это водится на свете, чем глупее была выходка, тем одобрительнее ее принимали. И так куролесили до самой ночи. К вечеру женщины постарше постепенно разошлись, ушла из трактира и Маркита.
И тогда Карла, подсев к Барте, шепнула:
— Крестненький, доставьте мне удовольствие!
— Говори, какое... ты же знаешь... это самое... для тебя я готов синеву с неба снять, если бы это было возможно.
— Этого я не прошу. Одолжите-ка мне лучше костюм вашего племянника, я хочу нарядиться солдатом. Только без шума.
— Ну и чертенок! Ладно, будет тебе костюм, — пообещал Барта и стал гладить усы, — смотри на все веселее!
— Я буду веселиться и куролесить до самой ночи, если вы так хотите, только сделайте то, о чем я прошу.
Барта отозвал своего родственника в сторонку, поговорил с ним, и, как только он дал согласие, оба незаметно вышли, а вслед за ними выскользнула Карла. Никто этого не видел. Прошло немного времени, и Барта привел в трактир солдата и крестьянского паренька. Все сразу же паренька заметили, потому что он был стриженый, на солдата сперва внимания не обратили, приняв его за племянника Барты.
Вдруг кто-то крикнул:
— Гляньте-ка, Йирка Бартов к нам в крестьяне подался!
Парни обступили пришедших и стали разглядывать их с головы до пят.
— Так ведь это же Карла, ей-богу! — воскликнул Петр, хлопнув переодетую девушку по плечу.
— Этот сразу узнал, — ухмыльнулся Барта. Карлу обступили со всех сторон, вертели и так, и этак, восклицая:
— Как будто на нее шили! А мужские штаны ей больше идут, чем юбка!
— А ну-ка, отойдите, хочу быть парнем что надо! — крикнула Карла, сильной рукой раздвигая молодежь.
— Как же нам тебя звать, раз уж ты теперь парень? — спросил кто-то.
Карла смутилась. Но переодетый крестьянином солдат тут же решил:
— Что святая Каролина, что святой Карел одинаково святые, так будем называть ее Карел.
— Стало быть Карел, — согласилась молодежь.
Тут Карел, как мы пока будем называть Карлу, взял со стола наполненный вином стакан, подошел к Гане, обнял ее за талию, дал ей пригубить, а затем, подняв стакан над головой, стал перед волынщиком и запел звучным голосом:
Спасибо стократное Золотой моей матушке. Что баюкала меня В пестром одеяле. Растила, растила Для кого — не знала. А когда сын вырос, В солдаты забрали.Парни повторили за Карелом последний куплет, волынка поддержала мелодию, Карел, осушив стакан до дна, еще крепче прижал к себе Гану, и закружились они в танце, как веретена.
— Ну, что ты на это скажешь, Милотова... это самое... — засмеялся Барта. Если бы этот парень не был девкой, я бы сказал, что это парень, и чертовски ладный парень!
— Ты прав, Барта, если бы тетка не была дядькой, то была бы теткой, а если бы в голове у Барты не было столько хмелю, он бы не тянул себя за нос, — сказала жена старосты и засмеялась, наблюдая, как Барта не может найти свои усы. Он хотел ей что-то ответить, но тут подошел Карел и пригласил свою хозяйку на танец. Пришлось жене Милоты идти танцевать, что поделаешь, раз уж пошел такой маскарад.
— Ну, кажется, ты уже со всеми потанцевала, теперь давай со мной, — предложил Петр, хватая Карлу за фалду.
— Парню с парнем танцевать, все равно что есть хлеб с хлебом, — засмеялся Карел.
— Тоже мне парень нашелся! Да хоть ты бороду отрасти, все равно парня из тебя не выйдет, — стал дразнить ее Петр.
— Осторожней, Петр, а то столкнемся! Я ведь не Карла.
И, наклонившись к нему, зашептала на ухо:
— Послушай меня и займись-ка Барой Йокшевой, дивчина стоящая, да и любит тебя, это я точно знаю.
Не успел Петр ответить, а Карел уже снова обхватил Гану и танцевал с нею. После того как Карла переоделась, Гана была словно в дурмане. Хотя она прекрасно сознавала, что это Карла, однако когда подруга ее обнимала и шептала «Гана, золотая моя, милая!», сердце сладко замирало и девушка даже перестала понимать, где она, что с ней происходит, и то бледнела, то становилась красной, как калина.
— Не пойму, что творится, только с тех пор, как ты переоделась, меня словно кто-то околдовал. Голова идет кругом! Похоже, нас кто-то сглазил, — жаловалась Гана, отдыхая после танца.
— Оботрись белым платочком, — посоветовал ей Карел. Девушка послушалась, но и это не помогло. Стоило лишь Карелу ласково взглянуть на нее, пожать руку, как снова происходило то же самое.
Было около полуночи, когда молодежь стала расходиться. Старшие уже давно были дома. С песнями и музыкой парни провожали девушек до самых ворот.
Гана и Карла шли первыми — потому что они дали на гулянье денег больше других и еще потому, что Гана была дочкой старосты.
— Помни свое слово, Карел! — крикнул солдат-отпускник вслед Гане и Карелу, когда они входили во двор.
— Я его сдержу, — услышал он в ответ.
Петр домой не пошел. Он рассердился на Карлу и назло ей провожал Бару.
— Гана! — начал Карел, когда они вошли в ее каморку и он сел рядом с нею на сундук. — Гана, скажи мне честно, я тебе нравлюсь, такой как сейчас? И ты пошла бы за меня замуж, если бы я на самом деле была парнем?
— Ни за кого другого! Ты мне очень нравишься такой, как сейчас! — воскликнула Гана и по привычке обняла подружку за шею. — Если бы ты была парнем, я бы до самой смерти ни за кого другого не пошла! — прошептала она и в изнеможении положила голову ему на плечо.
— Обещай мне это перед богом и дай мне твою руку! — торжественно произнес Карел. Гана, не понимая, что делает, приняла все это за шутку хотя ей было не до шуток. Но голос Карела проник ей в самое сердце, и, подав ему руку, она произнесла:
— Обещаю!
— Смотри же, что бы ни случилось, обещание свое выполни! — сказал Карел и, крепко обняв Гану, целовал ее лицо и глаза, называл ее самыми нежными словами, а девушка на его горячие поцелуи отвечала также горячо.
— А теперь иди спать. Да хранит тебя господь. Помни же, что ты мне обещала!
Сказав это, он еще долго-долго не выпускал ее из объятии, наконец отпустил и убежал из каморки в свой чулан.
Вскоре он вышел оттуда, тихонько подкрался к Ганиному окошку, прислонил голову к холодной стене и горько заплакал. Потом перекрестился, еще раз окинул взором двор и тихо вышел из ворот.
VIII
Едва рассвело, Маркита была уже на ногах. Ее охватила тревога. Ночью ей приснился страшный сон, а Карлы дома не оказалось. Маркита отправилась ее искать.
Поскольку в деревенских домах замков на дверях не бывает, то достаточно взяться за скобку, поднять защелку, и входи хоть в хозяйскую комнату.
Маркита вошла беспрепятственно. В комнате было тихо. В полутьме она разглядела только свернувшегося клубком на печи котенка. Почуяв Маркиту, он спрыгнул вниз и стал тереться о ноги. В клетке заворковали голуби, которых хозяйка держала на случай зубной боли[14]. Полотняные занавески, спускавшиеся до самого пола перед хозяйским ложем, были задернуты, а это означало, что староста с женой еще утопают в груде подушек, наваленной чуть не до потолка.
У колодца умывалась молодая служанка.
— Карла уже встала? Где она? — спросила Маркита.
— Не знаю, может, у Ганы в каморке.
— Помилуй бог! — тихо воскликнула Маркита и направилась в каморку.
Там, разметавшись в постели, спала девушка. Она была так хороша, что казалось, будто на подушку упала роза.
Маркита поглядела на нее, прошептала: «Благослови тебя господь!» — и вышла.
Она поднялась на чердак. Там храпел, будто орехи сыпал, Петр. Здесь Карлы тоже не было. Не оказалось ее ни в хлеву, ни в конюшне, ни дома.
— Где же может быть эта беспутная девка? — сокрушалась Маркита, как неприкаянная бродила по двору, молилась и перебирала четки.
Ожидание было томительным, и она решила помочь служанке управиться с коровами, но, заслышав голос хозяина, вошла в комнату.
— Пошли вам бог доброе утро! Скажите, куда подевалась моя девчонка, Карла? Я уж и не знаю, где ее искать.
— Ты у Ганы была? — спросила жена Милоты.
— Как раз оттуда, там, кроме нее, никого.
— Может, она осталась у Барты? Он так обрадовался, когда она переоделась солдатом! А и вправду, статный парень получился! — сказал Милота, блаженно потягиваясь.
— Ты о чем это, хозяин? Кто парень? Что сказал Барта? — стала испуганно расспрашивать Маркита и сильно побледнела.
— Ну как же, племянник Барты одолжил Карле свою одежду, и она ходила в ней, как парень.
— Несчастная! И кто ее на это подбил? — запричитала Маркита.
— С чего ты взяла, Маркита, что это плохо? Военный костюм ей был к лицу, все сказали, что она настоящий парень, а Барта утверждал, что если бы покойник Драгонь...
— Ну что, ну что покойник! — закричала Маркита в отчаянии. — Наверное, Драгонь приснился ему и все рассказал... нет, мальчишка сам... он с Бартой поделился... ох, горе мне, это бог меня наказывает! — горевала Маркита, заломив руки.
Хозяевам показалось, что все это им мерещится.
— Какой мальчик, Маркита? Что за чепуху ты мелешь? Уж не заболела ли ты? — спросила ее хозяйка.
— Нет покоя ему на том свете! Согрешили мы перед богом, совесть его мучит и мне спать не дает. Что же мне теперь делать? Отнимут они у меня сына, и умрет он там же, где и его отец!
Хозяйка побледнела. Хозяин же, встряхнув Маркиту за плечи, велел ей:
— Говори толком, чтобы можно было понять, что случилось?
— Простите меня, люди добрые... посоветуйте... я не знаю, что мне делать... Карла вовсе не девочка, она — мальчик! — воскликнула Маркита, закрыла лицо руками и заплакала.
Хозяева остолбенели, словно пораженные громом.
— Да слыханное ли это дело! Такого не может быть! Как же это случилось? — спросил Милота.
— Я расскажу вам, как это случилось, — вздохнула Маркита так. будто камень с души у нее свалился. И стала рассказывать:
— Вы знаете, как страдал Драгонь оттого, что должен был служить в солдатах, и сколько я из-за этого пролила слез. Когда у нас первый мальчик умер, мы даже не жалели, потому что это был мальчик. Молили мы бога, чтобы во второй раз он послал нам девочку. Но бог рассудил иначе, родился мальчик. Тут мы перед господом и согрешили. Чтобы спасти его от солдатчины, обманули добрых людей и выдали за девочку. Но бога не обманешь... Драгонь умер... Девочка, я хотела сказать — мальчик, был у меня единственной радостью. Я очень следила за тем, чтобы не открылся обман. Даже Барта ничего не подозревал. Вы же знаете, вся деревня об этом болтала, но и тогда мне удалось обман скрыть. Пока он был маленьким, все получалось хорошо, но чем он старше становился, тем больше одолевало его мальчишеское естество и только слезы мои заставляли его молчать. Я все время ему говорила: «Ты уж потерпи, пока не наступит время, когда тебя по закону уже в солдаты не возьмут. А там бог нам поможет».
Он, однако, становился все печальнее и говорил мне: «Вы же видите, мама, многие идут в солдаты и возвращаются. Почему бы и мне не пойти, чем я хуже других? Вы за меня не бойтесь». А я все не могла решиться. Да еще тут с некоторых пор каждую ночь стал мне сниться Драгонь, был он всегда опечаленный, я вся измучилась от этих тревожных снов. И подумала я, значит все-таки взяли мы грех на душу, не надо было нам это делать. А когда в воскресной проповеди пан священник сказал, что бог наказывает тех, кто его воле противится, меня даже мороз по коже пробрал и я долго не находила себе места. Задумала я сегодня пойти на святую исповедь, да с паном священником посоветоваться. Только господь бог рассудил иначе, и все открылось само. А кто же про это Барте сказал, неужто сам мальчик?
— Не думаю я, что Барта знает правду, это получилось случайно. Господь бог помутил твой разум, Маркита, ты сама проговорилась.
— Что ж, пусть будет так. Зато теперь я спокойна, и душа Драгоня тоже обретет покой. Сегодня явился он мне между двенадцатью и часом ночи я видела его так, как вас, но будто в тумане. Помню, однако, хорошо, что был он в военной форме, как в молодости, только грустный. Я даже пошевелиться не могла, но готова жизнью поклясться, что не спала. Он хотел осенить меня крестным знамением, но тут запел петух и видение пропало. Я молилась до самого божьего утра.
Пока Маркита рассказывала, во дворе все ожило, в комнату сперва вошел Петр, потом пришла Гана, а Карлы не было. — Где Карла? — спросила у них мать.
— Да где же ей быть? — ответил Петр. — Она пошла с Ганой домой, и больше я ее не видел.
— А я видел ее час спустя после полуночи, — сказал один из батраков,— она стояла у дома Барты с его племянником.
— С кем она стояла? Тебе сослепу померещилось! — гаркнул на него Петр.
— Померещилось так померещилось, тебе лучше знать, — проворчал батрак.
— Давай-ка, Йирка, быстро к Барте и спроси, не там ли Карла, — велел Милота батраку, и тот немедля пошел.
— Эй, Петр, теперь уже можешь не злиться. Ставь на Карле крест, она такой же мужик, как ты да я, — сообщил хозяин сыну.
Петр сразу не понял, о чем это отец говорит, и тот вкратце обо всем ему рассказал.
Зато Гана все поняла тут же. Карел ей снился целую ночь, и, проснувшись утром, она продолжала слышать его задушевный голос, чувствовала его поцелуи и шептала со слезами на глазах: «Пусть это будет правда!» Она сразу все поняла, сразу в это поверила.
— Ну что ж, потерял я невесту, зато нашел хорошего товарища, — бодро заявил Петр.
— Правильно, Петр! — поддержал его отец.
Гана же, уткнувшись в фартук, плакала.
— Ну чего ты плачешь, Гана? — спросила мать и заглянула ей в лицо. Она, по-видимому, догадалась, что творится в девичьей душе, и потому сказала с необычной нежностью:
— Перестань, девонька, не плачь. Я потеряла дочь, ты подружку, а у отца стало одним сыном больше. Со временем все уладится. Теперь у нас одной парой трудолюбивых рук стало меньше, придется и за них поработать. Пойди-ка, Гана, приготовь работникам завтрак.
Сказав это, хозяйка взяла дочь за руку и увела ее из комнаты.
В это время вернулся батрак с вестью о том, что Барта с племянником и Карлой ночью уехали в Кдыню, что повез их брат Барты, но к восьми они собирались вернуться.
Новость эта опять повергла Маркиту в слезы, и Милоте стоило труда успокоить ее. Еле дождались восьми часов. Петр даже выходил на дорогу встречать. Барта сдержал слово — вернулись они вовремя, но без Карлы. Всю дорогу он то гладил, то накручивал усы и сердито ворчал:
— А меня-то зачем впутали в это дело?
Увидев Петра, он побледнел. Но Петр тут же подошел к нему, спросил про Карлу и рассказал обо всем, что за это время у них произошло.
— Ну, Петр, ты вроде как бы грех с моей души снял, — обрадовался Барта, на сердце у него стало совсем легко, и он поспешил к дому старосты.
— Ну... это самое... кума, — начал он еще с порога, — попутал тебя черт! Если бы я знал про это раньше... ну да ладно, коль уж так получилось. Карла... или нет, Карел посылает тебе и всем вам привет. Ты уж его прости, но дольше ему уже было не вытерпеть. Просит тебя не плакать, а молиться, чтобы господь бог вернул бы его в добром здравии. Поехал он прямо в Прагу к пану надпоручику... и сам пойдет в солдаты.
И хотя Маркита знала, что тем дело кончится, она горько заплакала.
— Перестань плакать... это самое... Карел правильно сделал. Куманек возьмет его служить к себе, и станет он капралом. Ты за него не бойся, артикулу я его научил, а это самое трудное... Да, чтобы не забыть. Он просил передать, что заходил к тебе ночью, хотел проститься, но ты спала. Оно и лучше, считай, что Карел с тобой попрощался. Ты, Петр... это самое... не забывай Бару... А тебе, Гана, он посылает вот это... и велит помнить то, что ты обещала.
С этими словами он вытащил красный платок из кармана и подал его Гане. В нем были завернуты пояс и девичий веночек Карлы.
Гана плакала навзрыд.
— Ну , пусть все решает господь бог, ему лучше знать, кому что полезнее. Весною, если будем живы, здоровы, съездим в Прагу, Маркита. А теперь за работу и в костел на помазание! — распорядился Милота, и все послушно разошлись по своим местам. Маркита отправилась делать работу, которую раньше делала ее дочь.
Когда в деревне стало известно о том, что произошло, кумушки-сплетницы обрадовались: «Так ведь мы и раньше говорили — тут что-то не так!»
IX
Пан надпоручик, который к этому времени уже стал капитаном, принял Карела хорошо, хотя и отругал как следует Маркиту за безрассудство. Сперва Карел тосковал и думал, что заболеет «тоской по родине», но твердая воля помогла ему одолеть все трудности, он учился и очень скоро снискал себе любовь пана капитана.
К тому времени срок военной службы был уменьшен с четырнадцати до восьми лет. Мог ли кто-нибудь радоваться этому больше, чем Карел и близкие ему люди в Страже? Хотя для Ганы и такой срок показался слишком большим, она все же горячо помолилась за императора. Милота с Ганой и Маркита на храмовый праздник святого Яна приехали в Прагу. Гана ничего не видела, ничего не слышала, кроме своего Карела, который теперь казался ей в тысячу раз прекраснее, чем прежде. И Маркита, как ни больно ей было видеть сына солдатом, тоже радовалась, что военный мундир ему к лицу. Вот только, если бы не эта разлука да не восемь лет солдатской службы, все было бы ничего.
Петр признал, что Карел был прав: Бара действительно хорошая девушка и любит его. Он не долго раздумывал и в тот же год сыграл свадьбу. Карел прибыл в отпуск капралом, что очень обрадовало Барту. Если он Карлу любил, то еще больше полюбил Карела.
*****
Прошло три года. На четвертый год Карел был уже фельдфебелем. Он стал важным паном, мог и до офицера дослужиться, потому что к нему относились хорошо, но вдруг затосковал по горам, по Гане, да так, что и генеральский мундир, будь он у него, променял бы на крестьянскую куртку.
Тоска его, видно, передалась Гане, она ходила как в воду опущенная и дома, среди родных гор, тосковала по Праге.
— Нет, так дело не пойдет! Одна воркует тут, другой там. Пусть собирается и едет к нему, так будет спокойнее. Ну-ка, мать, испеки мне белого хлеба в дорогу. А ты, Йирка, смажь у телеги колеса, я завтра еду в Прагу. Надо кое-что там разузнать! — сказал в один прекрасный день Милота.
Батрак как следует смазал колеса, мать и Гана испекли белого хлеба для старосты и Карела, и на следующий день хозяин поехал в Прагу. Через несколько дней он вернулся и сказал:
— Ну, Гана, радуйся, все улажено!
Вскоре после этого, отслужив положенное, Карел вернулся домой, стал хорошим хозяином и, наверное, по сей день живет и здравствует со своей Ганой.
Примечания
1
Вальдмюнхен — город в Германии, в земле Бавария.
(обратно)2
Красная подушечка на груди — деталь женского костюма в этих краях.
(обратно)3
Ходы — жители пограничных деревень у Домажлиц. Одна из привилегий ходов — знамя с вышитой на нем песьей головой. Отсюда — псоглавцы.
(обратно)4
Талер — крупная серебряная монета, которая в XVI—XIX веках играла важную роль в денежном обращении Европы.
(обратно)5
Артикул — ружейные приемы.
(обратно)6
Имеется в виду первый снег, начало зимы, которые народ в этих краях связывает с праздником святого Мартина в середине ноября.
(обратно)7
В пограничных районах Чехии и Германии в те времена был обычай обмениваться мальчиками, которые, поселившись в семье, учились ремеслу, а заодно и языку.
(обратно)8
Коляда— рождественским обряд в славянских странах, сопровождается обходом соседей и обрядовыми песнями.
(обратно)9
Так называют одну из гор на Шумаве. Перси - грудь (устар.)
(обратно)10
Огонь, согласно поверьям, высшая благодать, оттого именуется «божьим».
(обратно)11
«Божьим даром» в тех местах называют хлеб.
(обратно)12
Волынщик — музыкант, играющий на волынке, народном духовом инструменте.
(обратно)13
Турнепс — кормовая репа.
(обратно)14
Согласно поверью, зубная боль проходит, если взять голубя в руки.
(обратно)
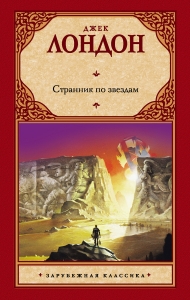

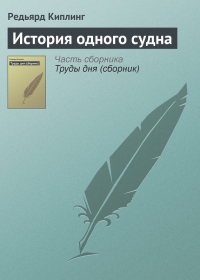
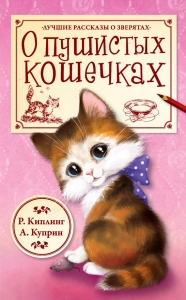
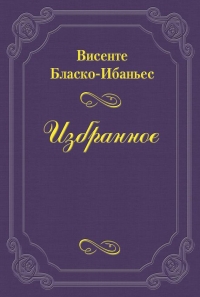

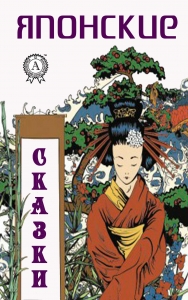
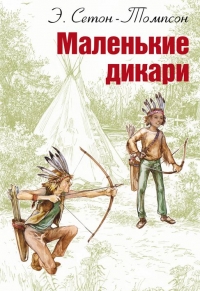
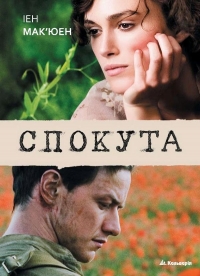

Комментарии к книге «Карла», Божена Немцова
Всего 0 комментариев