Эту книгу хорошо дополняют:
Леонардо да Винчи и его Вселенная
Алессандро Веццози
Маленькие истории о великих людях. Леонардо да Винчи
Изабель Томас
Главное в истории искусств
Сьюзи Ходж
Viva La Фрида
Кристина Буррус
Stephanie Storey
Oil and Marble
A Novel of Leonardo and Michelangelo
Arcade Publishing • New York
Стефани Стори
Камень Дуччо
Роман
МОСКВА «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР» 2020
Информация от издательства
Издано с разрешения Stephanie Storey, Skyhorse Publishing и Andrew Nurnberg Associates International Ltd. c/o Andrew Nurnberg Literary Agency
На русском языке публикуется впервые
Стори, Стефани
Камень Дуччо. Роман / Стефани Стори ; пер. с англ. Е. Лалаян. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020.
ISBN 978-5-00146-354-2
Это роман о соперничестве двух великих творцов и рождении двух великих шедевров. С 1501 по 1505 год Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти живут и работают во Флоренции. Именно там они впервые сталкиваются в борьбе за право изваять статую из глыбы мрамора, прозванной камнем Дуччо. В результате Микеланджело берется за работу над легендарным Давидом, а жизнь Леонардо тем временем катится под откос: он теряет заказы, не в силах закончить ни один проект, и его неотвязно преследуют мысли о женщине по имени Лиза дель Джокондо.
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Stephanie Storey, 2016.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020
Моему мужу Майку, вселившему в меня смелость следовать зову моей мечты
1499
Милан
Леонардо
Декабрь. Милан
Вот теперь, с близкого расстояния, он заметил, что фреска начала отходить от стены. Красочный слой уже не такой ровный, каким ему полагалось быть, а шероховатый, словно под росписью лежал тонкий слой песка. Скоро краски совсем отвалятся от штукатурной основы, рассыплются на невесомые разноцветные чешуйки и потихоньку разлетятся неведомо куда. Первыми сдадутся земляные оттенки, полученные смешением местной почвы с глиной. Киноварь, которая дает ржаво-красный цвет крови и граната, пожалуй, продержится дольше других. Но ультрамарин… ультрамарин тревожил его больше всего. Получаемый из растертой в тонкий порошок драгоценной ляпис-лазури, этот пигмент, дающий такой насыщенный глубокий синий цвет, доставляли морем из далеких восточных стран, и на местном рынке он стоил значительно дороже остальных. Несколько мазков ультрамарина — и средненькое полотно превращалось в настоящий шедевр, однако во фресковой живописи он применялся редко. Не будь ультрамарина, и эту работу могли бы отвергнуть как нечто невыразительное или, того хуже, заурядное. И вот, пожалуйста, ультрамарин на фреске уже начал растрескиваться.
— Porca vacca! — выругался он себе под нос. И ведь в этом виноват он один. Слишком далеко зашел в своих экспериментах. Впрочем, далеко заходил он во всем, что его увлекало. Левая сторона его лица конвульсивно дернулась. Он глубоко вдохнул, и искаженные отчаянием черты разгладились, к ним вернулось выражение обычной безмятежности. В самом деле, стоит ли так убиваться? Ничего непоправимого пока еще не случилось, в глазах мира фреска — по-прежнему выдающееся творение, а сам он — величайший мастер. И, отбросив горестные мысли, он обернулся к аудитории, ожидающей его увлекательного рассказа. В конце концов, они сюда явились именно за этим — услышать от великого Леонардо из Винчи о секретах его последнего произведения, фрески «Тайная вечеря».
— Один из вас предаст меня! — Леонардо возвысил голос, и звук гулким эхом раскатился под каменными сводами трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие, всю северную стену которой занимала огромная фреска.
Его драматический прием пришелся по душе французским путешественникам. Ну конечно, он же для них диво, личность необычайная и загадочная. В свои 48 лет он, Мастер из Винчи, считался одной из величайших знаменитостей на всем Апеннинском полуострове. Мало того, его имя знали во Франции, в Испании, в Англии и даже в далекой Турции. Славу ему принесли изобретенные им военные машины и смелое новаторство в живописи. Чужеземные путешественники стекались в Милан со всего света, чтобы встретить великого живописца подле его знаменитой фрески, увидеть богатство сочных красок, которые, благодарение судьбе, пока еще держались на стене, рассмотреть поразительно реалистичные портреты Иисуса и двенадцати апостолов и пронизанную движением волнообразную композицию, гармонию которой поддерживала центральная фигура замершего в сосредоточенности Спасителя.
— Здесь изображено мгновение, когда обличительные слова только-только слетели с уст Христа, — продолжал Леонардо, отступая от фрески в надежде отвлечь внимание аудитории от разрушающейся росписи. — В этот момент апостолы еще не знают, что предателем окажется Иуда. Весть о том, что среди них есть отступник, низкая лживая душа, ужасает их. Их лица и жесты выражают разнообразные чувства: один вскакивает, готовый тут же, на месте, расправиться с изменником, другие в смятении воздевают руки или простирают их к Учителю, звучат тревожные восклицания. Слова Христа потрясают их до глубины души. Но кто же этот неверный? — Леонардо пытливо вглядывался в лица своих слушателей, словно высматривая предателя среди них. На самом деле он просто изучал эти лица, подмечая особенные черточки, мимику — чтобы зарисовать их в альбоме потом, когда отделается от иноземцев.
— Я где-то слышала, что Фому неверующего вы писали с себя, — игриво поинтересовалась молоденькая, соблазнительно пышная француженка; она говорила по-итальянски, смешно коверкая слова. — Однако я не нахожу ни малейшего… э… сходства. — На этом слове ее пухлые губки сложились, словно для поцелуя.
Леонардо знал себе цену, он давно убедился: его внешность одинаково вызывала восхищение и у мужчин, и у женщин. Правда, он частенько пользовался очками — с годами зрение ослабло, но, глядя на себя в зеркало, он всякий раз с удовлетворением отмечал, что золотистого оттенка глаза по-прежнему искрились молодым задором. Его мускулистое и крепкое тело оставалось по-юношески гибким; темно-русую шевелюру, густую и курчавую, едва тронула первая седина. Раз уж публике угодно им восхищаться, будто он некое волшебное существо, надо соответствовать образу — так он рассудил однажды и с тех пор ежедневно принимал ванну и щегольски одевался, поддерживая образ успешного человека. Длинные, до колен, туники, чулки элегантных пастельных тонов и неизменный аксессуар — золотой перстень с птицей, выполненной из драгоценных камней, — большинству живописцев и за всю жизнь не заработать на такое.
Словно невзначай он скользнул взглядом по зарозовевшим грудям француженки — модный корсет подчеркивал и поднимал их, открывая взору богатство трепетной плоти. Случалось, какой-нибудь пригожий юноша или девушка ловили его заинтересованный взгляд, и тогда Леонардо приглашал их к себе в мастерскую, чтобы сделать с них несколько зарисовок. Нередко восторг от лестного внимания художника настолько кружил гостю или гостье голову, что те с радостью соглашались заодно и разделить с ним ложе.
— Это потому, что и не предполагалось никакого ressemblance, — ответил Леонардо, старательно подражая смешному акценту девушки. — Вздумай я взять за образец собственное лицо, я только и делал бы, что изображал вариации себя самого, и тогда не смог бы создавать неповторимые образы. Из-под моей кисти выходили бы лишь скучные картинки.
Слушатели засмеялись, и привлекшая его внимание юная особа тоже.
Покровители и заказчики часто пеняли ему на то, что не понимали порой, шутит он или говорит всерьез, и сейчас Леонардо решил придать голосу весомости:
— И это чистая правда.
За исключением одной мелкой детали.
Он опустил взгляд на мерцающую разными цветами птичку в перстне, который носил на левой, ведущей руке. От природы он был левшой, а среди богобоязненных итальянцев леворукость считалась неблагочестивой. Правая сторона у человека божественная, левая же обращена к низменному, порочному. Левшей издавна переучивали, дабы они не сошли с праведного пути. Отец Леонардо произвел на свет двенадцать законных отпрысков, и все они, рожденные его законными супругами, являлись правшами. Один лишь Леонардо левша, правда, ему это не возбранялось — ведь он бастард, плод любовной связи двадцатипятилетнего отца с вывезенной из Константинополя рабыней.
На фреске «Тайная вечеря» третья фигура справа от Христа — смуглолицый апостол в темно-зеленом облачении — протягивает к одному из хлебов левую руку. Это Иуда, и он тоже левша.
— Представьте, что вы часть большого семейства. — Леонардо сосредоточенно вглядывался в роспись, уже не обращая внимания на юную француженку с ее прелестями. — Вы один из двенадцати братьев, собравшихся за праздничной трапезой. Ваш родитель размещается в центре стола, стараясь поддерживать среди вас мир и порядок. Вообразите… — Он погрузился в мысли о левой руке Иуды и на некоторое время перестал замечать звуки и запахи трапезной. — Как и во всякой семье, за внешним благополучием кроются свои секреты, неведомые стороннему наблюдателю. Так и в нашу шумную и беспечную компанию близких людей затесался один, чуждый общему духу. Он среди нас, но то, что он другой, сразу не поймешь.
По традиции, сцену Тайной вечери было принято изображать так, чтобы зритель с первого взгляда заметил Иуду — его часто помещали отдельно от остальных апостолов, например по другую сторону стола. Однако, по версии Леонардо, предатель, входящий в число учеников Христа, сокрыт среди них. Единственное, что позволяло угадать в этой фигуре Иуду, — зажатый в его правой руке мешочек с деньгами.
— После слов Иисуса об изменнике апостолы приходят в страшное смятение, каждый тщетно гадает, кто же из товарищей предаст… «Этот? Или этот? А может, тот? Или, что страшнее всего, это сделаю я сам?» Пока имя отступника не произнесено, все остаются под подозрением. Любой из нас может оказаться не тем, за кого себя выдает. Любой может быть Иудой.
Слушатели в едином порыве придвинулись к росписи, чтобы рассмотреть каждое лицо, и Леонардо застонал про себя. Он всячески старался отвлечь их внимание от разрушающейся фрески, а добился обратного — теперь они пристально разглядывали ее.
Но в этот момент дверь внезапно распахнулась и в трапезную ворвался миловидный франт лет двадцати. Гладкое ухоженное личико Джан Джакомо Капротти да Орено искажал неподдельный ужас, тщательно завитые кудри растрепались и пребывали в полнейшем беспорядке.
— Моро, сюда идет Моро!
Чужеземные гости Леонардо разом смолкли и встревоженно переглянулись, не понимая, говорил ли юноша всерьез, или он придумал этот невинный розыгрыш, чтобы развлечь их. В поисках ответа они обратили взоры на Леонардо.
— Ах, Салаи, друг мой, если ты снова вздумал шутить, то поступаешь очень жестоко с этими бедными людьми… — Леонардо прозвал своего помощника Салаи — «дьяволенок» — за неискоренимую склонность к не всегда безобидным проказам и розыгрышам, которые мастер терпел вот уже… десять лет! Неужели так долго?
— Нет, господин, я не вру. Клянусь! Герцог Моро идет сюда. И с войском!
При всей страсти к озорству актер из юного помощника Леонардо был никудышный, и тот сразу понял: Салаи говорит правду.
Услышав имя Моро, две французские дамы громко запричитали, а их соблазнительная соотечественница в страхе прижала руки к туго затянутому корсетом животу. Мужья и отцы семейств собрали вокруг себя родню, готовясь к срочному бегству. Если герцог Моро и впрямь шел на Милан, то всем, кто в эту минуту находился в трапезной, грозила неминуемая гибель.
И прежде всего Леонардо да Винчи.
В течение полувека род Сфорца правил Ломбардией, но два месяца назад французские войска во главе с Людовиком XII вторглись в столицу герцогства и изгнали Сфорца из Милана. Герцогу Лодовико Сфорца — прозванному Моро (мавром) за смуглую кожу — пришлось спасаться бегством; он потерпел унизительное поражение, хотя и остался целым и невредимым. Если принесенная Салаи-дьяволенком весть о его возвращении правдива, Сфорца не пощадит никого, лишь бы вернуть себе Милан. И наибольшей опасности подвергались французы, находящиеся в городе.
Постигнет кара и Леонардо. Последние восемнадцать лет он жил и работал в Милане, оказывая услуги двору, но, когда его покровитель герцог сбежал из города, Леонардо не последовал за ним, как пристало бы истинному патриоту и верному подданному. Нет, он остался в уютных покоях, выделенных ему во дворце Сфорца, и, более того, предложил свои услуги французскому королю. Если герцог вернет себе власть, Леонардо грозит арест за измену. А как Сфорца поступают с изменниками, знают все в городе.
— Надо пойти к королю. Он возьмет нас с собой во Францию, или в Неаполь, или куда он там направляется сейчас, — спокойно произнес Леонардо, вертя на пальце сверкающую драгоценную птичку.
Салаи заметно помрачнел:
— Король уже сбежал. И прихватил с собой двор. А нас бросил на произвол судьбы.
Левый глаз Леонардо непроизвольно дернулся. Ему необходимо было подумать, все взвесить. Он снял с пояса небольшой блокнот, уселся на пол перед фреской и принялся быстро, уверенными движениями зарисовывать искаженные ужасом лица французов. На бумаге возникали скупые, но выразительные наброски гримас и жестов: распахнутые от испуга глаза, раздувающиеся в возбуждении ноздри, нервно сжатые, готовые к борьбе руки и прочие свидетельства неподдельного страха. Лишь изучая физические проявления паники, можно проникнуть в тайны человеческих эмоций, а живописцу редко выпадает шанс воочию наблюдать подобные переживания. Леонардо хотел запечатлеть не только мимику и жесты, но и шорохи многослойных дамских юбок, подавленные всхлипы, тяжелое дыхание. И если ему подвернулась такая возможность, он ни за что не упустит ее.
— Господин, прошу вас, не сейчас… — Салаи попытался мягко вынуть блокнот из рук Леонардо, но тот воспротивился. — Помощи ждать неоткуда. Надо как можно скорее выбраться из Милана.
— Чем нестись сломя голову невесть куда, лучше сесть и хорошенько все обдумать. — К тому же он должен был поскорее зарисовать эту маленькую отважную француженку именно такой, какой видел ее сейчас: голова запрокинута, стенающий рот приоткрыт, пылающая грудь тяжело вздымается. «Страх в своих проявлениях сродни экстазу», — вдруг решил Леонардо и сразу сделал себе пометку — поразмыслить на досуге о неуместном сходстве столь чуждых друг другу эмоций. Юная француженка побежала к двери, и Леонардо с сожалением проводил ее взглядом — ему уже не доведется утолить желаний, пробужденных в нем ее прелестями.
Наконец последний француз покинул трапезную, и тяжелая дверь с лязгом отсекла их от какофонии уличных звуков, вызванных всеобщей паникой и смятением.
Салаи схватил Леонардо за плечо:
— Времени нет, надо спешить!
— На то, чтобы поразмыслить, время всегда найдется, мой юный подмастерье. — Леонардо неторопливо повесил блокнот обратно на пояс.
Однако именно этого ему вечно и не хватало — возможности все обдумать, оттого он и пустился на смелый эксперимент с фреской. Да, в этом все дело. В соответствии с классической техникой фресковой живописи на стену наносится слой извести, и художник пишет прямо по влажной штукатурке. При соблюдении этих нехитрых правил роспись сохраняется на века, оставаясь неотъемлемой частью самого здания. Но эта долговечность имеет свою цену. Мастер вынужден работать быстро и без остановки, с первого раза правильно и точно воплощая свой замысел. Ибо потом, когда штукатурная основа высохнет, в живопись уже нельзя будет внести никакие правки. Однако быстро и без остановки — это не о нем. У Леонардо была своя манера, он любил делать паузы, тщательно продумывая и представляя себе каждую деталь. Сколько раз он, принимаясь за работу, на какое-то время оставлял ее, а затем, переосмыслив, начинал заново! Кроме того, многие его любимые цвета — скажем, тот же ультрамарин — приготовлялись из минералов, несовместимых с известью. Поэтому он и разработал собственную технику фресковой живописи, которая как нельзя лучше подходила к его стилю. «Тайную вечерю» он писал темперой (краской, замешанной на яичных желтках) прямо по сухой стене, грунтованной особым составом. Благодаря этому он смог применить столь любимые им минеральные пигменты: ультрамарин, киноварь и даже искрящийся зеленовато-синий азурит. Но важнее всего то, что новая техника, в отличие от канонической росписи по влажной штукатурке, позволяла изменять уже сделанный рисунок всякий раз, когда художника осеняла более интересная идея, — дни, недели, месяцы, а то и годы спустя. Взять хотя бы тот случай, когда, работая над «Тайной вечерей», он целых три дня размышлял, прежде чем нанести один малюсенький мазок умбры на правое запястье Христа.
Салаи помог Леонардо подняться на ноги:
— Господин, я уже упаковал ваши альбомы, рисунки и прочие бумаги. — Он показал на тяжелую суму, длинный ремень которой проходил наискосок через его грудь. — Все остальное придется бросить, — вздохнул юноша.
Леонардо обернулся к «Тайной вечере». Да, краска растрескивается, сомнений нет. И он уже не сумеет спасти гибнущую фреску.
— Все в порядке, Салаи. — Он кивнул помощнику, успокаивая не столько его, сколько себя. — Заблуждается тот, кто вечно цепляется за имущество. Уж кому как не нам, художникам, знать, каково это — расставаться со своим творением. Впрочем, художественные произведения принадлежат не творцам, а заказчикам. Да и разве бывают завершенные картины? Работу над ними нельзя окончить — можно только бросить.
Они направились к выходу. Вдали уже грохотали пушечные залпы. На улице царило форменное светопреставление. Вооруженные всадники скакали прочь из города. Челядь сбежавшего французского короля и горожане в судорожной спешке бросали свои пожитки в экипажи и повозки. Порывы неистового ледяного ветра вздымали тучи пыли, и она окутывала город грязно-бурой пеленой. Милан, изысканная и блестящая северная столица, погружался в анархию. На площади, посреди этого вселенского ада, лишь одна фигура замерла без движения: какой-то французский солдат, задрав голову, пристально вглядывался в глаза исполинского, впятеро выше человеческого роста, глиняного коня.
Конь должен был служить моделью для самой большой в мире бронзовой конной статуи, которую Леонардо заказал Моро, желая почтить память своего отца, герцога Франческо Сфорца. Эту великолепную скульптуру поэты воспевали в стихах, путешественники съезжались со всего света, чтобы поглядеть на нее, надеясь потом вернуться и полюбоваться на произведение, отлитое из бронзы. Увы, Леонардо так и не довел этот заказ до конца — Моро перелил заготовленную для статуи бронзу в пушечные ядра. А французы, захватив Милан, превратили глиняное животное в мишень, чтобы упражняться на нем в стрельбе подожженными стрелами и отрабатывать удары булавами. Ему уже отбили ухо, часть носа и большой кусок крупа. Будь бедный конь живым, он давно погиб бы от подобных надругательств, а выполненный из глины, хотя и с многочисленными дырами в боках, все еще стоял.
— Пора, господин. Больше нельзя медлить. — На другой стороне улицы Салаи споро седлал лошадей для себя и Леонардо.
Но художник словно прирос к месту. Он не мог отвести глаз от французского солдата, видимо, поглощенного молчаливой беседой с грандиозным животным. Леонардо тешил себя надеждой на то, что в этот час всеобщего смятения его творение наполняло душу молодого воина миром и покоем. Француз медленно вытащил из ножен длинный меч, и Леонардо представил, как тот сейчас сложит оружие к подножию статуи — в знак капитуляции перед мощью его, Леонардо, искусства. Но солдат высоко взмахнул мечом и с криком: «Смерть Сфорца!» — обрушил его на переднюю правую ногу благородного животного. Сталь, гулко лязгнув, раздробила глину. Казалось, что конь устоит и на этот раз, но он вдруг пошатнулся, завалился всей массой вперед и с грохотом разбился о камни мостовой.
— Нет! — вне себя вскричал Леонардо. Четыре долгих года он вынашивал замысел этой великолепной скульптуры. Четыре года не спал ночами, грезя о том, как отольет ее из бронзы и как творение рук его предстанет перед публикой во всем блеске…
До сего момента ему неизменно сопутствовал успех. Однако ныне большинство его сверстников уже покинули этот мир, недалек и его час. Что он оставит после себя? Детей, которым он мог бы передать свое имя, у него не было. Чуть не половина его живописных работ остались незаконченными. Другая часть творческого наследия, в том числе портрет метрессы герцога Моро, украшала частные гостиные и вряд ли когда-нибудь будет выставлена на обозрение публики. Впрочем, есть еще множество брошенных на полдороге изобретений да стопки альбомов с разрозненными зарисовками… «Тайная вечеря» отваливалась от стены, и он только что видел собственными глазами, какая судьба постигла его творение, обещавшее стать несомненным шедевром. Пролетят годы, и вспомнит ли кто-нибудь о нем, о Леонардо — живописце, скульпторе, инженере и изобретателе из жалкого городишки под названием Винчи?
— Леонардо! — громко окликнул его Салаи, уже вскочивший в седло.
Художник нехотя отвернулся от глиняных останков коня и стал пробираться через толпу на другую сторону улицы. Он приехал в Милан, когда ему было тридцать; тогда он только-только заявил о себе как талантливый инженер, ученый, изобретатель, устроитель масштабных празднеств и, разумеется, живописец. Здесь, в Милане, он вырос в зрелого мастера. И всегда был уверен в том, что будет жить в этом великом городе до конца своих дней… Леонардо вскочил в седло и кивнул Салаи. Они бок о бок понеслись прочь, за пределы защитных стен Милана, к его пустынным окрестностям. Никто не знал, что уготовила судьба этому прекрасному городу и несчастному полуострову, раздираемому войнами, которые без остановки вели короли, герцоги и папы, желая откусить ломоть побольше. И никто не знал, что ждало впереди Леонардо. Ясно было лишь одно: Мастеру из Винчи пришла пора найти новое пристанище и нового покровителя, у него появился шанс начать новую жизнь и создать новое наследие.
1500
Микеланджело
Январь. Рим
Томясь в ожидании момента, когда со скульптуры торжественно снимут скрывающий ее полог, Микеланджело Буонарроти чувствовал, как пол плывет под его ногами. Перед глазами плясали черные точки, окружающий мир затуманивался и темнел. Он быстро осмотрелся, пытаясь сориентироваться в пространстве, но мраморные колонны, массивные деревянные балки потолка и позолоченные фрески завертелись вокруг него. Он, казалось, полетел вниз и в поисках опоры привалился к холодной каменной стене.
Попробовал выровнять дыхание. Черные точки стали медленно рассеиваться…
До сих пор ни одна его скульптура не открывалась при таком скоплении публики. Даже если не принимать во внимание место, в котором все происходило, этот момент — самый важный, ответственный в его творческой жизни. Впрочем, и место действия непростое — крупнейшая святыня всего христианского мира, базилика Святого Петра1.
Как же печально, думал он, что старенькая трехъярусная базилика дошла до такого жалкого состояния. Несчастная вот уже двенадцать столетий не знала ремонта. Стрельчатые своды деревянного потолка вдоль западной стены того и гляди обрушатся, несколько колонн уже пошли трещинами. Какой-то незадачливый каменщик кое-как возвел стену, чтобы укрепить конструкцию, но потолок с одной стороны продолжал осыпаться. Сквозь щели свистел ветер, мраморные плиты на полу были выщерблены, многие и вовсе исчезли. И все же в рушащейся базилике — он это чувствовал — еще обитала душа.
В это утро Ватикан заполонили толпы паломников. Год был юбилейный, и по этому случаю папа даровал отпущение любых грехов всякому входящему под эти своды. Тысячи верующих устремились в Рим вознести молитвы и покаяться. А сегодня в капелле Святой Петрониллы им посчастливится присутствовать при торжественном открытии скульптуры, выполненной молодым неизвестным мастером.
Микеланджело верил в то, что изваял нечто выдающееся, но одной его уверенности мало — нужно было посмотреть, тронет ли его работа сердца публики. Через несколько мгновений его либо признают блестящим художником, либо отвергнут как полного неудачника. Он засунул руки в глубокие карманы туники. В каждом на дне скопилось по горсти мраморной пыли. Он зачерпнул ее и стал ласково перетирать между пальцами. Этот нехитрый ритуал всегда помогал ему успокоиться.
Двадцатичетырехлетний Микеланджело знал, что со стороны выглядит неотесанным мужланом — он был невысокий, кряжистый и необычайно мускулистый благодаря годам постоянной работы с мрамором. Волосы черные, жесткие и курчавые, руки грубые и мозолистые, нос несколько расплющен посередине — след от детской драки с другим подмастерьем, взревновавшим к его таланту. Впрочем, Микеланджело мало заботило мнение окружающих о его наружности. Он и сам о ней не беспокоился, мылся не чаще раза в месяц и одевался как обычный работяга-каменотес — в длинную льняную тунику, широкие штаны и тяжелые башмаки. Однако, как ему не раз говорили, его карие глаза светились столь неистово, что большинство встречных не замечали ни убогости его одеяния, ни исходящих от него запахов. Его страсть очаровывала и захватывала всякого…
Настоятель базилики Святого Петра, подметая подолом длинного черного одеяния мраморные плиты, пробирался к нему сквозь толпу паломников. Едва не ткнувшись в ухо Микеланджело длинным, словно птичий клюв, носом, настоятель прошелестел:
— Готов ли ты, сын мой?
Микеланджело попытался ответить, но горло перехватило, и он лишь кивнул.
Настоятель скороговоркой пробормотал слова благословения, и на лбу и верхней губе скульптора выступила испарина. Священнослужитель взялся за веревку, которой был обвязан скрывающий изваяние полог, и в ушах у Микеланджело зазвенело. Все еще держа руки в карманах, он крепко сжал в кулаках мраморную пыль — так, что ногти вонзились в ладони. Вполне вероятно, что публика не примет скульптуру. Невежества, разве они смогут понять ее? Чего доброго, поднимут на смех, станут выкрикивать проклятия в адрес его творения, а заодно и его самого.
Настоятель потянул за веревку, развязывая узел.
Тяжелый черный полог сполз на пол, и взорам толпы открылась огромная мраморная Дева Мария, держащая на коленях тело своего сына, распятого Христа. Мать самого Микеланджело умерла в очередных родах, когда тому было шесть лет. Он второй из ее пятерых сыновей, и изнуренная постоянными беременностями мама не имела сил на то, чтобы окружить его лаской и вниманием, к тому же первые два года жизни он провел с кормилицей, что по тем временам было в порядке вещей. И хотя мать находилась где-то на периферии его детской жизни, он сильно горевал, когда ее не стало. Этой скульптурой Микеланджело постарался выразить ту пронзительную, до сих пор сосущую его душу боль: мать и сын, одинокие в своей скорби, заточенные в камне, как будто сотканном из света и тени, навеки связанные друг с другом и навеки же разделенные. Искусно отполированный белый мрамор словно светился изнутри. Безжизненное тело Христа было распростерто на коленях матери. Его кожа еще хранила следы жизни, которая, кажется, только что пульсировала под ней. Одеяние Марии спадало глубокими складками до самого пола; ее безмятежное лицо выражало покорность божественному предназначению.
Впервые перед публикой предстала Микеланджелова Пьета — Оплакивание Христа.
Толпа между тем хранила молчание. Мастер обвел взглядом пустые, ничего не выражающие лица, тщетно гадая, какие мысли и чувства скрываются за этими глухими фасадами человеческих душ. В голове его стоял тяжелый гул, дыхание то и дело прерывалось, грудь сдавливало от неимоверного волнения.
Два года назад, когда французский кардинал Жан Билэр де Лагрола заказал высечь из мрамора Пьету для своего надгробия, у Микеланджело уже были готовы несколько скульптур, над которыми он работал ради самосовершенствования, а одну из них — выполненную в человеческий рост статую Вакха — он даже продал. Но он еще никогда не получал столь ответственного заказа. Несмотря на неопытность, он письменно пообещал изваять самую прекрасную скульптуру из всех, что когда-либо создавались в Риме. И работа над изображением скорбящей матери приближала его к заветной цели — стать великим ваятелем.
Два года он до изнеможения трудился над громадным блоком мрамора, порой забывая о сне, отдыхе и пище. В первую зиму он заболел, но даже жестокая лихорадка не заставила его прерваться. В тот год кардинал Билэр частенько наведывался к нему в мастерскую — посмотреть, как продвигается работа, — и неизменно хвалил постепенно проступающие из камня очертания. Но вскоре старенький кардинал умер. Увы, он так и не увидел готовой скульптуры, так и не благословил ее. И теперь этой толпе незнакомцев предстояло решить, удалось ли ему, Микеланджело, создать нечто выдающееся или нет…
Уже несколько мучительных мгновений прошло с тех пор, как с Пьеты соскользнул полог, а толпа по-прежнему в безмолвном оцепенении взирала на его творение. Микеланджело еще сильнее вонзил ногти в ладони.
И вдруг какой-то рыжеволосый паломник с возгласом: «Grazie mio Dio!» — рухнул на колени.
Следом молодая мать, подхватив двоих малышей, упала на пол и принялась молиться. И вскоре все присутствующие начали воздавать хвалы Господу. Одни рыдали, другие пели псалмы, третьи прочувствованно бормотали слова восхищения, иные же застыли, будто изваяния, завороженные совершенной красотой скульптуры.
Микеланджело создал свой первый шедевр.
На него нахлынуло невероятное облегчение. Черные точки окончательно исчезли, зрение прояснилось…
Когда он был совсем крохой, родители отдали его на воспитание в семью кормилицы, жены каменотеса, проживавшего в деревеньке Сеттиньяно, в окрестностях которой находился мраморный карьер. Он провел здесь несколько лет после рождения и вновь вернулся после смерти матери, в шестилетнем возрасте. Среди его первых воспоминаний — сильные, крепкие мужчины, вырезающие из скалы огромные глыбы мрамора, звон металлических молотков о камень и привкус мраморной пыли на языке. Проведший детство среди каменотесов, вскормленный молоком жены одного из них, он заразился неутолимой страстью, даже одержимостью мрамором. Он посвятил скульптурному искусству всю жизнь, не обзавелся ни женой, ни нареченной, ни детьми, ни увлечениями. И теперь настал момент пожинать первые плоды этой одержимости.
— Кто же изваял эту скульптуру? — спросил один паломник у другого.
У Микеланджело перехватило дыхание. Сладостная дрожь побежала по позвоночнику — сейчас его имя будет произнесено вслух. Сейчас, вот-вот это произойдет!
— Так это ж Гоббо, ну, горбач из Милана, — услышал он чей-то ответ.
Микеланджело перестал дышать. Что такое говорит этот человек?!
И прежде чем он смог хоть что-нибудь предпринять, чтобы исправить жуткую ошибку, названное имя понеслось по толпе, как несется по тосканским равнинам полноводная после сильного дождя река Арно. «Гоббо, Гоббо, Гоббо…» — передавалось из уст в уста, порхало над головами, и вот уже голоса слились в единый хор восхвалений Гоббо, этого горбатого резчика по камню, посредственности, чьи работы статичны и сработаны так топорно, что выглядят почти бесформенными. Гоббо, которому не хватило бы способностей даже на то, чтобы высечь постамент для его Пьеты! Он, Микеланджело, всю жизнь трудился как проклятый, пытаясь своим искусством увековечить родовое имя, а эти глупцы приписывают выстраданный им шедевр ленивому бесталанному нечестивцу Гоббо.
Когда Микеланджело еще только готовился появиться на свет, его мать упала с лошади, и та несколько ужасных минут волочила беременную женщину по земле. Осмотрев ее, лекари в один голос заявили, что дитя в ее утробе не выживет, но он по неведомой причине уцелел. В ознаменование чудесного рождения родители нарекли его особенным боговдохновенным именем — Микеланджело, что означало «хранимый архангелом Михаилом».
Для того ли Господь спас его, дал ему редкое и звучное имя, зажег в нем неизбывную страсть к резьбе по мрамору, чтобы всю его славу приписали этому шарлатану Гоббо?!
От бешенства у Микеланджело закружилась голова. Капелла снова начала неистово вращаться, потолок и пол уже были готовы поменяться местами. Где же настоятель? Всего одним словом он мог бы остановить это безумие, указать на истинного создателя прекрасной скульптуры. Микеланджело тщетно вглядывался в толпу: настоятеля нигде не было видно. Требовалось срочно что-то придумать, как-то утвердить свое авторство, чтобы никто и никогда больше не посмел усомниться в том, что это его работа, только его. Но как, как?
И вдруг в голову пришла спасительная мысль, настолько превосходная, что, кажется, ее послали сами небеса: надо подписать скульптуру — высечь свое имя на самой Пьете, и тогда его лавры точно не достанутся никому другому.
Правда, имелась одна небольшая проблема: Пьета ему больше не принадлежала. Ею владела базилика Святого Петра. И он не мог начать резать здесь камень, будто у себя в мастерской. Кто-нибудь наверняка заметит и поднимет шум, чего доброго, еще отдадут его под арест. Нет, так не пойдет. Высечь свое имя на уже готовой скульптуре можно только тайком, под покровом глубокой ночи, когда верующие разойдутся, а священнослужители отправятся спать, заперев двери базилики на замки.
И чтобы проделать это, Микеланджело был готов нарушить установления Ватикана.
Микеланджело осторожно выглянул из своего укрытия — он прятался за массивным надгробием в обветшавшей капелле. Он пролежал здесь несколько часов, боясь пошевелиться. Наконец все стихло, погрузившись во тьму. Он велел себе не думать о том, что с ним сделают, если поймают за порчей церковного имущества. Им двигала благородная цель — он хотел защитить честь своего имени и ради этого согласился бы пойти на любой риск.
— Господи, прошу, прости меня, — шептал он, тихонько выбираясь из-за надгробия и неслышно пересекая темное пространство нефа. Он скинул башмаки, чтобы звук шагов не нарушил безмолвие церкви, и крепко прижал к себе перекинутую через плечо суму с инструментами, дабы те не звякали.
В капелле Святой Петрониллы зыбкий лунный свет играл на Пьете нежными голубоватыми переливами. Сколько же недель он не имел возможности остаться с Марией и Иисусом наедине? Все последнее время, пока он готовился к торжественному открытию, вокруг него вечно кто-то околачивался: то святые отцы, то паломники. И сейчас, в безмолвной церкви, он слышал, как тихонько вздыхает мрамор. Так уж у него повелось с первых дней: когда он работал резцом, мрамор говорил с ним, и в этой беседе рождалось неповторимое единение душ человека и камня. Пьета что-то рассказывала, нараспев декламировала псалмы, пела песни — в любое время дня или ночи. И теперь они снова вместе, одни, и радовались, словно старые друзья после долгой разлуки. Он открыл суму и разложил на полу инструменты — по капелле разнесся громкий перезвон.
— Cavolo, — прошипел сам на себя Микеланджело. Задержав дыхание, он вслушался в тишину, напрягся в ожидании того, что сейчас кто-нибудь прибежит и увидит его. Но все было тихо, лишь ветер посвистывал сквозь трещину в стене. Уф, похоже, лязг инструментов не нарушил ничьего покоя.
Он взял молоток и резец и вскарабкался на постамент Пьеты. Из-за черных точек перед глазами повисла зернистая пелена, он почти ничего не видел. Но что с того? Он трудился над скульптурой два долгих года и помнил наизусть все до одной мельчайшие прожилки мрамора.
Микеланджело нежно провел руками по камню, пальцы легко нашли перевязь, сбегающую через левое плечо на грудь Мадонны. Установил, отведя слегка назад и влево, резец и занес молоток, собираясь с духом для первого удара.
Он знал: ему нельзя останавливаться, он не должен оставить недописанной ни одну букву. Если уж сделал хотя бы зарубку на гладко отполированной поверхности камня, изволь довести дело до конца, а иначе просто погубишь свой шедевр.
Удар. Молоток звякнул о резец. Тот в свою очередь гулко стукнул по мрамору. Эхо прокатилось по похожей на пещеру церкви. Господи, он и не ожидал, что звук будет таким громким. В груди разлился холодный липкий страх, но останавливаться было уже нельзя.
Лязг, стук, лязг, стук, лязг, стук…
Тончайшая мраморная пыль, закручиваясь в спиральки, оседала на его волосах и одежде. Пот смешивался с ней, тягучая едкая грязь затекала в глаза, больно обжигая.
Просветленная Мадонна взирала на него сверху. Он опустил молоток. Тишина обступила его, пока он ожидал от Марии порицания за то, что дерзнул вонзить резец в ее грудь. Пусть все считали мрамор лишь бесчувственным холодным камнем — он-то, Микеланджело, доподлинно знал: это живая материя, и под ее холодной поверхностью, как под кожей человека, бились токи жизни. Он стал что-то нашептывать Марии, как делал всегда, даже не отдавая себе отчета в том, о чем шепчет, изъясняясь с ней на языке камня.
Вдруг его ухо уловило едва слышный шелест, глаз поймал мимолетное движение. Может, это грызун пробежал через неф? Или где-то наверху птица застряла в стропилах? Или облако наползло на диск луны? И тут он заметил очертания тускло освещенной фонарем фигуры, скользящей через дальний от капеллы боковой придел. Так он и знал: настойчивые удары его инструмента разбудили кого-то из священников.
Микеланджело скатился с постамента и нырнул в ближайшую нишу, отчаянно надеясь на то, что ее густая тень скроет его. Он оглянулся, и сердце его ушло в пятки.
Инструменты! Они разложены у постамента. Совершающий обход священник сразу поймет, что в капеллу пробрался незваный гость. И если он попадется, пощады не будет — его отлучат от церкви, подвергнут пытке, четвертуют или повесят. За такой грех папа предаст его вечной анафеме, и будет гореть его содранная шкура в Дантовой преисподней до скончания времен.
У него не было и секунды на то, чтобы забрать с пола предательски поблескивающие инструменты. Священник обходил каждый придел церкви и быстро приближался к капелле, где затаился Микеланджело. Ему казалось, что его страх осязаем, что кровь в его висках бухает, подобно молоту. Микеланджело глубоко вдохнул и задержал дыхание.
Священник уже обошел дальний край апсиды и по трансепту направился в его сторону. Он плавно поднимал фонарь, освещая каждый темный угол. Микеланджело в смятении считал его шаги, которые пока отделяли его от неминуемого разоблачения.
Вот служитель вступил в капеллу Святой Петрониллы. Микеланджело смог разглядеть под капюшоном его лицо — сурово насупленное, с отвисшей морщинистой кожей.
Старик остановился перед скульптурой. Взгляд его неумолимо двигался в направлении изобличающей улики. Микеланджело еще глубже вжался в нишу и стукнулся макушкой о висящую над ним маленькую металлическую полку. Полка заскрежетала по камню стены.
Священник повернул фонарь в направлении звука. Свет рассек темное пространство капеллы, готовый выхватить из него лицо Микеланджело. Тот зажмурился. Волна источаемого фонарем тепла коснулась его кожи. Сейчас раздастся гневный рык смотрителя… Но нет. Теплая волна прошла чуть выше, над его головой. Микеланджело осторожно приоткрыл один глаз — как раз в тот момент, когда шустрая крыса метнулась из-под обутых в сандалии ног священника. Тот вскрикнул и махнул на тварь фонарем:
— Ох уж эти крысы!
Крыса юркнула в темноту. Старик медленно осмотрелся, и, похоже, увиденное вполне удовлетворило его. Желая поскорее убраться из церкви, дабы не наступить на еще одну крысу, он поспешил прочь и через мгновение растворился в черноте ночи.
Микеланджело снова был один. Со всхлипом он набрал полные легкие живительного воздуха.
Не иначе как сам Святой Дух наслал на сурового ночного стража крысу, чтобы тот поскорее убрался отсюда. Значит, Господь не оставлял его своей милостью, снова благословлял его самого и его творчество.
Микеланджело выбрался из укрытия и возобновил работу. Бдительный ночной страж время от времени обходил помещения церкви, но Микеланджело всякий раз успевал проскользнуть в укромную нишу и избежать беды. Зная, что он под надежной божьей защитой, он теперь тщательно обдумывал витиеватый рисунок каждой латинской буквы, составляющей его автограф на скульптуре, и даже потратил лишний час на то, чтобы любовно отполировать латинскую надпись: Michael Angelus Bonarotus Florent Faciebat. «Микеланджело Буонарроти флорентиец исполнил это».
Ему удалось завершить работу и укрыться за надгробием в ветхой капелле за какие-то минуты до того, как кардиналы начали собираться на совместную утреннюю службу — они имели возможность помолиться и пообщаться в узком кругу до того, как церковь распахнет двери для верующих мирян. Служба длилась уже несколько минут. И вдруг Микеланджело услышал, как по рядам собравшихся прошелестел возбужденный шепот. Однако он не стал выглядывать, страшась разоблачения, наоборот — еще больше затаился, выжидая удобного момента, в который смог бы незамеченным покинуть свое убежище.
Служба закончилась, священнослужители распахнули центральные двери, приглашая паломников войти. Микеланджело подождал, пока базилика заполнилась верующими, выскользнул из-за надгробия и смешался с толпой. Хорошо, что его одежда запылилась, пока он работал! Теперь он ничем не выделялся из массы людей, многие из которых пришли сюда прямо с дороги, покрытые с ног до головы дорожной пылью.
Проходя мимо Пьеты, он замедлил шаг, вслушался в приглушенные разговоры. Паломники пробовали на язык странное, прежде никогда не слышанное имя. «Микеланджело Буонарроти», — передавали они тем, кто стоял в отдалении. Лицо Микеланджело вспыхнуло от гордости.
— Когда-нибудь ты усвоишь, что твое искусство должно говорить само за себя.
Микеланджело резко обернулся на голос. Рядом с ним шел Якопо Галли, состоятельный римский банкир. Именно Галли порекомендовал его кардиналу Билэру, когда тот подыскивал скульптора для Пьеты. Микеланджело искренне обрадовался тому, что добрый друг стал свидетелем его триумфа.
Якопо кивком указал на Пьету.
— Но в то же время я полагаю, что он, увидев ее этим утром, и правда… — Якопо сделал паузу, словно смаковал каплю меда на языке, — был изрядно впечатлен.
— Кто, кто ее увидел?!
— Папа, разумеется.
Микеланджело остолбенел. Верно ли он расслышал? Или Якопо вдруг решил подшутить над ним? Папа Александр VI славился властолюбием, лихоимством, а также неуемными сексуальными аппетитами. Тем не менее он являлся почитаемым главой католической церкви и стоял к небесному престолу ближе прочих смертных. Похвала из уст папы равносильна похвале, посланной самим Богом.
— Его святейшество пожелал увидеть твою Пьету в частном порядке, не обременяемый толпами паломников, — объяснил Якопо, приветствуя жестом какого-то кардинала, остановившегося неподалеку. Галли водил знакомства и дела со многими вышестоящими. — Настоятель пригласил и меня, рассчитывая на то, что я сумею превознести твои талант и трудолюбие как полагается…
Так вот в чем крылась причина легкого замешательства среди кардиналов, нарушившего утреннюю службу! Оказывается, сам папа почтил своим присутствием их собрание.
— И что же он сказал?
— Похвалил ее красоту. Сказал, что она подвигает его душу к богоугодному милосердию. А все мы знаем, какое это нешуточное дело для нынешнего святейшества. Он даже посмеялся над твоим самолюбивым желанием подписать работу, сказал, что этим ты напоминаешь ему Чезаре…
У Микеланджело неприятно засосало под ложечкой. Чезаре Борджиа — незаконный сын папы, отъявленный проходимец. С малолетства предназначенный для церкви, он получил достойное воспитание и уже в восемнадцать лет был возведен в сан кардинала. Однако посмел отвергнуть кардинальскую шапку — впервые в истории. Возмутительная непокорность, по мнению Микеланджело. Хуже того, ходили упорные слухи о том, что Чезаре убил своего брата, вступил в греховную любовную связь с собственной сестрой и умертвил из ревности ее мужа. Сейчас он командовал папскими войсками, проливал реки крови по всему полуострову, пытаясь вернуть к повиновению взбунтовавшихся папских вассалов. Сравнение с пресловутым Чезаре Борджиа — отнюдь не комплимент, разве только оно не исходит из уст самого его родителя, папы.
— Папа сказал, что ты дышишь энергией страсти, — продолжал Якопо, — что в твоей самонадеянности есть что-то… притягательное — так, кажется, он изволил выразиться. Он сказал… погоди, попробую вспомнить в точности его слова…
Ожидая продолжения, Микеланджело боялся вдохнуть, он замер на месте, нервно вцепившись в ремень своей кожаной сумы.
— А, вот… Он сказал: «Думаю, этот Микеланджело Буонарроти еще покажет себя». И прозвучало это в том смысле, что если и дальше так пойдет, то его святейшество, вероятно, соизволит заказать тебе что-нибудь. Грандиозная перспектива, согласись? Работать на самого папу…
Микеланджело упал на колени.
Четыре года назад он прибыл в Рим, окрыленный надеждой сделать себе имя в древней столице. Вечный город будоражил его воображение. Античность! Погребенные под вековыми наслоениями творения древних мастеров одно за другим являлись миру в результате раскопок. Мраморные колонны и триумфальные арки были уже наполовину очищены, их тронутые разрушением верхушки гордо возвышались над раскопами — как памятники гению творцов прошлого. Ежедневно очередное строение, статуя или артефакт восставали из недр земли, из глубины времен. Старый Римский форум манил к себе начинающих мастеров, желающих изучать, впитывать, копировать искусство древних, подражать их стилю. Однако, несмотря на величие этих дивных памятников, Рим разочаровал Микеланджело. Когда-то блестящая столица могущественной империи, этот город, казалось, ужался до размеров небольшого поселения, выглядел грязным и запущенным, кишел проститутками, попрошайками, ворами и прочим сбродом. Тела казненных преступников неделями разлагались на виселицах как предостережение всякому, кто замыслит преступить закон. Микеланджело, привыкшего к утонченному великолепию Флоренции, эта выставленная напоказ грубая животная изнанка Рима неприятно покоробила. Едва прибыв сюда, он готов был тут же отправиться назад, и лишь осознание того, что он не может вернуться домой побежденным, удержало его. Не он ли хвастливо клялся родным, что добьется в Риме величия? Так что возвратиться во Флоренцию он должен был либо в сиянии славы, либо никак.
Но даже в своих самых смелых мечтах о триумфе он и вообразить не мог, что удостоится похвалы от папы.
— Его святейшество что, знает мое имя?
— Ну конечно, — ответил Якопо, за руку поднимая на ноги коленопреклоненного Микеланджело. — Паломники разнесут весть о тебе и о твоей Пьете по всему полуострову и даже за его пределами расскажут о ней варварам. Например, эти французы…
— И во Флоренции узнают?
— Флоренция будет устраивать в твою честь празднества и парады.
Обуреваемый чувствами, Микеланджело крепко стиснул плечи друга и расцеловал его в обе щеки.
— Спасибо, mi amico! Идем. Вы же поможете мне закрыть мастерскую и уложить вещи? Пришло время вернуться мне во Флоренцию.
В конце концов, дома вкус славы всегда более сладок.
Леонардо
Зима. Мантуя
Леонардо поджег последний фитиль. Они с Салаи пригнулись, спрятавшись за деревянной оградкой в тот самый миг, когда шесть металлических стволов одновременно выплюнули снаряды. Те со свистом устремились ввысь и взорвались снопами золотых и серебряных искр. Мантуанцы ликовали под этим сверкающим дождем. И хотя ночь выдалась очень холодной, все жители города собрались здесь, возле дворца Дукале, чтобы приветствовать высокого гостя — в Мантую пожаловал герцог Валентинуа, он же Чезаре Борджиа, командующий папскими войсками.
— Вот так затейливая штуковина. — Чезаре Борджиа указал на пусковое устройство с несколькими стволами. До Леонардо доходили сплетни о том, что на лице папского отпрыска частенько выступала багровая сыпь, симптом французской болезни, но сейчас, во всполохах фейерверка, он не замечал никаких проявлений этого отвратительного недуга. Напротив, герцог был невероятно красив — высокий, мускулистый, с пронзительно синими, оттенка ультрамарина, глазами.
— Воистину, наш маэстро — личность совершенно уникальная. — Изабелла д’Эсте уютно пристроила маленькую холеную ручку в сгибе локтя Леонардо, словно желая подчеркнуть их душевную близость. Ее и без того пухленькая фигурка в последнее время еще сильнее округлилась. Нынешнее пребывание ее мужа в Мантуе несколько затянулось, и тот, не теряя времени даром, успел одарить беременностью не только законную супругу, но и еще трех знатных мантуанок.
Леонардо ласково накрыл ее руку своей:
— С радостью принимаю комплимент от столь прекрасного покровителя.
Покидая Милан, Леонардо и Салаи понимали, что не смогут долго оставаться в дикой сельской глуши, где на каждом шагу их подстерегали опасности. Слишком неспокойно было на Апеннинском полуострове, являвшем собой лоскутное одеяло из разрозненных, воюющих друг с другом городов-государств и королевств. Вторгшееся с севера французское войско уверенно двигалось на юг, намереваясь предъявить претензии на Неаполь. На западе Флоренция вела нескончаемую войну с Пизой, а на востоке непокорная Венецианская республика воевала со всеми подряд. Теперь еще и Чезаре Борджиа, встав во главе папского войска, начал свирепствовать в Романье, проливая кровь и сея разрушения. Все обдумав, Леонардо решил искать надежного прибежища в ближайшем городе-государстве Мантуе, где правили его старинный друг, огненноволосая маркиза Изабелла д’Эсте, и ее супруг, бравый вояка.
Тесную дружбу с Изабеллой Леонардо свел еще в Милане — та часто приезжала в город проведать младшую сестру Беатриче, которая была замужем за Моро. Во время приемов при дворе миланского герцога Изабелла всегда настаивала на том, чтобы Леонардо сажали за столом подле нее, и их увлеченные беседы об искусстве, политике, естествознании нередко затягивались за полночь. Когда Беатриче умерла, Изабелла и Леонардо обменялись прочувствованными письмами и в дальнейшем поддерживали эпистолярную связь.
После вторжения французов общение между Леонардо и маркизой прервалось, однако он не сомневался в том, что она окажет ему теплый прием в своем городе. И не ошибся.
Вот уже месяц он служил главным инженером при мантуанском дворе и этим вечером получил наказ произвести незабываемое впечатление на Чезаре Борджиа. Изабелла всеми средствами стремилась завоевать его расположение — невыгодно было иметь во врагах папского сына.
— Идея этого изобретения посетила меня, когда я сочинял песнь для лютни, — пустился в объяснения Леонардо, когда Чезаре, зайдя за оградку, начал с интересом изучать многоствольную пусковую машину для фейерверков. — Отчего бы, подумалось мне, фейерверочному устройству не выпускать одновременно несколько снарядов, подобно тому как мы извлекаем сразу несколько нот из музыкального инструмента?
— Но я прежде не видел, чтобы фейерверки запускались в воздух… — задумчиво промолвил Чезаре.
Салаи метнул в Леонардо торжествующий взгляд. Уже два века прошло с тех пор, как Марко Поло вывез с Востока новое для Европы диво — фейерверки, но они все еще считались новшеством, толком не освоенным. В большинстве своем эти пиротехнические забавы были скромными и предельно безопасными — фейерверочные снаряды разрывались только на земле. Леонардо же предпочел рискованный, но куда более зрелищный способ — его устройство выбрасывало снаряды в воздух, позволяя публике наблюдать за тем, как с небес льется сверкающий дождь искр.
— Теперь ты сам видишь, какие преимущества получила Мантуя, приняв на службу нашего дорогого Леонардо. — Что бы ни говорила Изабелла, в ее тоне всегда звучали нотки легкого кокетства.
— Поверить не могу: он уже больше месяца служит вам, а все еще не написал вашего портрета? — Чезаре вопросительно изогнул бровь. — Или наш маэстро ставит себя выше покровительства простой маркизы? Ну конечно, ведь он привык служить герцогам и герцогиням…
— О, моя маркиза куда как щедрее и великодушнее всех тех герцогов и герцогинь, которых я знаю, — ответил Леонардо.
— Слышишь, герцог Борджиа? — Слово «герцог» Изабелла нарочито выделила.
— И потом, зачем тратить краски, если я могу раскрасить светом небеса Мантуи? — риторически спросил Леонардо, глядя на висящую в небе дымку от фейерверка.
Борджиа устремил на него взгляд цвета ультрамариновой сини.
— Скажи-ка мне вот что… У тебя, надо полагать, имеются еще какие-нибудь изобретения на манер этого?
— Не сомневайтесь. Хотите, прогуляемся ко мне в мастерскую?
— Прошу прощения, герцог Борджиа, — вмешалась Изабелла. Глаза ее вмиг сделались холодными и непроницаемыми, словно обсидиан. — Но вашему любопытству придется подождать. Мне срочно требуются совет и помощь моего маэстро.
— Неслыханно! Разве ты не видишь, как нагло этот герцог посягает на то, что принадлежит мне по праву? Он пытается сманить тебя! — Гневный голос Изабеллы эхом отражался от толстых стен замка, пока спутники преодолевали последние ступеньки, ведущие в башню старинного замка Сан-Джорджио.
— Никто не в силах украсть меня у тебя, мадонна. — Леонардо послушно следовал за маркизой в ее апартаменты.
— Помяни мое слово, этот человек пожелает заполучить себе твои таланты!
Изабелла открыла двери своего студиоло — кабинета. Здесь размещалось ее личное собрание произведений искусства, здесь же часто устраивались живые обсуждения идей гуманизма и споры на философские, литературные и политические темы. Кабинет был набит сокровищами, словно сорочье гнездо, и поражал бессистемностью и неоднородностью коллекции: мраморные и бронзовые статуи, современная и старинная живопись, стопки ценных рукописей с цветными миниатюрами соседствовали с современными книгами в переплетах; на столиках старинной работы вперемешку лежали миниатюры, сработанные из золота и серебра; нашлось место даже для небольшого собрания высушенных шкур животных, бивней, клыков и оленьих рогов. Помимо коллекционирования произведений искусства, маркиза питала страсть к охоте и уже не раз проявила себя в этом деле.
— Смотри же, Леонардо, не дай этому чудовищу Борджиа вонзить в тебя жадные челюсти. Одному Богу известно, как он может обойтись с тобой, — предостерегла Изабелла, усаживаясь в инкрустированное золотыми пластинами кресло с величественной высокой спинкой. — Представь себе, сегодняшний вечер меня расстроил. Знаешь чем? Кровожадный деспот умудрился раскрыть мой секрет. И я больше не стану отрицать, что имею на тебя свои виды.
Леонардо спокойно выдержал ее пристальный взгляд.
— Ты ведь знаешь, моя донна, что тебе я ни в чем не откажу.
В замкнутом пространстве студиоло он ясно различал исходящие от нее ароматы лаванды и персиков.
— Я рассчитывала еще несколько месяцев потешить твое эго, позволяя тебе вместе с моим супругом забавляться вашими военными игрушками. Но больше не могу таиться. Ты должен сейчас же услышать, отчего я так отчаянно нуждаюсь в тебе…
Он шагнул к ней.
— Уж не моя ли искусная игра на лютне тому причиной?
Она отрицательно покачала головой.
— Тогда, вероятно, мое умение ловко завязывать и развязывать узлы?
Изабелла рассмеялась.
— Или то, с каким благородством я держусь в седле?
— Напиши меня, Леонардо. — Изабелла подалась вперед, не вставая с кресла. — Я жду этого с тех самых пор, когда впервые увидела, как нежно ты касаешься кистью холста…
— Ах, это. — Леонардо пренебрежительно взмахнул рукой. — Помнится, твой супруг толковал только о башнях, рвах и конюшнях. — Он подошел к панно, которые стояли возле стены, и начал перебирать их, рассматривая беспомощные жалкие копии великих полотен: «Стигматизации святого Франциска» Джотто, «Чуда со статиром» Мазаччо…
— О да, лошади, шлюхи и война чрезвычайно увлекают моего супруга. Но не меня. Коли уж на то пошло, он куда чаще оставляет меня править Мантуей, чем правит сам… — Она поднялась и подошла к Леонардо. — И потом, благодарение Господу — я ношу под сердцем наследника владетельного рода Гонзага, так что имею право диктовать свою волю… — У Изабеллы уже была дочь, но на сей раз она верила в то, что родит сына. — Если я и жертвую драгоценностью для того, чтобы приобрести картину, она всегда того стоит — я ни разу еще не пожалела об этом.
— Зачем ты держишь здесь эту мазню? — Леонардо выхватил из стопки полотен убогую копию своей «Тайной вечери». — Бог мой, кто ж это сподобился? — Он повернулся к Изабелле, та вспыхнула румянцем стыда. — Ты знаешь мою фреску лучше и глубже, чем этот бездарь, кем бы он ни был. Ты была в Милане в то время, когда я прорабатывал свой замысел, ты была там, в трапезной, когда я наносил на стену пигменты…
Изабелла забрала копию из рук Леонардо.
— Ты и правда очаровал меня тогда.
Она своими глазами видела, как он накладывал на изображения лиц и фигур геометрические трафареты, применяя математическую эстетику к живописи. Она просила его объяснить ей, что означают эти выразительные линии перспективы, проходящие через потолок; от него она узнала о том, что три окна на заднем плане символизируют Троицу. Он даже открыл ей свой тайный музыкальный код, зашифрованный в расположении хлебов и тарелок на столе.
— Со смертью сестры мои поездки в Милан прекратились, и мне не довелось увидеть твою фреску в готовом виде. Эта копия — все, что у меня есть. — Изабелла вдруг усмехнулась. — А впрочем, ты прав. Эти фигуры плоски, в них нет жизни…
— Так позволь мне сжечь эту подделку! — Леонардо попытался выхватить картину у Изабеллы, но та оказалась проворнее. Со смехом она спрятала полотно за спину и побежала через кабинет, искусно лавируя между хаотично расставленными бюстами римских императоров.
— Как ты этого добиваешься, скажи на милость? Люди у тебя получаются будто живые — словно твои модели дни напролет позируют, помещаясь прямо в раме картины. — Она обернулась к нему, забежав за стол, уставленный античными оранжево-черными керамиками. — Это невероятно.
— Однажды кремень получил сильный удар от кресала… — успокаивающе проговорил Леонардо, медленно огибая стол и приближаясь к Изабелле, — и обиженно запричитал: «C чего это ты нападаешь на меня? Разве я сделал тебе что-то плохое? Я тебя и знать не знаю». На это кресало мирно ответило: «Полно сердиться, наберись лучше терпения, и увидишь, на какие чудеса ты способен с моей помощью». Кремень перестал жаловаться и стал покорно сносить сыпавшиеся на него удары — пока кресало не высекло из него искру живительного огня. Так и у меня. Я запасаюсь терпением и пробую до тех пор, пока не добьюсь восхитительного результата. Ибо ничего невозможного нет.
Изабелла пристально посмотрела в его глаза.
— Сестре так и не удалось уговорить тебя написать ее портрет, верно? Но почему?
— Моя дорогая Изабелла. — Подойдя к ней, он нежно провел пальцем по линии ее подбородка. — Ты ведь знаешь, я не волен обсуждать тайны личной жизни своих покровителей.
— А ведь такого рода приспособление, пожалуй, оставит тебя без работы.
Не поднимаясь с пола, Изабелла закуталась в кабанью шкуру. Мгновение назад Леонардо высвободился из ее объятий и теперь был готов сделать с нее зарисовку, мысленно удивляясь тому, отчего так часто оказывается в постели с объектами своего творчества…
— Допускаю, — ответил он, прислонившись к массивной статуе Аполлона и прикрывая чресла ковриком — бережно хранимой реликвией, когда-то доставленной из Турции. — Но только представь: машинка, способная посредством одной вспышки запечатлеть образ человека или предмета, причем столь близко к его реальному облику, что уже не найдешь различий между ним и изображением. Это поднимет ученых, мастеров искусств, инженеров на недостижимый пока уровень объективности. — Он открыл свой альбом и пролистал до страницы, наполовину заполненной эскизами лошадей и полиэдрами; здесь же поместился список имущества, которое он забрал с собой из Милана. — Пусть из-за этого я не заработаю лишнего сольди как портретист — что с того? Зато я смог бы применить это устройство для других задач. Хотя бы разок.
— Но если образы будут воспроизводиться только этими твоими машинками, в них не останется отпечатка человеческого участия, человеческой души. Гуманистическое улетучится раз и навсегда.
Одной точной линией Леонардо запечатлел изгиб ее подбородка.
— Приближаясь к предмету вплотную, теряешь ясность видения.
— А отдаляться не только невежливо, но и опасно.
Ах, видели бы его родные, думал меж тем Леонардо, как он, сельский мальчишка из Винчи, спорит о моральной стороне одного из своих теоретических изобретений с внучкой неаполитанского короля. Когда он делал в живописи первые шаги, художники занимали незавидное положение в обществе, их ставили на одну доску с простолюдинами, чей удел — грубая черная работа. Но он, Леонардо, добился того, чтобы это представление в корне изменилось. Теперь художник вознесен на должную высоту, с его мнением не просто считаются — его ценят, оно имеет вес. А впрочем, все равно недостойная профессия, решил он.
— Достижение должной научной объективности, моя донна, — ключ к пониманию вещей. Потому-то я и хочу летать.
— Что делать?
— Летать.
Изабелла широко распахнула глаза:
— В небе? Как птица?
Он кивнул.
— Опять твои шуточки?
Но Леонардо и не думал шутить.
— Король Людовик понимает, сколь ценна подобная возможность. — Леонардо поднял левую руку и задумчиво погладил сверкающую птицу в своем драгоценном перстне. — Король подарил мне это, сняв с собственного пальца. Камни, которыми перстень инкрустирован, являются достоянием французской короны. — Леонардо мог бы выручить тысячи дукатов, пожелай он продать его. — Прими это, сказал король, в знак того, что я поддерживаю твои дерзкие замыслы и надеюсь, что, научившись летать, ты со своим искусством перенесешься на земли Франции.
Эта вещица — талисман Леонардо, и, пока перстень сверкал на его руке, он верил: однажды он полетит.
— Но разумеется, — продолжил он, — если тебе и твоему овеянному множеством доблестей супругу будет угодно оказать поддержку моим экспериментам, я никогда, клянусь, никогда, моя донна, не отдам этого изобретения французам. Даю тебе слово, оно будет принадлежать вам безраздельно!
— Но ты не птица. Ты живописец.
— Я, позволь тебе заметить, намного больше, чем живописец. — Быстрые движения карандаша очертили изящные изгибы верхнего и нижнего века, и в них, словно жемчужина в створках раковины, влажно заблестел глаз Изабеллы. — А иначе зачем Всевышний наградил меня этим неуемным любопытством? Мне интересно все: человеческое тело и человеческий разум, тайны чисел, водная стихия и движение звезд по небу. О, мои интересы нисколько не отвлекают меня от моего искусства — наоборот, они питают его. Музыка питает математику, та — науку, а та — живопись. Создать нечто неповторимое можно, лишь обнаружив связующие нити между вещами, на первый взгляд совершенно не связанными. Если я сосредоточусь на одном только искусстве, мое творчество умрет.
Изабелла потянулась к тонкой работы золотой короне — жемчужине ее коллекции — и надела ее.
— Но я не вынесу, если ты, состоя у меня на службе, сверзишься со своих небес и убьешься. К тому же, маэстро Леонардо, ты единственный из всех известных мне людей, кто и правда способен осуществить эту фантастическую затею. Если ты, упрямец, научишься-таки летать по небу, тебе, чего доброго, вздумается упорхнуть от меня прочь. Так слушай же волю твоей маркизы: отныне никаких помыслов о полетах. Только живопись! В этом твое предназначение.
— Предлагаешь мне довольствоваться такой безделицей? Ну уж нет! Я желаю большего. И всегда буду желать. Оттуда, — он воздел руки к небесам, — я смог бы изучать деревья, реки, землю, да что там — весь род человеческий. Лучший способ получить правдивое представление о предмете и понять его сущность — это рассмотреть его с должного расстояния.
— Опять эта твоя одержимость объективностью, — сморщила нос Изабелла. — Но, упорствуя в своем желании держаться на расстоянии от всего и вся, как ты сможешь хоть когда-нибудь испытать любовь?
— Если однажды я вдруг пойму, что влюблен, дорогая моя синьора, я исторгну это чувство из своей груди — для того лишь, чтобы как следует изучить его с полной непредвзятостью.
— Этим ты как раз и убьешь то самое чувство, которое так стремишься изучить. — Изабелла повела плечом, и шкура кабана сползла на пол. — Любовь не может жить на расстоянии вытянутой руки.
Изабелла отправилась исполнять долг гостеприимной хозяйки — развлекать Чезаре Борджиа, а Леонардо остался один в ее студиоло. Эту прекрасную комнату наполняли великолепные предметы искусства. Если Леонардо задержится здесь, он рискует превратиться в такой же безупречно отполированный экспонат поражающей воображение коллекции — в объект всеобщего поклонения, восхищения и разговоров. Он растолстеет и обленится, создавая картину за картиной и наслаждаясь близостью с Изабеллой в те моменты, когда ее сиятельный супруг будет в очередной отлучке…
На следующий день Леонардо и Салаи тихо собрали вещи и покинули Мантую. Леонардо подумывал, не направиться ли ему в Венецию — там, на каналах, он мог бы спроектировать невероятный город. Или лучше в Рим? Конечно, это змеиная яма, в которой царят мздоимство и войны, однако в Вечном городе искусство растет повсюду, поднимается буквально из земли, словно сорная трава. Затем его мысли обратились к Флоренции…
Над Флоренцией, ослабленной войной с Пизой, уже распростерла черные крылья угроза в лице Чезаре Борджиа и его войска. При этом она оставалась одним из богатейших городов, в котором нашли приют величайшие мыслители эпохи. Леонардо и сам провел там несколько лет; в ее стенах он, будучи еще подмастерьем, заложил основу своего блестящего будущего. Почти двадцать лет прошло с той поры, но он помнил, как, покидая город, поклялся, что никогда больше не вернется. И все же Флоренция — единственное место, где ему с избытком хватит денег, творчества и свободы на то, чтобы вознестись с грешной земли к небесным высям.
1501
Флоренция
Микеланджело
Весна
С вершины одетого в сочную зелень холма Микеланджело любовался великолепной панорамой Флоренции: пестрой мозаикой из белых, желтых и оранжевых зданий, прорезаемой изгибами реки Арно; над этим пейзажем парил в лазурном небе красный купол Дуомо — собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Самый высокий в мире и возведенный без единой деревянной опоры, этот купол, казалось, сам Господь тянул к небесам. Флорентийцы влюблены в свой Дуомо. Те из них, кому случалось надолго отлучаться из города, нередко жаловались на то, что нестерпимое желание снова постоять под его куполом в прохладной тишине вызывало у них лихорадку и мучительные видения. Вот и Микеланджело, четыре долгих года проведший вдали от Флоренции, жаждал скорее ощутить тень Дуомо на своем лице — и это желание было настолько острым, что кожу его покалывало, а сердце тяжелым молотом бухало в груди. Сомнений нет, он тоже поражен флорентийским недугом — ностальгией по Дуомо.
С торжественного открытия его Пьеты прошло больше года, а он только сейчас добрался наконец до Флоренции. Различные заботы задерживали его в Риме — ему нужно было закрыть мастерскую, расплатиться по счетам; кроме того, Якопо принялся уговаривать его остаться на юге. Наконец Микеланджело сказал Риму «arrivederci» и отправился на север — проторенным паломническим путем, по древней Кассиевой дороге. Путешествие было опасным. Ему не раз приходилось делать крюк, чтобы обойти отряды французов, а к западу от Перуджи он едва не попал в перестрелку между войсками Борджиа и мятежного местного князя. Затем на него напала шайка дезертиров в поношенных мундирах с гербами Борджиа — они увидели в нем легкую добычу. Не привыкший уступать в драках, Микеланджело схлестнулся с этим сбродом, но те взяли количеством и наградили его багровым подтеком под глазом, поврежденным ребром и отекшим коленом. И конечно, негодяи прихватили с собой его кошель, оставив Микеланджело горстку лир, на крайний случай припрятанную в башмаке. Хорошо еще, что его рабочая рука осталась невредимой.
После всех этих злоключений он остановился в Сиене — чтобы немного прийти в себя — и даже удостоился заказа от могущественного кардинала Пикколомини: статуи святых для алтаря Сиенского собора. Увы, работа оказалась изнурительной и невыносимо скучной. Кардинал не дал ему никакой творческой свободы, ибо имел собственные представления о том, как должны выглядеть статуи. Поэтому вскоре Микеланджело оставил при алтаре Пикколомини своих помощников и решил, что пора возвращаться домой. Во Флоренции он наверняка найдет работу, достойную его дарования.
Он заранее известил родных письмом о своем прибытии и молился теперь о том, чтобы оно опередило его — тогда близкие успеют подготовить ему торжественную встречу. В своем воображении он уже рисовал красочный парад: обожающие своего земляка флорентийцы осыпают его лепестками подсолнечника, громко дудят в трубы и под руки ведут к праздничному столу — вкусить мяса с кровью и красного вина. По такому случаю отец, наверное, даже уступит ему широкую кровать с пуховой периной, что стоит перед очагом…
Он подошел к высоким, в сорок футов2, главным воротам Флоренции и крикнул:
— Отворяйте ворота, пришел я, флорентиец.
Двое стражей преградили ему дорогу. Один из них, щербатый и невысокий, схватил его коня за поводья. Второй, ростом повыше, положив остро отточенную секиру на правое плечо, спросил:
— Как звать тебя, флорентиец?
— Я Микеланджело Буонарроти, потомок рыцарей Каноссы, — гордо отрекомендовался он. Род Буонарроти, уже три века подряд исправно плативший налоги Флоренции, восходил корнями к самой Матильде Каносской, которая была в числе тех, кто в далеком XI веке основал Флорентийскую республику.
Однако стражей, по всей видимости, достойная родословная Микеланджело ничуть не впечатлила, и он почувствовал, как в нем начала закипать ярость.
— Скульптор из Садов Медичи! — выпалил он, вспомнив полученное в юношеские годы прозвище.
— Ах, Медичи? — Низкорослый страж обнажил меч.
Микеланджело с досадой простонал, тут же пожалев о бездумно произнесенном имени. Это во времена его юности перед фаворитом семейства Медичи распахивались все двери Флоренции. Как же он забыл о том, что теперь Медичи — не обожаемые правители города, а мятежники, наводящие на флорентийцев страх! Связи с Медичи было достаточно для обвинения в измене и виселицы.
— Да нет же, я не это хотел сказать, я… — Микеланджело попытался вырваться и ускакать прочь, но щербатый стражник крепко вцепился в поводья.
— Лазутчик Медичи, вот он кто! — изрек долговязый и схватил Микеланджело за ногу.
— Я верноподданный флорентиец, — начал было Микеланджело, но договорить ему не дали — стражник со всей силой замахнулся секирой, норовя попасть ему в правое плечо. Микеланджело увернулся. Он не позволит какому-то невеже повредить его драгоценную рабочую руку. Настырный страж снова поднял оружие. Микеланджело выхватил из своей кожаной сумы молоток. Он уже занес его для встречного удара, когда за спиной раздался тонкий свист и что-то обрушилось на его голову, отдавшись гулким звоном в ушах.
«Не слишком ли горячую встречу горожане уготовили герою?» — пронеслось в его голове, и свет в глазах померк.
Пинок в живот вернул Микеланджело в сознание.
Перед глазами все плыло, но даже сквозь пелену он увидел, что мир перевернулся вверх ногами, — пол покачивался на расстоянии вытянутой руки от него. Он поерзал, пытаясь понять, что происходит. Ноги были связаны толстой веревкой, запястья стянуты за спиной, а сам он висел вниз головой в тесной каменной келье. И да, от него явственно несло мочой и рвотой. Незавидное положение.
Поджарый, но мускулистый офицер городской стражи угрожающе навис над ним.
— Какого черта? Я флорентиец! — крикнул Микеланджело.
— Ага, приспешник Медичи, посланный ими шпион, — ответил офицер с сильным неаполитанским акцентом. И со всей силы закрутил беспомощно висящего Микеланджело. Стены бешено замелькали перед его глазами. Он зажмурился, надеясь лишь на то, что его не вырвет снова.
— Я не шпион, — с трудом вытолкнул он слова сквозь стиснутые зубы.
— Не ты ли говорил часовым у ворот, будто связан с Медичи?
— Да, я был дружен с Лоренцо Великолепным, не с нынешними.
Мальчишкой Микеланджело благоговел перед Лоренцо Медичи — прозванный Великолепным, он в те времена фактически правил Флорентийской республикой. Когда Микеланджело исполнилось пятнадцать лет, Лоренцо приметил юного скульптора, ваяющего мраморного фавна; он был так восхищен его работой, что тут же предложил жить у себя во дворце и изучать скульптуру в знаменитых Садах Медичи. Микеланджело часто вспоминал те два славных года, которые провел в семье герцога, разделяя кров, стол и ученическую парту с его сыновьями, — и порой боялся, что уже полностью истратил все отпущенное ему везение. Ибо ни один смертный, на его взгляд, не заслуживал большей радости, большего счастья, чем то, что уже выпало на его долю. В 1492 году Лоренцо Великолепного не стало, и бразды правления перешли в корявые руки его сына, себялюбивого и скудоумного грубияна. Уже тогда прозванный Невезучим, Пьеро де Медичи ревновал к любви, которой его отец щедро одаривал начинающего скульптора. И теплые узы, связывавшие Микеланджело с семейством Медичи, стали рваться. А вскоре флорентийцы подняли мятеж против слабого бесталанного правителя, и отношения Микеланджело с Медичи прервались полностью.
Похваляясь у городских ворот своими связями с Медичи, Микеланджело отчего-то не подумал о том, что Пьеро де Медичи уже шесть лет обретался в изгнании, мечтая восстановить свою тираническую власть над Флоренцией.
Страж грубо схватил Микеланджело и приблизил к нему свою физиономию. Микеланджело обдало запахом прокисшего вина и какой-то тухлятины.
— Ты явился, чтобы помочь Пьеро де Медичи проникнуть в наш город.
— Пьеро де Медичи ненавистен мне, — выдохнул Микеланджело. Он старался не дышать и, чтобы сохранить сознание, сосредоточился на темном пятне на полу. Что это может быть? Грязь? Вода? Или кровь? — Я готов умереть, защищая Флорентийскую республику от глупости этого негодного правителя.
— А если ты не шпион, посланный Пьеро, то зачем явился в город?
— Я здесь живу.
— Ха! Я уже два года во Флоренции, но о тебе и слыхом не слыхивал. Я знаю всех в городе. А тебя не знаю.
— Я прежде жил здесь. А сейчас возвращаюсь из Рима. Работал там.
— Что же у тебя за работа?
— Я скульптор. — Даже вися вверх ногами, Микеланджело горделиво расправил плечи.
— Скульптор! — воскликнул офицер. — Вот оно что. Ты, значит, скульптуры делал для Пьеро, и он был твой патрон и благодетель.
Микеланджело промолчал. Отчасти неотесанный страж был прав, но он предпочитал не распространяться на этот счет.
— Если не станешь говорить, я буду пытать тебя как мятежника.
Страх, острый страх пронзил Микеланджело. Ни одна живая душа во Флоренции не знала о том, что он приехал, что он заточен в темницу и подвергается допросу за преступления, которых не совершал. Микеланджело постарался прогнать нарастающий ужас, пока тот совсем не поглотил его. Бояться он будет потом, сейчас не время.
— Хочешь — пытай меня сколько душе угодно. Только я не изменник.
— Арестовавшие тебя стражники говорили, будто ты очень бережешь… — Офицер обрезал одну из веревок, и освобожденная от пут онемевшая правая рука Микеланджело повисла безжизненной плетью. Он попробовал с усилием поднять ее, но безуспешно. — Не заговоришь, так заставлю заорать. — Страж схватил вялую руку Микеланджело и стал скручивать ее до тех пор, пока не раздался хруст костей.
Боль стрелой пронзила плечо, Микеланджело взвыл. Но не страдание заставило его заговорить, а мысль о том, что покалеченной рукой он больше никогда в жизни не сможет держать молоток и резать мрамор.
— Проклятый Пьеро не был мне никаким благодетелем, — с трудом выдавил из себя Микеланджело. — Он и заказал-то у меня всего одну-единственную вещь. Одну — и это несмотря на то, что я верой и правдой служил его семейству долгие годы, что мы бок о бок жили с ним, как родные братья.
— Неужели? И что же это было? — Грубые лапищи мертвой хваткой держали несчастную руку Микеланджело — так моряк на попавшем в бурю корабле цепляется за спасительный канат.
Видя, что офицер не отстанет, Микеланджело нехотя пояснил:
— Статуя из снега.
Страж немного ослабил хватку.
— Чего-чего?
— Снежная скульптура. Он велел мне выйти во двор и на глазах у всех вылепить из снега статую. — Даже теперь, после стольких лет, от воспоминания о том проклятом дне в груди снова заворочался комок обиды и горького унижения. — Заказал произведение, которое тает под солнцем. Этого человека я точно не назвал бы своим покровителем и уж тем более благодетелем.
— Статую из снега? Снеговика? — удивленный офицер выпустил руку Микеланджело. Та снова безвольно повисла.
— На самом деле, это была не просто снежная скульптура. — Если уж его вынудили вспоминать об этом, пусть хотя бы факты будут изложены в точности.
— Как же она выглядела?
— Высокая человеческая фигура, тонкая, изящная. Я хотел сделать ее ангелом, но солнце то и дело выглядывало из прорех в облаках, и она таяла…
Страж расхохотался. Эхо заметалось под каменными сводами темницы.
— Ишь ты, снеговик, значит. Никогда не слышал о такой глупости. Надо же додуматься! Снеговик!
— Я же говорил, что ненавижу Пьеро де Медичи. — Микеланджело попробовал сплюнуть, но во рту у него пересохло; только из разбитой губы сочилась кровь. — Теперь отпустишь меня?
— У тебя здесь найдется кто-то близкий, кто может подтвердить твои патриотические чувства? — Широкая улыбка расползлась на физиономии офицера, обнажив передние наполовину обломанные зубы.
— Еще чего, тревожить родных! Ни за что не признаюсь им, что я в кутузке…
Он готов лишиться руки, ноги, да хоть жизни, но на такое не согласится.
— Что ж, тогда я не могу отпустить тебя. Сначала за арестованного должен кто-нибудь поручиться. О, кстати… — Уже шагнув за порог темницы, страж оглянулся на беспомощно висящего вниз головой Микеланджело. — Если проторчишь тут до зимы, то и нам сможешь изваять снеговика. — Под низкими сводами узилища разнесся звонкий голос тюремщика: — Снеговик! То-то я повеселю этой байкой дядюшку Бэппе.
Яркий солнечный свет обжег глаза Микеланджело, когда он, ковыляя, вышел из городской тюрьмы. Он провел взаперти всю прошлую ночь и еще полдня.
— Спасибо, что поручился за меня, добрый друг. Уверен: без тебя висеть бы мне до конца дней на веревках во чреве Барджелло…
— Сомневаюсь. В этом городе нынче никто ни в чем не может быть уверен. Если только речь не идет о вопросах, касающихся экономии. Эти нынешние горе-правители считают, что дешевизна стоит рядом с благочестием.
Франческо Граначчи достал из кармана флягу со сладким белым вином и передал ее Микеланджело. Тот жадно припал к ней и с наслаждением опустошил. Старинный приятель Граначчи, красавец, отпрыск состоятельного семейства, был на семь лет старше Микеланджело, но не уставал повторять, что не одарен талантами так же щедро, как его младший друг. Это Граначчи убедил своего учителя, живописца Доменико Гирландайо, взять в подмастерья двенадцатилетнего Микеланджело.
— Я всегда буду вторым после Микеланджело, — любил повторять он. И все же именно Граначчи теперь владел процветающей живописной мастерской, а Микеланджело возвратился из Рима ни с чем — без денег и без работы.
— Однако мне показалось, что у меня серьезные неприятности, — возразил Микеланджело, осторожно пальпируя сустав больного плеча. Благодарение Богу — пальцы не нащупали ни торчащих обломков кости, ни разорванных мышц. Не беда, что плечо сильно болит, — пройдет.
Они шли прочь от Барджелло, и словоохотливый Граначчи без умолку болтал, обрушивая на Микеланджело последние городские новости и сплетни вперемешку с рассказами о событиях, потрясших Флоренцию за время его четырехлетнего отсутствия.
Граначчи не жалел мрачных красок, описывая ужасную казнь доминиканского монаха Савонаролы, обвиненного в ереси, — а ведь еще недавно пламенная проповедь этого священнослужителя о христианской любви и аскезе приводила флорентийцев в экзальтированный восторг. Микеланджело узнал о том, как в земли Тосканы вторглись папские войска под предводительством Чезаре Борджиа, и о том, сколь тщетны были попытки нынешнего правительства Флоренции, слабого и никчемного, сохранить республику. Граначчи, как это издавна повелось между ними, шагал впереди и разливался соловьем, а Микеланджело поспешал следом. Только сейчас, слушая рассказы Граначчи, он осознал, насколько одиноко ему было в Риме.
Они углубились в причудливо петляющие городские улицы; хозяева местных лавок, узнавая вернувшегося в город молодого скульптора, тепло приветствовали его.
— Добро пожаловать домой, Микеланджело… — раздавались возгласы то тут, то там, но Микеланджело не испытывал особой радости — ведь к его имени люди всегда добавляли ненавистное уточнение: «сын Лодовико Буонарроти». Здесь, во Флоренции, его знали не как талантливого мастера, а всего лишь как отпрыска уважаемого отца семейства. Ни один человек, завидев его, не спешил к нему через площадь, чтобы выразить восхищение его великолепной мраморной Пьетой, которую он изваял для Ватикана. Да что говорить — никто даже не упоминал о ней.
— Ну так как? — покончив с новостями, наконец поинтересовался Граначчи. — Удалось тебе получить в Риме какие-нибудь заказы?
Микеланджело остановился, словно на его пути возникло невидимое препятствие. Некоторое время он ошеломленно молчал. Господи, если уж Граначчи, самый страстный поклонник его творчества, ничего не знает о…
— Разве ты не слышал о моей Пьете?
— О чем?
У Микеланджело перехватило дыхание.
— Ах да, как же, как же… — По выражению лица Граначчи было видно, что он что-то припоминает.
Микеланджело снова задышал.
— Я действительно слышал кое-что об этой твоей скульптуре. Там у тебя еще Дева Мария выглядит чересчур юной, а… — Граначчи игриво толкнул Микеланджело в бок, словно намекая на что-то. — Не сомневаюсь в том, что она великолепна, друг мой, впрочем, твои работы всегда были прекрасны. — И Граначчи легко зашагал дальше.
Микеланджело с трудом проглотил ком в горле. Никакого парада в его честь не будет. Ни празднества, ни банкета. Здесь, во Флоренции, он как был, так и останется всего лишь Микеланджело, сыном Лодовико Буонарроти, начинающим скульптором из ныне разоренных Садов Медичи.
— Слушай, а я ведь догадываюсь, что привело тебя в город, и именно сейчас, — сказал между тем Граначчи.
— И что же? — вяло поинтересовался Микеланджело. Коли уж никто здесь не знал о его римском триумфе, он больше ни в чем не был уверен.
— Конкурс на камень Дуччо. — Граначчи пожал плечами, будто речь шла о чем-то очевидном.
Микеланджело вновь встал как вкопанный.
— И… что с этим камнем?
О, камень Дуччо! Знаменитейший блок мрамора за всю историю ваяния. Лет пятьдесят назад с ним был связан замысел самого грандиозного, самого дорогостоящего и дерзкого проекта со времен древней Римской империи — двенадцать колоссальных мраморных изваяний ветхозаветных пророков для Дуомо. Управление строительными работами в Соборе, или коротко Управа, с жаром приступило к исполнению задуманного и первым делом закупило в знаменитых каменоломнях Каррары колоссальной величины блок белоснежного мрамора. Он достигал девяти braccia3 в высоту, то есть был втрое выше человека, и при этом строен и узок, как колонна. В Управе надеялись на то, что выполненная из него скульптура прославится — ведь она будет самой высокой из всех, которые были изготовлены из цельного куска мрамора со времен Античности.
Согласно легендам, камень этот таил в себе нечто необычное, на нем словно бы лежала печать особенной судьбы. Несмотря на долгое и трудное путешествие — его спускали с гор, а затем везли вверх по реке Арно, — во Флоренцию он прибыл без единой царапинки; эта девственно нетронутая и белоснежная плита буквально дышала жизнью. Все, кто видел его, признавались, что еще не знавали мрамора белее и прекраснее. А попечители Собора тут же объявили, что из него будет высечена статуя царя Давида — как символ величия Флоренции и ее преданности Богу. Оставалось лишь найти скульптора, достойного столь ответственной работы.
Донато ди Никколо ди Бетто Барди, больше известный как Донателло, вдохнул новую жизнь в искусство ваяния, вернул скульптуру современникам, достав ее из темных веков забвения и открыв для нее новую эпоху, впитавшую дух творений античных Греции и Рима. Донателло уже создал две статуи Давида; та, что была отлита из бронзы, особенно полюбилась флорентийцам — она изображала Давида юным прекрасным пастушком, попирающим точеной ногой голову поверженного Голиафа. По мнению попечительского совета, именно Донателло должен был получить заказ на новую колоссальную статую.
Однако Донателло к тому времени уже разменял седьмой десяток. Зрение отказывало великому старцу, его сильные руки дрожали. И он попросил Управу нанять для этой работы его более молодого собрата, скульптора Агостино ди Дуччо. Заказ передали Дуччо — все понимали, что Донателло будет, хотя и закулисно, участвовать в этом важном деле. Но вскоре после подписания контракта Донателло умер, и Дуччо остался с масштабным и ответственным проектом один на один. К сожалению, ученик Донателло не мог похвастаться такой же уверенной, как у наставника, рукой. Первый удар его молотка по драгоценному блоку оказался варварски неуклюжим и беспомощным, второй был еще хуже. Вскоре, отчаявшись сделать хоть что-нибудь если не великое, то хотя бы путное, Дуччо от злости и досады пробил в нетронутой глыбе дыру, прямо посередине. Затем, отбросив молоток и резец, он объявил, что камень непригоден для работы. Позже ходили слухи, что на смертном одре Дуччо в бреду повторял, будто проклятый мрамор сопротивлялся ему, не признавая в нем мастера, не желая покоряться его воле.
После провала Дуччо другие ваятели пытались спасти драгоценный мрамор, но ни один не преуспел. В конце концов неподатливую глыбу, прозванную камнем Дуччо, оставили в покое — во дворе соборной мастерской. Грандиозный план по украшению Дуомо гигантскими статуями потерпел бесславное фиаско.
— Ты упомянул какой-то конкурс? — в волнении проговорил Микеланджело.
— Э… Управа… Они подыскивали мастера… скульптора… ну, чтобы изваять статую. — Бойкий Граначчи вдруг начал мямлить и запинаться. — Господи, я был уверен в том, что ты слышал…
Микеланджело помотал головой:
— Да нет же, нет!
Его колени задрожали. Неужели? Неужели Управа решила дать второй шанс камню Дуччо? Самому известному блоку мрамора в мире! Тому, которого касалась рука великого Донателло! При этих мыслях будто сотни крохотных иголок начали покалывать пальцы Микеланджело.
— Прости, наверное, я зря проболтался тебе, — несколько смущенно пробормотал Граначчи.
— Разумеется, не зря! — Широкая улыбка преобразила черты Микеланджело. Он сгреб Граначчи в объятия. — Этот камень самой судьбой был предназначен для моих рук! Заказ будет мой, я уверен.
— Да нет же, Микеле! — Граначчи в отчаянии опустил голову, принявшись разглядывать свои ноги. — Я хотел сказать совсем другое! Тебе не видать этого заказа.
— И почему же?
— Да потому, что Управа уже передала его кое-кому, — выпалил Граначчи.
Микеланджело быстро перебрал в уме знакомых мастеров искусств — тех, кто еще был жив и находился во Флоренции. Сандро Боттичелли, автор «Рождения Венеры» и «Весны»? Бесспорно, он великий художник, но живописец, а не скульптор. Пьетро Перуджино? Давид Гирландайо, брат наставника Микеланджело? Эти двое — тоже великолепные мастера, прекрасные живописцы, но вряд ли смогут потягаться с его природным даром резчика мрамора. Может, Андреа делла Роббиа? Так он специализируется на майолике, его нежные бело-голубые рельефные скульптуры снискали ему большую славу, но в мраморе он не слишком искусен. Джулиано да Сангалло? Вот он — да, скульптор, чьи произведения широко известны. Хотя его истинные таланты, пожалуй, больше лежат в сфере архитектуры и инженерного дела. А значит…
— Нет, Граначчи, нет во Флоренции ни одного человека, который работал бы по мрамору лучше меня.
— А вот и есть. — Граначчи по-прежнему избегал его взгляда.
Микеланджело вдруг уставился на него в немом изумлении: неужели это сам Граначчи? Нет-нет, невозможно!
И уловил сдавленный шепот друга:
— Леонардо.
Микеланджело показалось, что весь город вдруг разом затих. Ему даже не потребовалось никакого уточнения о том, что это Леонардо из Винчи. Имени было более чем достаточно… Семилетний Микеланджело жил в деревне у кормилицы, когда легендарный Леонардо да Винчи, объект всеобщего восхищения, покинул землю Тосканы и перебрался в Милан. Микеланджело помнил, как мальчишкой он старательно копировал Мадонн с картонов Леонардо, выставленных тогда в церкви в знак преклонения перед его гением, как сосредоточенно изучал наброски Леонардо к грандиозной конной статуе герцога Сфорца. Это благодаря Леонардо он, Микеланджело, стал художником. И теперь они оба оказались в одно время в одном городе.
Новость глубоко потрясла Микеланджело.
— Так ведь Леонардо живет в Милане, — растерянно проговорил он.
— Теперь нет, — ответил Граначчи. — Почти год, как он здесь. И камень Дуччо передали ему.
Но камень уже не занимал Микеланджело. Ну конечно же, Леонардо — такой мудрый, опытный, так глубоко разбирающийся в искусстве и новациях — непременно слышал о его Пьете! Получи он одобрение от самого Леонардо — ему будет уже неважно, что говорят о нем другие. Леонардо единственный способен оценить его Пьету по достоинству.
— Как думаешь, я могу с ним познакомиться? — спросил Микеланджело, чувствуя, как трепещет в его груди сердце — словно парус на ветру, влекущий его утлое суденышко навстречу самой судьбе.
— Ну конечно, mi amico. — Граначчи радостно оскалился. — Пойдем, я прямо сейчас отведу тебя к нему.
Леонардо
Леонардо разглядывал из-за занавески модных флорентийцев, набившихся в его мастерскую; толпа неумолчно гудела, будто на выступлении комедиантов. Он кивнул Салаи — невидимый публике, тот пристроился на узенькой деревянной площадке под потолком. Леонардо про себя начал считать до трех. Uno. Due. Tre…
На счет «три» потолок озарила яркая вспышка, раздался громкий хлопок, и помещение окутали клубы густого пурпурно-зеленого дыма. Кто-то от неожиданности вскрикнул, другие захихикали. Леонардо незамеченным выскользнул из своего укрытия и нырнул в сладко пахнущее ладаном клубящееся облако. Дым рассеялся, и он предстал перед публикой, словно по волшебству.
— Секс, — прошипел он, задержав язык на букве «с», будто провел пальцем вдоль струн скрипки. Зрители засмеялись, но не их реакция занимала Леонардо: он вглядывался в лица братьев-сервитов4 — ведь эту непристойную шуточку он приготовил специально для них, небезосновательно предполагая, что она доставит тайное удовольствие монахам, лишенным плотских радостей из-за обета безбрачия. — Части человеческого тела, участвующие в этом процессе, столь безобразны, что я ума не приложу, отчего Господь Бог решил, будто его создания вообще захотят размножаться. Не будь ночной темноты, род человеческий, сдается мне, уже исчез бы полностью.
Шутка попала в цель: уголки благочестиво поджатых губ слегка приподнялись.
— Музыка! — громко скомандовал Леонардо, и притулившийся у задней стены оркестрик, состоящий из флейт, лютней и барабанов, заиграл веселую мелодию, а помощники Леонардо, братья-монахи, согласились содержать его вместе с ассистентами — открыли срежиссированное им представление со спецэффектами. Завивающийся в спирали разноцветный дым, пламя зажженных свечей и фонтанчики воды, выбрасываемые из барабанов при каждом ударе, отражались в многочисленных зеркалах, создавая иллюзию вибрирующего, постоянно меняющегося пространства. Легко, будто танцуя, Леонардо запорхал по студии, то и дело корректируя ход представления в попытке ублажить своих заказчиков-монахов.
Уже год прошел с того момента, как он вольготно расположился в трех просторных комнатах на верхнем ярусе базилики Сантиссима-Аннунциата. Братья предоставили ему приют и содержание в счет платы за алтарную роспись, которую Леонардо взялся сделать для их храма. Неожиданно ему понравился размеренный ритм жизни в обители: утренние, дневные и вечерние молитвы, трапезы и сон сменяли друг друга в назначенный час, подчиняя его бытие неукоснительно строгому режиму; какого-либо режима он не знал с детства, проведенного в захолустном городке Винчи, где следовал лишь естественной смене дней, ночей и времен года. Из-за этого Леонардо непростительно расслабился. Минуло целых десять месяцев, прежде чем он сделал первые наброски для росписи алтаря. Все чаще до него доходили городские пересуды и сплетни — многие горожане объясняли его столь долгое бездействие ленью и неспособностью сосредоточиться. Впрочем, это неудивительно — он имел репутацию мастера, неспособного довести до конца что бы то ни было. Ему часто припоминали брошенные на полпути работы — недописанные картины «Поклонение волхвов» и «Святой Иероним», так и не отлитую в бронзе конную статую Сфорца в Милане… Однако сейчас он медлил не потому, что не хотел браться за заказ монахов. Нет. Гениальный замысел не родится в голове просто так, по велению воли. Ему требовалось выкристаллизоваться, обрести форму, выстояться, как тесту. Облик Девы Марии должен был одновременно отвечать классическим представлениям о красоте и при этом удивлять зрителя, открывая ему в Богородице новые неожиданные глубины. Каждому персонажу следовало придать узнаваемые черты, подчеркнуть его индивидуальность, и в то же время нужно было добиться того, чтобы все образы гармонировали между собой, составляя единое целое. Линии на бумаге ему предстояло преобразовать в живую человеческую плоть, наполнить дыханием, чувствами, мыслями, всей многогранностью человеческой натуры… В общем, на рождение новой жизни требовалось время.
Сейчас, по истечении года, Леонардо должен был предъявить братьям-сервитам убедительное доказательство того, что он не злоупотребил их гостеприимством и потому может и дальше оставаться в стенах обители. Он почти не продвинулся в своем проекте с полетами по воздуху, и незапланированный переезд прервет его только начавшиеся эксперименты. Ему нужно не просто показать братии, что он работает над алтарем, — он обязан убедить их в том, что роспись стоит длительного ожидания. Собственно, этим он и занимался последние две недели: сначала он представил замысел будущей росписи публике, а нынешним вечером собрал братьев-сервитов, своих заказчиков.
Леонардо дождался, когда отзвучит очередная песня, и поднялся на помост, на котором было установлено огромных размеров панно, завешенное черным бархатом. Холеная рука выписала в воздухе причудливую виньетку, и Салаи, повинуясь знаку, одним движением сдернул ткань.
На позолоченном пьедестале стоял картон — эскиз алтаря в полную величину. Пламя свечей отбрасывало блики на рисунок, выполненный углем и сангиной на тонкой тонированной бумаге. Фигуры святой Анны, Мадонны, святого Иоанна и младенца Иисуса, образующие пирамидальную композицию, казались живыми, их черты воплощали классические идеалы красоты. Сколько же долгих месяцев он вынашивал эти образы в своем воображении, прежде чем решился перенести их на бумагу, а когда начал рисовать, они будто сами появлялись под его рукой. Демонстрацию картона он вписал в театральное действо — пусть люди думают, что замысел этот, совершенный в своей целостности и законченности, сошел на него с небес, а не рождался в долгих муках. Это непременно подогреет восторг публики перед его талантом…
С задних рядов вдруг послышалось:
— Пропустите, отсюда мне ничего не видно.
Улыбка на губах Леонардо померкла. О, он сразу узнал этот голос.
Толпа расступалась перед нотариусом базилики Сантиссима-Аннунциата и смыкалась за его спиной, словно воды морские, обтекающие военный корабль. В прошлом страстный приверженец Савонаролы, старик нотариус и сейчас не изменял аскетической манере одеваться, за которую ратовал его казненный кумир, — на нем было простое черное платье без каких-либо украшений. Все то же худое и угловатое лицо, какое запомнил Леонардо, тот же острый нос, те же пытливые и отливающие сталью глаза. Стоя на помосте, Леонардо смотрел на хмурящегося старика сверху вниз, но при этом почему-то чувствовал себя жалким мальчишкой.
— Кажется, в свое время я высказался однозначно, — произнес вместо приветствия Леонардо. — Я берусь за заказ при условии, что буду избавлен от тягот вашего общества.
Ропот протеста прокатился по группе братьев-монахов, но нотариус повелительным жестом велел им умолкнуть. Он немного помедлил с ответом и наконец проговорил:
— Я пришел принести свои поздравления. — Старик перевел взгляд на картон. — Изумительная работа. Полагаю, готовая роспись станет истинным сокровищем монастырской церкви. — В своей искренности он выглядел очень правдоподобно.
— Отчего музыка больше не играет? — воскликнул Салаи и сделал знак оркестрантам.
Мастерскую снова наполнили звуки веселой мелодии, а Леонардо, спрыгнув с помоста, схватил незваного гостя за костлявый локоть и повлек к задней двери.
— Я уже год нахожусь во Флоренции, а вы выбрали именно этот вечер для того, чтобы поговорить со мной? — понизив голос, спросил Леонардо.
— Братья-сервиты пригласили меня…
— Вы могли наведаться в мою мастерскую днем, когда была возможность потолковать с глазу на глаз, однако пришли на праздник в тот момент, когда здесь собралось множество гостей. Почему бы это? Не для того ли, чтобы весь свет стал свидетелем того, как вы благородны и щедры?
Он покачал головой. Этот старый нотариус был в числе тех, кто дурно обходился с молодым Леонардо, когда тот еще не представлял собой ничего существенного, а теперь — пожалуйста, явился, чтобы смиренно засвидетельствовать свое почтение величайшему творцу современности. С момента его прибытия во Флоренцию в его дверь ежедневно стучатся такие же льстецы, желающие мелкой лестью заработать прощение за прошлые обиды.
— Я искренне стараюсь загладить свою вину перед тобой, Леонардо.
— Да конечно, как пчелка: с медом в хоботке и с ядом на жале. — Леонардо наконец вывел нотариуса из мастерской и захлопнул дверь. — И что же, вы уже не считаете меня никчемным ничтожеством?
— А я никогда и не говорил ничего подобного. Я утверждал только, что у тебя слишком много различных идей и для твоего же блага тебе следовало бы сосредоточиться на какой-то одной и довести ее до конца, а не порхать с цветка на цветок. И я очень рад, что ты наконец остепенился, — старик прижал ладонь к сердцу, — и что этот заказ столь благотворно повлиял на тебя.
Леонардо уловил во взгляде его стальных глаз плохо скрытую снисходительность.
— Думаете, это благодаря вам братья поручили мне роспись алтаря?
Нотариус смотрел в пол.
— Уж поверьте, не ваши хлопоты, а только моя репутация художника решила дело, — заявил Леонардо. — Но даже если бы я был обязан этой работой вам, неужели вы считаете, что это загладило бы все то зло, которое вы мне причинили?
— Не возьму в толк, о чем ты говоришь.
— Ой ли! — язвительно бросил Леонардо. При воспоминании о том давнем предательстве его левый глаз начал подергиваться.
Много лет назад, когда двадцатичетырехлетний Леонардо покинул студию Верроккио, чтобы открыть собственную мастерскую, в Уффициале ди Нотте5 кто-то подбросил анонимный донос; в нем сообщалось о том, что Леонардо и еще пятеро юношей предаются содомии. Этот вид любовных отношений был широко распространен во Флоренции — особенно среди людей искусства и гуманитарных наук, видевших в нем идеальный способ налаживания контактов, в том числе деловых, однако нарушителей, если их преступление было доказано, могли приговорить к казни. Леонардо всегда считал, что именно нотариус монастыря сервитов сдал его тогда властям, хотя тот и отрицал это.
— Не вы ли предрекали, что я буду гореть в седьмом круге ада?
— Признаться, я даже рад, что тебя тогда схватили. — Старик вертел на костлявом пальце тонкое обручальное кольцо из золота, единственное украшение, которое он позволял себе носить. — Если бы ты продолжал в том же духе, то навлек бы на себя еще большую беду.
— Меня могли казнить!
— Ну полно, обвинения же были сняты. — Нотариус со значением вздернул подбородок, словно это являлось его заслугой.
— Обвинения, да будет вам известно, сняли только потому, что один из обвиняемых приходился родственником матери Лоренцо де Медичи. Будь я один, меня повесили бы, не раздумывая.
Нотариус энергично замотал головой.
Кто-то попытался войти к ним со стороны мастерской. Леонардо схватился за дверную ручку и с силой захлопнул дверь.
— Когда я был начинающим художником, меня для вас как будто не существовало. Конечно, вы были важной особой, а я — мелким ремесленником, простолюдином. — Нотариус хотел было возразить, но у Леонардо накипело. — А сейчас, когда я стал уважаемым, почтенным человеком — что вы говорите о моей работе? Что она станет истинным сокровищем? Так вы пытаетесь выставить напоказ нашу давнюю дружбу? Но никакой дружбы между нами не было и в помине!
Стальной взгляд уперся в глаза Леонардо.
— О да! Полагаю, дружескими наши отношения назвать нельзя.
— Сегодня у меня очень важный день. Я должен быть спокоен. Разумен. Сосредоточен на своих заказчиках. И вы сейчас мне мешаете, а потому должны уйти. — Леонардо нарочито выпрямил спину, всем своим видом показывая, что гость не дождется от него поклона. — И будьте любезны, забудьте сюда дорогу.
Он знал: старик слишком горд и не станет упрашивать его. И тот действительно ушел, не проронив больше ни слова.
Леонардо сделал несколько глубоких вдохов. Размял плечи и шею, чтобы сбросить напряжение. Затем с улыбкой на губах направился к гостям.
Салаи ждал его под дверью.
— Я послал во двор двоих служек — пусть удостоверятся, что он убрался и не вернется снова. Вы в порядке, господин?
— Терпение ограждает нас от оскорблений, как одежда от холода. Кстати, — Леонардо снял жакет и бросил его на руки Салаи, — почему это у нас так тихо? Нам надлежит без остановки развлекать гостей.
Он стал пробираться через толпу к помосту, желая убедиться в том, что братья-монахи по достоинству оценили свое приобретение.
— Однажды, когда я был подмастерьем на побегушках в студии моего учителя, к нему явился купец, — начал Леонардо бодро и громко, так, чтобы все гости слышали его. — Он хотел купить картину, которая могла бы услаждать его взор, но выбирать ему мешали дети учителя — маленькие чертенята вопили и носились как угорелые по всему дому. «Послушайте, как это может быть? — спросил у него купец. — Вы пишете столь прекрасные картины, а дети ваши такие безобразники!» Учитель ответил ему: «Просто картины я пишу днем, а детей делаю ночью». В толпе раздался хохот. Леонардо уже протолкался к помосту, но не увидел возле него ни одного монаха. Куда это они подевались?
Салаи, пробравшийся вслед за господином, остановился рядом.
— Где же наши добрые братья?
— Ушли, — прошептал Салаи.
Леонардо прикрыл глаза. Ушли, значит. Ах, этот чертов нотариус, снова он все испортил. Леонардо сделал привычный глубокий вдох, медленно втянув носом воздух… что это за вонь — моча, что ли? Он открыл глаза.
Перед ним стоял молодой человек, да такой уродливый, каких ему еще не приходилось видеть. Грива буйных черных волос, спутанных и грязных. Бесформенный нос. Одет как крестьянин — в какие-то жалкие обноски, измаранные и драные. На физиономии — кровоподтеки, словно малый явился сюда сразу после драки в таверне. На плече болтается затасканная кожаная сума, а из кармана торчит блокнот, какими пользуются рисовальщики… Ах, так он художник, — озарила Леонардо догадка. И судя по жалкому гардеробу, не самый успешный. Что же это за напасть? Почему незваные гости сегодня постоянно прерывают его представление для избранных?
— Signore e signori, — провозгласил Леонардо, обращаясь к гостям. — Позвольте представить вашему вниманию дитя, которое, вне всякого сомнения, было сделано ночью.
Толпа захохотала, а молодой человек вспыхнул, ссутулился и, словно защищаясь, скрестил руки на груди. Было видно, что он и сам стеснялся своего вида.
— Маэстро Леонардо, для меня большая честь познакомиться с вами. — Голос глухой и грубый, под стать внешности — так грохочут в отдалении камни, когда сходит оползень. — Я скульптор, и я весь к вашим услугам.
А, ну это, собственно, все объясняет — камнерезы издавна славятся неряшливостью.
— Что ж, садись, сын мой, и делай зарисовки. Копирование работ мастеров — лучший способ научиться чему-нибудь. — Леонардо пренебрежительно махнул рукой, словно отсылая малого прочь, и переключился на свои насущные проблемы. Требовалось срочно придумать, как опять заманить в студию братьев-сервитов. Может, получится позвать их завтра, так сказать, для приватного просмотра, а может, лучше самому прийти на воскресную службу? Непременно надо сделать что-то такое, что сгладит неприятное впечатление от его грубой беседы с нотариусом.
— Можно я покажу вам кое-что из моих работ? — Скульптор тем временем уже вытащил из кармана засаленный блокнот. — Для меня было бы большой честью услышать от вас хотя бы слово одобрения.
Почему этот мальчишка никак не отвяжется от него? Еще один назойливый флорентиец, нуждающийся в дружбе и поддержке самого Леонардо да Винчи. Что за вечер!
— Пожалуйста, пожалуйста, мой юный друг. Сделайте одолжение, не смущайтесь того, что пришли сюда незваным, я готов бросить своих гостей и смиренно служить вам. Ручаюсь, вы станете гвоздем вечера.
Смотри-ка, а он и правда засмущался, этот скульптор. Неужели не понял его едкой иронии?
В этот момент к ним подошел элегантно одетый господин. Леонардо сразу признал в щеголе местного живописца Франческо Граначчи.
— Маэстро. — Граначчи склонился в глубоком почтительном поклоне. — Позвольте представить вам моего друга, Микеланджело Буонарроти.
— Буонарроти, Буонарроти, — задумчиво пробормотал Леонардо. — Что-то такое я о нем слышал…
— Неужели слышали, синьор? — Глаза молодого скульптора вспыхнули по-детски наивной надеждой.
— Салаи, напомни-ка, что нам о нем известно?
Салаи склонился к уху Леонардо и что-то прошептал.
— Ах да, конечно, — кивнул Леонардо. Раз уж вечер безвозвратно испорчен, отчего бы немножко не позабавиться за счет надоедливого незваного гостя? — Подходите, дорогие друзья, поприветствуем легендарного мастера… Сын мой, почему же ты сразу не открыл нам свое имя? В Милане мне все уши прожужжали о твоем творчестве. Весь двор только и делал, что обсуждал тебя. Даже герцог Сфорца.
Лицо молодого скульптора снова вспыхнуло. Подбородок чуть вздернулся. О, как хорошо Леонардо знал это гордое выражение! Но он безмерно устал от чужой гордыни.
— Перед вами выдающийся представитель своего поколения, знаменитый ваятель… — Леонардо замолк, отзвук его голоса таял в воздухе, пока он держал драматическую, обещающую нечто невероятное паузу, — снеговиков!
Гости рассмеялись, а лицо скульптора сделалось чернее тучи. Граначчи схватил его за руку, словно в попытке удержать.
Этот молокосос что, вздумал наброситься на него с кулаками? Да пожалуйста. Леонардо владел кое-какими приемами и был способен достойно ответить.
— Вы, конечно, помните снежную скульптуру, которую изваял этот юноша для Пьеро де Медичи? Я, к несчастью, не имел удовольствия насладиться ею, ибо не был в те дни во Флоренции. Ну-с, мой мальчик, теперь не отвертишься. Изволь-ка развлечь нас, расскажи, как тебе работалось по снегу. Ты не мерз?
Лицо молодого скульптора стало теперь белее снега, когда-то послужившего ему материалом.
— Да, был у меня один дрянной заказ — что ж с того? Такие и на вашу долю выпадали.
— Право, нет ничего столь же похвального, как работа по снегу. Мои поздравления, молодой человек, — вы открыли невиданное доныне искусство, которое покидает своего творца раньше, чем тот решит проститься с ним.
— Вы, верно, слыхали о моей Пьете? Она сейчас выставлена в Ватикане. — Последнее слово Микеланджело произнес так, будто вонзил стилет в Леонардово горло.
— Так то работа Гоббо. Ну, того горбача из Милана… — Леонардо вопросительно взглянул на Салаи, тот согласно кивнул.
— Ничего подобного. Пьету высек я! — Микеланджело приосанился.
— Ну и бедняга же он, этот горбун, никак не добьется достойного признания. Ну да и бог с ним. — Леонардо повернулся к гостям. — Кто хочет увидеть фокус? — решил он сменить тему и почувствовал, как грязная лапа скульптора схватила его за руку.
— Микеланджело, прошу тебя, — шепотом урезонивал того Граначчи.
— Скажите мне, скажите всем нам, — напряженный голос Микеланджело задрожал на высоких нотах, — вы, вы сами видели мою Пьету?
Леонардо величественно расправил плечи и повернулся к нахалу-скульптору.
— Нет. В свой последний приезд в Рим я не имел времени разглядывать второсортные поделки из камня.
— Но наверняка слышали, что о ней говорят, ведь так? — наседал Микеланджело.
— Что да, то да. Рассказывают, что мир еще не видывал такой огромной Девы Марии, природа вовек не рождала подобной великанши. — Леонардо раздул щеки и грудную клетку, изображая гиганта. — Она ж у тебя втрое больше Христа и к тому же… — он повысил голос, — вдвое моложе.
Публика захихикала.
— Разве тебе не известно, — продолжал Леонардо холодно-язвительным тоном, — что матери — так уж заведено природой, мой юный друг, — несколько меньше по размеру своих взрослых сыновей и к тому же несколько старше их? Чему только вас учат в этих ваших школах?
Толпа с готовностью подхватила его смех.
— Женщина благочестивая и целомудренная надолго сохраняет юность и красоту, — возразил Микеланджело.
Леонардо показалось или в глазах молокососа действительно заблестели слезы? Не перегибает ли он палку в своих насмешках? Может, ему как мастеру более зрелому и мудрому больше пристало помочь молокососу, позволить тому сохранить остатки своего жалкого достоинства? Леонардо наклонился к скульптору и театрально прошептал:
— Замолкни, юноша, перестань выставлять себя на посмешище. — Затем обернулся к гостям: — Сие мне известно… Попробуем-ка превратить олово в золото. Предлагаю вашему вниманию чудеса алхимии…
— Человеческое тело есть отражение души, чем человек благочестивее, тем он прекраснее, — громко произнес Микеланджело.
— Благодарю, — рассмеялся в ответ Леонардо. — Твои слова свидетельствуют о том, что я куда благочестивее тебя.
Толпа снова разразилась смехом.
— Выслушай-ка, сынок, одну притчу. — Леонардо положил ухоженную руку на плечо скульптора. В конце концов, бедный малый не виноват в том, что проклятый нотариус погубил такой важный вечер. — Однажды капельке воды взбрело на ум вырваться из морской стихии и взлететь в небесную высь. Она попросила помощи у огня, и тот своим обжигающим пламенем превратил ее в пар. Пар легко взвился в заоблачные выси, однако там стоял такой холод, что капелька закоченела, сжалась и из пара снова превратилась в воду. Небеса низвергли ее на землю вместе с другими дождевыми каплями. Иссушенная жарой земля жадно поглотила маленькую капельку, и той еще долго пришлось томиться в почве, прежде чем она снова увидела свет и вернулась в свою стихию. Такое наказание она получила за свое тщеславие. Ты словно та капелька — слишком много возомнил о себе. Я не видел твоей Пьеты и не могу судить о ней. Но уверяю тебя: уже по одному твоему виду я понял, что до мастера тебе пока далеко. Так что садись и смиренно делай зарисовки с моей работы. Авось чему-то да научишься.
— Bastardo! — Микеланджело выплюнул бранное слово в лицо Леонардо так отчетливо, что ни у кого из гостей не осталось сомнений в том, что именно сейчас было сказано.
По толпе прокатился ропот недовольства. Леонардо набрал полную грудь воздуха.
— Да. Это правда. Я внебрачный сын, незаконный ребенок. И я благодарен судьбе за эту незаконность. — Леонардо не отводил взгляда от карих глаз скульптора. — Будь я рожден в законном браке от связанных законными узами родителей, имей я законно признанного отца, я был бы обречен на тяготы и муки предписанного законом образования, вынужденный зубрить прописные истины, которые вдалбливали бы мне в голову законные учителя. Положение бастарда заставило меня учиться у самой природы, постигать умом то, что видят мои глаза, самостоятельно размышлять. Нет учителя лучше, чем опыт. Да, в глазах мира я необразованный презренный бастард, но… — Леонардо обвел рукой комнату, — есть ли здесь кто-то, кто при этом считает меня скудоумным?
В студии повисла тишина. Гости старательно прятали глаза в бокалах с вином.
Да уж, похоже, события вечера вовсе вышли из-под контроля. Пора исправлять ситуацию. Леонардо схватил лиру и легко запрыгнул на помост.
— Живописцы против скульпторов! Это давнее, жаркое соперничество. Но я, кажется, наконец выявил победителя. — Он взял несколько мелодичных аккордов. — Сами рассудите: живописец сидит перед своим творением в непринужденной позе, окунает легкую кисть в краску, наносит на холст аккуратные мазки. Дом его чист и ухожен, сам он в красивых опрятных одеждах. А что скульптор? — Леонардо кивнул в сторону Микеланджело. — Скульптор применяет грубую силу, пот струится по его лицу и смешивается с мраморной пылью, образуя безобразную корку на его коже. Он весь обсыпан мраморной крошкой, его жилище, покрытое глубоко въевшейся грязью, неопрятно под стать своему хозяину. Если уж благочестие, как заявляет нам этот школяр, идет рука об руку с красотой, то живописец куда как благочестивее каменотеса.
Расплющенный нос Микеланджело побагровел. Он открыл было рот для достойного ответа, но вдруг круто развернулся и стремительно покинул мастерскую.
— Музыка! — скомандовал Леонардо, и позабытые в драматических перипетиях вечера музыканты снова схватились за свои инструменты.
Микеланджело
Микеланджело пулей вылетел из дверей Сантиссима-Аннунциата и, не разбирая дороги, помчался по улице, подставляя лицо и грудь встречному ветру — в надежде погасить обжигающую душу ярость. Силы были на исходе. Его страшно измотала многодневная дорога и пытки, которым он подвергся в Барджелло. На Флоренцию между тем уже опустилась ночь. Город тонул во тьме, и лишь слабые блики огоньков пробивались сквозь забранные ставнями окна. Большинство людей уже были дома, сидели за вечерней трапезой. Вокруг царили тишина и спокойствие, но внутри у Микеланджело кипел гнев!
Как посмел этот старик так унизить его — причем незаслуженно? Да, Микеланджело вышел из себя и больно лягнул обидчика в чувствительное место — но только в ответ на гнусные насмешки, которыми этот расфуфыренный бахвал осыпал его работу, причем в присутствии своих надутых от важности и разодетых гостей. Леонардо даже не признал в нем собрата по творческому цеху! Он жестоко посмеялся над ним, словно Микеланджело — полнейшее ничтожество, жалкий каменотес, школяр. Чего Леонардо ожидал — что он будет целовать ему башмаки? Возможно, этот человек достоин всяческого поклонения, но, оказывается, он большой мастер не только в живописи, но и в искусстве издеваться над другими. Обиднее всего то, что Микеланджело готов был безоговорочно довериться этому лощеному хвастуну, чьи пальцы унизаны перстнями, а волосы завиты в нелепые кудри. Надо же, какой чистюля, у него даже грязи нет под ногтями! Где это видано, чтобы у художника были идеально чистые ногти?
Микеланджело во все горло выкрикивал грубые ругательства, редкие прохожие шарахались от него в стороны. Всем известно: в такой час только воры да проститутки могли разгуливать по городу, извергая потоки брани.
Он был так взволнован, оказавшись под одной крышей с общепризнанным маэстро! Студия Леонардо произвела на него невероятное впечатление, никогда в жизни он не видел подобного собрания предметов: бесконечные ряды книг на полках, карандашные и угольные наброски, эскизы, музыкальные инструменты, кисти, модели диковинных изобретений. Стены и потолок сплошь покрывала причудливая роспись: ангелы, в которых угадывалось что-то от сатиров, блуждали на фоне волшебных пейзажей — верно, сам Леонардо приложил к ним свою талантливую руку. А изящная серебряная лира, а коллекция деревянных флейт и лютней, вместе с волынкой сложенных в одном из углов? В особенности запомнился Микеланджело рисунок на стене: обнаженный человек, который раскинул руки и широко расставил ноги, упираясь ими в словно сдерживающий его квадрат, вписанный, в свою очередь, в круг. Это изображение заставило Микеланджело задуматься о совершенных пропорциях человеческого тела. На рабочем столе — ворох вычерченных от руки карт и схем, сваленные грудой кожаные папки, плотно набитые листами, видимо, с рисунками. На высокой подставке причудливо изогнулась ящерица, совсем как живая, но со сказочного вида шелковыми крыльями, рогами и бородкой. Перед ней были закреплены увеличительные линзы, и если смотреть через них, то странное создание выглядело огромным, как гигантский мифический дракон, готовый обжечь зрителя багровым языком.
А потом он заметил картон Леонардо. Неудивительно, что народ толпами валил в студию, чтобы взглянуть на это чудо. Пусть это лишь подготовительный рисунок, но и он — бесспорный шедевр. Увидев его, Микеланджело тут же опустился на колени и достал сангину и бумагу. Всякий, кто обучается искусству, часами напролет перерисовывает работы мастеров, копируя их линии; и, хотя Микеланджело уже овладел профессией, ему еще многое предстояло изучить.
Ну а после к нему подошел сам великий мастер. На нем была розовая туника, пурпурного цвета камзол и золотые башмаки на высокой подошве. Темно-русые волосы Леонардо с редкими ниточками седины рассыпались по плечам аккуратными локонами, обрамляя прекрасное лицо с белозубой улыбкой и блестящими золотистыми глазами. Это был самый красивый человек из всех, кого Микеланджело когда-либо встречал.
Но почему-то все пошло наперекосяк. Похоже, сам факт существования Микеланджело привел Леонардо в бешенство…
Микеланджело дошел до старинного квартала Санта-Кроче, получившего название по расположенной в его центре одноименной базилике Санта-Кроче (Святого Креста). Несколько мастеров искусства и красильщиков шерсти держали здесь лавки, но в основном квартал населяли попрошайки и бедный люд, с утра до ночи гнущий спину на тяжелой грязной работе. И все же именно на этих улицах билось живое сердце Флоренции, именно местная публика — работящая, непритязательная и острая на язык — вдыхала в город жизнь. Микеланджело всегда чувствовал себя в этой среде раскованно и непринужденно, лучше, чем среди богатых флорентийцев, всей этой чопорной скучной знати, которую он видел сегодня в студии Леонардо.
Микеланджело вдохнул запахи сырой шерсти и дыма от дровяных печей, и на сердце его стало тяжело. Что, если Леонардо прав? Вдруг он, Микеланджело, и правда никудышный скульптор, способный лепить разве что снеговиков? Ведь Леонардо знал о его Пьете, но отмахнулся от нее как от незначительной, никому не интересной поделки. Хуже того — он жестоко высмеял ее. Как же Микеланджело добиться признания? Изваять скульптуру прекраснее, совершеннее, чем Пьета? Но сумеет ли он? Что, если Пьета и есть вершина его творчества? Что, если в двадцать шесть лет он уже достиг пика своей карьеры? И что, если в действительности он не столь талантлив, как ему всегда представлялось? От этих страшных мыслей его грудь сдавило, словно ободом.
Он свернул на кривую боковую улочку и подошел к отчему дому. При виде до боли знакомого обветшалого фасада с облупившейся зеленой краской Микеланджело почувствовал облегчение. Легким толчком он открыл дверь и проскользнул внутрь. Оказавшись в полутемной передней, он осторожно прикрыл за собой дверь и двинулся в глубь дома по дощатому настилу, перешагнув две половицы, которые вечно скрипели. В доме пахло, как и прежде, свежевыпеченным хлебом, человеческими телами и заплесневевшими занавесками. Он на цыпочках крался по коридору, стараясь держаться поближе к стене в надежде на то, что густая тень скроет его. И снова ощущал себя подростком, который с замирающим сердцем шел отвечать перед отцом за свои дневные проказы, а не взрослым мужчиной, вернувшимся под крышу родного дома после достойно выполненной работы. Приблизившись к кухне, он услышал громкие разговоры родных, собравшихся, как это заведено, на ежевечернюю семейную трапезу. Не иначе, они опять затеяли спор. Микеланджело выглянул из-за угла.
Все члены его семейства выглядели здоровыми и полными сил, о чем свидетельствовали азартно горящие глаза и энергичная жестикуляция. Старший брат, служащий в церкви, пока отсутствовал; не было за столом и самого младшего — тот нанялся в солдаты и теперь воевал против Пизы. Остальные домочадцы — двое братьев, отец, дядя, тетка и бабушка — расположились вокруг стола. Все четыре одиноких года, проведенных в Риме, он мечтал посидеть за столом в этой кухне, в кругу своей родни. Пряный аромат кьянти защекотал его ноздри, когда за столом откупорили следующую бутылку. Он так и стоял бы тут, любуясь мирной сценкой домашней трапезы, однако…
— Микеле! — Буонаррото Буонарроти первым заметил его во мраке коридора. Ему уже исполнилось двадцать три года, он был самым высоким и самым пригожим из братьев, любимчиком Микеланджело. — Meno male, ты снова дома!
Все домочадцы повернулись к нему, когда он переступил порог кухни. А Микеланджело тут же пожалел о том, что не сообразил сначала где-нибудь помыться и почиститься. Хотя он знал, что родные не попрекнут его ни грязной продранной одеждой, ни засаленными волосами — к регулярным омовениям его отец всегда относился с большим подозрением. Наоборот, если бы он горделиво вплыл в кухню, благоухающий духами и разряженный по последней моде южан, домочадцы подняли бы его на смех: мол, что это за самодовольный хлыщ прибыл к ним из Рима, поглядите, как он кичится своим богатством! Ох и досталось бы ему от их острых языков!
Буонаррото выдвинул из-за стола еще один стул и кивком пригласил Микеланджело сесть.
— Ты очень вовремя явился, брат. Джовансимоне ошибается, и я хочу, чтобы ты подтвердил это.
Микеланджело посмотрел на сидящего во главе стола отца. Хотя они не виделись целых четыре года, отец не поднимал глаз от тарелки и пока еще ни разу не взглянул на вернувшегося после долгой отлучки сына. Волос на голове совсем не осталось, дряблая кожа собралась складками вокруг беззубого рта — в свои пятьдесят шесть лет Лодовико выглядел глубоким стариком; он был старше Леонардо лет на пять-шесть, но вполне сошел бы за папашу великого живописца. «Неужели, — размышлял Микеланджело, — и я лет через тридцать буду выглядеть так же?» Лицо отца прорезали глубокие морщины, брови тяжело нависли над глазами. Одежда хранила отпечаток былой элегантности, но от долгой носки вся истрепалась. В прежние времена Буонарроти входили в число самых уважаемых семейств Флоренции, но несколько поколений расточителей, среди которых был и Лодовико, подорвали свое материальное благополучие и положение в обществе. Микеланджело частенько жалел о том, что не родился раньше, когда Буонарроти еще пользовались репутацией могущественного состоятельного клана.
Микеланджело пробирался к своему стулу под приветствия присутствующих: дядя Франческо хлопнул его по спине, а его костлявая супруга, тетка Кассандра, чмокнула в лоб. Он проскользнул на стул и оказался между Буонаррото и их девяностолетней бабушкой моной Алессандрой. Та прошептала:
— Mange, mange.
Пальцы у нее были узловатые и кривые, словно сучья старого дерева, но в светло-карих глазах по-прежнему светились живой ум и энергия.
Микеланджело присоединился к нехитрой трапезе, состоящей из хлеба, молодого творожного сыра и разбавленного вина, одновременно пытаясь понять, о чем так бурно спорили родные. Однако это было сложно — все вопили, перекрикивая друг друга.
В конце концов Джовансимоне забрался на стул, привлекая общее внимание. Он был все таким же тощим — этот проходимец, вечный бездельник и возмутитель спокойствия; впалые щеки отливали желтизной; его старания отрастить приличную бороду — для пущей важности — пока не увенчались успехом. Джовансимоне всегда отличался развязностью и большим самомнением, вот и теперь рисовался перед родными, хотя и стоял на своем стуле смирно.
— Итак, за меня — я сам, отец и дядя, а за тебя, — Джовансимоне ткнул холеным, не знающим труда пальцем в Буонаррото, — ты, тетя да наша Ноннина, — имея в виду мону Алессандру, подытожил он.
— Погоди-ка, за меня еще мона Маргерита, — внес поправку Буонаррото.
— Слуги не в счет. Только семья.
Мона Маргерита, которая с незапамятных времен служила семейству Буонарроти, ужинала стоя, поодаль от стола, возле мойки. Она поймала взгляд Микеланджело и улыбнулась как ни в чем не бывало — кажется, ничто на свете не могло поколебать ее добродушного спокойствия.
— Так что решение за тобой, дорогой братец. — Джовансимоне, слегка покачиваясь от чрезмерных возлияний, буравил Микеланджело темными глазами.
Остальные тоже смотрели на него выжидающе. Он торопливо, не успев как следует прожевать, проглотил кусок хлеба с домашним сыром.
— Но я же не знаю, о чем вы спорите.
— Я или Буонаррото? Кто из нас двоих лучший сын?
— Mio Dio! — с досадой выдохнул Микеланджело.
Буонаррото рассмеялся, и семейная баталия разразилась с новой силой.
— Тогда и вовсе ничего не говори. — Джовансимоне соскочил со стула. — Ты всегда недолюбливал меня. — Он залпом допил свое вино и поднял пустой стакан. — Итак, счет равный. А поскольку я здесь самый младший и самый умный, объявляю победителем себя.
Зазвучал смешанный хор одобрительных и негодующих восклицаний.
— Ну же, Микеланджело, скажи и ты свое веское слово! — шутливо взмолился Буонаррото.
— Постойте, постойте, да помолчите же! — Микеланджело попытался перекричать шум. — Если уж на то пошло, так счет трое против четверых. Даже пятерых, если считать мону Маргериту. И вообще, Джованни, ты прав, Буонаррото я всегда любил больше, чем тебя.
Братья захохотали. Мона Маргерита выложила на блюдо еще один здоровенный ломоть хлеба и вдруг заметила разодранный рукав Микеланджело.
— Что это приключилось с твоей рукой? Смотри-ка, и глаз подбит, ох… дай-ка мне промыть твои раны.
— Нет, нет, я в порядке, onestamente! — заверил Микеланджело, нежно сжимая ее натруженную руку. — Пустяки, на Кассиевой дороге разбойники шалят.
Джовансимоне подался вперед, выставив локти на стол:
— Да неужто? Всего лишь стычка на дороге? Dai, выкладывай, как было дело, негоже таиться от родной семьи.
— О чем ты? — Микеланджело запихнул в рот новую порцию сыра.
— Ах, так ты хочешь, чтобы я сам все рассказал? — Джовансимоне добавил голосу трагических ноток.
Микеланджело перестал жевать.
— О чем это ты толкуешь, Джованни? — включился в разговор дядя Франческо.
Джовансимоне оглядел родичей невинными распахнутыми глазами.
— А я-то думал, что Микеланджело сам поведает родным о том, как его арестовали и продержали всю ночь в тюрьме.
Семейство снова взорвалось криками. Микеланджело с трудом сглотнул. «Как так арестовали? В чем дело? Объяснись наконец!» — раздавались негодующие возгласы. Только отец по-прежнему молчал, уставившись в тарелку, но Микеланджело заметил, что лицо старика побагровело.
— Откуда ты узнал? — с трудом проговорил Микеланджело.
— А я всегда все знаю, caro fratello, — с ехидцей ответил Джовансимоне. Он откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и торжествующе оглядел присутствующих. — У меня, знаешь ли, везде есть друзья.
С раннего детства Джовансимоне любил так развлекаться — сначала наябедничает на братьев, а потом с невинным видом наблюдает за семейным переполохом. Случалось, что под шумок и его собственные далеко не невинные проделки сходили ему с рук.
— Я не потерплю преступника в своем доме, — заскрежетал Лодовико, поднимаясь с места. Это были первые слова, какие услышал Микеланджело от отца после четырехлетней разлуки. — Отправляйся ночевать на улицу, там тебе место.
Лодовико и дядя Франческо схватили Микеланджело под руки и подняли со стула.
— Да постойте же! Я могу объяснить…
Но отец и дядя уже волокли его к двери, чтобы выкинуть вон.
— Это по недоразумению! — От отчаяния Микеланджело захлебывался словами. — Из-за моих связей с Лоренцо!
Услышав имя Медичи, отец и дядя переглянулись. Именно Лоренцо Медичи в свое время спас семью от полного разорения. Он пригласил Микеланджело, тогда еще подростка, жить к себе во дворец и учиться в скульптурном саду Медичи. Лоренцо предложил Лодовико небольшую должность — как плату за то, что тот не будет препятствовать обучению сына. Жаль только, отец упрямо не желал признать того факта, что та спасительная должность досталась ему благодаря сыну, его таланту, и приписывал заслугу одному лишь Медичи.
— Мое имя незапятнанно. — Воспользовавшись их замешательством, Микеланджело вырвал локоть из цепких пальцев Лодовико. — Я чист перед законом и не навлек на наш род ни тени позора.
Битых полчаса Микеланджело пытался вразумить и успокоить взволновавшееся семейство. В конце концов Лодовико смягчился.
— D’accordo. Так и быть, можешь остаться.
У Микеланджело словно гора с плеч свалилась. Если бы в довершение всех несчастий, обрушившихся на его бедную голову, родные изгнали бы его из собственного дома, он едва ли пережил бы это. Пока взбудораженные домочадцы возвращались за стол, он улучил момент и заехал братцу локтем по башке.
— Гаденыш, — процедил Микеланджело еле слышно.
— Во всяком случае, Джованни помогает нам сводить концы с концами, — с упреком заметил дядя Франческо и длинной суповой ложкой почесал спину. — А тебя мы не видим годами.
«Очередной камень в мой огород, — с горечью подумал Микеланджело. — Добро пожаловать в семью».
— Я тоже очень рад видеть всех вас, — проговорил он.
— Ты пропустил похороны матери. — На сей раз упрек прозвучал от отца.
— Мачехи, — мягко поправил его Микеланджело. — Я тогда работал, никак не мог вырваться.
— Ты оставил нас, — добавил Джовансимоне. — Я не такой, я никогда не бросил бы нашего отца.
— Никого я не бросал. Если помните, я уехал в Рим. На работу.
— И сколько же денег ты привез семье? — поинтересовался отец.
Щеки Микеланджело вспыхнули от смущения.
— Нисколько. Несколько сольди. — На самом-то деле у него в кармане лежали шесть лир — почти недельная плата.
— Не многовато ли за труды в самом Риме? — поддел его дядя Франческо.
Микеланджело вздохнул. Ему бы радоваться воссоединению с семьей, а на душе одно лишь разочарование. Он-то мечтал о том, как они побегут к нему по улице, подхватят на руки, станут превозносить его успехи, осыпать похвалами. Он воображал, что домашние встретят его как героя, вернувшегося с победой.
— Раз уж ты дома, пора тебе подумать о женитьбе. Обзавестись детьми. Женитьба принесет благо всей семье, — проговорил Лодовико, а Микеланджело вдруг заметил, как дрожала правая рука отца, когда тот намазывал на хлеб мягкий сыр. Раньше такого не было. Постарел.
— Мои статуи — это мои дети, и жена, и орудие.
— Ты мог бы поступить на службу.
Опять отец за свое! Микеланджело давно был сыт по горло этими увещеваниями. Неужели он обречен выслушивать их до конца жизни?
— Я не хочу быть чиновником и не буду.
— Имея пятерых сыновей, — сварливо проворчал Лодовико, — я принужден все делать по дому сам. Я мою блюда, латаю черепицу на крыше, пеку хлеб…
Микеланджело невольно оглянулся на мону Маргериту — та уже помыла посуду и убрала со стола.
— Твой старший брат посвятил себя служению Господу, а ты, как следующий по старшинству, должен взять на себя обязанность содержать нашу семью… — продолжал Лодовико.
— Так и сделаю.
— …Поступив на хорошую государственную должность.
— Нет, я буду зарабатывать своим искусством.
— …Как достойный отпрыск достойного рода.
— Как скульптор!
Лодовико с грохотом стукнул кулаком по столу.
— Basta! Мне что, снова нужно взяться за розги, чтобы выбить эту дурь из твоей башки? — прорычал он.
Талантами Микеланджело давно интересовались влиятельные семейства Флоренции, начиная с самих Медичи; могущественные и богатые папские кардиналы признали в нем мастера, — но несмотря на это отец по-прежнему считал ваяние занятием низменным. И твердо стоял на своем: ни один отпрыск дворянского рода, пусть даже вконец обедневшего, не должен опускаться до того, чтобы работать руками. Каждый раз, когда Микеланджело упоминал о том, что мечтает стать скульптором, он получал от отца и дяди порцию тумаков. Хорошо хоть он уже вырос, и они не посмеют снова подвергнуть его порке.
— Я всегда был скульптором, им и останусь, — невозмутимо ответил Микеланджело.
— Но все же — как ты найдешь себе работу? — озабоченно спросил Буонаррото. — Во Флоренции теперь живет твой товарищ по цеху, Леонардо да Винчи, и городская знать наперегонки несет заказы ему.
От одного упоминания этого имени у Микеланджело во рту стало противно, как от прогорклого масла.
— Да, Леонардо да Винчи, — уважительно проговорил дядя Франческо. — Хорошо, что теперь в городе есть настоящий мастер, достойный всяческого уважения. По крайней мере, он сам сделал себе имя. К тому же он художник. А уж художники нынче важные птицы и живут припеваючи.
— Но еще сколько-то лет назад они не были в таком почете, их держали за обычных мастеровых — как и каменотесов, — заметил Микеланджело. — Рисование считалось не более чем ремеслом. Именно из-за Леонардо с художниками теперь так носятся, окружают их таким почетом. Неужели вы не понимаете, что я хочу добиться таких же привилегий для скульпторов?
Лодовико перегнулся через стол и сжал руки Микеланджело — жесткие, мозолистые.
— И это руки моего сына — грубые, как у простого поденщика. — Он горестно вздохнул. — Ради меня, ради блага всей нашей семьи отныне и впредь я запрещаю тебе рубить мрамор. Ни одной больше глыбы, ты слышишь? Ты заслуживаешь большего, чем судьба каменотеса, пусть даже знаменитого.
Микеланджело молча выдернул руки из отцовских ладоней.
Остаток вечера прошел за обычными семейными разговорами. Джовансимоне рассказал потешную историю — один бог ведает, много ли в ней было правды, — о том, как поймал и выдворил из города наемника проклятого Пьеро де Медичи. Буонаррото прочел любовное стихотворение Петрарки. Лодовико жаловался на свою подагру, а мона Маргерита не забывала тем временем подливать в стаканы вино.
Микеланджело снова включился в привычную семейную пикировку, перебрасывался шутками с родными, легко поддевал их, остроумно парировал ответные колкости. Дома все оставалось по-прежнему, и это было хорошо. По пути домой он натерпелся бед: пришлось отбиваться от мародеров и прочего отребья, его ограбили, бросили в тюрьму, подвергли пыткам, а в довершение жестоко высмеяли. Ушибленное плечо ныло и отдавалось болью при каждом движении, его самолюбие растоптали, он лишился всех заработанных денег. Да, парада он не дождался, но, по крайней мере, он снова был дома.
На ночь Микеланджело устроился на полу в своей старой спальне; кровать заняли Джовансимоне с Буонаррото, которые никак не могли поделить одеяло. Полная луна светила через занавески, освещая корявые несмелые рисунки на стенах, сделанные им в детстве. Он до сих пор помнит, как изобразил на стене толстощекого младенца Иисуса, который ерзает и извивается в руках матери, норовя вырваться, и как отец после этого в ярости гонялся за ним с розгами по всему дому.
Микеланджело закрыл глаза.
— Отче всемилостивый, я твой смиренный раб…
Молясь Отцу Небесному, он проникался состраданием к отцу земному. Лодовико лишь желал счастья и благополучия своим сыновьям, просто он не понимал, что тяжкий труд в пыли скульптурной мастерской может кому-то доставлять радость. Для него, Лодовико, ваяние до сих пор было ремеслом недостойным, способным лишь бросить тень позора на уважаемое в городе семейство. Но старого, закоснелого в своих взглядах отца, видно, уже никогда не переубедить. И Микеланджело молился Господу о том, чтобы тот помог измениться ему самому. Он просил Всевышнего даровать ему честолюбие, без которого не удастся исполнить наказ отца. Он страстно молил Господа ниспослать ему хоть какую-то государственную должность или место уважаемого банкира.
Но Бог не слышал, не отвечал на его мольбы. Напротив, желание рубить и резать мрамор еще громче заявляло о себе. Если он поддастся зову сердца и посвятит себя скульптуре — сумеет ли он тогда обессмертить имя Буонарроти?
— Микеле? — услышал он шепот Буонаррото. Джовансимоне наконец-то угомонился и мирно засопел. — Знаешь, у меня есть девушка.
Микеланджело улыбнулся. Его младший братишка — неисправимый романтик.
— Fantastico, — прошептал в ответ Микеланджело. — И кто же она?
— Мария. Дочка шерстяника.
— Хорошенькая?
— Bellissima! Ручки у нее пропитались красной краской, как и шерсть, которую она красит, и это цвет нашей любви. А как она поет, mio fratello, божественно, словно ангел. — В темноте спальни Микеланджело не видел лица Буонаррото, но и так знал, насколько серьезен сейчас его взгляд.
— А она любит тебя?
— О да! Она не перестает уговаривать отца, чтобы тот разрешил нам обручиться.
— А ты? Готов ты жениться на ней?
— Ее отец не соглашается, пока я не получу достойной работы. Вообще-то я хотел бы торговать шерстью, но для этого нужно открыть собственную лавку. — Микеланджело сразу понял, в каком трудном положении оказался брат. У их семейства хватало средств на то, чтобы не умереть с голоду, но они никак не могли позволить себе расходов на открытие шерстяной лавки. Похоже, мечтам брата не суждено сбыться. — Хорошо еще, что она очень юна и в ближайшие два-три года ей нет нужды выходить замуж. Так что время у меня есть, — рассудительно заметил Буонаррото.
«Ему не следовало бы так расслабляться», — подумал Микеланджело. Эти два-три года пролетят быстро, не успеешь и оглянуться. Примерно столько времени ушло у него на создание Пьеты, а сейчас кажется, то была краткая остановка на жизненном пути. Брату стоит поторопиться, если он хочет жениться через пару лет.
— Не беспокойся, Буонаррото. Я раздобуду денег на твою шерстяную лавку.
— Ты серьезно, Микеле? Это было бы замечательно. Знаешь, Мария — это все, о чем я мечтаю.
Микеланджело перевернулся на спину. Значит, он во что бы то ни стало должен начать зарабатывать своим искусством. А для этого нужен заказ.
В памяти всплыло искаженное злобной усмешкой лицо Леонардо. Оставшись во Флоренции, Микеланджело будет обречен на соперничество с ним за заказы. Проще всего найти для работы какое-нибудь другое место, где нет сильных конкурентов. Например, податься в Сиену и снова взяться за заказанные кардиналом алтарные статуи. Или молить Господа о чуде — пусть он направит его стопы туда, где деньги посыплются на него, как манна небесная… Но вместо этого Микеланджело попросил у Бога сил на то, чтобы остаться во Флоренции. Он не позволит этому художнику выдворить его из собственного города. Что с того, что Леонардо учился во Флоренции? А разве он, Микеланджело, не учился здесь? Это и его город тоже! Эта улица — его улица. И дом этот — его, Микеланджело, дом. И эта полноликая луна — его луна.
В сознании вспыхнуло яркое, до боли отчетливое видение — камень Дуччо, блестящий и ослепительно-белый. Что он подумал, когда услышал о нем? Что не сможет соперничать за этот мрамор с Леонардо? А почему, собственно? Леонардо — живописец, а не скульптор. Единственное, на что он сподобился в скульптуре, — это конная статуя миланского герцога, так и не отлитая в бронзе, и все знают о том, что эта работа не доведена до конца. С чего это Микеланджело, опытный резчик по мрамору, должен смиренно отступить в сторону и позволить — кому? — этому пачкуну наложить лапу на легендарный мрамор? Он, чего доброго, еще искалечит его, как криворукий Дуччо. Может, Леонардо и выдающийся мастер, но он стареет; его замыслы, его идеи отстали от времени. А Микеланджело молод, полон сил и желания творить. Он только начинает свой путь. И потом, старый чудак слишком низок душой, слишком высокомерен и слишком самовлюблен, чтобы быть достойным этого камня. Леонардо не заслуживает подобного заказа.
Новая молитва родилась на губах Микеланджело.
— Господи, помоги мне остаться здесь, во Флоренции. Мне не нужна никакая почтенная государственная должность. Поддержи меня в желании подать заявку на камень Дуччо! Дай мне сил выстоять против соперников и получить заказ…
Его взгляд был устремлен в окно, мерцающий лунный свет мягко отражался в широко открытых глазах Микеланджело. Он прошептал, обращаясь к небесам:
— Аминь.
Леонардо
Леонардо лежал без сна. Растревоженные чувства бушевали в нем, метались, кидали его из стороны в сторону — так разгулявшаяся морская стихия швыряет жалкую лодчонку. Ах, как ему хотелось вырвать из сознания все эти чувства, разместить их на столе и препарировать, как труп. Тогда, должно быть, он смог бы разобраться в них, разобраться в себе.
Он посмотрел на прикроватный столик. Деревянные часы, вершина искусства германских механиков, показывали два часа утра. Он осторожно высвободил руку из-под спящего Салаи, выбрался из кровати и на цыпочках перешел в соседнюю комнату, стараясь не задеть скрипучую дверь. В холодном лунном свете угадывались остатки вчерашнего празднества: пустые винные бутылки, грязные следы башмаков на полу, кем-то забытый шейный платок, небрежно брошенный на стул. Все это бередило душу, напоминало о бесславном провале. Чертов старый сверчок-нотариус, чертовы братья-сервиты и этот неизвестно откуда взявшийся молокосос, самозваный скульптор, которого он так беспощадно высмеял, — вот бы забыть все это, вырвать из памяти.
Леонардо сел за стол, достал деревянную коробочку для сигар и откинул крышку. Там лежал коричневый трупик летучей мыши. Он бережно вынул его из импровизированного саркофага и перенес на специальный металлический поднос. В другое время он зажег бы свечи, как всегда делает, занимаясь изысканиями, но сейчас не хотел будить Салаи. Кроме того, темнота заставит его больше полагаться на остальные органы восприятия. От мертвого тельца исходил явственный запах разложения, но почему-то к нему примешивался свежий травяной дух. Он бережно распрямил крылышки, и костяной остов тихонько затрещал. Удивительно, насколько податливы и эластичны кожные летательные перепонки — не ломаются, хоть сгибай их, хоть скручивай. Леонардо мысленно соотносил вес тельца с плотностью перепончатых крыльев, размышляя о том, что если уж это странное создание способно к активному полету, то человек тоже мог бы летать.
Из спальни донесся скрип.
Он откинулся, чтобы посмотреть на дверь, и кресло всхлипнуло под его весом. Леонардо бесшумно вытянул ногу и носком тихонько поддел дверцу стоящего возле стола узкого восьмигранного короба. Дверца открылась. Все стенки короба были зеркальными. Эту хитроумную штуковину Леонардо смастерил специально для Салаи, чтобы тот, войдя внутрь и затворив дверцу, мог рассматривать себя со всех сторон. Этот модник буквально переселялся в зеркальное нутро шкафа, когда обзаводился очередным нарядом. Леонардо подтолкнул ногой дверцу, и она заняла такое положение, при котором он мог видеть отражение спальни. Там, в темноте, проснувшийся Салаи шарил рукой в ящике прикроватного столика.
— Джакомо, — тихо окликнул его Леонардо.
Салаи тихонько опустил в карман монеты, которые только что стащил.
— Я решил, что ты пошел прогуляться.
— Ты просил, чтобы я обучал тебя. — Леонардо пинком закрыл дверцу зеркального короба. На проделку Салаи он не сердился, ведь и сам был когда-то бедным молодым человеком, которому не хватало денег даже на новую пару чулок. — Иди сюда. Садись. Будешь учиться.
Салаи пересек кабинет и склонился над остовом летучей мыши.
— Но я хочу быть живописцем, а не анатомом.
— Тот, кто одержим искусством, но пренебрегает наукой, подобен капитану корабля, выходящему в море без компаса. Он обречен двигаться вслепую. — Леонардо зажег свечу и водрузил на нос очки. — В дни моей молодости многие церкви дозволяли врачам и художникам изучать мертвые тела. Я тогда собственными руками взрезал сотни трупов. Но времена поменялись… — В последние годы он обходил церковь за церковью, упрашивая святых отцов допустить его в мертвецкую, но везде встречал отказ. Настоятели двух церквей пригрозили отдать его под арест, а третий даже вознамерился изгнать из него дьявола. — Сегодня нам приходится довольствоваться лягушками, птичками да летучими мышами. — Леонардо срезал скальпелем кусочек перепонки с изгиба крыла, поднес к свече и стал разглядывать через увеличительное стекло.
Салаи отошел от стола и взял в углу роскошный бархатный плащ — подарок, полученный Леонардо от самого герцога Моро в качестве благодарности, — Леонардо тогда исполнял роль распорядителя торжеств и увеселений по случаю герцогского бракосочетания.
— Если уж вы, мастер, желаете посвятить эту ночь работе, займитесь лучше росписью для алтаря…
Не слушая Салаи, Леонардо торопливо записывал что-то в блокноте. В такие минуты новые идеи молниями вспыхивали в его мозгу, и он, не в состоянии ждать, пока высохнут чернила, царапал пером по бумаге справа налево, чтобы не размазать написанное.
— Как бы ревностно ни охраняла природа свои тайны, в конце концов она раскроет их пытливому ученику.
Салаи завернулся в плащ Моро, покрутился в нем перед зеркальным коробом.
— Кстати, я слышал, как, уходя, монахи обсуждали ваше «Поклонение волхвов».
Леонардо вновь поднес скальпель к кожаной перепонке крыла. Он был не расположен думать о братьях-монахах. Только не сегодня.
— Помнишь, я советовал тебе изучить каждый штрих на картинах Мазаччо, каждый отдельный мазок кисти, чтобы ты получил представление о том, как они складываются в единое целое? Так и в анатомии. Каждая жилка, каждая мышца и каждый волосок соединительной ткани незаменимы, ибо выполняют свою отдельную функцию…
— Они говорили о том, что уже двадцать лет прошло, а «Поклонение» все еще не завершено. Один, толстый такой, ворчал: мол, Леонардо нарочно сбежал тогда из Флоренции в Милан, дабы не заканчивать картину. Особенно он упирал на тот факт, что ее тоже заказал монастырь и тоже для украшения алтаря. Он утверждал, что вы никогда не доводите до конца работы, заказанные церковью. — Салаи стянул ворот плаща у шеи. — И что вы вообще не веруете в Бога.
— Кстати, есть у этих зверушек одна любопытная особенность, ты должен оценить. — Леонардо снял очки — они требовались ему только для разглядывания мелких деталей, а людей он лучше видел без очков. — Да будет тебе известно, природа не установила для летучих мышей каких-либо строгих правил в отношении спаривания. Они спариваются со всеми сородичами подряд: самка с самкой, самец с самцом, самец с самкой — с любым, кто оказался рядом. Представляешь?
Салаи, рывком отодвинув соседний стул, сел рядом с Леонардо.
— Не подумайте, господин, будто я призываю вас вернуться к тому давнему заказу, к «Поклонению». Я говорю лишь о том, что нынешнюю алтарную роспись нужно непременно завершить. Выполнить заказ этих монахов. Доведете дело до финала — положите конец сплетням о том, что вы вечно бросаете свои работы на полпути.
— И ведь животные так же наделены душой, как и мы, люди, — с чувством произнес Леонардо и взял руки Салаи в свои. Какие они нежные и гладкие! И все же в них ощущается настоящая мужская сила. Вот совершенная гармония молодости и зрелости. Когда Леонардо был в возрасте Салаи, никто не брал его вот так ласково за руки, не открывал ему тайны мироздания. — Животные способны испытывать радость. И боль. И притом острее и глубже людей, ибо они ближе к природе и потому более искренни, правдивы в своих проявлениях. Нам должно изучать их. Жить в гармонии с ними. Отказаться от потребления мяса. Это созвучно природе и позволит прожить дольше. Скажи, ты же хочешь прожить долгую жизнь?
— Я хочу иметь крышу над головой. А если вы не угодите этим братцам в их унылых сутанах… — Салаи выдернул свои руки из ладоней господина. — И кстати, не пора ли вам сделать несколько набросков для статуи из камня Дуччо? От этого хотя бы будет польза.
Леонардо снова надел очки.
— Знаешь, я убежден, что летательный аппарат летучей мыши являет нам наилучший образец, модель устройства, с которым когда-нибудь сможет летать и человек. Видишь, каким надежным соединительным материалом для костей служат эти перепонки на крыльях? Изумительное, выдающееся инженерное творение природы.
— А камень Дуччо — изумительный, выдающийся заказ.
Пренебрежительным жестом Леонардо отмахнулся от Салаи.
— Содерини уже пообещал его мне. Возьми-ка вот это. — Он вложил в руку Салаи увеличительное стекло.
— Но Содерини не занимает никакого официального поста в городском правительстве.
— А Камень и не принадлежит городу, чтобы тот им мог распоряжаться. Он собственность Собора. И не стоит думать, будто без связей с власть имущими человек бессилен. Содерини сдержит свое слово. — Он слегка поправил лупу в руке Салаи. — Наклони под этим углом — будет лучше видно.
— Если этот заказ — дело решенное, зачем тогда они созывают собрание, на котором планируют определить победителя?
— Если, например, сделать в ноге человека глубокий надрез, не обязательно, что он умрет от этого. А уж если в руке, то ему и ходить ничего не помешает. Зато если проделать нечто подобное с головой или с сердцем, человек умрет почти мгновенно. Интересно, у летучих мышей тоже так?
— Откуда мне знать?
— Секрет умения летать, возможно, не связан с крылом и его строением. — Леонардо нацелил скальпель на бездыханное тельце.
Наученный Салаи сам наклонил лупу под нужным углом.
— Тот молодой скульптор, помните? Готов поспорить, что он-то доводит свои произведения до конца…
От ехидного мелодичного голоска Салаи в груди Леонардо снова разразилась утихшая было буря, внутренности будто стянуло тяжелым узлом.
— Почему бы тебе не вернуться в постель? Я тоже лягу, но попозже.
Салаи откинулся на спинку стула, держа в руках лупу. Леонардо близоруко склонился над подносом и надрезал скальпелем впалую грудную клетку распластанного зверька. Скальпель легко прошел через слой шерсти, кожу и кости.
— И знаете ли, господин, есть в нем что-то такое, в этом Микеланджело.
— Все, Салаи, с войнами и битвами покончено. Я сдаюсь. — Он раздвинул скальпелем крошечные внутренние органы. Кто знает, вдруг сейчас, достаточно углубившись, он увидит летательный центр? Он откроет секрет полетов и наконец вознесет человека в небеса.
— В нем живет страсть, так я вам скажу.
Временами Леонардо задавал себе вопрос: действительно ли Салаи находит его привлекательным или просто видит в нем эдакого любящего папашу, который балует сыночка, накупает ему горы модных тряпок и позволяет безнаказанно таскать монеты из его сундуков? Возможно, он предпочел бы этого крепкого молодого каменотеса, от которого разит потом и грязью?
— Когда-нибудь он добьется многого. Очень многого.
Леонардо вскинул голову, чтобы кивком отослать несносного мальчишку в постель, но натолкнулся взглядом на увеличительное стекло, через которое на него взирал гигантский карий глаз Салаи. Вот уж правда — дьяволенок.
— Тот молодой человек давно уже позабыт, — с деланым равнодушием проговорил Леонардо, а сам с такой силой ткнул скальпелем в тушку, что тот уперся в металл подноса. — И я больше не желаю слышать о нем ни слова.
Микеланджело
Август
Главный инспектор Управления по строительным работам при Соборе Джузеппе Вителли, приземистый крепыш с широким лицом, объявил, что конкурс на камень Дуччо назначен на понедельник 16 августа. Большинство горожан не придали значения этой новости — ведь всякий во Флоренции знал, что мрамор уже отдан Леонардо.
Микеланджело же все оставшиеся до конкурса дни работал над замыслом статуи, достойной стать частью исторического наследия Флоренции. Он штудировал историю скульптурного искусства вплоть до древнеримских времен, неустанно полировал свои инструменты, делал бесчисленные зарисовки мужчин на улицах города. Стопки зарисовок росли с каждым днем. Изгибы линий, едва приходя ему на ум, тут же слетали с его пальцев на бумагу, словно он писал музыку. К концу лета его руки, ни на день не расстававшиеся с сангиной, уже не отмывались от красных пятен.
Чем усерднее он трудился над своим замыслом, тем сильнее кипел раздражением и желчью его отец.
— Дьявол! — Лодовико хватал попадавшиеся под руку зарисовки, безжалостно комкал их и швырял в огонь. — Я позову священника, чтобы он изгнал из тебя дьявола!
В конце концов Микеланджело стал на ночь прятать рисунки под подушку.
В день конкурса Микеланджело проснулся рано. Он глянул в расположенное высоко окно — день обещал быть теплым и солнечным. Небеса сияли чистейшей лазурью, легкий ветерок задувал в комнату, ласково теребя тяжелые занавески. Погожее начало дня Микеланджело счел за доброе предзнаменование.
Братья уже вышли в кухню и приступили к завтраку, поэтому в спальне он был один. Он опустился на колени, вытащил из-под соломенной лежанки рисунки и отобрал из них три, на его взгляд, лучших — чтобы представить их на суд суровой конкурсной комиссии. Бережно, чтобы не помялись, он сложил листы в видавшую виды кожаную суму, где уже с вечера лежали до блеска надраенные инструменты. Затем запустил руку за стопку одежды в шкафу и достал оттуда свой тайный припас: кувшин с водой, мягкую фланелевую салфетку и кусок душистого генуэзского мыла.
Сердце гулко, словно колокол, билось в груди. Вдруг его застукают? Ведь всего неделя прошла с того момента, как он мылся… Вообще-то Микеланджело, как и его отец, считал, что мыться полагается не чаще раза в месяц: обтирания холодной водой делают человека восприимчивым к недугам, а смывать с тела Богом посланную грязь — вообще святотатство. Но сегодня Микеланджело осмелился нарушить правило. Он не сомневался: Леонардо явится на конкурс безукоризненно причесанным и разодетым в пух и прах, расточая вокруг себя аромат фиалок. А Микеланджело не желал ему уступать ни в чем, ни в единой малости. Он решительно окунул тряпицу в воду и принялся яростно тереть себя с ног до головы, не забывая и о волосах.
После омовения он насухо вытерся и надел новую черную тунику. Ее тайно сшила для него бабушка — из отреза льняного полотна, который он купил на те жалкие сольди, что у него оставались. Он просто не мог снова явиться перед людьми и этим гордецом Леонардо в жалких обносках, тем самым вызвав очередной град насмешек. Микеланджело оглядел себя в щербатом потемневшем зеркале и остался доволен своим видом. Нос, правда, кривой, а лоб слишком широкий, так что красавцем его не назовешь, зато вьющиеся черные волосы аккуратно причесаны, а новая туника очень ему идет. Даже потрепанная кожаная сума — и та смотрится вполне достойно. Он выглядел чистым, свежим и нарядным, как и подобало благовоспитанному господину. В общем, был полностью готов к встрече с Леонардо.
По городу поплыл звон церковных колоколов. Отлично, у него есть еще четверть часа на то, чтобы дойти до Собора. Уйма времени. Надеясь выскользнуть из дома незамеченным, Микеланджело прокрался к двери и тихонько толкнул ее. Дверь не открылась. Он навалился на нее плечом. Дверь не поддалась. Он разбежался и попробовал сломить препятствие всем телом — дверь затрещала, но осталась на месте.
— Ma che cazzo? — ничего не понимая, выругался Микеланджело. Внутри у него закипал гнев.
— Зря стараешься, — раздался из-за двери резкий голос отца. — Тебе все равно не выбраться. Мы полдома оставили без мебели, всю сюда стащили, чтобы завалить выход.
У Микеланджело похолодело в животе. Он не может оставаться взаперти. Только не сегодня!
— Откройте! — заорал он исступленно.
Из-за двери не доносилось ни звука. Микеланджело представил себе, как Лодовико разлегся там на куче мебельного хлама с выражением мрачной решимости на лице — таким же, какое он видел у императорского профиля на золотой монете.
— Если я не приду на конкурс, мне не видать заказа.
— А я тебе говорил! Я не допущу, чтобы мой сын трудился жалким каменщиком.
Несколько минут Микеланджело пинал запертую дверь ногами, но Лодовико было ничем не пронять. В отчаянии Микеланджело повалился на пол. В глазах его закипели злые слезы. Вожделенный камень Дуччо отдалялся от него. Несносный Леонардо возьмет заказ без боя. А этот гордый мрамор достоин лучшего!
Микеланджело встал и внимательно оглядел спальню в поисках иного выхода. Его единственная возможность выбраться отсюда — маленькое оконце, расположенное почти под потолком. Он подтащил к стене кровать и забрался на нее, чтобы получше рассмотреть окно. Деревянные ставни он снимет без труда, но оконный проем слишком узок для его широких плеч. И даже если он исхитрится пролезть в него, то окажется на высоте второго этажа.
— Папа! Пожалуйста, выпустите меня, — попробовал он в последний раз уломать отца.
— Нет!
Микеланджело зло фыркнул, решительно достал из сумы молоток и долото, упер заточенный рабочий конец долота в край рамы и ударил молотком сверху. Ошметки замазки и камня полетели в стороны. Грохот его нисколько не смущал — отец и так очень скоро сообразит, что он тут затеял. Человеку без сноровки потребовалось бы не меньше часа, чтобы прорубить толстенную каменную стену. Микеланджело же справился с задачей всего за пару дюжин крепких ударов. Он вынул окно целиком вместе с рамой и выбил еще пару камней по краю проема. Лаз стал шире.
Часы на Санта-Кроче пробили дважды. Конкурс должен был вот-вот начаться. Микеланджело уже опаздывал. Он высунулся в окно и посмотрел вниз. Два этажа — не шутка. Если зацепиться руками и повиснуть на подоконнике, ему, возможно, удастся дотянуться до бельевой веревки, она поможет замедлить падение. Земля внизу влажная и жирная, она смягчит удар. Правда, он испачкает свой новый чистый наряд…
— Он выбирается, — завопил из нижнего окна Джовансимоне.
Отец за дверью разразился проклятиями, что-то громыхнуло и упало — должно быть, он торопился разобрать мебельный завал, чтобы зайти в спальню. Весь дом наполнился беготней и криками. Ах, так значит, его караулила вся семейка. А время шло. «Грязь не грязь, а выбирать не приходится», — решил Микеланджело и подтянулся к окну.
Он спустил ноги и повис, вцепившись пальцами в подоконник. До веревки было никак не дотянуться — ветер относил ее в сторону. Микеланджело посмотрел вниз: казалось, там разверзлась бездна — будто он вздумал прыгнуть с купола Дуомо.
Старуха из дома напротив, которая изготовилась выкинуть в окно мусор, замерла, уставившись на него.
— Микеле! — Лодовико с криком ворвался в спальню и охнул, увидев, что сын висит на окне. — Per favore, дай я помогу тебе.
Увидев отца, который потянулся, чтобы схватить его за руку, Микеланджело разжал пальцы. Падая, он смотрел вверх, на искаженное отчаянием лицо Лодовико, который кричал:
— Не-е-е-т!
Микеланджело не мог понять, расстроен отец его падением или злится оттого, что сын выскользнул из ловушки.
Он согнул ноги в коленях, чтобы смягчить удар и погасить скорость падения, но все равно кубарем покатился по жирной земле. Хорошо, хоть не слышно было треска костей.
— Держи его! — завопил Джовансимоне, стремглав вылетая из дома.
Микеланджело вскочил на ноги и помчался по улице. Семья с воплями преследовала его. Ну уж нет! Годы тяжелой работы с камнем закалили его, он куда сильнее и выносливее братьев и потому легко оторвался от них. Он повернул за угол, потом еще и еще, ветер свистел в ушах, а он мчался к Собору. У него не было ни секунды на то, чтобы остановиться и почистить одежду, однако быстрый взгляд в нутро сумы принес облегчение — слава богу, рисунки не испачканы! Оставалось уповать на то, что они произведут должное впечатление и господа из комиссии не обратят внимание на его жалкий вид. Если только он не опоздал.
Леонардо
Будь он суеверен, то непременно решил бы, что сама прелесть этого августовского утра предвещала ему невиданный успех с заказом на камень Дуччо: в ярко-синих небесах приветливо сияло солнце, словно сам Господь Бог лукаво подмигивал ему, ласковое умиротворяющее тепло было разлито в воздухе, обещая погожий денек без изнурительной жары. Если бы он верил в предзнаменования, то увидел бы добрый знак и в том, что судьба снова вела его во двор соборной мастерской — туда, где он начинал свой путь к славе. Тридцать пять лет назад, еще будучи учеником знаменитого Верроккио, он помогал поднимать на купол Дуомо позолоченный шар, на который потом установили крест. Теперь на этом же месте его карьера подходила к апогею. Доверяй он символам, то и веселая стайка воробьев, играющих в воздухе над головой, убедила бы его в том, что заказ на камень Дуччо поможет ему добиться великой цели, к которой он давно стремится, — научить человека летать, как птицы.
Но Леонардо не верил ни в предзнаменования, ни в знаки судьбы. Верил он лишь тому, что видели его глаза и ощущали его пальцы. Этим утром он видел лишь яркую лазурь неба и ощущал тепло сияющего солнца. День выдался на славу, и пройдет он ровно так, как Леонардо запланировал.
Одетый в свою лучшую атласную тунику глубокого пурпурного цвета, чулки в шашечку и изящные зеленые туфли, он выступал перед почтенным собранием. Собратья-художники, купцы, старшины цехов, попечители Собора, священники, члены городского совета и представители строительной Управы собрались сегодня во дворе мастерской, чтобы стать свидетелями того, как выдающийся мастер получит выдающийся заказ.
— А сейчас, синьоры, вам будет явлен небольшой намек на те чудеса, которые я берусь сотворить с вашим камнем Дуччо. Ecco! Прошу!
Леонардо эффектным жестом сдернул покрывало с некоего подобия подиума, специально устроенного во дворе, и зрители увидели две дюжины мольбертов со множеством цветных набросков и эскизов будущего чуда: вставший на дыбы крылатый дракон, изрыгающий пламя, свирепый и яростный, вот-вот вонзит когтистые передние лапы в невидимого врага. Рядом с подиумом в картинной позе стоял Салаи, служивший живым воплощением причудливого замысла Леонардо, — в сверкающем серебряными чешуйками костюме и искусно изготовленной пламенно-алой маске, изображающей голову дракона.
Невиданное зрелище породило в толпе зрителей возбужденный гул.
— Дракон? — словно не веря глазам, переспросил Джузеппе Вителли и с удивлением посмотрел на других членов жюри.
— Дракон! Конечно, дракон! — Пьеро Содерини, светясь торжеством, уже пожимал руку Леонардо, будто скрепляя заключенную сделку. Содерини — популярный харизматичный политик, известный своими популистскими взглядами, — умел расположить к себе людей и понимал, как угодить вкусам простого народа. Во Флоренции каждый издалека узнавал эту стремительно лысеющую голову, крючковатый нос, глаза-бусинки и почти безгубый рот. Согласно нынешним установлениям, члены Синьории (правительства) и ее глава, гонфалоньер справедливости (или правосудия), избирались каждые три месяца. То есть каждые 90 дней власть во Флорентийской республике переходила в новые руки. Однако сейчас, в разгар войн, вторжения французских войск и угроз со стороны Чезаре Борджиа и Пьеро де Медичи, во Флоренции всерьез подумывали о том, чтобы избрать пожизненного гонфалоньера, дабы укрепить государство. И Содерини считался первым претендентом на этот пост.
Это под давлением влиятельного Содерини Джузеппе Вителли и подчиненная ему Управа уже негласно присудили Леонардо победу в конкурсе. Тому оставалось лишь официально представить свой замысел жюри, и заказ на знаменитый блок мрамора будет у него в кармане. Более того, Управа согласилась — конечно, при поддержке города и цеха шерстяников — установить Леонардо весьма щедрую плату за труды, выделить ему роскошные апартаменты и покрывать все его расходы, в том числе на содержание многочисленных помощников. Маэстро даже не придется собственноручно рубить мрамор; Леонардо должен был лишь разработать проект, а потом проследить, чтобы армия помощников, призванная выполнять всю грязную и тяжелую работу, в точности следовала его указаниям. Средства выделили с расчетом на то, что на создание шедевра уйдет два года, хотя, безусловно, процесс мог растянуться и на все пять. Сам Леонардо и вовсе планировал трудиться над камнем Дуччо лет десять — это могло бы обеспечить его существование до конца жизни. При такой великодушной финансовой поддержке флорентийских властей он посвятил бы оставшиеся ему годы изучению математики, биологии, философии, анатомии, оптики, географии и, конечно, главной своей мечте — изобретению способа, позволяющего человеку летать.
— Это не просто дракон, — сказал Леонардо, становясь за спину Салаи. — А дракон, который умеет двигаться. — Салаи начал вращать руками, ногами и головой, словно сам был сделан из тяжелого неподатливого камня. — И еще он огнедышащий. — Леонардо коснулся запястья вытянутой вперед руки, и из его рукава вырвалось пламя, как будто это Салаи в образе дракона изверг его из пасти. Зрители пришли в восторг. Леонардо как ни в чем не бывало разогнал рукой клубы красно-желтого дыма.
— Объявляются официальные итоги конкурса, — провозгласил Содерини.
Джузеппе Вителли судорожно дернул головой, на его лице читалось явное раздражение.
— Объявление должен делать я, Содерини, — заявил он. — Конкурс мой, мне и объявлять итоги.
— Ну так и объявляй, что ты медлишь?
Содерини редко позволял себе выходить из образа обаятельного человека и публично демонстрировать недовольство, но, похоже, главе Управы удалось вывести его из равновесия.
— Итак, синьоры, пришло время подвести итоги конкурса, — объявил Вителли.
— Подождите! — послышался чей-то голос.
Головы присутствующих как по команде обернулись на звук.
— Кого там еще несет? — удивился про себя Леонардо.
— Не начинайте без меня! Я здесь, я тоже участвую!
Какой-то малый неуклюже перевалился через изгородь и, спотыкаясь, помчался к собравшимся. Зеваки разбегались с его пути.
Леонардо сразу же признал незваного гостя, с ног до головы покрытого грязью. Как же, как же, это снова тот выскочка-скульптор, Микеланджело Буонарроти, который в один памятный вечер так же без приглашения ворвался в его студию. А он-то надеялся на то, что после прилюдного позора малый исчезнет из города, отправится в какую-нибудь глушь зализывать раны. Сейчас этот странный тип выглядел так, словно выпал из повозки и его тащили за ней по грязной дороге. Однако должны же быть какие-то приличия. Можно сколько угодно пренебрегать личной гигиеной, но нарочно изваляться в грязи и в таком виде явиться перед публикой — это, право, уже слишком.
Навстречу другу вышел Граначчи. Он повел незадачливого грязнулю через толпу, и до Леонардо донесся его шепот:
— Я и не думал, что ты собираешься участвовать.
— Я здесь, — задыхаясь, объявил Микеланджело почтенному жюри.
— Здесь для чего? — вкрадчиво поинтересовался Содерини, поморщившись. Даже он, опытный лицедей, не сумел сохранить хладнокровие при виде этого неряхи.
— Участвовать в конкурсе на камень.
— Какой такой камень? — требовательно спросил Джузеппе Вителли.
— Камень Дуччо!
— Какие еще почтенные собрания ты намереваешься прервать своим вторжением, Буонарроти? — елейным голосом осведомился Леонардо, перехватив взгляд Салаи. — Будь добр, поделись своими планами, чтобы в следующий раз я смог подготовиться.
— Мой дорогой Микеланджело, — начал Пьеро Содерини с приторно-ласковой улыбкой, которая придавала ему вид одновременно фальшивый и искренний, — видишь ли, все достойные мастера искусств Флоренции благородно снялись с конкурса в знак почтения перед маэстро Леонардо…
И правда, самые именитые художники города стояли здесь, в первых рядах. Леонардо отметил про себя, что все они были по меньшей мере лет на двадцать старше Микеланджело. Блестящему Андреа делла Роббиа, прославившемуся своей знаменитой бело-голубой терракотой, было шестьдесят пять. Известный скульптор и архитектор Джулиано да Сангалло и двое выдающихся живописцев, Сандро Боттичелли и Пьетро Перуджино, давно разменяли пятый десяток. Даже Давид Гирландайо — и тот приближался к полувековому рубежу. Все они, включая и его, Леонардо, имели превосходство над Микеланджело не только в возрасте, но и в творческом опыте.
— Это правда, сын мой, — заговорил Боттичелли. Его голос звучал как оркестр, в музыке которого гармонично сочетались и прожитые годы, и накопленный опыт. — Все мы уже отказались от камня в пользу Леонардо.
— И тебе не помешало бы последовать их примеру, — заметил Содерини.
— Но ни один из присутствующих здесь достойных мастеров не работает по мрамору. А я работаю. — Для пущего эффекта Микеланджело схватился за свою потертую суму, и та отозвалась звоном инструментов.
— Леонардо — истинный мастер во всех видах искусства, мой мальчик, — поправил его Содерини.
Леонардо и Салаи обменялись ухмылками. Зачем маэстро утруждаться и самому защищать себя? Этим с готовностью займутся другие.
— Вот. — Микеланджело вынул из сумы несколько листов бумаги. — Я сделал кое-какие наброски…
Джузеппе Вителли протянул руку к рисункам Микеланджело, но Леонардо ловко перехватил их.
Он взглянул на верхний лист, и острое чувство пронзило его грудь. Леонардо резко втянул носом воздух. Он увидел не беспомощные любительские каракули, а работу зрелого рисовальщика: великолепно проработанная, словно живая, мужская фигура, одетая в развевающиеся ткани и львиную шкуру, буквально дышала, мускулы почти зримо подрагивали от напряжения. Леонардо посмотрел два других наброска. Динамичная композиция в точности передавала усилия напряженных от движения мышц, повороты и изгибы тел. Тени были обозначены скупыми, но удивительно точными штрихами. И у каждого лица — свое выражение: рвущиеся наружу чувства страха, отчаянной веры, показной удали. Всего лишь сангиной, одной сангиной Микеланджело сумел запечатлеть на бумаге саму жизнь.
Боковым зрением Леонардо оглядел Микеланджело с ног до головы. Измазанное лицо, пропитанная грязью и потом одежда, однако нелепо-жалким этот юнец уже не выглядел.
— Это будет Геракл, — пояснил Микеланджело. — Символ мощи, который заявит миру о том, что Флоренция унаследовала культуру и могущество Древнего Рима.
— Мы рады, сын мой, что среди нас есть такой вдохновенный мастер. — Пьеро Содерини не удостоил эскизы Микеланджело даже беглым взглядом. — Но неужели ты хотя бы на миг поверил в то, что в состоянии соперничать с самим маэстро Леонардо? У тебя и мастерской-то своей нет.
— И это означает, что Микеланджело сможет работать за малую плату, — ловко ввернул аргумент Граначчи.
— Насколько малую? — с внезапной заинтересованностью спросил Джузеппе Вителли.
— Уверен, — решил вступить в дискуссию Леонардо, — что ради горстки сольди вы не поставите весь мой опыт владения кистью против еще не признанного юного таланта.
Микеланджело приосанился и на глазах сделался выше ростом. Леонардо тут же пожалел о том, что упомянул талант конкурента.
— Граначчи прав. — Микеланджело передал свои рисунки Джузеппе Вителли. — Вам действительно не придется платить за мою мастерскую. Она мне не нужна.
— И где же ты собираешься ваять свою статую? Что, прямо здесь? — Леонардо широким жестом обвел огромный рабочий двор Собора.
Микеланджело кивнул.
— Люблю работать под открытым небом. К тому же я живу в семье, так что жилье мне тоже не понадобится.
А вот это уже не шутки. Леонардо ощутил, как напряглись его плечи. Этот безвестный скульптор налетел на него, как ястреб, и пытается украсть у него будущее…
— Я сам изготовляю себе инструменты, так что и за них вам платить не придется, — со всей серьезностью продолжил Микеланджело. — Как не придется оплачивать дополнительный мрамор или помощников…
— Non chi credo! — вознегодовал Леонардо. — У мальчишки кишка тонка изваять из колоссального блока хоть что-то даже с двадцатью помощниками, а он собирается взяться за это в одиночестве!
— И все же, маэстро Леонардо, — обратился к нему Вителли, внимательно разглядывая рисунки Микеланджело. — Не соблаговолите ли понизить плату ввиду конкуренции с молодым человеком?
— Ни за что! — Леонардо решительно вздернул подбородок. — Лучше смерть, чем потеря свободы.
— Я могу обходиться всего несколькими флоринами в месяц, — привел очередной довод Микеланджело.
— И получит город за такие гроши поделку, которая большего и не стоит, — не без ехидства заметил Леонардо.
Но шпилька не достигла цели. Микеланджело продолжал:
— Я единственный среди присутствующих, кто уже работал с цельным блоком мрамора. В семнадцать лет я изваял колосса — Геркулеса, правда, он был ниже того, о котором идет речь сейчас. Однако и та статуя была вот такой высоты. — Он поднял руку над головой. — И еще я сделал Вакха — там, в Риме, он тоже больше рослого мужчины. Из всех художников Флоренции лишь я один способен изваять еще одного мраморного колосса.
Леонардо с недоверием воззрился на него:
— Не подводит ли меня слух? Ты сказал «колосса»? И утверждаешь, что сумеешь изваять его целиком из камня Дуччо? Без каких-либо добавок мрамора? — Рисунки у мальчишки действительно талантливые, но мозги-то явно набекрень.
— Безусловно! — В решительном тоне Микеланджело не было и намека на насмешку.
— Смелое заявление, молодой человек, — снова вступил в беседу Джузеппе Вителли. Леонардо, к своему неудовольствию, отметил в его голосе нотки восхищения.
— И какой же высоты, вы предполагаете, будет этот так называемый колосс? — поинтересовался Леонардо, краем глаза наблюдая за лицом Джузеппе.
Микеланджело в ответ пожал плечами:
— Такой же, как сам блок.
В толпе удивленно зашептались.
— А что? Какой он высоты, камень Дуччо? — спросил Микеланджело.
— Девять braccia, — охотно сообщил Леонардо.
Микеланджело поднял голову, словно старался представить себе, сколько это будет. Значит, колонна Дуччо (так еще называли этот блок) втрое превышала рост среднего мужчины. Микеланджело задумчиво кивнул:
— Да. Так будет в самый раз.
Зрители ахнули.
Леонардо нахмурил красивые брови. Еще ни один скульптор со времен древней Римской империи не ваял статуи такого гигантского размера из цельного куска мрамора. Даже замахнуться на это великое дело — и то немногие решатся. А у этого юнца безрассудства хоть отбавляй, как у осла, который рвется на манеж, чтобы сразиться со стаей голодных львов.
— Скажи, Буонарроти, которая из этих глыб — камень Дуччо? — Леонардо обвел рукой двор мастерской.
Микеланджело осмотрелся и пожал плечами.
— Хочешь сказать, что никогда его в глаза не видел? — настаивал Леонардо.
— Нет, — насупившись, признался Микеланджело.
— Ну что ж. — На губах Леонардо расцвела непритворная улыбка. Сколько он повидал их на своем веку — этих юных дарований, самонадеянных и малообразованных, гордо заявляющих миру о своих дерзких планах, а потом исчезающих неведомо куда, так и не сотворив ничего путного. Этот из их числа. — Тогда окажи мне честь, мой юный друг, и позволь представить тебе легендарный мрамор.
Микеланджело
Леонардо сделал приглашающий жест, и Микеланджело последовал за ним, внимательно оглядывая мраморные глыбы и обломки, в беспорядке разбросанные по обширному двору соборной мастерской. Он искал гигантский блок, сверкающий девственной белизной и источающий волшебное сияние, но ничто не походило на тот камень Дуччо, какой он столько раз рисовал в своих мечтах. Леонардо отступил в сторону и ткнул пальцем в землю. Но Микеланджело увидел там лишь груду булыжников.
Тогда Леонардо присел и положил руку на длинный и узкий, бурый от грязи камень, заросший травой и лежащий в луже.
— Знакомься, мой юный друг, это камень Дуччо.
Сердце Микеланджело пропустило удар, потом еще один и еще. На вид покалеченный блок был слишком вытянутым и узким, чтобы из него могла получиться человеческая фигура, почти посередине в нем зияла здоровенная выбоина, на другой грани виднелась безобразная зазубрина. Поверхность камня, десятилетиями подвергавшаяся воздействию солнца и дождей, стала тусклой и безжизненной. Погодные явления плохо влияют на мрамор, делают его хрупким и ломким, и этот несчастный блок, скорее всего, рассыплется, едва Микеланджело прикоснется к нему резцом, что уж говорить о молотке. У свежего мрамора поверхность белая и податливая, он живой, он дышит, распевает гимны и говорит с резчиком. Микеланджело опустился на колени и потрогал глыбу рукой в надежде уловить хоть какое-то биение жизни, но не почувствовал ничего.
Снизу вверх Микеланджело посмотрел на других мастеров, подошедших ближе. Те мрачно закивали, всем видом показывая, что дело безнадежное. Теперь было понятно, почему они столь охотно отошли в сторону, — они уверились в том, что ничего ценного из этого подпорченного камня не сделаешь, и, чтобы самим не садиться в лужу, передали эту сомнительную честь великому Леонардо.
— А что вы собираетесь сделать из этого камня? — спросил Микеланджело.
— Собираюсь докупить еще мрамора, — ответил Леонардо с холодной расчетливостью, способной довести до бешенства кого угодно. — Новый кусок для головы, еще сколько-то для передних лап и, конечно, большой блок для задних. Это единственно возможное решение.
Теперь только Микеланджело заметил эскизы на мольбертах и странную фигуру в сверкающем чешуйками костюме и с уродливой маской на голове. Фигура делала механические движения руками, тяжело переступала ногами. Какой-то балаган, представление придворного шута, а не заявка на участие в творческом конкурсе!
— Маэстро намерен изваять дракона, — пояснил Содерини. — Несомненно, это будет зрелище куда более впечатляющее, чем еще одна статуя еще одного человека.
Микеланджело, вскочив на ноги, заговорил страстно и убежденно:
— Ничто и никто не превзойдет человека. Мы, люди, есть величайшее творение Господа. Воздавая славу человеку, мы славим самого нашего Создателя…
По лицу Джузеппе пробежала тень беспокойства. Он с сомнением выгнул бровь.
— Погодите-ка. В римской мифологии Геракл был полубогом, ведь так? Языческий герой…
— Да. Язычник. И это никак не подходит для церкви. — Содерини многозначительно поднял палец. — К тому же дракон Леонардо будет двигаться, как живой, и дышать пламенем.
Микеланджело нахмурил лоб:
— Двигаться, вы говорите? Да еще и дышать огнем? Это невозможно.
— Для тебя, вероятно, невозможно. Но не для меня. — Леонардо указал на свои эскизы. — Я уже разработал механическое приспособление, которое позволит моему дракону двигаться в течение сотен лет. За основу я взял механизм наподобие часового.
Микеланджело замотал головой:
— При чем тут механика?! Мрамор — вот что не выдержит постоянного движения. Он слишком мягок, непрочен. Он развалится на куски.
— В любом случае этот мрамор, — Леонардо указал на камень Дуччо, — уже и так пришел в негодность за те годы, что над ним трудилась непогода. Да и бесталанные руки попортили его не меньше.
— С этим не поспоришь, — согласился Микеланджело.
— Единственный выход — добавить хорошего свежего мрамора. А твоя затея изваять колосса из одного этого блока — может, и похвальная, но пустая. Ничего у тебя не выйдет, это невозможно.
— Для вас, вероятно, невозможно. Но не для меня. — Микеланджело вернул Леонардо его же слова.
— Слишком высоко ты метишь, мой мальчик, — высокомерно процедил маэстро.
Микеланджело подумал, прежде чем ответить.
— Полагаю, большая опасность для многих из нас состоит не в том, чтобы потерпеть неудачу, поставив слишком высокую цель, а в том, чтобы добиться успеха, поставив цель слишком низко.
— Я уже сказал, что дело это безнадежное, — заключил Леонардо и поднялся, отряхивая подол своей великолепной туники. — Впрочем, ты и сам это понял, судя по выражению твоего лица.
Это было правдой. Вид камня глубоко разочаровал Микеланджело. И все же… Пусть камень испорчен и безобразен на вид — разве он не заслуживает хотя бы шанса проявить себя?
— Что бы ни родилось в воображении любого величайшего мастера, оно уже заключено в каком-нибудь куске мрамора, — убежденно заявил Микеланджело. Он снова опустился на колени и положил ладонь на грязный бок камня Дуччо. — Мрамор сам подскажет мне, кто живет в нем. А мне останется только убрать лишнее, освободить это существо от каменных оков, а потом остановиться. — Микеланджело закрыл глаза и надавил пальцами на мелкозернистую поверхность. — Случалось ли вам когда-нибудь любить, мастер Леонардо?
— Полагаю, кое-что о любви мне известно, — ершисто ответил тот.
— А разве мы, мастера, не подобны влюбленным? — Микеланджело снова провел пальцами по грубой мраморной коже. — Сначала робки, полны сомнений, ибо нам еще неведомо, что скрывается за внешней оболочкой, но чем больше времени мы проводим с объектом наших желаний, тем глубже понимаем его. Мы замечаем его изъяны, но вместе с тем и возможности, которые в нем таятся. А потом меж нами возникают узы, и наши сердца начинают биться в унисон, мы разговариваем словно одними устами — так созвучны наши голоса. Через любовь мы ведем диалог с собственными душами. — Микеланджело открыл глаза и вгляделся в грязно-серую поверхность колонны Дуччо. — Любовь не поддается планированию, верно? Она родится не из доводов рассудка, не из слов или рифм. Просто в какое-то мгновение мы вдруг ощущаем ее внутри себя — тихим звоном в голове, трепетом в шее, покалываниями в кончиках пальцев. Мы не знаем, почему, каким образом она вдруг поселилась в нас, но она там, внутри, — благодаря нам или даже назло нам. Мы не можем постичь, что она такое — любовь, но в этом самом незнании и ощущаем всю ее.
— Чувства, не контролируемые разумом, ведут к хаосу, — презрительно усмехнулся Леонардо.
— Хаос рождает красоту. В этом сила искусства. — Микеланджело упер взгляд в золотистые глаза Леонардо и мысленно поклялся себе, что не отвернется, даже если черти в Дантовой преисподней начнут поджаривать ему пятки.
Леонардо отвел взгляд первым.
Джузеппе Вителли жестом подозвал членов Управы и Синьории, а также старшин цеха шерстяников, чтобы посовещаться, и спросил:
— Изваял ли Леонардо самостоятельно хоть одну мраморную скульптуру?
— Люди говорят, что если кому требуется исполнить дело в срок и за определенные деньги, то ему не стоит обращаться к Мастеру из Винчи, — заметил один из членов городского совета.
— Постойте, постойте! — запротестовал Пьеро Содерини. — В это тревожное время, когда нас со всех сторон окружают опасности, когда Чезаре Борджиа с папским войском точит на нас зубы и вот-вот вторгнется к нам — говорят, он уже идет на Сиену, да сохранит ее Господь! — а Пьеро де Медичи плетет против нас один заговор за другим, вы хотите поручить какому-то безвестному мастеру, юному и неопытному, создать символ, призванный вдохновить всю Флоренцию на борьбу?
— Я могу сделать эту работу, — заявил Микеланджело со всей убедительностью, на какую только был способен. — Знаю, что могу.
Леонардо презрительно хмыкнул — достаточно громко, чтобы его услышали.
— По крайней мере, у этого малого есть сердце, — высказался кто-то.
— Одиночная статуя-колосс будет смотреться величественно, — подхватил другой.
— А Леонардо утверждает, что это невозможно. Что, если этот юноша провалит заказ?
У Микеланджело перехватило дыхание: вот он, момент, в который все решится.
— Ну так значит, этот провал обойдется нам не слишком дорого, — рассудительно заметил Джузеппе Вителли. — Итак, кто за то, чтобы передать заказ Леонардо да Винчи?
Содерини единственный поднял руку.
— А тебе, Содерини, права голоса никто не давал, — сварливо выговорил ему Вителли. — Кто за то, чтобы передать заказ Буонарроти?
Члены Синьории и Управы, все как один, подняли руки, их примеру последовали старшины цеха шерстяников.
Микеланджело замер, боясь дышать.
— Микеланджело Буонарроти, камень Дуччо твой, — торжественно объявил Джузеппе Вителли. Он подошел к скульптору и энергично потряс его руку. — Наш Дуомо рассчитывает получить великолепную статую для украшения своего фасада.
И в следующий миг в ушах Микеланджело будто зашумело море. Не скрывая восторга, люди спешили поздравить счастливчика, пожать ему руку, ободряюще хлопнуть по спине: «Congratulazioni! Buona fortuna!» А Микеланджело казалось, что он заключен в стеклянную бутылку с плотно притертой пробкой; ласковые морские волны накатывали на него со всех сторон, и откуда-то издалека, словно через преграду стекла и воды, до него доносился хор голосов. Все произошло настолько стремительно, что у него перехватило дыхание.
Граначчи заключил его в крепкие объятия.
— Splendente! Ты добился своего.
Подошли его поздравить и прославленные мастера Флоренции: Андреа делла Роббиа, Пьетро Перуджино, Джулиано да Сангалло и даже Давид Гирландайо, брат учителя Микеланджело Доменико Гирландайо, упокой Господи его душу. Давид всегда завидовал способностям Микеланджело, а сейчас так сердечно поздравлял его, будто неизменно во всем поддерживал своего соперника.
Боттичелли бережно взял лицо Микеланджело в сухие морщинистые ладони.
— Благослови тебя Господи, сын мой, — сказал старик, вглядываясь в глаза Микеланджело, словно стараясь влить в душу молодого мастера свои знания и великую творческую силу.
Когда живописец отошел, Микеланджело повернулся поприветствовать очередного поклонника, но вдруг оказался лицом к лицу с Мастером из Винчи. Лицо Леонардо было непроницаемым, но глаза полыхали холодным огнем. Микеланджело хотел отвесить маэстро учтивый поклон, но, словно окаменев, не мог пошевелиться. Даже дышать у него получалось с трудом.
— Буонарроти, — медленно и раздельно произнес Леонардо. — Послушай напоследок басню. Осел прилег вздремнуть на замерзшем пруду, но тепло его тела растопило лед, и осел проснулся в ледяной купели. — Леонардо с презрением оглядел молодого скульптора, перебегая взглядом со все еще измазанного пылью лица Микеланджело на его покрытые грязью башмаки и обратно. — Смотри, как бы и тебе по неосмотрительности не пришлось растопить лед, на который ты сейчас взошел, ибо эта никудышная глыба, уж поверь моему слову, погребет под собой и твою карьеру, и твое имя. Навеки. — Леонардо резко развернулся и величественно выплыл из двора, а его ряженый помощник с грудой эскизов в руках поспешил за ним.
Все новые и новые поздравители подходили к Микеланджело, а он вдруг ощутил, как в душе начало разливаться непрошеное чувство, готовое вот-вот вытеснить радость и гордость, только что переполнявшие его. Это был страх. Безудержный, почти животный. Прав Леонардо. Да, теперь он — повелитель камня Дуччо, и эта мертвая, молчаливая глыба отныне будет висеть на его шее…
Он опустил руку на камень и погладил его, словно страдающую израненную лошадь.
— Ты же со мной, правда? Вместе мы справимся, — нежно прошептал он.
Микеланджело прислушался в надежде на ответ. Но мрамор молчал.
Леонардо
Осень
Блуждая по рынку на площади Меркато, Леонардо обошел стороной мясоторговца, который слишком рьяно зазывал покупателей, потрясая нашпигованной свиной головой. Проходя вдоль следующего ряда, он подумал, что не туда забрел в поисках человеческого черепа. Вряд ли подобными диковинами торговали на рынке. Наверное, лучше выкопать на кладбище какого-нибудь покойника. Хотя священники кладбищенской церкви не позволят ему тревожить кости.
Попади ему в руки хоть один труп, пригодный для препарирования, пусть даже самый завалящий, он обязательно придумал бы, как можно вписать человеческую фигуру в этот проклятый блок…
— Basta, — велел себе Леонардо, — выбрось из головы мысли о камне Дуччо. Все равно он тебе не принадлежит.
Куда же запропастилась лавка того аптекаря? Ему, как на грех, срочно понадобились глина и кобальт, чтобы смешать краски. Эти монахи наседают на него и требуют, чтобы он скорее приступал к алтарной росписи. Леонардо с трудом продирался через рыночную толпу, обходя зазывно кричащих торговцев и вечно всем недовольных придирчивых и сварливых домохозяек, ощущая неповторимое смешение ароматов: благоухания сладких апельсинов, терпкого запаха свежевыделанной кожи и острого — конского навоза… Обычно путь на рынке ему прокладывал Салаи, но сегодня Леонардо оставил мальчишку в студии. Пусть сидит дома — от греха подальше. Дьяволенок то стащит что-нибудь с прилавка, то ловко выудит монеты из его собственного кармана, а расплачиваться за эти наглые проделки всегда вынужден он, Леонардо. Одни проблемы с ним, а без него и подавно.
— Проблемы были бы у меня, выиграй я конкурс на тот изгаженный кусок мрамора… Что за пытка все время думать о нем… Basta!
Бродя вдоль рыночных рядов в поисках пигментов и черепа, Леонардо не уставал поражаться тому, как заметно оживилась торговля со времен его юношества. В те поры на рынке было пустовато — несколько кожевников, редкие торговцы шелком, один мясник, один бондарь, один чулочник… И торговля шла тихо, как-то пасторально-благостно. В последние же годы дух предпринимательства заразил буквально каждого в этом городе. Все во Флоренции словно с ума посходили, стар и млад ринулись в коммерцию, желая завести собственные прилавки, лавки, мастерские. Люди лихорадочно продавали, покупали и разговаривали лишь о торговле. Леонардо наблюдал за этим новым веянием, размышлял о его истоках и, кажется, уже вывел на сей счет свою теорию. Чуть более полувека тому назад Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, и это был царский подарок миру. До того книга была редкостью и стоила очень дорого. Благодаря изобретению Гутенберга книги стали доступны большему количеству людей, и грамотность начала распространяться повсюду. Революционные идеи независимости и свободы теперь уверенно проникали из высших слоев общества в низшие, вплоть до ночующих на улице последних бедняков. Народ в массе своей все еще был неграмотен, однако знания распространялись легче, чем в прошлые времена, люди впитывали их и утверждались в мысли о том, что способны сами распоряжаться своей жизнью, своей судьбой. И одно из следствий этого процесса — повсеместное развитие торговли и коммерции.
Леонардо всецело одобрял самостоятельность и независимость, однако перемены в обществе вызывали у него тревогу. Он не доверял обучению по книгам. Сам он, когда хотел понять, как искривленное стекло преломляет свет, не обращался к книгам, а вооружался этим самым стеклом и своими глазами наблюдал за его возможностями. Желая сварить мыло, он не лез в книгу за рецептом, а экспериментировал сам с самостоятельно подобранными ингредиентами. И если он захочет выяснить, что кроется в темном зеве пещеры, то без колебаний опустится на карачки и поползет внутрь. При нынешнем обилии книг люди больше склонны полагаться на чужие умозаключения, чем учиться на собственном опыте и накапливать свои знания. Это приводит к постоянному круговороту старых идей, мешающему формированию новых мыслей. Имея дома большие библиотеки, люди разучатся запоминать факты, ведь они будут знать: чтобы восстановить их в памяти, достаточно пролистать нужную книгу.
Его личный опыт красноречиво свидетельствовал об этом. К своим открытиям он всегда приходил единственным путем — сопоставляя, противопоставляя и комбинируя разрозненные фрагменты знаний, уже хранящихся в его голове. Прекрати он запасать и раскладывать в уме по полочкам новые сведения — и ему уже не удастся обнаружить неожиданных связей между ними, способных натолкнуть на новые поразительные открытия. Уникальные идеи рождаются в уникальном разуме, обогащенном уникальными знаниями. А книга хотя и является удобным хранилищем знаний, не обладает дарованной человеку способностью размышлять и изобретать. Если книги и дальше будут широко распространяться, мир рискует получить толпу недалеких торгашей, продающих друг другу бессмысленные товары и не способных изобрести что-то новое и впечатляющее. Поразительная насмешка судьбы! Такое исключительное, выдающееся изобретение, как печатный станок, вполне может остановить прогресс.
Раздался пронзительный гогот. Выведенный из своих невеселых размышлений Леонардо посмотрел вниз и обнаружил, что случайно наступил на хвост гусю, привязанному за лапку к стойке прилавка. Птица сердито хлопала крыльями и шипела, норовя ущипнуть его за ногу. Леонардо наклонился к ней и увидел, что ее правое крыло было неестественно вывернуто и вряд ли могло выполнять свои функции. Как плохо! По мнению Леонардо, хуже неумения летать могло быть только одно — неспособность взмыть в небеса, если ты уже когда-то познал это счастье. Он нежно погладил шею гуся, чтобы успокоить его, потом поднял голову и оглядел прилавок. В одной корзинке сидели несколько перепелок, в другой ворковали сизые голуби, чуть дальше сгрудились дятлы. В маленькой клетушке теснились и возбужденно гомонили штук семь белых горлинок. Странно. Эти птахи, известные своим кротким нравом, сейчас выглядели разъяренными фуриями, хлопали крыльями и злобно били клювами по прутьям решетки, а торговец, приземистый краснорожий толстяк самого неприятного вида, колотил по клетке палкой и осыпал бедных птичек проклятиями.
— Не слушайте вы этого грубияна, друзья мои, — прошептал Леонардо горлинкам, наклонившись. — Человек наделен великим даром говорить, однако слова его, увы, обычно тщеславны и ложны. Речь животных, напротив, скудна, но, если они что-то и говорят на своем языке, это всегда ценно и искренне. — Леонардо не сводил взгляда с круглых розовых глаз горлинок. Он не упускал ни одного шанса понаблюдать за птицами в полете, а эта стайка, кажется, находилась в удачном настроении: птицы были возбуждены и обозлены неволей, их переполняла энергия жизни.
Заметив, что торговец поглощен расшумевшимся гусем — он азартно пинал того ногами, заставляя замолчать, — Леонардо быстро откинул крючок на дверце клетки и открыл ее. Но горлинки почему-то не торопились улетать.
Тогда он легонько стукнул по клетке локтем. Прутья задребезжали. Птицы пронзительно закричали и в следующий миг начали покидать свою тюрьму, выстреливая в небо белыми снарядами. А Леонардо, пристроившись у прилавка, принялся быстро зарисовывать их в альбоме.
— Держи вора! — Заметивший пропажу птицелов оставил гуся и заорал на весь рынок.
— Не стоит так волноваться, я заплачу тебе за твоих птиц. — Леонардо примирительно улыбнулся. Такой фокус он уже неоднократно проделывал на дюжине рынков по всей Италии. Торговцы всякий раз осыпали его бранью за то, что он лишил их с трудом добытого товара, а зеваки хихикали, разглядывая странного чудака, попусту тратящего свои деньги. Но пока клиент платит, он прав.
Леонардо полез в кошель, чтобы достать несколько сольди. Однако пальцы уперлись в дно, не нащупав ни одной монеты.
— Что же ты? Давай мне мои деньги! — зло зашипел птицелов. Леонардо снова пошарил в кошеле, но тот был безнадежно пуст.
Все ясно. Салаи. Негодник умудрился стащить деньги еще до того, как Леонардо отправился на рынок.
— Чтоб тебя, проклятый ворюга! — Торговец грубо схватил Леонардо за левое запястье и вытащил из-за пояса тесак. — Ты отнял у меня моих птиц, а я отниму у тебя твою руку.
— Погоди, у меня есть деньги. — Леонардо старался говорить спокойно, не позволяя прорваться наружу зарождающейся внутри панике. Он шарил по карманам в поисках завалявшегося флорина, но и они были пусты. — Позволь я схожу в студию, тут недалеко, и принесу тебе денег столько, сколько ты скажешь. — Пока Леонардо тщетно пытался разжать железную хватку птицелова, из-за соседних прилавков вышли и окружили его кузнец, свечник, лесник и фермер. Они тоже не любили воров: отпустишь одного такого, и глядишь — в следующий раз обнесут твой прилавок. Кузнец вцепился в плечо Леонардо, фермер обхватил его за шею. Леонардо был сильным, но не настолько, чтобы справиться с пятью разозленными мужчинами.
— Да отстаньте! Пустите меня! Я Леонардо да Винчи!
— Плевать я хотел на то, как тебя звать и из какого ты Винчи. Я никому не позволю средь бела дня красть моих птиц, и тебе это тоже с рук не сойдет.
Торговцы, дружно навалившись на Леонардо, заставили его согнуться и, вывернув ему левую руку, распластали его на прилавке.
— Но я добрый, — глумливо ощерился птицелов. — Я отсеку тебе не правую, а левую руку.
— Но я левша!
— А это уж, дружок, не моя печаль. Дело решенное, я отрублю прегрешившую руку, пусть больше не вводит тебя в соблазн, не посягает на чужое добро. — Птицелов сплюнул и поднял оружие над головой.
— Постойте! Деньги этого человека у меня! — Звонкий женский голос взлетел над разноголосым гомоном рынка.
Леонардо, уже зажмурившийся от ужаса, приоткрыл глаза.
Тесак замер в воздухе.
— Ну что там еще? — проревел торговец.
Фермер придерживал Леонардо за шею, однако тому удалось извернуться и посмотреть, что происходит. Как раз в этот момент из толпы любопытствующих вышла женщина лет двадцати.
Леонардо прежде не встречал ее. Она была одета в длинное платье из струящегося кремового шелка; золотое шитье украшало корсаж и манжеты, отливающие металлическим блеском ленточки-тесемки накидки трепетали и переливались за спиной, будто сложенные крылья. «Безусловно, хорошенькая, но до ослепительной красавицы ей далеко», — заключил Леонардо. Фигура и полные груди — как у всякой познавшей материнство замужней матроны. Лицо формой напоминало сердечко: нежно округлые скулы плавно переходили в слегка заостренный подбородок. Длинные вьющиеся каштановые волосы, гладкая оливковая кожа, кофейного цвета глаза — в общем, типичная итальянка. Правда, в отличие от большинства благовоспитанных дам, она имела прямой и решительный взгляд и при разговоре с мужчинами безо всякого стеснения смотрела собеседнику в глаза.
— Полагаю, здесь более чем достаточно, чтобы восполнить потерю ваших птиц, — заявила она, небрежно бросив на прилавок торговца несколько золотых монет.
— Мадонна! — Молодая женщина явно была знакома торговцу: его красная рожа расплылась в снисходительной улыбке, и стало видно, что вместо передних зубов у него торчала пара пожелтевших огрызков. — Вы, как я погляжу, здесь одна, без супруга? Я безмерно ценю ваше благородное желание расстаться с его деньгами, чтобы помочь этой заблудшей душе, однако вор все равно остается вором. Я никак не могу отпустить его, не забрав его руки. Долг обязывает меня быть справедливым.
— Деньги не мои и не моего мужа. Они принадлежат этому господину, — ответила женщина надменным, исполненным достоинства тоном, хотя Леонардо не находил в ее облике ничего, что указывало бы на ее благородное происхождение; она явно была всего лишь супругой торговца. — Он передал их мне на сохранение, а у меня не было возможности вернуть их ему. Он вовсе не виноват в том, что оказался без денег и не смог расплатиться с вами. Виновата в этом я одна. — Закатав рукав, она обнажила руку до локтя и положила ее на прилавок рядом с рукой Леонардо. — Если вам так уж хочется непременно оттяпать кому-нибудь руку, рубите эту. — Незнакомка твердо выдержала злобный пристальный взгляд торговца. Никогда еще Леонардо не видел, чтобы женщина простого происхождения так свободно, смело и властно разговаривала с мужчиной. Даже Изабелла д’Эсте не осмелилась бы на подобное, не имей она поддержки в виде толстых крепостных стен, покорного ее слову войска и титула правительницы.
Один из державших Леонардо торговцев ослабил хватку и в смущении ретировался за свой прилавок. Толпа начала расходиться. Отрубать руку женщине — дело совсем уж недостойное.
Птицелов спрятал тесак за пояс и жадно сгреб с прилавка золотые монеты.
Незнакомка схватила Леонардо за локоть и потянула прочь:
— Andiamo, давайте поскорее уйдем отсюда!
Петляя, они стали пробираться между прилавками, минуя кипы разложенных ковров, груды глиняной посуды, шеренги цветов в горшках и винных бутылок. Наконец они выбрались с рынка и оказались на краю залитой солнцем площади.
— Ступайте. Убирайтесь отсюда, да поскорее, — велела ему спасительница и повернулась, чтобы уйти.
— Погодите, — окликнул ее Леонардо. — Что побудило вас выручить меня?
Она посмотрела на него:
— А что побудило вас выпустить тех птичек?
— Скажите хотя бы ваше имя, чтобы я мог возместить вам деньги, которые вы потратили… — Леонардо с интересом вглядывался в ее лицо: ее оливковая кожа излучала таинственное сияние, в ее карих глазах отражался весь мир. — Муравей подобрал зернышко пшеницы, — заговорил художник торопливо, едва не проглатывая слова, в отчаянной надежде отсрочить ее уход. — А зернышко молвило: «Если ты подождешь и дашь мне сделать мое дело, я пущу корешок и вознагражу тебя тысячами таких же зернышек, как я». Кроха муравей послушался зернышка, и то сдержало свое обещание. Пожалуйста, позвольте и мне стать вашим зернышком. Вы спасли мою руку. Разрешите отплатить вам.
Женщина покачала головой.
— Если не деньгами, то хотя бы моим трудом. Я могу написать вас, я живописец…
— Я знаю, кто вы. Лучше научитесь летать, Мастер из Винчи. Это и будет мне хорошей наградой. — Она подобрала подол платья и поспешила назад на рынок.
Пораженный, Леонардо смотрел ей вслед. Он всегда считал, что его мечта о полетах — великая тайна, в которую посвящены только он сам, Салаи и несколько близких ему людей, в числе которых были Изабелла д’Эсте и король Франции. Может, эта молодая женщина — вражеский шпион, следящий за каждым его шагом, ищущий его слабые места для того, чтобы потом воспользоваться ими во вред Флоренции? Или она провидица и читает в душах и сердцах людей, как в открытой книге? А вдруг это ангел-хранитель, посланный ему Богом, призванный оберегать его и вселять в него мужество, дабы он не боялся следовать за своими мечтами?
Лишь одно Леонардо знал наверняка: он должен был снова увидеть ее.
Микеланджело
Все дни, прошедшие с конкурса, Микеланджело трудился в мастерской, вместе с соборными рабочими поднимая лежащий на боку камень Дуччо. Только усилиями двенадцати человек и при помощи трех толстенных бревен удалось оторвать от земли почти вросшую в нее громоздкую глыбу и установить ее на узкую торцевую часть, как колонну. Внушительный выступ на одной из граней явно свидетельствовал о неудачной попытке Дуччо высечь край летящего одеяния, теперь же из-за него блок кренился и не хотел стоять ровно. Микеланджело соорудил из досок леса, которые могли удержать его в вертикальном положении и по которым он сам при надобности мог бы взобраться наверх.
Убедившись, что колонна устойчиво закреплена, Микеланджело приступил к изучению материала. Он тщательно промерил высоту, ширину и глубину блока, рассмотрел все выемки, бугорки и сколы, обезобразившие мрамор за полвека. Невольно он сравнивал его со стволом старого дерева, которое нещадно потрепали бури и непогоды, иссекли дожди и высушили злые лучи солнца. Одинокий тощий ствол без единой ветки, и только многочисленные выемки и узлы напоминали о когда-то бурлившей в нем жизни. Микеланджело надеялся на чудо — на то, что замысел, мощный и прекрасный, молнией вспыхнет у него в мозгу, могучая фигура гиганта сама впишется в контуры изуродованного тусклого камня. Но чем дальше он изучал камень Дуччо, тем больше трудных задач вставало перед ним. Стройная и тонкая фигура, способная уложиться в габариты, скорее всего, получится слишком статичной для того, чтобы стать украшением Дуомо. Фигура же в динамичной позе, которая могла бы претендовать на звание истинного шедевра, наверняка не войдет по ширине.
Он сделал тысячи зарисовок — и с платных натурщиков, на которых истратил последние сольди, и с незнакомцев на улицах Флоренции, и с образов, подсказанных ему воображением. Иногда он вырисовывал целую фигуру, но чаще — отдельные фрагменты: руку, ногу, голову, торс, ступни. Но чувствовал, что все это не то, и безжалостно сжигал наброски в железном котле, который позаимствовал на кухне отцовского дома. Он скармливал огню лист за листом, не желая оставлять свидетельств своего внутреннего раздора и мучительных исканий. Пусть будущие поколения думают, что замысел величественного колосса вспыхнул в его воображении целиком, пришел к нему в результате озарения, свойственного гениям. О, если бы он только мог испытать озарение…
А пока он, как одержимый, делал наброски и сжигал их, снова рисовал и снова сжигал. День за днем, неделя за неделей проходили в борьбе, замысел не хотел складываться, как ни воевал он с бумагой, с сангиной, с камнем и с самим собой. И все это — под пристальным вниманием публики. Во дворе мастерской каждый день было полно народа: строители и мастеровые из Управы производили текущий ремонт Дуомо, подновляли, подкрашивали и чистили фасад, заменяли выпавшие изразцовые плитки, потрескавшиеся фрагменты мраморной облицовки, устраняли прочие неполадки. Они трудились без остановки, своевременно восполняя урон, который наносили Дуомо непредсказуемая погода и неумолимое время. Обычно Микеланджело нравилась суета и гомон кипящей работы, но сейчас он ругал себя за то, что не выговорил себе под мастерскую уединенное место. Флорентийцы повадились ходить в этот двор, как в цирк или театр. Каждый божий день они являлись сюда, прихватив из дома огромные ломти хлеба из грубой ржаной муки и fiaschi, оплетенные соломой бутыли кьянти, и со всеми удобствами располагались поодаль, чтобы поглазеть на то, как Микеланджело работает, и поспорить о том, справится ли он. Они уже прозвали будущую статую Il Gigante — как за колоссальные размеры камня, так и за преподносимые им колоссальные трудности.
Семейство Микеланджело с презрением относилось к подобным публичным действам, которым он поневоле давал пищу. Ах, как жестоко он обманулся насчет своих родных! Он-то надеялся на то, что они будут гордиться его достижением — все-таки город заказал ему статую для украшения Дуомо. Однако отец совсем замкнулся и, если Микеланджело случалось успеть домой к обеду, едва смотрел в его сторону. Даже брат Буонаррото, всегда поддерживавший Микеланджело, сильно переменился, без конца умолял его отказаться от заказа и жаловался на то, что не видать ему женитьбы. «Дочь шерстяника Мария, поющая ангельским голоском, ни за что не пойдет замуж за человека, чей старший брат спятил», — ныл Буонаррото. Джовансимоне, верный себе, проклинал Микеланджело за то, что тот позорит родовое имя.
— Клянусь, я уничтожу тебя и твой несчастный камень, пока ты не уничтожил всех нас, — визжал Джовансимоне, и физиономия его багровела от ярости. Микеланджело уже заметил: братец взялся за старое и снова шпионил за ним.
Но сильнее, чем недовольство и презрение родных, Микеланджело раздражали флорентийские мастера искусств. Они что ни день лезли к нему с непрошеными советами.
— Попробуй-ка развернуть фигуру, так лучше будет, — кричал ему Боттичелли, ухватившись за деревянную изгородь двора.
— Нет, давай левее, — возражал пристроившийся рядом Пьетро Перуджино.
— Переверни ее вверх ногами; один черт — никакой разницы, — подавал голос Джулиано да Сангалло.
— И уже начни наконец рубить этот мрамор, — подначивал Давид Гирландайо.
Присоединился к высокому собранию и Леонардо.
— Ты, кажется, похвалялся своей искушенностью в скульптуре, — елейным тоном говорил он, и драгоценный перстень на его пальце невыносимо брызгал искрами. — Мы уже заждались того момента, когда чудеса начнут стекать с кончиков твоих пальцев, словно святая вода при таинстве крещения.
Издевки Леонардо прожигали огнем. Даже после того, как маэстро уходил домой спать, в душе Микеланджело еще долго лавой клокотала ярость.
Наступила осень. Дни становились холоднее, в воздухе запахло дымом, смолой и дождем. А Микеланджело все топтался на месте, все еще делал зарисовки, в тысячный раз рассматривал и промерял камень, часами гладил и ощупывал все шероховатости его зернистой поверхности. Он забыл о себе, почти ничего не ел, домой добирался лишь к ночи, заваливался без сил на полу, спал несколько часов прямо у двери, возле очага, а рано утром, прихватив остатки черствого хлеба, снова уходил, пока родичи не проснулись и не принялись опять попрекать его. Все силы души, всю страсть, на какую способно было его сердце, он изливал на камень, но тот по-прежнему молчал.
Никогда еще ему не попадался такой немой мрамор. Каждый камень, из которого он ваял, которого касался своим резцом, всегда говорил с ним. Некоторые шептали, другие орали и даже брыкались, но у всех было что сказать ему. Свое первое произведение из мрамора — барельеф с изображением Мадонны, сидящей с младенцем Иисусом у лестницы, ведущей в небеса, — он изваял в пятнадцать лет, но даже тот жалкий кусок мрамора тихонько бормотал. А великолепный мрамор, которому суждено было превратиться под его руками в Пьету, подавал голос беспрестанно — все те часы, что он над ним трудился. Камень Дуччо, однако, не желал говорить с ним. Он же не мог ничего изваять из мрамора, пока не слышал его голоса.
Микеланджело одолевали горькие мысли. В далеком будущем паломники придут посмотреть на его Пьету и с удивлением прочтут диковинное имя, высеченное на ленте, пересекающей грудь Мадонны.
— Кто он, этот мастер, которого хватило всего на одну скульптуру? — будут спрашивать они. История не сохранит его имени, оно изгладится из памяти людской, бесследно исчезнет, словно песчинка в водном потоке.
— Синьор Микеланджело?
Он вздрогнул, рука с сангиной дернулась, оставив на рисунке непрошеную закорючку.
— Я работаю, — сквозь зубы процедил он какому-то молодцу, который склонился к нему.
— Я гонец от соборной Управы, — в доказательство своего официального положения парень показал печать.
Микеланджело скомкал испорченный рисунок и бросил в огонь.
— И что они хотят?
— Вас просят сейчас же явиться в Собор.
По шее Микеланджело побежали противные мурашки. Мысли одна страшнее другой замелькали в голове. Что они собираются сделать с ним? Наложить на него штраф за то, что работа не двигается? Но у него нет ни гроша. Он никогда не выплатит штраф. А вдруг его бросят в Барджелло и снова подвергнут пыткам, как тогда? Или приговорят к сожжению на кресте за измену?
— Мне надо зайти домой. — Он встал и подобрал с земли свою кожаную суму. — Переодеться там, привести себя в порядок.
Если удастся выбраться со двора, у него появится шанс сбежать. Он может вернуться в Рим, перебраться на время в Сиену или затаиться где-нибудь за городом и переждать, пока уляжется шум, пока город не забудет о его существовании и об этом немом мраморе…
— Мне велено немедленно привести вас.
Микеланджело думал: не задать ли ему стрекача? Он наверняка сможет убежать от этого тщедушного малого. Правда, в случае побега Управа обрушит свой гнев на его семью и заставит родных платить за его прегрешения. Нет, он должен сам предстать перед ними и выслушать обвинения. Он бросил в огонь все зарисовки, сделанные сегодня, и покорно пошел за посланцем Управы — навстречу судьбе.
Микеланджело с детства регулярно посещал службы в кафедральном соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, но не уставал восхищаться его красотой. Если смотреть на собор снаружи — самым впечатляющим в его облике был величавый купол, внутри же воображение поражали высокие стрельчатые арки и огромные размеры сильно вытянутого в длину центрального нефа, затопленного светом, который лился из витражных окон.
«Так, наверное, и выглядит рай», — подумал Микеланджело, когда за ним закрылась дверь.
На другом конце нефа возле алтаря собрались Джузеппе Вителли, члены Синьории, несколько старшин цеха шерстяников и какие-то другие важные персоны. Микеланджело зашагал к ним; звук ступающих по мраморным плитам тяжелых башмаков отдавался гулким эхом под высокими сводами. Наконец он пересек неф и подошел к собранию, испытывая облегчение от того, что его неуклюжие шаги больше не нарушают благоговейной тишины Собора.
Среди собравшихся он не увидел ни одного приветливого лица.
— Буонарроти. — Джузеппе Вителли поднялся на несколько ступенек перед алтарем, как священник, приготовившийся служить мессу. — Мы позвали тебя, потому что мы, Собор, город и цех шерстяников, в кои-то веки пришли к общему мнению.
У Микеланджело перехватило горло, и, не в силах выдавить из себя хоть звук, он кивнул.
— Мы решили… — Джузеппе сделал паузу, поправил распятие на алтаре. — Мы отказываемся от Геракла.
Микеланджело открыл было рот, чтобы разразиться пламенной речью в защиту своей статуи, но присущий ему кураж внезапно покинул его. Он застыл как истукан. Вот оно. Сейчас они его уволят. Отберут заказ и передадут мрамор Леонардо. А тот изваяет им свое безобразное чудище — плюющегося огнем дракона, место которому разве что в балагане. Микеланджело же, словно лев сражавшийся с родными, коллегами и судьями за право принять эту работу, приползет домой, как побитый пес, и покроет свой род позором бесчестья.
— Мы решили, что языческому символу негоже украшать наш собор. Нам нужен традиционный библейский герой, — продолжил Джузеппе.
Библейский герой? Значит, о драконе Леонардо речи не идет.
— Мы считаем, что нашему городу самое время обзавестись еще одним… — Джузеппе снова тянул паузу, будто не решаясь озвучить свою идею. Собравшиеся ободряли его кивками. — Давидом.
Слово упало в торжественной тишине, словно тяжелый камень.
Еще один Давид? В смятении Микеланджело засунул руки в карманы, надеясь ощутить под пальцами успокоительный бархат мраморной пыли. Но карманы пусты. Не могут же они всерьез предложить ему…
— Простите, еще одним кем?
— Нам нужен юный пастух по имени Давид, который поверг великана Голиафа, — уже более уверенно пояснил Джузеппе.
Микеланджело с недоверием переводил взгляд с одного лица на другое, стараясь хотя бы на каком-то из них уловить тень улыбки. Они что, вздумали посмеяться над ним?
— Но достоянием Флоренции уже и так являются две знаменитейшие статуи Давида работы двоих величайших художников…
— А нам нужен еще один.
— Но мне никогда не превзойти Давидов, изваянных Верроккио и Донателло, и вам это прекрасно известно. — От волнения голос Микеланджело звучал громче и резче, чем ему хотелось бы. Усилием воли он обуздал чувства и следующие слова произнес тише: — Послушайте, синьоры, я задумал статую героя, совершенного в своей физической красоте и мощи, истинного титана, олицетворяющего преемственность искусства современного и античного. А пастушок Давид — безусый юнец, не познавший своей силы, изнеженный, слабый, низкорослый. Ребенок. Сколько лет я работал в Риме, но и там ни разу не видел, чтобы античная статуя героизировала мальчишку.
— Статуя библейского героя будет воздавать славу Господу, — заметил Джузеппе.
— Я не меньше вашего желаю воздать Господу славу. — Микеланджело вызывающе скрестил руки на груди. — И если мы заодно, давайте искать компромисс. Не лучше ли выбрать другого библейского героя? Может, подошел бы святой Матфей? Или святой Георгий? Или, может быть, Моисей?
«Господи, да любой, кто находится в возрасте зрелого мужчины», — подумал Микеланджело.
— Нет. Бесповоротно нет. Это должен быть Давид.
— Но почему?
Джузеппе вдруг отвел глаза.
— Синьор Вителли, так почему же? — Микеланджело шагнул к нему. — Или это не ваша идея? Это придумал кто-то другой?
Джузеппе переминался с ноги на ногу.
— И кто же?
— Я, — выступил вперед какой-то незнакомец. На вид ему было чуть больше тридцати. Его необычайно бледная кожа отливала болезненной синевой, двигался он медленно и уверенно — как человек, привыкший вольно распоряжаться своим временем.
Джузеппе Вителли сделал учтивый жест в сторону незнакомца и представил его:
— Никколо Макиавелли, секретарь канцелярии.
О, Микеланджело был наслышан о самом искусном дипломате Флорентийской республики! В свои двадцать девять лет Макиавелли уже удостоился избрания на высокий правительственный пост; о его талантах посредника и умелого манипулятора в городе ходили легенды. Но Микеланджело, ни перед кем не привыкший пасовать, не собирался сдаваться и этому блестящему дипломату.
— Вам, кажется, полагается находиться во Франции и вести переговоры с королем Людовиком, а не указывать мне, как ваять мою статую?
— Микеланджело, — смущенно прошипел ему в спину Джузеппе.
— Все в порядке, Вителли. Я прекрасно понимаю, отчего молодой человек так взвился. — Макиавелли перевел блестящие черные глаза на Микеланджело. — Я, видите ли, обсуждал как-то этот проект с маэстро Леонардо…
— Леонардо не имеет к моей статуе никакого отношения. Скажите же ему, синьор Вителли!
Макиавелли поднял руку, желая унять страсти.
— Мы просто разговорились с ним о том, что другие мастера скульптуры, Дуччо и сам Донателло, желали изваять из этого мрамора Давида. И подумали, что негоже менять сейчас уготованную ему судьбу. Но, возможно, вы считаете, что вам это не по плечу? — сказал Макиавелли, и Микеланджело захотелось треснуть его молотком по голове. — В таком случае я не сомневаюсь, городу удастся найти другого скульптора, которому этот заказ будет по силам.
Микеланджело заметил, как некоторые из собравшихся обменялись довольными усмешками. Ах, так ему подстроили ловушку! Управа не хочет увольнять его, так как публично и официально доверила ему заказ. Это приведет к скандалу, а они не желают выставлять себя на посмешище. Если же он отступится сам, Управа объявит его не справившимся, и тогда посмешищем станет он. Но этому не бывать.
— Прекрасно. Если вы желаете Давида — будет вам Давид.
Микеланджело взбежал по лестнице дворца Синьории, перепрыгивая сразу через две ступеньки, и вошел во внутренний двор. Мимо него по своим неотложным государственным делам спешили чиновники. Он направился к бронзовой статуе обнаженного юноши в пастушьей шляпе и с длинным мечом в опущенной руке.
Это Давид, выполненный Донателло.
Уже много лет Микеланджело не видел его. Он приблизился к нему медленно, словно неопытный наездник к норовистому жеребцу, готовому взвиться на дыбы или лягнуть. Установленная на высоком пьедестале в самом центре двора, скульптура была меньше, чем он запомнил, — ростом и комплекцией, пожалуй, с мальчика. Он положил руку на бронзовую ступню Давида, погладил пальцами гладкий металл — будто надеясь, что это блестящее совершенство вдохновит его.
Лет пятьдесят назад, когда Донателло изваял своего Давида, это было первое изображение свободно стоящей обнаженной фигуры со времен Римской империи. Своим Давидом Донателло открыл новую эпоху, положил начало новому направлению в классической скульптуре. Микеланджело вглядывался в статую, желая напитаться этим образом. Юноша-пастушок обнажен, на нем — лишь затейливая широкополая шляпа, край которой нависает на лицо, и богато украшенные поножи. Прекрасное задумчивое лицо обрамляют мягкие локоны. Давид стоит в позе триумфатора, взгляд его обращен вниз, на поверженную голову Голиафа. Левая рука уперта в бедро, локоть гордо выставлен, тогда как согнутое левое колено, наоборот, обращено внутрь, что придает всей фигуре сходство с гибкой виноградной лозой, тянущейся из земли к солнцу. Подобно Христу, восторжествовавшему над поверженным сатаной, Донателлов Давид являет собой идеальный символ торжества над злом. В дни молодости Микеланджело эта великолепная статуя стояла во дворце Медичи. Он часами сидел у ее подножия и зарисовывал то целиком, то отдельными фрагментами. Сочетание реализма и изящества, переданное великим Донателло, совершенно перевернуло его тогдашние представления о прекрасном, заставило переосмыслить суть искусства в целом. И вот теперь его просят превзойти шедевр Донателло. Невозможно.
Подавленный гением Донателло, Микеланджело понуро вышел из дворца Синьории и свернул налево, к Лоджии деи Ланци — крытой галерее с аркадой на колоннах, где была выставлена дюжина великолепных скульптур, составляющих достояние Флоренции. При таком скоплении прекрасных изваяний каждое терялось в ряду остальных, но Микеланджело точно знал, к какому из них он пришел.
Пусть бронзовый Давид Андреа дель Верроккио не столь знаменит и любим флорентийцами, как Давид Донателло, встречи с ним Микеланджело страшился даже больше.
Верроккио также запечатлел в бронзе юного пастушка с вьющимися волосами и мечом в руке, стоящим над отсеченной головой Голиафа. Но этот Давид одет, и облик у него не такой идеализированно-отрешенный, как у образа Донателло. Это настоящий мальчик с живыми чертами лица. Прямой нос, выступающий подбородок, полные губы. Скулы немного выдаются, создавая игру отсветов на гладко отполированном литье. Всякий, кто увидит этого юношу, скажет, что он красив земной красотой. Каждый житель Флоренции знает: Верроккио использовал в качестве модели для Давида одного из своих подмастерьев.
И ни для кого не секрет, что помощника того звали Леонардо да Винчи.
Этого мальчика, прекрасного и невероятно талантливого, холили, лелеяли и восхваляли — в отличие от него, Микеланджело, жалкого замухрышки, безвестного каменотеса с переломанным в детской драке носом. Дерзнет ли он потягаться с красотой, созданной признанными гениями? Что бы он ни сотворил из бросовой глыбы мрамора, он все равно не дотянет до столь высокой планки, он обречен на проигрыш в этом состязании талантов. Нет никакой надежды на то, что он своим Давидом превзойдет этого. Сияющая победительная красота юного Леонардо, запечатленная Верроккио, всегда будет звучать громче.
Давид или Леонардо. Леонардо или Давид. Ах, как хотелось ему взобраться повыше на пьедестал и шарахнуть кулаком по этому точеному носу. Но Микеланджело не поддался порыву, понимая, что лишь повредит руку о твердь металла, а этот бронзовый нос так и останется безупречным.
В сумерках он возвращался в соборную мастерскую, надеясь на то, что мастеровые и досужая публика уже разошлись по домам. Он не хотел никого видеть, не желал никому показывать своих чувств. И потому буквально взревел, увидев во дворе мастерской, возле камня Дуччо, три человеческие фигуры. В первых двоих Микеланджело узнал живописца Пьетро Перуджино и архитектора Джулиано да Сангалло… Досада переросла в гнев, когда он разглядел последнего из троицы непрошеных гостей.
— Микеле, мальчик мой! — закричал Леонардо, заметив его издалека. — Вот наконец и ты. А мы уже заждались.
Леонардо
— Ты, должно быть, выходил пройтись и проветрить голову? — участливо спросил Леонардо у приближающегося Микеланджело, который злобно пыхтел и фыркал, словно разъяренный бык. — Ум подобен пламени, чтобы кормиться, ему требуется воздух. Это очень полезно — сходить прогуляться, когда спотыкаешься о непреодолимую трудность. — Леонардо поправил очки на носу и, глядя на мрамор, продолжил: — А ты, могу поручиться, как раз споткнулся.
Джулиано да Сангалло что-то согласно пробурчал.
— Не волнуйся. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе, — добавил Пьетро Перуджино, держась, как обычно, очень прямо — будучи самым низкорослым из всей троицы, так он старался компенсировать этот недостаток.
Микеланджело швырнул суму на землю у подножия мраморной колонны.
— Искренне ценю ваше желание помочь, синьоры, — он чуть не клацал зубами от досады и злости, — но, пожалуйста, оставьте меня. — Он опустился на колени перед железным котлом и принялся старательно раздувать огонь. Несколько металлических брусков уже нагревались на тлеющих углях.
— Я же предупреждал, что он не примет нашей помощи. — Леонардо отошел от компании и прислонился к изгороди.
— Но он даже не знает, о чем мы хотим поговорить. Микеланджело, напомни, сколько тебе лет? — Голос Перуджино звучал наигранно весело. — Двадцать четыре, двадцать пять?
Микеланджело молча вынул из котла раскалившийся брусок, положил его на ровный камень, служивший верстаком, и начал бить по нему молотом.
— Если бы с нами был Боттичелли, молодой человек снизошел бы до того, чтобы выслушать нас, — проворчал Сангалло. — Схожу приведу его.
— Ерунда, и без него справимся, — отмахнулся Перуджино и снова обратился к Микеланджело: — Когда я был в твоем возрасте или около того, я и работал, и жил в студии у Верроккио. Вместе с другими учениками, Леонардо и Боттичелли, и с твоим наставником, Доменико Гирландайо… Когда ты покинул его мастерскую? Лет в пятнадцать? Я в эти годы только начинал свою учебу.
— И я оставался в отцовской студии, пока не стал значительно старше тебя, — добавил Сангалло, скрещивая руки на груди.
— Ни один из нас не вылетел из гнезда своего мастера и не пустился в свободный полет, пока не получил полной подготовки, — вступил Леонардо. А про себя отметил: Микеланджело примерно того же возраста, что Салаи, и он не мог представить, чтобы его проказливый непокорный помощник зажил самостоятельной жизнью, работал, вел переговоры и тем более взвалил на себя всю ответственность за знаменитый мрамор Дуччо. — Ты слишком молод, Микеланджело, чтобы самому справиться с таким заказом.
Тот в ответ лишь сильнее стал бить молотом по металлу.
— Благодаря тому, что мы долго оставались в мастерской наставника, — продолжал Сангалло, — мы получали поддержку и помощь. Мы учились у старших учеников и сами учили тех, кто был младше…
— Мы перенимали мастерство бронзового литья у искусных литейщиков, а краски смешивали под присмотром опытных помощников, — добавил Перуджино.
— И даже учились ваять из мрамора у самого Верроккио, — процедил Леонардо, надеясь, что его намек будет понятен: его знания о ваянии намного превосходят то, чем может похвалиться этот молодой горе-скульптор.
Микеланджело перевернул брусок и начал отбивать его с другой стороны.
— Суть в том, — сказал Перуджино, — что у нас было чувство локтя и мы полагались друг на друга. У тебя же есть семья?
— А как же, — буркнул Микеланджело.
— Это хорошо, — кивнул Перуджино.
— Это счастье, — вставил Сангалло.
Леонардо предпочел промолчать.
— Однако твой наставник и другие ученики — словом, твоя художественная семья — столь же важны для тебя, как и семья по крови, — продолжил развивать мысль Перуджино. — А тебе сейчас очень не хватает поддержки товарищей по искусству. И мы готовы взять на себя эту роль.
— Вы? — Микеланджело бросил молот и внимательно оглядел Леонардо снизу вверх и сверху вниз — так повар с недоверием смотрит на кусок мяса, полученный от сомнительного поставщика.
Леонардо кивнул.
— Великий мастер — всегда и великий наставник. У меня в студии работают несколько подмастерьев, и я вижу, как мои работы влияют на их творческое становление, но, право, затрудняюсь сказать, назовет ли кто-нибудь из них меня своим учителем. Мой помощник Салаи пытается рисовать, но в нем мало страсти, а таланта и того меньше.
— Сути дела это не меняет, — подытожил Перуджино. — Ты можешь учиться у нас, заимствовать наши знания и опыт, мы готовы.
— Например, я мог бы научить тебя тому, как можно построить более устойчивые и прочные леса, — внес предложение Сангалло.
— А я мог бы обучить тебя рисунку. — Леонардо подошел ближе и подобрал несколько обгоревших набросков, валяющихся возле котла. — У кого ты учился рисовать? Сразу видно, что не у Гирландайо. У тебя линии намного изящнее и точнее, в них больше силы. Однако советую не делать мускулы такими выпуклыми, разве что ты хочешь передать кульминацию физического усилия. Посмотри-ка сюда… — Он сел рядом с Микеланджело и показал на одну из его зарисовок Геракла. — У тебя тут какой-то куль, набитый грецкими орехами, а не человеческая фигура. Изучай анатомию. Если тебе удастся достать труп…
Микеланджело выхватил у него листы и бросил их в огонь.
— Сынок, город поручил тебе ответственнейший заказ, — заметил Сангалло.
— С таким никто не справится в одиночку, — добавил Перуджино, — а мы могли бы помочь тебе.
— Чем? Не болтовней ли с Макиавелли о деталях моей работы? — Микеланджело вернулся к своему занятию, снова застучав молотом по заготовке будущего резца. Удары становились чаще, сила их нарастала.
— Макиавелли? А Макиавелли-то тут при чем? — недоуменно пробормотал Сангалло. Перуджино пожал плечами, и оба они как по команде вопросительно уставились на Леонардо.
Да, он что-то припоминал… Они тогда слишком много выпили с этим блестящим дипломатом. Вскоре после того, как от него уплыл камень Дуччо. О чем же они толковали?
— Допускаю, что мы могли обсудить вкратце этот заказ…
— Да, и теперь мои заказчики внезапно решили, что им нужен очередной Давид, — зло откликнулся Микеланджело. Над его правым глазом вздулась вена.
— Ах, вон оно что. — Тон Перуджино опять стал наигранно веселым. — Хороший поворот.
— Да, замечательная идея! — подхватил Сангалло без оптимизма.
— Ну и что, — пожал плечами Леонардо. — Скажи им, что эта задумка просто великолепна. Всегда давай понять заказчику, что он умнее тебя.
Микеланджело отбросил готовый резец и взял клещи, чтобы достать из огня следующую раскаленную заготовку.
— Зачем вы надоумили городские власти заставить меня ваять очередного Давида? — Он повернул голову в сторону Леонардо, но глаз на того не поднял.
— Ничего такого я им не говорил. Мы с Никколо просто обсуждали историю этого камня, не более того.
— Рассчитывали, что я испугаюсь и побегу к вам молить о помощи? — Под мощными ударами Микеланджело будущий резец на глазах приобретал нужную форму.
Леонардо старался обуздать раздражение и остаться невозмутимым. От выходок Салаи у него тоже иногда лопалось терпение.
— Ты ведь все еще пытаешься почувствовать свою статую, верно? Оставь уже эмоции в стороне и начинай мыслить. Ты должен изучать природу, исследовать человеческое тело, собственными глазами пытливо разглядывать каждую его черточку. Мудрость — дочь опыта, да будет тебе известно.
— Вы унизили меня перед моими согражданами флорентийцами. Вы обошлись со мной как с неразумным дитятей. А теперь, когда знаменитый камень передан мне, пришли напрашиваться мне в друзья? В наставники? Хотите стать Донателло для моего Дуччо?
Микеланджело покончил с ковкой второго резца и поднялся на ноги.
Встал и Леонардо.
Сангалло тут же сделал шаг вперед, чтобы оказаться между ними.
— Допускаю, что, когда камень и заказ присудили тебе, Микеланджело, Леонардо мог выйти из себя и наговорить обидных слов…
— Но, разумеется, можно извинить того, кто в пылу момента наговорил всякого, чего вовсе не имел в виду, — добавил Леонардо, вспомнив то жгучее оскорбление, что бросил ему в лицо Микеланджело в вечер их знакомства.
— Да знаю я, зачем вы явились, — хрипло выкрикнул Микеланджело.
«Ого, раненый бык совсем разъярился», — отметил про себя Леонардо.
— Раз уж камень вам не достался, вы измыслили другой способ примазаться к его славе, вот и набиваетесь мне в учителя.
Леонардо открыл рот для ответа, но Перуджино вовремя вмешался:
— Леонардо знает, как решить твою головоломку.
Микеланджело и Леонардо сверлили друг друга яростными взглядами. Ни тот, ни другой не желали уступить в этой дуэли.
— Не вы ли утверждали, что из этой покалеченной глыбы невозможно изваять сколько-нибудь приличную статую?
Микеланджело схватил скульпторский молоток и двинулся вокруг колонны.
Леонардо пожал плечами.
— Что с того? Я всего лишь на миг изменил своему кредо, которое гласит: нет ничего невозможного. Твой камень еще можно спасти. Я недавно был на рынке, где мне чуть не отрубили руку… впрочем, это неважно… Торговцы вывернули меня и прижали к прилавку… — Он вытянул руку назад и пригнулся, демонстрируя ту жалкую позу, о которой в другой ситуации не хотел бы вспоминать. — И тогда меня осенило.
Вокруг собрались несколько любопытствующих горожан, и Леонардо возвысил голос, чтобы его слышали и в отдалении.
— Видишь этот выступ? — Он указал на ту уродливую выпуклость, из-за которой колонна клонилась влево. — В нем — ключ ко всей композиции. Если ты изогнешь фигуру вот так, — Леонардо подошел к колонне и встал рядом, выгнув спину и выставив левое плечо, — то полноразмерная фигура тютелька в тютельку впишется в этот камень. Возможно даже, вот здесь, сверху, останется кусок на то, чтобы высечь какую-нибудь опору… — Леонардо указал на верхнюю часть колонны. — Конечно, поза довольно неловкая, и я не представляю, как она может быть соотнесена с замыслом твоего Геракла… извини, твоего Давида, но уверен: время поможет найти правильный ответ. Давай, я нарисую тебе… — Леонардо взял один из листов, приготовленных Микеланджело для зарисовок, и сангину, быстро набросал несколько мощных, удивительно точных линий и повернул рисунок так, чтобы он стал виден Микеланджело и всем желающим.
— Вот видишь? — сказал Сангалло. — Он старается помочь.
Микеланджело грубо выхватил у Леонардо лист, некоторое время поизучал его, потом скомкал и швырнул в огонь.
— Считаете себя очень умным? Вот только мне непонятно, отчего я должен прислушиваться к вашим советам по части скульптуры? Имея в распоряжении все сокровища миланской казны, вы так и не сумели отлить бронзовую статую для герцога Сфорца!
У Леонардо задергался левый глаз.
— Началась война, и весь запас бронзы пошел на пушечные ядра.
Микеланджело впился в него взглядом, плотно сжатые губы изогнулись в усмешке. Леонардо показалось, что на его плечи навалился неимоверный груз. Каким-то сверхъестественным чутьем этот малый угадал позорную правду: не одно лишь отсутствие бронзы помешало ему отлить конную статую герцога Сфорца. Фатальная ошибка закралась в сам замысел колоссальной скульптуры: точеные ноги коня никак не выдержали бы огромного веса его и всадника. Но как он прознал об этом просчете, об этой ревностно оберегаемой художником тайне? Он что, видел глиняную модель статуи в Милане еще до того, как ее уничтожил варвар-француз? Или сумел догадаться по чьим-то чужим рисункам?
— Вы пытались прикрыть свою ошибку, — страстно продолжал Микеланджело. — Вы забросили статую из страха опозориться. А герцог Сфорца лишился своих денег, ничего не получив взамен. Но что хуже всего, — в глазах Микеланджело закипали злые слезы, — эти глупые миланцы верили в вас, как в чудодея. Никто, никто не должен вам верить. А всякий, кто делает это, — тупоголовый осел.
— Что ж, синьоры, думаю, нам пора. — Перуджино повернулся к выходу из двора. — Молодому человеку явно требуется побыть одному. Поработать.
— Лимонное деревце, — превозмогая бушующие внутри чувства, сквозь сжатые зубы проговорил Леонардо, — страшно возгордилось, узнав, что оно способно плодить лимоны. На радостях оно решило отделиться от других деревьев, считая себя выше их. Но ветры быстро выкорчевали из почвы одиноко стоящее деревце. Не уподобляйся ему, мой юный друг, принимай помощь от тех, кто рядом с тобой.
— Говорите, этот выступ и есть ключ ко всей композиции? — Микеланджело крепко сжал в руке молоток.
— Да, только этот выступ и позволит осуществить замысел. Без него… — Леонардо покачал головой.
— Значит, говорите, этот? — проскрежетал Микеланджело и быстро взобрался по лесам, чтобы было удобнее подобраться к выступу. — Который все время так и мозолит мне глаза?
— Да, его я и имею в виду.
— Этот самый?
— Да, он.
С перекошенным от бешенства лицом Микеланджело с размаха ударил молотком по центру выступа.
Леонардо отшатнулся.
— Почему. Ты. Не желаешь. Говорить. Со мной? — рычал Микеланджело, в такт словам исступленно обрушивая молоток на мрамор. Сила ударов нарастала, как и его ярость.
Целый вихрь мраморных крошек и пыли взвился вокруг троих мастеров искусств. Зеваки, глазеющие с безопасного расстояния, начали вопить и улюлюкать. Даже рабочие при Соборе, давно привыкшие к подобным вспышкам ярости, и те оторвались от своих трудов и молча наблюдали за истерикой.
Микеланджело колотил по мрамору до тех пор, пока выступ не откололся и не рухнул на землю.
— Ох, Микеланджело… — Сангалло тяжело вздохнул.
Леонардо некоторое время смотрел на то, как отвалившийся кусок покачивается на земле, затем поднял глаза на середину колонны — теперь в ней зияла здоровенная выбоина. Еще десять секунд назад из камня Дуччо мог бы выйти толк. Теперь все кончено.
Микеланджело спрыгнул с лесов и принялся расхаживать взад-вперед перед колонной, тяжело отдуваясь и рыча, словно волк, только что задравший овцу.
«Господи, — подумал Леонардо, — понимает ли этот несчастный, что он натворил, или гнев совершенно ослепил его?»
— Так-то, — сказал Микеланджело. — Теперь никто не станет заявлять свои права на этот камень. Ни Дуччо, ни Донателло, ни уж тем более вы. — Микеланджело обжег Леонардо взглядом. — Теперь этот мрамор мой и только мой.
Леонардо заметил, что Сангалло и Перуджино уже вышли из двора.
— Не слишком ли высокая цена за попытку помочь? — покачал он головой, уже не обращая внимания на Микеланджело. Воистину настало время окончательно выбросить камень Дуччо из головы. Его смерть, можно сказать, теперь официально подтверждена.
Микеланджело
Как только Леонардо ушел, Микеланджело уронил молоток на землю и отвернулся от глыбы. Он не мог заставить себя взглянуть на камень, боясь увидеть, что сотворил с ним в порыве неистовой ярости.
Он поднял отколотый кусок и оттащил его в угол двора, туда, где сваливают обломки и отбракованные камни. Бросил осколок в общую кучу, взметнув тучу пыли. Он так любил мрамор, а теперь вот избил его.
Но он, проклятый, все равно молчал.
Соборные рабочие, смущенно покашливая, вернулись к своим делам. Часть зевак, попрятавшихся за изгородь, чтобы уберечься от разлетавшихся во все стороны мраморных крошек, все еще глазели на Микеланджело, другие наблюдали за ним из-за прикрытых ставнями окон.
Боже, что он наделал? Зачем позволил Леонардо вывести себя из равновесия? Из-за этого он погубил камень Дуччо — скорее всего, окончательно. Острое сожаление железными оковами сдавило грудь.
У мастерской собирались люди. Свидетели разыгравшейся сцены шепотом рассказывали о случившемся тем, кто ничего не видел.
Микеланджело сжал челюсти, чтобы подавить подступающие рыдания. Ему не надо смотреть ни на колонну, ни на рисунок Леонардо — он сразу понял, что тот предложил очень изящное решение для столь заковыристой задачи. Но это было неважно. Микеланджело никогда и ни за что не воспользуется этим решением. Иначе Леонардо получит все лавры истинного мастера по мрамору, а ему, Микеланджело, достанется лишь жалкая роль заурядного подмастерья.
Громкий шепот собравшихся горожан эхом отдавался в голове Микеланджело. Мог ли он осмотреть повреждения, когда толпа жадно следила за каждым его движением? Нет, он больше не в состоянии так работать — под гул ехидных смешков, подначек и язвительных замечаний. Искусство не должно рождаться публично, ему требуются тишина и сосредоточение, это сокровенный акт души, нечто личное, даже интимное. Художник нуждается в уединении.
Микеланджело вогнал в доску очередной гвоздь. Хотя к вечеру сильно похолодало, толпа все не расходилась, зрители из-за изгороди продолжали наблюдать за ним и потешаться: ему поручили ваять из мрамора, а он взялся плотничать. Но насмешки сейчас лишь подстегивали его, и он еще усерднее орудовал молотком.
Ударяя по шляпке гвоздя, он представлял, что бьет себя по голове. В какой-то момент он промахнулся и больно стукнул по большому пальцу.
— Accidente a te, Микеле, — выругался Микеланджело, выдохнув пар в холодный воздух. Из толстых обшивных досок, которые за ненадобностью были свалены в мастерской, он сколачивал высоченную, в рост колонны, ограду — от жадных глаз и язвительных пересудов толпы. Закончив ее, он просто захлопнет дверь, отгородится от всего мира, и никому больше не удастся насмехаться над ним, как прежде. И Леонардо уже не сможет запугивать и унижать его.
— Тайна — орудие дьявола! — донесся с улицы истошный вопль Джовансимоне. Младший братец еще в конце лета повадился вместе с толпой досужих зевак приходить к мастерской и развлекаться за его счет.
— Уж прости, mio fratello, больше не дождешься пищи для своих поганых сплетен, — крикнул в ответ Микеланджело. Интересно, чем займется Джовансимоне теперь, когда лишится возможности шпионить за ним? Если он так скучает, пусть найдет себе какую-никакую работу, чтобы с большей пользой коротать свои никчемные дни.
Микеланджело загнал в доску последний гвоздь и отступил, чтобы осмотреть плоды своих трудов. Для первого проекта на архитектурном поприще — не так и плохо. Углы кривоваты, да и заметен небольшой крен вправо, однако есть четыре стены и крыша над головой. На вид хибара держится прочно и послужит надежной защитой для него и его мрамора в предстоящие зимние месяцы с их затяжными дождями, холодными ветрами и ледяной крупкой. А главное — скроет его от ненасытного любопытства толпы.
Теперь можно было оценить, насколько он повредил колонну Дуччо. Предположения одно страшнее другого мелькали в его голове. Вдруг он отсек от нее слишком большой кусок? Вдруг там зияет глубокая дыра? Вдруг от его исступленных ударов в блоке образовалась огромная, во всю толщину, трещина? Или того хуже — весь камень покрылся сеткой тончайших трещинок и от первого же прикосновения резца начнет рассыпаться? Микеланджело никогда не простит себя, если окажется, что он погубил легендарный мрамор по милости собственного необузданного нрава. В этом случае ему придется убраться подальше от Флоренции и больше никогда не появляться в городе.
Он оперся рукой о стену постройки, чтобы унять дрожь в коленях, затем переступил порог и закрыл за собой дверь.
Оказавшись внутри, он разжег огонь в котле; дым от него потянулся в вертикально установленную трубу. В достаточно просторном сарайчике помещались одетая лесами колонна и все необходимые инструменты, оставалось даже место, где он мог спать и готовить себе пищу. Зазоры между досками пропускали солнечный свет, а еще имелось высокое окно, снабженное ставнями на случай дождя или снега. Правда, зимой ночевать здесь станет слишком холодно, ну да он всегда сможет пойти для этого в дом отца.
Микеланджело впервые остался с мрамором наедине.
— Давид, — тихонько прошептал он камню. Имя непривычно ложилось на язык. Мраморная колонна пока никак не соотносилась с образом Давида. — Видишь, Давид, я построил тебе дом.
Мрамор не отозвался, но Микеланджело на это и не рассчитывал. Теперь, когда они были одни, он надеялся… нет, он ни капли не сомневался в том, что камень вскоре заговорит с ним.
Микеланджело подошел ближе к мягко отсвечивающему мрамору. Явных трещин он не увидел. Положил на него ладони и принялся придирчиво ощупывать со всех сторон, простукивать, сильно надавливать пальцами в поисках малейшей слабины в зернистой поверхности. Каждое мгновение он ожидал и страшился услышать предательский треск, почувствовать, как разрывается мраморное нутро колонны, как она переламывается. Но ничего — глыба стояла, мрамор сохранял целостность. Похоже, смертельного урона он ему не нанес. Страшное напряжение в мышцах немного ослабло. Он испытал облегчение.
Микеланджело дошел до того места, по которому бил. Судорожно втянул носом воздух. Ущерб был гораздо больше, чем он ожидал. В своей слепой ярости он отколол огромный кусок — почти в половину длины колонны. Трясущимися пальцами он ощупал зазубренную поверхность выбоины. Придется аккуратно поработать резцом, чтобы убрать вмятинки и удалить слой примерно в палец толщиной. Слишком глубокая рана. Объема колонны и раньше-то не хватало на фигуру в динамичной позе, теперь же со стороны этой выбоины и вовсе не осталось материала. Он напрочь отхватил ту часть, в которой могла бы поместиться левая рука пастушка Давида.
Паника пронзила Микеланджело насквозь — от живота вверх, к шее, а затем ударила в голову. В ужасе он готов был ухватиться за соломинку — возможно, ему удастся сочинить легенду о том, что Давиду в схватке отсекли руку? А что, итальянцы любят драмы, и Давид, изувеченный в битве с великаном, наверняка потрясет их до глубины души. Но едва спасительная идея зародилась в голове, Микеланджело отругал себя. Что за гнусная уловка! Не должен он перевирать историю Давида только потому, что сам покалечил камень. Но и камень пока не укладывался в библейскую легенду. Значит, чтобы примирить их обоих, ему следует как-то извернуться самому.
Благо, пастушок Давид по размеру скромнее задуманного Геракла. Фигура юноши займет меньше места, хотя бы за счет более узких плеч и не столь объемной мускулатуры. К тому же юнец и ростом ниже. Возможно, удастся выкроить место на то, чтобы уложить к его ногам голову Голиафа и даже сделать Давиду шлем, украшенный перьями или чем-нибудь этаким, или, скажем, пристроить у его ног овечку — точно так же, как он высек у основания своего Вакха озорного мальчишку-сатира. Да, и надо непременно предусмотреть достаточно места на то, чтобы одеть Давида, — Микеланджело не очень вдохновляла мысль ваять изнеженную, слабую, еще не развившуюся в полную силу юношескую плоть. К тому же обнаженный Давид даст пищу для сравнений его статуи с шедевром Донателло, а в том, что сравнения будут не в его пользу, Микеланджело не сомневался. Придется одеть паренька в какие-то доспехи или в развевающийся пастушеский плащ. Помнится, глубокие складки одеяния Девы Марии привлекли много внимания к его Пьете. Вот и здесь он мог бы воссоздать красоту струящейся ткани.
Но для начала мрамор должен пробудиться и сам рассказать ему, Микеланджело, свою историю. Ибо Микеланджело никогда не придумывает истории собственных творений. Он уселся у подножия колонны, настроившись сидеть так до тех пор, пока камень Дуччо не заговорит. Уж чего-чего, а упрямства ему не занимать, он переупрямит кого и что угодно, даже бездушный мрамор.
— Помоги мне, — шептал Микеланджело. — Ты должен помочь мне. Ну, пожалуйста, поговори со мной. Per favore, молю тебя.
Молитвенно сомкнув ладони, Микеланджело стоял на коленях у деревянного алтаря тихой базилики Санто-Спирито, пропахшей ладаном и вином. После всех попыток разговорить упорствующий мрамор — он три дня неотлучно провел под колонной Дуччо — Микеланджело сдался и решил обратиться к более отзывчивому собеседнику — Господу Богу.
— Я нужен городу, я нужен своей церкви, я нужен мрамору. По воле города я принял на себя бремя обязательства украсить наш Дуомо великим символом, призванным поддержать дух всей Флоренции. Я должен явить флорентийцам чудо. Враги обложили наши стены сплошным кольцом и угрожают моему народу. И французы, и Борджиа, и Медичи — все они хотят уничтожить нас. Я не могу не выполнить обещанного. Не имею права! — Страстная мольба отдавалась эхом под каменными сводами алтарной части.
Но Бог молчал.
Что означало это молчание? Небеса отвернулись от Микеланджело? Отец Небесный разочаровался в нем? Может, Он уже пожалел о том, что выбрал его, Микеланджело, для такой важной миссии? Или намекает на то, что Леонардо справился бы лучше?
Эту мысль, самую страшную из всех, что томили его, Микеланджело даже не решился высказать вслух, не посмел признаться в ней Богу.
Где взять вдохновения на то, чтобы ваять юношу, восторжествовавшего над врагом, когда сам он повержен, совершенно уничтожен? Микеланджело, судорожно пошарив в карманах, нашел обрывок бумаги и сангину.
— Господи, молю, направь мою руку. Вразуми, открой мне твой замысел, и я исполню его. — Он занес мелок над листом, плотно смежив веки. — Пусть я утратил связь с этим камнем, но ты, Господи, ты ведь можешь слышать его. Ты только направь мою руку, и я пойму. Я не усомнюсь ни на миг. Я верую.
Он открыл глаза. Бумага была по-прежнему девственно чиста. Ну а чего он хотел — он же здесь совсем один.
Над алтарем висело деревянное распятие, примерно в три четверти роста взрослого человека. Микеланджело пристально вгляделся, наметанным глазом оценивая мастерство резчика. Черты лица Иисуса — самые заурядные, голова слишком велика в сравнении с изможденным жилистым телом. И на кресте он висит как-то неуклюже, телу мужчины тридцати с лишком лет не хватает рельефности, мышцы совсем не обозначены. В фигуре не чувствуется силы, нет экспрессии. Микеланджело вздохнул. Это невыразительное бесцветное распятие — не больше чем любительская поделка.
— Юноша, вырезавший это распятие, был очень талантлив, — раздался рядом тихий голос — как будто в ответ на мысли Микеланджело.
— Бездарным любителем он был, — бросил в досаде Микеланджело. — И сейчас не лучше, поверьте.
Отец Бикьеллини подошел ближе. Настоятелю прихода Санто-Спирито было слегка за тридцать, обритая голова его матово блестела, глаза отливали янтарем.
— Я слышал, этот скульптор произвел немалое впечатление в Риме своей Пьетой. Разве это не так?
Микеланджело пожал плечами.
— Просто повезло.
— Позволь усомниться, сын мой, в том, что ты когда-нибудь чего-нибудь достигал лишь благодаря везению.
Микеланджело поднял голову и снова посмотрел на распятие. В семнадцать лет он вырезал его в дар церкви. Приходя сюда и стоя перед распятием, он всегда успокаивался. Но сегодня эта старая работа только растравила душу Микеланджело, вновь заставив усомниться в своих способностях.
— Я хотел навестить тебя в мастерской, но у тебя всегда такой серьезный вид, не подступишься, — сказал отец Бикьеллини. — Ты слишком усердно трудишься.
— Не существует такого понятия — «слишком усердный труд».
— Я видел твою самодельную студию. Уединение должно помочь тебе.
— Ничто не помогает мне, и это тоже.
— Гениальность — это беспредельное терпение, сын мой.
Оба на некоторое время замолчали. Затем Микеланджело посмотрел святому отцу прямо в глаза.
— Вы же знаете, зачем я здесь.
Краска сбежала с лица настоятеля. Он оглядел помещение, желая убедиться в том, что они в нем одни.
— Ты больше никогда не должен даже заикаться об этом, — прошептал он.
— Но я совершенно потерян. — В голосе Микеланджело звучала мольба. — Я должен вернуться на свою стезю. А вы способны помочь мне.
— Нет, — печально покачал головой отец Бикьеллини. — С тех пор как…
Пусть и не высказанное, имя Джироламо Савонаролы повисло в воздухе. Теперь никто не произносил его вслух, но дух его обладателя еще не покинул город. Совсем недавно, в канун полуторатысячелетия, многие флорентийцы боялись приближения конца света; о нем свидетельствовали страшные события, происходящие в мире: на земли Италии вторглось войско французов, многочисленные города-государства яростно грызлись и вели нескончаемые войны, то и дело свирепствовала чума, папство Александра VI обернулось невиданным падением нравов, лихоимство и другие пороки расцвели пышным цветом… Напуганные граждане Флоренции обратили свои взоры к Савонароле, моля о спасении своих бессмертных душ. Его страстные проповеди о греховности и жадности разожгли в городе настоящую истерию, а когда флорентийцы свергли и прогнали из города Пьеро де Медичи, Савонарола легко занял освободившееся место и прибрал к рукам бразды правления. Повинуясь его приказам, горожане стаскивали на площадь Сан-Марко и сваливали в огромные кучи все свое ценное имущество: музыкальные инструменты, картины, книги, статуи, флаконы с духами, игральные карты, роскошные наряды, украшения. По его повелению все это сжигалось на кострах тщеславия во имя очищения Флоренции от греха. Однако тот ужас, что Савонарола поселил в умах людей, не мог жить там вечно. Когда Савонарола взялся обличать в пороках папу, церковь немедленно отреклась от него, а вскоре и горожане возненавидели того, кому еще недавно истово поклонялись. В 1498 году папа отлучил Савонаролу от церкви, и тогда флорентийцы, подвергнув пыткам поверженного кумира, приготовили ему его собственный костер. Но изгнать из умов проповеди Савонаролы и посеянный им ужас было сложнее, чем уничтожить его самого. Казалось, даже прах его источал ядовитые миазмы животного страха.
— Савонарола мертв, — убежденно сказал Микеланджело, в равной мере стараясь убедить как святого отца, так и себя самого.
— Я знаю, — шепотом ответил отец Бикьеллини. — Но люди теперь не столь великодушны и снисходительны, как были когда-то. Они все еще запуганы. Многие обвинят тебя в том, что ты поддался искушению дьявола, если узнают, о чем ты сейчас думаешь.
— Практика никогда не давалась легко.
— Но сейчас это опаснее, чем когда-либо.
— А я сейчас нуждаюсь в ней сильнее, чем когда-либо. Пожалуйста, помогите! Я точно знаю, что камень живой. Я ручаюсь в этом, хотя пока не слышу его голоса. Я должен пробудить его, чего бы мне это ни стоило. А для этого мне снова нужно учиться.
— У тебя накопилось множество рисунков. Пусть они служат твоей учебе. Изучай работы других мастеров, впитывай их знания. И потом, многое ты мог бы почерпнуть из книг и от наставников. Поверь, тебе нет надобности снова браться за старое.
— Мудрость — дочь опыта, — твердо возразил Микеланджело, в точности повторяя слова Леонардо. И пусть они горечью отдавались на языке — сейчас он верил в эту истину так пламенно и беззаветно, как не верил еще ни во что и никогда.
— Не забывай: у этих стен есть уши, — предостерег его отец Бикьеллини.
— Я буду осторожен. Тише мыши. Обещаю вам.
— В этом я нисколько не сомневаюсь. — Лицо святого отца смягчилось. — Но если я за что и боюсь, то не за собственную шею. Мне не будет оправдания, если тебя арестуют или, чего доброго, отлучат от церкви из-за моего попустительства.
— А будет ли вам оправдание за то, что вы не помогли мне увидеть замысел Господень в этом упрямом мраморе?
Микеланджело последовал за отцом Бикьеллини вниз по темному сырому и мрачному коридору. Масляный фонарь в руке настоятеля излучал дрожащий свет. Где-то в высоте отдавались гулким эхом их шаги, словно они ступали по дну глубокого колодца. Когда они подошли к тяжелой деревянной двери, настоятель снова спросил Микеланджело:
— Уверен ли ты, сын мой, в своем желании снова испытать все это?
У Микеланджело все сжалось в груди. Откуда ему знать? С семнадцатилетнего возраста нога его не ступала по этому коридору, а тогда он был еще слишком молод, чтобы осознавать все возможные последствия. Уходя отсюда в последний раз, он поклялся себе, что больше никогда не вернется в это мрачное место. Однако вернулся — попирая установления церкви и законы человеческие. Если кто-нибудь узнает о том, что он был здесь, кара последует неминуемо — его изгонят из города, арестуют или казнят. Отец отречется от него. Как же он может быть уверен в том, что поступает правильно?
— Да, святой отец, я уверен, — сказал он.
Отец Бикьеллини хмыкнул в знак согласия. Вынул из кармана тяжелый железный ключ, вставил его в замочную скважину. Раздался скрежет, и замок поддался. Толчком он открыл тяжко застонавшую дверь.
Волна вони вырвалась из темного нутра помещения и окатила их. Микеланджело сморщился и торопливо зажал рукой нос и рот. Он и позабыл о том, какой тяжелый смрад стоит здесь.
Микеланджело всмотрелся в чернильную темноту. Прежде он много раз бывал тут, но сердце тяжело бухало в груди, будто он заглядывал в неведомое.
Отец Бикьеллини зажег от своего фонаря лампу и передал ее Микеланджело.
— Желаю тебе пребывать в мире с призраками, сын мой.
— Прошу, не закрывайте дверь, падре, — прошептал Микеланджело и переступил порог. Он обернулся, чтобы добавить еще что-то, но святой отец уже ушел.
Микеланджело зажег еще две лампы, и в их свете постепенно проступили контуры помещения и его содержимое. Посередине маленькой кельи с каменными стенами и единственным забранным решеткой оконцем стояли четыре длинных каменных стола. Два пустовали, на двух других лежали покрытые саванами мертвые тела.
Микеланджело потрогал дрожащей рукой окостеневшие ноги мертвеца. Ощутил, как в поясницу уперлась рука соседнего покойника, такая же окостеневшая. С которого из двух ему начать? Впрочем, это неважно, наверняка до рассвета он успеет вскрыть оба тела. Он выбрал того, который лежал справа, — просто потому, что тело этого несчастного, судя по запаху, меньше тронуло разложение.
Раскладывая инструменты, Микеланджело почувствовал озноб. В церкви стояла тишина, в каждой неясной тени ему чудился призрак. Он помнил: этот липкий страх — неизбежная часть «программы». В юношеские годы ночные кошмары подолгу преследовали его после подобных деяний. Наверное, и теперь он не избежит этого.
— Господи, помоги мне сделать, что должно. Дай мне силы и решимость. Ниспошли озарение. Раскрой мне свой замысел.
Он сдернул саван.
В течение следующих трех недель Микеланджело семь раз посетил мертвецкую при церкви Санто-Спирито. Он вскрывал и изучал тела беззубых попрошаек, убитых в боях наемников и даже какого-то богача, чье тело было покрыто багровой сыпью — возможно, он подцепил французскую болезнь от куртизанки из числа тех, что сопровождают войско короля Людовика. Особенно тщательно он исследовал тела двоих юношей, сделав множество пометок относительно их округлых лиц, тонких ног, неразвитой мускулатуры и объема жира. Это были тела детей, тела его Давида.
Однажды вечером на одном из столов мертвецкой он обнаружил изувеченное тело с недостающими конечностями. Бедняга лишился половины головы, обеих рук и ноги. Тело было раздуто от речной воды, кожу частично объели рыбы. Видимо, мужчину убили в бою и сбросили тело в Арно, а какой-то рыбак выудил его. Мышцы были разорваны, но все еще соединялись связками — так дерево привязано к почве своими корнями. Кости переломаны, однако суставы сохранили подвижность. И даже у этого обескровленного покойника сквозь кожу проступала прихотливая сеть сбегающихся и разбегающихся сосудов, напоминающая рисунок реки с притоками и рукавами. Удивительно, но это тело, искалеченное людьми и природной стихией, по-прежнему подчинялось законам анатомии, обладало внутренней целостностью и связностью элементов. И не было никакой возможности как-то подогнать эту лишенную некоторых частей форму под габариты искореженного мраморного блока, да еще выкроить пространство для меча, пасторальной овечки и отрубленной головы великана.
С наступлением рассвета Микеланджело услышал, как священники начали готовиться к утренней службе. Он отложил инструменты, плечи его поникли. Одной из первых сцен, которые он изваял, была сцена с изображением битвы кентавров — мешанина из дерущихся, изгибающихся в неимоверных усилиях обнаженных мужских фигур. Как ни горько было это признавать, но он не придумал больше ни одного способа изогнуть человеческое тело так, чтобы оно вписалось в колонну Дуччо. И даже мрачное отвратительное занятие последних дней ни на шаг не подвинуло его к решению.
Микеланджело прибрал за собой и тихо выскользнул из мертвецкой, стараясь не попасться на глаза молящимся. Еле переставляя ноги, он поплелся в свой сарай-мастерскую. Долго стоял, потерянный и уничтоженный, перед безмолвствующим камнем. Препарируя мертвецов или бессмысленно глядя на спящий летаргическим сном мрамор, он не рассчитывал найти ответы на мучающие его вопросы. Чтобы получить ответы, нужно было спросить мрамор. Но чтобы задать ему вопросы, требовалось сначала этот мрамор разбудить.
Микеланджело взял молоток и резец и вскарабкался по лесам на самый верх. Он и сам не знал, для чего это делает, но по крайней мере сможет начать отсекать лишнее, тем самым подбираясь к фигуре, которая таится внутри. Он установил резец и стукнул по нему молотком.
— Будем надеяться, — сказал себе Микеланджело, — что эти звуки заставят юного пастушка очнуться от его дремотного забытья.
Леонардо
Горизонт едва розовел от восходящего солнца, а Леонардо уже обошел весь рынок и изучил всех торговцев, которые устанавливали свои прилавки перед началом торгового дня. И снова не нашел среди них той женщины.
В течение последнего месяца он ходил на рынок ежедневно, пытаясь отыскать незнакомку, которая спасла его руку от неумолимого тесака. Он и сам не мог понять, что являлось причиной его одержимости — исходящее ли от ее лица таинственное сияние, ее смелый лучистый взгляд или угаданная ею его заветная мечта о полетах, — но с момента их встречи им овладело ничем не объяснимое, но неодолимое желание запечатлеть ее образ на холсте. «Только бы найти ее, — думал Леонардо, — а уж позировать я ее как-нибудь уговорю». И тогда, наверное, он разгадает причину такого наваждения.
— Нет, господин, так мы никогда ее не найдем, — сказал Салаи, когда они уходили с рыночной площади. Утренний туман все еще окутывал город тонкой дымкой. — Вы не знаете ее имени, не знаете, где она живет, и главное — не знаете, что привело ее в тот день сюда. А что, если она вообще не флорентийка? Или просто привиделась вам?
Эта мысль уже не раз посещала Леонардо. Вязь золотой вышивки на груди и запястьях, блестящие ленточки, трепетавшие за спиной, словно крылья, бесстрашие, с каким она вступилась за него… Возможно ли, что она ангел, посланный Богом для спасения его левой, бесценной руки?
— Нет же! — спорил сам с собой Леонардо. — Разве голос посланца небес может звучать так живо, разве бывают у ангела такие лучистые глаза, такие теплые руки?
То была земная женщина, и он непременно найдет ее на рынке, в этом он не сомневался. Судя по бесшабашной отваге, с какой она держалась, по тому, как сразу признал ее торговец птицами, она здесь свой человек. Пусть она не встретилась ему сейчас — он придет днем. А потом на закате. И завтра, и послезавтра. Он не отступится, пока не найдет свою спасительницу.
Они с Салаи уже миновали мост через реку и свернули в переулок, когда на другом его конце чья-то закутанная в плащ фигура выскользнула из боковых дверей церкви.
Леонардо сразу узнал молодого скульптора, тот украдкой покидал церковь — и не какую-нибудь, а церковь Санто-Спирито, давно известную тем, что начинающим художникам здесь не отказывали в возможности учиться на натуре. У этой мимолетной уличной сценки могло быть лишь одно объяснение.
Леонардо зашел в церковь, терпеливо дождался момента, когда окончится утренняя служба и прихожане разойдутся, и лишь потом заговорил с настоятелем.
— Святой отец, — сказал Леонардо, выступив из тени притвора. — Только что я видел, как вашу церковь покинул Микеланджело Буонарроти.
— Господин Леонардо. — Отец Бикьеллини приветствовал его легким кивком. — Рад видеть вас в доме Божьем.
— Я пришел к вам за помощью. — Леонардо надеялся искренностью расположить к себе священнослужителя. — Я пытаюсь завершить нечто, чего никто еще прежде… — Он хотел открыть святому отцу свою мечту о полетах, но побоялся услышать уже знакомую проповедь о том, что если бы Господь Бог задумал человека способным летать, то дал бы ему крылья. Поэтому Леонардо объявил: — Я знаю, что делал здесь Микеланджело.
— Молодой человек приходил помолиться, — спокойно ответил отец Бикьеллини. — Думается, и вам, сын мой, пристало бы преклонить колена перед Господом нашим.
— Помолиться? — Голос Леонардо разнесся по пустой церкви. — Не для молитв он приходил сюда, а чтобы анатомировать покойников.
Отец Бикьеллини побледнел, когда крамольные слова слетели с губ Леонардо.
— Извините, меня призывают богоугодные дела, — решительно сказал он и повернулся, чтобы уйти.
Леонардо последовал за ним.
— Он же платит вам, верно? Я тоже готов заплатить, и притом гораздо больше…
Отец Бикьеллини резко оборвал его:
— Крепко усвойте, сын мой: подкупить меня невозможно. К тому же столь богопротивный замысел никогда бы не пришел в голову такому благочестивому юноше, как Микеланджело. Его отец воспитал его добрым католиком. Он из достойной семьи.
— Прошу прощения. Судьба не удостоила меня милостью иметь такого заботливого отца, — холодно заметил Леонардо.
— В таком случае вам следует искать руководства у Отца Небесного, — промолвил отец Бикьеллини и открыл перед Леонардо дверь.
Немного поколебавшись, тот вышел из церкви. Салаи ждал его на ступеньках.
— Идем, Джакомо. У нас сегодня важный день, мы должны поймать ветер — с какой бы силой и в каком бы направлении он ни дул.
— Ну что, Салаи, готов ты стать свидетелем исторического события? — Голос Леонардо прорывался сквозь завывания холодного зимнего ветра.
— Да, господин, — крикнул в ответ Салаи.
Они стояли на вершине Монте-Чечери, горы Лебедя, расположенной неподалеку от городских стен. На ясном небе не было ни облачка — идеальный день для полетов. От особенно сильного порыва едва не порвалась веревка, привязывающая к земле летательный аппарат. Еще один такой рывок — и он взмоет в воздух. Определенно, это добрый знак. Если машина сама стремится в небо, значит, непременно взлетит, нужно лишь запустить ее как полагается.
Воздушный винт, как называл свой аппарат Леонардо, представлял собой большое крыло, закрученное спиралью; сделанное из кипарисового дерева и прокрахмаленного полотна, оно вращалось вокруг центрального стержня и, ввинчиваясь в воздух, должно было поднять аппарат. Согласно теории Леонардо, при вращении винт будет выталкивать воздух вниз, создавая тем самым противодействующую силу, способную вознести над землей машину, а также сидящего в ней пилота. Он уже рисовал в воображении, как такие винтолетные машины бороздят небеса, а путешественники летают по небу, любуясь живописными пейзажами: озерами, водопадами, вулканами. Возможно, в будущем полеты станут доступны каждому человеку.
На место пилота Леонардо установил мешок с камнями. Конечно, он желал бы сам занять это место и, обвязавшись ремнями, взмыть в воздух, но понимал, что это слишком рискованно. Сначала следовало испытать машину. Сверху на мешок он нахлобучил украшенную перьями пурпурного цвета шляпу, а на мешковине еще раньше небрежно написал свое имя.
— Представь, Салаи. — Леонардо задумчиво разглядывал окрашенные багрянцем далекие холмы. — Если сейчас все получится, то в один прекрасный день я смогу перелететь через океан и открыть для себя какой-нибудь новый мир. — И правда, в последние годы многие путешественники, возвращаясь из дальних странствий, рассказывали удивительные истории об огромных неизведанных пространствах суши по ту сторону океанов.
— Давайте-ка сначала проведем испытание, господин, а уже потом подумаем о перелетах на другие континенты, — рассудительно предложил Салаи.
Леонардо вздохнул. Временами ему становилось грустно оттого, что его помощник не имел склонности к дерзким мечтам. Надо бы поработать над этим…
Они поместили воздушный винт в огромную рогатку. Если бы машиной управлял сам Леонардо, он установил бы ее на исходную позицию, орудуя ножными рычагами, но на первый раз пришлось применить для этого сложную систему пружин, грузов, рычагов и колес — как у механизма, приводящего в действие часы. По расчетам Леонардо, если винт вращать постоянно, то аппарат сможет подниматься все выше и выше — до бесконечности. Оставалось только придумать, как вернуть его на землю.
Общими усилиями Салаи и Леонардо вместе с тетивой оттянули назад конструкцию, приводя гигантскую рогатку в готовность.
— Uno, — начал Леонардо отсчет.
В детстве он любил бродить среди этих холмов. Он изучил здесь все тропки, бегая в густой высокой траве, перепрыгивая через сучковатые валежины и ловко уворачиваясь от вырастающих на пути узловатых, причудливо изогнутых деревьев. Теперь этот мирный пейзаж служил декорацией для величайшей победы его разума.
— Due.
В отдалении, в низине, в направлении Флоренции галопом скакали два всадника — должно быть, спешили на рынок, ведь сегодня базарный день. Повезло этим двоим — они удивят своих домочадцев не досужими сплетнями и глупыми небылицами, а рассказом о небывалой летающей по небу механической диковине.
— Tre! — выкрикнул Леонардо.
Они с Салаи одновременно отпустили аппарат.
Тетива вытолкнула бешено вращающийся винт в небо.
Лошади всадников вскинулись на дыбы, а сами они закричали, указывая руками в небо.
Всю жизнь Леонардо мечтал об этом мгновении. Его летательный аппарат дребезжал, бешено вспарывая воздух, и казалось, что мир вокруг приобретал необычайно яркие живые цвета. Небеса окрасились пронзительным ультрамарином, кроны кипарисов засияли глубоким малахитом, а буро-желтые песчаные холмы в отдалении оделись в золото. И — как торжество его победы — на фоне буйного великолепия красок радостно и бесшабашно трепетала на ветру пурпурная шляпа с развевающимися перьями, венчающая мешок с камнями.
Аппарат летел в направлении всадников. Вдруг из-за сильнейшего порыва ветра он завихлялся, его стало раскачивать из стороны в сторону. Леонардо перестал дышать, силой мысли пытаясь удержать свою конструкцию на лету.
Однако летательный аппарат завалился набок, перевернулся и понесся к земле, увлекаемый тяжестью камней.
— Нет! — завопил Леонардо и побежал вниз с холма.
Деревянная арматура затрещала, полотно разорвалось с резким звуком… Чудовищный удар о землю. Мешок лопнул, камни, подпрыгивая и сталкиваясь, с грохотом покатились по склону, погребая под собой пурпурную шляпу. Если бы Леонардо сидел в своем винтовом аппарате, ему размозжило бы голову и лавина грохочущих камней увлекла бы его тело за собой.
— Нет, нет, нет, — как в бреду бормотал Леонардо. Он конструировал этот великолепный винтолетный аппарат в течение многих месяцев.
По склону метался Салаи, безнадежно пытаясь подобрать хоть какие-то не пострадавшие части конструкции.
Леонардо упал на колени, погрузил пальцы в еще влажную от недавнего дождя почву. Мир вокруг снова потускнел: холмы и поля лишились сияющей позолоты, к ультрамариновым небесам вернулся линялый голубой оттенок.
Он сделал два глубоких вдоха. Он восстановит свой аппарат, усовершенствует его конструкцию, и новый воздушный винт будет мощнее и устойчивее в полете. А может, вся эта идея с винтолетом и вовсе не годится? Пожалуй, стоит вернуться к изучению крылатых созданий природы: птиц, летучих мышей, стрекоз. Он решительно поднялся на ноги, отряхнул землю с колен. Спустя много лет он будет смотреть на эту неудачу лишь как на досадное препятствие, на маленькую кочку, о которую споткнулся на долгом извилистом пути к великой цели. Возможно, именно эта осечка как раз и выведет его на правильную дорогу, на которой его ожидает успех?
Далеко отошедший от него Салаи вдруг понесся вверх по холму, пыхтя и задыхаясь.
— Люди Борджиа! — выкрикнул он. — Спасайтесь, господин, бегите!
О чем это он? Люди Борджиа? Леонардо прищурился, пытаясь разглядеть всадников у подножия холма. Те двое, что стали свидетелями испытания его летательной машины, теперь преследовали Салаи. Один размахивал мечом, другой — палицей. На их нагрудниках даже издали можно было разглядеть красного быка на желтом поле — герб Борджиа. Значит, эти двое — из его войска. Леонардо охватил ужас при мысли о том, что с того места, где находились всадники, неудавшийся эксперимент с полетом его аппарата мог выглядеть как попытка флорентийцев обстрелять их с вершины холма. Эти двое могли принять его научный эксперимент за нападение.
Леонардо отшатнулся, едва не опрокинулся, потом круто развернулся и понесся вниз по противоположному склону холма, обращенного в сторону городских ворот. Увлекаемый силой гравитации, он бежал все быстрее и быстрее, но вдруг его левая нога застряла в густых зарослях подлеска, и колено подвернулось. Он попытался удержать равновесие, однако скорость была слишком большая. Леонардо рухнул на острый сук, торчавший из поваленного дерева. Его конец глубоко вошел в бедро, жгучая боль раскаленной иглой пронзила ногу и туловище. Леонардо закричал и кубарем покатился по склону. Впереди он заметил каменистый выступ, попробовал увернуться, чтобы избежать столкновения, но не успел и впечатался в него лбом.
Остановился он лишь у подножия холма. Перевернувшись, осмотрел склон — всадников нигде не видно. Неужели он убежал от них?
— Господин! Пожалуйста! Andiamo! Надо бежать! — Салаи схватил Леонардо за руку, помог подняться на трясущиеся ноги. — Скорее бежим в город, — из осторожности Салаи говорил тихо.
Леонардо попытался сделать шаг, но колено подогнулось, приступ острой боли пронзил его, и, потеряв равновесие, он упал. Салаи подхватил его под мышки и потащил к городским воротам. Ноги Леонардо безвольно волочились по земле. Вдруг он заметил на гребне холма какое-то движение и разглядел фигуры всадников. Это снова они, солдаты Борджиа, только теперь на одного из коней была погружена деревянная винтовая конструкция — часть его летательного аппарата. Леонардо уже не знал, радоваться ли тому, что они с Салаи удрали от людей Борджиа, гордиться ли тем, что враги заинтересовались его изобретением, или ужасаться от того, что оно попадет в руки беспощадного Чезаре.
Наконец они оказались за спасительными городскими стенами. Салаи крикнул стражникам, чтобы те затворили ворота, иначе в город ворвутся солдаты Борджиа.
— Мой господин прогнал их прочь! — заявил Салаи, и Леонардо, несмотря на боль в ноге, усмехнулся этой лестной для него выдумке. — Поторопитесь, не ровен час, они вернутся.
Каждую вторую субботу месяца жители окрестных деревень толпами валили в город на открывающийся в эти дни большой базар. Леонардо подозревал, что стражники не послушают Салаи и не станут закрывать ворота перед носом у торговцев и покупателей. Впрочем, это было неважно; если бы Чезаре Борджиа и правда хотел нанести удар по Флоренции, он давно стоял бы уже со своими головорезами у ворот.
Салаи тащил Леонардо прочь от входа в город до тех пор, пока они не перебрались на другую сторону Арно. Там он бережно прислонил Леонардо к стене какого-то дома и принялся изучать глубокую рану на его ноге. Невольно содрогнувшись, он посоветовал:
— Лучше не смотри, господин.
Ветер обжигал разорванные ткани. Леонардо и не надо было смотреть, он и так знал, что сук вошел в ногу очень глубоко. Салаи оторвал от своей туники лоскут и крепко перетянул поврежденное место.
— Не могу остановить кровь, — сказал он озабоченно.
Лицо Леонардо исказила гримаса досады. Не надо было так безоглядно улепетывать от солдат Борджиа, они не гнались за ним, а спешили подобрать диковинную штуку, летевшую по небу. Так что поранился он только по собственной вине. Он забыл главный постулат своей же философии: всегда найдется время на то, чтобы остановиться и подумать.
— Господин, вам нужна помощь.
Леонардо забеспокоился, увидев, как побледнело лицо его помощника.
— Думаю, ты прав.
— Побудьте здесь, — решительно велел Салаи. Это был голос настоящего мужчины, взявшего на себя ответственность, а не напуганного мальчишки. — Я сбегаю к аптекарю. — И Салаи сорвался с места.
Аптекарю?
— Погоди, Салаи, — попытался крикнуть ему вслед Леонардо, но голос едва слушался его. Салаи спустя мгновение исчез за поворотом. — Аптекаря не будет там, — застонал Леонардо, вытирая выступившую на лбу испарину. Какой же торговец в базарный день останется сидеть у себя в лавке?
Кровь все сочилась из раны, уже целая лужица образовалась на грязной мостовой. От слабости у Леонардо пульсировало в голове. Тошнота подступала из желудка к горлу. Салаи вернется не раньше чем через час — пока обежит одну за другой несколько аптек в поисках той, что открыта, пока сообразит, в чем дело… А рынок — вот он, совсем рядом.
Леонардо призвал на помощь всю свою волю, пересиливая боль, рывком поднялся на подкашивающиеся ноги и потащился в сторону рядов.
Продавцы и покупатели, как всегда в такие дни, заполонили всю рыночную площадь, разнообразие звуков, цветов и запахов кружило голову. Леонардо с трудом пробирался сквозь толпу, со всех сторон получая толчки. Боль штопором ввинчивалась в голову, по раненой ноге стекала кровь. Руки заледенели, зрение затуманивалось, несколько раз он споткнулся и едва не упал, но все же успел привалиться к ближайшему прилавку. Где же сидит этот проклятый аптекарь? Отчего он никак не может запомнить?
Леонардо удалось дотащиться до конца очередного ряда.
И вдруг он увидел ее…
Те же струящиеся по плечам каштановые локоны, тот же округлый стан, такое же загадочное сияние, исходящее от нежно-оливковой кожи. Послеобеденное солнце золотило половину ее лица, а другая лишь угадывалась в густой тени. Глаза были опущены, но он все равно мгновенно узнал ее, свою таинственную спасительницу — ту, что защитила его левую руку, а в награду попросила его научиться летать. Она стояла у прилавка с шелками, а вокруг, колышимое ветром, трепетало и переливалось разноцветное море тканей: пламенно-оранжевых и цвета глубокого индиго, темно-зеленых и изумрудных, отливающих тусклым тяжелым золотом, с вкраплениями сочной малины и яркой бирюзы. Сама она была одета в длинное широкое платье кофейного оттенка, так гармонирующего с бархатом ее бездонных глаз.
На лбу Леонардо опять выступил пот. Ему снова казалось, что это видение, ангел, посланный небесами для того, чтобы уберечь его от очередной беды. В первый раз она спасла ему руку, а сейчас явилась, когда он находился на грани беспамятства из-за страшной раны. Шатаясь от слабости и закусив губу, он устремился к ней. Голова кружилась, он быстро терял кровь. А она, его ангел, была совсем рядом.
Он хотел окликнуть ее, но его горло и рот словно забились шершавым песком. Дыхание прерывалось. От боли его скрючило, однако он, собрав все свои силы, отчаянно рванулся к ней. И почти завалился, но в последний миг успел уцепиться грязными пальцами за краешек ее платья.
Женщина вскрикнула и отшатнулась от незнакомца, ухватившего ее за подол.
— Помогите, — прохрипел Леонардо.
— Прочь от моей жены, бродяга! — зарычал откуда-то сверху мужской голос.
Жены? Разве у ангелов бывают мужья? Леонардо помотал головой, надеясь, что зрение и разум его прояснятся.
Мужчина вышел из-за прилавка и жестом собственника обхватил жену за плечи. Он был достаточно преклонного возраста и годился ей в отцы. Крохотное сморщенное личико венчала несоразмерно большая копна жестких, торчащих во все стороны волос, маленький круглый нос стремился вверх. Он походил на одного из тех ежиков, за которыми наблюдал Леонардо в детстве, гуляя по холмам в окрестностях Флоренции.
Леонардо с трудом поднялся на дрожащие колени.
— Умоляю.
Облачко набежало на ее лицо — кажется, она вспомнила его. Глаза ее широко раскрылись. Она наклонилась к нему и бережно поддержала, потому что в изнеможении он опустился на землю. Кожа ее была все такой же теплой и гладкой, как он запомнил. При каждом вздохе ее полная грудь мягко вздымалась и опускалась. Нет, она не ангел из предвечного, а земная женщина из плоти и крови.
— Лиза! — завопил ее муженек. — Ну-ка прочь от него!
Ее имя! Наконец-то Леонардо узнал ее имя.
— Лиза, — тихонько прошептал он.
Муж пытался вырвать край ее платья из скрюченных пальцев Леонардо. А перед его глазами сгущался туман. Не отводя слабеющего взгляда от ее бархатных глаз, он перенесся в волшебно-прозрачные, наполненные солнечным светом пейзажи своей юности. Перед его взором легкими волнами колыхалось море подсолнухов и оливковых деревьев. Верхушки кипарисов послушно клонились под ветром. Темные пещеры уходили в самое сердце земли. Почва под ногами неудержимо осыпалась… Затем его понесло вниз по реке к океану, и огромные валы играли им, как песчинкой, накрывали, вздымались над ним и обрушивались водопадами, разлетаясь тысячами брызг.
Наконец-то он нашел свою спасительницу. Теперь он сможет отблагодарить ее, воздать за милосердие, узнать ее.
— Я очень, очень хочу написать вас, — из последних сил прошептал он, судорожно вздохнул и погрузился в непроглядную тьму.
1502
Микеланджело
Зима. Флоренция
Раздался резкий стук в дверь.
Микеланджело вскинул голову. Уже много месяцев провел он здесь, в своем сарайчике наедине с Давидом. А теперь пришло время принимать первых посетителей. Борода и волосы Микеланджело сильно отросли и пребывали в беспорядке. И чувствовал он себя под стать внешнему виду: как злой пастуший пес, ревниво охраняющий свое стадо от волчьих набегов.
— Открой! — послышался из-за двери голос Граначчи. — Mi amico, друг мой, мы здесь. — Дверная ручка задергалась, но дверь была заперта.
Люди из Управы и старшины цеха шерстяников потребовали приватного осмотра статуи. Если они решат, что он недостаточно продвинулся, в их власти отобрать у него заказ. Однако он не мог отказать им в их законном требовании. В конце концов, мрамор принадлежал Собору. В этом кроется самая тяжелая составляющая творчества: вечно приходится держать ответ перед теми, кто тебе платит за твое искусство.
Тяжелые капли забарабанили по крыше его убежища. Нельзя оставлять важных особ, нагрянувших к нему, мокнуть под проливным дождем. Он обязан открыть дверь и пригласить их. Но ноги не слушались.
Еще один удар с треском обрушился на деревянную дверь. Микеланджело знал, что со стороны он выглядит сильным и уверенным. Еще бы, рубить и резать мрамор — суровый труд, который ближе к изнурительной тяжелой поденщине, чем к трепетному искусству. Неудивительно, что мускулы у него крепкие и рельефные. А от вездесущей мраморной пыли, которая забивается в рот и нос, его постоянно подташнивает, поэтому он почти ничего не ест. Он сильно похудел, окреп, тело приобрело ту самую резкость очертаний и точеные линии, которые так восхищают его в статуях времен Древнего Рима. Но, несмотря на внешние силу и крепость, в душе он не ощущал себя таковым. Он не был готов показать свою работу. Пока не готов. Он уже многое сделал, снял лишние слои мрамора и обнажил скрытую в нем фигуру Давида. И все же Давид еще дремал, не подавал голоса. Что, если важные господа почувствуют это? Увидят, что его Давид так и не наполнился жизнью? Вдруг они поднимут его на смех, осыплют насмешками или уволят, посчитав заурядным любителем?
— Открывай дверь! — загремел снаружи чей-то голос. — Это архиепископ!
Микеланджело не мог оставить под ливнем архиепископа кафедрального собора Флоренции. На негнущихся ногах он проковылял ко входу, отомкнул замок и рывком распахнул дверь. Несколько уважаемых персон стояли там под беспощадным натиском дождя и ветра: Граначчи, сурово насупленный архиепископ, Джузеппе Вителли, двое старшин цеха шерстяников, а еще Пьетро Перуджино и Сандро Боттичелли. Внутренности Микеланджело скрутило, как от спазма. Вот уж кого он меньше всего желал видеть, так это собратьев-художников. Его камень еще не готов для придирчивого осмотра их зорких, все понимающих глаз. Микеланджело вышел за порог и захлопнул за собой дверь.
— Вам туда нельзя.
— Микеланджело! — Граначчи протестующе воздел руки.
Небо прорезал ослепительный зигзаг молнии.
— Пропустите! — велел архиепископ. От долгого ожидания под проливным дождем его седая борода обвисла и походила теперь на спутанную шерсть промокшего осла.
— Камень не готов. Пока. Он требует еще очень большой работы. Вы должны сейчас уйти, а вернуться позже, на следующей…
— Stronzate! — Джузеппе Вителли пробормотал еще несколько ругательств и за спиной Микеланджело протиснулся ко входу. Остальные последовали за ним, и Микеланджело отступил. Проходя мимо него, Боттичелли ободряюще улыбнулся ему, а Перуджино в приветствии приподнял шляпу, и струи дождевой воды стекли с нее прямо на заляпанные рабочие башмаки Микеланджело.
Опустив в смущении глаза, Микеланджело увидел переступающие порог щегольские бордово-розовые туфли на толстой подошве и рядом с ними — изящную, инкрустированную бирюзой трость. Он перевел взгляд выше — на чулки в шашечку, фиалкового цвета панталоны, жакет с длинными рукавами и фалдами и розовый, изящного покроя камзол. В отличие от спутников, Леонардо, кажется, был вполне доволен погодой. Капли воды весело отскакивали от его розовой шляпы, разбиваясь на мелкие кристаллики. На щеке его алел глубокий порез, под глазом багровел синяк, и Микеланджело с раздражением отметил, что на фоне этих ран глаза Леонардо сияли еще ярче.
— Микеланджело! — Леонардо отвесил ему издевательски глубокий поклон и прошел внутрь, прихрамывая и опираясь на трость.
Вся Флоренция знала, что доблестный Леонардо заработал свои раны в битве с наемниками Борджиа. Он сам часто и охотно рассказывал об этом своем приключении. Все в городе были наслышаны о том, как он со смелостью льва атаковал двоих конных лазутчиков и прогнал их прочь — без оружия, а только с помощью мешка с камнями. «Я уничтожил гигантов пригоршней камней», — при каждом удобном случае похвалялся Леонардо. Микеланджело сразу отметил эту завуалированную отсылку к Давиду. «Старикашка не смог заполучить мрамор, но взамен приписал себе доблести моего героя», — злобствовал скульптор.
Микеланджело последовал за своими гостями. Пока они со всех сторон осматривали незавершенную статую, Леонардо разгуливал поодаль, проявляя больше интереса к обиталищу Микеланджело, чем к его работе. Он фыркнул, глядя на стопку эскизов, пренебрежительно пнул сложенные кучкой инструменты скульптора, потыкал тростью в стену, проверяя ее на прочность. По крайней мере, перед приходом посетителей Микеланджело удосужился-таки помыться и почиститься. На этом Граначчи настоял. И теперь, когда Леонардо с рассеянным видом бродил по мастерской, Микеланджело был рад, что послушался друга. Он сам и его мастерская выглядели и даже пахли вполне прилично. Разве что надо было еще сбрить всклокоченную бороду.
Микеланджело по привычке сунул руки в карманы, чтобы ощутить пальцами успокоительное прикосновение мраморной пыли. Он попробовал посмотреть на статую глазами своих посетителей, видящих ее впервые, и угадать, какое впечатление произвел на них задуманный им образ Давида. Чтобы скульптуру было лучше видно, он заранее убрал часть лесов перед ней. Пока что фигура едва проступала, словно неоконченный набросок, и тем была прекрасна, поскольку оставляла зрителю возможность многое домыслить самому. Микеланджело даже сам толком не представлял пока, какой получится его статуя. Отчего-то он никак не мог выбросить из головы образ могучего Геракла.
— Я пока еще прорабатываю отдельные детали, но в целом Давид представляется мне хрупким юношей, почти мальчиком, — начал объяснять Микеланджело, надеясь на то, что, описывая замысел своим посетителям, он и сам уяснит его. — Он смущенно опустил голову, как будто стесняясь своего триумфа. — Он будет прекрасен, этот мальчик. Гибок и строен. В нем воплотится хрупкость человеческой плоти. И станет понятно, что все заслуги в победе над великаном целиком и полностью принадлежат Богу.
— Статуя еще и наполовину не выполнена. — Архиепископ, желая рассмотреть работу ближе, ступил на приставленную к помосту шаткую лесенку. Лесенка заскрипела под его тяжестью, и архиепископ проворно спрыгнул назад на пол. — Почему ты так долго возишься?
Микеланджело внутренне передернулся. Как объяснить человеку, далекому от искусства, какого колоссального труда требует создание статуи? Если он делал свою работу качественно, скульптура в готовом виде выглядела так, словно изваять ее было парой пустяков.
— Это только начало, подготовительная работа, — пустился он в объяснения и, пробравшись вперед, повернулся лицом к гостям, будто желая заслонить от них своего Давида. — Но, как видите, сейчас камень хотя бы выглядит так, как полагается мрамору, и сама фигура уже понемногу приобретает очертания. Должна получиться полноценная скульптурная композиция, допускающая круговой обзор…
— Но вот будет ли она прекрасной? — Леонардо приковылял поближе к камню. — Имеется ли здесь какой-нибудь верный признак того, что из этого в конце концов родится нечто выдающееся?
Его пальцы легонько пробежали по необработанной поверхности камня.
Будет ли она прекрасной, его скульптура? Вопрос острым кинжалом вонзился в сердце Микеланджело.
— Будет! — с глубокой убежденностью произнес звучный голос. Это был Боттичелли. Выдающийся, всеми почитаемый живописец обошел кругом статую, в его глазах отразилась увиденная им красота. — Я в этом уверен. Есть в ней нечто особенное, да.
Микеланджело просунул пальцы в крюк, вбитый им в боковую грань камня, — словно взял за руку своего Давида. Ничто было не способно наполнить его такой гордостью, как эти слова. Кто-кто, а Боттичелли знал толк в прекрасном. В его «Весне» и «Рождении Венеры» запечатлены самые изысканные образы, когда-либо создававшиеся в искусстве.
— Но мастеру предстоит еще много трудиться, — предупредил художник. — Кто знает, возможно, все это обернется самым грандиозным провалом из всех, что видывала Флоренция. Однако может из этого родиться и подлинное чудо. Во всяком случае, теперь мы точно знаем, что камень пригоден для ваяния. Смотрите, какой он крепкий и сияющий — таким и положено быть превосходному мрамору. — Боттичелли замолчал, поймал напряженный взгляд Микеланджело и в наступившей тишине, кажется, целую вечность смотрел скульптору в глаза. — Теперь все в его руках.
— Что ж, раз Боттичелли так говорит, значит, так оно и есть. — Джузеппе Вителли достал из-за пазухи маленький кожаный мешочек и передал его Микеланджело.
Мешочек неожиданно оказался тяжелым. Развязав его, Микеланджело увидел, что он набит золотыми монетами.
— Что это?
— Четыре сотни флоринов. Ты заслуживаешь должной платы за свою работу.
Пока Микеланджело с недоверием взвешивал на ладони приятный груз, Леонардо, хромая, вышел из сарая, и с улицы доносились лишь дробный стук трости по мостовой и шарканье его шагов. Леонардо не вторил одобрительным речам Боттичелли, однако теперь это ничуть не огорчало Микеланджело. С четырьмя сотнями флоринов в кармане он сможет закупить припасы и все нужное для работы. Купит отцу новый камзол. А брат Буонаррото получит наконец вожделенную лавку, и дочь шерстяника согласится выйти за него. Полученные им деньги зримо подтверждали: он взрослый мужчина, способный содержать себя и своих родных, которые уже не обзовут его непутевым мальчишкой с пустыми мечтами в голове.
Его гости потянулись к выходу из сарайчика. Микеланджело поднял голову, посмотрел на своего Давида, все еще безмолвного и незавершенного, и нежно прошептал:
— Спасибо тебе.
Этим вечером он впервые за долгие месяцы еще до заката запер сарайчик и заторопился домой, чтобы поспеть к обеду. Когда он вместе со всеми сел за стол, отец ехидно заметил:
— Глядите-ка, их величество нынче удостоили нас присутствием и присоединились к нашей жалкой трапезе.
Но никакие, даже самые едкие колкости не могли испортить настроения Микеланджело. Золото, которым полнились его карманы, было способно вмиг и навсегда изгнать желчь из отцовского тона. Однако Микеланджело предпочитал пока помалкивать и не открывал родным свою новость. Откинувшись на спинку стула, он потягивал вино, жевал ржаной хлеб с моцареллой и прислушивался к обычной перебранке за столом.
Наконец брат Буонаррото, весь вечер не спускавший с него глаз, спросил:
— Микеле, что происходит? Отчего это ты все время улыбаешься?
Не говоря ни слова, Микеланджело достал кожаный кошель и высыпал на стол все четыре сотни флоринов. Монеты раскатились по столу, образовав приличного размера гору.
Внезапная тишина, самая восхитительная из всех, что он слышал, была ему лучшей наградой.
Затем родня взорвалась восторженными криками.
— Что это? — с недоверием спросил отец, взвешивая на ладони пригоршню золотых.
— Какой праздник для нас всех! — заверещала тетка Кассандра.
— Я знал, я верил, что ты добудешь для меня деньги! — Буонаррото всхлипнул, потом горделиво расправил плечи. — Теперь я могу жениться!
— Это плата за мою работу над статуей, — скромно пояснил Микеланджело. Его слова почти утонули в общем гвалте. Он бросил взгляд на отца. Старик улыбался, да так широко, что виднелись даже пустые десны в уголках безгубого рта.
— Подай-ка новую бутылку вина, мона Маргерита, да смотри, не разбавляй, — скомандовал отец.
Семья радостно переговаривалась, все начали планировать, на что потратят свою долю свалившегося на них сокровища, а Микеланджело подумал, что именно так должен был чувствовать себя Давид, стоя над отсеченной головой Голиафа. Теперь и он познал это чувство, ощутил себя победителем. Микеланджело сделал большой глоток сладкого вина.
Джовансимоне взял золотой флорин и потер его между пальцами, как будто придирчиво проверял качество материала. А затем достаточно громко, чтобы все за столом услышали его, произнес:
— Вот уж не думал, что за потрошение мертвецов платят такие деньжищи.
Все вмиг замолчали. Микеланджело попытался проглотить отпитое вино, но сильный спазм сдавил горло. Дядя Франческо отбросил монеты, которые держал в руке, словно те вдруг превратились в горящие угольки.
— Я же предупреждал, что буду везде следовать за тобой! — довольно заявил Джовансимоне. Глаза его казались такими же темными, как мрачное помещение мертвецкой, и к горлу Микеланджело снова подступила тошнота.
— Я всегда знал. — Правая рука Лодовико сильно дрожала, и он поскорее поставил на стол стакан, чтобы не расплескать вино. — Да, всегда знал, что таких денег за скульптуру не платят.
Микеланджело наконец-то удалось проглотить вино.
— Люди платят деньги за искусство. За мое мне заплатил Собор.
Лицо Лодовико искривила гримаса боли.
— Тогда о чем здесь толкует Джовансимоне?
Сердце Микеланджело сжалось. Ему было невыносимо осознавать, что это из-за него так страдает его старый отец.
«Да, искусство — самое важное для меня, — горестно подумал Микеланджело, — но оно же не стоит отцовского горя?» Приступ невыносимой душевной боли, какой ему еще не приходилось испытывать, охватил его.
— Ни о чем таком он не толкует. Я всего лишь изучал анатомию.
— Ах, ни о чем? — прогремел Лодовико. — Ни о чем! Ты, ты…
Джовансимоне тем временем торопливо набивал карманы золотом.
— Как же, как же, трупы он резал, могу поручиться. Сам видел.
Дядя Франческо, а за ним и тетка Кассандра упали на колени и стали громко молиться:
— Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты…
— И не где-нибудь, а прямо в церкви. — Голосок Джовансимоне едва не дрожал от деланого огорчения.
В голове Микеланджело пронеслась мимолетная мысль о том, что лучше бы ему все отрицать. Джовансимоне нечем подкрепить свои слова, он никогда ничего не докажет. Но это означало, что придется солгать, а Микеланджело не видел ничего предосудительного в анатомировании трупов. Это необходимая часть его творчества, а через него с ним говорил сам Господь. Нет, он не заставит Господа замолчать.
— Да, это правда.
— Святый Боже, — пробормотал совершенно раздавленный Лодовико.
— Это совсем не то, что вы думаете, отец, — быстро заговорил Микеланджело. — Изучение анатомии — занятие честное и нравственное. Еще мои наставники во дворце Медичи учили меня…
— У, проклятые Медичи! — прорычал Лодовико. — Я всегда подозревал, что они развращали тебя. Уж как они поощряли тебя и это твое богомерзкое искусство.
— Прошу вас. — Микеланджело старался говорить спокойно. — Приходите ко мне в мастерскую, взгляните на мой мрамор. Я вам все объясню, расскажу, зачем должен делать то, что делаю. Вы сами все поймете.
— Мне никогда не понять этого. — Лодовико встал и указал рукой на дверь. — Вон!
— Отец! Пожалуйста! Позвольте мне объяснить…
— Вон! — Лодовико надвигался на Микеланджело, заставляя того пятиться одной лишь силой своего гнева.
— Я прекращу это! Я больше шагу туда не ступлю. Я клянусь. — Микеланджело быстро перекрестился, но Лодовико с силой взмахнул рукой, словно отгоняя беса. — Я исповедуюсь. Настоятелю. Я вымолю прощение.
— Клянешься ли ты, что бросишь искусство? Навсегда?
Микеланджело посмотрел отцу прямо в глаза.
— Вы же сами знаете, что этого я не могу.
— Тогда ты мне больше не сын. — Последнее слово Лодовико презрительно выплюнул. — Ты дьявол, променявший свою семью на камень.
— Постойте, ну пожалуйста! — взмолился Микеланджело. Ужас, нарастающий внутри него, казалось, вот-вот захлестнет его полностью. — Мой дом здесь, и мне некуда больше идти.
— Какое мне дело, — холодно ответил отец и распахнул перед ним дверь.
— Но как же мои вещи, мои деньги? Все же здесь.
— Тебе некого винить, только самого себя. — Лодовико решительно надвигался на Микеланджело, выдавливая его за порог.
— Arrivеderci, братик, я буду скучать по тебе, — с издевкой крикнул из-за стола Джовансимоне, засовывая последние флорины в свой карман.
— Джовансимоне! — вне себя прорычал Микеланджело. — Сейчас же положи назад деньги. Они не твои, это для семьи!
— Не смей говорить со своим братом! Не смей говорить ни с кем из нас, пока не отречешься от своего непотребного искусства, которое поганит твою душу. — Лодовико резко повернулся и захлопнул перед сыном дверь.
— Нет, — прошептал Микеланджело. — Ну пожалуйста, смилуйтесь. — В мольбе он протянул руки к отчему дому, но ставни на окнах одна за другой захлопнулись. — Ну пожалуйста! Это же все для семьи! — прокричал он в глухие ставни. — Я столько страдал. Я трудился, как вол. И только-только мне удалось хоть немного поднять нас из безвестности, только я принес в дом эту малость денег, как вы отвергли меня. И это все ты, мой родной брат! — Его страх и чувство вины мгновенно сменились неистовым гневом. — Ты, подлый Джовансимоне! Ты шпионил за мной, ты обратил против меня мою страсть, и все ради своей неуемной жадности. Это правда, клянусь телом Христовым, истинная правда! Ну и подавись этими деньгами. — Микеланджело отступил от двери. — Я заработаю еще больше. И знаешь, что сделаю? Принесу заработок тебе, потому что ты моя семья и я никогда не отвернусь от тебя, что бы ты ни натворил.
Он еще немного постоял в надежде на то, что дверь откроется, но отчий дом был погружен в тишину. Тяжелые рыдания рвались из груди, однако он усилием воли сглатывал их. Джовансимоне наверняка наблюдал за ним из окна. Нет уж, не доставит он братцу этого удовольствия, не покажет ему свое отчаяние. Микеланджело повернулся и ушел.
Ему и правда некуда было идти, кроме как в хибару во дворе соборной мастерской. Он зашел в свое прибежище и без сил опустился на пол у ног Давида. День наивысшего триумфа завершился для него горчайшим поражением. Микеланджело поднял голову и посмотрел на незавершенную статую. Ради этой безмолвной глыбы мрамора он поступился своей семьей, родными. С тяжелым вздохом он завернулся в худое одеяло и обратился к Давиду:
— Теперь самое время заговорить тебе со мной.
Леонардо
Леонардо сидел, скрестив ноги, через дорогу от величественной базилики ди Сан-Лоренцо и набрасывал в альбоме архитектурный план здания. Он как раз обрисовывал купол и округлые выпуклости часовен, когда на его набросок упала тень. Подняв голову, он увидел, что солнце ему загородил Салаи.
— Природа — вот кто лучше всех научит архитектора проектировать здания, — задумчиво произнес Леонардо. — Взгляни-ка на этот план и только попробуй не согласиться с тем, что он напоминает лепестки цветка. Впрочем, как и весь пропорциональный строй основных компонентов.
— Господин! — В голосе Салаи отчетливо слышались нотки нервозности.
— Если ты явился сообщить о том, что меня разыскивают монахи-сервиты, то мне это и без тебя известно. Неделями они преследуют меня и все канючат, канючат. Скажи им, что я вышел купить пигментов. И вот-вот приступлю к росписи красками. На днях. — Леонардо повернул альбом боком, чтобы изобразить грандиозное строение в поперечном разрезе.
— Вот, пришло вам.
Леонардо наконец увидел в руках Салаи письмо, украшенное золотой печатью папского войска. Определенно, это не мог быть ордер на его арест за нападение на солдат Борджиа с мешком камней. Или мог?
Леонардо взял у Салаи письмо, сломал печать.
Быстро пробежав текст глазами, он выдохнул с облегчением — опасаться было нечего. Чезаре Борджиа не помышлял о его аресте —напротив, он желал нанять его. Его люди обнаружили имя Леонардо среди обломков и обрывков его летательного аппарата, а их военачальник вспомнил виденную им в Мантуе установку для фейерверков с многочисленными трубками. Вот и решил поставить гениальные мозги Леонардо себе на службу. Недаром в письме Чезаре упомянул о грандиозных замыслах: установить свою власть на всем полуострове и даже за его пределами, подчинив себе огромные территории, не уступающие размерами Римской империи. И если Леонардо возьмется помочь осуществлению его планов, герцог обещает ему более чем солидную плату, а также готов пожаловать ему должность главного военного инженера папской армии.
Пока Салаи через его плечо читал письмо, Леонардо едва сдерживал довольную улыбку.
— О нет, Господин, только не это! — простонал Салаи. — Вы не должны работать на Чезаре Борджиа. Одно дело — прослыть предателем Милана и герцога Моро, это еще куда ни шло, но видано ли предавать Флоренцию?!
— Великолепная возможность сама идет к нам в руки. — Леонардо сложил письмо и засунул в карман. — Я буду последним глупцом, если упущу ее.
Секретарь второй канцелярии Флорентийской республики Никколо Макиавелли был самым молодым дипломатом на правительственной службе, и тем не менее именно ему давали наиболее щекотливые поручения. Прошлым летом он ездил во Францию и встречался с королем, а в ближайшем будущем ему предстояло возглавить мирные переговоры с Чезаре Борджиа. От миротворческих талантов этого молодого человека зависело теперь будущее Флоренции. Хитрый дипломат, уже прославившийся своим умением искусно и исподволь управлять людьми, был человеком, которого желал повидать Леонардо.
— Но, господин, я ничуточки не доверяю этому лису, — сказал Салаи, когда Леонардо поделился с ним своими планами.
— Я тоже. Потому-то и хочу перетянуть его на свою сторону.
Во дворце Синьории они проследовали за стражником на верхний этаж и вошли в загроможденную каморку, служившую Макиавелли кабинетом. Стены ее были увешаны картами, грамотами и договорами, полки и письменный стол уставлены флагами, медалями на подставках и пестрыми экзотическими керамиками — все эти диковины хозяин кабинета вывез из стран, которые посещал с дипломатическими миссиями. Остальное пространство занимали книги: они громоздились на столе, на стульях и даже на полу.
Макиавелли посмотрел на вошедшего Леонардо из-за горы бумаг. Затем одним движением глаз отослал стража, и тот мгновенно ретировался.
— Не могу поверить в то, что мне выпала честь приветствовать вас в моем кабинете. — Макиавелли встал. На нем было простое черное одеяние наподобие сутаны, и только переливающийся кровавым светом рубиновый перстень на мизинце давал понять, что устремления его обладателя — очень даже мирские. — Что же привело самый выдающийся ум Флоренции ко мне?
— Боюсь, что я принес вам нерадостные известия, синьор Макиавелли. — И Леонардо принялся рассказывать ему свою версию происшествия на Монте-Чечери: о том, как он испытывал новейшую летательную машину собственного изобретения, всадники Борджиа напали на него, Леонардо обстрелял их камнями, но те успели прихватить с собой его воздушный винт. — Они рыскали в окрестностях города явно с целью разведки, — продолжал Леонардо. — А теперь еще и завладели прототипом моего аппарата. И если вы не хотите, чтобы Борджиа первым научился подниматься в воздух, Флоренция — ради собственной защиты — должна взять меня на службу. Я могу сконструировать мощное оружие для ведения войны, синьор. Ваша армия будет оснащена военными машинами, каких еще не видел мир. Только представьте себе: вы смогли бы летать над вражескими землями и обстреливать их с небес.
Макиавелли легко выдержал пронзительный взгляд горящих глаз Леонардо. Но все еще хранил молчание.
— У меня имеется кое-что такое, о чем вам не помешает знать. — Леонардо достал из кармана письмо. — Вот, это мне написал Борджиа.
И снова никакого отклика — лицо дипломата по-прежнему оставалось непроницаемым.
— В письме содержатся указания на его дальнейшие военные планы. Сведения эти очень важны для Флоренции.
Макиавелли властно протянул руку, требуя письмо.
Леонардо крепче сжал в пальцах бумагу. Он был не настолько наивен, чтобы вот так сразу отдать ее. Пока документ у него, он остается хозяином положения.
— Я отдам вам письмо, если вы сумеете убедить город нанять меня военным инженером. Флоренция нуждается в защите, синьор, а я лучше всех подхожу для этого.
На мгновение Макиавелли опустил взгляд в пол, а затем поднял голову и снова посмотрел на Леонардо. Наверное, это можно было истолковать как кивок.
— А сейчас извольте дать мне письмо.
Достигли ли они согласия? Макиавелли нетерпеливо шевелил пальцами. Не лучше ли вынудить ушлого дипломата подтвердить договоренность, хотя бы на словах? Но Леонардо сразу отказался от этой мысли — дипломат может решить, что он, Леонардо, не разбирается в тонкостях переговоров с высокопоставленными особами. Он передал Макиавелли письмо.
Тот развернул лист длинными тонкими пальцами и быстро просмотрел.
— Вы покажете письмо городскому совету. — Макиавелли вернул документ Леонардо. Художник не понял, было ли это просьбой или приказом.
— А вы убедите их взять меня на службу.
— Ваш город нуждается в вас, маэстро Леонардо. — Дипломат протянул ему руку для пожатия. — Я устрою встречу с людьми, которые должны одобрить ваше назначение, и лично помогу вам отрепетировать убедительную демонстрацию ваших возможностей. Вместе мы восторжествуем — на благо вам, на благо мне, на благо всей Флоренции. Ну как, решено?
В голове у Леонардо вихрем пронеслись видения новых изумительных изобретений, которые он мог бы сделать. Да, он верно все рассчитал. Служба принесет огромную пользу и ему, и Флоренции.
— Решено, — выдохнул он и ответил на рукопожатие.
На следующей неделе мужчины встретились, чтобы подготовиться к представлению всех заслуг Леонардо в городском совете. Чем больше времени художник проводил в обществе Макиавелли, тем сильнее он верил в проворный изворотливый ум дипломата. Молодой человек постоянно размышлял о политических интригах, так же как Леонардо — о тайнах Вселенной.
— Переговоры подобны танцу, — наставлял Макиавелли. — Всегда двигайтесь в такт музыке и следуйте за партнером.
В назначенный день члены городского совета собрались в тесном кабинете Макиавелли. Действующий гонфалоньер справедливости, избранный на свой пост всего две недели назад, похоже, еще не свыкся со своим могуществом. Это добрый знак для Леонардо — не искушенный в политических делах землевладелец легко поддастся хитроумным манипуляциям блестящего дипломата.
Макиавелли небрежно представил всех друг другу, а затем развернул на столе огромную карту Флоренции и сопредельных земель, включающих Романью, где в этот момент орудовали войска Чезаре Борджиа. Описывая нависшие над Флоренцией опасности, он намеренно понижал голос, вынуждая присутствующих подаваться вперед и вытягивать шеи, чтобы лучше слышать его.
— А теперь, — сказал Макиавелли, закончив свою партию в задуманном им с Леонардо спектакле, — расскажите вы, синьор да Винчи, о ваших планах.
Странно. Макиавелли всегда величал Леонардо не иначе как «маэстро», редко подчеркивая его происхождение из маленького городишки Винчи. Перемена несколько удивила Леонардо, но он напомнил себе о том, что должен следовать за партнером по танцу.
— Разумеется, синьор Макиавелли. Я уже разработал много планов того, как мы могли бы отвоевать у Борджиа захваченные земли.
— Э-э, они уже не могут считаться захваченными. Теперь это его владения, — робко вставил маленький, бледный от навалившейся на него ответственности гонфалоньер.
— Как так? — обескураженно спросил Леонардо. Это для него новость. Он вопросительно посмотрел на Макиавелли, ожидая, что у того будет такой же сконфуженный вид, как у него самого, но дипломат, как обычно, выглядел невозмутимо спокойным.
— Две недели назад, — сообщил Макиавелли, — папа пожаловал Чезаре новый титул в добавление к титулу главнокомандующего папскими войсками и титулу герцога Валентинуа. Теперь он еще и герцог Романьи. Он больше не захватчик, а законный властелин и правитель этих земель.
Для Флоренции эта новость была ужасной. Чезаре усилился. Приобрел больше власти. Больше денег. И, безусловно, все это на руку Леонардо. Теперь Флоренция как никогда нуждается в надежной защите. И все же он ощутил еще один укол тревоги. Макиавелли знал об этом все те две недели, в течение которых они готовили спектакль, и вполне мог поделиться известиями с Леонардо. Однако не сделал этого. Напротив, он выставил Леонардо в глупом положении перед городским советом, показав, что тот мало осведомлен о тонкостях высокой политики. Момент, однако, приобрел особую драматичность, ведь знай Леонардо обо всем заранее, он, пожалуй, не сумел бы так естественно разыграть потрясение. Судя по озабоченным перешептываниям в рядах членов городского совета, план Макиавелли вел к заранее просчитанному триумфу.
— Истинно так, — взял слово Леонардо. — Флоренция — в кольце врагов, и ей угрожают серьезные опасности. Мы уязвимы со всех сторон. Восточные дозорные башни дают слишком мало обзора. С северной стороны защитная стена того и гляди разрушится. С южной стороны город открыт для пушечной стрельбы с близлежащих холмов. — Одновременно Леонардо показывал уязвимые места на карте. — Ворота на западной стороне чаще всего открыты настежь, чтобы воюющие с Пизой наемники в любой час могли найти в городе прибежище. Через них в город может проникнуть любой. Я не говорю уже об Арно — ее русло прорезает самую сердцевину города и делает нас легкой добычей для тысяч и тысяч атак. — Это Макиавелли посоветовал Леонардо насытить речь леденящими подробностями о грозящих городу опасностях. Страх, говорил он, — единственное средство, способное принудить человека к экстренным мерам. Если люди охвачены страхом, они готовы расстаться со своими деньгами, со своей землей и даже со свободой, лишь бы защититься от опасностей, но в этом и есть издевка судьбы: настоящей безопасности у них не будет никогда.
— И каким же образом вы собираетесь спасать Флоренцию? — спросил Макиавелли, как у них было заранее договорено.
Леонардо изложил свои идеи, продемонстрировал рисунки и чертежи, указывая места на картах.
— Можно устроить сторожевые пункты на окрестных холмах, — говорил он, — можно добывать в близлежащих горах камень и заготавливать его для обороны стен, а еще можно повернуть русло Арно, тем самым лишив мятежную Пизу питьевой воды и выхода к морю.
От последней, особенно экстравагантной идеи брови гонфалоньера удивленно поползли вверх. Он и другие члены Синьории начали забрасывать Леонардо вопросами о том, каким образом это можно сделать. Тот открыл достаточно секретов, чтобы распалить их любопытство, а потом заявил: остальное он готов рассказать, когда его примут на службу городу.
Леонардо продемонстрировал собравшимся рисунки, изображающие диковинные, одетые броней машины, ощетинившиеся во все стороны пушечными стволами, переносные мосты для преодоления оборонительных рвов противника, специальное облачение, позволяющее солдатам дышать под водой и скрытно подбираться по дну рек к позициям противника. И конечно, он с жаром рассказал о всевозможных летательных машинах.
— Люди Борджиа стащили прототип моего устройства для полетов, но, если они вздумают воспользоваться им, у них ничего не получится. Его конструкция пока несовершенна. Однако я уверен, что с вашей поддержкой сумею покорить небеса, равно как и победить армию Борджиа.
На воплощение своих масштабных идей Леонардо запросил у городского совета неограниченные средства и неограниченное время. Это Макиавелли посоветовал ему преувеличить размер затрат. Городские власти, втолковывал ему Макиавелли, вечно торгуются с подрядчиками из-за цены, и, когда город со своей стороны предложит Леонардо меньшую сумму, она будет достаточной для его целей.
— С такими планами, синьоры, я смогу не только защитить Флоренцию от могущественного противника, намного превосходящего нас силой и богатством, но и в корне изменить приемы ведения войны, а с ними — и сам ход истории.
— Что в точности говорили вам люди Борджиа, из чего вы заключили, что все это нам действительно потребуется? — попросил разъяснений гонфалоньер.
Леонардо расправил плечи и поднял подбородок. Если сейчас он оплошает, то и достойного предложения от города не дождется.
— Тех всадников Борджиа явно выслали разведать наши укрепления. В этом не может быть сомнений. — Леонардо показал членам совета письмо от Чезаре Борджиа. Пока гонфалоньер читал, Леонардо продолжил натиск: — Герцог Валентинуа нуждается в услугах знаменитого инженера Флоренции — в моих услугах — для того, чтобы использовать мои знания об оборонительных сооружениях города. Взоры Борджиа давно устремлены на Флоренцию. Он готовит нападение. Если сейчас мы не защитим себя, мы навеки потеряем нашу Республику.
— Воистину, ты был прав, Никколо, — проговорил гонфалоньер, поднимая на дипломата полный тревоги взгляд.
Макиавелли со всей серьезностью кивнул.
— Да. Когда мы в последний раз встречались, Борджиа так и сказал мне: «Флоренция или со мной, или против меня. Если вы откажете мне в дружбе, получите в моем лице врага».
Вот так поворот, поразился Леонардо. Но почему же Макиавелли ни словом не обмолвился ему об этом?
Слова дипломата привели в ужас членов совета.
— У нас нет выбора, — объявил гонфалоньер со скрежетом в голосе, — мы должны откупиться от Борджиа.
Леонардо нахмурился. Как это — откупиться от Борджиа? Ничего подобного в их плане не предусматривалось. План состоял в том, чтобы его взяли на службу и…
Макиавелли заговорил раньше, чем Леонардо пришел в себя:
— Война оправданна, только если она необходима; прибегать к оружию позволительно, лишь когда невозможно обойтись без него. А сегодня у нас еще остается надежда. Выкупные деньги — вот лучший для нас ответ на угрозы Борджиа.
Все согласно закивали.
— Так значит, решено? — уточнил Макиавелли. — Вы отправляете меня к Чезаре Борджиа с тридцатью тысячами флоринов, и я заверяю его в том, что мы будем ежегодно платить ему такую же сумму, верно?
— Да. — Гонфалоньер решительно протянул руку Макиавелли. — Все решено.
— Позвольте, а как же с моим предложением? — спросил Леонардо. — Или вы уже не нуждаетесь во мне для защиты города?
— Нам не хватит денег и на то, и на это, — степенно ответил гонфалоньер. — Идея Никколо обойдется нам дешевле, чем все, что вы предлагаете, да и кровопролития меньше. А уж изменять течение рек… — Он покачал головой. — Я не могу взвалить на себя ответственность за такие грандиозные прожекты. И потом, отделавшись от Борджиа, мы сможем всецело сосредоточиться на войне с Пизой.
Совет обратил взгляды на карту Пизы, а Макиавелли послал Леонардо виноватую, но не скрывающую торжества улыбку. О, Мастеру из Винчи хорошо знаком этот вид скромного триумфатора. Сколько раз он сам принимал его, побеждая соперников. Так что сомнений нет: его переиграли. Макиавелли никогда и не намеревался помогать ему. Он попросту использовал знаменитого художника для того, чтобы провести угодное себе политическое решение.
— Я мог бы помочь вам в войне с Пизой, — выпалил Леонардо. Шестеренки и колесики в его голове бешено крутились, выискивая способы не упустить желанную должность.
— Все ваши планы предназначены для отражения нападений, — ответил гонфалоньер, не поднимая взгляда от карты. — А Пиза на нас не нападает. Это мы собираемся атаковать ее.
— Я могу предложить идеи и для наступления!
— Прошу прощения, я на минуту, — пробормотал Макиавелли собравшимся, взял Леонардо под локоток и почтительно проводил его к двери. — Благодарю вас, Леонардо. Сегодня вы сослужили великую службу своей стране. Вы помогли Республике избежать войны. Когда мир побеждает, побеждаем все мы.
Леонардо высвободил локоть из цепких пальцев дипломата.
— За исключением меня.
— Все в свое время, — мягко ответил Макиавелли. — Верьте мне, друг мой.
Еще несколько минут назад Леонардо верил этому человеку и его слову, как никому и никогда. Но теперь…
— Вот уж ни за что больше не поверю крокодилу, который льет слезы, прежде чем проглотить меня. Вы обещали мне помощь. Вы лжец и лицемер.
— Уверяю вас, Леонардо, — сказал Макиавелли, — что бы вы там ни думали, я не лицемер. Ибо никогда не лил по вам слез.
Покидая дворец Синьории, Леонардо увидел на ступеньках ожидающего его Салаи. Художник помотал головой, чтобы пресечь все вопросы. Должности он не получил. Видимо, ее с самого начала никто не собирался ему предлагать. И уже никогда не предложит. Он заметил, как поникли плечи у Салаи. Мальчишка и без слов все понял.
По улице они шли в молчании. В голове у Леонардо ворочались невеселые мысли. Флоренция ненавидит его, да и всегда ненавидела. Правительство отказалось от его услуг. Собор отказал ему в претензии на камень Дуччо. Даже церковь Санто-Спирито позволяет анатомировать трупы Микеланджело, а ему, Леонардо, там дали от ворот поворот. Никто в этом городе не верит в него.
За исключением одной синьоры. Прекрасной незнакомки, жены торговца шелками, которая спасла его руку, едва не зарыдала при виде его кровавой раны, произнесла бесхитростные, но такие нужные ему слова поддержки, словно благословив его мечту о полетах. Она одна понимала его, но что это меняло? Леонардо не раз приходил к прилавку ее мужа-торговца в надежде встретить ее, но ни разу не застал. Сомнения снова обуревали его: то ли муженек держал ее дома взаперти, то ли она и правда ангел, являющийся с небес, чтобы вызволять его из очередной опасности. Его, самого знаменитого жителя Флоренции, поддерживал всего один человек, в лучшем случае незнакомый и исчезнувший неведомо куда, а в худшем и вовсе не существующий. Леонардо громко расхохотался.
— Господин? Что с вами?
— Лети со мной, Салаи. — Леонардо представил, что парит в воздухе, раскинул руки, словно крылья, и побежал, петляя из стороны в сторону. Салаи, следуя его примеру, начал изображать руками взмахи крыльев, хохоча во все горло. Леонардо, откинув голову, понесся что есть сил к площади, где стояла Сантиссима-Аннунциата, с наслаждением ощущая, как развеваются на ветру его волосы и бородка.
Он остановил свой полет, только завидев маячащую возле двери фигуру. Проклятый нотариус снова явился по его душу. Леонардо сразу прекратил бег, досадуя на то, что этот неприятный человек видел его дурачество. Стыд заклубился вокруг него, как дым.
— Добрый день, — произнес он со всей почтительностью, какую сумел наскрести в душе, и постарался обойти нотариуса, чтобы войти в студию.
— Я пришел поговорить, — сообщил нотариус. Его новая туника была чистой и свежей, волосы — аккуратно зачесанными. — Братья-сервиты призвали меня обсудить с тобой твой контракт.
Леонардо вгляделся в знакомые стальные глаза. Морщинистая кожа, словно груз, оттягивала их вниз, края век у старика обвисли. То ли это разочарование, то ли печаль, а может, просто старость?
— Мне очень жаль, Леонардо, — сказал нотариус.
— Жаль чего?
— Что… — Старик больше не смотрел ему в глаза. — Что это я должен сообщить тебе новость.
Вот, значит, от чего суждено погибнуть заказу, который доверили ему братья-монахи. От руки нотариуса.
— А вы, как я посмотрю, и сами рады явиться сюда. И туника у вас новая, не правда ли?
Нотариус помотал головой.
— Святые отцы были более чем щедры к тебе, оплачивая твое содержание в течение двух лет. Я радовался, видя, с каким христианским милосердием они к тебе относятся. А ты так и не притронулся к алтарной росписи, не сделал ни одного мазка кистью. Видит Бог, я больше не могу защищать тебя.
— Да, но эта церковь — моя студия, мой дом. Я живу в ее стенах.
Нотариус посмотрел в сторону.
Старик, не иначе, ожидал, что Леонардо станет умолять его.
— Мне больше некуда идти, — прошептал художник.
— Мне очень жаль. Правда.
— Да уж. Вы частенько так говорите. — Леонардо протиснулся за спиной посетителя и распахнул дверь. — Впрочем, неважно. Я обращусь прямо к братьям-сервитам и попробую отстоять свой контракт. Ведь это они мои заказчики, они…
— Нет, они больше не заказчики, — прервал его нотариус. — Отныне все дела ты должен решать со мной.
Леонардо отпустил дверь, та с шумом захлопнулась.
— Знаете, на днях мне пришла на ум занимательная загадка, думаю, вам она придется по душе.
— Ах, Леонардо. — Нотариус с укоризной вздохнул.
— Право же, она очень умно придумана. Вы только выслушайте…
— Если захочешь обсудить условия своего отъезда отсюда… ты знаешь, где меня найти.
— Появляются гигантские фигуры, формой и обликом совсем как человеческие. — Тон у Леонардо был задорный, словно он пересказывал забавную шутку. — Но чем ближе к ним подходишь, тем сильнее они съеживаются…
Нотариус отвернулся и вышел на улицу.
— Вот, собственно, и все. Проще некуда, — крикнул Леонардо в спину уходящему старику. Но тот все удалялся, стуча каблуками по булыжникам площади. — Отгадайте, что это! Ну попробуйте хотя бы. А я буду нем как рыба и ни за что не открою разгадку.
Нотариус шагал, не оглядываясь, и вскоре исчез за поворотом.
Подошел Салаи. Леонардо чувствовал, что юноша подыскивает какие-то подходящие слова. Лучше бы он ничего не говорил.
— Господин? А какова разгадка?
Леонардо прислонился к закрытой двери церкви.
— Это уже неважно.
В студии его поджидало письмо. От торговца шелком, Франческо дель Джокондо, мужа той женщины с рынка. Во время их последней встречи, учтиво писал торговец, он еще не представлял, кто такой Леонардо, но он навел справки и теперь знает, сколь многими выдающимися достоинствами обладает маэстро. Кстати, он, Джокондо, покровительствует церкви Сантиссима-Аннунциата, так что их с Леонардо объединяют и общий духовный дом, и общая любовь к искусству. Супруга рассказала ему о любезном предложении Леонардо написать ее. И он, Джокондо, готов заказать мастеру портрет его дражайшей любимейшей супруги — мадонны Лизы Герардини дель Джокондо.
Если письмо не лжет, то его спасительница — не привидевшийся ему ангел, а земная женщина.
Но предложение опоздало. Тем же вечером Леонардо написал ответ герцогу Валентинуа, главнокомандующему папской армией, новоиспеченному герцогу Романьи Чезаре Борджиа с согласием принять должность главного военного инженера. Пусть Флоренция не нуждалась в нем — зато нуждался кое-кто другой. Леонардо отправится на войну.
Микеланджело
Весна. Флоренция
— На кого он работает?! — Сердитый голос Микеланджело напоминал медвежий рык.
— Я думал, ты знаешь, — пожал плечами Граначчи. Им удалось пробраться на площадь перед Дуомо вместе с другими флорентийцами, и теперь все, от мала до велика, ожидали, когда начнется пасхальное шествие.
— Интересно, как я мог узнать об этом? — уже спокойнее спросил Микеланджело. — Я много недель провел у себя в мастерской в совершенном затворничестве. — Только сегодня, на Пасху, Микеланджело оставил свой безмолвный мрамор и впервые более чем за месяц выбрался на улицу, истосковавшись по человеческому общению. Узнав новость, он не поверил своим ушам. — Леонардо, может, и несносный гордец и задира, каких поискать, но он не предатель.
— Флоренция отказалась взять его на службу, вот он и предложил свои услуги ее противнику. — Граначчи вытянул шею, пытаясь поверх головы какого-то верзилы рассмотреть, что делается на ступеньках Собора. — Это чистая правда, mi amico. Теперь Леонардо да Винчи служит военным инженером у Чезаре Борджиа.
Пасха — светлая радость притчи о воскресении Спасителя из мертвых, священные гимны, восхитительные ароматы ладана, свежевыпеченного хлеба и жареного мяса — всегда наполняла душу Микеланджело надеждой, но в этот раз он не испытывал радостного предвкушения, душу его затянули темные тучи. Его семья сейчас тоже ожидала наступления праздника где-то в этой толпе, а он не мог быть с ними. Родные ни за что не хотели простить ему то, что он препарировал трупы. Его мрамор был все еще нем и бесчувствен и, как он ни старался, отказывался говорить с ним. Порой молчание камня делалось невыносимым, и тогда Микеланджело боялся, что тот не проснется уже никогда. А тут еще эта новость о Леонардо.
— Флоренция приняла его с распростертыми объятиями, воздавала почести пирами и праздничными шествиями, а он вот так отплатил ей за это? — недоверчиво переспросил Микеланджело.
Граначчи снова пожал плечами.
— Если хочешь знать мое мнение, так он просто поквитался с городским советом за отказ от его услуг. Взяв Леонардо на службу, они точно заручились бы его верностью.
— Чтобы Флоренция кому-то платила за верность себе? Не бывать этому.
— Что здесь такого? Платят же они за защиту. Известно ли тебе, что городской совет предложил Борджиа колоссальные деньги за то, чтобы он оставил нас в покое? В чем разница?
— Мы что, платим взятки Борджиа?
— А разве у нас есть выбор? Мы народ, посвятивший себя искусству, а не войнам. Не подумай, будто я осуждаю Флоренцию за ее благоволение искусству… — быстро добавил Граначчи. — Но сам посуди: мы, флорентийцы, сидим за своими прочными стенами и только и думаем о том, как преумножить красоту и великолепие города, а когда приходит время постоять за нее в бою, призываем в помощь наемников. Вот и получается, что деньги — единственное наше оружие против кровожадных завоевателей вроде герцога Валентинуа.
На площади перед Собором появилось знатнейшее семейство Флоренции — Строцци, обряженные в свои самые богатые наряды; они должны были открыть пасхальное шествие. У Микеланджело от бушующего внутри гнева звенело в ушах. Работая в Риме, он с гордостью высек на своей Пьете слово «флорентиец», желая подчеркнуть свою принадлежность этому прекрасному городу. И когда к нему пришел первый настоящий успех, он не побежал продаваться римлянам. Нет, он вернулся домой, во Флоренцию. Его сердце и его душа, его ум, его руки, его говор и даже вкус, который ощущает его язык, — все это флорентийское, и он флорентиец до глубины души, до кончиков ногтей. Он не мог предать свой город, как не мог предать самого себя.
А что же Леонардо? Самый знаменитый житель этого города с легкостью продался чудовищу, которое угрожало стенам Флоренции и высасывало деньги из ее сундуков. Почему? Из-за того, что Борджиа хорошо платит? Все знают, что Леонардо отрекся от Милана и герцога Моро, но мыслимо ли пойти против Флоренции?!
На ступенях Дуомо архиепископ открыл огромную Библию и начал громко зачитывать евангельскую историю о воскресении Иисуса Христа. Стоящие в первых рядах мужчины, обладающие сильными голосами, повторяли за архиепископом слова Евангелия, чтобы их услышали в следующих рядах. Там мужчины так же подхватывали текст, чтобы их могли слышать стоящие за ними, и так волна катилась через площадь, к последним рядам, и выплескивалась на улицы, где собирались припозднившиеся горожане. Благодаря такому многократному повторению все население Флоренции слушало евангельскую историю о чудесном воскресении Христа.
Под перекаты волн евангельской вести Микеланджело упал на колени. Казалось, он погрузился в молитву. Но в нем бушевали совсем иные чувства. Еще теплящиеся остатки уважения к Леонардо угасли в его душе, как угасает огонек свечи, когда его прижимают двумя пальцами.
— Ну же, старикан, покажи, как низко ты готов пасть, — беззвучно бормотал Микеланджело. Губы его шевелились, но ни звука не слетало с них; ему же думалось, что его голос звучал громко и отчетливо, как если бы он стоял на ступенях Собора, а его слова перелетали от флорентийца к флорентийцу, достигая ушей Леонардо, где бы тот ни находился. — Из этого увечного куска мрамора я изваяю нечто более величественное, чем все, что выходило из твоих рук, нечто более восхитительное и прекрасное, чем способно подсказать тебе все твое хваленое воображение. Я создам нечто столь изумительное, что оно изгонит из памяти мира даже следы твоего имени, предатель Леонардо да Винчи! Я восторжествую над тобой одною силой своей веры и этого камня.
Архиепископ торжественно провозгласил:
— Христос воскрес!
Микеланджело поднялся на ноги, и как раз вовремя: он увидел, как резной голубь, скользя по веревочке, слетел с самой верхушки баптистерия на ступени Собора. Каждую Пасху такой резной голубок проделывает это путешествие над головами флорентийцев, и каждый год Микеланджело стоит тут, на площади, и молится, объятый светлой радостью и благоговейным восторгом перед чудом Господним.
Сейчас им владели те же чувства.
Голубь опустился на изящный деревянный столик на колесиках, и тут же тысячами искр взорвались фейерверки. В этот миг Микеланджело ощутил, как где-то глубоко внутри у него зародилось новое неведомое чувство, чистое, яркое и ослепительное, будто свет Полярной звезды. Кажется, оно всегда жило, горело в нем и никогда уже не погаснет. Ему послышался слабый призрачный звук, идущий откуда-то издалека, легкий, как вздох, как взмах крыльев. Он сорвался с места.
— Простите, — второпях скороговоркой раз за разом повторял Микеланджело, пробираясь сквозь толпу.
— Mi amico, куда ты? — окликнул его Граначчи. — Куда ты бежишь?
А Микеланджело барахтался в людском море, рассыпая во все стороны вежливое «Scusa, per favore».
— Да вернись же! — уже закричал Граначчи. — Пасха ведь!
Толпа разразилась торжественным гимном, и в этот момент Микеланджело удалось вырваться с запруженной площади. Со всех ног он бежал вокруг Собора к его заднему двору, туда, где стоял его сарайчик. Он завернул за угол, и отдаленный легкий вздох, послышавшийся ему в толпе и заставивший сломя голову нестись в мастерскую, вдруг набрал силу, превратившись в бриз, порхающий над бескрайним морским простором. Трясущимися руками он отпер замок.
Он распахнул дверь, и бриз задул с мощью штормового ветра. Микеланджело закрыл и запер дверь. Шторм тем временем разгулялся, воздух в мастерской сгущался и дрожал, как перед грозой.
Микеланджело повернулся к колонне. Положил руку на мрамор и прислушался. То, что он принял за шум ветра, не ветер вовсе. Звук исходил из толщи камня. Вдох-выдох, вдох-выдох… Микеланджело, закрыв глаза, сосредоточенно вслушивался в это дыхание. Вскоре до него донеслось тихое, еле различимое биение. Это пробудилось сердце камня. Медленно, словно нехотя, пульсация набирала силу. Камень уже не просто дышал — он шептал. Правда, слов было еще не разобрать, лишь отрывочные звуки и буквы. Микеланджело нежно гладил мрамор, и от его ласки буквы начали сливаться в слова. «Свет» — вот первое, что удалось расслышать Микеланджело. Затем — «Страх».
— О чем ты? Пожалуйста, повтори, — нежно попросил Микеланджело. — Я не расслышал тебя.
Раздался робкий, еле различимый шепот:
— Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться?6
Микеланджело судорожно вздохнул. Он узнал: это псалом Давида, так он молился задолго до битвы с Голиафом — еще когда мирно пас в полях свое стадо.
Наконец-то мрамор заговорил с ним.
Снова послышался шепот. Слова звучали уже чуть отчетливее:
— Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?
— Давид, — выдохнул Микеланджело.
— Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, — голос Давида звучал все сильнее, — то они сами преткнутся и падут.
Слезы наполнили закрытые глаза Микеланджело.
— Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое… — взывал Давид.
— Да, — произнес Микеланджело, и смех вырвался из его горла.
Затем его слух уловил восхитительный звук — самый приятный из всех, что существовали на свете, — Давид начал петь:
— …Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
Камень не был мертв, он дышал жизнью, и теперь Микеланджело наконец-то услышал его голос. Мрамор сам расскажет ему, какую историю он скрывает в своей толще.
Великие мастера традиционно изображали Давида юным пастушком, невинным и хрупким, в тот момент, когда он торжествовал победу над могущественным Голиафом. Но Микеланджело теперь знал: Давид хотел поведать ему совсем о другом. Его Давид еще не поверг противника, схватка только предстоит ему. И он на поле битвы собирается с силами перед смертельным поединком с великаном. Для этой сцены, полной драматизма и неизвестности, не нужны ни могучий меч, ни кроткие овечки, ни тем более отрубленная голова Голиафа. Давид стоит в одиночестве, его взгляд устремлен вперед, правая рука, держащая камень, еще опущена и висит вдоль бедра. А что с левой рукой? На том месте, от которого Микеланджело в приступе бешенства отхватил огромный кусок, из верхней трети колонны все еще выступал небольшой бугор. Если согнутую в локте руку на уровне плеча подвести под подбородок, она, пожалуй, целиком впишется в этот бугор. В этой руке Давид будет держать пращу, в сосредоточенной задумчивости теребя ее на плече. Голову героя надо повернуть влево, прямой нос развернуть к наружному углу колонны — так Давид грозно смотрит на Голиафа, который в ожидании схватки высится на горизонте. В этот момент Давид еще не знает, победит он великана или будет повержен сам, но уже понимает, что судьба назначила ему вступить в бой. И как всякий, кому предстоит смертельная битва, Давид не ощущает твердой уверенности в своих силах, но и не поддается сомнениям — в его груди бушует гремучая смесь этих чувств. Настроению соответствует и поза Давида: одна часть тела расслаблена, а другая напряжена в тревожном ожидании.
Для Микеланджело уже неважно, станут сравнивать его Давида с работой Донателло или нет, — он твердо решил, что его герой будет обнаженным. Места на шлем, доспехи или мантию не хватало, впрочем, и нужды в них не было. И это, возможно, к лучшему. В душе Микеланджело всегда жила непоколебимая уверенность в том, что лучший способ восславить Бога — это восславить самое совершенное Его творение: человека.
Погруженный в думы, Микеланджело вдруг уловил некую странность в голосе Давида. Это был не тенорок подростка, высокий и звонкий, а уверенный баритон зрелого мужчины. Для боя с могущественным противником Давиду требовался изрядный запас мужества, какое никогда бы не вместили хрупкая душа и хлипкое тело юноши, почти мальчика. Нет, Давид не мальчик. В момент, когда он решился на схватку с Голиафом, произошло его перерождение: это уже не слабый телом невинный пастушок, безмятежно бродящий в полях со своим стадом, а отважный могучий герой, царь, чей дух крепок и тверд, а тело мускулисто и полно силы. Этот Давид — зрелый мужчина.
Микеланджело открыл глаза. Теперь он ясно слышал голос Давида и чувствовал, даже видел его фигуру, жаждущую вырваться из сковывающего ее мрамора. Микеланджело схватил сангину и быстро обрисовал отдельные детали статуи: широкие, гордо расправленные плечи с четким рисунком бицепсов на руках, рельефные мышцы могучей груди и поджарого живота, насупленные брови и бороздки тревоги, перерезающие широкий лоб. Голову и руки Микеланджело сделал чуть больше в сравнении с остальным телом, умышленно нарушив пропорции. Ведь именно голова и руки сыграли главную роль в его победе. Это разум подсказал Давиду, что он в силах одолеть Голиафа, а руки выбрали камень и пращу. Наконец-то Микеланджело видел замысел своей статуи во всей завершенности — вплоть до мельчайших деталей. Он выстрадал его за долгие мучительные месяцы, и теперь его мысли, его боль, его догадки, его рисунки сплавились в единый целостный образ. Всякий, кто посмотрел бы на него сейчас, решил бы, что на Микеланджело снизошло внезапное озарение гения, однако этот сияющий момент был плодом долгих раздумий, поисков, метаний и беспрерывного рисования.
Микеланджело ощущал, как покалывало его кожу, как расширились его глаза; это чувство было ему знакомо — он испытывал его всякий раз, когда приступал к новой статуе, уже четко зная, что хотел высечь. В этот волшебный момент он не сомневался: он воплотит свои самые смелые мечты. Это был момент осознания мощи скрытого в нем таланта.
Камень продолжал петь, а Микеланджело взял в руки молоток и резец. Мрамор пробудился. Теперь Микеланджело оставалось лишь вызвать из него того, кто сам так просился на волю. Его Давида.
Леонардо
Ноябрь. Чезена
— Налегай сильнее! — ревел Леонардо, с трудом перекрикивая какофонию оглушающего грома пушек, звона металла и человеческих голосов. Уже девять месяцев он работал на Чезаре Борджиа, но все еще не мог привыкнуть к этому шуму.
— Без толку, только сильнее увязнем! — прокричал в ответ молоденький солдат.
Леонардо и его небольшая команда были заперты в чреве огромной, со всех сторон одетой в броню повозки его собственного изобретения. Восьмеро солдат с силой налегали на рычаги, чтобы вращать колеса, но из-за огромного веса железного чудища колеса лишь глубже зарывались в жижу из снега и грязи. Они застряли посреди поля боя в самый разгар свирепой битвы и вот-вот сделаются удобной мишенью для пушек противника. Леонардо мог запросто погибнуть в западне, порожденной его же собственным гением. Он не преминул бы посмеяться над столь горькой шуткой судьбы, если бы не задыхался в тесноте от порохового дыма и гари.
Страшный удар вдруг сотряс повозку. Леонардо пошатнулся, потерял опору и повалился на пол.
— Что это? — в страхе завопил солдат.
Снова удар.
— Да сделайте же что-нибудь!
Леонардо встал на четвереньки, потом поднялся и, повернувшись, загнал ядро в последний ствол. Его бронированный монстр имел округлую форму и был снабжен шестнадцатью пушками, стволы которых торчали во все стороны. Леонардо предупреждал Чезаре Борджиа: без смотровых щелей или механизмов прицеливания машина при стрельбе поразит как солдат противника, так и папское войско. Но беспощадный Чезаре не беспокоился о том, сколько народу поляжет ради победы. Герцог приказал Леонардо сконструировать передвижную машину с пушками и бросил ее в бой, не дожидаясь испытаний. Леонардо должен был опробовать ее прямо в сражении.
Поджигая фитиль, Леонардо молил небеса о том, чтобы пушки выплюнули залп наружу, а не внутрь его машины. Что-то уж слишком часто он молится с тех пор, как пошел на войну…
— Огонь!
Леонардо и его восемь солдат нырнули на пол за миг до того, как все шестнадцать стволов одновременно изрыгнули снаряды. Машина заходила ходуном. Грохот от выстрела был такой, словно колокольня всей тяжестью обрушилась со своей высоты на землю. Мгновение спустя члены его экипажа робко подняли головы и огляделись. Ни одна из пушек не взорвалась. Внутри своей машины они, слава богу, находились в безопасности. Однако звуки войны снаружи отчего-то стихли. Леонардо так и думал: залп его адской машины скосил всех, кто ее окружал, образовав сплошное кровавое месиво.
— Мы поразили их! — в исступленной радости завопили и загоготали солдаты, и Леонардо позволил себе перевести дух. Выжил.
Страшный удар вновь вынудил задрожать одетую броней повозку. С оглушительным треском в толстую деревянную стенку врубился острый топор. Затем еще раз и еще. Снаряды вовсе не перебили солдат противника, а лишь еще больше разъярили.
— Отходим!
Солдаты похватали свое оружие, откинули тяжелую крышку люка и, толкаясь, полезли наружу. Через открытое отверстие Леонардо ощутил в воздухе запах крови и услышал крики боли. Люк с тяжелым грохотом закрылся. Леонардо остался один в своей машине.
За первые несколько месяцев сражений он крепко усвоил: нет на войне ничего хуже, чем остаться в одиночестве. Когда ты один, ты беззащитен, лишен подмоги, никто не прикроет тебе спину, не разгонит морок обреченности, висящий над твоей головой. Каждый твой вздох может стать последним. Леонардо закрыл глаза и стал размеренно дышать, с необычайным тщанием фиксируя малейшие нюансы этого простейшего действия: вот он по привычке досчитал до шести на вдохе и до семи на выдохе; вот теплая струя дымного воздуха влилась через нос и спустилась к легким; вот в омерзительной смеси дыма от пушечной пальбы и запаха свежей крови его нос почуял приближение бури. Любопытно, откуда взялись эти нотки? Неужели это пахнет вода, которая собирается в толще дождевых облаков? Или это буря высылает вперед себя такой особенный, наполненный гаммой ароматов ветер? А может, возросшее давление в атмосфере прибивает к земле пыль и это она забивает ему ноздри? Еще одна загадка природы, которую его гибель оставит неразгаданной.
Бронированная повозка опять сотряслась. Леонардо открыл глаза. Нутро машины заволокло едким дымом, он услышал, как снаружи занимается огонь, жадно набрасываясь на дерево под броней. Солдаты противника подожгли повозку. Надо выбираться, иначе он изжарится тут заживо. Леонардо закрыл рукавом нос и рот, сильно толкнул люк и выглянул наружу.
Ядра из шестнадцати одновременно грянувших выстрелом пушек валялись вокруг. Ни одно не улетело дальше, чем на несколько дюймов от ствола. Леонардо следовало бы расстроиться из-за того, что его изобретение с треском провалилось, но он с удивлением ощутил в душе лишь облегчение. Он не желал нести ответственность за гибель людей, а залп его повозки мог бы разом убить несколько десятков человек. Может, оно и к лучшему, что противник поджег адскую машину.
Леонардо оглядел поле сражения. Город Чезена был окутан густым дымом; здесь и там эту пелену прорывали пламя пожарищ, вздыбленные кони, мечущиеся фигуры, отблески стали. Папские солдаты грабили лавки, поджигали дома и целыми семьями вырезали их обитателей. Кровь хлестала из обезглавленных тел и растекалась на грязном снегу чудовищным алым узором. За полвека своей жизни Леонардо повидал множество смертей — и от болезней, и во дни вторжения французов в Милан, — но никогда еще он не видел, чтобы орава озверевших мужчин с таким явным наслаждением убивала других. Воистину нет безумия более дикого и беспощадного, чем война.
Впрочем, размышлять о бессмысленности насилия было недосуг. Леонардо выбрался через люк, соскользнул по наклонной крыше горящей повозки и упал в снег возле чьих-то ног.
— Scusa, — машинально извинился он. Война не повод, чтобы пренебрегать законами вежливости. Однако, подняв голову, он увидел, что у распластанного рядом человека из раны на горле течет кровь. Покойнику его извинения уже не требовались.
Леонардо перекатился по снегу подальше от убитого и приподнялся на локтях, чтобы оценить обстановку. Со всех сторон кипела ожесточенная битва, звенели мечи, всадники орудовали пиками, там и тут вспыхивали языки пламени. Если он встанет на ноги, кто-нибудь обязательно убьет его. Если позовет на помощь людей Борджиа, мятежники из Чезены доберутся до него первыми. Леонардо не был вооружен, но, даже если и взял бы оружие у убитого солдата, он все равно не умел им пользоваться. Его никогда этому не учили.
— Лиза, — прошептал он в отчаянии, — ангел мой хранитель, спаси меня!
В ней его последняя надежда. Если кто и в силах спасти его, то только она. Он представил себе — и это не казалось ему невозможным, — как она сбегает от мужа и вечной суеты рынка, как отправляется разыскивать его в самое пекло войны, как идет по полю битвы, вглядывается в лица солдат, расспрашивает о нем и находит его. Она прижимает его к себе, баюкает на руках и выносит в безопасное место. Леонардо призывал ее всей душой, но, как ни старался, она не появлялась.
Зато появился кое-кто другой. Всадник из мятежной Чезены галопом несся прямо на него, угрожающе размахивая длинным мечом. Леонардо даже видел его глаза, темные и матово-непроницаемые, как торфяной грунт на дне пещеры. Леонардо упал на живот, пригнул голову, зажмурился и замер. Его единственная надежда — притвориться мертвым. Всадник проскакал мимо, и копыто его лошади едва не размозжило череп Леонардо. Он снова остался один.
В былые времена он сиживал на пирах за столом с принцами и герцогами. Он писал картины, прекраснее которых не видывал мир. Он делил ложе с самыми восхитительными женщинами и замечательными мужчинами. Он жил в Милане и Флоренции, гулял вдоль переливающихся на солнце каналов Венеции, собирал полевые цветы на холмах Винчи. А сколько изобретений он сделал, и сколько еще замыслов теснилось в его голове: и механизм для часов, и переносные мосты, и военные лодки, и, конечно, летательные машины. Великое множество летательных машин. Он всегда верил в то, что перед ним расстилается длинная жизненная дорога, а сейчас жизнь его могла оборваться, и тогда огромное его наследие, которое он еще не создал, умрет вместе с ним в этом гиблом месте. Если бы он знал, что отпущенные ему годы на исходе, он больше времени посвящал бы живописи.
Уже много часов Леонардо лежал, вжав лицо в грязный окровавленный снег, у дотлевающего остова своей военной машины, ожидая момента, когда солнце совсем скроется и бой утихнет. Тогда он останется в темноте один, в окружении мертвых тел. Его тело сотрясала дрожь — от холода и неотступного ужаса. Прислушиваясь к своему дыханию, он боялся, что следующий вдох будет последним. Пальцы рук и ног совсем окоченели. Темнота, словно занавес, опускалась на поле битвы, пульс его постепенно замедлялся и вскоре стал едва слышен. Дыхание ослабевало, легкие уже почти не наполнялись воздухом. Дремота окутывала его, густела застывающим воском. Он то терял сознание, то выплывал из забытья. Наконец луна спряталась за облако, и, пользуясь сгустившейся тьмой, Леонардо пополз на животе через трупы в сторону городских ворот Чезены. Он помахал отряду солдат Борджиа, те заметили его и, подхватив, потащили к лагерю. Только тогда Леонардо поддался слабости и впал в глубокое забытье. Глухая и плотная, словно вулканическая лава, темнота вдруг начала распадаться. Она сворачивалась в огромные пузыри, пузыри лопались, оставляя в покрове тьмы дыры, из которых лился свет.
Медленно и неохотно сознание возвращалось к нему. Леонардо разлепил глаза. Над ним раскинулся бархатный полог ночи, освещенный мириадами звезд, луна ярко светила и серебрила все вокруг. До него доносились тихие разговоры, чей-то смех. Звуков войны слышно не было. Он находился в лагере Борджиа, лежал на твердой, как камень, ледяной земле, укрытый одеялом. Какой-то человек склонился над костром и что-то помешивал в котле. Верно, он готовил обед? Леонардо застонал и попробовал сесть.
— Не надо, — послышался мягкий, но настойчивый приказ. — Лежите. Не то снова лишитесь чувств. — Человек заботливо подоткнул одеяло под дрожащее тело Леонардо.
Макиавелли? Дипломат выглядел еще тоньше и бледнее, чем прежде. Казался каким-то облезлым. Костлявые руки дрожали от усталости и холода. Изорванный зимний мундир был слишком велик ему — явно с чужого плеча. И правда, когда Макиавелли повернулся, Леонардо увидел на его спине дыру в ореоле расплывшегося пятна крови. Должно быть, он снял мундир с убитого солдата. Сейчас он совсем не походил на того блестящего, уверенного и дерзкого господина, каким Леонардо знал его во Флоренции. Война, не разбирающая чинов и званий, обошлась с Макиавелли так же безжалостно, как с бедным простолюдином. В последние несколько месяцев дипломат то и дело мотался между лагерем Борджиа и Флоренцией в попытке уговорить герцога на долгосрочный мир с республикой. Но Борджиа упорствовал и продолжал тянуть откупные деньги из флорентийской казны. Все эти месяцы Леонардо и Макиавелли стороной обходили друг друга, а теперь им волей-неволей пришлось заговорить.
— Вы были очень плохи, — заметил Макиавелли. Он отошел к костру, взял ломоть хлеба и налил себе в миску немного густой похлебки из котла. — Я уже начал опасаться, что мы потеряем вас.
«Я тоже начал опасаться, что мы потеряем меня», — подумал Леонардо. Он страшно проголодался и хотел бы попросить и себе миску похлебки, но не собирался даже в малости одалживаться у Макиавелли.
— Что так? — прохрипел он еле слышно.
— О, вы заговорили. — Улыбка Макиавелли только подчеркивала его изнуренный вид и глубоко ввалившиеся глаза. — Это добрый знак. Очень добрый.
Он налил в кружку вина и, разбавив его водой, поднес к губам Леонардо. Пойло отдавало уксусом, но смягчило иссушенное горло.
— С чего это вы взялись помогать мне? — Леонардо дышал тяжело, с присвистом.
— Вы выдающийся гражданин Флоренции. Для нас было бы огромной потерей, если бы с вами что-то случилось.
— Я из Винчи, — угрюмо напомнил Леонардо.
— Это флорентийская территория, маэстро, о чем вам прекрасно известно. Или вы желали бы, чтобы я предоставил вас заботам людей Борджиа? Они бросят вас страдать в одиночестве, можете мне поверить.
Леонардо не ответил. Он не верил Макиавелли. И нисколько не сомневался в том, что дипломат хотел воспользоваться его слабостью, чтобы добиться своих целей.
— Два месяца назад, — заговорил Макиавелли, и пар заклубился у его рта, — я обратился к городскому совету с просьбой выделить богатые подарки для того, чтобы умаслить Борджиа, и хорошую одежду для себя, чтобы выглядеть достойно на переговорах с ним. А сегодня получил ответ… — Макиавелли вытащил из кармана письмо и развернул. — «Возьмите свою задницу в горсть, — начал зачитывать он с расстановкой, нарочито значительным тоном, какой предполагают официальные депеши, — и катитесь к дьяволу со своими неумеренными просьбами». — Макиавелли сложил письмо и засунул обратно в карман. — Теперь и мне придется предать Флоренцию.
— Не надо, — прошелестел Леонардо. — Оно того не стоит. — Ах, если бы он решил тогда остаться во Флоренции, довести до конца алтарную роспись для монахов, написать портрет той женщины, жены торговца шелком… Тогда цепкие когти войны не впивались бы в его кожу, а в ноздрях не стояла бы неистребимая пороховая пыль. — Вся Флоренция, должно быть, судачит о моем предательстве.
Макиавелли, подняв голову, всматривался в звездное небо, как будто искал там ответа.
— Нет, — наконец убежденно сказал он, — не судачат. Горожане даже не упоминают о вас. Они одержимы новой манией — этим скульптором с его знаменитым мрамором. Знаете, однажды — сейчас мне кажется, что лет сто прошло с тех пор, — я пробовал отвоевать для вас камень Дуччо, уже после того, как его присудили… кое-кому другому. — Макиавелли пожал плечами. — Пустая попытка, мой фокус не удался.
Леонардо протянул ледяные руки к огню. Тысячи иголок впились в пальцы, когда тепло начало возвращаться в них. Значит, флорентийцы разлюбили его. Они позабыли о нем.
— Микеланджело, — прошептал Леонардо. Это не вздох и не мольба, а нечто среднее между тем и этим. — В прошлый раз, когда мы с вами виделись, вы открыто предали меня, синьор Макиавелли, — произнес Леонардо, чтобы стереть вкус непрошеного имени Микеланджело со своего языка. — Вы лишили меня должности.
— Обещание помочь вам не было искренним — и я изначально знал это, — но оно являлось потребностью момента, — бесстрастно ответил на упрек Макиавелли. — Что до предательства, то и в нем в иное время возникает нужда. Хотя мне искренне жаль, что оно занесло вас в эти неприветливые края. — Макиавелли широко раскинул руки.
— Вы выхаживаете меня, окружаете заботами, чтобы вернуть к жизни. Стало быть, ваш долг оплачен.
— Этот долг никогда не будет оплачен. — Лицо Макиавелли вдруг стало серьезным. — Я мог бы сказать в свою защиту, что другие тоже предавали своих героев, но не в моих правилах оправдываться. Я навеки ваш должник за то, что заставил вас покинуть Флоренцию… Хлеба? — Макиавелли отломил кусок и протянул Леонардо.
Тот был слишком голоден, чтобы отказываться. Он взял ломоть из рук Макиавелли и положил маленький кусочек на язык.
— И все же должен признать, что получил двойное удовольствие, обведя вокруг пальца обманщика, — заметил Макиавелли с тонкой улыбкой. — Вам хватило нахальства попытаться всучить городу проект изменения русла Арно. Вы что, правда считаете, что смогли бы сделать это?
Леонардо кивнул, проглатывая хлеб.
— Когда человек действует в согласии с природой, границ возможного не существует. — Он вспомнил свою бронированную повозку с пушками, могучую и тяжелую, тонущую в порожденной природой густой топкой грязи. — Все идет вкривь и вкось, только если ты действуешь наперекор природе.
— И все же натура у вас не военная, правда же, Мастер из Винчи? Вы человек искусства, — заявил Макиавелли так, словно человек искусства представлял собой объект, пригодный для осязания и изучения.
Большое заблуждение. Леонардо как никто понимал это. Люди искусства не имеют особых отличительных черт, тем более постоянных. Человеком искусства нельзя быть — им можно становиться лишь в редкие моменты бытия, да и то, стоит этому состоянию поселиться в тебе, как оно уже спешит к другому, попутно меняя облик. Но Леонардо был настолько измучен, что не нашел сил растолковывать Макиавелли тонкую разницу.
— Я слишком стар для войны, — вместо объяснений заметил он.
— Для войны всякий слишком стар, — рассмеялся Макиавелли. — Разумеется, за исключением герцога Чезаре Борджиа. Он всегда в подходящем для битв возрасте. А его умение добиваться преданности от подданных поистине изумляет. Уверен, история воздаст ему должное как великому гению.
Неужели? Леонардо вдоволь насмотрелся на то, с какой кровавой жестокостью разрушал Борджиа захваченные города, и его восхищение герцогом, когда-то почти беспредельное, померкло так же быстро, как меркнет искра жизни в глазах того, кому отрубили голову.
— Борджиа — жестокий, беспощадный тиран и никакого преклонения не заслуживает.
— Помилуйте, политики в принципе чужды морали, — снисходительно, как о чем-то общеизвестном, сказал Макиавелли. Он вычерпал немного похлебки из котла, налил ее в чистую миску и протянул Леонардо.
Леонардо принципиально не употреблял в пищу мяса, но не стал спрашивать, из чего сварена похлебка. Он приподнялся на локте и начал есть, обмакивая хлеб в бурое варево. Белая фасоль и помидоры.
— Всегда лучше внушать страх, чем любовь. И герцог Валентинуа еще прославится своими доблестями, несмотря на все зверства, — возразил Макиавелли. — А может, как раз благодаря им. — Такое впечатление, что дипломат давно выстроил в уме эту цепь рассуждений и теперь проговаривал их вслух, проверяя на прочность, прежде чем запечатлеть на бумаге. — Гений Борджиа, среди прочего, состоит в том, что он умеет поставить страх себе на службу. Слухи о его жестокости разошлись повсеместно, и, когда он подступает к воротам города и заявляет, что собирается напасть на него, горожане уже трясутся от ужаса. Их собственный страх понуждает их сдаться прежде, чем герцог сделает первый пушечный выстрел.
— Неужели вы искренне верите в то, что Борджиа войдет в историю как гений? — Леонардо доел похлебку и, растянувшись на своем убогом ложе, глядел в звездное небо. Наследие гения всегда представлялось ему чем-то весьма эфемерным.
— Безусловно. — Макиавелли говорил убежденно, словно стяжать такую славу было так же легко, как купить ее на рынке. — Он властвует над обширными пространствами непокорных государств, отдаленных от его вотчины, и это во времена, когда любую власть удержать почти невозможно. Утвердив свое владычество над новым завоеванием, он не оставляет противнику никакого шанса строить тайные козни и посягать на его господство. Чезаре понимает, что если он не станет самым могущественным властителем своего времени, то ему нечего будет оставить после себя.
— Потому что, если он не станет великим мастером своего времени, ему никогда не стать великим мастером всех времен, — перефразировал Леонардо. Многие годы он считал себя величайшим мастером искусств своего времени, но сейчас в его голове поселилось крохотное, не больше ежевичного, зернышко сомнения. И почему-то Леонардо был уверен, что зернышко это имеет форму камня Дуччо.
— Валентинуа твердо знает, что фортуна помогает лишь тем, кто сам себе помогает, а он всегда готов отстаивать свои интересы. Он уничтожает врагов с холодной бесстрастностью и пресекает их замыслы прежде, чем они смогут пустить корни.
Возможно ли, размышлял Леонардо, что он сам позволил сопернику пустить корни в его собственном городе, в его времена? Должен ли он теперь сам исправить свою ошибку, вернуться в свой город и искоренить угрозу своей будущей славе? Или у него приступ болезненной мнительности?
— Уничтожая своих противников, Чезаре Борджиа показывает всем ныне живущим и тем, кто когда-нибудь придет им вослед, что он правит единолично как верховный правитель, государь.
— И наследию его ничто не угрожает, — прошептал Леонардо. Все это выглядело простым и понятным — после того, как Макиавелли все разложил по полочкам.
— А вы решались когда-нибудь превозносить таким образом своих врагов?
Услужливая память Леонардо выхватила из толщи воспоминаний резкий профиль, изломанный нос и копну спутанных немытых волос.
— Не стоит бояться превозносить врагов, — с чувством воскликнул Макиавелли. И в глазах его на мгновение вспыхнул прежний огонь. — Если не отмечать их доблести, то как вообще понять, в чем их сила? А не зная, в чем их сила, как уничтожить их? Всегда изучайте слабости своих противников, но еще важнее — их сильные стороны. Всякий способен ударить в слабое место. Но только истинный мастер умеет обратить силу своего врага против него самого.
Микеланджело
Декабрь. Флоренция
Микеланджело скачками преодолел первый виток винтовой лестницы. Она была столь крута и узка, что у него кружилась голова. Но он продолжал быстро подниматься. Он еще никогда не бывал на колокольне дворца Синьории и терялся в догадках, зачем и кто вызвал его сюда анонимным письмом.
Он миновал какую-то железную дверь… Может быть, именно за ней — та самая темница, где держали Савонаролу, прежде чем подвергнуть казни через сожжение? Впрочем, сегодня Микеланджело не позволит призракам прошлого запугать его. У него было доброе предчувствие насчет этой встречи.
В его жизни многое изменилось с тех пор, как Леонардо отправился воевать в рядах Борджиа. Флорентийцы недолго думая сделали своим новым героем его, Микеланджело. В глазах горожан он уже не был тем необузданным юнцом, выскочкой, посягнувшим на достояние их горячо любимого Леонардо. Нет, теперь Микеланджело считали новой восходящей звездой, непревзойденным юным дарованием, в поте лица ваяющем сокровище для драгоценного Дуомо. Весь город полнился слухами о нарождающемся… нет, даже распускающемся, как бутон, великолепии новой статуи. Торговцы аплодировали Микеланджело, когда тот шел по улице, добропорядочные матроны приносили к его порогу обед, мальчишки упрашивали взять их в подмастерья. Когда же он гулял меж рыночных рядов или по берегу Арно, флорентийцы запросто подходили к нему поинтересоваться: «Как там наш Давид?» Так, словно Давид уже стал одним из них.
И только одна семья во всей Флоренции до сих пор отворачивалась от него — его собственная. Микеланджело несколько раз подходил к дому, но отец не пожелал открыть ему двери. Единственным родственником, с которым он общался в эти долгие месяцы, да и то всего однажды, был его брат Буонаррото. Тот приходил в мастерскую Микеланджело справиться, нет ли у него еще денег. Потому что Джовансимоне, как неохотно признался Буонаррото, спустил все четыреста флоринов в карты на рынке, за две недели продувшись в пух и прах. Услышав новость, Микеланджело взревел, словно в глотку ему засыпали пылающих углей. Братец спустил за карточным столом весь заработок, который достался Микеланджело с таким трудом? Конечно же, отец выгнал этого негодника из дома — ведь старик так осуждает азартные игры! Буонаррото, напуганный взрывом чувств Микеланджело, помотал головой. Джовансимоне по-прежнему жил под отчим кровом и, как ни в чем не бывало, каждый день садился обедать за семейный стол. «Значит, и он тоже теперь может обедать с семьей?» — настаивал Микеланджело. Буонаррото уставился куда-то в угол и тихо выдавил, что нет, ему нельзя. Отец милостив и простил Джовансимоне такой невинный грешок, как проигрыш в карты, но он ни за что не позволит Микеланджело вернуться в семью, пока тот не отречется от своего искусства. Микеланджело вышвырнул брата вон из мастерской, тем более что и дать-то ему было нечего, ибо он сам сидел без гроша.
Микеланджело верил: сегодняшняя встреча, с кем бы она ни была, может изменить дела к лучшему. Наверное, какой-то заказчик решил поручить ему богатый заказ. Надежда с новой силой охватила Микеланджело, когда он преодолел последние ступеньки и оказался на самой верхушке башни.
Из открытых арок, расположенных по четырем ее сторонам, открывался потрясающий вид: вся Флоренция была как на ладони. Укрытая легким снежным покровом, с высоты она напоминала затейливый рельеф, выточенный из белого каррарского мрамора. Над головой под куполом колокольни висели три огромных колокола — такие массивные, что даже задувающий через арки крепкий зимний ветер не способен был поколебать их. В одной из арок Микеланджело заметил спину какого-то человека. Не страшась простудиться, он стоял в узком пространстве между арочным сводом и карнизом, открытый ледяному ветру, и сосредоточенно смотрел на город. Единственной защитой от холода ему служили порядком поредевшая шевелюра и тонкая синяя накидка, усыпанная золотыми звездами.
Микеланджело, даже не видя лица, сразу узнал Пьеро Содерини, того самого политика, который пылко отстаивал интересы Леонардо в борьбе за камень Дуччо. В сентябре город избрал себе первого пожизненного гонфалоньера справедливости, и им как раз стал Содерини. Теперь он постоянный глава городского правительства, и многие считают, что во всей Флоренции нет человека могущественнее его. Однако зачем он вызвал скульптора сюда, на колокольню? Ведь Микеланджело теперь уверен: именно Содерини послал ему письмо.
— Колокола нашего города висят здесь с 1310 года, — задумчиво проговорил Содерини. Он не оглянулся на шаги Микеланджело, будто и не слышал их, и не показал, что знает о его появлении. Микеланджело задержал дыхание. Понял ли гонфалоньер, что он здесь? Или Микеланджело застал его в минуту уединенных размышлений? К нему ли были обращены слова политика, или он думал, что находился один, и рассуждал сам с собой?
— Когда звонят эти колокола, всякий флорентиец, за исключением больных и убогих, спешит на площадь Синьории, готовый грудью защитить Республику от ее врагов, — продолжил Содерини. — Много раз уже звонили эти колокола. Они созывали людей на осаду Пистои, призывали наше войско на битвы с Сан-Джиминьяно, с Прато, с Вольтеррой, как и на многочисленные бои с Пизой. Своим звоном они оповестили флорентийцев о восстании в Чомпи, они звонили накануне решающего сражения при Ангиари, где мы восторжествовали над Миланом. А ты, Микеланджело, слышал когда-нибудь звон наших колоколов?
При упоминании своего имени Микеланджело облегченно выдохнул — Содерини разговаривал с ним.
— Нет, синьор, не приходилось. — Он подтянул тунику под самый подбородок, вышел к Содерини и встал рядом с ним на краю башни. — Но я всегда чувствовал себя под надежной защитой, зная, что это здание и его колокольня стоят на страже моей безопасности. И всей Флоренции тоже.
— Башня колокольни располагается не по центру здания. Почему так?
Колокольня действительно была смещена от центра вправо и ближе к переднему фасаду раскинувшегося под ней огромного массивного здания. Одни утверждали, что раньше на этом самом месте высилась другая, особо почитавшаяся в те времена башня. Многие говорили, что фундамент с этой стороны прочнее всего и только поэтому выдерживает нагрузку высоченной колокольни. Кто-то уверял, что колокольню сместили к краю по эстетическим соображениям, ибо асимметрия больше услаждает глаз.
— Потому что это — символ независимости Флоренции, — сказал Микеланджело, и подбородок его невольно вздернулся от гордости. — Республика — не чета другим городам-государствам, у нас своя традиция, и наша башня зримо подтверждает это.
Содерини кивнул, соглашаясь.
— Эти могучие колокола звонили, когда Джулиано де Медичи предательски убили в стенах нашего Собора. — Содерини прикрыл глаза, словно память сохранила тот звон и он сейчас прислушивался к нему. — Тогда все флорентийцы, от мала до велика, поднялись, чтобы потребовать предать убийц суду справедливости. Ты тогда уже родился?
— Мне было три года.
— Три? — Содерини открыл глаза и вопросительно посмотрел на Микеланджело.
— Тогда я еще жил в деревне, в семье моей кормилицы.
— Но мог же ты слышать звон потом, когда Пьеро де Медичи изгнали из Флоренции, когда казнили Савонаролу?
— Меня не было в городе ни в тот, ни в другой раз, синьор. Я сначала работал в Болонье, потом в Риме.
— Возможно, в этом вся загвоздка, — пробормотал себе под нос Содерини. Машинально теребя пальцами шов на своей накидке, он на какое-то время впал в глубокую задумчивость. Наконец встрепенулся. — Да и ладно. А скажи, тебе известно, почему мы называем нашу колокольню La Vacca?
Микеланджело кивнул. Звона колоколов он никогда не слышал, зато ему о нем много рассказывали.
— Потому что ее звон похож на мычание коровы.
— Не мычание, а стон, — поправил Содерини. — Как будто огромное животное издает низкий скорбный вой. Мало на свете звуков, которые звучали бы столь же величественно и внушали бы такой же благоговейный трепет. Но случилось так, что в какой-то момент Флоренция утратила свой гордый дух. — Содерини нахмурился. — Когда в последний раз звонили наши колокола? Когда в последний раз флорентийцы спешили на эту площадь с оружием в руках и кличем на устах «Нет, так просто мы не сдадимся, не дадим в обиду нашу Республику, вам не отнять ее у нас, не отнять нашей свободы»? Когда это было? — Нос, щеки и подбородок Содерини порозовели. Разгорячился он так от своих речей или виной тому ледяной ветер? — А знаешь ли ты, почему мы больше не звоним в наши колокола?
Микеланджело помедлил с ответом. Помнится, отец говорил, что в этом больше нет надобности, что даже в эти тяжелые времена потрясений Флоренция в безопасности. Флоренция могущественна, богата и обожаема всеми настолько, что никто не посмеет напасть на нее, даже Чезаре Борджиа и Медичи. По словам Макиавелли и других дипломатов, Флоренция не могла позволить себе звонить в колокола La Vacca, потому что враги воспримут это как угрозу и сами двинутся на город — в доказательство того, что с ними шутки плохи. А друг Микеланджело Граначчи придерживался распространенной, хотя и весьма сомнительной точки зрения: если колокола зазвонят, флорентийцы не потекут стройными рядами на площадь, движимые желанием положить жизни за любимую Республику, а со страху попрячутся по домам. Французы, Медичи, затем Борджиа, нависающий как дамоклов меч, а в особенности Савонарола уничтожили остатки доблести флорентийцев, лишили их веры в собственные силы. Колокола утратили свою призывную мощь. Пусть лучше La Vacca по-прежнему молчит, чем они опозорятся перед всем миром, демонстрируя отсутствие боевого духа.
— Нет, синьор, не знаю, — ответил Микеланджело.
Складки на лице Содерини сделались глубже — будто пройденные им дороги обозначились на карте его жизни.
— Это очень плохо. — Он покачал головой, развернулся и пошел к выходу.
Микеланджело ожидал от Содерини еще каких-нибудь слов, объясняющих, зачем его вызвали сюда, на колокольню, холодным зимним днем. Не для того же, чтобы преподать урок истории, беглый и бессмысленный?
— Э-э, сын мой… — Содерини, словно спохватившись, застыл над ступеньками, но не оглянулся на Микеланджело. — Сделай милость, не проговорись Джузеппе Вителли о том, что мы тут с тобой перебросились парой слов. Он буквально встает на дыбы, стоит мне заикнуться… — Содерини замолк, как будто перекатывая на языке слова в поисках того, что будет самым правильным, — какого я мнения о проектах Собора. — И ушел.
Микеланджело задумчиво смотрел в пустоту винтовой лестницы. О чем вообще говорил с ним гонфалоньер? Он не высказал никаких мнений ни о чем, что могло бы касаться Микеланджело. Какое отношение могли иметь колокола к его статуе? И все же при взгляде на панораму Флоренции Микеланджело охватило очень неуютное чувство: казалось, что связанные с его Давидом ожидания города теперь еще тяжелее давили на плечи.
1503
Леонардо
Зима. Рим
— Oremus… — Призывающий к молитве голос папы Александра VI плыл под сводами Сикстинской капеллы, и Леонардо смиренно склонил голову. Голос у папы был величественным — под стать его тучной фигуре. — Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere…
Немногочисленное собрание молящихся в унисон отвечало:
— Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum! (Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое!)
Пока звучал «Отче наш», Леонардо не сводил глаз с Чезаре Борджиа. Одетый в черную накидку, тот покорно преклонил колени у ног понтифика. Молодой герцог всем своим видом демонстрировал столь ревностное благочестие, что казалось, будто он решил вернуть себе прежнее обличье — богобоязненного кардинала Валенсийского, в красном одеянии и кардинальской шапке неслышно скользящего по залам Ватикана. Но Чезаре бесповоротно сменил кардинальское одеяние на военные доспехи. За время военного похода Леонардо имел возможность не раз увидеть, как свиреп и воинствен Валентинуа в бою, как беспощаден к врагам, как ненасытна в нем жажда крови. Так что он определенно был рожден для войн, а не для религии.
— Amen. — Понтифик в алом бархатном плаще и маленькой облегающей золотой шапочке, сияющей, как нимб, у него над головой, завершил молитву и преломил хлеб.
Эту особенную мессу в честь благополучного возвращения Чезаре домой из военного похода на Романью папа служил в узком кругу. Присутствующие — несколько кардиналов, ближайшие друзья и члены семьи — всю службу отстояли, и только Чезаре оставался коленопреклоненным у ног папы, как бы вымаливая прощение за многочисленные грехи. У его смиренной позы имелась и еще одна цель — оставаясь в ней, победоносный герцог привлекал к себе всеобщее внимание.
Неделей раньше Чезаре во главе своей армии триумфатором возвратился в Рим. Леонардо не в первый раз был в Вечном городе, когда-то давно он ненадолго приезжал сюда, чтобы на месте, в Тиволи, осмотреть и изучить развалины древнеримской виллы императора Адриана. На сей раз Леонардо оказался здесь в качестве почетного гостя самого герцога, и столица предстала перед ним совсем в ином свете. С балкончика роскошных личных покоев папы, выходящего на обветшавшую базилику Святого Петра, Леонардо делал зарисовки крестьян, торговцев и прочего люда, стекающегося в Рим, чтобы испросить отпущение грехов. Ах, как хотелось ему крикнуть им отсюда, с высоты балкона, что их мелкие прегрешения — сущая безделица в сравнении с тяжкими грехами тех, кто побывал на войне.
— Pax Domini sit semper vobiscum… — нараспев произносил папа.
— Et cum spiritu tuo, — вместе с собранием вторил Леонардо.
Папа еле слышно пробубнил слова, которые предписано произносить тайно, погрузил частицу гостии в чашу для святого причастия и затем трижды монотонно повторил:
— Agnus Dei.
Леонардо впервые был в Сикстинской капелле. Ее длина втрое превышала ширину, что в точности повторяло пропорции храма Соломона в Иерусалиме. Высокое, в три яруса, внутреннее пространство венчал цилиндрический свод, роспись которого символизировала небеса — россыпи золотых звезд на фоне густой синевы. Впрочем, Леонардо считал, что вряд ли кому-нибудь захочется разглядывать потолок капеллы, ведь истинная драгоценность находилась на стенах — великолепная фресковая живопись, от которой невозможно было отвести глаз.
В 1481 году папа Сикст IV объявил о своих планах нанять лучших, самых передовых живописцев, какие только найдутся на полуострове, чтобы расписать стены капеллы, недавно отстроенной на месте прежней Cappella Maggiore (Большой капеллы). Папа обратился за советом к Лоренцо Великолепному, и тот назвал имена выдающихся художников Флоренции — Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо и Козимо Росселли, а также несравненного мастера из Перуджи Пьетро Перуджино. К тому времени Леонардо уже прочно обосновался во Флоренции. Возрастом и опытом он не уступал названным мастерам, а талантом, по его собственному убеждению, даже превосходил их. Леонардо тоже ожидал приглашения в Ватикан, но жестоко обманулся. Месяцы мучительного томления и неотступной зависти к собратьям-живописцам, которые уже творили свои шедевры без него, совсем доконали Леонардо, и в горькой досаде он собрал свои пожитки и перебрался в Милан.
Теперь, по прошествии двадцати лет, ему наконец выпала возможность рассмотреть сплошь расписанную фресками капеллу. Справа от алтаря, на северной стене, были фрески со сценами из жития Христова, слева от алтаря, вдоль южной стены, — фрагменты из жизнеописания Моисея. Каждое изображение, созданное в неповторимой авторской манере, имело собственный голос, при этом весь цикл являл собой единый гармонический ансамбль — подобно тому как отдельные элементы церемониала соединяются вместе, рождая таинство святого причастия.
Фрески Козимо Росселли отличаются той же помпезностью и торжественностью, которая характерна для любой мессы. Обильно украшенные позолотой, они поражают буйством ярких красок, богатством и разноцветьем изысканных деталей и орнаментов. Подобно папской мантии цвета мадженты и золотым потирам, образы Росселли услаждают и радуют глаз. В отличие от них, картины Доменико Гирландайо по настроению ближе к проповеди — тяжеловесные и основательные. Фигуры у Гирландайо лишены воздушности и возвышенной тонкости, они реалистичны в своей земной плоти. Если Росселли — это свет и легкость, то Гирландайо — вне сомнений, весомость и значительность. На фресках Боттичелли фигуры в развевающихся одеждах динамичны, они словно танцуют под только им слышную песню. В его восхитительно плавных волнообразных линиях сливаются одновременно покой и энергия. Ни один живописец не сравнится с Боттичелли. Его картины звучат музыкой.
Леонардо, встав в очередь за причастием, разглядывал северную стену капеллы, пока взгляд его не остановился на центре всей композиции. Эта фреска облекала в плоть и кровь замысел всего великолепного живописного ансамбля.
На шедевре работы Пьетро Перуджино Христос вручает коленопреклоненному святому Петру ключи от небес. По обе стороны от центральных персонажей Христа и Петра изображены видные современники-итальянцы и апостолы — элегантные, сложно задрапированные. Позади них на среднем плане — еще две сцены из жития Христова, переданные с невероятным динамизмом: побивание Иисуса камнями и проповедь о воздании кесарю кесарева. На заднем плане по сторонам от увенчанного восьмигранным куполом храма с портиками высятся две триумфальные арки, а за ними простирается искусно выписанный пейзаж — синевато-серые, словно затянутые легкой дымкой, холмы Тосканы, уходящие в бесконечность. При всем совершенстве изящных фигур и очертаний классической архитектуры эта фреска прежде всего выделяется тем, как изобретательно и новаторски Перуджино организовал пространство.
Огромные плиты, которыми выложена площадь, убегают в глубь картины, их кромки образуют четкую, словно специально выставленную напоказ, сетку перспективы, которая, как опора, держит центральный участок площади, намеренно оставленный Перуджино пустым. Эта зияющая пустота побуждает зрителя метаться от одного насыщенного изображением угла к другому, от строения к строению, от фигуры к фигуре. Площадь, кажется, выходит за рамки самой фрески, нарушает границы соседних сюжетов и простирается дальше, даже за пределы самой Сикстинской капеллы.
Пока взгляд Леонардо обегал фреску Перуджино, он подумал, что и крохотная частичка его самого в конечном счете все же проникла в Сикстинскую капеллу. За несколько недель до отъезда в Рим по вызову папы Сикста Перуджино заезжал во Флоренцию повидать Лоренцо де Медичи и навестил мастерскую Леонардо. Леонардо тогда показал Перуджино выполненный чернилами эскиз алтарного образа на сюжет поклонения волхвов. В этом его динамичном рисунке закручивались в едином стремительном вихре движения сама композиция, фигуры людей и животных, таинственные лестницы, ведущие в никуда, колонны, линии перспективы и пустое пространство на переднем плане. Такое же ощущение упорядоченного хаоса, призванного воспроизвести опыт человеческого бытия, Перуджино передал в своей фреске. Леонардо ясно видел отпечаток своего влияния на творчестве Перуджино и не мог отделаться от ревнивой мысли о том, что его «Поклонение волхвов» было бы еще прекраснее, чем работа Перуджино. Леонардо готов поклясться: было бы. Конечно, если бы он удосужился дописать эту картину.
Между тем подошла его очередь получить из рук папы причастие. Опустившись на колени у ног понтифика, он размышлял о своих соперниках: Боттичелли, Гирландайо, Росселли и Перуджино — и представлял, как они, оказавшись в таком вынужденном и близком соседстве, побуждали друг друга все поднимать и поднимать планку мастерства, в то время как Леонардо, отторгнутый и одинокий, прозябал в Милане. Какой его шедевр украшал бы сейчас эти досточтимые стены, присоединись он тогда к той блестящей плеяде?
Папа Александр положил на язык Леонардо крошечную гостию.
— Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.
Пока освященная частица тела Господня таяла на языке, Леонардо решил оценить свои поступки с тех же позиций, с каких Макиавелли анализировал действия Чезаре Борджиа. Подвергни хитроумный дипломат такому же анализу его, Леонардо, поведение, он наверняка заключил бы, что Мастер из Винчи допустил критическую ошибку. Когда его соперники-противники отправились в Рим, Леонардо позволил им занять эту, тогда еще свободную территорию и выстроить на ней собственную империю. И они весьма преуспели в этом, судя по великолепной росписи Сикстинской капеллы.
После мессы была назначена праздничная трапеза, но Леонардо без каких-либо объяснений увильнул от участия в ней. Стараясь не привлекать внимания, он пробрался через внутренние покои и коридоры к маленькой незаметной дверце, предназначенной для личного пользования папы. Через нее проскользнул наружу и вошел в базилику Святого Петра.
Он внимательно оглядел каждый придел, гадая, сразу ли узнает то, что ищет. Он никогда не видел рисунка или хотя бы беглой зарисовки. Единственное, на что он опирался, — слухи и пересуды, а они не отличаются точностью.
Тем не менее, заглянув в крошечную затемненную капеллу, заполненную коленопреклоненными в молитве паломниками, он мгновенно узнал то, за чем явился в базилику.
Скульптура, исполненная небесной благодати, казалась при этом абсолютно земной. Она была окутана безмолвием, но одновременно голос ее громко звучал. Никогда он не видел ничего прекраснее этих совершенных плавно-округлых линий, этой гладкой, словно шелк, кожи, этой гармонии пирамидальной композиции. Редкое сочетание безмятежной покорности и неизбывного горя могло тронуть даже самую очерствелую душу. Вот и Леонардо ощутил, как в груди его начал закручиваться тугой узел. Обойдя паломников, он приблизился к самому постаменту. Легко пробежал рукой по мрамору. Края спадающего на лицо Святой Девы капюшона — тоньше бумажного листа, тогда как складки ее одежды глубоки, основательны и массивны. Сквозь истончившуюся кожу на теле Иисуса зыбкими бугорками проступают мышцы и кости — словно крохотные рыбешки, пытающиеся прорвать пленку воды на поверхности озера. Но наибольшее впечатление на Леонардо произвела игра света. Мрамор светился, его выпуклости ловили солнечные блики, в его глубоких впадинах, как в ловушках, собирались тени, и в них было темнее, чем в самой таинственной пещере. Скульптору удалось запечатлеть уникальную игру света и тьмы, дня и ночи. Мрамор дышал жизнью и испускал трепетное сияние. Никогда не удавалось Леонардо добиться в живописи подобного волшебного эффекта.
Нет, не слепая удача вдруг улыбнулась неопытному новичку-каменотесу. Статую изваяли искусные руки восходящего гения. Леонардо не мог не признать: Пьета Микеланджело — подлинный шедевр.
Из базилики Святого Петра Леонардо прямиком направился в личные покои Чезаре Борджиа и с порога объявил, что решил оставить должность главного военного инженера.
— Ступайте прочь, Мастер из Винчи, — махнул рукой Борджиа, даже не взглянув на него — лицо его закрывала черная маска. — Ступайте и не оглядывайтесь, пути назад вам не будет.
Тем же вечером Леонардо уложил вещи и направился на север по Аврелиевой дороге, держа путь во Флоренцию. Нет, больше он не допустит такой ошибки. Он не позволит сопернику сохранить титул непревзойденного мастера. Он встретится с ним в открытом поединке и на этот раз победит.
Микеланджело
Весна. Флоренция
Микеланджело снова ударил по резцу. Грудная кость дала трещину. Еще пара сильных ударов — и грудина разошлась надвое. Он отложил инструмент и запустил обе руки в образовавшуюся расщелину, с усилием раздвинул ткани и открыл грудную клетку, обнажая сердце и легкие.
Его рот и нос надежно закрывала маска из туго затянутой на затылке тряпицы. Он наклонился и стал сосредоточенно разглядывать нутро грудной клетки. В течение последних недель он высекал проступающие через кожу вены Давида, сбегающие вниз от плеч к кистям. Он уже изучил рисунок и внешний вид вен на живых моделях, но, чтобы правильно понять нюансы их строения, ему требовалось проследить их от самого источника. Поэтому надо было взглянуть на сердце.
Решив снова анатомировать трупы, он тешил себя надеждой на то, что сумеет ограничиться лишь несколькими днями. Занятие это, мягко говоря, было не из приятных.
От вечного тошнотворно-сладкого смрада разложения его не раз рвало. Запах этот пропитывал ткани его одежды, волосы и кожу; улегшись спать на своем тюфяке, брошенном прямо на полу мастерской, Микеланджело просыпался в холодном поту. И все же он упорно возвращался в мертвецкую в поисках ответов на все новые вопросы, которые возникали у него в ходе работы. Сколько сухожилий в брюшном прессе? Из скольких костей состоит рука? Как в точности ноготь крепится к нежной коже пальца?
Теперь его интересовали вены.
Пальцы Микеланджело легко коснулись толстого сосуда, идущего от сердца. Ага, устье этой реки найдено. Биение его собственного сердца участилось. Он схватил свечу и склонился с ней над трупом. Сумрак мертвецкой нарушал лишь слабый свет нескольких свечей и тусклых масляных ламп, висящих на стенах. Все помещение было наполнено густыми тенями, но Микеланджело не позволял себе отвлекаться на них. Он поднес свечу к самому трупу и посветил внутрь грудной клетки. Вот оно — то, за чем он пришел сюда.
Внезапно в глубине мертвецкой что-то упало с глухим стуком.
Микеланджело вскинул голову. Настороженно прислушался. Звук донесся из окутанного густым мраком угла. В мертвецкой кто-то прятался! Микеланджело явственно ощущал чье-то присутствие.
— Эй? — тихонько позвал он.
Тишина.
Дрожащими руками он зажег еще одну свечу, но она лишь ярче осветила сочащиеся внутренности трупа. За пределами светового круга темнота сгустилась сильнее, в этой кромешной тьме мог скрываться кто угодно.
— Кто здесь? — прошептал Микеланджело, слыша, как оглушительно стучит его сердце. Он всегда боялся вызвать у мертвых гнев за то, что он тревожит их бренные останки. Неужели сейчас они вцепятся в него своими дьявольскими пальцами и уволокут прямо в пекло?
В углу что-то хрустнуло.
Микеланджело в отчаянии швырнул свечу в направлении звука. Свеча ударилась о стену, упала на осклизлый пол и тут же погасла. В углу снова сгустилась кромешная тьма.
Вне себя от ужаса, Микеланджело в один гигантский прыжок оказался у двери.
— Куда это мы так спешим? — спросил вдруг чей-то насмешливый голос.
Микеланджело остановился как вкопанный, вглядываясь во мрак, выискивая в нем очертания своего собеседника. Но никого не увидел.
— Что вам надо?
Из темноты выпорхнул мелодичный смешок. Призрак вздумал подшутить над ним. Наконец из мрака выступила нога — вполне себе человеческая. Следом выплыла рука. Усыпанная камнями птичка в перстне насмешливо заискрилась в дрожащем желтоватом свете ламп.
Даже при этом неверном освещении Микеланджело заметил, как сильно за последний год постарел старый фигляр. Волосы еще больше поседели, морщины на лице и руках сделались глубже, кожа вокруг рта обвисла.
— Глазам не верю, разве война не убила вас? — зло бросил Микеланджело.
— Как ни жаль тебя разочаровывать, но, как видишь, нет. — Леонардо подошел к разрезанному трупу, желая заглянуть внутрь.
Микеланджело мгновенно набросил на останки саван. Нельзя позволить этому наглецу Леонардо украсть плоды его изысканий.
— Как вы сюда попали?
— Знакомой дорогой. Я резал здесь трупы еще в те времена, когда ты — как и отец Бикьеллини — только учились держать в руках сангину. И знаю тут все ходы-выходы. — Леонардо взял резец Микеланджело и принялся разглядывать его острый кончик.
— Подите прочь! — Микеланджело вырвал свой инструмент из пальцев Леонардо.
— За последние два года я кое-чему научился у тебя, Буонарроти. Меня очень впечатлила стремительность, с какой ты действуешь. Буквально не раздумывая. Только и делаешь, что действуешь. Раз, раз, раз. Я всегда считал, что достаточно иметь знания, но нет, я ошибался. Железо без работы ржавеет, вода стухает от неподвижности, бездействие притупляет проворность ума. — Глаза Леонардо обежали фигуру Микеланджело с головы до пят. Похоже, он никуда не торопился. — Сними-ка свою маску.
— Ну уж нет. — Микеланджело сложил инструменты в свою кожаную суму.
— Что это ты там прячешь?
Микеланджело сдернул прикрывающую низ лица тряпицу. Смрад с силой ударил в ноздри, накрыл его с головой. Рука сама взлетела в стремлении зажать рот и нос.
— А я, побывав на войне, нахожу, что эта картина безмятежной кончины источает чуть ли не аромат. — Леонардо помахал ладонью возле носа, словно желая наполнить его смрадом разложения. — О, как сладок он, этот запах науки.
Микеланджело схватил суму и снова попытался уйти.
— А я видел твою статую, — еле слышно произнес Леонардо.
Микеланджело застыл на месте.
— Что вы сделали?
— Я изучал ее. Трогал. — Тон Леонардо стал глумливым, словно он признавался в том, что касался чужой жены.
— Что вы сделали с Давидом? — Микеланджело рывком выхватил из сумы молоток и, повернувшись, оказался лицом к лицу с неприятелем.
— С Давидом? — В голосе Леонардо завибрировал смех. — Пока это лишь глыба мрамора… Я видел твою Пьету. — Он бросил на Микеланджело полный вызова взгляд.
Микеланджело замахнулся молотком.
Леонардо мгновенно переместился за стол, и теперь их разделял мертвец.
— Я всегда отличался быстротой и силой, а борьба за жизнь на полях сражений сделала меня еще сильнее и проворнее.
Преследуя его, Микеланджело обогнул препятствие.
— Однако меня удивляет, что ты в одиночку явился в мертвецкую, — сказал Леонардо, снова оказавшись через стол от преследователя. — Один, наедине с покойниками. Остерегайся, не то рискуешь разбудить призраков. — Молниеносным рывком Леонардо достиг порога, выскочил из помещения и захлопнул за собой тяжелую деревянную дверь.
Микеланджело погнался следом, но в двери щелкнул замок. Микеланджело закричал, стал дергать ручку, но все без толку.
— Bastardo, — зло прошипел он. Леонардо запер его в мертвецкой. Микеланджело начал колотить по двери, но вскоре прекратил это глупое занятие, сообразив, что рискует разбудить святых отцов.
Он оглянулся на покойников. Кругом стояла тишина, было лишь слышно, как вода задумчиво капает в невидимую лужицу на полу. Он заметил, что одна лампа совсем догорела, другие, похоже, тоже вот-вот погаснут. Внезапно смрад снова накрыл его тяжелой волной, к горлу подкатила тошнота. Микеланджело закашлялся, ему вдруг показалось, что стены готовы сомкнуться над его головой, заодно сминая кости мертвецов, — он уже явственно слышал треск.
Микеланджело взял себя в руки и принялся осматривать мертвецкую, хотя знал, что дверь в ней только одна. Убедившись в этом, он еще сильнее разозлился. Должно быть, Леонардо стоял по ту сторону двери и хихикал над ним.
Микеланджело переключил внимание на единственное оконце, расположенное высоко под потолком. Попытался дотянуться, но тщетно. Подпрыгнул — пальцы не достали даже до нижней рамы. Он огляделся в поисках того, что можно было бы приставить к стене. Но в мертвецкой имелись лишь каменные столы, привинченные к полу огромными болтами. Другой мебели не наблюдалось. Значит, долезть до оконца не получится.
Он постарался не думать об оставленном им распотрошенном теле, о витающем над ним духе умершего, как и о том, что будет, если кто-то другой вместо отца Бикьеллини застанет его на месте преступления. Человек нетерпимый к таким вещам, скорее всего, позовет стражу, и его возьмут под арест. Накажут, вероятно, и отца Бикьеллини.
Микеланджело мысленно дал себе клятву: если удастся благополучно выбраться отсюда, он ни за что больше не позволит Леонардо одержать над ним верх. Никогда. Как жаль, что война не прикончила старого наглеца. Едва эта мысль коснулась его сознания, в груди похолодело, холод поднялся и сжал ледяным кольцом горло. Желая ближнему смерти, он наверняка рассердил здешних призраков.
Он подобрал суму с инструментами, опустился на колени возле стены и стал ощупывать стык стены с полом, пока пальцы не наткнулись на подвижный камень. По всей видимости, этот камень принимал на себя не слишком большую часть веса церкви. Камень здоровый, и если удастся его выворотить, прикинул Микеланджело, то его тело пролезет в образовавшийся лаз. Он занес молоток и, представляя глумливую физиономию Леонардо, со всей яростью обрушил его на кладку.
Несколько быстрых ударов — и камень высвободился. Микеланджело извлек его, и поток грязи устремился в мертвецкую. Проделанная дыра находилась как раз на уровне земли, а в последние недели часто шли ливни, так что земля была мягкая и влажная. Он просунул руку глубоко в дыру и ощутил кожей дуновение свежего ветра. Вот уж воистину — до спасения рукой подать. Правда, от склизкой грязи веяло ледяным холодом и тянуло вонью разложения, но, если он задержит дыхание и со всей силы нырнет в отверстие, ему удастся одним рывком преодолеть коротенькое расстояние и вырваться на свободу.
Микеланджело зажмурился и устремился головой в лаз. Жирная слякоть сразу же набилась в ноздри и уши, потекла за шиворот. Он страшно закашлялся и дернулся из проклятой дыры обратно. Хватая ртом воздух, быстро отер лицо от грязи и отплевался.
Сквозь высокое оконце уже начал просачиваться серый утренний свет. Скоро совсем рассветет, и святые отцы проснутся. Грязь не грязь, а пора было выбираться.
Он сделал несколько глубоких вдохов и, зажав нос, снова нырнул в зловонный лаз, мысленно костеря Леонардо на все лады. Жидкая грязь проникла под тунику, но он отчаянно рвался вперед, ерзал, втискивая по очереди в отверстие широкие плечи, и что есть силы отталкивался от склизкого пола мертвецкой ступнями и коленями. Ноги скользили. Сердце бешено стучало, легкие жгло от отсутствия воздуха. Но ему удалось протолкнуться настолько далеко, что голова вынырнула на поверхность. Задыхаясь от кашля, Микеланджело отплевался, затем набрал полную грудь свежего воздуха. Он все еще наполовину торчал в лазе, но позволил себе немного подышать спокойно, глядя на поднимающееся солнце.
Наконец он совершил последнее усилие и вырвался из дыры. В бедро воткнулось что-то острое и твердое. Он пошарил рукой в месте боли и выдернул обломок кости. От человеческой руки. Господи помилуй, он прорыл ход на волю через чью-то могилу! Еще чей-то дух, которого он рассердил в своем стремлении к величию.
Леонардо
— Но когда я случайно задел эту чертову метлу и она… — Леонардо так зашелся в смехе, что ему пришлось сесть и перевести дух. — Этот малый до того перепугался, что мне пришлось обнаружить себя, не то бы он помер со страху.
Салаи увлек Леонардо обратно в кровать.
— Не лгите хотя бы мне, господин. Вы с самого начала задумали запереть его там.
— Клянусь, и в мыслях не держал! Я собирался лишь немного пошпионить за ним и отыскать какую-нибудь его слабость… ну, или силу, чтобы потом обратить против него. Но когда подвернулся такой шанс… — Щелкнув пальцами, Леонардо показал, как захлопнул дверь перед носом Микеланджело.
Салаи захохотал.
— Я знаю цену страху, — уже спокойно произнес Леонардо. — Когда страх на твоей стороне, противника можно уничтожить еще до первого выстрела.
Салаи перестал смеяться и серьезным тоном заметил:
— Вас не было целую вечность.
С какими испытаниями пришлось столкнуться его помощнику, пока Леонардо отсутствовал? Вернувшись, он нашел его все в той же комнатушке в обители Сантиссима-Аннунциата; он получил у монахов стол и кров, помогая им ухаживать за художественными ценностями монастыря и полировать серебро. Леонардо не видел его больше года. За это время Салаи исхудал, одежда его обносилась, но черты лица по-прежнему сохраняли привлекательность, а в карих глазах горел все тот же лукавый огонь.
— Весь этот год, мой юный Салаи, меня носило по волнам бурного моря. Подобно моряку, я карабкался по канатам, пытался править парусом, а свирепый ураган трепал мое суденышко, швырял его из стороны в сторону и ломал мачты. Но, по счастью, я сумел отрастить себе пару крыльев и улетел. Теперь я снова здесь. Здоровый и невредимый. — Леонардо провел пальцами по гладкому подбородку Салаи. — Я подумал, однако, что куда лучше преподнести Микеланджело сюрпризец моим нежданным возвращением, чем позволить ему узнать новость из городских пересудов. В данном случае я, видишь ли, сам выбрал время и место, это и дало мне преимущество. Никколо гордился бы мной.
— Какой еще Никколо? — ревниво спросил Салаи.
— Макиавелли.
Салаи удивленно изогнул бровь.
— Он был посланником Флоренции к Борджиа. — Леонардо пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что это неважно. — Я очень доволен тем, что решил пробраться во Флоренцию под покровом ночи, вместо того чтобы оповещать весь город о своем возвращении. — Леонардо прошел через городские ворота поздно вечером, закрывшись капюшоном по самые глаза, и, никем не узнанный, побрел по улицам. И вдруг заметил, что в оконце мертвецкой при церкви Санто-Спирито горела свеча. — Я решил, что это хороший шанс посетить знакомые места, раньше принадлежавшие мне по праву, — пока не распространились слухи о возвращении предателя. Много ли об этом болтают в городе?
Салаи отрицательно помотал головой, глядя в сторону, и Леонардо получил так нужное ему подтверждение правоты Макиавелли. Флорентийцы и правда больше не обсуждали его. Они судачили кое о ком другом.
— Итак, что мы делаем дальше, господин? — поинтересовался Салаи. — Эти монахи мне порядком надоели.
— Мне нужен заказ.
— У вас всегда остается возможность продать ваше сокровище, — выдвинул предложение Салаи, крутя драгоценный перстень с птичкой на пальце Леонардо. — Эти деньги поддержат нас, пока вы не добудете достойного заказа или должности.
— Никогда! — Леонардо вскочил с кровати. — И потом, нам нужно нечто большее, чем деньги. — У него еще сохранилось несколько папских дукатов из щедрого жалованья, которое платил ему Чезаре. Впрочем, надолго их не хватит. — Я должен восстановить свою репутацию, а для этого мне требуется солидный заказчик, покровитель. — Леонардо пошел в угол, открыл сундук, где хранились его альбомы и прочие бумаги, и стал в нем рыться. — А где моя переписка?
— Вернитесь лучше в постель, господин. А бумагами мы займемся позже.
Леонардо услышал какую-то возню, шорохи и сдерживаемый смешок. Наверное, Салаи приготовил ему очередной сюрприз, например, подложил в постель ящерку. В прошлом паршивец всегда находил такие шуточки презабавными.
Ага, нашел!
— Вот оно, это письмо, — пересмотрев большую стопку писем, Леонардо нашел нужное. — От торговца шелками, мужа той женщины.
— Какой женщины?
— Ну той, с рынка. Мадонна Лиза Джокондо. Ты должен ее помнить. — Перед мысленным взглядом Леонардо возникла нежная оливковая кожа и рассыпанные по плечам пряди волос. — Ее муж прислал письмо за день до моего отъезда.
— А, портрет жены шелкоторговца? Ну, на нем далеко не уедешь, этих денег нам хватит на какой-то месяц. От силы на два.
Леонардо быстро обернулся. Так он и думал: верткая ящерица быстро пробежала вверх по руке его помощника. Какие бы горести и беды ни обрушивались на бедовую голову Салаи, в душе он навсегда оставался озорным мальчишкой.
— Ты сомневаешься в моих способностях, мой ученик? Торговец жаждет портрета, и я легко выманю из него деньги, которых нам хватит на полгода. А через несколько недель вновь так очарую флорентийцев, что предложения посыплются на меня как из рога изобилия. Вот тогда я и выберу проект или заказ, который сможет обогатить мое наследие; я покажу всему миру, кто во Флоренции истинный мастер. — О, он уже представлял себе этот шедевр — произведение такой красоты и мощи, что, глядя на него, Флоренция позабудет имя желторотого скульптора. — А пока нам сойдет и мона Лиза.
— Вы ведь больше не служите Чезаре Борджиа, да? — сдавленным шепотом спросил Франческо дель Джокондо. Торговец шелками боязливо косился на знатную даму, перебирающую разложенные на его прилавке тончайший шифон, блестящую тафту и роскошный бархат.
Леонардо высокомерно приподнял бровь.
— Разумеется, нет. Я вернулся во Флоренцию. Насовсем. И раз вам расхотелось получить портрет моей кисти, — с притворным облегчением заключил Леонардо, словно у него гора свалилась с плеч, — я с легкой душой возвращаю вам ваше слово. Мне есть кому предложить свои услуги, вот хотя бы…
— О, что вы, в этом нет никакой нужды, — как можно равнодушнее ответил Джокондо. — Полагаю, портрет придется нам весьма кстати. Мы недавно переехали в новый дом на… — он намеренно возвысил голос, чтобы услышали все вокруг, — виа делла Стуфа. — Торговец одарил победной ухмылкой конкурента, расположившего свой прилавок с шелками по соседству с ним. — А супруга родила мне еще одного сына.
— Превосходный момент для нового портрета, — кивнул Леонардо.
Джокондо быстро произвел расчеты со слугой богатого влиятельного семейства Строцци и снова обратился к Леонардо:
— Я хочу предложить за ваше мастерство справедливую цену, господин Леонардо, и думаю, что…
— Сотня флоринов, — поспешил закончить за него Леонардо.
— Сотня флоринов? — не веря своим ушам, взвыл Джокондо. Как всякий уважающий себя торговец, он всегда был готов торговаться до хрипоты.
— Что ж, примите мои извинения, синьор. — Леонардо повернулся, чтобы отойти от прилавка Джокондо. — Я-то думал, что вас интересует шедевр, а не…
Знатная дама, которая все еще разглядывала ткани, оторвалась от своего занятия и с интересом наблюдала за сценкой. Соседний торговец, усмехаясь, подался поближе, чтобы не упустить из перебранки ни слова.
Вислые щеки Джокондо вспыхнули.
— Я хотел только… э-э-э, уточнить: это цена всего за… всего за один-единственный портрет?
— Я могу принять плату папскими дукатами, если вам так удобнее.
— Ай, как невежливо получилось, — пробубнил Джокондо, хватая свою выручку и мешочек с деньгами. — Прошу, позвольте пригласить вас ко мне домой, мы угостимся достойным обедом, выпьем немного чудесного вина. Я покажу вам мою коллекцию пуговиц. Вы, должно быть, думаете, что по Шелковому пути к нам поступают только ткани? Но если вам не доводилось видеть, какие пуговицы мы получаем с Востока, считайте, что вы не видели восточной роскоши. А потом мы сядем и спокойно, с глазу на глаз, обсудим подробности этого во всех смыслах важнейшего заказа.
— Я предпочел бы первым делом договориться о цене, синьор. Прямо здесь.
Уже не одна дюжина пар горящих любопытством глаз заинтересованно наблюдала за ними. Торговцы и их покупатели оторвались от своих дел и навострили уши.
— Э, ну хорошо, ну ладно, поглядим… — Острые глазки Джокондо бегали туда-сюда, выдавая нерешительность. — Просто так, справедливости ради… ее предыдущий портрет обошелся мне… кажется, в десяток…
— И кто же, позвольте спросить, писал этот предыдущий портрет вашей супруги? Как его имя?
— Ах, ну какая разница, неважно, — смутился торговец.
— Синьор Джокондо, вы, несомненно, глубокий знаток и страстный поклонник шелка, а также самый тонкий ценитель прекрасного во всей Флоренции. — Леонардо указал знатной даме на отрез парчи особенно живописной расцветки. — Осмелюсь утверждать, что и на всем нашем полуострове тоже. И теперь, я в этом уверен, вы можете позволить себе приобрести достойный вашего вкуса портрет супруги.
— Знаешь, в детстве, еще до того, как меня отдали в подмастерья к Верроккио, я часто просил матушку погулять со мной в этом чудесном уголке, — сказал Леонардо, глядя в окно на расстилающуюся внизу виа делла Стуфа. Недаром это самая шикарная улица во всей Флоренции, в ее старинных особняках нашло приют новоиспеченное богатство. — На нас вечно глазели. Мы были бедные, сразу видно, что деревенские, а моя матушка… ну да бог с ним, меня нисколько не трогало, что думают о нас все эти разряженные щеголи. Я мечтал жить на улице вроде этой.
— Я и сейчас мечтаю об этом, — отозвался Салаи. Он расположился ближе к дверному проему, чтобы не пропустить приближение Лизы.
В музыкальной гостиной семейства Джокондо они готовились к первому сеансу позирования. Комната поразила их размерами и невероятной безвкусицей выставленной напоказ роскоши. Стены были обтянуты алым бархатом, потолок украшен многочисленными серебряными чеканками, на полу из мозаики кричащей расцветки выложено изображение древнегреческой музы поэзии и музыки Евтерпы, играющей на авлосе среди целой оравы сатиров. Несмотря на внушительные размеры, в гостиной нашлось место только для одного музыкального инструмента — богато инкрустированного золотом клавесина. Дева Мария, окруженная стайкой ангелочков, украшала его крышку, и Джокондо считал эту роспись верхом совершенства, хотя непропорциональные фигуры на ней выглядели несуразно.
Между тем команда помощников, нанятых специально для этого случая, заканчивала приготовления к предстоящему сеансу. Столики были уставлены высокими стаканами с букетами рисовальных кистей разнообразного вида и толщины и банками с красками; музыканты настраивали инструменты, жонглеры вовсю репетировали свой номер. Леонардо по опыту знал, что созданная им обстановка произведет впечатление на Джокондо. Купцы, а в особенности те, кто имеет дело с таким прихотливым товаром, как шелк, обожают пышность и помпу. Им кажется, что все это ставит их на одну доску с королевскими особами, тогда как в действительности их жалкие претензии иллюзорны.
Для позирования супруги шелкоторговец установил уродливое кресло с высокой спинкой прямо перед вычурным мраморным камином, а вокруг разложил какие-то нелепые безделушки: голубую с золотом кисть, цвета которой соответствовали гербу знатного Лизиного рода, отрез зеленого шелка, призванный символизировать благородное занятие ее супруга, и массивную, всю инкрустированную золотом музыкальную шкатулку. Над креслом Джокондо велел повесить собственный портрет. На современных портретах жёны часто смотрели на изображения мужей, как будто не способны были думать ни о чем другом.
Леонардо скептически хмыкнул, оглядев торжественные приготовления Джокондо, но ничем не обнаружил своего мнения. На первоначальном этапе лучше не заводить споров с заказчиком. Позже он сам решит, что изобразить на заднем плане. В этом-то и прелесть живописи. Реальностью становится то, что запечатлел на полотне мастер.
— Идет, — прошептал Салаи, услышав звук шагов, доносящийся из ведущей к гостиной галереи. Помощники лихорадочно заканчивали наводить на обстановку последний лоск, а Леонардо в непринужденной позе облокотился о подоконник. Он знал: его силуэт, освещенный сзади солнечными лучами, будет окружен небесным сиянием. Шаги стали громче, и у Леонардо начало подергиваться левое веко. Обычно он не поддавался простейшим человеческим чувствам, но здесь случай особый. Мысли об этой юной даме, спасшей ему руку, ухаживавшей за ним, когда он страдал от раны на ноге, неотступно преследовали его на войне. Ничего удивительного в том, что он так разволновался.
Мадонна Лиза дель Джокондо вошла в гостиную — в длинном шелковом платье кричаще-карминного цвета, с тугим узлом волос на затылке. Наверное, сам Джокондо вырядил так драгоценную супругу, подумал Леонардо. От этого жуткого кроваво-красного балахона разило той же безвкусицей, что и от убранства музыкальной гостиной. Лиза стала выглядеть старше, словно с момента их последней встречи прошел не год, а лет пять. Лицо ее оставалось таким же гладким и юным, а вот глаза сделались глубже и засветились жизненной умудренностью; груди и бедра несколько отяжелели вследствие недавней беременности и родов. Брови ее, по последней итальянской моде, были теперь аккуратно выщипаны. Эти голые надбровные дуги придавали ее лицу изысканности и явно свидетельствовали о том, что она уже не прежняя невинная девушка, а искушенная светская дама, хорошо разбирающаяся в новейших веяниях моды, подхваченных знатью Флоренции у самых изысканных королевских дворов Европы. Раньше в ее лице Леонардо больше всего привлекал неповторимый рисунок ее губ, теперь же его вниманием всецело завладели глаза Лизы.
— Играйте! — скомандовал Леонардо. Музыканты заиграли легкую задорную мелодию, пятеро жонглеров начали представление. — Мона Лиза. — Леонардо сорвал с головы шитую золотом шапочку и склонился в низком поклоне. — Мастер Леонардо из Винчи к вашим услугам.
Однако его ангел-спаситель молча прошла мимо и села в тяжелое деревянное кресло лицом к балкону, вызывающе скрестив на груди руки.
Джокондо вспыхнул и, скривившись в смущенной улыбке, заспешил к супруге. Он принялся увещевать ее тихим шепотом, она упрямо хранила молчание, и шепот делался громче и настойчивее. Джокондо всего на пять лет моложе Леонардо, но в этот момент он выглядел точь-в-точь как пожилой брюзгливый папаша, пытающийся сладить со строптивой дочерью. Скорбно покачивая головой, он подошел к Леонардо.
— Боюсь, моя супруга неважно себя чувствует. Видимо, затея с портретом пришлась не очень кстати.
Леонардо пристально вглядывался в затылок молодой женщины. Почему она отказывается перемолвиться с ним хоть словом? Может, он действительно выдумал все предыдущие моменты общения с нею, а в реальности ничего не было? Или она нарочно напустила на себя неприступную суровость из опасения обнаружить перед супругом истинное расположение к нему, Леонардо? Возможно, эта ледяная холодность свидетельствовала не о безразличии, а о чувствах куда более глубоких, чем те, на которые он смел бы надеяться?
— Синьор, думаю, я мог бы немного растопить лед вашей супруги, если бы вы позволили мне возмутительнейшую вольность провести несколько коротких минут наедине с почтенной синьорой…
— Синьор!
Это и правда неслыханно для женщины — остаться наедине с мужчиной, не являющимся ее супругом, а в особенности с художником, который привык наслаждаться красотой всеми доступными способами. Ведь всякий, кто привержен суетности и тщеславию иллюзорной творческой жизни, уже по определению опасен.
— Досточтимая донна немного нервничает, вот и все, — сказал Леонардо.
Джокондо колебался, растерянно теребя украшающую его камзол пуговицу из оправленного в золото жемчуга.
— Однажды я видел, как обезьянка нашла гнездо с копошащимися птенчиками, — вкрадчиво начал Леонардо, обнимая Джокондо за плечи и увлекая к выходу из залы. — Маленькие хрупкие создания привели обезьянку в такой восторг, что она схватила одного и унесла к себе. Обезьянка воспылала к птенчику такой любовью, что принялась целовать и обнимать его, пока не задушила насмерть в своих объятьях. — Леонардо сменил мягкий тон на зловещий. — Остерегайтесь удушить супругу своими заботами, любезный друг. Знатная дама, если ее возлюбленный супруг неотрывно наблюдает за ней, может лишиться своего безмятежного спокойствия. Мне часто доводилось видеть подобное. Лица прекрасных дам, особенно вот здесь и здесь, где мышцы рта… — Леонардо указал на свои щеки, — застывают в напряжении. Из-за этого портрет не получится, я это знаю наверное, синьор. Но если вы позволите мне всего несколько минут побыть с вашей супругой наедине…
— Ну хорошо. — Джокондо слегка кивнул. — Она просто волнуется… Эй, вы, ступайте прочь. — Он повелительно махнул рукой прислуге, а Леонардо сделал знак своим помощникам, включая Салаи. Прежде чем закрыть двустворчатые двери в гостиную, Джокондо бросил внутрь последний тревожный взгляд.
Наступившая тишина словно накрыла залу плотным покровом. Леонардо наблюдал за молодой женщиной с другого края гостиной в ожидании, что она заговорит первой. Однако Лиза хранила молчание.
Он направился к ней через гостиную, высокие деревянные подошвы его туфель застучали по мозаичным плитам пола, но женщина, не поворачиваясь, по-прежнему смотрела сквозь открытые балконные двери. Леонардо остановился позади ее кресла. Вдохнул ее аромат, распознавая нотки примулы и яблок.
— Мадонна? — тихонько окликнул он. — Теперь мы одни.
Он ожидал, что она встанет, повернется к нему и… Но она была неподвижна.
— Отгадайте-ка, что за штука скрывается под слоем зимнего снега, но обнажается, как только приходит лето? — Слова загадки он произнес нараспев, как любовную песнь. Но Лиза никак не отреагировала. — Секрет, который невозможно скрыть, — вот что это, — озвучил Леонардо разгадку. Он сделал шаг, чтобы оказаться сбоку от кресла и взглянуть на ее профиль, но она сейчас же отвернулась. Он опустился на колени возле нее и, не решаясь взять ее за руку, положил пальцы на подлокотник. — Вы просто раскройте мне свой секрет, моя донна, — прошептал он. — Или лучше расскажите, как открыли мой. Откуда вы узнали о моих попытках взлететь в небо? — Этот вопрос, как и многие другие, давно терзал его любопытство. Она же обычная матрона, хозяйка дома и мать семейства. Откуда ей знать, что такие мечты вообще существуют? — Ну скажи мне, пожалуйста, скажи… dimmi, dimmi, dimmi, — трелями звучал его тихий голос.
— Тела, лишенные душ, которые учат нас достойно жить и достойно умирать, — послышался ее голос.
Она говорит! Мало того, отвечает загадкой на загадку. Вот решающее доказательство того, что она земная женщина.
— Ответ — книги, — сказал он с легким наклоном головы. Он слышал раньше эту загадку Цицерона, но от этого ее слова ничуть не лишились прелести.
— Очень хорошо. — Она впервые повернула голову и посмотрела на него без тени насмешки. Напротив — ее глаза пылали гневом. — Если уж вы читаете гуманистов, то должны знать, что человеческая сущность наполовину божественна, что человек — сосуд всевечной мудрости, которая в конечном счете ведет его к благу, а никак не ко злу. — Лиза встала. — Я думала, в вас живет мудрость, человек из Винчи, а сейчас вижу, что ее нет. — Она решительно направилась к дверям. — У меня есть сыновья. Трое сыновей. Но вы раскрыли Чезаре Борджиа свои планы, свои замыслы, отдали ему во власть свои руки, свое время, вы помогли ему принести его зло сюда, во Флоренцию, в мой дом, где живут мои дети. — Она замолчала, глядя на Леонардо. Ему показалось, что в ее позе и взгляде было больше затаенной печали, чем отвращения к нему.
Он открыл было рот, чтобы оправдаться, хотел убедить ее в том, что сумеет защитить ее и ее детей, но не мог подобрать слов.
— Вы были моим героем. Я считала вас совершенством, — тихо сказала она.
— Я совсем не совершенство.
Она положила руку на массивную ручку двери.
— Мадонна, умоляю вас. — Он поднялся, пересек гостиную и подошел к ней. — Ваш супруг уже выдал мне плату за мою работу. Как я смогу написать ваш портрет, если вы отказываете мне в шансе сделать с вас несколько зарисовок?
— Да хоть по памяти, какое это имеет значение? — ответила она, опережая его возражения. — Даже если вы напишете этот мой портрет, никто не увидит в нем меня, хотя там буду изображена именно я. Все увидят в портрете лишь вас и ваш знаменитый на весь свет гений. Ваши мазки. Ваши цвета. Люди увидят великий шедевр кисти великого Леонардо да Винчи, и глаза их будут скользить по моему лицу, не замечая его, словно я призрак. А мой муж… — Она легонько передернула плечом. — О, он увидит мой портрет таким, каким хочет видеть его, ведь до реальности ему нет дела. Я это точно знаю. Именно так он воспринимает меня. — Она открыла двери.
Почтенный муж околачивался прямо у порога гостиной.
Не желая ничем встревожить своего заказчика, Леонардо склонился перед его супругой в учтивом поклоне.
— Благодарю за то, что уделили мне свое время, мона Лиза. Вы дали мне более чем достаточно пищи для того, чтобы я смог начать работу.
— Помнится, однажды вы говорили, — Леонардо прямо с порога кабинета обратился к Макиавелли, — что вы мой вечный должник, поскольку это из-за вас мне пришлось покинуть Флоренцию и отдаться в руки этого чудовища Борджиа. Хоть в этом-то вы не лукавили?
Макиавелли кивнул. Он снова выглядел так, как пристало высокопоставленному государственному мужу: в элегантной одежде, а не в драном мундире, снятом с убитого солдата.
— Да, это я говорил со всей серьезностью.
— Тогда я пришел получить с вас долг. Мне пора встать на защиту родной земли.
Микеланджело
Август. Флоренция
Микеланджело осознавал, как он рискует, упирая резец в мягкую округлость Давидова бицепса. Ударь он по резцу чуть сильнее, чем надо, или отклони его хоть на полградуса от вертикали, он отобьет часть руки, и тогда одной грунтовкой не обойдешься. Мысль же о том, чтобы добавить немного мрамора ради исправления промашки, никогда не придет Микеланджело в голову. Высечь статую из цельного куска мрамора — это идеал, к которому стремится каждый скульптор; для Микеланджело же это был единственный способ ваяния, других он не признавал. И если кусок мрамора отбит от глыбы, возврата нет. Любой другой скульптор на этой стадии из предосторожности отложил бы молоток и резец и воспользовался бы более тонким инструментом — напильником, скажем, или рашпилем. Ими можно обрабатывать тонкие детали статуи, не боясь отколоть лишнее. Такие инструменты позволяют аккуратно снимать тонкие слои один за другим.
Для Микеланджело риск, вызванный отказом от молотка и резца, превышал риск от работы ими. Пусть сбривать лишний мрамор напильником безопасно, но так сглаживались все рельефы. Пока удары Микеланджело были точны и выверены, резец позволял ему высекать более четкие и выразительные углы, резко менять направление линий. Благодаря этому в согнутых руках Давида будет ощущаться мышечное усилие. Его мускулы будут прятаться в густых тенях, а потом словно бы прорываться навстречу свету. Микеланджело использовал молоток и резец до самого завершения работы над Пьетой, при их помощи добиваясь драматической игры света и динамики. В Пьете потрясающие визуальные эффекты возникали благодаря будто колышущимся тяжелым складкам одеяния Девы Марии. В новой статуе такой эффект будут создавать подрагивающие от напряжения мускулы Давида.
Раз за разом Микеланджело ритмично опускал молоток на резец до тех пор, пока не выбился из сил. Рука онемела от бесконечного движения вверх-вниз, и он взял arco — лучковое сверло. Он взобрался на верхний ярус опоясывающих статую лесов и упер заостренный кончик металлического прутка в мрамор на уровне головы Давида. Вращая пруток туда-сюда с помощью специального смычка, будто желая высечь огонь трением, он всверливался в каменную плоть, проделывая аккуратные отверстия, которые послужат основой для завитков густых волос Давида. Так он рубил и обрабатывал камень часами напролет, пока его собственное тело, соединяясь с ним тысячью неразрывных уз, не сливалось с ним воедино. И тогда Микеланджело начинал распевать собственный псалом «Давид со своей пращей, а я, Микеланджело, со своим смычком».
— Микеле!
Микеланджело застыл. Кто это позвал его? Неужели Давид?
— Поговори со мной, — прошептал он мрамору. — Скажи скорее, чего тебе хочется?
Послышался глухой шум.
Микеланджело приник ухом к груди Давида.
— Это бьется твое сердце?
Шум нарастал, от него уже сотрясались стены сарайчика, но звук был слишком громким даже для ударов богатырского сердца Давида. Микеланджело казалось, что это чья-то тяжелая поступь. Или это Голиаф шагает сюда, чтобы вызвать их с Давидом на бой? У Микеланджело похолодели руки. Слишком рано спешит к ним великан. Давид еще не готов принять бой. Шаги приближались, делались громче, еще миг — и они сомнут сарайчик, раздавят их с Давидом.
— Открой, Микеланджело!
Он повернулся к двери.
— Не уйду, пока не впустишь меня.
Брат Буонаррото.
Микеланджело спрыгнул с лесов и помотал головой, желая прогнать охватившее его смятение. Неужели он и правда принял стук в дверь за шаги страшного Голиафа? Может, прав друг Граначчо — он совсем заработался?
Микеланджело стряхнул мраморную пыль с клочковатой бороды и распахнул дверь. Нестерпимо яркий солнечный свет ослепил его. Глаза с непривычки заслезились. Он не мог вспомнить, когда в последний раз выбирался из своей берлоги засветло.
— Ты чего так возился? Я барабаню в дверь, почитай, четверть часа, — с укоризной сказал Буонаррото.
— Я не слышал тебя, — потупил глаза Микеланджело. — Случается, я так погружаюсь в работу, что ничего вокруг не слышу.
— Пойдем. Город созывает всех жителей Флоренции на площадь, и немедленно.
— Но я не слышал звона колоколов. — Микеланджело вспомнил свой странный разговор на колокольне с Пьеро Содерини. Если гонфалоньер так хотел, чтобы колокола нарушили молчание, отчего же не приказал звонить в них?
— Да при чем тут колокола? Забудь. Случилось нечто чрезвычайное.
Микеланджело выглянул в проем двери позади Буонаррото. Там и впрямь творилось что-то необычное. Мастеровые при соборе побросали свои инструменты и выбежали на улицу, по которой целая толпа горожан валила на площадь. Волна нарастающей паники накрывала флорентийцев и гнала их к собору.
— Andiamo, — решительно сказал брату Микеланджело и запер за собой двери сарайчика. — Пойдем и мы поглядим, по какому случаю сборище.
— Папа мертв! — провозгласил со ступеней собора архиепископ. Единый вздох-всхлип взмыл над толпой и опал, взорвавшись исступленными рыданиями. Весть поплыла по людскому морю, пока не достигла дальнего его края, и оттуда уже донеслось до первых рядов эхо стенаний, как из преисподней: «Папа мертв, папа мертв, папа мертв». Толпа возносила руки к небу и выла от горя.
Микеланджело уронил голову на ладони. Он тоже скорбел. Вся его взрослая жизнь прошла при папстве Александра VI. Работая в Риме, он своими глазами видел, как с легкой руки папы при его дворе процветали мздоимство и жестокость. И однако же папа — наместник Бога на земле, единственная ниточка, связывающая людей со Всевышним. И вот теперь он мертв.
— А где все наши? — шепотом спросил Микеланджело у брата.
— Собрались вместе, как же иначе. — Буонаррото говорил об этом как о чем-то очевидном, но избегал смотреть брату в глаза.
Микеланджело кивнул. Он и без слов все понял. Даже такая трагедия, как смерть папы, не заставит сердце его отца смягчиться и простить его.
— Тебе перед закатом солнечным… — вдруг взвился ввысь нежный звонкий девичий голосок, выводящий слова траурного гимна. Он поплыл над толпой, каким-то чудом слышимый сквозь плач и стенания. — За всю твою любовь и милосердие…
— Мария, — прошептал Буонаррото.
— Что? — в недоумении переспросил Микеланджело. Неужели Буонаррото молил Деву Марию о спасении в суровую пору неизбежного хаоса?
Между тем хрустально чистый, сильный голос продолжал выводить слова знаменитого траурного гимна Te lucis ante terminum, и казалось, будто это пели ангелы, охраняющие врата небес.
— Это поет моя Мария, — пояснил Буонаррото. — Ее голос я узнаю даже среди тысячи других.
Микеланджело вытянул шею и встал на цыпочки. Наконец ему удалось разглядеть ее: красивая девушка исполняла эту скорбную песнь. Воздетые к небесам руки действительно были красными от въевшейся краски. Это она, дочь шерстяника.
— Цвет ее ремесла, цвет моей любви, — со вздохом произнес Буонаррото. Та самая Мария, на которой он так мечтал жениться.
По щеке Буонаррото скатилась слеза, и Микеланджело обнял брата за плечи. Теперь, когда в и без того неспокойной Италии все пойдет кувырком, благоразумные отцы с меньшей вероятностью захотят отдавать своих дочерей за бедных отпрысков благородных семейств.
— Как смерть папы отразится на Чезаре Борджиа и его армии? — спросил Буонаррото с бледным от страха лицом. — Неужели мы спасены?
Увы, Микеланджело и сам не знал. За его жизнь сменилось всего трое пап: великий строитель Сикстинской капеллы и покровитель искусств Сикст IV; ярый гонитель ведьм, положивший своей буллой начало многочисленным процессам инквизиции, Иннокентий VIII; до кончиков ногтей продажный Борджиа, Александр VI. Всякий раз, когда умирал папа, на его место избирался новый, и Микеланджело вдоволь наслушался историй о продажности кардиналов, о шантаже и отравлениях, коими они не гнушались, чтобы добиться угодного им голосования конклава. В среде политиков и в народе сразу заговаривали о последней битве добра со злом и о грядущих войнах, ибо во временно наступившем безвластии старинные роды начинали вовсю плести интриги, а сторонники почившего папы в последней конвульсии намертво вцеплялись в бразды правления.
Чезаре Борджиа мог совсем распоясаться. Он лишился не только могущества, но и сдерживавшей его воли отца. Отныне он сам себе господин, способный творить любой произвол.
— Господи, спаси Флоренцию! — молился Микеланджело. Будущее Италии — и каждого, кто стоял на соборной площади, — в этот момент было неопределенным, как никогда.
Леонардо
Осень. Флоренция
— Ну скажи мне хоть словечко, dimmi, dimmi, dimmi, — тихонько бормотал Леонардо, скрытый в темном углу церкви Сантиссима-Аннунциата. Отсюда он следил за Лизой, молящейся в одиночестве в небольшом приделе храма. Глядя на ее коленопреклоненную фигуру, на быстрые пальцы, перебирающие четки, на лицо, наполовину залитое светом, наполовину скрытое в густой тени, Леонардо любовался совершенным воплощением истинной католички. Для портрета он не мог бы выбрать образ лучше этого.
Шпионить за ней Леонардо не нравилось, но, поскольку она отказалась позировать ему, другого выхода он не нашел. Ему нужно было видеть ее. Разумеется, исключительно ради написания ее портрета. Иногда он таился где-нибудь среди рядов на рынке и ждал, когда она придет навестить прилавок своего Джокондо, а бывало, устраивался на улице напротив ее окон и ловил ее мелькающую тень. Но его излюбленное место — здесь, в церкви Сантиссима-Аннунциата, где он мог беспрепятственно наблюдать за ней, пока она молилась в семейной капелле.
Какой-то человек неслышно проскользнул на соседнее с ним место. Леонардо повернул голову и увидел перед собой лукавую улыбку Макиавелли.
— Меня порядком удивило, когда ваш ассистент сказал мне, что я смогу найти вас здесь, — наклонившись к уху Леонардо, прошептал дипломат. — Вы пытаетесь вернуть себе заказ на алтарную роспись?
— Вот уж нет. Ни за что не возьмусь за эти изъеденные временем стены, даже если монахи на коленях будут умолять меня, — ответил Леонардо, не сводя глаз с молитвенно сложенных рук Лизы. — Просто я хочу стать ближе к небесам.
Некоторое время оба молчали. Леонардо подумал с усмешкой, что со стороны они выглядели как парочка добрых прихожан, погруженных в послеполуденную молитву.
— Я выполнил то, о чем вы меня просили, — наконец вполголоса проговорил Макиавелли.
— И готовы поклясться, что на сей раз меня не постигнет участь поросенка, которого откармливают, чтобы потом полакомиться им на обед?
Макиавелли принял оскорбленный вид.
— Вы сами пришли ко мне, попросили о помощи и тем не менее продолжаете сомневаться?
Вопросительно приподняв красивую бровь, Леонардо выжидающе молчал.
— Готов поклясться на Библии.
Леонардо продолжал безмолвствовать.
— Жизнью моей супруги, подойдет?.. Ну, хорошо, клянусь жизнью Республики. Да попадет наша прекрасная Флоренция в лапы Медичи, если я лгу.
— Тогда почему на этот раз, — Леонардо весь подался вперед на своем сиденье, — меня не пригласили выступить перед Синьорией? Отчего вы тут шепчетесь со мной под покровом церковного полумрака? К чему вся эта таинственность?
— Просто я хочу, чтобы вы узнали новость от меня. Напрямую. Без всяких игр и уловок. Без сюрпризов и прочих неожиданностей. Я поспешил известить вас, пока слухи сами не достигли ваших ушей. Я-то знаю, какой рассадник сплетен эта ваша студия, они хлещут из нее, как из дырявого ведра.
Леонардо слушал его, опустив глаза. Он хотел бы верить Макиавелли, но прежнее предательство не так-то легко забыть. Он не желал снова остаться в дураках. На сей раз он вынудит дипломата первым раскрыть карты.
— Смерть папы привела Синьорию в полное замешательство, — стал терпеливо объяснять Макиавелли. — Предстоит традиционная процедура передачи власти, однако и народ, и правительство, и сам Содерини трясутся от страха. Не советую где-нибудь повторять то, что я сейчас вам скажу, но Чезаре Борджиа все еще командует папской армией и не позволяет собрать конклав до тех пор, пока кардиналы не пообещают ему избрать папой кого-нибудь из союзников Борджиа. Содерини боится, что новый папа поддержит планы Чезаре и тогда Флоренция падет.
Леонардо согласно кивнул.
— Защищая своих детенышей, львица упирает взгляд в землю, оттого и не страшится наставленных на нее копий. Так и флорентийцам ради собственного блага негоже глядеть на копья.
— Это правда, однако всеобщая паника вам на руку. Хотя поначалу они в Синьории сильно артачились. Уж очень нелепо выглядит эта ваша идейка с поворотом русла Арно — к тому же она наверняка потребует уймы денег. Но когда я показал им ваши чертежи, они в конце концов оценили изящество замысла. И теперь как никогда решительно настроены на то, чтобы перехватить у пизанцев устье Арно. Они осознают, как мы уязвимы, пока Пиза контролирует наш доступ к Средиземному морю.
— И что, не возражают против того, чтобы этим занялся я?
— Ну, некоторые сомнения у них остаются. Однако я убедил их. Сейчас, когда Борджиа на марше, самое время вложиться в вашу дерзкую идею. Тем более вы лучше прочих осведомлены о планах Чезаре. Дайте время, и они станут доверять вам так же, как доверяю я.
— Благодарю вас, Никколо, — сказал Леонардо. Любуясь Лизой, которая теперь стояла, подняв голову к статуе Пречистой Девы Марии, он решил, что она молится о спасении своих детей. — Если город пойдет на все это, считайте, что свой долг вы уплатили сполна и даже с лихвой.
— Может статься, я все еще должен вам, маэстро. Боюсь, на сей раз мои дипломатические способности немного… э-э-э… подвели меня.
Ох уж этот Макиавелли, подумал Леонардо, вечно у него какие-то выкрутасы.
— Они хотят, чтобы вы, пока будете состоять на службе у города, оказали им… м-м-м… еще одну незначительную услугу… — На бледном лбу Макиавелли выступила испарина. — Клянусь, это был единственный способ заставить их нанять вас на проект изменения русла Арно. Поверьте, я изо всех сил отговаривал их, но они… — Макиавелли отвел взгляд от Леонардо, — непреклонны. Они хотят фреску. — Дипломат затараторил: — Не думайте, это пустяк, всего одна небольшая картина, изображающая победу Флоренции над Миланом в битве при Ангиари. Вы были на войне, изучили ее, так сказать, изнутри, да и зарисовок у вас наверняка осталось много. Вы напишете эту фреску играючи, я уверен, за какие-нибудь несколько месяцев. Зато в обмен на такую малость получите щедрую финансовую поддержку вашего проекта с поворотом русла реки.
Леонардо сдержал смешок. Неужели Макиавелли думал, будто живопись настолько претит ему, что его нужно уговаривать взять заказ?
— И где же будет располагаться эта небольшая картина? — поинтересовался Леонардо, наигранно раздраженный тем, что к нему обращаются с такой ерундой. Пусть Макиавелли считает, что по-прежнему в долгу у него.
— В зале Большого совета.
Ого! Леонардо отвернулся, чтобы скрыть от собеседника радость. Зала Большого совета — самое важное и самое вместительное помещение для общественных собраний во всей Флоренции. Он располагался во дворце Синьории, и именно в нем в свое время Савонарола собирал свой всемогущий Совет пятисот. Конечно, когда Савонаролу сожгли на костре по обвинению в ереси, совет был распущен. А грандиозная зала осталась. Так что не о такой уж безделице просил его Макиавелли. Он просил Леонардо сотворить шедевр.
Леонардо, все еще изображая недовольство, пожал плечами.
— Ну раз мне не видать заказа на мой проект, если я не соглашусь написать эту фреску…
— Так я обрадую Содерини добрыми вестями, — полуутвердительно-полувопросительно произнес Макиавелли.
— Полагаю, я возьмусь за эту работу, коли без этого никак, — вздохнул Леонардо. А ведь он прав, этот Макиавелли: нет ничего приятнее, чем обманывать обманщика.
— Превосходно. Да, и примите мои извинения за то, что проповедь уже окончилась, — вставая, сказал Макиавелли. — Надеюсь, я не слишком помешал вашим молитвам.
«Какая проповедь?» — мысленно удивился, провожая Макиавелли взглядом. Потом спохватился и посмотрел в капеллу семейства Джокондо.
Лиза уже ушла.
На сей раз Макиавелли не солгал.
Священная коллегия кардиналов 22 сентября действительно избрала новым папой сторонника Чезаре Борджиа — Франческо Тодескини Пикколомини, взявшего себе имя Пия III. Неделей позже Флоренция официально наняла Леонардо да Винчи для работы над проектом изменения русла Арно, а также для написания фрески в здании городского совета. Ему положили весьма щедрое жалованье, наняли помощников, а также предоставили под жилье покои в верхнем этаже церкви Санта-Мария-Новелла, которые обычно занимали прибывающие во Флоренцию папа или королевские особы. Увидев это новое роскошное пристанище, Салаи не скрывал радости:
— Вот теперь, господин, вы получили достойное жилье.
Фреска, как и подозревал Леонардо, оказалась далеко не пустяком. Изображение «Битвы при Ангиари», призванное увековечить победу флорентийского оружия над извечным соперником Миланом в 1440 году, благодаря которой Флоренция сохранила за собой владычество над центральной частью полуострова, с самого начала предполагалось весьма масштабным, и работа над ним явно не ограничилась бы несколькими месяцами. Это монументальное произведение должно было занять всю восточную стену залы Большого совета. Размеры стены поражали: высота ее составляла рост пятерых человек, стоящих каждый на плечах у другого, а длина превышала линию из двенадцати человек, улегшихся друг за другом, головой к ногам следующего. Словом, Леонардо предоставили для работы самое большое полотно из всех, что он когда-либо видел.
«Эта огромная стена, — подумал он с улыбкой, — и есть тот шанс, которого я ждал».
Несколько следующих недель Леонардо был погружен в мысли о фреске. Он делал сотни рисунков с фигурами солдат и коней, смешавшихся в неистовом вихре сражения, жаждущих победить врага и выжить в кровавом хаосе войны. Паузы между рисованием он посвящал работам в русле Арно. Эти два проекта подпитывали один другой и постепенно росли — так мелкие разрозненные снежинки сначала лишь присыпают землю, а затем образуют огромные сугробы.
В один из дней, когда Леонардо на берегу Арно беседовал с Коломбино, главным распорядителем работ по проекту, он заметил, что к ним направляется какая-то дама. Ее огненно-багряные одежды развевались на ветру, как осенняя листва на дереве. Поначалу он снова принял ее за видение и, лишь когда она подошла ближе, осознал: это вполне реальная, земная мадонна Лиза дель Джокондо. Уже полгода он толком не встречался с ней — с того самого дня, когда она отказалась ему позировать, обвинив в предательстве.
— Оставьте-ка меня ненадолго, любезный Коломбино, — попросил Леонардо. Распорядитель отошел к рабочим, а Лиза, приблизившись, встала рядом с Леонардо. Вместе они наблюдали за суетой на берегу: сотни людей обтесывали бревна, катили огромные валуны, возводили прочные леса.
Леонардо не знал, представится ли ему еще когда-нибудь возможность разглядеть ее с такого близкого расстояния, и потому старался впитать в себя весь ее облик — будто она была благородным вином, богатый вкус которого он не мог прочувствовать, распознать с одного глотка. Он пытался запечатлеть в памяти ее лоб, казавшийся особенно высоким из-за выщипанных бровей, изящный разрез миндалевидных глаз, тень на груди от выпуклого подбородка и слегка выдвинутой вперед нижней челюсти, ложбинку, которая угадывалась меж двух выпуклостей под тканью свободного платья. Пальцы его зудели от желания достать альбом, сделать хотя бы беглый набросок, но он боялся спугнуть ее.
Она первая нарушила молчание:
— Теперь вы служите Флоренции.
Сколько месяцев он не слышал этого голоса — бархатного, сладкого, как патока, и нежного, словно взбитые сливки.
— Да, служу.
— Тем, что меняете русла рек?
— Да.
— Как это?
— Позвольте мне показать вам. — Леонардо предложил ей руку в надежде, что она не откажется.
Она не отказалась. Положила ладошку в изгиб его локтя, пальцы ее начали легонько выстукивать какой-то ритм. Весь следующий час он водил ее по окрестностям, показывая и объясняя, как должен воплотиться его замысел. Место для работ располагалось в западной части Флоренции, на окраине, возле городских стен, и в случае нападения Борджиа или пизанских наемников стражники из городского ополчения смогут защитить людей. В настоящий момент рабочие возводили дамбу из крупных валунов. Когда этот этап завершится, плотина перекроет течение и заставит Арно устремить свои воды в отходящий от нее канал — сейчас его как раз углубляли и укрепляли по берегам. Канал направит реку в старинное, давно высохшее русло, которое огибает Пизу и выходит в Средиземное море на некотором расстоянии от нынешнего устья. Таким образом враждебная Пиза лишится своей водной артерии, а заодно и выхода к морю. Леонардо объяснил, что лично не отвечает за реализацию проекта; возведением дамб и строительством канала руководит главный распорядитель, а он просто любит наведываться сюда, проверяя, как продвигается дело. Работа над фреской пока идет у него медленно, требуется время на то, чтобы замысел до конца выкристаллизовался, а потому до непосредственной росписи стены могут пройти месяцы, а то и годы. Зато его проект с поворотом русла Арно уже воплощается в жизнь.
— Движение воды я изучал еще в детстве, — рассказывал Леонардо. — Я любил плавать в этой самой реке, подчиняясь воле ее течения. — Он наклонился и опустил руку в Арно. — Речная вода, которой вы касаетесь, — это одновременно последнее из того, что уже минуло, и первое из того, что грядет. Этим она похожа на время.
Не боясь замочить свое длинное платье, Лиза подошла к самой кромке воды и провела по ней рукой. На лоне природы она казалась совсем другой, разительно отличалась от той застывшей чопорной дамы, которую он видел в стенах музыкальной гостиной дома Джокондо. На берегу реки руки ее порхали в беспрестанном движении, волосы трепетали на ветру, а кожа сияла в золоте солнечного света.
— Вот, смотрите. — Леонардо вынул из альбома выполненный пером рисунок. — Это изображение сельской местности я сделал, когда мне не было еще и двадцати. Я старался как можно точнее отразить все ее геологические особенности и растительный мир.
Лиза взяла лист бережно, словно это было ветхое рукописное издание Евангелия, вывезенное из Святой земли.
— Но сейчас, — продолжал он, — этот рисунок таит в себе нечто большее, чем точное отражение форм деревьев, холмов и скал. Глядя на него сегодня, я вижу, как извилистые линии рек и холмов переплетаются и потом расходятся. Они как будто неизвестно где начинаются и неизвестно где кончаются. В них нет ни четкой выраженности, ни обособленности, все они связаны и переплетены между собой — как и все в природе. Если в какой-то точке путь линии что-то преграждает, она не пересекает препятствие, а находит лазейку, чтобы протянуться дальше, уже в другом направлении. Какими бы ни были преграды, природа всегда проложит себе другой путь.
— Да, это как речь, — заметила Лиза, возвращая ему рисунок. — Существует бесчисленное множество способов выразить мысль. Никто не останавливается посреди разговора из-за того, что не может подобрать правильного слова. На ум всегда приходят какие-то другие подходящие слова — неважно, из какого языка: южно-итальянского, тосканского, французского, испанского, латинского…
Леонардо рассмеялся. Эта молодая женщина не переставала удивлять его. Мало того что она образованна — как легко она цитировала Цицерона! — так еще и говорит по-французски и по-испански?
— Знаете, вас больше не называют предателем. — Лиза повернула к нему лицо.
— В прошлом году, моя донна, меня укусил преядовитый тарантул, а теперь его яд выветрился, и разум вернулся ко мне. Я выбрал Флоренцию своей владычицей.
— Я, — она опустила ресницы, — безмерно рада этому.
— Я сделал это, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Не рассчитывая на прощение.
— Мой муж скоро начнет гадать, куда это я пропала… — Лиза присела в легком реверансе. — Теперь вам хватает?
— Хватает чего, мадонна?
Она кивком указала на подвешенный к его поясу блокнот.
— Вы больше не делаете с меня эскизов. Неужели и писать меня перестали?
— О нет. — Его рука непроизвольно схватилась за блокнот. Осмелится ли он раскрыть его и быстро набросать этюд-другой с оригинала? — Мне всегда нужно больше, чем уже есть.
Она повернулась, чтобы уйти, но оглянулась через плечо:
— Приходите к нам завтра. Я буду ждать вас.
Микеланджело
Микеланджело схватился за уступ и с неимоверным усилием поднял свое тело выше. Инструмент на его поясе звякнул. Дыхание облачком пара вырвалось изо рта и растаяло в морозном воздухе. Неуклюжие рабочие башмаки уперлись в склон утеса. Он взбирался на высоченную гору из чистейшего мрамора. Гора была непомерно высока и возвышалась над Флоренцией так, как крона дерева высится над травой.
Он карабкался на самый кончик колоссального мраморного носа, который нависал над ним громадой в четыре этажа. Это лишь часть огромного лица, высеченного прямо в скале. Скульптуру таких циклопических размеров будет видно с улиц города, из сельской округи и даже с моря. Нога статуи — высотой с Дуомо, верхняя губа — в рост человека, а каждая ноздря — размером с огромную пещеру, способную вместить все его семейство.
Он решительно упер резец в покрытую дерном ложбину прямо под носом статуи. Он взвалил на себя немыслимый труд. Такое испытание способно сломать всякого, но не его. Он рубил, рубил и рубил; высекал, высекал и высекал. Он вгрызался все глубже и глубже, пока рука с резцом целиком не исчезла в выдолбленном нутре горы. Камень медленно пополз вверх по его руке, мускулы его начали твердеть, каменеть, кожа превращалась в мрамор. Он сам становился глыбой. Но превращение не пугало его. Напротив, он испытывал чистейший восторг. Белый мрамор одевал его тело, проникал внутрь, подбирался все ближе и ближе к голове, и в этот момент Микеланджело сделал глубокий вдох, как будто перед погружением в воду. Еще несколько секунд — и он превратится в камень.
Чья-то рука грубо дернула его за плечо и сорвала с горы. Мраморная кожа треснула, освобождая его от плена. Тело снова обрело плоть, и острая боль мгновенно впилась в ноги и позвоночник. Он из последних сил уцепился за гору в надежде на то, что высеченный им гигант оживет и спасет его, но камень был недвижен. Его пальцы заскользили. Ноги потеряли опору. Он закричал и сорвался с горы.
— Микеланджело, — услышал он издали свое имя. Это что — зов горы, которая молит его остаться? Это несправедливо! У него еще так много работы, а он неудержимо летит вниз, беспомощно размахивая руками и ногами. Он уже не поможет горе. Он не в силах помочь даже себе.
Микеланджело открыл глаза и увидел над собой лицо Граначчи.
— Ты жив, — с облегчением воскликнул друг.
Сердце Микеланджело бешено билось, руки и ноги дрожали. Воздух застревал в носу и во рту, вызывая разрывающий кашель.
— Grazie, mio Dio! Я было решил, что ты… — Граначчи заботливо укутал одеялом трясущееся в лихорадке тело Микеланджело.
А Микеланджело потирал вспотевшую шею. Он не падал с горного пика. Он у себя в мастерской, лежал на холодном, твердом, как камень, полу. И никакой сияющей горы над ним не было — только Давид. Все это ему лишь привиделось в тяжелом бреду.
— Невероятно, — выдохнул Граначчи, в восхищении оглядывая статую.
Микеланджело много месяцев никого не пускал в свое убежище. Никто не видел его Давида. Но он уже существовал, стоял здесь — совсем как живой, реальный мужчина. Все детали его тела казались совершенными — каждый изгиб мускула, каждый палец и ноготь; каждая косточка проглядывала сквозь нежную кожу; каждая напряженная мышца, каждая морщинка отчетливо прорисовывались на полном решимости и тревоги лице. Микеланджело оставалось лишь отполировать поверхность статуи, покрытую размечающей штриховкой. Уйдут еще месяцы на то, чтобы придать мрамору должный блеск и сияние, но, когда он закончит, никто не заметит никаких признаков его работы. Его Давид будет выглядеть так, словно сам родился из мрамора без чьего-либо участия. Микеланджело попробовал приподняться и рассказать Граначчи о полировке, но в изнеможении снова уронил голову на пол. Веки сомкнулись.
Он погрузился в полную темноту — словно очутился во чреве…
Когда он снова открыл глаза, Граначчи помешивал ложкой кипящий на жаровне суп. В воздухе стоял густой томатно-чесночный дух. От этого запаха внутренности Микеланджело конвульсивно скрутились, к горлу подступила тошнота.
— Тебе надо поесть. — Граначчи поднес к его потрескавшимся губам чашку с супом.
Когда Микеланджело в последний раз выпил глоток воды? Съел хотя бы ломтик хлеба? Было ли это несколько часов назад, или дней, или уже недель? Он не мог вспомнить. Он вздохнул, и нос его различил в воздухе ароматы земли, слякоти, дождя. Неужели уже осень? Какой теперь месяц? А год?
Между тем Граначчи положил себе на колени ногу Микеланджело и попробовал снять с нее башмак. Шнурки, покрытые коростой из смешанной с грязью мраморной пыли, сломались в его руках.
— Тебе необходимо заботиться о себе, mi amico.
Граначчи стащил ботинок.
Микеланджело застонал. Ступни и пятки горели так, словно Граначчи разорвал их на части. Микеланджело схватил пылающую от боли ногу. Она кровоточила, кожа местами была содрана и горела, словно он стоял на раскаленных угольях.
— Ты сам-то помнишь, когда в последний раз снимал с себя обувь? — с тяжелым вздохом спросил Граначчи.
Микеланджело вздрогнул и сморщился, когда Граначчи начал оборачивать его кровоточащую ногу куском материи. Он не нашел в себе сил отвергнуть искренние заботы друга. Уже не раз бывало, что он неделями не разувался и потом кожа лоскутами слезала с его ног вместе с чулками. Но это пустяки. Она всегда нарастала снова.
— Сейчас не время болеть, — с тревогой сказал Граначчи. — Папа-то умер.
— Папа умер давным-давно, — пробормотал Микеланджело. Во всяком случае, он еще помнил день, когда они с братом стояли на площади. Всеобщие рыдания и мольбы. Траурный гимн, исполненный небесным голоском возлюбленной Буонаррото.
— Да не Александр. Новый папа. Всего три с половиной недели побыл понтификом — и конец. — Граначчи торопливо прошептал слова «Аве Марии» и продолжил: — Ползут слухи, будто он был отравлен.
Дурнота охватила Микеланджело вновь. Новый папа уже умер? И, возможно, отравлен?
— Теперь Чезаре Борджиа на марше, и под его командованием — половина папской армии. Никто не знает, что он собирается предпринять. Он будто с цепи сорвался. Понятно, что все боятся его прихода сюда. — Граначчи говорил, понизив голос. — Так что ты должен быть в форме — на случай, если нам придется бежать отсюда. Кругом царит страшная неразбериха.
«Страшная неразбериха», — мысленно повторил Микеланджело. Его руки дрожали и горели. В глазах то темнело, то прояснялось.
— Я горю в пламени теней, — прошептал он.
Граначчи силой влил ему в рот ложку супа, но горячая жидкость только усилила жжение в горле. Микеланджело разжал губы и позволил супу вылиться на пол.
— Ну все. Ты уже помог мне, хватит.
Граначчи вскочил, схватил Микеланджело под мышки и попытался взвалить его себе на плечи.
— Нет! — из последних сил заревел Микеланджело, протягивая руки к своему Давиду. Статуя еще не закончена. Если сюда явится Голиаф, он уничтожит бедного пастушка. Микеланджело не мог бросить Давида в одиночестве. Он и сам жив до той поры, пока жив его Давид. Если Давид умрет, умрет и он, Микеланджело.
— Да перестань же. Я хочу помочь тебе.
— Опусти меня, живо!
Микеланджело попробовал стукнуть Граначчи, но сил не хватило, и он, вцепившись другу в волосы, вырвал клок.
Граначчи ослабил хватку, и Микеланджело с грохотом упал на пол.
— Я не оставлю тебя, — прошептал он и пополз к статуе. Кашель разрывал ему грудь. Сотрясаемый дрожью, он свернулся калачиком. Перед глазами возникла черная полоса, которая плавно опустилась, словно занавес, и полностью закрыла свет.
Леонардо
Служанка отлучилась из библиотеки, чтобы принести еще воды. Шелест ее юбки по мраморным плитам пола отдалялся, пока совсем не стих в глубине холла.
Лиза выждала еще мгновение, потом порывисто подалась вперед в своем кресле.
— А что, если он совсем не проснется? Тогда вы возьметесь закончить его статую? — спросила она, продолжая завязавшийся между ними полчаса назад разговор. В течение последних нескольких недель Леонардо каждый день приходил в дом Джокондо делать с Лизы наброски, а она все еще боялась разговаривать с ним в присутствии мужа или служанок. Когда кто-то находился рядом, она опускала взгляд, руки ее безжизненно замирали на коленях. Но стоило им остаться наедине, как глаза ее зажигались интересом, руки начинали порхать, сопровождая каждое слово, а губы быстро-быстро двигались, стараясь поспеть за теснящимися в голове мыслями. Им приходилось дожидаться, когда почтенный супруг, дети и прислуга оставят их одних, ведь только тогда они могли толком побеседовать. Однако такие моменты случались редко и длились недолго, поэтому говорить приходилось быстро, почти скороговоркой.
— Не в моих правилах, мадонна, думать над ответами к еще не заданным вопросам — если это, конечно, не мои собственные вопросы.
Вся Флоренция полнилась слухами о таинственной болезни Микеланджело. Все гадали о том, что подкосило скульптора — лихорадка, одержимость дьяволом или ниспосланное свыше наказание. А вдруг он не оправится от своего недуга — что тогда станет с драгоценным камнем Дуччо? Его выбросят в кучу мусора вместе с другими обломками или, быть может, Мастер из Винчи возьмется завершить статую? Правда, пока еще никто не обращался к Леонардо с подобным предложением, однако версии множились день ото дня.
— Какая разница, кто доделает статую? Интересно другое: я слышал, Содерини не собирается устанавливать ее высоко на фасаде Дуомо — там, где публика не сможет разглядеть ее, хотя изначально так и планировалось. Он желает, чтобы статуя стояла внизу, на земле, а это печально. — В альбоме под быстрыми движениями карандаша Леонардо появлялись плавные изгибы разделенных ложбинкой грудей Лизы. Сегодня она в первый раз позволила своей неизменной шелковой шали немножко сползти с плеч. — Если поднять статую на купол, то из-за своего веса эта чертова штука в конце концов рухнет — как дохлая птичка с небес.
— Вы, как я посмотрю, были бы рады такой перспективе? — поддразнила его Лиза.
— Почему бы нет? Я буду счастлив, если в городе станет меньше произведений искусства — меньше и соперников для моей фрески. Вам она должна понравиться, моя донна. На ней вы не увидите ничего, что героизировало бы жестокости войны.
— И слава богу! Мне кажется, что беспощадная жестокость, с какой люди уничтожают друг друга в погоне за властью, — одна из величайших глупостей нашего мира. — Лиза понизила голос и со страхом добавила: — Вы тоже думаете, что папа Юлий отравил папу Пия, как поговаривают?
— В жизни я много насмотрелся на то, как люди сворачивают с тропы добродетели. — Леонардо придвинул свой стул чуточку ближе к Лизе и наклонился к ней. А она склонилась к нему. — Когда я писал «Тайную вечерю», мне пришлось буквально прочесывать улицы Милана в поисках моделей для персонажей. Для образа Иисуса отыскался красивый молодой мужчина, чья жизнь и карьера находились на подъеме. У него было светлое и чистое лицо, прекрасные волосы, горящие глаза. Для апостола Иоанна я подобрал миловидного юношу, для апостола Фаддея — старого седобородого священника, нашлись подходящие модели и для остальных. За исключением Иуды. Мне никак не встречался такой негодяй с печатью порочности на лице, с которого я мог бы написать предателя. И вот через два года поисков один мой друг сообщил мне, что нашел Иуду. То был сидящий в городской тюрьме вор. Я тут же помчался в его камеру и убедился, что типаж этого малого в точности соответствовал моему замыслу. Его темную, испещренную пятнами физиономию искажала гримаса гнева. Волосы выглядели безобразно. Совершенно опустившееся создание, грешная душа. Я тут же принялся делать с него зарисовки, а он вдруг поднял голову и спросил: «Видать, вы не признали меня, да? А ведь я уже был вашей моделью». Я начал вглядываться в его черты — и что увидел? — Лиза ловила каждое его слово, глаза ее горели от нетерпения. — Представьте, мадонна, это был тот самый человек, с которого я за два года до того писал Иисуса — тогда еще тяга к вину и порокам не изуродовала его облика и души.
— Тот же самый человек, — шепотом повторила пораженная Лиза. Губы ее приоткрылись от изумления.
— Падшие ангелы куда как лучше олицетворяют земную природу человека, чем ангелы, находящиеся на вершине благочестия, а папа прежде всего человек. — Леонардо быстро зарисовал полуоткрытые Лизины губы. — Однако, если всадник поразит своим копьем василиска, его смертоносный яд впитается в копье и убьет не только всадника, но и его коня.
Из холла послышался приближающийся шелест юбки.
— Как это?
— Щупальца зла, если, конечно, оно и правда восторжествовало, могут отравить ядом весь понтификат. Вы должны понимать это — вы же читали что-то из истории.
Лиза вдруг опустила глаза.
— Нет, — тихо произнесла она, и лицо ее вспыхнуло краской стыда. — Я не читала ни из истории, ни из чего другого.
Леонардо в недоумении приподнял бровь.
— Как, но вы же процитировали Цицерона, когда я в первый раз был у вас в доме!
В библиотеке появилась служанка.
— Простите, я забыла взять кувшин.
Взгляд Лизы тут же потускнел. Руки, мгновение назад живо жестикулировавшие, замерли на коленях. Леонардо перевел глаза с этих нежных гладких ручек на свои — похожие на цыплячьи лапки, слишком тощие, все в морщинах, с бесстыдно выступающими наружу костями. Еще одно напоминание о его возрасте. Ему уже пятьдесят. А ей всего двадцать четыре. У нее вся жизнь впереди, и ее юные руки красноречиво говорили об этом.
Служанка подхватила кувшин, учтиво попятилась к двери и исчезла.
На сей раз Лиза не выжидала, пока ее шаги стихнут в глубине дома.
— Неужели вы всерьез подумали, будто я читаю на латыни? — с некоторым вызовом спросила она.
Да, именно так и думал Леонардо. Обычно он подвергал сомнению все, чего касалась его мысль, но Лизе верил безоговорочно.
— Отчего бы мне сомневаться в вас — даме такого высокого положения?
— Да уж, высокого, — рассмеялась Лиза. Ее прекрасные руки снова ожили и запорхали в такт каждому слову. — Скажите еще, что все герцогини и королевы мира лопаются от зависти ко мне.
Юбки снова зашелестели за дверью.
— Возможно, я просто хотел верить в то, что жена торговца читает по-латыни, — прошептал ей Леонардо. Шорох юбок снова стал удаляться в глубину холла.
— Я супруга, я мать, и я дорожу этими своими званиями. И должна довольствоваться тем, что имею.
Леонардо поднял стул, поставил его еще ближе и сел рядом с ней. Она вздрогнула, но не сдвинулась с места. Леонардо ощутил идущее от ее кожи тепло, его ноздри защекотал исходящий от ее волос аромат лаванды. Никогда еще с начала их сеансов он не находился так близко от нее.
— Посмотрите сюда. — Держа альбом для зарисовок так, чтобы ей было видно, он начал медленно перелистывать страницы. — За годы изучения человеческих лиц я выявил десять типов носов, восемь форм губ и семнадцать форм глаз. Кроме того, я коллекционирую абрисы подбородков, скул, лбов и всевозможные варианты рисунков морщин. Я изучаю, как меняется каждая черточка лица в зависимости от разнообразных чувств. Реагируя на страх, нос может морщиться, дергаться или вспыхивать краской. От потрясения отвисает челюсть, губы складываются в колечко или в тонкую линию — да так, что напрягаются желваки. Челюсти сжимаются или ходят из стороны в сторону. А глаза… глаза либо светятся умом, либо нет. — Он поймал взгляд Лизы, всмотрелся в ее глаза. — Сознание живописца, словно зеркало, в точности фиксирует все черточки изображаемого субъекта и отображает их правдиво, как есть. И какая разница, умеете вы читать или нет. В ваших глазах горят искры одаренности и живого ума, и этого не спрячешь. — Он нежно накрыл своими руками руки Лизы. Она судорожно вздохнула. — Вы и я, мы очень похожи, — тихо произнес Леонардо. — Мы оба необразованны.
— Но вы читаете на латыни. — Она выдернула свои руки из-под его ладоней.
Он немного наклонил голову вбок.
— Не так чтобы хорошо. Я был вынужден образовывать себя сам. Разве позволено незаконнорожденному отпрыску, пусть и состоятельного знатного отца, получить достойное университетское образование? Это поколебало бы незыблемый порядок вещей, — сказал Леонардо более желчно, чем хотел бы. Как ни старался он делать вид, будто положение изгоя нисколько не тяготит его, сколько бы он ни хорохорился, оно постоянно терзало его, как засевшие в ступнях занозы. — Когда мне уже было за тридцать, я старательно копировал латинские слова, повторяя их раз за разом, чтобы заучить.
— Но вы, во всяком случае, умеете читать и писать на итальянском. И доступ к книгам у вас всегда был. К перу, к бумаге. Застань вас кто-нибудь за этим вашим занятием, вас не наказали бы, а скорее помогли бы во всем разобраться. Для меня же подобное невозможно.
Невозможно. Леонардо ненавидел это слово. Будь его воля, он изъял бы его из словарного обихода. Называя что-либо невозможным, человек ставит крест на том, что еще могло бы случиться, — ибо кто же станет работать над тем, что невозможно? Все убеждены, что это бессмысленно. Сколько ни старайся, ничего не добьешься. Люди слишком практичны и потому стремятся лишь к тому, что считают возможным. Но в том-то и штука, что само стремление к чему-либо делает это более вероятным. Когда думаешь о чем-то, что оно возможно, ты словно запускаешь механизм самоисполняющегося пророчества — и точно так же одна мысль о том, будто что-то невозможно, невозможным это и делает. Большинство людей уверены в том, что человек не способен летать, как птица, а в действительности полет — просто пока не достигнутая цель. Однако сейчас Леонардо не был расположен спорить с Лизой и потому заметил:
— Латынь слишком превозносят, порой незаслуженно. Учиться, наблюдая собственными глазами, куда лучше и достойнее, чем перечитывать чужие мысли. Самостоятельно познавать, ощущать и испытывать этот мир, делая свои выводы, всегда полезнее. И это единственный для всех нас способ встать в один ряд с учеными мужами.
Юбки из холла снова возвестили о приближении служанки.
— Поэтому-то вы и хотите летать, — торопливо зашептала Лиза. — Чтобы испытать на себе — что именно? То, как чувствуют себя в небе птицы?
Шелест тканей становился громче.
— Я убедился на своем опыте: чтобы хорошо изучить предмет или явление, — Леонардо переставил свой стул на положенное ему место, подальше от Лизы, — надо наблюдать его с расстояния. Подобравшись вплотную, не сможешь составить никакого обоснованного научного суждения. Стоит приблизиться к предмету своего интереса — восприятие исказится, и ты рискуешь поддаться опасному притяжению. Чтобы запечатлеть человеческую сущность при помощи такого средства выражения, как краска, я должен смотреть на свой предмет издалека.
Шея Лизы порозовела от смущения, руки снова замерли на коленях. Он чем-то задел ее? Но, прежде чем Леонардо успел задать вопрос, в библиотеке появилась служанка с кувшином воды. И больше в этот день они наедине не оставались.
Микеланджело
Декабрь. Флоренция
— Это моя вина.
— Отец, ради бога, успокойтесь.
— Как я могу…
— Ну пожалуйста, не плачьте. Если вы еще и себя изведете до смерти, это ему нисколько не поможет, отец, — жалобно упрашивал Буонаррото.
До смерти? Он что, умер? Не похоже. Голова болела слишком сильно, у мертвых такого не бывает. Он попробовал пошевелиться, но руки и ноги были тяжелыми, как валуны. Он попытался заговорить, но и из этого ничего не вышло. Он сделал глубокий вдох. Воздух отдавал свечным воском, минеральными порошками и тяжелым запахом болезни.
— Не выгони я его из дома, он не оказался бы сейчас здесь. Я стал бы ухаживать за ним.
Микеланджело собрал все свои силы для того, чтобы хоть немного приподнять веки. Перед глазами мелькнула и исчезла полоса оранжевого света.
— Микеле! — закричал его отец. Микеланджело чувствовал, как его трясут за плечи.
— Осторожней, отец, не то вы причините ему вред!
— Он открыл глаза, я сам видел.
— Это все ваше воображение, вам просто показалось.
— Микеланджело ди Лодовико Буонарроти Симони, проснись!
Он открыл рот, силясь что-нибудь сказать, но из горла вырвался только хриплый, похожий на бульканье стон.
— Благодарение Богу, он жив! — всхлипнул Лодовико.
Влажная тряпица, отдающая уксусом, смочила сухие потрескавшиеся губы Микеланджело.
— Братец? Ты пришел в себя?
Микеланджело с трудом разлепил веки и посмотрел в склоненное к нему лицо брата. Буонаррото расплылся в широкой улыбке.
— Вы правы, отец. Он очнулся.
— Мой возлюбленный Микеле. — Лодовико осыпал щеки Микеланджело поцелуями. — Благодарение Господу, ты пришел в себя. Я никогда бы не простил себе, если бы с тобой что-то случилось.
Микеланджело лежал на тощем тюфяке в огромной каменной зале, которой не видел прежде. Монашки хлопотали возле еще одного лежащего рядом на полу больного, вдалеке трое монахов несли мертвое тело.
— Где я?
— В больнице Санта-Мария-Нуова.
Это была старейшая больница во Флоренции. Тетка Кассандра всегда сама лечила заболевших членов семейства отварами из трав. В больницу же сносили лишь тех, кто уже находился при смерти.
— У аптекаря закончились его снадобья, а все священники разошлись по больным, вот мы и принесли тебя сюда. Я не хотел, чтобы ты умер, — все еще всхлипывал Лодовико.
— Долго я здесь пролежал? — спросил Микеланджело. Голос у него был скрипучим, как несмазанное колесо.
— Три недели, — ответил Буонаррото.
Три недели. Все это время он провел в забытьи. Его мучили приступы лихорадки и дикой боли в животе. Монахи несколько раз отворяли ему кровь и проводили над ним обряды изгнания дьявола. Он вопил. Отец у его ложа рыдал. Его преследовал ночной кошмар: в приступе помешательства он разбивает статую Давида на мелкие кусочки.
— Ну же, мой мальчик, не плачь. — Лодовико нежно отер слезы с его щек. — Я воспитывал тебя бережливым, но нельзя же доходить до крайностей. Ты должен беречь себя, figlio mio. — Лодовико осторожно приподнял голову Микеланджело и обернул ее теплым сухим одеялом. — Помни: прежде всего надобно оберегать голову. Она должна быть всегда сухой, а мыть ее следует не слишком часто. А тело позволяй обтирать, но не давай мыть. Только так можно оставаться здоровым. Экономия — дело хорошее, но нищета — это зло, неугодное Богу.
Микеланджело сотни раз слышал от Лодовико эти нотации. «Держи голову в тепле. Не мойся слишком часто. Нищета противна Господу». Но впервые он уловил в его тоне не обычное осуждение, а отцовскую любовь.
— Когда силы вернутся к тебе, может, через день или два, — хрипло сказал Лодовико, — ты вернешься вместе со мной домой. — Он похлопал Микеланджело по руке.
Слезы облегчения заструились из глаз Микеланджело. Целый год он промучился в изгнании, и вот его снова пустят под родной кров. Для этого понадобилось всего лишь уработаться до смерти.
В последующие дни Буонаррото часто приходил к нему, но оставался ненадолго. Он постоянно бегал домой, чтобы приглядывать за Джовансимоне. Тот измыслил дичайший план защиты семьи от Борджиа, который мог в любой момент вторгнуться во Флоренцию: сколотил шайку подонков из бывших дезертиров и засел с ними в доме Буонарроти, готовясь отражать нападение папских солдат голыми кулаками да жалкой кухонной утварью. В то время как Буонаррото пытался удержать это самозваное воинство вдали от соседских служанок, да к тому же тушил устроенные им пожары, Лодовико не отходил от Микеланджело ни на шаг. Ночевал рядом с ним, прямо на каменном полу, приносил ему воду, а потом и пищу. Аппетит очень медленно возвращался к Микеланджело.
— Ну вот, ты идешь на поправку, — сказал в один из дней Лодовико. Микеланджело смог наконец сесть, чтобы глотнуть из чашки горячего супа. — Но когда совсем поправишься, ты не должен снова браться за свою тяжелую работу. Твоему организму это не по силам. Никому не по силам.
Микеланджело проглотил горячую густую похлебку.
— Но я должен вернуться к работе, отец, — мягко ответил он.
— Ты убиваешь себя. Ради чего, скажи на милость?
— Ради моего искусства.
— Искусство, — пробурчал Лодовико и скривился. — Видел я эту твою статую, когда мы приходили в ту лачугу, чтобы помочь тебе. — Он забрал чашку из рук Микеланджело. — Он же совсем голый.
— Большинство классических древнеримских статуй обнажены, отец.
— Но ты-то не древний римлянин! — сердито гаркнул Лодовико.
Монахиня шикнула на него.
— И живешь ты не тысячу лет назад, а сейчас, — продолжал сердиться Лодовико, но уже гораздо тише. — Разве ты не помнишь, как Савонарола грозил нам преисподней за такое позорище? Мы католическая страна, не забывай об этом.
— Бог создал человека по своему образу и подобию. Наши тела — это его воплощение. Так почему же нельзя воспевать божественное творение?
— Ты что же, сам не понимаешь, что статуя огромного мужчины с неприкрытым срамом непременно приведет в смущение отцов церкви? Ее же предназначают для украшения нашего собора, in nome de Dio. Может, ты прикроешь его срамоту каким-нибудь одеянием?
— Кого она приведет в смущение? — Микеланджело брызгал яростью, как горячая сковорода — кипящим маслом. — Флорентийцев? Эта статуя — дань моего глубокого уважения к ним. Или тебя?
Он без сил упал на свое ложе и прикрыл глаза. Он устал. А свой спор они продолжат потом.
Но продолжить перебранку им не довелось. Следующей же ночью Джовансимоне и его проклятая шайка снова устроили на кухне пожар. Буонаррото, как на беду, отсутствовал, и огонь быстро охватил весь дом. Соседи передавали по цепочке ведра с водой, чтобы не дать огню распространиться дальше, на другие дома, на город. Ведь если загорится Флоренция, то этот вселенский огонь окажется жарче всех костров Савонаролы вместе взятых, ибо он пожрет шедевры Донателло, Боттичелли и Джотто, составляющие великое достояние Республики. Погибнут дворец Синьории, Понте-Веккио и сам величественный Дуомо.
Когда Микеланджело, завернутый в больничное одеяло, добрался наконец к тлеющим останкам родного дома, с неба полил дождь вперемешку с мокрым снегом. На пепелище громоздились лишь гора почерневших деревянных балок и остов лестницы. Дом выгорел изнутри дотла. Микеланджело поднял голову к небесам, открыл рот. «Эти ледяные капли с небес, должно быть, застывшие слезы Господа», — подумал он.
Снег валил, не переставая, много часов подряд. Он накрыл улицы города и жалкое пепелище толстым белым покрывалом. Соседи давно разошлись по домам, семейство Буонарроти, нашедшее приют в церкви Санта-Кроче, пыталось обогреться и отдохнуть. Один Микеланджело все еще стоял посреди улицы и невидящими глазами смотрел на останки того, что еще недавно было его отчим домом. Он всегда считал, что его искусство никому не способно принести вреда, что своим творчеством он служит Богу и согражданам. Но вдруг его отец прав? Его руки все в шишках и мозолях, зрение начинает слабеть, он едва не умер в больнице. Его семья утратила достойное положение, состояние, а теперь еще и дом. Ради чего? Ради куска мрамора? Не удивительно, что Господь плачет, глядя на них.
Когда солнце едва показалось из-за горизонта и его первые лучи заиграли желтыми искорками на гладких белоснежных одеяниях города, Микеланджело принял решение. Отец во всем прав. Его искусство — дьявольское наваждение. Оно отняло у него все. Неважно, что Давид не окончен и что город уже планирует заказать ему еще двенадцать апостолов, едва он завершит своего колосса. Все это не имело значения. Пришла пора покончить с искусством раз и навсегда.
Леонардо
В размышлениях о смысле потерь и обновлений Леонардо прибирался на своем рабочем столе. Неужели он всерьез задумывался о том, чтобы завершить Давида, если Микеланджело так и не поправится или вообще отдаст богу душу? Сейчас, когда в городе только и разговоров о том, что Микеланджело покончил с ваянием, что он, по его словам, восстановит дом своей семьи и больше не вернется в искусство, Леонардо совсем не хотелось вооружаться резцом и доделывать статую. Пусть лучше этот Давид и воспоминания о нем тихо растворятся в тени истории. Тогда его собственный шедевр, который украсит залу Большого Совета во дворце Синьории, засияет еще ярче и стяжает еще больше славы.
Леонардо собирал и сортировал кисти, выкидывал обрывки старых бумаг, расставлял по полкам книги и одновременно задавался вопросом: отчего это всё, в чем обитает жизнь, так непрочно и так легко разрушается? Человек — смертью; семейный очаг Микеланджело — огнем пожара; Лиза — замужеством. Леонардо не раз видел, как живая энергия жизни уходит из нее, словно вода в песок, стоит появиться рядом ее супругу или кому-то из домашних слуг. В такие моменты Лиза напоминала ему сгоревший дом.
Леонардо во что бы то ни стало хотел вернуть Лизе ее саму, ее живую душу. За последние несколько недель ему ни разу не выпало счастья остаться с ней наедине. В библиотеке, куда они перенесли сеансы позирования, вечно толклись то престарелый супруг, то слуги. Леонардо тосковал по их тайному общению, которому споры и взаимные признания придавали особую прелесть. Но, рассуждал он, нет худа без добра. Назойливость, с какой почтенный Джокондо исполнял при своей молодой жене роль непрошеной дуэньи, тоже своего рода подарок, многое открывший Леонардо о руках Лизы.
Когда они оставались наедине, она говорила руками, жестами, подчеркивая каждое слово; все ее пальчики трепетали, словно крылышки колибри. Когда же являлись ее муж, прислуга, дети или кто-нибудь еще, ее руки сейчас же замирали на коленях в каменной неподвижности. В такие моменты Леонардо чудилось, что они только и ждали, чтобы снова взорваться жизнью и движением. Он думал о том, что в них еще дремлет огромный потенциал.
Леонардо верил в потенциал так же истово, как многие верят в Бога. Будь это дождевая туча, новый оттенок краски или недавно осенившая его идея очередного изобретения, он оценивал их достоинства и недостатки не по их текущему состоянию, а по тем возможностям, которые заложены в них. И потому его не интересовали предметы или явления уже завершенные, доведенные до совершенства. Леонардо больше привлекали вещи неоконченные, еще сохраняющие потенциал для улучшения и совершенствования. Может, в этом как раз и крылась причина того, почему он редко доводил свои работы до финала? Пока не был нанесен заключительный мазок, картина еще обладала потенциалом, чтобы подняться до уровня подлинного шедевра. Но стоило ему решить, что картина завершена, как она сразу лишалась потенциала и уже не имела шанса стать чем-то новым.
Он подобрал обломки недоделанных крыльев, разбросанные по полу. Странно, обычно царящая в студии неразбериха успокаивала его, но этим вечером беспорядок вызывал такое раздражение, что даже чесалась шея.
Лиза хотела, чтобы все увидели ее такой, какая она есть. Чтобы ее разглядел супруг, а заодно и весь мир. Леонардо было трудно понять это желание. Сам он всегда находился на виду. Чужеземные путешественники чуть ли не дрались за счастье постоять рядом с ним, пожать ему руку, чтобы по возвращении домой похвастаться тем, что видели великого Мастера из Винчи. Оттого он всегда мечтал стать невидимкой, устроиться где-нибудь в уголке и спокойно, не привлекая внимания, делать зарисовки с людей, не знающих о том, что за ними кто-то наблюдает. Лиза же хотела прямо противоположного. Ею владело отчаянное желание быть увиденной людьми и миром. И столь же отчаянное желание осуществить ее мечту владело теперь Леонардо.
Покончив с кабинетом, он перешел в соседнюю комнату, где проводил эксперименты с красками. На нескольких горелках в котелках пузырилась закипающая канифоль, над бутылями с химикатами поднималось дымное марево. Леонардо вытер тряпкой маленькую лужицу просочившегося из металлического пресса масла. Как же он любил масляные краски — за их кисловатый запах, за то, что они скользкие, и за то, что сохраняли отпечатки его пальцев после того, как он смешивал и растушевывал разные цвета на участке картины, добиваясь нужного оттенка. Масляные краски высыхали медленно, подобно озерцу на дне глубокой пещеры, и тем самым дарили ему недели и месяцы на доработку линий и теней. Ему нравилось то разнообразие, которое они в себе таили; то, насколько разными они бывали по густоте и текстуре — от вязких и плотных до текучих, почти прозрачных. Эту прозрачность масла он ценил особенно — она позволяла наносить тонкие слои краски один поверх другого, оставляя при этом видимыми нижние. Благодаря применению этой техники складки одеяний на картине переливались, словно настоящая ткань, лица светились изнутри, а тени трепетали оттенками скрытого цвета. Больше всего ему нравилось то, что он мог избавить свои полотна от резких линий, размывая и растушевывая границы кистью и пальцами. Именно при помощи масляных красок он создавал на своих полотнах неповторимую светотень, при которой свет напоминал дымку, растворяющуюся в темноте.
Для каждой живописной работы Леонардо разрабатывал особый набор тонов. Свет у него мог быть ярким и воздушным, темнота — глубокой и густой, как бархат. Для портрета Лизы он тоже подбирал особенную гамму красок, экспериментируя с зернами горчицы, кедровой хвоей, грецким орехом, можжевеловой смолой, сажей из собственного очага, а также со своими волосами и ногтями, с мертвыми муравьями, выкопанной человеческой костью и рыбьими хребтами. Одни эксперименты удавались, другие — нет, но его палитра неизменно обогащалась новыми оттенками.
Лиза хотела, чтобы все увидели ее. Эта мысль постоянно ворочалась в его голове, словно голыш на дне стремительной реки. Леонардо чувствовал, что замысел картины уже практически созрел, просто он пока не мог разглядеть его в мутной воде. Каков же он?
Леонардо принялся разгребать угол, в котором были свалены маленький горн, какие-то горшки и стеклорезы. Весь этот хлам или хотя бы часть его стоило выкинуть. Эти штуки ему больше не понадобятся. Он уберет лишнее, и тогда все станет проще…
Внезапно в голове его что-то щелкнуло, словно деревянная втулка плавно вошла в выточенный для нее паз. Простота — высшая форма изощренности, открывающая путь к истинной сложности. Вот оно! Идея картины начала проступать в его сознании, подобно звездам на сумеречном небосводе.
В два гигантских шага он пересек студию и быстро перебрал доски, стоящие у стены. Он собирал их в течение последних недель в надежде на то, что какая-то из них окажется достойной основой для портрета Лизы. Это очень важно — подобрать правильную доску. Стоит ошибиться с выбором — и картина будет испорчена. Первые доски, которые он осмотрел, были слишком велики. Ему требовалось что-то поменьше. Люди не станут рассматривать большой портрет с близкого расстояния — скорее всего, они удостоят его лишь беглым взглядом издали. Леонардо же хотел приманить, привлечь зрителя.
Пальцы его задержались на доске из тополя размером с небольшое оконце. Тополь — самая распространенная порода дерева, используемая в качестве основы для живописных панно. Это древесина высокого качества, прочная, стойкая. Другие породы могут быть более редкими и ценными, но тополь обладает потенциалом. Доска имела приятный светлый тон и даже слегка отливала золотом. Отшлифована хорошо — ни дефектов, ни вмятинок, правда, на ней обнаружились небольшие шероховатости. Это было немного неожиданно. Леонардо установил доску на мольберт. Проникающий из окна лунный свет придавал ей легкий серебристо-голубоватый оттенок. Она блестела. Он провел пальцами по поверхности. Доска была гладкая, словно зеркало, — хорошо поработали над ней его помощники.
Все женские портреты его времени, в сущности, — это символическое изображение Девы Марии. Всякая итальянка жаждала сравнения с Божьей Матерью. Леонардо не собирался отступать от устоявшегося образа и все же решил придать работе индивидуальности, которая выделит ее среди прочих в этом жанре. Изюминкой картины станет простота. В ней не будет никаких лишних вещей или роскошных материалов. Он обойдется без отрезов шелка, украшений, кистей в геральдических цветах. Без ужасного камина и кошмарного аляповатого клавесина с нашлепками золота. И, разумеется, без красного шелкового балахона и без физиономии супруга, выглядывающей с портрета из-за плеча Лизы. Она не должна держать в руках предметы, свидетельствующие о знатности ее рода и успехах ее мужа. Вообще ничто не укажет на ее происхождение или положение в обществе. В обрамленном рамой пространстве будет царить она одна, Лиза. Ее глаза. Ее волосы. Ее губы. Молодая женщина в простом и таинственном великолепии.
Прежде чем приступать к портрету, следовало загрунтовать доску. Леонардо смешал кроликовый клей и умбру в нужных пропорциях, но вместо того, чтобы оставлять грунтовке ее натуральный темно-коричневый цвет, он разлил ее на два ведерка и в одно добавил чуточку синей краски, а в другое — красной. Грунтовку с голубоватым оттенком он использует для верхней части — это позволит создать вокруг головы Лизы легкий ореол холодной недоступности. Нижнюю часть, в которой будет господствовать ее тело, он загрунтует красноватой пастой, чтобы подчеркнуть ощущение живого тепла.
Он нанес на верхнюю половину доски голубоватую грунтовку, в нижней растушевал красную, чувствуя, как Лизин дух проникал в текстуру древесины.
Ожидая, пока грунтовка высохнет, он принялся делать эскизы к портрету, который уже отчетливо видел в своем воображении. Лиза сидит в кресле, задний план пока пустой. На ней — платье из темного шелка, кудрявые волосы рассыпаны по плечам. Чтобы придать фигуре ощущение динамичности, он развернет торс немного вправо, а голову — вперед. Глаза ее устремлены чуть влево, будто она рассматривает кого-то, кто находится в комнате. Фигура займет три четверти высоты полотна и будет постепенно расширяться книзу — это позволит уместить на переднем плане руки Лизы, мирно сложенные на подлокотнике кресла.
Леонардо взял самую тонкую из своих кистей и выщипал несколько волосков, сделав ее еще тоньше. Он намеревался использовать кисть настолько тоненькую, чтобы ее мазки были совершенно не заметны. Он не желал привлекать внимание зрителя к своей технике, да и вообще к себе как к живописцу. Публика сможет думать о нем, о Леонардо, любуясь его «Тайной вечерей», «Мадонной в скалах» или гигантской фреской, что появится во дворце Синьории, но не когда будет смотреть на портрет Лизы. На сей раз он исчезнет с полотна, растворится где-то в глубине заднего плана. Он хотел, чтобы мир сосредоточил внимание на ней, на Лизе.
1504
Флоренция
Микеланджело
Зима
В начале января Флоренция узнала о том, что Пьеро де Медичи погиб, сражаясь на стороне французов. Флорентийцы торжествовали. Наконец-то их давний враг, который долгие годы, как питон, затягивал кольца на их шее, отдал богу душу. Но радость длилась недолго. Ибо теперь, когда Пьеро не стало, все отпрыски рода Медичи — сын, брат, кузен, дядя — думали о том, как им вернуть город в свои руки, во имя почившего Пьеро. Так что угроза не исчезла, а, наоборот, разрослась многоголовой гидрой.
Микеланджело со всей силы обрушил молоток на гвоздь, и тот послушно вошел в дерево. Вдыхая древесную пыль, он так же быстро и уверенно вбил второй гвоздь, затем третий, четвертый. После взял следующую доску, пристроил ее рядом с приколоченной и снова заработал молотком. Такими темпами он закончит сколачивать основание для пола на кухне дня за два. Если бы остальные родичи работали с тем же усердием, они за месяц восстановили бы весь дом.
Микеланджело поднял голову и оглянулся. На другой стороне недостроенной кухни — там, где раньше помещался очаг, — неуклюже орудовали молотками его отец и дядя. Не привыкшие к ручному труду, эти двое больше времени проводили за болтовней под стаканчик-другой вина, чем за работой. «Такими темпами им троим, пожалуй, и до лета не управиться», — подумал Микеланджело. Ни от Буонаррото, ни от Джовансимоне ждать помощи тоже не приходилось. Джованни никто не видел с самой ночи пожара, а Буонаррото нанялся рабочим в проект Леонардо по изменению русла Арно. Он уже передумал обзаводиться собственной лавкой. Отец Марии активно подыскивал ей подходящую партию, приводил в дом все новых и новых достойных, с его точки зрения, претендентов, так что к концу года она наверняка уже будет помолвлена.
Микеланджело забил очередной гвоздь. От холода кончики его пальцев постоянно болели. За эти дни ему ни разу не удалось как следует согреться. Их дом пока не имел ни крыши, ни окон и был открыт всем ветрам. Каждую ночь семейство Микеланджело проводило на каменном полу церкви Санта-Кроче — бок о бок с другими семьями, не имеющими крова.
Микеланджело снова с силой ударил молотком по гвоздю, но промахнулся и попал себе по большому пальцу. Он взвыл от боли и отшвырнул молоток. Пульсирующая боль отдавалась по всей руке. На глаза навернулись слезы. «Хорошо хоть левая, а не правая», — подумал Микеланджело. Со сломанным пальцем левой руки он все равно сможет полировать статую. От досады на себя он зарычал. Неужели он никогда не отделается от мыслей о скульптуре?
Пошатываясь от чрезмерных возлияний, дядя Франческо поднял молоток Микеланджело и ударил им по гвоздю.
— Ну ясно, отчего он так шустрит, — пробормотал он. — Его-то молоток поухватистее, чем наши.
Микеланджело покачал головой, поднялся на ноги и спустился с высокого фундамента на мостовую.
— Ты куда собрался? — крикнул ему вслед Лодовико, но Микеланджело не откликнулся. Он устал, ему требовался перерыв.
Он медленно брел по улице, проклиная братца Джовансимоне, спалившего их дом и предоставившего ему, Микеланджело, расхлебывать эту кашу. Будь негодник Джованни в городе, отец меньше цеплялся бы к своему второму сыну.
Он прошел под сенью парящего в небесах Дуомо и свернул к своему сарайчику. Крякнув от досады, пинком распахнул дверь. И только сейчас осознал, что не был тут несколько месяцев. С тех самых пор, как родные забрали его, метавшегося в бреду от неизвестной болезни.
Он вошел внутрь. Глаза постепенно привыкали к полумраку.
Давид стоял там же, где оставил его Микеланджело. Одинокий, грубоватый и неотшлифованный.
Где-то в глубине души Микеланджело убедил себя, что статуя — всего лишь мираж, игра воображения. Видение, порожденное лихорадкой. Но нет, Давид — не мираж. Он был живой, и он был готов сражаться.
Дрожащими руками Микеланджело кое-как снял плащ, потом быстро вскарабкался вверх по лесам и набросил его на лицо Давида. Спустился на пол, порыскал среди горшков и деревяшек и наконец под обрывками своих рисунков нашел припрятанные инструменты. Выхватил два молотка, потом снова полез вверх по лесам, сдернул плащ и пулей выскочил из своей бывшей мастерской.
Двумя днями позже, когда Микеланджело все еще настилал доски на кухне, а отец с дядей потягивали разбавленное водой вино, с улицы донеслось:
— Mi amico!
Подняв голову, Микеланджело встретился взглядом с Граначчи, который уже перелез внутрь. Радость затопила Микеланджело, но он попытался побыстрее избавиться от этого чувства. Нет у него времени на старых дружков.
— Я занят, — буркнул он и вернулся к работе.
— Я насчет твоего Давида. — Граначчи решительным шагом пересек пространство будущей кухни.
— Камень Дуччо — больше не моя забота. — Микеланджело нарочно не называл свою статую по имени — это было все равно что произносить имя покойника.
— Если сейчас откажешься, Управа отзовет свой заказ на двенадцать апостолов для Собора. Ты что, правда хочешь упустить столь ценный и долгосрочный контракт?
— Микеле, что там еще? — громко спросил Лодовико.
— Пустое, отец, — крикнул в ответ Микеланджело и повернулся к Граначчи: — Отстань ты от меня. Не видишь, я занят настоящим делом.
Граначчи опустился на колени рядом с ним.
— Твоему Давиду грозит опасность.
— Пойди потолкуй об этом с попечителями Собора. Камень принадлежит им, пусть они и решают, что с ним делать.
— Собор уже не распоряжается статуей. Макиавелли вынудил Джузеппе Вителли открыть твою мастерскую и показать Давида гонфалоньеру Содерини и членам Синьории…
Микеланджело невольно вскинул голову. Значит, кто-то из публики уже побывал в его убежище и рассмотрел Давида? Без него? Он едва мог дышать. Голова закружилась.
— Макиавелли рассчитывал на то, что чиновников возмутит нагота, — продолжал Граначчи. — Но не тут-то было. Твоя статуя больше не является украшением для Собора. Ее провозгласили символом города. И сейчас они там совещаются, куда установить Давида и нужно ли его отполировать.
Символ города? Возможно ли это? Зрение Микеланджело заволокла пелена. Он помотал головой и заставил себя безразлично ответить:
— Какое мне дело?
— Хочешь сказать, тебе плевать на то, где установят твоего гиганта?
— Ага. — Он больше не скульптор. Он добропорядочный сын своего отца, почтенного Буонарроти.
— Кое-кто из нас, включая и самого Содерини, считает, что статуя должна встать прямо перед входом во дворец Синьории, на месте Юдифи.
Микеланджело затаил дыхание. Бронзовая скульптура Донателло «Юдифь и Олоферн» пользовалась во Флоренции всеобщей любовью. В ней запечатлен момент, когда благочестивая вдова Юдифь занесла меч над побежденным вином военачальником Олоферном, готовясь отрубить ему голову ради спасения своих сограждан от тирании. Невероятно вдохновляющая композиция, убедительный символ торжества слабости над силой. Флорентийцы обожали эту скульптуру. И никогда, даже в самых дерзких мечтах, Микеланджело не мог и помыслить о том, что его работа сравнится с гениальным творением Донателло и даже заменит его.
— Мне все равно, где она будет стоять, — процедил Микеланджело, а потом громко, чтобы слышал отец, прибавил: — Все равно я не вернусь.
— Grazie mio Dio! — тут же поблагодарил небеса Лодовико.
— И что, так прямо и позволишь этому Леонардо одержать верх? — настаивал Граначчи.
— Леонардо? — Нос Микеланджело зарделся от гнева. До него доходили слухи о том, что Собор намеревался попросить Леонардо окончить статую, если ее автор не вернется к работе, но, случись такое на самом деле, кто-нибудь обязательно известил бы его. Леонардо определенно не касался Давида. — Но они же не отдали ему мою статую, ведь так?
— Нет. Пока нет. Но теперь, когда он поворачивает реки, к нему прислушиваются, словно он сам Господь Бог. Вот и сию минуту они как раз его слушают. А он, да будет тебе известно, возглавляет атаку на твоего Давида, хочет похоронить его.
У Микеланджело свело внутренности.
— И где он думает поставить его?
— Какая разница где? Тебя это больше не касается, — сварливо заметил Лодовико, присоединившись к разговору.
— Он мечтает похоронить Давида во мраке, задвинув в дальний угол лоджии, — серьезно ответил Граначчи.
Словно тысячи иголок вонзились в шею Микеланджело. Лоджия Ланци — крытый портик с левой стороны от здания Синьории, где и так стоят десятки скульптур. Давид потеряется среди них. И даже если публика заметит его, то воспримет как нечто второстепенное и незначительное.
— Леонардо утверждает, что статую надобно защитить от погодных явлений. И еще говорит, что публику может смутить ее… — Граначчи задумался, подбирая нужное слово: — неприкрытость. — Он помахал рукой у своих чресел.
— Лживый старый ублюдок! — вне себя завопил Микеланджело.
— Уймись, Микеле. Calmati, — одернул его Лодовико.
— Леонардо не только твоего Давида похоронит, он хочет похоронить и тебя, — гнул свое Граначчи.
— Моего сына такие глупости не занимают, — гордо сообщил Лодовико, похлопывая Микеланджело по спине. — Он теперь у нас человек семейный, а не какой-то жалкий каменотес.
Неужели это правда? Микеланджело задумался. Даже если он больше никогда не прикоснется резцом к мрамору — перестанет ли он быть скульптором?
— Где, говоришь, они там совещаются?
— Тебе какое дело? — ворчливо спросил Лодовико.
— В Орсанмикеле, — ответил Граначчи.
Мысль о том, чтобы бросить ваяние, мгновенно исчезла — так снежинки таяли в пламени его горящего дома. Выбравшись на улицу, Микеланджело припустил во весь дух.
— Куда ты, стой! — крикнул вслед отец.
Но Микеланджело не остановился. Его семья нуждалась в нем, но и Давид нуждался тоже.
Леонардо
Самые выдающиеся граждане Флоренции заседали в одном из помещений церкви Орсанмикеле, давшей приют ремесленным цехам города. В тесной зале пахло свечным воском, выдохшимся вином и благородным потом раскрасневшихся от жестоких споров горожан.
— Давид станет великим символом нашего города, — перекрывая гвалт, кричал Содерини. — Нам надобно прославлять и чествовать его, а не задвигать в темный угол.
— Но речь ведь идет о том, чтобы заменить им Донателлову Юдифь, — отвечал ему Боттичелли, и борода его заходила вверх-вниз, повторяя движение нижней челюсти. Он ютился в тесноте на балкончике галереи, зажатый со всех сторон другими творцами.
— Нельзя отрекаться от произведений великих мастеров в угоду детским поделкам. — Леонардо искренне сочувствовал стареющему живописцу. В самом деле, разве это справедливо — позволять неуемному тщеславию выскочки-скульптора попирать наследие таких легендарных мастеров, как Донателло и Боттичелли? Это оскорбительно и неприемлемо. Тем более что Боттичелли еще жив и может стать свидетелем этого позора.
— Юдифь была выполнена по заказу Медичи. Она олицетворяет могущество Медичи. Мы должны заменить ее другим символом, — вмешался в перепалку Джулиано да Сангалло. Леонардо мысленно удивился: с чего это Сангалло вздумалось встать на сторону Содерини? Он что, хотел, чтобы этот Микеланджело еще больше прославился? Архитектор был немолод, и Леонардо рассчитывал на его поддержку.
— Пьеро де Медичи мертв, — напомнил Джузеппе Вителли. — Ядовитый змей издох. А Чезаре Борджиа точит на нас зубы. Что это за необходимость, скажите на милость, защищать Флоренцию от призраков прошлого?
Несколько человек зашумели в знак одобрения.
— О каких призраках речь? Это гнусные негодяи, и зловонные миазмы их злобы еще долго будут держаться в воздухе, отравляя все вокруг и после их гибели. — Впервые с начала совещания подал голос Макиавелли. Собрание умолкло, все напряженно слушали. — Пьеро де Медичи, может, и мертв, но сейчас его семейка еще решительнее настроена на то, чтобы отвоевать назад город. Борджиа, возможно, тоже рыскает в поисках жертвы и не прочь нами поживиться, но, даже если его схватят, бросят в тюрьму или умертвят, кто-то другой придет на его место. Угрозы неистребимы, они будут всегда.
— После изгнания Медичи, — снова вступил Содерини, — город постановил вынести «Юдифь и Олоферна» из их садов и установить перед зданием городского совета. И что случилось потом? Савонарола сразу после этого дорвался до власти, французы захватили нашу Пизу, а над нашими головами нависла великая угроза со стороны Борджиа. Так готов ли кто-нибудь здесь утверждать, что под эгидой Юдифи дела у Флоренции переменились к лучшему?
— Нет! — раздалось несколько голосов.
— Встав у дверей дворца Синьории, Давид будет смотреть в направлении главных ворот города и испепелять взглядом наших врагов, если те осмелятся напасть на нас. Давид смог бы изменить нашу судьбу. — В поисках поддержки Содерини обернулся к Макиавелли.
Но дипломат никак не отреагировал на речи Содерини — он смотрел вверх, на балкончик, где среди прочих находился Леонардо. Остальные участники собрания вслед за ним повернули головы, чтобы послушать, что скажет Мастер из Винчи.
Леонардо не торопился отвечать. Когда он в первый раз услышал об идее Содерини установить Давида у входа во дворец Синьории, она ему очень не понравилась. Именно в этом общественном здании, главном в городе, будет располагаться его фреска. И значит, желающим полюбоваться его шедевром придется проходить мимо статуи Давида и волей-неволей обращать на нее внимание. Таким образом слава его фрески станет преумножать славу Микеланджелова Давида. А этого он ни за что не допустит.
— Мне, знаете ли, безразлично, что вы решите сделать с этой статуей, — наконец нарушил тишину Леонардо и пренебрежительно взмахнул рукой. — Но я как представитель старшего поколения флорентийцев считаю себя обязанным предостеречь вас и заострить ваше внимание на том, что вы рискуете кого-нибудь ненароком оскорбить или задеть. Недавно папой был избран Юлий II, и пока никто не знает, насколько он благочестив или стыдлив. Возможно, он окажется столь же консервативным, как Савонарола. Да и в любом случае гигантская статуя обнаженного мужчины — произведение сомнительное.
— Не слушайте этого старикашку, — вдруг раздался раскатистый рык. Его обладатель, вихрем ворвавшийся в залу, быстро протолкался в передние ряды собрания.
— Merda, — выругался вполголоса Леонардо и, наклонившись к уху Пьетро Перуджино, прошептал: — Не правда ли, этот малый — что та свинья, которая по чьей-то оплошности пролезла в стойло с королевскими скакунами?
— Почему меня не позвали на собрание? — требовательно спросил Микеланджело. На сей раз он выглядел очень прилично: борода аккуратно подстрижена, одежда опрятная и достойная. Казалось, он даже несколько поправился. Похоже, жизнь в кругу семьи и отказ от занятий скульптурой пошли на пользу молодому человеку. — Я имею право высказать собственное мнение о том, где должно установить статую. Это моя статуя.
— Статуя, от которой ты сам же и отказался, — взвился над зашумевшими людьми высокий голос Леонардо.
— Я вынужден был помогать своей семье с восстановлением сгоревшего дома. А сейчас, когда работы идут полным ходом, я вернулся и собираюсь завершить Давида.
— Это прекрасная новость! — воскликнул Содерини. Он пробрался сквозь толпу и встал рядом с Микеланджело. — Почему бы тебе, сын мой, не высказаться сейчас о том, где следует установить статую?
— А я считал, что мы договорились не спрашивать мнения самого скульптора, — процедил Макиавелли, метнув взгляд на Леонардо. — Оно чересчур предвзято.
— Ну конечно, что за нелепость — спрашивать у мастера искусств о его искусстве! — ехидно выкрикнул с галереи Сангалло.
— Так что же, сын мой? — напирал Содерини. — Скажи, где место Давиду? В полумраке лоджии или у входа во дворец?
— Или на кровле Собора? — подсказал Джузеппе Вителли.
— Только не в лоджии, — твердо ответил Микеланджело, сверкнув глазами в сторону Леонардо.
— Мастера согласны! — провозгласил Содерини. — Статуе стоять у входа во дворец Синьории!
Собрание снова взорвалось неистовыми спорами, почтенные синьоры надрывали глотки, стараясь перекричать друг друга.
— Давида нельзя выставлять напоказ, его следует прикрыть. — Леонардо удалось возвысить голос над общим гвалтом. — Поставить за невысокой загородкой, чтобы не создавал помех для официальных церемоний. И, конечно, как-нибудь пристойно задекорировать… — он прочистил горло, чтобы голос звучал громче, — его необрезанный пенис и так искусно выполненную скульптором лобковую поросль.
Все мгновенно замолчали. Содерини захлопал глазами. Макиавелли подавил смешок.
— Вы могли бы выбрать выражения и поделикатнее, — с укоризной заметил гонфалоньер.
— С чего бы мне стесняться в выражениях, когда мы говорим о статуе высотой в девять локтей, к тому же совершенно голой?
— А вы что, видели ее? — спросил Микеланджело, весь красный от злости.
— Нет. Зато слышал ее описание, притом из самых достоверных источников. Или вы скажете, что я в чем-то ошибся?
Все повернулись к Микеланджело. Он отрицательно помотал головой.
Леонардо ждал, позволяя собравшимся оценить молчаливое согласие скульптора.
— Мы не слышим слов, которые могли бы убедить нас в том, что эта неприличная громадина имеет право торчать на самом виду у входа во дворец Синьории. Так с чего мы решили, будто уже столковались об этом?
— За такую показную наготу Савонарола живо сжег бы нас на костре, — заметил Боттичелли, и краска отлила от его щек. Еще недавно старик был ревностным последователем Савонаролы и даже собственноручно бросил несколько своих полотен в его костер тщеславия. Видимо, проповеди фанатичного монаха до сих пор витали в его голове.
— В лоджии — вот где ей стоять! — громко объявил Леонардо. — И на самых задах.
Микеланджело смотрел на него так пристально, как чайка смотрит на воду, ожидая момента, когда в волнах блеснет рыбья спинка.
— Неужели вы и правда готовы прислушаться к мнению этого господина в вопросе, решать который необходимо сердцем и душой? — Голос Микеланджело взмыл над толпой, как рев боевой трубы перед битвой. — Скольким из вас он пудрил мозги своими россказнями о великой пользе отстраненности и научной объективности?
Леонардо удивился, увидев, как много рук поднялось в ответ.
— Разумеется, все мы наслышаны об этом, — продолжал Микеланджело. — Ему ведь нет удержу, стоит на секунду замолчать, как он тут же влезает со своими учеными рассуждениями об объективности.
В зале засмеялись. Перуджино толкнул Леонардо в бок. А тот почувствовал вдруг, что его лицо запылало. Но он ведь не покраснел, верно?
— Он сидит с этими своими диковинными приборами, очками да всякими увеличительными стеклами и изучает нас отстраненно и холодно, как изучал бы экземпляр неизвестной науке твари. Сколько раз он принимался зарисовывать ваши нахмуренные брови вместо того, чтобы спросить, чем так рассердил вас? Сколько раз вы слышали от него обидные шутки вместо серьезного разговора по существу? Скольким из вас доподлинно известно, чем живет его сердце, какие чувства волнуют его, чем наполнена его душа?
Леонардо заметил, что даже Макиавелли отвел от него взгляд.
— Зато обо мне вы все знаете. — Голос Микеланджело смягчился. — Я весь как на ладони, мои чувства, мое сердце, моя душа отражаются на моем лице, в моих глазах, в моем мраморе. Я открыт — открыт для всех. Так кому же вы доверите решать, куда установить статую, призванную вдохновлять ваших сограждан? Ему? Или мне?
Руки присутствующих снова взмыли вверх.
— Давиду место у входа в городской совет, — объявил Содерини, дождавшись, пока все проголосуют. — А теперь, мой мальчик, тебе остается навести последний лоск на статую. Мы рассчитываем, что ты управишься к весне, и тогда летом устроим торжественную церемонию открытия. — Содерини пожал Микеланджело руку.
Некоторые собравшиеся потянулись к выходу из залы. Боттичелли наклонился к Леонардо:
— Тебе не в чем себя упрекнуть, мой старый друг, ты честно бился. Однако приходит момент, когда мы должны дать дорогу молодым, пусть и они пожнут свою славу. Помнится, ты и сам, когда был школяром, наступал мне на пятки.
Боттичелли смиренно вздохнул, затем поднялся и, опираясь на трость, тяжело пошел вниз по ступеням галереи.
«На сколько лет я его моложе? — подсчитывал в уме Леонардо. — Всего на семь? Нет, я не был тогда наглым выскочкой, посягающим на гениальное мастерство Боттичелли. Ведь не был же?»
Он посмотрел с галереи на Микеланджело. Светясь торжествующей улыбкой, тот принимал поздравления с победой от окруживших его участников собрания.
Леонардо не спешил покидать Орсанмикеле. Ему не хотелось обсуждать с кем-нибудь вынесенное решение. Следовало бы с самого начала понять, что само это здание не предвещало ему ничего хорошего. Орсанмикеле, церковь Святого Михаила. Под ее сводами витало имя ненавистного ему скульпторишки. Как он раньше не сообразил, что это дурное предзнаменование?
Через полчаса Леонардо спустился с галереи и вышел на улицу, его длинный ярко-розовый плащ взметнулся под порывом ветра. Снаружи было безлюдно, один лишь верный Салаи, как всегда, терпеливо поджидал его на ступеньках.
— Хоть бы кто-нибудь разбил эту чертову статую, чтобы она не торчала посреди города как бельмо на глазу, — проворчал Леонардо.
— Да, господин, уж поверьте мне, так оно и будет. — Салаи всегда был готов во всем соглашаться с Леонардо, даже когда оба знали, что маэстро просто выпускает пар.
— Идем, Джакомо. Нам предстоит поработать. — Если Микеланджело собирается закончить свою статую весной, а летом представить публике, Леонардо тоже должен управиться к этому времени. Работы в русле Арно необходимо ускорить, фреску для залы Большого совета, если постараться, можно создать в едином порыве, а краска на портрете Лизы, надо думать, за месяц высохнет. Если он будет трудиться не покладая рук, то, глядишь, поспеет со своими проектами к лету. Давид Микеланджело померкнет на фоне рожденных им, Леонардо, шедевров.
Микеланджело
Весна
Этой весной папа Юлий II приказал арестовать Чезаре Борджиа и выслать в Испанию, по случаю чего весь Апеннинский полуостров возликовал. Но пока Флоренция блаженствовала, купаясь в лучах победы, молва принесла весть: два молодых сына Пьеро де Медичи собирают войско и готовят вторжение. Прав оказался прозорливый Макиавелли. Угрозы вечно будут собираться тучами над прекрасной Флоренцией, пока она остается… Флоренцией.
Та же смесь восторга и тревоги, которая затопила при этом известии город, бурлила и в жилах Микеланджело. Вооружившись куском пемзы, он день и ночь полировал мраморного Давида. Как будто слой высохшей кожи с тела, пемза медленно, но верно стирала малейшие неровности с поверхности мрамора, придавая ему ослепительный блеск.
Одним весенним днем, теплым и ясным, солнце светило так ярко, что лучи его пробрались в убежище Микеланджело, где он только что закончил наводить блеск на пятку левой ноги Давида. Часами напролет он полировал легкие волнистости на мочке каждого уха, каждый локоть, каждую проступающую сквозь кожу жилку, а с особенным тщанием — впадинки между пальцев ног. На темечке Давида он намеренно оставил лоскуток неошлифованного мрамора. Потом, в будущем, увидев его статую, люди, чего доброго, подумают, что это совершенство свалилось прямиком с небес, созданное десницей самого Господа Бога. И этот неотшлифованный фрагмент, выделяющийся на полированной поверхности словно заплатка, докажет им, что статую вызвали к жизни из реальной глыбы мрамора руки реального человека.
Микеланджело посмотрел на свои пальцы: они снова кровоточили и покрылись волдырями. Оттого что он месяцами держал то пемзу, то наждачную бумагу, руки его скручивали постоянные судороги. По тыльной стороне левой ладони протянулся глубокий порез, ноготь на правой руке сломан и наполовину сошел, кожица на его месте воспалилась и побагровела. Наверное, его руки никогда уже не будут выглядеть как раньше, да и зрение от долгой работы в полумраке сарайчика уже начало затуманиваться.
Микеланджело сел на пол перед статуей и вытянул ноги. В ушах шумело от абсолютной тишины, руки и ноги будто разом отяжелели, освободившись от инструментов. Такое же чувство охватило его, когда он завершил Пьету, но на сей раз оно было значительно сильнее. Неподвижность эхом отдавалась в груди, как тысячеголосый шум толпы.
Микеланджело лег на спину, любуясь своим гигантом. Давид и правда выглядел изумительно. Линии его тела плавно перетекали от макушки до пальцев ног, мускулы то напрягались, то дрожали, как мелодия песни; лицо же было, без сомнения, лицом настоящего мужчины, осознающего свою силу, решимость и страх. Наконец-то, после двух с половиной лет и тысяч часов одержимого труда, камень оправдал его ожидания.
— Она закончена, — с улыбкой сказал Микеланджело.
Но эйфория длилась не дольше мгновения. Уже более двух лет в его голове крутилась одна проблема. Он все надеялся, что она разрешится как-нибудь сама собой, однако этого не произошло. Теперь же решение вопроса откладывать было некуда.
В обязанности скульптора входила доставка его произведения на постоянное место и установка его на пьедестал. Пока это не сделано, работа не считалась законченной. В данном случае — по просьбе самого Микеланджело — выбранное для Давида место на площади Синьории располагалось в двух тысячах шагов от мастерской.
Чтобы поднять на торец камень Дуччо, пролежавший полсотни лет на земле, потребовалась помощь дюжины крепких мужчин. Микеланджело не представлял, как сумеет сдвинуть Давида хотя бы на шаг, не говоря уж о двух тысячах шагов, да еще по узким неровным улочкам. Он вспоминал историю древнегреческой статуи с острова Наксос, провозглашенной величайшим шедевром всех времен. При перемещении к пьедесталу у нее откололась нога, а ведь ее всего лишь спускали с невысокого, пологого, поросшего мягкой травой холма. В результате статую оттащили на каменоломню, поскольку из-за отколотой ноги она утратила право называться шедевром и превратилась в бросовый камень. Такая же участь ожидала и его Давида, если Микеланджело не придумает, как невозможное превратить в возможное.
Леонардо
Прищурившись, Леонардо вглядывался в противоположный берег Арно. Новое русло, которое примет воды реки, когда ее перекроет плотина, было готово; рабочие много месяцев подряд углубляли и расчищали его, а берега укрепляли камнями. Теперь они возводили плотину, которая повернет течение Арно в канал. В него уже просачивалась вода из реки. Леонардо любил наблюдать за тем, как нечто умозрительное, порожденное его воображением, приобретало реальные очертания, воплощаясь в жизнь. Он как будто выворачивал наружу свое сознание, представляя его глазам всего мира.
— Мы взяли хороший темп, и к концу весны все будет готово. — Черные курчавые усы Коломбино подчеркивали его широкую улыбку, а дряблый живот совсем не вязался с сильными мускулистыми руками. У него было пятеро детей, и иногда Леонардо казалось, что Коломбино и с ним обращается как с одним из своих отпрысков.
— И я этому очень рад, — отозвался Леонардо, щурясь на солнце. С фреской он тоже на днях здорово продвинулся, как и с портретом Лизы, так что его шедевры, можно считать, уже на подходе. — А что первая дамба, крепко ли держит?
— А как же! Хотя, думаю, придется еще усилить ее камнем сверх ваших расчетов.
— Усилить дополнительным камнем? Почему?
— Мастер? — вклинился в разговор молодой человек.
Леонардо оглянулся и увидел рабочего с каштановыми волосами и в потрепанной одежде.
— Не сейчас. — Он снова повернулся к Коломбино: — Ну, говорите, что там с камнем?
— Синьор, — не отставал молодой человек.
— Ступай работать и оставь маэстро в покое, Буонарроти, — прошипел Коломбино.
— Буонарроти? — Леонардо повернулся и с интересом посмотрел на рабочего. Вполне привлекательная внешность, симпатичные ямочки на щеках, веселые карие глаза и совершенной формы орлиный нос. Совсем не похож на безобразного скандалиста-каменотеса. — Ты что, родня Микеланджело?
— Si, signore. Мое имя Буонаррото, а Микеланджело — мой старший брат.
— Оставьте-ка нас на минуту, Коломбино.
Тот насупил брови, но молча развернулся и направился туда, где кипела стройка.
— Добавляйте еще камня! — скомандовал он рабочим, укреплявшим стенки канала.
— Ты хотел поговорить со мной? — спросил Леонардо.
— Да, синьор. Я работаю здесь, на вашем проекте, и являюсь свидетелем вашего инженерного гения.
Леонардо поднял брови.
— А твой брат знает, что ты работаешь на меня?
— Конечно, синьор. Он мой старший брат, и мы с ним очень близки. — Юноша с вызовом выпятил грудь, словно защищаясь.
— И что же, он одобряет это?
— Он понимает, что это нужно для семьи. — Буонаррото опустил в смущении глаза и ссутулился. Теперь Леонардо увидел сходство. — Господин, вы же слышали о колоссе моего брата?
Внезапно юноша перестал казаться ему занятным.
— Да, — нетерпеливо ответил Леонардо.
— Ну и, наверное, знаете, что брат должен перетащить его от Дуомо, со двора мастерской, аж до самой площади Синьории… — Буонаррото замолк, глубоко вдохнул и продолжил: — А как — он не знает.
Так вот оно что. Ну конечно. Самую здоровенную статую за всю историю Флоренции требовалось перевезти и установить. Такая задачка не каждому по зубам.
— Продолжай.
— Статую нужно доставить на площадь ко дню открытия, а если брат не сделает этого, синьор Макиавелли не заплатит ему ни гроша. Если же он ее уронит, то… — Буонаррото потряс головой, желая отогнать страшную мысль.
Если уронит, то шедевру Микеланджело придет конец, его постигнет та же участь, что и глиняного коня Леонардо, разбитого солдатом-французом.
— А вы… вы поворачиваете течение рек. — Искреннее восхищение звучало в голосе Буонаррото. — Уверен, что и огромные камни умеете двигать.
Еще бы, Леонардо мог разработать план по перевозке статуи, даже очень тяжелой и громоздкой. У него имелось множество идей насчет применения в подобных случаях блоков, шкивов и подъемных механизмов.
— Сожалею, — он похлопал молодого человека по плечу, — но я слишком загружен своими проектами. Однако настоятельно прошу тебя передать брату наш разговор. Скажи, что если ему будет угодно прийти ко мне с вопросами, то я с радостью выкрою для него минутку и посоветую что-нибудь полезное. Непременно передай ему это.
— Grazie, maestro, — промямлил Буонаррото и, ссутулившись от разочарования, побрел прочь.
Стало быть, триумф Микеланджело не так уж и неизбежен. Давид рискует не добраться до места своего торжественного открытия. Вот если бы Леонардо удалось окончить один из своих шедевров раньше…
— Коломбино! — позвал он главного распорядителя работ и помахал рукой, чтобы тот скорее подошел. — Вы, кажется, говорили о том, что нужно дополнительно укрепить дамбу?
— Да, синьор. На это потребуется еще некоторое время, но, если смотреть далеко вперед, оно того, безусловно, стоит, можете мне поверить.
Леонардо категорично замотал головой.
— Ни в коем случае. Мы должны следовать нашему графику. Хорошо бы даже опередить его и завершить работы как можно скорее. Наймите еще людей, если сочтете, что это ускорит дело. Чем быстрее окончим первоначально спроектированную дамбу, тем оперативнее сможем исправить ее недочеты и тем скорее превратим Пизу в пустыню.
— Я предпочел бы сразу выстроить дамбу как полагается, а не доделывать ее потом, синьор.
Да, именно так рассуждают все недалекие люди.
— Коломбино, кто из нас двоих инженер, вы или я?
— Вы, маэстро. — Усы Коломбино стали подергиваться.
— И потому я знаю, какую нагрузку выдержит система. Так что возвращайтесь к моим спецификациям и следуйте им. Дамба выдержит напор воды, можете не сомневаться.
Микеланджело
— Кто тебе сказал? — Микеланджело прожигал взглядом скорчившего невинную мину Буонаррото.
— Сам Леонардо.
Микеланджело потерял дар речи.
— Который из Винчи, — уточнил Буонаррото.
— И без тебя знаю, какой Леонардо! Лучше скажи, что ты ему наболтал?
— Ничего особенного, всего лишь сказал о том, что ты не знаешь, как переместить статую.
— Cazzo, — прошипел сквозь зубы Микеланджело и поднялся. Он лежал под передней осью деревянной платформы, на которую уже установили Давида, и затягивал очередную веревку. Первое, что он сделал, готовя переезд статуи, — это замотал ее с ног до головы в толстую провощенную парусину, подбитую изнутри соломой. Он хотел защитить мрамор от трещин и сколов, а также от глаз публики — до момента ее официального открытия на площади Синьории. Только надежно закрепив ткань, он разобрал стенки своего сарайчика и с помощью сорока мастеровых и огромного шкива поместил Давида на платформу.
— Он сказал, что слишком занят, чтобы самому идти сюда, — продолжал Буонаррото, — но пообещал что-нибудь посоветовать тебе, если ты сам придешь к нему и посвятишь в свои планы.
— Да уж, этот насоветует, — проворчал Микеланджело. Он сорвал рабочие рукавицы и потер сочащиеся сукровицей ладони. Он поверить не мог в то, что брат додумался рассказать о его неудачах этому высокомерному ублюдку.
— Это еще на прошлой неделе было, — пояснил Буонаррото, отойдя в сторону, пока Микеланджело проверял крепления на другом борту. — Я не хотел говорить тебе раньше в надежде, что ты сам придумаешь выход, но вижу, ты места себе не находишь… А он, поверь, готов помочь.
— Я считаю, ты просто обязан прислушаться к советам Мастера из Винчи, — поддержал Пьеро Содерини. Гонфалоньер частенько заглядывал во двор мастерской, чтобы узнать, как идут дела. — Уверен, он подскажет, как нам половчее управиться с перевозкой.
Переместить хрупкую статую высотой в три человеческих роста — и правда задачка не из легких. Давиду следовало во время перевозки сохранять вертикальное положение. Укладывать его на бок, а потом снова поднимать было слишком опасно. Центр тяжести у статуи располагался в самом узком месте, и если ее положить, то она рисковала расколоться надвое в районе тонкой поясницы Давида. Перемещение же в стоячем положении создавало множество дополнительных трудностей. Из-за высоты скульптуры рабочим соборной мастерской уже пришлось разобрать низкий арочный свод над воротами. По пути статуе тоже угрожало множество потенциальных препятствий в виде низко расположенных балконов и навесов. Однако гигантский рост — не единственная трудность, с которой столкнулся Микеланджело. Колени у Давида достаточно тонкие, а щиколотки — и того тоньше. И левый локоть далеко выдавался вперед. Любая кочка на дороге способна была отозваться эхом в членах Давида, они могли завибрировать, словно кимвалы от удара, и рассыпаться на куски. Словом, мраморный Давид походил на сердце влюбленной в сиятельного герцога простушки: разбить легко, а собрать из осколков невозможно.
Но какие бы опасности ни угрожали его статуе, Микеланджело ни за что на свете не попросит помощи у Леонардо. Никогда.
— Molto grazie, — учтиво поблагодарил он гонфалоньера. — Мне и так уже оказывают достаточно помощи.
Джулиано да Сангалло, самый плодовитый архитектор Флоренции, например, подал идею и помог соорудить для Давида средство перевозки. Широкая деревянная платформа, на которой уже стояла статуя, была пригнана толстенными гвоздями к пяти самым крепким повозкам, какие только нашлись в городе. Давида намертво привязали к толстому шесту, возвышающемуся в центре платформы, — Микеланджело, сколько ни проверял, так и не смог сдвинуть статую с места даже на толщину травинки. По обе стороны платформы высились прочные деревянные перекладины. Две дюжины рабочих, которым обещано по флорину за доставку статуи в целости, возьмутся каждый за свою перекладину и покатят грандиозное сооружение по улице. Они уже успели несколько раз проверить конструкцию на ходу, навалив на нее для веса кучу мешков с камнями. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с ростом и весом статуи, но устройство, по крайней мере, исправно катилось.
— Ничего, эта платформа сделает свое дело, — заявил Микеланджело, хотя в его голосе слышалась неуверенность. — Завтра. Завтра сами в этом убедитесь.
Содерини отвел Микеланджело в сторону.
— Не хотел тебе говорить, сын мой, дабы не взваливать на тебя еще больший груз ответственности, но… — Гонфалоньер умолк.
— Но что?
— Прихвостни Медичи пробрались во Флоренцию. И распускают слухи о том, что твоя статуя якобы направлена против них. Если тебе не удастся перевезти ее, они начнут болтать на всех углах, будто это знак того, что Медичи должны вернуться к власти. А ты и сам знаешь, как падки флорентийцы до разных суеверий.
У Микеланджело замерло сердце.
— Мой Давид — за Флоренцию. Единственное, против чего он, — так это против тирании.
— Можешь мне не говорить. Но горожане… Пожалуйста, постарайся, ты должен довезти статую до площади Синьории целехонькой, даже если для этого придется советоваться с Леонардо. Убедись хотя бы в том, что все продумано и сделано верно.
— Я и так в этом уверен. Обещаю вам, гонфалоньер, эта конструкция выполнит свою задачу.
— Надеюсь, ты прав, — сказал Содерини, все еще тревожно хмурясь.
«А уж как я надеюсь», — подумал Микеланджело, но вслух больше ничего не добавил. Он обвязал статую еще одной веревкой, пытаясь таким образом убедить себя в благополучном исходе предприятия.
Ночью Микеланджело ни на миг не сомкнул глаз. Он перебирал в памяти каждый острый угол, каждый крутой поворот, каждый отсутствующий в кладке мостовой булыжник на пути от Собора до площади Синьории, просчитывал возможность того, что им навстречу выскочит сбежавшая откуда-то лошадь. Но и это не могло унять его беспокойства, ему мерещились кошмары один страшнее другого: треснет платформа, полопаются веревки, вылезут гвозди. В самые глухие часы ночи его осаждали жуткие видения: люди Медичи, неизвестно как очутившиеся в городе, словно одержимые раскручивали платформу с Давидом до тех пор, пока он не сорвался с канатов и не улетел в бездну.
Когда над небосклоном появилось солнце, плывущее в густо-красном мареве, Микеланджело призвал на помощь разум и убедил себя в том, что конструкция прочная и что статуя стянута веревками не хуже, чем королевские сундуки с золотом. Да и Господь Бог защитит Давида.
Вдвоем с Буонаррото Микеланджело завтракал на кухне. Оба молчали. Буонаррото не мог поддержать брата во время перевозки статуи — долг призывал его на берег Арно, где он будет помогать Леонардо. Остальные члены семейства вообще не торопились спускаться в кухню, хотя бы для того, чтобы поздороваться или пожелать Микеланджело удачи. Он в одиночестве поспешил к Собору. Вскоре подошли рабочие, а он снова и снова проверял веревки, но, как бы туго ни стягивал их, не мог избавиться от противного сосущего в груди чувства, что перевозка обречена на провал.
— Во сколько начинаем? — поинтересовался Пьеро Содерини и собрал у горла ворот накидки, защищаясь от пронизывающего ветра.
— Уже скоро, — ответил Микеланджело. И опять взялся проверять каждую веревку, каждую деревянную перекладину и каждую деталь платформы вплоть до последнего гвоздя. Затем взобрался на нее и, обхватив руками Давида, начал его трясти что было сил. Убедился, что статуя в своих путах даже не шелохнулась.
Как не пошелохнулось и затопившее его нутро предчувствие беды.
— Ну как, все в порядке? Или что-то не так? — крикнул Микеланджело с платформы стоящему тут же Джулиано да Сангалло.
— Не так? Что ты, мой мальчик, все в полном порядке, — заверил его архитектор, и его морщинистое лицо осветила добрая улыбка. — Сегодня день твоего триумфа. Время пожинать славу.
Граначчи в последний раз обошел платформу, критически оглядывая ее.
— Bueno, — заключил он и ободряюще кивнул Микеланджело.
Нет, он, верно, спятил с этими своими подозрениями. Все уже подтвердили, что конструкция в полном порядке. Давид в целости и сохранности доедет до площади Синьории.
— По местам, — громко скомандовал Микеланджело.
Две дюжины рабочих устремились каждый к своей перекладине и уперлись в них руками, готовые толкать платформу вперед.
— По моему счету… — закричал Микеланджело, хотя горло сжала судорога. — Uno.
«Господи, умоляю, помоги нам!»
— Due.
«Делай что угодно, только защити его», — отчаянно молился про себя Микеланджело.
— Tre!
Рабочие дружно крякнули и налегли на перекладины, сдвигая массивную конструкцию с места. Дерево стонало и потрескивало. Конструкция казалась огромной, высотой до самого неба.
Вдруг что-то холодное упало на лоб Микеланджело.
Он поднял голову. Кроваво-красное солнце заволокла густая пелена туч, в воздухе запахло надвигающейся грозой. Тяжелые дождевые капли начали сыпаться с неба, как конфетти во время праздника.
— Стой! — завопил Микеланджело.
Рабочие перестали толкать конструкцию. Та издала стон и всем весом осела в образовавшуюся под колесами колею. Давид как был, так и остался во дворе мастерской, не сдвинувшись со своего места ни на шаг.
— Почему мы остановились? — поинтересовался Содерини, пристроившийся впереди платформы, будто во главе пасхального шествия.
Дождь лупил огромными каплями.
Сангалло замотал головой.
— Мы не сможем протащить ее по грязи. При таком весе колеса зароются в слякоть по самые оси быстрее, чем кроличий выводок — в нору.
— Ну ладно, попробуем снова, как только дождь прекратится, — сказал Микеланджело. Можно было оставить статую прямо здесь, на соборной земле, под надежным прикрытием парусины. Пусть стоит себе на платформе в ожидании следующей попытки.
Все участники мероприятия попрятались от дождя под навесом, один Микеланджело застыл посреди двора. Он поднял голову и стал жадно ловить ртом дождевые капли. Ему испытать бы разочарование от того, что перевозка сорвалась, а он ощущал громадное облегчение. Пока шел дождь, у него было время понять, что же так тревожит его, и тогда, возможно, он придумает более безопасный способ транспортировки. Пока шел дождь, Давид оставался на месте. В полной безопасности.
— Господи, молю тебя, сделай так, чтобы этот дождь лил бесконечно.
Леонардо
Капли выбивали дробь по крыше, звук эхом разносился по огромной зале Большого совета. Ливень лил не переставая уже двое суток.
Леонардо мерил шагами залу. Скоро, совсем скоро его фреска «Битва при Ангиари» развернется во всю огромную восточную стену. Но пока еще рано браться за краски, надо все основательно продумать и подготовиться. Да и дождь раздражающе напомнил о том, что нужно принять все меры предосторожности, чтобы придать росписи прочность. От затяжных дождей в воздухе скапливается много влаги. От сильной влажности возникает плесень. А если пошла плесень — недолго и до гниения.
В город уже начали просачиваться слухи из Милана о том, что его «Тайная вечеря» отходит от стены. Миланцы в панике искали способы сохранить драгоценную фреску. А Леонардо понимал: вторая отставшая от стены фреска навеки похоронит его репутацию. Ну уж нет. Эту фреску он напишет так, чтобы она крепко держалась на стене на протяжении многих веков.
Значит, следует применить более долговечную фресковую технику — возможно, такую, которая потребует быстрой работы. И никаких изменений потом — ни доработки лиц для придания им выразительности, ни дополнительных штрихов в момент, когда на него снизойдет вдохновение. На сей раз замысел должен быть проработан сразу и целиком, во всем совершенстве и до самой последней детали.
Поэтому Леонардо проводил все время в раздумьях, мысленно разрабатывая композицию фрески. Часами он ходил взад-вперед по своим комнатам, совершал долгие прогулки или стоял как вкопанный посреди залы Большого совета, вперив невидящий взгляд в восточную стену. Стороннему наблюдателю могло показаться, что он бездельничает, что в рассеянности предается грезам, однако для него это была важнейшая часть работы. В его мозгу роились лица, отдельные линии, изгибы, тени, цвета, формы. В паузах между днями и ночами размышлений у него случались приступы яростного рисования, когда он, как одержимый, кидался с мелком к бумаге и быстро набрасывал один за другим вспыхивающие в голове образы пережитой войны.
Пьеро Содерини, Никколо Макиавелли и все в Синьории желали, чтобы фреска Леонардо «Битва при Ангиари» воспевала войну. Они наперебой предлагали ему героев для его картины: доблестных генералов в сверкающих доспехах, солдат, бесстрашно врубающихся в самую гущу сражения, и святого Петра, с небес благословляющего армию Флоренции на великую победу.
Однако Леонардо видел войну. И она запомнилась ему как ужасающее торжество хаоса и жестокости: сверкающая сталь безжалостных клинков, брызжущая из ран алая дымящаяся кровь, пороховая гарь и копоть, отливающая влажной белизной кость, торчащая из развороченной плоти, синева сумерек, опускающаяся на бледные лица умирающих солдат. Его фреска не будет парадной, она передаст неистовый вихрь борьбы, засасывающий в свое чрево, перемалывающий и калечащий людей и лошадей, сверкающий сталью клинков и щитов. Это будет единая кольцевая композиция, затягивающая зрителя в водоворот безумия, заставляющая его скользить по спирали все глубже и глубже в пучину битвы, — точно так же, как война вовлекает солдат в свой страшный круг, разорвать который практически невозможно.
— Господин! — Салаи ворвался в залу.
— Рад тебя видеть. Встань-ка вот здесь, у стены, вот так. — Леонардо показал нужную позу и отшатнулся назад, словно перед ним взметнулся на дыбы конь. — Хочу посмотреть, как это будет выглядеть от противоположной стены.
— Не время, мастер! Надо улепетывать отсюда! — С Салаи ручьями стекала вода. — Наводнение!
— Где? Здесь, на площади?
После дождя возле дворца Синьории часто образовывались огромные лужи.
— Арно! Арно разлилась. — Салаи смотрел на Леонардо расширившимися от страха глазами. Казалось, он даже стал ниже ростом. Леонардо вдруг заметил, что его помощник босой. — Дамбы прорвало.
Леонардо внимательно оглядел Салаи. Похоже, тот одевался в страшной спешке. Натянул на себя первое, что попалось под руку, даже пуговицы не застегнул на рубахе. Мокрые волосы висели патлами, грудь ходила ходуном от бега, уши горели рубиновым цветом, глаза тоже были красные.
— Быть этого не может.
Леонардо спокойно повернулся к стене. Может, следует добавить в композицию еще одну лошадь, чтобы усилить ощущение хаоса?
— Господин, там люди гибнут!
Леонардо покачал головой. Арно разливалась раз в несколько лет. Вода выходила из берегов, поднималась локтя на полтора, до окон первых этажей, могла снести несколько ветхих домишек. Никто при этом не погибал.
— Послушай-ка, Салаи, сейчас мне некогда ловить ящериц в своих простынях.
— Я не шучу, господин! Ваши расчеты к чертям провалились. Строительную площадку смыло водой. Рабочие… люди погибли.
Леонардо слышал слова Салаи, но в его сознание они не проникали.
— Что заставляет тебя выдумывать такие ужасные вещи, Джакомо? Ты что, сердишься на меня?
— Когда горожане осознают масштаб бедствия, — Салаи принялся быстро собирать с пола разбросанные мелки и листы бумаги, — они придут за вами, они разорвут вас на куски. Нам надо бежать. — Трясущимися руками юноша лихорадочно запихивал принадлежности Леонардо в его кожаную суму.
Забота помощника тронула Леонардо, но он никак не мог взять в толк, чем она вызвана.
— Если вдруг на площадь Синьории и правда просочится немного воды, положим наши вещи повыше, — решил Леонардо и засунул суму, а вместе с ней отстегнутый от пояса альбом для зарисовок в расположенную высоко над полом нишу в стене. — Идем, Салаи, — спокойно сказал он. — Спустимся к Арно, просто чтобы убедиться в том, что ты ошибаешься.
Снаружи свирепствовал ливень, вода извергалась с неба сплошной стеной. Грохот стоял такой, словно в горах начался камнепад. Гром сотрясал землю, небо освещали сполохи молний. За какие-то секунды Леонардо промок до нитки. Его ноги погрузились в глубокую холодную лужу, площадь на глазах превращалась в озеро. Стремительно прибывающая вода закручивалась уже вокруг его голеней.
Воздух пах илом и болотной грязью. Впрочем, Леонардо это не смущало. Он твердо знал: дойдя до реки, он увидит, что его плотина и дамбы прочно держат поток. Всего два дня назад, прямо накануне этого чертова ливня, он лично проверил состояние дел. Рабочие как раз закончили сооружать основную плотину. Арно послушно устремила свои воды в новое русло, а по старому сочились жалкие остаточные ручейки. Придуманный им план перекрыл воду зловредной Пизе. Рабочие укрепляли тело плотины в тех местах, где она пропускала воду, и возводили смотровую галерею для любопытствующих путешественников, а город уже вовсю готовился отпраздновать событие. Все шло прекрасно.
И вдруг этот затяжной ливень с грозой. Льет уже два дня напролет.
Левый глаз у Леонардо начал подергиваться, и он ускорил шаг, торопясь к плотине.
— Поспеши и ты, Салаи, — призвал он помощника. Издалека сквозь шум дождя до них доносились крики ужаса. Что там происходит? Чезаре Борджиа ворвался во Флоренцию со своими головорезами? Или страшный пожар угрожает спалить весь город?
— Господин, прошу вас. — Салаи выскочил вперед и вцепился Леонардо в локоть, не давая идти. — Не ходите туда, вам не понравится то, что вы увидите.
Леонардо вырвал руку и побрел дальше по воде, которая уже достигала его коленей. С каждым шагом двигаться против течения было все труднее. Оставшийся позади Салаи крикнул ему в спину: «Господин! Стойте!» — но Леонардо продолжил путь.
Какая-то тень неуклюже надвинулась на него. Когда она приблизилась, Леонардо увидел, что это молодая женщина с ребенком на руках, ее юбки колыхались вокруг нее на воде. Женщина споткнулась и упала. Ребенок пронзительно закричал. Леонардо направился к ней, как можно выше поднимая колени. Схватил ее беспомощно трепыхающуюся руку, помог встать.
— На вас кто-то напал? — спросил он.
— Dio mio, aiuti, — крикнула она, обращаясь к небесам, оттолкнула Леонардо, схватила ребенка и снова побрела вниз по залитой водой улице.
Какой дьявол вселился в этот город?
— Не туда идете, синьор, — услышал Леонардо мужской голос, но продолжил упрямо пробираться к реке, навстречу течению. Проходившие мимо люди тоже кричали ему и махали руками в противоположном направлении. В глазах у одних плескался ужас, другие брели в оцепенении, кто-то не переставая скулил и стенал. Леонардо пожалел, что не захватил с собой альбом и не мог зарисовать эту палитру эмоций на лицах. Впрочем, это было бы бессмысленно — альбом давно уже размок бы.
Навстречу ему выплыл, покачиваясь на волнах, обрубок дерева. Приблизившись, Леонардо понял, что это не бревно, а мужчина, баюкающий на руках мертвую девочку. На голове у него зияла глубокая рана, кровь стекала по лицу. Поравнявшись с ним, Леонардо попытался поймать его взгляд, но пустые глаза мужчины смотрели в никуда.
Сильная волна сбила Леонардо с ног, потащила назад. Едва ему удалось найти опору, как накатила следующая волна и снова подкосила его. Он перестал сопротивляться и, опустив голову в воду, поплыл. В конце улицы уровень воды был особенно высоким — там образовалась настоящая стремнина. Поток несся так стремительно, что ему пришлось ухватиться за металлический поручень балкона, чтобы протолкнуться вперед. Барахтаясь что было сил, он обогнул угол и, высунувшись, вгляделся вперед, в конец улицы — туда, где находилась строительная площадка.
Дождь по-прежнему неистовствовал, небо потемнело, а вода была такой высокой и черной, что Леонардо на мгновение потерялся в пространстве. Он ничего не мог разглядеть в этом мраке. Но вот небеса расколола очередная молния, и ужасная правда открылась глазам Леонардо.
Строительной площадки больше не было. Доски смотровой галереи вперемешку с огромными валунами и оборванными канатами уносило течение. Рабочих, которые укрепляли дамбу, смыло и разметало. Те, кто в момент прорыва находился на берегах и на уцелевших участках укреплений, беспомощно барахтались в воде, вытягивая шеи. На глазах у Леонардо один несчастный пытался плыть, но его ударила по голове сзади большая доска. Его глаза закрылись, и он ушел под воду.
Половину главной плотины смыло, мощные воды Арно змеящимися потоками заливали город, тщетно ища путь в прежнее русло. Часть дамб упорно держалась, но было непонятно, к лучшему это или, наоборот, только усугубляло положение. Если бы они рухнули все разом, река быстро вернулась бы в старое русло и не вырвалась бы на свободу.
Никакой внешний враг не напал на Флоренцию. Не было ни пожара, ни вторжения воинственных соседей. Это затея Леонардо, его блестящий инженерный проект привел к смертям и разрушениям.
Прав был Салаи. Дамбы прорвало. Разлившаяся Арно затопляла город.
Леонардо открыл рот, чтобы закричать, но волна накрыла его с головой, заливая водой рот, нос, горло, легкие. Он отпустил спасительный поручень и отдался во власть беснующейся стихии.
Микеланджело
— Дамбы прорвало! — закричал кто-то.
Завтракающих в трапезной церкви Санта-Кроче мгновенно охватила паника. Все загомонили, никто никого не слушал. Микеланджело и его семейство укрывались в церкви с тех пор, как начался этот нескончаемый ливень; крыша нового дома уже дала течь. В церкви же было сухо и спокойно, так что Микеланджело мог собраться с мыслями и придумать, как безопаснее переправить Давида на площадь Синьории. И, что немаловажно, здесь, в церковных стенах, отец боялся проклинать его, как делал это дома.
— Дамбы? — повторил Лодовико, и разжеванный сыр вместе со слюной вытек из уголка его рта. В последние месяцы он сильно сдал и не сразу мог взять в толк, что говорят и что происходит вокруг.
Зато Микеланджело мгновенно осознал, что это значит.
— Буонаррото!
Он вскочил и, опрокинув стул, понесся к двери. Брат — он же работает там, на дамбах. Если их прорвало, Буонаррото грозит опасность.
Снаружи лило как из ведра, кругом — огромные и глубокие лужи, но признаков катастрофического наводнения вроде пока не видно. Правда, церковь располагалась очень далеко от строительной площадки. Микеланджело припустил во весь дух.
На берег Арно он выскочил не в районе дамб, а выше по течению, но и здесь река уже перехлестывала через берега и рвалась на улицы. Не обращая внимания на крики, призывающие его вернуться, Микеланджело начал пробираться вдоль берега вниз по течению. Он двигался на запад, а вода поднималась все выше и уже бурлила вокруг его бедер. Он радовался, что отложил перевозку Давида. Собор расположен ближе к центру города, чем дворец Синьории. Под сенью Дуомо статуе будет безопаснее.
Он миновал Понте-Веккио, расположенный в самом узком месте Арно, повернул за угол и только здесь оценил масштаб трагедии: массы темной бушующей воды несли огромные камни, доски, раненых и погибших. Арно превратилась в беснующегося зверя, чьи беспощадные волны калечили и топили людей — так вино, хлещущее из разбитой бочки, погребает под собой крохотных муравьев.
Как в этой страшной круговерти отыскать брата?
— Ты хоть видишь его? — раздался сзади голос запыхавшегося Лодовико.
— Стойте здесь. Там опасно. — Микеланджело поцеловал отца в щеку и устремился в сторону прорванных дамб — где-то шагом, а где-то вплавь. Он отчаянно надеялся, что уже совсем скоро они с братом окажутся возле отца. — Буонаррото! — то и дело выкрикивал Микеланджело. — Буонаррото! Господи, только не брат, дорогой Господи, пусть кто угодно, но только не мой братишка, — пробормотал он, со страхом заглядывая в лицо подплывшего утопленника. Это не Буонаррото. — Слава тебе, Господи.
Микеланджело продолжил путь.
— Хватайся! — крикнул сбоку какой-то мужчина и кинул ему конец веревки, но Микеланджело оттолкнул ее. Его не нужно спасать.
— Буонаррото! — снова принялся выкрикивать он. Он старался держаться у края улицы, чтобы не смыло течением. Прижимаясь к стенам зданий, упорно пробирался все ближе и ближе к тому месту, где раньше находилась строительная площадка. Он увидел, как река, шипя и извиваясь, словно змея, вползала на улицы, норовя затопить весь город. — Буонаррото!
— Там! — крикнул ему мужчина с залитой кровью щекой и указал на северную сторону реки, туда, где еще держалась часть каменной дамбы. Буонаррото стоял на ней и помогал вытаскивать из воды товарищей.
От радости, что брат жив, Микеланджело нервно рассмеялся. Поток напирал сзади, толкал в спину, но он не замечал этого. Главное, что его брат в безопасности.
— Буонаррото, — громко позвал Микеланджело и замахал рукой.
Но Буонаррото не слышал. В этот момент Микеланджело заметил, как под ногами брата задышал один из огромных валунов, из которых была сложена дамба. Он отчетливо подрагивал, но ни Буонаррото, ни другие рабочие на дамбе ничего не чувствовали, поглощенные спасением тонущих.
— Буонаррото! — Микеланджело уже отчаянно вопил, но его голос растворялся в общем грохоте. — Отходи! Отходи!
Валун со скрежетом сдвинулся, потом встал обратно. Стиснувшие сердце Микеланджело тиски разжались.
Но в следующее мгновение под бешеным напором воды остаток дамбы рухнул. Вместе с валунами в поток устремились Буонаррото и его товарищи.
— Нет! — в ужасе закричал Микеланджело.
Река, вырвавшаяся на свободу, скрежетала камнями и досками — словно взбесившееся чудовище клацало челюстями, пожирая все на своем пути. Микеланджело видел, как безжалостная пасть ухватила Буонаррото и затащила в бурлящее чрево.
Микеланджело кинулся в реку и поплыл, бешено работая руками и ногами, в сторону прорвавшейся дамбы; впереди он заметил колышущуюся в кровавом ореоле воды шевелюру Буонаррото. Микеланджело рванулся вперед, почти настиг брата, но поток затянул его тело в водоворот и отнес в сторону. Микеланджело, набрав полную грудь воздуха, нырнул глубже. Проплывающее мимо бревно ударило его по макушке. В голове зазвенело, а вокруг растеклась кровь. Ну вот, он тоже обагрил эти взбесившиеся воды.
Буонаррото быстро опускался ко дну. Глаза его были закрыты, тело обмякло. Оранжевая туника вздулась вокруг него, как наполненный ветром парус.
Ну уж нет, Микеланджело не даст ему так легко утонуть.
Он ринулся к Буонаррото, чувствуя, как горят его легкие. Он почти коснулся руки брата, но поймать ее не сумел. Вытянувшись в струнку, он напряг мышцы и наконец дотянулся пальцами до ворота оранжевой туники. Потянул за ткань, потом еще и еще, пока наконец не схватил брата за руку.
— Grazie, mio Dio.
Микеланджело рванул вверх, к поверхности, но внезапно осознал, что уже не может различить, где верх, где низ, где спасение, а где смерть. Бурлящая во всех направлениях вода была темная и мутная. Микеланджело из последних сил старался не вдохнуть, но из-за этого закашлялся. Изо рта и носа вырвались огромные пузыри.
Все пузыри двигались в одном направлении.
Они указали ему путь наверх.
Микеланджело напряг последние силы и толкнул тело Буонаррото вслед за пузырями. Наконец его голова вырвалась на воздух. Он жадно вдохнул и поднял над поверхностью воды голову брата. Вокруг царил кромешный ужас. Поток бурлил и вскипал водоворотами, сверху хлестал ливень, мимо неслись обломки дерева и камни, отовсюду слышались вопли тонущих.
Большая волна накрыла Микеланджело. Он вцепился мертвой хваткой в тело Буонаррото, их закружил водоворот. На мгновение голова Микеланджело снова оказалась на поверхности, и он жадно глотнул воздух.
— Буонаррото, — крикнул он, но глаза у того были закрыты. Микеланджело обхватил брата за плечи, напряг каждый мускул и, призвав на помощь всю свою силу, накопленную годами рубки и резки мрамора, выволок тело на берег.
Он положил Буонаррото в чавкающую грязь и склонился над ним. Брат не дышал. Кожа была бледная, губы посинели.
— Буонаррото. — Микеланджело с силой начал давить на грудь брата, надеясь восстановить ему дыхание. — Нет, пожалуйста, только не это. — Всхлипывая, Микеланджело, словно Мадонна у подножья креста, положил безжизненное тело Буонаррото себе на колени.
Леонардо
Поток вынес Леонардо на площадь Санта-Мария-Новелла. Он сидел на мокрой земле, неловко вытянув ноги, с бороды его капала илистая речная муть, а мимо группами ковыляли раненые рабочие, убираясь подальше от места катастрофы. Здесь, на площади, его и нашел Салаи.
— Господин… — прошептал он, не в силах больше вымолвить ни слова.
Наводнения и войны. Войны и наводнения. Как же они похожи. Мешанина из смерти, боли и хаоса.
— О том, чтобы изменить русло реки, я впервые задумался в четырнадцать лет. — Голос Леонардо звучал отрешенно, как будто шел из глубины пещеры.
Салаи молча смотрел на него.
— Однажды мать отвела меня в дом отца на виа делла Стуфа. Она поцеловала меня в обе щеки и наказала не забывать мыться каждый день. Зная, как я ненавижу мытье, она подмигнула мне и сказала, что плавание во многом схоже с полетом в воздухе. А потом ушла. До сих пор помню, как ее черные волосы развевались на ветру, когда она заворачивала за угол. Тем же вечером, — продолжал Леонардо, — когда я приготовился сесть за стол с отцом, мачехой и братьями, отец взял меня за руку и повел прочь из их шикарного дома и из их шикарного квартала в другую часть города, населенную мастеровыми и простым людом. Там было не в пример темнее и грязнее. Улицы кривые, узкие, немощеные. Я снова очутился на дне. — Леонардо вдавил пальцы в грязь рядом с собой. Салаи повторил его жест. — Отец постучал в выкрашенную оранжевой краской дверь. Ему открыл мужчина, толстолицый, с угрюмо нахмуренными бровями и тонкими брезгливо поджатыми губами. Они с отцом обменялись какими-то бумагами, и отец передал ему деньги. Затем, ни слова не говоря, он развернулся и ушел. Хмурый мужчина сказал, что он ювелир и его зовут Андреа дель Верроккио. — Леонардо до сего дня помнил обступившие его запахи: красок, какой-то стряпни, расплавленной бронзы, пота других учеников мастера. — Так страсть к рисованию привела меня на мою первую работу. Ночью, когда ученики и подмастерья вповалку спали на полу, я тихонько выбрался из дома и побежал к Понте-Веккио. Я стоял на краю моста и смотрел на то, как лунный свет отражался в зыбкой поверхности Арно. А потом спрыгнул.
Салаи положил ладонь на руку Леонардо.
— Я упал в реку с громким всплеском. Вода была холодная и мутная из-за грязи и водорослей. Я энергично отталкивался ногами, чтобы нырнуть глубже. Потом поплыл, стараясь скользить в воде так, будто лечу по воздуху. Мои волосы и туника развевались, словно на ветру. Я гадал, сколько времени смогу пробыть под водой, прежде чем сделаю следующий глоток воздуха. Я воображал, что сумею так плыть под водой до самого Средиземного моря. Мечтал о том, как буду всю жизнь плавать из одной реки в другую и мне не придется больше ходить по земле, среди других людей. — Леонардо никогда не желал следовать путями, проторенными кем-то другим. Пусть даже матерью-природой. — Тогда-то я в первый раз и подумал об изменении русла реки.
Теперь Леонардо сидел среди обломков той своей юношеской мечты. Он пытался скорее придумать какой-нибудь хитроумный план, чтобы одним махом исправить положение и всех спасти, но ничего путного в голову не приходило. Сама природа возвращала воды Арно в прежнее русло, и остановить это было невозможно.
— Стоп, нет ничего невозможного! — напомнил себе Леонардо. Сумел же он изменить течение. Значит, сможет сделать это еще раз. Он поднялся и снова пошел к реке.
— Стойте! Господин, остановитесь! — окликнул Салаи.
Леонардо не слушал. Напрягая силы, он пробирался, большей частью вплавь, к тому месту, где река раньше делала изгиб и откуда начинался отводной канал. Ухватился за чей-то балкон и на руках подтянулся повыше, оценивая общую картину. Требовалось время, чтобы изучить обстановку и хорошенько подумать. Бурный поток проносил мимо жалкие остатки дамб и защитных насыпей; мощное течение, играючи, словно речную гальку, кидало из стороны в сторону расщепленные доски, мешки с песком и огромные камни. Мозг Леонардо лихорадочно работал, выдергивая из запасников памяти одну идею за другой, но все тщетно — решение не приходило.
Он отцепился от балкона и всю ночь проработал бок о бок с другими горожанами. Он спас из воды множество людей. Он увидел множество смертей. В одном вытащенном на берег трупе он узнал усатого Коломбино. А ведь Коломбино предупреждал его: слишком рискованно торопиться, пока не укреплена как следует первая дамба. Теперь Коломбино лежал на берегу, бездыханный и неподвижный, а дома его ждали жена и ребятишки.
В какой-то момент Леонардо увидел рыдающего Микеланджело; тот в отчаянии надавливал раз за разом на грудь распростертого на земле молодого человека, того самого, который всего неделю назад подходил к Леонардо на берегу. Брат Микеланджело.
— Буонаррото! Буонаррото!
Ни разу еще Леонардо не слышал, чтобы кто-то так страстно и отчаянно молил Бога о помощи. И когда Буонаррото наконец закашлялся и, выплюнув речную воду, начал возвращаться к жизни, когда брат обнял брата, а их хромающий старый отец, найдя своих двух сыновей, зарыдал, Леонардо позволил себе немного расслабиться.
Здесь он также встретил старика-нотариуса. Выловив из воды тело очередного утопшего, тот повернулся к Леонардо и зло бросил:
— Это все ты и твои проклятые грандиозные затеи.
Та ночь была похожа на спектакль. Леонардо делал все, что должно, спасал людей и помогал переправлять их в безопасное место, но ему казалось, будто все это происходит не с ним, а на расстоянии, на сцене. Такое же чувство владело им на войне, когда он наблюдал за тем, как солдаты уносили с поля боя своих павших товарищей.
В конце концов ливень стал стихать, превратившись в мелкий дождик, и река вернулась в старое русло. Леонардо не представлял, сколько народу погибло в наводнении, но цифра явно была ужасающая. Участники спасательных работ понемногу расходились по домам — отдохнуть, обсушиться и обогреться, а Леонардо, снова погрузившись по шею в воду, в оцепенении взирал на картину бедствия.
Разве он мог вообразить, что все так обернется? Он только хотел дать городу преимущество перед враждебной Пизой. Желал защитить Лизу и ее семью. Но его дерзкая затея с треском провалилась, принеся людям много горя и страданий. И отныне он останется в памяти людской как опасный безумец, уничтоживший Флоренцию ради самонадеянных попыток перехитрить самого Господа Бога.
Микеланджело
Для пятидесятитысячной Флоренции восемьдесят смертей от наводнения — потеря очень чувствительная, тронувшая сердца всех горожан. Кто-то потерял семью, кто-то — друзей, а кто-то соседей. Буонаррото не досчитался товарищей по стройке, а приход церкви Санта-Кроче, который посещало семейство, лишился четырех прихожан. Один из них спал на соседнем топчане, когда семья Буонарроти во время восстановления сгоревшего дома ночевала в церкви.
По городу поползли разговоры о том, что такого никогда не случилось бы, будь у власти Медичи. Люди страдали от голода и холода, лишенные возможности жить в своих затопленных домах. Вообще-то флорентийцы привычны к наводнениям, чуть ли не каждый год Арно выходила из берегов, подтопляя округу, но с нынешним паводком толстый слой грязи и мусора покрыл даже отдаленные от реки кварталы. Отметка уровня воды поднялась против обыкновенной на высоту человеческого роста, и плесень уже начала захватывать стены затопленных домов. Погибли ковры, обстановка, одежда. Многие лишились почти всего имущества. Уйдут годы на то, чтобы восполнить понесенные горожанами утраты.
Ночью Микеланджело и Буонаррото поддерживали друг друга, когда тот или другой вскакивал после очередного кошмара. Они уселись возле потрескивающего очага на восстановленной кухне отцовского дома и по очереди пили из графина разбавленное вино.
— Расскажи, братик, еще раз все сначала, с того момента, как дождь только зарядил, — попросил Микеланджело. Прямо накануне наводнения Буонаррото заверял, что дамбы укреплены не хуже городских стен. В день прорыва рабочие дополнительно укрепили дамбу мешками с песком и камнями. Должно быть, где-то в укреплении все же имелся изъян, но где именно, никто не знал. Об этом оставалось только гадать — после потопа никто не видел Леонардо, так что спросить, в чем причина прорыва, было не у кого.
— Вода прибывала и прибывала, давила все сильнее и сильнее, но дамбы держали намертво. Ни на волос не дрогнули. А потом… — Замолчав, Буонаррото молча глядел на огонь. — Потом ее вдруг прорвало, всю разом. Быстрее, чем… — он сделал долгий глоток из графина, — чем взвивается наш отец, когда ты произносишь слово «мрамор», — закончил Буонаррото, пытаясь выдавить из себя смешок.
Микеланджело еще дважды или трижды заставлял брата пересказать всю историю с самого начала, с того момента, как тот приступил к работе на реке и до трагедии. Буонаррото послушно рассказывал, но в конце концов его веки стали слипаться, и он замолк так надолго, что Микеланджело в смущении понял: брату пора отдохнуть.
И все же какая-то мысль, пока неуловимая, засела в голове Микеланджело и скреблась там, не давая ему заснуть.
Дамба была надежно укреплена. И крепка. И непоколебима. Пока не перестала быть таковой.
Крепость и выносливость — вот к чему следовало стремиться, возводя дамбу, верно же? Микеланджело был крепок. Не всегда вынослив, конечно, — признался он себе, вспомнив о галлюцинациях и бреде, из-за которых родным пришлось перетащить его в больницу. Но это не потому, что он слаб, просто нагрузка оказалась для него непосильной. Слишком давила на него необходимость работать, демонстрировать прогресс, подтверждать звание истинного мастера. Давление нарастало и нарастало, ни на миг не ослабевая, не давая ни минуты передышки, и в конце концов сломило его.
— Я был вынослив, — рассуждал Микеланджело, — вынослив и крепок, как камень. До тех пор, пока камень не сломался от напряжения.
В это мгновение догадка вспыхнула в его мозгу, будто молния, на миг соединяющая небеса и землю. Он выскочил из постели, торопливо натянул рабочие башмаки прямо на босу ногу, накинул поверх ночной рубашки подбитую овчиной куртку, выскользнул из дома и помчался к собору.
Микеланджело ворвался во двор мастерской. В предрассветной дымке закутанный в парусину Давид по-прежнему возвышался на деревянной платформе, ровно в том самом месте, где его застали первые капли ливня. Какой-то вандал проник в соборный двор и намалевал на парусине герб Медичи. Содерини надеялся, что через неделю земля достаточно подсохнет и они смогут повторить попытку с перевозкой Давида на площадь перед Синьорией. Так они заткнут рты поднимающей голову клике приспешников Медичи.
Микеланджело ходил вокруг платформы, осматривал туго натянутые канаты, возвышающийся посреди массивный столб, к которому была привязана статуя, сбитый из толстенных досок помост. Конструкция казалась прочной и надежной. Нерушимой. И будет таковой — пока не разрушится.
То же самое можно сказать и о мраморе. Этот камень прочный и крепкий, он способен простоять века, но один неверный удар молотком или роковая колдобина на мостовой — и он вмиг рассыплется. Такова и жизнь человека. Чем больше он, Микеланджело, пытался оставаться несокрушимым, чем сильнее стискивал зубы и напрягал мышцы, сопротивляясь ударам судьбы, тем ощутимее неудачи поражали его разум и нутро. Но стоило ему прекратить сопротивление, как он уподобился волне, которая, вздымаясь и опадая, катилась по морю, подчиняясь воле ветра.
— Или взять мое тело, — продолжал размышлять Микеланджело, — когда я прыгаю с высоты. Если я упаду на напряженно вытянутые ноги, кости поломаются, а если согну ноги в коленях, они спружинят, и я приземлюсь мягко и упруго, как перышко.
Микеланджело изначально пошел неверным путем, придумывая способ перевозки статуи. Теперь он ясно видел свою ошибку и понимал, как нужно все устроить, — и своим озарением он был обязан безумной идее Леонардо и ее оглушительному провалу. Давида не стоило намертво крепить к платформе. Наоборот, следовало сделать статую неустойчивой.
Надо было придать Давиду гибкости.
Леонардо
— Поговори же со мной! — крикнул Леонардо и в следующее мгновение пришел в себя: он сидел в постели. Сердце гулко бухало в груди, льняная рубашка промокла от пота. Где он? Глаза медленно привыкали к темноте. Ах да, он у себя в постели, в своей захламленной студии.
У него снова был ночной кошмар. Он преследовал Леонардо каждую ночь с тех пор, как случилось наводнение. И всегда этот сон одинаковый: сначала он видит, как Микеланджело беснуется у подножия Дуомо, как выкрикивает, задрав голову, проклятья куполу, требуя, чтобы тот заговорил с ним. Потом он каким-то таинственным образом принимает обличье Лизы, и теперь уже Леонардо умоляет ее заговорить с ним. Но она не удостаивает его ни словом. Или просто не может. Она сама пытается высказать ему что-то. Что-то важное. «Ну скажи же, — умоляет Леонардо, — dimmi, dimmi, dimmi», — но в тот же миг Арно вырывается из берегов, и вода смывает Лизу.
Леонардо спустил ноги с кровати, коснулся ступнями холодного каменного пола. Старые костлявые колени щелкали и хрустели. Ноги пробирала дрожь. Он тщетно пытался восстановить дыхание. На него вдруг накатил страх подступающей смерти.
Макиавелли убеждал, что в наводнении не было его, Леонардо, вины. Несчастные обстоятельства — вот что вызвало катастрофу. Кто мог предположить, что Флоренцию накроет небывалой силы буря? Через некоторое время забудется, что это из-за идеи Леонардо катастрофически разлилась Арно. Да, он действительно разработал проект, но не он ведь руководил работами, не он отдавал день за днем распоряжения о том, как возводить дамбы, не он отвечал за надежность и безопасность. Леонардо вряд ли причастен к несчастью. Так втолковывал ему Макиавелли. Другого мнения придерживался гонфалоньер Содерини. Он утверждал, что несчастье следует рассматривать как часть божественного замысла, цели которого пока никому не ведомы. Да и семьи погибших не винили в своем горе Леонардо. Напротив, они останавливали Салаи на улице, чтобы передать Леонардо слова поддержки. И даже благодарили Мастера за попытку обезопасить Флоренцию и оградить республику от посягательства врагов. В их глазах Леонардо да Винчи не враг. Настоящие враги Флоренции, по общему мнению горожан, — французы, Медичи и коварные пизанцы.
Леонардо верил рассказам Салаи, но ловил себя на том, что хотел бы верить еще больше. Хотя ноги его покоились на холодном полу, вызванное кошмаром бешеное сердцебиение никак не унималось. Он увидел свое изображение в стоящем возле кровати напольном зеркале. Сильно отросшие волосы были спутаны и грязны. Борода неряшливо торчала в разные стороны. Вот уже несколько недель он не брился. И не принимал ванну. Его больше не заботило то, как он выглядел.
Все еще дрожа, он завернулся в лоскутное одеяло, встал с постели и поплелся через комнату. Сел на стул перед портретом Лизы. Отныне все часы бодрствования он посвящал только работе над ним. Со дня наводнения он ни на минуту не задумался над своей «Битвой при Ангиари» и совершенно забросил последнюю, почти готовую модель летательных крыльев. Только когда он писал Лизу, душа его обретала зыбкое спокойствие.
Леонардо не видел ее с кануна наводнения. Он взял кожаную полоску с приделанным к ней увеличительным стеклом и обмотал ее вокруг головы. Это приспособление он смастерил, чтобы вблизи рассматривать мазки на портрете, оставляя руки свободными. Он окунул тоненькую кисточку в склянку с зеленым пигментом и аккуратно добавил крохотное пятнышко к выступающей на самом дальнем плане скальной гряде.
После наводнения Леонардо придумал, чем заполнить пустой фон, — и теперь за спиной Лизы расстилался обширный пейзаж, странно отдаленный и одновременно как бы наклоненный к зрителю. Лиза изображена непосредственно перед зрителем и сильно приближена к нему, а окутанный дымкой ландшафт на заднем плане видится сверху, будто с высоты птичьего полета. Две разные точки зрения непременно заставят зрителя почувствовать себя сбитым с толку — именно так, как чувствует себя он сам, глядя на Лизу. Они оба — и она сама, и пейзаж за ее спиной — одинаково зыбки и неуловимы, непокорны и непостижимы. Поэтому он соединил ее образ с природой, вплел растительность в россыпи ее кудрявых волос; придал плавность склонам холмов, чтобы они перекликались с округлостями ее фигуры; причудливо закрутил реку, словно повторяя изгибы шарфа на ее плече. Этот пейзаж не существовал в действительности, он являлся плодом его воспоминаний и фантазий — мирной территорией, которая никогда не сгорит и не будет затоплена, ибо существует лишь в его воображении. Ландшафт был похож на саму Лизу: такой же прекрасный, такой же чарующий, такой же таинственный.
Он уже в точности передал черты ее лица: форму глаз, нежную округлость щеки, шелковистый изгиб тронутых намеком на улыбку губ. Если бы речь шла о ком-то другом, Леонардо остался бы удовлетворен столь реалистичным изображением. Но в портрете Лизы он желал пойти дальше. Ему недостаточно было просто передать ее физические черты, блеск глаз и даже внутреннюю энергию жеста или движения, которые, казалось, вот-вот последуют. Нет, он желал глубже проникнуть в ее суть, узнать ее так, как он знал самого себя, и во всей целостности показать ее натуру миру. Он жаждал открыть всем ее душу.
Но Лиза оставалась непостижимой, все время ускользала от него, особенно когда рядом маячил ее муженек. А как он мог запечатлеть ее душу красками, если сам еще не почувствовал ее?
— Господин? — Голос Салаи звучал еле слышно — так шелестел листок под дуновением бриза. Видимо, он уже некоторое время стоял рядом, терпеливо дожидаясь, когда мастеру угодно будет сделать перерыв. — Вам пришло письмо. — Без дальнейших объяснений Салаи бросил на колени Леонардо небольшой конверт и тихо выскользнул из помещения.
Письмо? От кого бы это? И который теперь час? Леонардо выглянул в окно. Солнце уже поднялось, видно, наступило утро. Значит, он провел перед портретом несколько часов.
Леонардо опустил кисть. Взял письмо и увидел свое имя, выведенное на конверте. Он мгновенно узнал почерк. Этот проклятый нотариус снова вторгался в его жизнь. Не иначе, прислал повестку в суд, где ему предъявят обвинения в причинении ущерба и гибели людей в результате наводнения. Леонардо разжал пальцы, и нераспечатанное письмо упало на пол. А он вернулся к работе. Подхватив кистью чуточку черной краски, наклонился близко-близко к картине и, глядя через увеличительное стекло, добавил тень под одной из арочных опор крохотного моста. В детстве Леонардо однажды проходил по точно такому же мосту. Это было ясным солнечным днем в сельской глуши Тосканы. Воздух полнился ароматами жимолости и базилика. Он бежал через мост и смеялся. Он был со своим отцом.
Леонардо замотал головой, чтобы выгнать из памяти непрошеное воспоминание. «В действительности моста не существует, — твердил он себе, — это просто моя выдумка. Он мне привиделся, только и всего. А может быть, ну вдруг, и наводнение со всеми его ужасами — тоже лишь плод моего воображения?»
Восемьдесят человек погибли. Он отдернул дрожащую руку от портрета. Не нужно портить его.
Леонардо нагнулся и поднял с пола письмо нотариуса. Встал и тяжело прошел через студию, волоча за собой одеяло. Сел за стол. Сложил письмо пополам, потом еще и еще и отложил на край стола так и не читанным. Достал чистый лист, утиное перо и пузырек с чернилами.
«Madonna Lisa del Giocondo, — начал Леонардо. Он не представлял, каким будет ее ответ, но этого и не узнаешь, пока не спросишь. Он закончил свое короткое послание и подписался: — Distinti saluti, Leonardo da Vinci». Вручил конверт Салаи со строгим наказом передать его Лизе так, чтобы о существовании его не прознал никто, кроме нее самой.
Микеланджело
Май 1504 года. Флоренция
— Ну что, можно отпускать? — крикнул Джулиано да Сангалло.
Сорок рабочих при помощи системы канатов и подъемного блока устанавливали все еще закутанную парусиной статую на новую повозку: простой, выровненный дощатый помост, уложенный на катки из четырнадцати промасленных бревен одинаковой толщины. На помосте надежно закреплена прочная и крепкая деревянная конструкция наподобие клети, в которой будет подвешена статуя. Давид поедет к месту назначения в вертикальном положении, как предполагается, слегка покачиваясь на канатах, образующих подобие гамака.
Микеланджело в последний раз проверил деревянную конструкцию и канаты. Затем крикнул:
— Порядок! Давайте.
Рабочие отпустили статую. Давид повис в своем гамаке. Деревянная конструкция застонала и просела под неимоверной тяжестью изваяния. Послышался скрип. Дерево крякнуло, затрещало. Микеланджело хотел закрыть глаза — он не вынесет, если конструкция поломается и его мрамор разобьется о землю. Но он не нашел в себе сил ни отвернуться, ни даже моргнуть.
Наступила тишина. Конструкция держалась.
Давид в гамаке тихонько покачивался.
— Сработало! — воскликнул Граначчи, и удивление слышалось в его голосе. Сангалло рассмеялся.
Микеланджело удалось выдохнуть. «Ну вот, теперь ты готов идти на битву», — мысленно сказал он Давиду.
Рабочие на радостях обменивались рукопожатиями и хлопали друг друга по спине. Микеланджело выкрикнул: «Andiamo», и из сорока глоток вырвался торжествующий клич. Теперь можно было двигаться.
Основная масса рабочих толкала платформу с Давидом вперед по скользким бревнам, а двое забегали назад, поднимали освободившееся бревно и перетаскивали его под передок конструкции. Все опять налегали на платформу, та продвигалась, и двое мужчин снова переносили бревно вперед. Такими темпами путь, который можно преодолеть за десять минут неспешной прогулки, займет бог весть какое количество человеко-дней. Но Давид полз вперед, и Микеланджело убеждался, что его задумка работала. Пока они преодолевали бугристый двор мастерской, Давид плавно покачивался на канатах, неуязвимый для толчков и тряски.
Изгородь вокруг мастерской облепили толпы любопытных, все хотели поглазеть, как передвигают гигантское изваяние к месту назначения. Лавочники, служанки, крестьяне, матери с детьми без умолку болтали, делясь впечатлениями и даже на радостях распевая песни. В первый раз после наводнения Микеланджело видел своих сограждан такими счастливыми.
Давид уже был готов преодолеть на своих катках ворота соборного двора и выехать на улицу. И вдруг всеобщей эйфории пришел конец.
— Traditore! — раздался голос из задних рядов, и через изгородь, вращаясь в воздухе, полетела брошенная сильной рукой бутылка. Она упала у ног Давида и разлетелась вдребезги. Толпа начала кричать и причитать, а сзади послышалось:
— Viva i Medici!
Шепот ужаса пробежал по толпе. «Medici, Medici, Medici», — передавалось из уст в уста.
Когда-то в юности Микеланджело считался любимчиком властительного семейства Медичи, а теперь их сторонники ополчились на него и его творение. Мир перевернулся с ног на голову. Микеланджело вскарабкался на платформу и с высоты стал вглядываться в лица, отыскивая вандала.
— Эй, кто там хочет драки? — крикнул он. — Выходи и схватись со мной!
Никто не вышел. Граначчи и Сангалло принялись собирать осколки. Над толпой повисла мрачная тяжелая тишина.
— Не лучше ли на денек отложить перевозку? — спросил Сангалло, дрожа от страха. Несколько рабочих позади него закивали в знак согласия.
— Это еще почему? — поинтересовался Микеланджело. Давид даже не покинул двора мастерской, а они уже готовы все прекратить? — Перевозка только началась. Зачем нам останавливаться?
— Микеле, мы и так сегодня много сделали. Безопасно подвесили статую. Платформа двигается вперед, и дело у нас явно идет на лад, вот только… — Граначчи забрался на помост и обнял Микеланджело за шею. Точно так же он поступал и в юности, когда они сталкивались с невзгодами. — На Давида напали. Давай-ка прервемся. Хотя бы до завтра.
— Из-за того что один трусливый вандал швырнул в него одну пустую бутылку? — От ярости и волнения кровь гулко стучала в висках у Микеланджело.
— Figlio mio, — мягко обратился к Микеланджело Содерини. — Они, возможно, правы. Пока Давид находится во дворе Собора, вряд ли кто-то решится напасть на него и навлечь на свою голову гнев Господень. Но стоит ему покинуть мастерскую, покинуть священную землю Собора и оказаться на улице…
— Эта вот бутылка, — Микеланджело взял из рук Граначчи осколок, — подтверждает, что и здесь Давиду небезопасно.
— По крайней мере, пока он здесь, мы можем запереть ворота на ночь, — рассудительно заметил Джузеппе Вителли.
Арочный свод ворот заранее сняли, иначе Давид не прошел бы в проем по высоте, но створки оставили, чтобы ночью воришки не растаскивали сваленный на дворе рабочий инструмент.
Содерини и Граначчи согласно закивали.
— Ну, предположим. Предположим, здесь он проведет в безопасности ночь. А что дальше? — Микеланджело не мог поверить в то, что они и правда готовы от всего отказаться и разойтись. — Что насчет завтра? И послезавтра? А когда Давид уже займет свой пьедестал у входа в городской совет — что будет? Думаете, Бог отвернется от него только потому, что он покинет освященную землю Собора? Считаете, наши сограждане-флорентийцы не сумеют защитить его? — Слова Микеланджело передавались от передних рядов к задним, как евангельская весть во время пасхальных торжеств. Как проповедь. Он надеялся, что его речь достигнет и ушей притаившихся в толпе вандалов. — Если Флоренция не может защитить его там, — Микеланджело указал рукой на улицу, — значит, Флоренция вообще не сможет защитить его, нигде. И значит, Давид обречен на гибель. А если он обречен, то лучше уж я сам его разобью. — Микеланджело выхватил из сумы тяжелый молоток. — Пусть погибнет от моей руки, чем от чьей-то чужой!
— Возьми себя в руки, мальчик, — сказал Джузеппе Вителли.
— Все, Микеле. Остановись. — Граначчи знал, что его друг всего лишь брал их на испуг.
— Путешествие Давида началось сегодня, сегодня же и продолжится. — Микеланджело отшвырнул молоток в грязь. — Пусть принимает бой. Пусть покажет, на что способен. Мы едем. Едем прямо сейчас. Andiamo.
Они передвигали статую еще четыре часа, выкатили ее из двора мастерской и маневрировали, готовясь завернуть за первый на их пути угол. Солнце уже садилось, и Микеланджело объявил, что на сегодня работы окончены. Как бы ему ни хотелось двигаться без остановки до самого конца их дороги, он понимал, что это глупо. Все устали, а уставший человек делает ошибки. И даже совсем маленькая ошибка могла стоить Давиду его мраморной жизни.
Рабочие разошлись по домам, но Микеланджело не мог заставить себя уйти.
— Andiamo, mi amico, — позвал его Граначчи, устало улыбаясь.
— А вдруг Содерини прав? Вдруг Давиду здесь угрожает опасность? — Внезапно Микеланджело показалось, что в густых тенях по краям улицы затаилось больше опасностей, чем в самом неблагополучном квартале Рима, куда ночью не рисковали соваться даже проститутки и карманники. — Я остаюсь, — решительно ответил он другу. — Сейчас весна, значит, ночь будет теплой, похоже, и дождика не ожидается.
— Да брось. Все с твоим Давидом будет в порядке. А тебе нужен хороший отдых.
— Я так беспокоюсь за него, что все равно не засну.
Граначчи положил руки на плечи Микеланджело.
— Послушай. Ты и твое хорошее самочувствие — главный залог успеха нашего предприятия. Ступай домой. Поешь. Поспи хоть немного.
— Я не могу оставить его одного.
Граначчи вздохнул.
— D’accordo, я остаюсь здесь.
— Что?
— Тебе нужно отдохнуть. А я посторожу его.
— Но ты тоже валишься с ног от усталости.
— А ты куда более важен для дела, caro amico. — Граначчи забрался на платформу и устроился у ног покоящегося в своем гамаке Давида. Микеланджело хотел было возразить, но Граначчи на корню пресек спор: — Даже не начинай. — Он снял с себя плащ и свернул его валиком, соорудив себе подушку. — Помнишь, как однажды, когда мы были еще мальчишками, я стащил твои рисунки, показал мастеру Гирландайо и заставил его взять тебя в ученики? Я все это проделал тогда, потому что верил в тебя. Сейчас для тебя настал момент подтвердить, что я тогда был прав. Ступай домой. Выспись. Не ради себя, так хотя бы ради Давида.
Микеланджело ужасно боялся оставлять Давида. Но верный Граначчи будет рядом, чтобы защитить его.
— Не спускай с него глаз.
— Буду беречь как зеницу ока.
Леонардо
Дверь за ней неслышно закрылась. Она подняла голову, откинула капюшон темно-синей накидки. Он стоял в центре флорентийского баптистерия, расположенного рядом с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, — изящного восьмиугольного здания без перегородок и колонн. Леонардо и Лиза были одни в этом огромном пустом пространстве.
Леонардо не представлял, как она отреагирует на его письмо с просьбой о встрече наедине в баптистерии. Он невероятно обрадовался, когда она ответила согласием, а потом занервничал, получив утром ее записку о том, что она сможет прийти сегодня вечером. Ее супруг, писала Лиза, пойдет поглядеть, как перевозят гигантского Давида Микеланджело, а потом отправится на пирушку с другими торговцами. Макиавелли снабдил Леонардо ключом от баптистерия, и, когда святые отцы заперли помещение на ночь, маэстро воспользовался ключом и тихонько проскользнул внутрь. В ожидании Лизы он зажег несколько свечей — в добавление к лунному свету, льющемуся через окулюс.
Теперь, оказавшись наконец лицом к лицу с ней, Леонардо хотел было поблагодарить ее за согласие встретиться, но она опередила его.
— Я пришла лишь затем, чтобы выразить вам мои самые сердечные сожаления из-за… — она скорбно опустила глаза, — той катастрофы. Я знаю, что вы взялись за это дело в определенной мере из-за меня, из уважения ко мне. И значит, в несчастье есть частица и моей вины. Я все время молюсь и до конца своих дней буду читать «Аве, Мария» за упокой душ несчастных жертв. — Лиза сделала чопорный реверанс и повернулась, чтобы уйти.
— Вы не должны винить себя. Я взялся за эту работу из гордыни.
Лиза остановилась, ее рука замерла над дверной ручкой.
— Это я прогневил Господа, я возомнил, что способен совершить то, что выше моих скромных сил. Прошу вас. Не уходите. — Леонардо перешел почти на шепот, будто опасаясь, что и здесь, в пустом баптистерии, их кто-то может подслушать. — Все это вы могли бы сказать мне и у вас дома.
— Я велела моим служанкам больше не оставлять нас с вами наедине, если вам вдруг снова захочется делать с меня эскизы. Я думала, у меня больше не будет шанса… А потом получила ваше письмо… Нет, мне не следовало приходить. — Лиза решительно открыла дверь.
— Я смешон, да? — Голос Леонардо отозвался эхом в круглом пустом помещении, отразившись от мраморных стен. — Со стороны я выгляжу смешным и нелепым?
Лиза слегка повернула голову в его сторону.
— Пожалуйста. Скажите. Мне больше некого спросить. Никто кроме вас не ответит мне честно, как есть.
Она помедлила всего мгновение, потом спросила:
— А как же ваша матушка? Такие вопросы вам следовало бы задавать ей.
— Умерла.
Лиза снова закрыла дверь. Обернувшись, посмотрела на Леонардо. Печаль омрачила ее черты.
— Но даже если бы она была жива, — заторопился Леонардо, — она никогда не сказала бы мне правды. Тогда, в годы моего детства, она была замужем за отвратительным пьяницей. Нет, не за моим отцом. И мать врала ему все время ради нашей с ней безопасности. В четырнадцать лет меня отослали из дома, отдав в ученики к ювелиру. В те годы мы с ней вообще редко разговаривали, неважно, было это искренне или нет. — Леонардо поднял голову, вгляделся в купольный потолок, выложенный великолепной золотой мозаикой. — Последние два года жизни мать провела со мной, при миланском дворе, но и в ту пору не говорила мне правду. Она держалась со мной чрезмерно почтительно, потому что нуждалась в моей поддержке. В моих деньгах. В моей славе. — Он перевел взгляд на Лизу: — Поверьте, никто не скажет мне. Так, может, хотя бы вы? Признайтесь, в глазах окружающих я выгляжу невозможно смешным и нелепым?
Она вскинула голову и оценивающе посмотрела на него.
Под ее пристальным взглядом он вдруг сам себя застеснялся. Ему показалось, что его пышные вьющиеся волосы похожи на парик, и он захотел убрать с головы это неуместное украшение. Он подумал вдруг, что слишком кричаще вырядился для тайной встречи, и теперь стыдился щегольских кожаных туфель на высоких подошвах, чулок, выставляющих напоказ тощие костлявые ноги, короткой туники густо-малинового цвета. Он смущенно переминался с ноги на ногу.
— Нет. Для меня — нет, — наконец уронила Лиза.
Леонардо начал нервно теребить бороду. «Возможно, я заставил вас чувствовать себя некой диковинкой, которую… — в ушах Леонардо зазвучал злой голос Микеланджело, — которую я изучаю через увеличительные стекла, лупы и прочие окуляры, как ученый, столкнувшийся с неизвестным науке созданием?»
И снова Лиза, прежде чем ответить, помедлила, словно обдумывала ответ.
— Не в точности так, хотя на первых порах у меня возникало ощущение, будто вы видите во мне древнеримский артефакт: нечто редкое, прекрасное, что следует поскорее откопать и тщательно изучить.
Леонардо вспомнил, как сидел в кабинете Изабеллы д’Эсте среди разношерстного собрания золотых безделушек и ощущал себя одним из экспонатов ее коллекции. Как ему претило это мерзкое чувство!
— На первых порах? Но не потом же, правда? — Он шагнул к Лизе. — Не когда вы лучше узнали меня?
Ее руки запорхали перед грудью.
— Я жена, я мать, и я дорожу этими своими званиями. Мне пора. Мой кучер думает, что я пришла сюда помолиться за свою маленькую дочурку. — Она осенила себя крестом и тихой скороговоркой произнесла слова молитвы. — Он, верно, уже удивляется, что задержало меня здесь так надолго.
— Должно быть, я чем-то обидел вас. — Он хотел подойти к ней, взять за руку, но не решался. — Молю вас, скажите. Я теряюсь в догадках. Честно.
Она сделала глубокий вдох. Звук ее голоса поплыл к куполу, как молитва.
— Вы говорили мне, что можете писать картины, только сохраняя научную объективность. Что вам нужно отстраниться от изображаемого объекта.
Он невольно нахмурился. Похоже, он действительно всем рассказал об этом.
— Но тогда вы уже всячески заигрывали со мной. Вели фривольные разговоры, касались меня, флиртовали. Вначале я не обращала внимания, считая это причудой художника, а потом, когда вы сказали это… я подумала, что вы и не собирались писать мой портрет. Ведь вы оказались чересчур близко ко мне. На самом деле вы просто пытались соблазнить меня, втянуть в богопротивный грех.
Леонардо открыл рот, чтобы возразить, но не нашел слов.
Она решительно набросила на голову капюшон, скрывший ее глаза в густой тени.
— Мой муж — он и правда смешон. Но я жена, я мать, и я дорожу этими своими званиями.
— Синьора Джокондо, простите. Я заблуждался. — «Относительно стольких вещей, что и представить страшно», — добавил он про себя. — Хотел бы я, чтобы человеческую натуру можно было понять так же легко, как пересчитать деревья в лесу или проследить за парящей в небесах птицей. Если бы люди были так же ясны и предсказуемы, как ясна и предсказуема наука. Будь оно так, я, безусловно, изучал бы их с расстояния.
Лиза бросила на него пытливый взгляд из-под капюшона.
— Известно ли вам, сколько картин я оставил неоконченными, понимая, что им не дотянуть до тех ожиданий, которые я на них возлагал? Будь я способен довольствоваться несовершенством, у меня было бы в разы больше завершенных работ и довольных заказчиков. Возможно, и сам я был бы больше доволен собой.
— Так вы позвали меня сюда не для того, чтобы…
— Боже мой, конечно, нет. Этого в моей жизни и так хватало. Я надеялся на то, что вы поможете мне начать все сначала. Вы обмолвились о том, что крестили здесь дочь?
Она молча кивнула.
— Бедняжка прожила недолго. А вот трое моих сыновей — те да.
Лицо Лизы озарила мягкая понимающая улыбка, свойственная всем любящим матерям.
— Когда мне было двадцать четыре года, отец мой наконец-то обзавелся законным наследником; для этого потребовались два брака и бесчисленное количество попыток. Мальчика крестили здесь. — Леонардо провел пальцами по гладкому мрамору крестильной купели, помещающейся в центре баптистерия. — Я тайком проник сюда уже после начала таинства и, никем не замеченный, наблюдал за крестинами издали, из толпы. Когда родился я, — тон Леонардо изменился, теперь он говорил неспешно и безмятежно, как будто рассказывал сказку со счастливым концом, — мой дед сделал запись о моем рождении у себя в дневнике и пригласил на мои крестины десятерых человек, чтобы я ни в чем не знал нужды. Благополучное начало, не правда ли?
Он послал Лизе улыбку, она ответила тем же, подошла к купели и встала рядом с ним.
— Я жил странной жизнью, наполовину признанный своими дедом и дядькой, наполовину отвергнутый своим отцом за то, что был рожден от домашней рабыни. Меня любила мать и откровенно ненавидел ее муж. Я только на одну половину был человеком, а на вторую — бастардом. Увидев меня, отец всякий раз страдальчески кривился. А после, спустя годы, у меня началась новая жизнь, и началась она здесь, в этом самом месте. Ибо когда отец окрестил своего законного сына, меня перестали воспринимать как половину от чего бы то ни было… Известно ли вам, почему это здание имеет форму восьмиугольника?
Лиза уверенно вздернула подбородок, капюшон упал ей на плечи.
— После шестидневных трудов и седьмого дня отдыха Господь выделил символический восьмой день, предназначив его для новых начинаний. Многие баптистерии построены в такой форме, не только наш.
Как всегда, Лиза знала больше, чем можно было предположить.
— Веками, — подхватил Леонардо, — флорентийцы приходят сюда в поисках новых начинаний. Вот и я тоже.
— Вы сказали, что вас отдали в ученики к мастеру в четырнадцать лет?
Он кивнул.
— Выходит, обоих нас в одинаковом возрасте определили к делу. В четырнадцать меня обручили. Франческо было тогда 34 года, к тому времени он уже дважды овдовел и имел на попечении маленького сына. Он обожает шелка, бархатную парчу и пуговицы. Никогда не видела, чтобы человек испытывал страсть к такой безделице, как пуговицы. — Лиза распахнула накидку и продемонстрировала Леонардо ряд вычурно украшенных серебряных пуговок на платье. — Я происхожу из старинного аристократического рода, а у Франческо много денег. Это ли не составляющие счастливого брака? — Она снова накинула капюшон, и глаза ее опять спрятались в тени. — Думаете, мне не хочется обновления? Я могла бы отправиться в Неаполь, или в Милан, или в Париж. Я мечтаю увидеть мир и показать миру себя, но мы оба знаем, что эти мечты несбыточны. Мы должны жить каждый своей жизнью. И никакой потоп, каким бы многоводным он ни был, не в силах изменить ход вещей.
С улицы послышались крики и хохот каких-то юнцов. Они явно замышляли что-то плохое. Никто не делает ничего хорошего по ночам.
— Теперь мне правда пора идти, — тихо сказала Лиза.
— Прежде чем уйдете, не хотите ли взглянуть на мою мать?
Она мягко улыбнулась, ее глаза под капюшоном тоже засияли.
— Очень хочу.
Он достал альбом и пролистал его до старых набросков и зарисовок. Вот Мария, темноволосая десятилетняя девчушка, предмет его первой влюбленности; вот Карлотта, пышнотелая и сластолюбивая служанка Верроккио, приобщившая его к плотским радостям, когда ему было всего четырнадцать. Дальше — рисунок семнадцатилетнего Джакопо Сальтарелли, ради которого Леонардо не побоялся подвергнуться аресту и изгнанию. Он быстро пролистал зарисовки Джиневры де Бенчи с ее сонным взглядом, как и наброски двух метресс герцога Моро, Чечилии Галлерани и Лукреции Кривелли. Каждую из них Леонардо успел подержать в своих объятиях, прежде чем запечатлеть на бумаге. Следом появился светловолосый Хуан, придворный поэт Сфорца; за ним — хорошенький юноша-француз Эдуард, который почти не говорил по-итальянски, но пленил Леонардо своими прекрасными глазами; дальше — несколько зарисовок маркизы Мантуанской, Изабеллы д’Эсте. Среди этого повсюду были разбросаны дюжины рисунков Салаи.
Наконец Леонардо нашел, что искал. Едва намеченный образ красавицы с миндалевидными глазами, длинноватым носом и пухлыми поджатыми губами. Волосы стянуты в узел на затылке, весь ее облик проникнут печалью о несбыточном. Леонардо передал рисунок Лизе. Он еще никогда никому его не показывал.
— Мать звали Катериной. Ее вывезли из Константинополя как рабыню для ведения домашнего хозяйства, и ей тогда тоже было четырнадцать лет.
Лиза склонилась над рисунком, чтобы получше разглядеть его. Легко прикоснулась пальцами к бумаге, погладила проступающее с нее лицо.
— У меня нет ни жены, ни детей, — задумчиво сказал Леонардо. — Нет отца. Нет матери. Есть сводные братья, но они не признают меня. Есть сводные сестры, которые не знают меня. Мои картины — это все, что у меня есть. Да и те никогда не бывают оконченными. Почти все они заброшены. — Лиза вернула ему рисунок. Леонардо положил его на место и закрыл альбом. — Чем старше я становлюсь, тем сильнее осознаю, насколько я еще молод. В глазах же других я такой, каким выгляжу снаружи, — пожилой мудрец, несравненный и непостижимый гений, почти божество.
— А я не вижу в вас ничего божественного. Божеству не пришлось бы придумывать крылья, чтобы взлететь в небо. — Лиза повернулась и направилась к двери.
— Вы должны рассказать мне. Скажите, откуда вы узнали об этом?
Она пожала плечами.
— Наша семья посещает церковь Сантиссима-Аннунциата. И, разумеется, как-то вечером мы зашли к вам в студию посмотреть ваш эскиз алтарной росписи.
Леонардо перебрал в памяти виденные тогда лица — в надежде, что ее облик отложился где-то в дальнем уголке, но так и не смог вспомнить.
— У вас в студии на всех стенах развешены рисунки крыльев, нетопырей, птиц, — пояснила она. — Их каждый мог видеть.
— Но никто не обращает на них никакого внимания.
— Я обратила. — Лиза склонила голову. — Я жена, я мать, и я дорожу этими своими званиями. — На сей раз Леонардо воспринял ее слова в их истинном смысле — как молитву и как ее зарок самой себе и Богу. Она открыла дверь.
— Встретимся ли мы еще? — прошептал он ей вслед и внезапно испугался, что его слова вылетят за пределы баптистерия, обнаруживая их тайную встречу.
Лишь мгновение она помедлила, прежде чем кивнуть. Он поймал тень мелькнувшей из-под капюшона улыбки. Ее темно-синий плащ вспыхнул в лунном свете, и Лиза исчезла за дверью.
Микеланджело
Граначчи маячил в темном дверном проеме дома Буонарроти.
— Там с Давидом! — Голос его дрожал. — На Давида напали!
Микеланджело быстро оделся, попутно стараясь успокоить бедного Лодовико, вообразившего, будто это городские власти явились среди ночи с известием, что обнаружено мертвое тело Джовансимоне. Кое-как утихомирив старика-отца, Микеланджело сломя голову помчался вслед за Граначчи по темным улицам. Тот на бегу рассказывал, что случилось. Он заснул и проснулся от того, что на деревянный помост под Давидом посыпались камни. Он позвал на помощь, и Джузеппе Вителли выбежал к нему с масляным фонарем — его окна как раз выходят на ту улицу, где стоит платформа. Раскатистый рык Джузеппе и ответный обстрел камнями прогнали вандалов прочь.
— Он пострадал? — спросил Микеланджело. Вспрыгнув на помост, он принялся осматривать гамак из канатов.
— Нет, в него не попали. Но они могут вернуться, — сказал Джузеппе, махнув фонарем в сторону темной улицы.
— Боюсь, мы не сможем оценить ущерб, если он есть, пока не снимем парусину по окончании перевозки, — заметил Пьеро Содерини.
— А вы как здесь оказались? — спросил гонфалоньера Микеланджело.
— Джузеппе послал помощника предупредить стражу о том, что статую атаковали. Услышав эту ужасную новость, я вскочил с постели и поспешил сюда. Ты должен чувствовать, сын мой, что весь город всецело поддерживает тебя и настроен против этих вандалов.
— Поверить не могу, что ты заснул, — рыкнул Микеланджело на Граначчи. — Ты не должен был смыкать глаз, раз вызвался сторожить Давида. — Он просунул руки под канаты и попытался ощупать статую через толстый слой парусины, выискивая возможные сколы. По очереди он прошелся по мраморным рукам, плечам, ногам. Пальцы не обнаружили никаких повреждений, но Содерини прав: убедиться в том, что Давид в порядке, можно, только сняв ткань. — Кто они, эти вандалы?
— Прихвостни Медичи, больше некому, — угрюмо ответил гонфалоньер. — Я же говорил тебе: они не хотят, чтобы Давид добрался до площади.
Микеланджело поднял камень, лежавший у ног Давида. Тяжелый, с острыми краями. Попади он в статую, действительно мог бы отбить кусок.
— Никому не позволю уничтожить тебя, — прошептал он изваянию и громко объявил: — Я остаюсь здесь. Любому, кто решит вернуться сюда, придется иметь дело со мной. А я, — Микеланджело говорил так, чтобы его слышали все, и расхаживал возле статуи, как сторожевой пес, охраняющий хозяйский дом, — уж будьте уверены, не засну.
Граначчи снял плащ, положил на помост.
— Держи, вдруг замерзнешь. — И, понурив голову, побрел прочь.
Джузеппе Вителли оставил Микеланджело свечу, огниво и графинчик с вином.
— Если вернутся — кричи, — сказал он и пошел домой.
Содерини все еще стоял возле помоста, словно решил тут заночевать.
— Идите и вы, — скомандовал Микеланджело.
— Buona fortuna, figlio mio, — кивнул Содерини и тихо зашаркал по мостовой.
Микеланджело несколько минут молча ходил по помосту взад-вперед. Потом во весь голос закричал в темноту:
— Эй, вы! Только через мой труп вы сможете причинить ему вред. — Эхо его голоса побежало вдоль улиц, отражаясь от стен домов. Он надеялся, что его угроза разнесется по всей округе. — Слышите? Сначала попробуйте убить меня!
Эхо затихло. Тишина окутала город. Луна отбрасывала серебристо-голубоватый свет на крыши домов и булыжники мостовой. Микеланджело, прищурившись, всматривался в ближайшую улицу, потом в другую, в третью. Никого. Лишь густые тени в углах и темные провалы между домами. Он сел у ног Давида.
— Ну вот, снова мы вместе, ты и я, — сказал он, хотя и понимал, что это их одиночество — ненадолго. Врагов Давида не запугаешь светом фонаря и парой громких окриков. Они обязательно вернутся и увидят, что Микеланджело поджидает их…
Он подскочил и протер глаза. Помотал головой, стараясь разогнать туман. Где это он? И что его разбудило? Рядом с ним упал камень. Глаза уже достаточно привыкли к темноте. Ах да, он сторожит Давида. И, должно быть, заснул.
— Accidenti! — выругался он. Еще один посланный неизвестным камень ударил Микеланджело в плечо. В конце одной из улиц послышался хохот, такой же донесся с другой стороны. Где они притаились, эти негодяи? Опять стук. На сей раз камень попал в деревянную клеть возле головы Давида. Значит, все это не сон. Враги Давида снова решились напасть на него.
Микеланджело, пошатываясь, стоял на помосте.
— Che cavolo! — изо всех сил крикнул он. Сердце его стучало так неистово, как барабаны во время казни. — Выходите, покажитесь мне, voi vigliacchi!
В него полетел очередной камень. Гулкий смех несся уже со всех сторон. Микеланджело встал перед Давидом, пытаясь отразить град ударов, — парусина не могла защитить от них мрамор, — но камни летели со всех сторон. Один попал Микеланджело в бедро. Другой — в плечо. Он вовремя пригнулся, чтобы третий не задел лицо.
Следующий удар пришелся по руке Давида. Микеланджело почудился треск. Мускулы его напряглись от ярости. Враги решили сокрушить его колосса камнями? Ну уж нет. Камни не погубят Давида, ибо это — его оружие против врагов.
Взбешенный Микеланджело начал хватать падающие на помост «снаряды» один за другим и швырять обратно в темноту. Он не видел своих противников, но продолжал изо всех сил осыпать их в ответ. Накопленные месяцами и годами разочарования, терзания, ярость и боль — все это извергалось сейчас из его души. Долгие часы, когда он рубил, ваял, резал и полировал мрамор, когда рисовал, когда терпел проклятья и колотушки отца, предательства Джовансимоне, ухмыляющуюся физиономию Леонардо…
— Пошли вон! — кричал он, не помня себя от гнева. — Прочь, прочь, прочь, отродья сатаны!
С каждым словом он метал очередной камень в черноту улиц, и каждый бросок был сильнее предыдущего. Они с Давидом слишком много выстрадали ради того, чтобы отвоевать себе право на жизнь, и черта с два теперь позволят приспешникам Медичи разрушить все это.
— Прочь, прочь, прочь!
Микеланджело как заведенный швырял камни в невидимых противников, пока те не прекратили атаку и не разбежались.
Улицы снова погрузились в тишину.
С трудом переводя дух, Микеланджело собрал оставшиеся камни и сложил их грудой под гамаком Давида. Если враг вернется, ему будет чем отразить нападение. Пусть у него не было возможности обследовать раны Давида и понять, вышел ли он живым из этой схватки, но сейчас он победил.
Леонардо
Вернувшись в студию, он не нашел там Салаи. Наверное, постреленок отправился прогуляться и покутить. Леонардо сел перед портретом Лизы, вгляделся в ее черты, в выражение лица, но не ощутил ее присутствия. За следующие два часа он нанес лишь три крохотных штриха на темный шелк ее одеяния.
Наконец вернулся Салаи — в облепленных свежей грязью башмаках.
— Не представляете, мастер, что я сделал. — Глаза его горели возбуждением. Лицо раскраснелось, сорочка на груди пропиталась потом.
— Вид у тебя такой, будто ты шатался по притонам, — заметил Леонардо и опустил кисть.
Леонардо не только позволял Салаи предаваться страсти со сверстниками, но и поощрял его в этом. Он не ожидал, что такой молодой, полный сил и желаний мужчина станет заботиться лишь о потребностях своего престарелого господина и учителя. Леонардо не хотел вынуждать Салаи лгать, как лгала ему, Леонардо, его мать из боязни лишиться крова над головой.
— Надеюсь, тебе известно, Джакомо, что я все равно буду содержать тебя, даже если ты вздумаешь утолять свои страсти где-нибудь в других местах.
Молодой человек рассмеялся.
— Господин… — Он снял плащ, бросил его на пол. — Это не то, о чем вы думаете. Сегодня я исполнил вашу мечту.
Леонардо смотрел на приближающегося Салаи; рубашка у того сползла с одного плеча.
— И что же это за мечта такая, мой непоседливый возлюбленный?
— Я уничтожил статую, прежде чем публике пришлось бы терпеть ее присутствие на площади.
Улыбка слетела с лица Леонардо.
— Что?
— Я убийца гиганта! — заявил с кривой усмешкой Салаи.
Леонардо поднялся.
— Что ты учудил?
— Я позвал своих друзей на подмогу. Сегодня днем какой-то приспешник Медичи бросил в статую пустую бутылку. Так что теперь обвинять будут их, сторонников Медичи. На меня никто даже не подумает.
— Но что, что ты натворил? — требовательно спрашивал Леонардо, повышая голос.
— Мы забросали ее камнями. — Глаза у Салаи блестели от возбуждения. — В первый раз нас быстро разогнали, но мы выждали, вернулись и тогда уже поддали жару. Мы швырнули в этот проклятый мрамор сотни камней, господин. Они лились на него потоками… — Салаи прикусил язык, виновато пробормотал: — Mi dispiace, господин, о потоках я упомянул случайно. — Он упал на колени. — Но камни и правда сыпались на него градом. Давид точно погиб, не сомневайтесь. И все это ради вас.
Салаи смотрел снизу на Леонардо большими бархатно-карими глазами, и этот взгляд напомнил маэстро о дне, когда в церкви Санта-Мария-делле-Грацие отпевали его мать Катерину. Леонардо в этой же церкви работал в то время над фреской «Тайная вечеря». Память запечатлела серебряный крест на скромном деревянном гробе, установленном на простых похоронных дрогах. Отдавая дань положению Леонардо при дворе, сам герцог Моро пришел помолиться за упокой ее души, пришли и его миланские друзья-товарищи: архитектор Донато Браманте, математик и алгебраист фра Лука Пачоли, физик и химик по прозвищу Зороастро. Все они говорили теплые слова о Катерине. После заупокойной службы Леонардо вернулся в свою студию, записал в книгу связанные с похоронами расходы, а когда покончил с этим, обнаружил стоящего перед ним на коленях пятнадцатилетнего Салаи. Тот смотрел на Леонардо не отрываясь, широко раскрытыми карими глазищами. Тогда Леонардо наклонился и в первый раз поцеловал юношу.
Теперь, спустя почти девять лет, сцена повторилась.
— Я не желал, чтобы ты причинял вред этой статуе, — сказал Леонардо и тяжело осел в кресло.
Радость вмиг сошла с приветливого личика Салаи.
— Нет, желали. Вы сами говорили мне. После заседания, на котором городской совет решил установить статую перед дворцом Синьории.
— Я говорил? Ничего подобного!
— Вы сказали… — Салаи попытался в точности припомнить слова Леонардо. — Вы сказали так: хоть бы кто-нибудь разбил эту чертову статую, чтобы она не торчала посреди города как бельмо на глазу.
Левое веко Леонардо задергалось.
— Если я и сказал такое, то не всерьез, а в сердцах. Я был очень зол тогда.
— Нет, всерьез! Вы этого хотели. Я слышал это в вашем голосе. — Салаи внезапно охрип: — Вот я это и сделал. Сделал ради вас.
Леонардо вцепился в подлокотники. Комната начала вращаться вокруг него сотнями мелькающих кругов.
— Подумай-ка, что дает нам средства к существованию, чем я зарабатываю на еду, на наши студии, на твою одежду? Что стало для меня спасительной лодкой, когда все так и старались утопить меня? Искусство — и мучитель мой, и моя душа. Моя страсть и мой поработитель. Я так же неспособен уничтожить произведение искусства, как неспособен убить тебя, Джакомо. Уничтожить Давида! Как ты вообще мог сотворить такую ужасную вещь? Ради чего?
Салаи повернулся к Леонардо и посмотрел ему в глаза.
— Ради любви, Леонардо. Ради чего же еще?
Микеланджело
После той памятной ночи Содерини выделил для охраны статуи специальный отряд солдат. Но злоумышленники не повторяли попыток уничтожить Давида. Микеланджело до сих пор не знал, получил ли Давид смертельные раны, но он не мог тратить время на переживания — слишком много у него было дел. Несмотря на многочисленную охрану, Микеланджело тоже почти не смыкал глаз по ночам, постоянно следя за Давидом, а днем он наравне с рабочими перетаскивал задние бревна вперед, помогая платформе катиться по извилистым неровным улицам. По пути им встречалось множество препятствий: орущая детвора, выдающиеся вперед балконы, летящий из окон мусор, испуганно ревущие мулы, норовящие сорваться со своих привязей, и даже сбежавшая лошадь, о которой Микеланджело подумал заранее, однако на пятый день путешествия Давид добрался до площади Синьории.
После длительного сложного маневрирования огромным облегчением было выехать на открытое широкое пространство. Десятки флорентийцев уже собрались возле пьедестала, желая своими глазами увидеть, как на него будут устанавливать статую. Когда платформа с Давидом, все еще закутанным в парусину, вкатилась на площадь, они приветствовали ее ликующими криками — словно вернувшегося с войны героя. Идущий за платформой Микеланджело почувствовал, как возбуждение стало подниматься по его позвоночнику, словно огонек по фитилю. Площадь Синьории — сердце Флорентийской республики, здесь ее правительство охраняло свободу граждан, и здесь же флорентийцы ежегодно проводили празднества, воспевая свою независимость. Теперь и его Давид встанет на стражу свободы и независимости Флоренции.
Потребовалась еще неделя и те же сорок рабочих для того, чтобы дотолкать платформу через площадь до входа во дворец Синьории, отвязать канаты и освободить Давида от пут, а потом поднять его с помощью ворота и мягко опустить на мраморный пьедестал. Еще три дня ушло на сооружение деревянных лесов, а вокруг них — такого же деревянного сарайчика, какой Микеланджело сколотил во дворе мастерской. Только надежно упрятав статую от посторонних глаз, Микеланджело мог приступить к осмотру Давида на предмет возможных повреждений. Городской совет назначит день торжественного открытия, только убедившись, что Давид остался целым и невредимым. Микеланджело страстно молил Бога, чтобы повреждения, если они и есть, оказались легко устранимыми.
Наконец наступил день осмотра статуи. Стоя на ступеньках дворца Синьории, Микеланджело собирался с духом, прежде чем войти внутрь Давидова убежища и срезать веревки, держащие парусину. Рядом ожидали Граначчи, Содерини, Джузеппе Вителли, Боттичелли, Перуджино и Джулиано да Сангалло — самый узкий круг посвященных. Предстоящий осмотр статуи держали в строгом секрете. Не хватало еще, чтобы по городу поползли слухи об отколотом локте или треснувшей ноге (не дай бог!) раньше, чем они сами оценят ущерб и решат, как исправить дело. Микеланджело от волнения подташнивало. Перед глазами снова поплыли черные точки. Он засунул руки в карманы и погрузил пальцы в мраморную пыль, чтобы унять волнение. Сейчас не время поддаваться слабости.
Пьеро Содерини подтолкнул Микеланджело к двери сарайчика и прошептал:
— Buona fortuna.
Граначчи подал другу зажженную лампу.
Под оглушительный звон, стоящий в ушах, Микеланджело взял лампу, вошел в убежище Давида и плотно закрыл за собой дверь.
Он покинул сарайчик только после того, как, сняв со статуи парусину, тщательно обследовал каждый ее изгиб, каждый дюйм; только после того, как его рассудок осознал увиденное.
Однако он никак не находил в себе сил вымолвить хотя бы слово. Заглянув в его лицо, Содерини простонал:
— О нет! Все плохо. Сможешь исправить дело?
Микеланджело попробовал пошевелить языком.
— Господь… — единственное, что ему удалось выдавить из себя.
— Господи, только не это. Она что, совсем разрушилась, да? — Голос Сангалло дрожал. — Это я виноват. Не канатами надо было его крепить, а…
— Господь сохранил его, — наконец выговорил Микеланджело.
— Что? — подался вперед Граначчи.
— Господь Бог… Господь Бог донес сюда Давида в собственной деснице. — Голос Микеланджело обрел силу. — Господь Бог встал между ним и летящими в него камнями, ибо, клянусь, я не нахожу другого объяснения тому, что увидел. Мрамор целехонек, на нем нет ни единой царапинки.
Содерини выхватил у Микеланджело лампу и бросился в сарайчик. За ним — Джузеппе Вителли.
— Правда? — крикнул им Граначчи. — Я-то боялся, что там уж точно…
— Нет, полный порядок! — послышался возглас Содерини. — Ни малейшего изъяна.
У Микеланджело защекотало в горле. Откуда-то изнутри его существа вылетел смешок. Потом еще, и еще, и еще. И вот он уже хохотал во все горло — так, как не хохотал с самого детства. Он заразил своим смехом Граначчи, Сангалло, Перуджино, Боттичелли. Все они смеялись до тех пор, пока у Микеланджело не полились по щекам слезы.
Один за другим они бегали в сарайчик, чтобы собственными глазами посмотреть на чудо.
— Невероятно! — объявил Джузеппе Вителли. — Мрамор так блестит, что я увидел в нем свое отражение.
— Только поглядите, как сурово насуплены его брови, какой грозный у него взгляд, — воскликнул Перуджино. — Он и правда выглядит устрашающе.
— Могу поклясться, в его жилах пульсирует живая кровь, — добавил Боттичелли.
Содерини дольше всех исследовал статую, а выйдя, заметил:
— Но вот нос по сравнению с остальными чертами лица немного… — он повертел рукой, подбирая точное слово, — толстоват. Верно ведь?
— Что? — В загоревшемся взгляде Боттичелли можно было прочесть все, что он думает о людях при власти и деньгах, которые вечно мнят себя такими же знатоками искусства, как мастера, посвятившие ему всю свою жизнь. Микеланджело винил в этом себя и других художников: это они добивались того, чтобы их произведения выглядели так, словно дались им без особых усилий.
— Думаю, тебе надо чуть-чуть подправить его, — предложил Содерини.
Граначчи скорчил гримасу.
Давид пережил тяжелое путешествие и нападение приспешников Медичи и теперь может погибнуть из-за прихоти политика, который ничего не смыслит в искусстве?! Микеланджело сжал челюсти, сдерживая порыв послать Содерини ко всем чертям. Но Содерини — его патрон, его заказчик. Во власти гонфалоньера навеки отправить Давида на какие-нибудь задворки, где его мало кто увидит. Если Микеланджело желал, чтобы статую торжественно явили публике, ему следовало ублажить патрона, какой бы невежественной ни была его просьба.
— Отчего бы нет, синьор, полагаю, вы правы. — Микеланджело изо всех сил постарался придать своему тону чарующей легкости, которая так присуща Леонардо и так бесит его, Микеланджело.
— Микеле, — прошипел Граначчи, — нос и так безупречен.
— Сейчас поглядим, что тут можно сделать. — Микеланджело выудил из сумы молоток и резец и направился к статуе.
— Постой, Микеланджело, не надо! — Боттичелли обернулся к Содерини: — Не хотел бы перечить вам, синьор, но я не думаю, что молодому человеку нужно что-то исправлять. Статуя и без того совершенна, как…
— Да бросьте, маэстро Боттичелли! — весело сказал Микеланджело, взбираясь по лесам к голове Давида. — Гонфалоньер Содерини обладает самым тонким эстетическим чутьем во всей республике, и если он утверждает, что нос надобно подправить, значит, он и правда плоховат.
— Микеле, — в отчаянии прошептал Граначчи, — не делай этого…
— Прошу вас, дайте мне работать, — твердо пресек разговоры Микеланджело и установил резец на спинку Давидова носа. Он опустил на резец молоток. Вокруг взвилось облачко мраморной пыли, крошки мрамора снежинками полетели вниз.
Боттичелли в ужасе спрятал лицо в руки. Граначчи издал протяжный стон.
Содерини победно улыбнулся.
— Твоя решительность делает тебе честь. Она вдохновляет!
Микеланджело, закончив орудовать молотком и резцом, сдувал с носа Давида пыль. Затем протер его куском фетра. Спустился с лесов, подошел к Содерини и обнял его за плечи:
— Molto grazie, гонфалоньер Содерини, огромное вам спасибо, вы были совершенно правы.
— Рад, что оказался полезен, — самодовольно ухмыльнулся тот и подошел к Давиду ближе, чтобы получше разглядеть результат.
Мастера искусств обступили Микеланджело, Граначчи прошептал:
— Что ты там сделал?
— Ничего. — Микеланджело разжал руку и показал другу горсть мраморной пыли из своего кармана.
Он только делал вид, что работает резцом, а сам просто высыпал зажатую в кулаке мраморную пыль. Ему не составило труда убедить Содерини в том, что он подправлял нос Давида, тогда как на самом деле подправил лишь восприятие своего патрона.
— Всегда давай понять заказчику, что он башковитее тебя.
— Разве я не говорил, что один крохотный штришок способен сотворить чудо? Теперь лицо Давида совершенно идеально.
— У вас и правда непревзойденно острый глаз, — прочувствованно произнес Боттичелли, направляясь к Содерини. — Надеюсь, что очень скоро вы удостоите и меня заказом и шансом воспользоваться вашим блестящим художественным чутьем.
Содерини достал из кармана пухлый кожаный мешочек.
— Держи, сын мой. — Он положил мешочек в руку Микеланджело. — Ты заслужил.
— Что это? — Микеланджело развязал тесемки и заглянул внутрь. Ух ты, такой уймы золота он еще не видел.
— Считай, что это премия. За безупречно выполненную работу.
Денег было достаточно для того, чтобы брат Буонаррото открыл любую, какую только пожелает, лавку, и тогда он наконец попросит у шерстяника руки Марии, пока его не опередил другой претендент. Хватит и на то, чтобы справить отцу достойный его положения камзол, и на мебель для восстановленного дома, и еще куча останется.
Пока остальные обсуждали предстоящее празднество по случаю открытия статуи, Микеланджело незаметно выскользнул из сарайчика и оглядел пустую площадь.
Его семейство будет счастливо получить столько денег, в этом он уверен. Но мешок золотых флоринов не имеет значения, как и одобрение со стороны нескольких друзей и сторонников. Он сможет праздновать триумф не раньше, чем услышит радостные приветствия в адрес его Давида из уст сограждан-флорентийцев. Ибо если народ Флоренции не примет Давида, все остальное — и полученное золото, и радость, и облегчение от успешного прибытия статуи на место — потеряет для него всякий смысл.
Леонардо
Лето
Они неспешно прогуливались по площади Синьории, и Лиза взяла Леонардо под локоть. Через кружевную перчатку Лизы и тонкий шелк своей туники он ощущал тепло ее кожи, и это кружило Леонардо голову. От исходящего от нее аромата, на сей раз смеси примулы и цитруса, он чувствовал себя опьяневшим, хотя с утра не выпил еще ни глотка вина.
— Но вы же ее видели, — сказала Лиза, изящно переступая через кучку конского навоза. Сегодня площадь была запружена повозками и экипажами, по ней деловито сновали рабочие и пешеходы.
Леонардо замотал головой.
— Я видел статую, когда он только-только начерно изваял ее, даже не фигуру, а лишь контуры. Ничего конкретного. Правда, однажды мне ее пробовал описать Макиавелли — он видел Давида перед окончательной полировкой, — но что взять с него, политика? Его описание звучало на редкость бестолково. Так что я не имею ни малейшего представления о том, как она выглядит. И увижу результат тогда же, когда и остальная публика.
Они прогуливались около входа во дворец, как раз перед Давидом, все еще скрытым за высокими глухими стенками сарайчика. Этот осмотр статуи, пусть и спрятанной, — последний из тех предлогов, которые регулярно измышлял Леонардо, чтобы повидаться с Лизой без назойливого присутствия ее почтенного супруга. Организовать еще одну встречу наедине, как ту, в баптистерии, им больше не удавалось, зато они уже несколько раз выходили вместе на прогулку.
— Но если статуя полностью готова и уже установлена на положенном месте, почему они тянут и откладывают ее торжественное открытие до сентября?
— Просто Содерини желает на весь мир заявить о независимости, богатстве и могуществе Флоренции. О, он сумеет извлечь из этого события все, что только возможно. Он пригласил на праздничную церемонию высшую знать со всего полуострова. Даже папе послал приглашение.
— Думаете, папа приедет?
Леонардо хмыкнул.
— Если Содерини надеется на то, что папа рискнет предпринять путешествие во Флоренцию, он должен дать понтифику время подготовиться. Кроме того, долгое ожидание, как ничто другое, интригует и разжигает интерес публики.
— Уж не по этой ли причине вы отказываетесь показать мне мой портрет? Пытаетесь еще больше заинтриговать меня?
Подол длинного платья Лизы колыхался на ветру, задевая ногу Леонардо.
— Я никогда не позволил бы себе дразнить ваше любопытство, моя донна. Я просто еще не окончил его. А модели не полагается видеть портрет, пока он полностью не завершен.
— Но если вы его еще не окончили, отчего больше не приходите писать с меня эскизы?
Они слева обошли дворец Синьории и, зайдя в крытую Лоджию Ланци, оказались среди целого леса белеющих в полумраке мраморных изваяний. Некоторые напоминали очертаниями старые кряжистые дубы.
— В этом нет нужды. Я тысячу раз зарисовывал ваши черты и уже сумел в наилучшем виде отобразить их на портрете.
— Так отчего вы не заканчиваете картину? Вам нужно что-то еще?
— Я должен запечатлеть вашу душу.
Лиза замолкла и остановилась перед древнеримской статуей сидящей женщины — ее голова и рука были давно отломаны и утрачены.
— Но ведь душу увидеть нельзя. Как же вы ее запечатлеете?
О, этот вопрос открывал беспредельные горизонты. Леонардо приготовился обстоятельно ответить Лизе.
— Синьор Леонардо, — чей-то голос грубо вторгся в его мысли.
Лиза мгновенно выдернула свою руку из-под его локтя и отошла в сторону.
Леонардо оглянулся. Их разговор прервал молодой мужчина, одетый в добротный старого покроя коричневый камзол и такого же цвета широкополую шляпу. Нижняя челюсть у него была крепкой и широкой, как у Леонардо, а глаза отливали тусклой сталью. Леонардо сразу же узнал его, только имени припомнить не мог. Артуро? Или Антонио? Да, Антонио. Ну конечно, как же он запамятовал? Молодой человек отвесил ему почтительный поклон, но Леонардо не торопился с ответом.
— Я искал вас. Хотел сообщить одно известие.
Леонардо слегка приподнял бровь и больше ничем не проявил своей заинтересованности.
— Это о моем отце, — продолжал Антонио.
— Вы ведь знаете, что мне нет дела до этого чертова нотариуса. Andiamo, мадонна Джокондо, я хотел бы показать вам здесь кое-что еще. — Он взял Лизу под локоток и повел ее вглубь лоджии.
— Кто это? — шепотом спросила она.
Но прежде чем он успел ответить, Антонио громко сказал им вслед:
— Сегодня в седьмом часу утра мой отец отошел в лучший мир.
Леонардо остановился, но головы не повернул. Вместо этого он сделал глубокий вдох. В лоджии стоял застарелый запах мочи и плесени. Что это ему вздумалось привести даму в такое зловонное место?
— Я подумал, что вам следует об этом знать, — пояснил Антонио. Леонардо, так и не обернувшись, слушал, как молодой человек уходил; его шаги удалялись, пока не стихли совсем.
— Кто этот синьор? И кто умер? — спросила Лиза.
— Так, никто. — Леонардо смотрел куда-то вдаль.
— Не никто. Я же вижу, как вы опечалены. Прошу вас, вам лучше присесть. Вы так бледны.
Она погладила его по руке, но он увернулся от ее ласки. Он не желал, чтобы кто-то касался его.
Он опустил взгляд на переливающуюся птичку в перстне, украшающем его левую руку, — в том самом, что подарил ему король Франции в знак поддержки его экспериментов с полетами. Проведай старый хрыч нотариус об этих замыслах Леонардо, он точно объявил бы его угрозой всему человечеству.
— Прошу передать вашему супругу мои извинения за то, что не смог проводить вас до дома.
Леонардо коротко и сухо кивнул и быстро пошел от Лизы прочь по площади.
Возможно ли? Неужели этот дьявол с холодными стальными глазами и правда подох? Леонардо приблизился к четырехэтажному особняку из светло-коричневого камня. Над выкрашенной пурпурной краской дверью из окон свисали полотнища черной шерсти в знак того, что в этом доме поселилась скорбь. Его никогда сюда не приглашали. Не собирались приглашать и сейчас. Все, что ему оставалось, — устроиться на другой стороне виа деи Рустичи, у перил чьей-то веранды, и наблюдать издалека.
Здесь он простоял много часов подряд, пока солнце, совершив свой дневной круг по небосводу, не начало клониться к горизонту.
Уже на закате к особняку сошлись плакальщики и все те, кто хотел проводить усопшего в последний путь. Все были одеты в коричневое. Мужчины в знак скорби разрывали на себе одежды, женщины громко причитали и вырывали у себя клоки волос. И почему это смертные вечно предаются такому всепоглощающему горю из-за чьей-либо кончины, если смерть — неотъемлемая часть их жизни? И почему больше всего почитания, уважения и любви человеку достается только тогда, когда все это ему уже не нужно? Как ни стенай, как ни рыдай, все равно ничего не изменишь и мертвого не воскресишь.
Впрочем, проклятый старик-нотариус вряд ли нуждался в слезах Леонардо.
С наступлением сумерек скорбящие зажгли факелы, сотни факелов, словно они желали осветить путь тому, чьи глаза навеки утратили способность видеть. Пурпурная дверь открылась, и из дома вышли близкие покойного. Они рыдали, причитали и рвали на себе одежды еще более рьяно, чем люди на улице. Леонардо видел, как пятеро сыновей вынесли из дома тело отца, высоко подняв над головами деревянные носилки. Усопший лежал на спине, обряженный в ярко-зеленую блузу и укрытый одеялом из белых лилий. Со своего места Леонардо мог разглядеть орлиный профиль, заострившийся устремленный вверх подбородок, широкий лоб, длинную тощую шею. Сомнений не было: старик-нотариус и правда помер.
— Откуда ни возьмись вдруг появляются гигантские фигуры, формой и обликом совсем как человеческие, — произнес Леонардо нараспев, будто молитву, ту самую загадку, которую пытался загадать старику перед своим отъездом на войну. — Но чем ближе к ним подходишь, тем сильнее они съеживаются. — Леонардо так и не открыл ему ответ. — Это тени, которые люди отбрасывают ночью при свете ламп, — прошептал он, когда несущие покойника сыновья завернули за угол.
Вскоре вся процессия скрылась из виду.
Леонардо тяжело привалился к стенке веранды. Он не последует за процессией на кладбище. Его на похороны не звали. Он стоял здесь, никем не замеченный, и слушал, как постепенно затихали вдали плач и причитания, пока совсем не смолкли.
В голову Леонардо непрошеным гостем проскользнуло слово. То, употреблять которое он не любил; то, которое, как ему мечталось, однажды просто перестанет существовать на свете; то, которое он лишь спустя много десятилетий решился произнести в адрес старика-нотариуса. Никакое другое обращение ему в голову не пришло. И он прошептал:
— Arrivеderci, отец.
Голос ветра глухо отдавался в ушах Леонардо, пока он в прострации брел к церкви Санта-Мария-Новелла. Поднялся по ступенькам, прошел через студию, не замечая поджидающих его здесь двоих людей — Салаи и Лизу.
Как она оказалась в его мастерской? Как узнала, где она располагается? Неужели она прождала его здесь целый день?
— Господин! Как вы? — Салаи схватил Леонардо за локоть, подвел к стулу.
Леонардо вырвал руку и пошел дальше, в личные покои.
Лиза последовала за ним.
— Почему же вы не сказали, что это ваш…
— Не надо! — Вскрик Салаи прервал ее на полуслове.
Леонардо схватил зажженную свечу и опустился за письменный стол.
— Вы в порядке, господин? Синьора говорит правду? Что, сир Пьеро действительно… — Дрожащими руками Салаи налил в бокал вино и поставил рядом с Леонардо. — Прошу. Ну скажите же хоть слово.
Леонардо молча достал перо и чистый лист бумаги. Скверно, он слишком долго не записывал своих расходов. Нельзя так легкомысленно обращаться с деньгами. Надо вспомнить и записать все траты последних дней. Он выдал три сольди Салаи на коробку сладких пончиков. Потратил флорин на нового подмастерья. Салаи взял десяток сольди на вино. Еще пятьдесят ушли на краски и прочие рисовальные принадлежности. Да, и пять дукатов Салаи — на обновление гардероба. Он тратит на Салаи уйму денег.
— Леонардо… — вздохнула Лиза.
Он обмакнул перо в чернила и тут же, рядом со списком суетных мирских дел, вывел: «В среду в седьмом часу утра, на девятый день месяца июля сего 1504 года скончался сир Пьеро да Винчи».
Он поймал отражение своего лица в висящем над столом зеркале. И впервые заметил, что на мать похож больше, чем на старого нотариуса. И вдруг с любопытством задумался: а что, если при взгляде на своего старшего сына сир Пьеро всякий раз видел облик женщины, которую когда-то любил — но на которой никогда не мог бы жениться?
Воспоминание молнией сверкнуло в мозгу Леонардо. Он отложил перо и перелистал разрозненные бумаги, лежащие на краю стола. Нет, это не здесь. Быстро просмотрел другую стопку. И здесь нет. Он начал рыться в столе. Выдвинул один за другим ящики, переворошил сваленные кучами документы и записки. Заглянул в каждое отделение, поднял крышку стола. Куда же оно запропастилось?
— Вы что-то ищете? Вам помочь? — участливо спросила Лиза, мягко забирая из рук Леонардо очередную стопку бумаг.
— Оставили бы вы нас. — Салаи выхватил у нее бумаги. — Не видите, вы ему не нужны.
Наконец в дальнем углу письмо, все измятое, нашлось. Его-то он и искал. Он бережно разгладил конверт. На лицевой стороне посередине, почерком, который он узнает с первого взгляда, написано его полное имя: «Леонардо ди сир Пьеро да Винчи». Это письмо сир Пьеро прислал ему сразу после наводнения. Леонардо тогда так и не вскрыл его. А на обороте даже по рассеянности набросал чертеж очередной летательной машины.
Леонардо распечатал конверт. Бегло пробежал глазами и убедился, что это не вызов в суд и не суровое осуждение совершенных им преступлений. В письме даже не упоминалось о наводнении и о провале плана Леонардо. Сир Пьеро писал о своем постоянном нездоровье и о беспокойстве по поводу денежных дел. И приглашал Леонардо прийти к нему в гости на обед.
Леонардо уронил лист на стол.
— Наблюдай за пламенем свечи и проникайся ее красотой.
— Господин? — встревоженно прошептал Салаи.
— Зажмурь глаза, потом снова взгляни на огонь. То, что ты видишь, уже не то, что было перед этим. — Пальцы Леонардо плавно проплыли над свечой, горящей на столе. — А что было прежде, то уже ушло. Кто же снова и снова зажигает этот то и дело умирающий огонек?
Они с сиром Пьеро никогда уже не исправят своих отношений. Вернуться назад было невозможно.
Невозможно. Как ненавидел Леонардо это слово!
Он резко отодвинулся от стола вместе со стулом, ножки громко заскрежетали по деревянному полу. Леонардо встал и в три больших шага пересек кабинет, вытащил из угла нечто, обернутое в холстину. Под ней оказалась пара гигантских, похожих на нетопыриные, крыльев, собранных из кипарисовых планок и льняного полотна.
— Мастер? Что вы делаете?
Леонардо молча свернул крылья в длинный рулон и взвалил на плечо.
Салаи встал перед дверью.
— Не пущу!
— Прочь с дороги.
Салаи скрестил на груди руки и для устойчивости расставил ноги.
— Нет!
Леонардо резко развернулся, метя рулоном в голову Салаи. Задним концом рулона он смахнул с полок книги, чаши и кубки, и те с грохотом разлетелись по полу. Салаи поднырнул под свернутые крылья, стараясь преградить мастеру путь. Леонардо кинулся в одну сторону, потом в другую и выскочил за дверь.
— Мастер, подождите! — крикнул Салаи. — Они же еще не готовы.
Волоча за собой крылья, Леонардо карабкался на вершину холма, с которого открывался вид на Флоренцию. Полная луна освещала пустынную местность. Холм зарос густой мягкой травой. Деревья клонились на ветру, их стволы походили на согбенные спины стариков. Воды Арно в отдалении поблескивали в лунном свете, Флоренция была усеяна точками горящих свечей.
— Мастер, — издалека донесся голос Салаи. Леонардо оглянулся. Салаи и Лиза бежали внизу, стараясь нагнать его.
Действовать следовало быстро. Он свалил крылья возле обрыва, споро распутал связывающие их веревки, бережно расправил каждое. Когда он мастерил эти крылья, предполагалось, что Салаи потом поможет ему надеть их. Пальцы Леонардо дрожали, когда он закреплял кожаные ремни на правой руке. Затем неловко попытался проделать то же на левой.
— Мастер, стойте! — Салаи приближался.
Конструкция была пригнана к телу не так плотно, как хотелось бы Леонардо, но сойдет и так. Времени мало. Когда он поднялся на ноги, ветер подхватил крылья. Льняное полотно натянулось. С вывернутыми назад руками, Леонардо, сопротивляясь ветру, подошел к краю утеса, выпрямился. Он стоял, залитый светом полной луны, с распростертыми за спиной трепещущими крыльями, и смотрел сверху на Флоренцию.
Однажды, когда он был совсем маленьким, он проснулся в своей колыбельке перед каким-то сельским домом, которого не видел раньше. На другой стороне двора отец громко ругал его рыдающую мать. С ними рядом стоял какой-то странный незнакомец — высокий, звероподобный, со злым красным лицом.
— Ты не заставишь меня выйти за него, — рыдала мать, отшатываясь от незнакомца. — Я хочу выйти за тебя, — умоляла она, цепляясь за отцовскую тунику.
— Я не могу на тебе жениться, — кричал он в ответ. — Долг повелевает мне взять жену, достойную моего положения.
Мать завыла:
— Ты же не любишь ее.
Но отец повернулся и пошел прочь. А ужасный незнакомец ударил Катерину по лицу.
Леонардо помнил, что в этот момент он посмотрел на небо и заметил огромную хищную птицу, кругами летавшую над двором. Птица ему очень понравилась. Сильная и мощная, она легко парила на одетых перьями крыльях, высоко над грязью, пылью, горем и стонами. В какой-то момент птица уставилась своими круглыми желтыми глазами на его колыбельку. И начала плавно снижаться. Он как завороженный глядел на приближающегося пернатого хищника и даже не вскрикнул, когда птица разинула изогнутый серый клюв, словно хотела куснуть его. Но вдруг хищник, на мгновение замерев, сделал круг над колыбелькой — да так низко, что перья его хвоста ткнулись в рот малышу. Леонардо даже почувствовал вкус земли и грязи, застрявших в них. На некоторое время птица зависла над ним. И в этот момент к Леонардо пришло твердое знание: в один прекрасный день он взлетит высоко в небо, к птицам, и никогда, никогда больше не вернется на жестокую землю.
Теперь, в свои пятьдесят два года, он наконец был готов воплотить свою жизненную цель. Он попятился от края, чтобы взять разбег.
— Леонардо, нет! Ты поранишься! — Салаи и Лиза, обогнув вершину холма, бежали к нему.
Времени на раздумья не осталось.
Леонардо разбежался, оттолкнулся от края утеса и прыгнул. Ноги оторвались от земли. Крылья, наполненные ветром, повлекли его, как лист дерева, в небесную высь. Земля плавно поплыла под ним, а он выпятил грудь, изогнул спину, растопырил пальцы и сжал вытянутые ноги, имитируя движения запомнившейся с детства парящей в небе птицы. Несколько лет назад он определил, что за птицу видел тогда: это был коршун, гордый и грозный хищник; именно облик коршуна приняла египетская богиня Исида, чтобы воскресить из мертвых своего супруга Осириса. Сегодня ночью и он, Леонардо, парил в небе, как коршун.
Он летел. Осуществилась мечта всей его жизни, самая дерзкая и честолюбивая. Ах, как хотелось ему купаться в воздухе, переворачиваться, нырять и снова взмывать под облака, как настоящая птица. Но он не решался попробовать. Достаточно и того, что он скользил вместе с ветром. С этого дня он мог взмывать в небо, летать над реками, говорить с мертвыми и совершать невозможное. Он почувствовал, как в правом крыле что-то дрогнуло.
Что это? Он хотел рассмотреть, но в этот момент облако закрыло луну и стало слишком темно.
Ремень на левой руке ослаб, и он начал терять высоту. Дух захватило, но сильный порыв ветра снова наполнил крылья.
Вдруг раздался громкий хруст, и деревянная оправа крыла треснула.
Леонардо посмотрел вниз. Высоко. Упасть отсюда — все равно что прыгнуть с колокольни.
Полотнища крыльев вырвались из деревянных рам. В ушах засвистел воздух, он забивался в ноздри и в рот. Леонардо больше не летел. Он падал.
— Леонардо! — услышал он крик Лизы.
Лохмотья ткани беспомощно бились на ветру вокруг него. Деревянные планки, из которых сделаны рамы, растрескивались. Ветер оглушительно завывал. Маэстро расставил руки и с усилием развел в стороны ноги, чтобы замедлить падение. Но земля неумолимо приближалась. Жаль, он родился так рано, угодил не в то время, не в то место и не к тем родителям. Наступит день — и человек взлетит в воздух, но это будет уже не он, не Леонардо.
Стремительно несясь к земле, он заметил мчащихся в его сторону Салаи и Лизу, но нет, поймать его они не успеют. Да и ладно. Горше всего ему сейчас оттого, что они стали свидетелями его провала.
Права была Лиза. Есть вещи невозможные.
— Mio Dio, — крикнул Леонардо. В следующий миг он врезался в землю и погрузился во тьму.
Он не помнил, как Салаи с Лизой подбежали к нему, как потом дотащили до студии. Салаи говорил, что они пытались спасти и остатки крыльев, но спасать было нечего. Леонардо смутно припоминал, как несколько раз выплывал из темноты, как лежал в постели и кричал от боли, но это были мимолетные воспоминания, и он счел за лучшее не ворошить их. Салаи, а не Лиза преданно ухаживал за ним все дни. Левый глаз Леонардо распух, плечо ныло, а больше всего досталось ребрам справа — они болели постоянно, не считая моментов, когда он глубоко вдыхал или двигался — тогда адской болью взрывались не только поломанные ребра, но и вся правая половина тела.
И все же он постепенно оправлялся от травм. Кое-как начал сидеть и принимать пищу и даже попросил Салаи подстричь его отросшую неряшливую бороду и волосы. Спустя две недели боль терзала израненное тело Леонардо уже не постоянно, а с перерывами, достаточно долгими для того, чтобы он мог встать с постели и доползти до стула, к портрету Лизы.
Он как раз сидел перед мольбертом с кистью в руке, когда вдруг услышал, как кто-то решительно распахнул дверь и вошел в переднюю. Он повернул голову и увидел в дверном проеме Лизу: она стояла, освещенная солнцем, в изумрудно-зеленом шелковом платье; легкий аромат жасмина ворвался вместе с ней в студию.
Салаи бросился к мольберту и быстро повернул его к стене.
— Все в порядке, я сам, — простонал Леонардо, пытаясь подняться и поздороваться с дамой. — Если донна хочет увидеть свой портрет, пожалуйста, я не против. — Поморщившись от боли, Леонардо прижал руку к больному боку.
Салаи и Лиза кинулись к нему на помощь, подхватили под руки.
— Портрет готов, да? — спросила Лиза, помогая Леонардо поудобнее устроиться на стуле.
— Нет.
— Ну тогда я подожду.
Салаи подложил подушку под спину Леонардо и пошел к выходу.
— Я оставлю вас на время. — Он был великодушен настолько, что даже притворил за собой дверь.
Лиза молча обошла студию, с любопытством рассматривая собранные здесь предметы. Легко пробежала пальцами по сверкающему металлу скальпеля, разглядела деревянную модель огромного подводного военного корабля, приводимого в движение двадцатью веслами, зашла в восьмигранный зеркальный короб Салаи и тут же вышла.
— Мне очень жаль, что вы потеряли отца, — наконец сказала она, листая его блокнот с чертежами и эскизами последней модели крыльев, чуть не стоивших Леонардо жизни. Он пытался представить, что она думает об этом его изобретении сейчас, после того как своими глазами видела его бесславный полет.
— Право, тут не о чем сожалеть. Я почти не знал его.
— Тот молодой человек в лоджии, сообщивший вам о его смерти, — он ведь брат ваш?
Лиза бережно закрыла блокнот.
— Он — первый законный сын сира Пьеро.
Лиза вздохнула, и Леонардо понял, о чем: она вспомнила ту их ночную встречу в пустом баптистерии.
— Мне очень жаль, — снова сказала она.
— Право, не о чем сожалеть. Я его почти не знал, — повторил Леонардо.
— Люди будут слетать с огромных высот, не причиняя себе вреда. Они достигнут неведомых небесных далей и в страхе умчатся прочь от низвергающихся языков пламени…
Леонардо почувствовал смущение. О чем это она? И почему в голове его, как на грех, в эти дни царили беспорядок и сумятица, словно он постоянно был пьян?
— Они услышат, как животные говорят с ними человеческим языком, — продолжала Лиза. — Их тела будут парить в воздухе, мгновенно переносясь в разные части света, но при этом оставаться на месте. Посреди кромешного мрака они узрят восхитительное великолепие. Что это?
— Что?
— Ну, то, что я сейчас описала. Что это?
— Ах, так вы пришли загадывать мне загадки?
Лиза кивнула.
— Ну-с. Дайте-ка подумать. — Леонардо с величайшей осторожностью медленно откинулся на стуле, стараясь не потревожить поврежденные ребра. — Говорите, люди узрят восхитительное великолепие и услышат, как с ними говорят животные?
— Да.
— И будут летать, не причиняя себе вреда…
— Точно так.
Леонардо сумел измыслить только один ответ:
— Это мечтания.
— Вам не мешало бы иногда предаваться мечтаниям, вместо того чтобы прыгать с гор, — усмехнулась Лиза.
Леонардо хихикнул, и боль мгновенно прострелила правый бок.
Она помогла ему поправить подушку за спиной, лицо ее стало серьезным.
— Вы ведь могли убиться. — Она положила свою руку на его. Прикосновение ее пальцев к его голой коже теплыми волнами начало распространяться по его телу — так псалом плывет под сводами собора.
— Я не смог полететь.
— Я видела.
— И никогда не смогу.
Лиза опустилась на колени перед ним.
— Знаю.
Забыв о боли, Леонардо порывисто наклонился к ней.
— Спасибо. Вы спасли меня.
— Спасибо. Вы увидели меня, — в тон ему ответила Лиза. И вздохнула. — Я больше не смогу прийти к вам. Я жена, я мать, и я дорожу этими своими званиями.
— Я знаю. — Он хотел бы молить ее убежать с ним. Он повез бы ее на далекий Восток, или в Рим, или во Францию. — Некоторые вещи и правда невозможны.
Их глаза встретились. Погружаться в колодцы ее зрачков — все равно что лететь вниз головой в бездонную пещеру. Она вдруг взяла в руки его лицо, притянула к себе и прижала свои губы к его. Леонардо не мог ни о чем думать, только наслаждался мятным вкусом ее губ, слышал тихий стон, вдыхал жасминовый аромат ее волос. В этот момент он стал всем и ничем одновременно. Он был вне мира, за его пределами. Он больше не принадлежал себе; он целиком принадлежал ей, а она — ему.
Лиза отстранилась первой. Его губы неохотно отпустили ее. Он помедлил и открыл глаза, когда она уже стояла возле него, расправив плечи, как корабль, восстановивший равновесие после шторма.
— Arrivеderci, — прошептала она и пошла к двери.
Может, хорошо, что он весь изранен. Не то бросился бы за ней вслед.
У двери Лиза остановилась. Положила ладонь на ручку и в последний раз оглянулась. Печаль сошла с ее лица, уступив место легкому подобию улыбки — скорее, даже намеку на нее. Кончики губ лукаво приподнялись, в глазах загорелись искорки счастья. В этих глазах, в ее лице он увидел отсвет внезапной вспышки их страсти. Отныне это их секрет. Она навечно сохранит его в тайниках души и в моменты воспоминаний будет снова принадлежать ему. Он ждал, что приподнятые уголки губ вот-вот расцветут на ее лице, но нет, этой полуулыбке не суждено было перерасти в нечто большее. Все с тем же намеком на насмешливую улыбку на губах Лиза повернулась и ушла.
Микеланджело
Микеланджело натирал бархоткой правую руку Давида, ритмичные движения спускались от ладони к кончику каждого пальца. Поплевав на бархотку, он навел последний лоск на костяшки, затем отступил, чтобы со стороны осмотреть результат. Статуя, все еще сокрытая в деревянных недрах сарайчика, даже в неясном свете отчетливо сияла белизной. А как она, должно быть, начнет светиться под лучами солнца!
— До завтра. Завтра я опять приду к тебе, — сказал Микеланджело. Он постановил себе проведывать Давида каждый день до самого открытия, которое состоится уже менее чем через неделю. Микеланджело желал, чтобы мрамор к тому моменту выглядел безупречно.
Он выскользнул из укрытия, кивнул стоящему рядом стражу, чья забота — стеречь Давида денно и нощно от вандалов и любопытных глаз. Флоренция и так полнилась слухами о необычайной статуе, кое-кто даже приписывал этому мрамору магические свойства. Микеланджело старался хотя бы внешне держаться спокойно, но внутреннее напряжение день ото дня нарастало, как нарастали и нетерпеливые ожидания публики. А чем больше становилось ожиданий, тем меньше у Давида было шансов оправдать их.
Одна мысль о церемонии открытия заставляла Микеланджело покрываться испариной. Вся площадь превратилась в одну большую стройку: рабочие поспешно заканчивали установку временной сцены, а горожане принесли уже более двадцати пяти стульев — для всех знатных лиц, которых ожидали на празднике.
— Микеле! — Граначчи бежал к Микеланджело через площадь, бешено размахивая руками. — Микеле!
Господи, ну что там еще? Микеланджело издал стон. Еще одной неприятности он просто не выдержит. Только не сейчас.
— Ох, Микеле, лучше бы тебе узнать все от меня. — Запыхавшийся Граначчи взобрался на импровизированную сцену. Лицо его было мрачным.
Микеланджело прислонился спиной к доскам Давидова убежища, желая найти в них не только физическую, но и моральную опору. Вдруг Граначчи явился передать, что его родичи решили проигнорировать церемонию открытия? Микеланджело так и не сообщил семье о полученной им щедрой плате за работу. Он хотел показать им свой мешок с золотом на официальной церемонии — сделав это кульминацией торжества. Микеланджело пригласил их на праздник, но они пока отмалчивались. Он уже дважды напрямую спрашивал, придут ли они — прошлым вечером за обедом и сегодня за завтраком, — но ответа так и не получил. Если семья Буонарроти пропустит церемонию, триумф Микеланджело будет неполным.
— Леонардо, в нем все дело, — сказал Граначчи.
Микеланджело зло скривился. Со дня наводнения Леонардо как будто где-то отсиживался. Его всего раз или два видели в городе.
— И какую пакость старикашка решил преподнести мне на этот раз?
Граначчи судорожно вздохнул.
— Он представил публике новую картину.
— Что?
— Да, народ уже выстраивается в очередь на целый квартал, чтобы увидеть ее.
— И накануне моей победы, naturalmente.
— Говорят, это несравненный шедевр.
— Дай-ка отгадаю. Не иначе, это та фреска в городском совете. — Микеланджело позволил себе отдышаться. Леонардова «Битва при Ангиари» прославилась в городе еще до того, как кисть маэстро впервые коснулась стены. Этот символ мощи и независимости Флоренции расположится во дворце Синьории, в том же здании, на страже которого будет стоять Давид. Если Леонардо ухитрился завершить роспись, на открытие Давида публика специально не пойдет, разве что взглянет на него мельком, ожидая на площади своей очереди, чтобы поглядеть на новый шедевр маэстро.
— Да не фреска, — возразил Граначчи. — Портрет.
— Чей же? — Интересно, кого это сподобился написать Леонардо, да так, что Граначчи говорит об этом с придыханием? Неужто короля Франции? Или папу? А может, самого Господа Бога?
— Матрону, — благоговейно выдохнул Граначчи.
Микеланджело рассмеялся.
— Ох и напугал ты меня, mi amico, ох и напугал. — Он похлопал друга по спине. — Успокойся и забудь. Подумаешь, небольшая картина. Чего такого необычайного в ней может быть?
Леонардо
Глядя вниз, на залитый солнцем вход в церковь Санта-Мария-Новелла, Леонардо наблюдал за элегантно одетыми флорентийцами, тонкой струйкой втекающими в двери. Леонардо заметил молодую даму в длинной накидке с капюшоном, решительно подошедшую к очереди. На ходу она подняла руку, чтобы сбросить с головы капюшон, и сердце Леонардо быстро забилось. Он даже высунулся из окна, чтобы лучше разглядеть ее. Увы, когда она откинула капюшон, глаза Леонардо споткнулись о рыжую шевелюру. Не она. Не Лиза.
Накануне Леонардо послал ей персональное собственноручно написанное приглашение. Почему же ее до сих пор нет?
Просторную с высоченными потолками студию Леонардо заполнила толпа восхищенных посетителей. Они потягивали вино, лакомились засахаренными ягодами бузины и на все лады превозносили новый шедевр маэстро. Портрет, установленный на мольберте из палисандрового дерева и придвинутый к самому окну, купался в мягком рассеянном свете солнечных лучей, добавляющих облику Лизы еще больше очарования. Портрет буквально завораживал посетителей.
— Какая красота, она прямо как живая, — восхищенно сказал какой-то мужчина. — Право же, при виде этой картины всем другим живописцам остается только затрепетать и навеки впасть в уныние.
Леонардо знал, чем портрет так трогал зрителей, — выражением лица Лизы, тем самым, какое было у нее, когда перед уходом она бросила на него прощальный взгляд. Ему потребовался месяц на то, чтобы запечатлеть эти слегка приподнятые уголки готовых рассмеяться глаз, поработать над зрачками, чтобы его модель смотрела прямо на зрителя, а не куда-то в сторону; и, конечно, добавить к этому едва заметный намек на улыбку. Начинающему художнику внесенные Леонардо изменения показались бы несущественными, но именно эти незаметные мазки вдохнули жизнь в портрет Лизы.
Еще одна женщина направилась ко входу. Нет, это снова не Лиза. Бедра у дамы слишком полные, плечи слишком широкие, поступь слишком тяжелая и решительная.
Этим утром Леонардо послал Салаи обойти все дома, магазины, лавки и стойки торговцев и раструбить по всей Флоренции о том, что портрет моны Лизы дель Джокондо будет выставлен на обозрение всего на один день, а затем навеки скроется в частном собрании синьора Джокондо. Горожане валом повалили в студию Леонардо. И все, казалось, шло по плану. Когда появится Лиза, пусть даже под руку со своим престарелым муженьком, она пройдет через толпу восхищенно глазеющих на нее людей. Она, лишь она одна окажется в центре общего внимания, и лишь к ней будут прикованы все взгляды. Она услышит, как люди шепотом восхваляют ее красоту, ее бархатную сияющую кожу и эту загадочную полуулыбку на ее лице. Пусть всего на один день, но она почувствует, каково это — когда все смотрят на тебя и о тебе только говорят.
Этот день станет его подарком Лизе.
Но чтобы получить подарок, она должна посетить студию. Он специально попросил ее в приглашении прийти непременно в дневное время — так она сможет увидеть портрет при наиболее выигрышном свете. Но солнце уже клонилось к горизонту, вечерние сумерки одевали город, и Леонардо начал сомневаться в том, что она вообще придет. Но, желая поддержать огонь надежды, он велел принести побольше зажженных свечей и сам расставил их наилучшим образом, а затем послал Салаи караулить на входе — на случай, если она проскользнет в студию незамеченной.
В конце концов ночь вступила в свои права, и часы на письменном столе Леонардо пробили двенадцать. Несколько посетителей все еще цокали языками перед портретом, когда Салаи подошел к Леонардо и отрицательно покачал головой. Леонардо вздохнул, разочарованный тем, что его подарок не удался.
Ясно, что этим вечером он ее уже не увидит. Может быть, он не увидит ее больше никогда.
— Салаи, — задумчиво сказал Леонардо, глядя на пустой двор перед церковью. — Полагаю, портрет завершен.
— Да, мастер, ручаюсь, что это так.
Микеланджело
Микеланджело с Граначчи, устроившись на затененной веранде напротив церкви Санта-Мария-Новелла, наблюдали за посетителями, выходящими из студии Леонардо.
— Она совсем как живая, — воскликнула модно одетая дама. — Чудо, настоящее чудо.
— Господь водил его рукой, — подтвердил ее муж, и они ушли.
Граначчи еще днем рвался зайти в студию и рассмотреть портрет вместе с толпой любопытствующих, но Микеланджело не желал доставлять Леонардо радости увидеть его среди других поклонников. Они обосновались на этой веранде и уже несколько часов ожидали, когда показ окончится и поток посетителей иссякнет.
Наконец из дверей вышел последний гость. Огоньки свечей в студии Леонардо один за другим погасли, окна превратились в черные провалы.
Выждав еще час после того, как движение в комнатах замерло и все стихло, Микеланджело прошептал Граначчи: «Пора». Но, повернувшись к нему, увидел, что его друг мирно посапывает, растянувшись на скамейке. Микеланджело хотел было разбудить приятеля, но передумал и в одиночку на цыпочках прокрался к дверям церкви. Даже лучше, если он будет один, когда увидит картину Леонардо.
Подмастерьем Микеланджело работал в этой церкви — тогда они вместе с Граначчи под руководством их наставника Доменико Гирландайо расписывали стены капеллы Торнабуони сюжетами из жизни Девы Марии и Иоанна Крестителя. Именно здесь, на этих стенах, он оттачивал свои навыки рисования и постигал тонкости подготовки и создания фресок. В этой церкви Микеланджело и стал профессиональным живописцем. Он помнил каждую лестницу и каждое помещение в этом здании, как помнил старый дом своего отца, уничтоженный пожаром.
Микеланджело бесшумно прокрался через открытое пространство к лестнице, поднялся по ступенькам. Еще снаружи он приметил расположение освещенных свечами окон, за которыми проводился показ. Это помещение находилось в дальнем конце коридора.
Микеланджело двинулся по темному проходу. Первая дверь была распахнута настежь. Две фигуры лежали в постели. Лунный свет освещал лицо одного из мужчин — это был Леонардо. Он крепко спал. Проходя мимо двери, Микеланджело задержал дыхание. Ему не хотелось, чтобы Леонардо застукал его в студии. В лучшем случае маэстро снова начнет осыпать его едкими насмешками, в худшем — отдаст под арест.
Удалившись от спальни Леонардо, Микеланджело позволил себе передохнуть. Он как раз достиг крайней комнаты. Это самый настоящий салон для приема гостей: потолки высокие, на полу — толстый красный ковер, в углу — фортепиано, стулья обиты тканью. Микеланджело тихо прикрыл за собой дверь. Окна были плотно занавешены, и он поднял одну гардину, чтобы впустить в комнату немного лунного света.
У окна он заметил закрытый тканью мольберт. Повсюду возле него стояли погашенные свечи. Действительно ли он хочет видеть этот портрет? Может, лучше остаться в неведении? Но пальцы уже ухватились за край бархатного полога. С сильно бьющимся сердцем — как будто в груди у него звенели кимвалы — Микеланджело стянул ткань.
Под ней он обнаружил небольшую картину, написанную на деревянной доске.
Серебристый свет луны был слишком слаб и зыбок, но даже при таком освещении Микеланджело увидел, что картина — всего лишь заурядный портрет какой-то заурядной матроны, изображенной от талии и выше. Микеланджело не то вздохнул, не то усмехнулся. Чем здесь так восхищалась публика? Тем лишь, что это работа гениального Леонардо? По одной этой причине от посетителей ожидают — нет, даже требуют! — падать в обморок от восторгов?
Микеланджело приободрился и, осмелев, взял свечу. На подоконнике он заметил огниво. Конечно, зажигать огонь рискованно, могут увидеть. Но он хотел получше рассмотреть портрет и утвердиться в своих подозрениях о том, что единственное диво во всей этой шумихе — непомерно раздутая репутация Леонардо.
Он подождал, пока пламя перестанет дрожать, и повернулся к мольберту. Микеланджело ожидал, что радость вспыхнет на его лице торжествующей улыбкой. Однако у него перехватило горло.
Никогда еще он не видывал такого живого изображения. Казалось, будто эта молодая дама была здесь, в студии. Ее кожа светилась изнутри, глаза искрились жизнью, ее грудь легко вздымалась и опускалась в такт ее дыханию. Нет, изображенная на портрете особа не просто казалась похожей на женщину — она была женщиной.
Микеланджело приблизил свечу к доске, но, как ни вглядывался, не мог различить ни единого мазка кисти, хотя доподлинно знал: здесь их положены тысячи. Он и не представлял, что краску можно наносить такими тонкими невидимыми слоями. Размытые очертания плавно перетекали одно в другое. Как и в реальной жизни, на картине отсутствовали границы между светом и тьмой, были только тени разной глубины.
А сама женщина на портрете! Она не опустила взгляда, изображая кротость и смирение. Нет, она смотрела ему прямо в глаза, даже несколько вызывающе, будто заглядывала в душу. Микеланджело попробовал отвернуться от этого лица, но всякий раз ее взгляд, казалось, следовал за ним и притягивал обратно. Как такое возможно? Он вгляделся в ее черты. Ничего особенного, даже намека на улыбку — и то почти не заметно. Но в момент, когда он отводил взгляд, она — он готов поклясться! — улыбалась и снова манила его посмотреть на нее.
Микеланджело знал, что в жизни люди не сидят недвижно с тем выражением на лице, с каким их изображают художники. Оно все время меняется. Но ему еще не приходилось видеть, чтобы эффект мимолетной смены выражения лица был запечатлен в красках. Мимика этой матроны, казалось, постоянно отражала различные чувства. Будь это реальная женщина, она в следующее мгновение улыбнулась бы или нахмурилась. Улыбка ее была готова появиться, но так и не проступала, оставаясь лишь предвкушением. В этом лице одновременно присутствовали и надежда, и разочарование.
Тяжелый камень заворочался в груди Микеланджело и упал в желудок, придавливая нутро всем своим весом. Его гигант в три человеческих роста будет сокрушен одним взглядом этой женщины с портрета. Десятилетия практики и учебы отделяли Микеланджело от вершин такого мастерства, и, даже выполнив сотню заказов для сотни покровителей за целую сотню лет, он мог не сравняться с гением Леонардо. Какой смысл соперничать, если нет шансов победить?
Микеланджело попятился. Он подумал о том, чтобы уронить горящую свечу и позволить всей студии вместе с этим портретом сгореть в пламени пожара…
Вместо этого он погасил свечу и убежал прочь. Даже не остановился, чтобы разбудить Граначчи. Как угорелый он несся по темным улицам в сторону городских ворот. Прочь из Флоренции, ноги его здесь больше не будет. Пусть они сами открывают Давида. Обойдутся без него. Да и незачем ему там быть. Он не мог там быть. Микеланджело точно знал: никогда и ни за что ему не превзойти Мастера из Винчи.
Леонардо
8 сентября
Он сидел на деревянном стуле в своей студии, бессильно сложив руки на коленях, и молча смотрел на портрет. Его глаза медленно двигались сначала сверху вниз, затем от угла к углу, выжигая в памяти каждую деталь, каждый штрих. Сегодня он видел Лизу в последний раз. Он не хотел забыть ее. Он улыбался ей и ждал, что она улыбнется в ответ, но она этого не делала и не сделает никогда.
Наконец он нехотя оторвался от портрета. Бережно обернул его в кусок льняного полотна и обвязал поверх джутовой веревкой, чтобы защитить на время путешествия через весь город.
— Господин, позвольте, я перенесу встречу, — сказал Салаи, уже стоя в проеме двери. — Наверное, я зря поторопился уговориться о доставке.
Молодой помощник всегда был очень внимателен к своему господину. Леонардо знал: когда старческая немощь совсем одолеет его, не кто иной, как Салаи, будет преданно ухаживать за ним.
— В этом нет нужды, amore mio. — Леонардо готов вечно откладывать срок передачи картины ее заказчику. — По большому счету, мастер никогда не сможет окончательно завершить свое произведение. Только оставить, бросить. Сейчас пришло время бросить это. — Леонардо вспомнил, как четыре с половиной года назад он обнаружил первые признаки порчи на фреске «Тайная вечеря». Тогда ему казалось, что он без сожалений бросает ее на произвол судьбы. От расставания же с этой картиной у него разрывалось сердце, словно он хоронил близкого человека.
— Не лучше ли мне самому сбегать и передать портрет? В конце концов, это просто доставка заказа. Подумайте, господин.
— Нет, Салаи. Я должен лично принести его. Это часть ритуала, оплаченного заказчиком. Личная встреча с маэстро, на которой он сможет посмаковать достоинства своего приобретения.
Леонардо оглядел себя в зеркало. Борода аккуратно подстрижена. Чистые чулки натянуты, как полагается, без складок. Перстень с птичкой сияет как новенький, недаром камни в нем недавно почистили. А камзол из изумрудно-зеленой тафты наверняка произведет на шелкоторговца достойное впечатление.
Леонардо с Салаи покинули студию в мрачном молчании. На улице Леонардо с удивлением увидел, как толпы мужчин, женщин, стариков и детей, оживленно переговариваясь и смеясь, тянутся в центр города. Был пасмурный воскресный день, утренняя месса давно закончилась. Обычно воскресенья посвящаются отдыху, раздумьям и молитве, а сегодня на улицах царила праздничная атмосфера.
— Что это происходит?
— Так сегодня же город торжественно открывает Давида работы Микеланджело, — пояснил Салаи, страдальчески кривясь. — Вот я и подумал, что, если назначить доставку на сегодня, вы, мастер, немного отвлечетесь от грустных мыслей.
Леонардо кивнул.
— Знаешь, Джакомо, иногда ты бываешь сметлив.
Крепко держа под мышкой портрет, Леонардо проталкивался против потока предвкушающих праздник горожан. Впрочем, толпа заметно редела по мере того, как они удалялись от площади Синьории. Смех и веселые голоса постепенно затихали вдали. Леонардо шел все медленнее, но, как он ни тянул время, они уже поворачивали на виа делла Стуфа. Странное дело: эта улица теперь не выглядела такой шикарной и блестящей, какой виделась ему в юношестве и в тот день, когда Лиза впервые позировала для него. Узкая. Мрачная и темная. Заплаты свежей краски на фасадах особняков, растерявших свою былую роскошь, не могли прикрыть вековую копоть и пятна плесени.
Они подошли к дверям особняка Джокондо. Настало время вернуть достойную даму ее супругу. Запечатленный на портрете образ — его собственность, такая же законная, как и сам оригинал. Пользуясь своим правом, супруг повесит портрет в семейной гостиной и навеки заточит его там, где посетители будут скользить по нему беглым взглядом, но в действительности не увидят его. Ибо в глазах гостей дома Лиза всегда была и будет всего лишь хозяйкой, женой своего мужа и моделью Мастера из Винчи. Собственно, таковой она и являлась. Лиза давно уже привыкла безропотно принимать свое место в этом мире. Ему тоже нужно научиться жить с этим. Леонардо глубоко вдохнул и постучал.
Микеланджело
В горле у него пересохло, в животе урчало от голода. Микеланджело в который раз сунул руку в суму. Там была куча золотых флоринов и больше ничего: ни вина, ни хлеба, ни кусочка вяленой рыбы. В последний раз он ел вчера вечером, а сегодня утром допил последний глоток вина. Он положил на язык флорин в несбыточной надежде утолить голод и подумал о том, как бесполезны деньги, когда их негде потратить. Чтобы утолить голод и жажду, нужно сходить на рынок. Но он не мог. Пока еще не мог. Не сегодня.
Он скрывался здесь почти неделю. Выскочив, как ошпаренный, из студии Леонардо, он не покинул город, а направился в свое излюбленное тайное место: в заброшенную сторожевую башню Сан-Никколо на восточной окраине Флоренции. Трехъярусная башня была построена в 1300-х годах, но пустовала, сколько себя помнил Микеланджело. Он использовал ее как укрытие еще со времен своего отрочества.
В его суме нашлось несколько листов бумаги и кусочек сангины, так что он, устроившись на крыше, коротал дни за рисованием и сочинением неуклюжих, но полных чувства стихов.
«Как просто череду счастливых лет прервет короткий миг, не дольше часа, повергнув в скорби бесконечные пределы», — писал Микеланджело. Обосновавшись здесь, он высек резцом на стене подобие календаря и теперь старательно вел счет дням. Согласно его расчетам, сегодня было второе воскресенье сентября — день торжественного открытия Давида.
Микеланджело встал и вгляделся вдаль. Ему хорошо виден возвышающийся над городом массивный дворец Синьории. Под сенью его высоченной башни Давид явится городу и миру. Микеланджело посмотрит церемонию с крыши. Может быть, даже услышит отзвуки радостных возгласов или гневных криков. Отсюда он будет наблюдать за действом, тогда как действо не будет наблюдать за ним.
Микеланджело пробежал взглядом по постройкам и зданиям Флоренции. Как всегда, взор его остановился на красном куполе кафедрального собора. Помнится, когда он три года назад возвратился во Флоренцию, он смотрел на Дуомо с любовью и облегчением; сегодня же его вид вызывал в нем тревогу. Слишком много славных страниц вписано в историю Флоренции, слишком много здесь бессмертных творений искусства, слишком много величия. Что, если он не достоин всего этого, не дотягивает до заоблачной планки?
Когда он впервые прикоснулся резцом к камню Дуччо, в его душе зародилась по-детски наивная мечта о том, что его столкновение с Леонардо войдет в историю города как одно из величайших соперничеств между мастерами искусства. Флоренция на весь мир славилась такими творческими состязаниями.
В 1401 году, например, во славу наступления нового века город объявил конкурс на лучшие чеканки для украшения дверей баптистерия. Первейшие художники Флоренции состязались за честь удостоиться этого заказа. В итоге все отсеялись, кроме двух искусных ювелиров: Филиппо Брунеллески и Лоренцо Гиберти. Брунеллески был старше и имел больше опыта, к тому же уже состоял в гильдии золотых дел мастеров. А Гиберти учился главным образом на живописца. Но оба одинаково страстно желали прославиться, и каждый считал себя лучшим исполнителем этого важного заказа.
Жюри пришлось назначить второй тур конкурса, чтобы определить победителя. Брунеллески и Гиберти должны были сделать образец чеканной бронзовой пластины на ветхозаветный сюжет о том, как по велению Бога Авраам в знак преклонения перед Всемогущим готовится принести в жертву своего сына Исаака. Художники с жаром взялись за дело и трудились дни и ночи напролет. Каждый превзошел себя, стараясь превзойти соперника, и каждый вложил всю душу в свое произведение.
Вдохновленный великими традициями античного искусства, Брунеллески поднялся к вершинам реализма и наполнил свой рельеф драматизмом жизненной сцены. Человеческие фигуры он передал в момент агонии — пронзительно, во всех натуралистических подробностях. Стремительность линий и резкие изгибы форм подчеркивали жестокие моральные терзания и душевный надлом отца, приносящего в жертву Богу своего возлюбленного сына. На скрученном теле несчастного Исаака виднелись каждая косточка и каждая жилка. Сцена в изображении Брунеллески получилась столь физически и психологически реалистичной, что древние римляне, несомненно, приняли бы ее за работу современника. Строгое жюри не могло вообразить, чтобы кто-то сумел создать лучший образец классического искусства.
Потом свою работу представил Гиберти. Молодой, хотя и не столь опытный мастер наполнил ее таким же динамизмом и напряжением и изобразил не менее оригинальные позы, чем Брунеллески. В его рельефе присутствовало столько же, если не больше, анатомического натурализма и ландшафтного реализма. Однако в чеканке Гиберти было кое-что еще: она дышала благодатью, достигающей кульминации в выражении лица Исаака, поднятого к небесам в страстной мольбе о божественном милосердии. Совокупно элементы у Гиберти подчинялись единому замыслу и рождали гармонию, переполняя зрителя одновременно и скорбью, и страхом, и надеждой.
Рельеф Брунеллески был созвучен искусству Античности. Рельеф Гиберти превосходил его. Он победил в конкурсе. Более двух десятков лет ушло у Лоренцо Гиберти на создание всех двадцати восьми рельефов для бронзовых дверей баптистерия. Когда он завершил свой великий труд, общее мнение было однозначным: в том конкурсе действительно одержал верх сильнейший. И теперь, сто лет спустя, Микеланджело считал восточные двери баптистерия совершенными и прекрасными, достойными украшать врата рая.
Брунеллески тяжело переживал поражение. Он бросил занятия скульптурой и переехал в Рим, где посвятил себя изучению архитектуры. Через двадцать лет он вернулся во Флоренцию, чтобы участвовать в другом конкурсе. И снова судьба свела его с Лоренцо Гиберти, они опять стали соперниками. Но на этот раз победа досталась Брунеллески — он выиграл право на реконструкцию кафедрального собора и построил ныне знаменитый на весь свет, внушающий граничащую с одержимостью страсть, пламенеющий величественным куполом собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
Ваяя своего Давида, Микеланджело верил в то, что пробуждает к жизни непобедимого и несравненного гиганта. А потом он увидел написанный Леонардо портрет. Взгляд той женщины до сих пор преследовал его, и с каждым днем все больше — так ему казалось. А вот образ Давида за эти дни понемногу стирался из его памяти. Жестокие сомнения терзали его. Что, если Давид не так прекрасен, как он вообразил? Что, если все это время он заблуждался насчет своего произведения, тешился пустыми надеждами? Оба участника того давнего конкурса, Гиберти и Брунеллески, в итоге создали каждый свой шедевр, но если только один из участников поединка достиг истинного величия, то был ли вообще поединок? Соперничество, которое в конечном счете не ведет к победе одного над другим, — вовсе не соперничество, так получается? Или не так?
В конкурсе столетней давности верх одержал лучший, и в итоге родилось чудо — двери баптистерия. На сей раз лучший таковым не стал, он проиграл. Это Леонардо должен был получить камень Дуччо.
— Buongiorno, mi amico, — вдруг услышал Микеланджело голос Граначчи и увидел, как тот взбирается на крышу сторожевой башни.
— А ты что здесь делаешь? — оторопело спросил Микеланджело, опустив свой блокнот. Оказывается, в глубокой задумчивости он часами рисовал собственную руку.
— Я за тобой. Давида вот-вот откроют.
— Знаю. Как ты меня нашел?
Граначчи сел рядом с другом и достал из кармана флягу.
— Что бы там о тебе ни болтали, я-то знал наверняка, что ты не покинешь Флоренцию. Ты точно захочешь посмотреть на открытие, подумал я, но, надо полагать, не желаешь, чтобы кто-то увидел, как ты на него смотришь…
Граначчи сделал глоток из фляги, потом передал ее Микеланджело, который тоже к ней приложился. Вино оказалось более сладким и холодным, чем ожидал Микеланджело.
— И тут мне пришло в голову… О! Мой друг, конечно же, укрывается где-нибудь на верху, — торжествующе заявил Граначчи.
Микеланджело опустошил флягу.
— Я стал обшаривать крыши всех домов вокруг площади, даже на Дуомо взбирался…
Граначчи достал из кармана ломоть хлеба и немного сыра и протянул Микеланджело.
Тот положил в рот большой кусок хлеба, следом отправил сыр. Ах, какой он свежий, мягкий, нежно-солоноватый!
— Но только с верхушки колокольни Джотто, — продолжал Граначчи, — я наконец углядел малюсенький шарик — голову, мелькающую на этой крыше. И тотчас вспомнил, как ты любил забираться сюда в детстве, когда Гирландайо случалось наорать на тебя — а это бывало всякий раз, когда твои рисунки превосходили его собственные. — В качестве доказательства Граначчи указал на лежащий в стороне блокнот Микеланджело. — Пару дней назад я пришел к башне, залег на пару часиков в тех холмах и принялся наблюдать. И ты оказался здесь!
— Это значит, что целых два дня ты мог бы приносить мне вино и сыр? — с полным ртом неразборчиво пробурчал Микеланджело.
Граначчи решительно замотал головой.
— Явись я тогда за тобой, ты, чего доброго, снова сбежал бы, и ищи тебя потом… по новой. Я и так с ног сбился, пока разыскивал тебя. А сейчас самое время, бежать поздно. Так что andiamo, mi amico, тебя и так уже заждались. — Граначчи протянул Микеланджело ладонь.
Микеланджело скрестил на груди руки и уселся на корточки, всем своим видом показывая, что не собирается никуда идти, — словно заупрямившийся суслик, окопавшийся в своей норке.
— Пусть ждут. А еще лучше — пусть открывают без меня.
— Да брось, Микеле, пойдем. Не можешь же ты торчать здесь вечно.
— Очень даже могу. — Граначчи станет приносить ему пищу, а он продолжит беззаботно и удобно обитать здесь, на крыше, и обозревать окруженный каменными стенами любимый город. Возможно даже, выточит из этих стен нечто выдающееся. Разумеется, только если Давид придется флорентийцам по душе. Если нет, он больше не будет ничего ваять. Никогда.
— Это праздник в твою честь. Ты изваял Давида. Он — твой.
— Сам знаю, что мой. Думаешь, я забыл? Да я каждый день только об этом и думаю. Не могу я отказаться от этой статуи. — Микеланджело горестно обхватил руками голову. — Хотя он жалок. — Завершив свою Пьету, он не побоялся ночью пробраться в Ватикан и высечь на скульптуре свое имя, чтобы никто не усомнился в ее авторстве. Теперь же он мечтал сбежать куда глаза глядят и сделать вид, что не имеет к Давиду никакого отношения. Вдруг отец проклянет его, заявит, что он опозорил семью? Что, если при виде статуи толпа засвистит и заулюлюкает? А может быть, и еще хуже — вдруг флорентийцы встретят Давида равнодушным молчанием? Просто пожмут плечами и разойдутся по своим делам, как если бы не увидели ничего, достойного внимания?
— Не могу я туда идти. Пусть Давид сам справляется.
— Ну, он-то справится, не сомневайся, — рассмеялся Граначчи. — Ему что, камень — он и есть камень. Ни чувств, ни мыслей. — Он пошел к лестнице, но не дойдя до ступенек, повернулся к Микеланджело. — Знай, прямо сейчас на площади собралась толпа флорентийцев, и они не меньше тебя дрожат от страха. Только боятся они не того, что кто-то отвергнет их произведение. Их страхи реальнее твоих. Они боятся Медичи. Боятся папского войска и вторжения французов. Представь, как это выглядит: ты, создатель могущественного Давида, страшишься показаться на открытии собственного произведения. Думаешь, этим ты вдохновишь людей на битву с их собственными Голиафами? Не статуя нужна нашим согражданам. Им нужен кто-то, кто подаст пример, встанет лицом к лицу с неизвестностью, с тем, чего боится, и выживет, не даст себя уничтожить. Так что не ради себя тебе нужно идти туда, Микеланджело Буонарроти. И не ради меня. И даже не ради твоей семьи. И уж, разумеется, не ради бесчувственной глыбы мрамора. А ради народа Флоренции. Ступай.
Леонардо
Дверь распахнулась.
— Маэстро Леонардо! Добро пожаловать, заходите, заходите, — рассыпался в любезностях Франческо дель Джокондо и широким жестом пригласил Леонардо и Салаи внутрь.
— Я принес вашу картину. — Леонардо показал хозяину завернутый в льняное полотно и перевязанный веревкой портрет, но отдавать не спешил. Когда Джокондо закрыл за ними дверь, левый глаз Леонардо снова задергался. Он внес картину в дом, который она уже никогда не покинет. — Синьора дома?
— Да, но она наверху, занимается с детьми. — Джокондо поправил высокий воротник камзола с длинными фалдами, сшитого из красно-золотой парчи и украшенного крупными золотыми пуговицами. Смотри-ка, вырядился, словно на прием к королю. — Не в ее обычае присутствовать при моих сделках.
Леонардо кивнул. Он и не ожидал увидеть ее, но ответ Джокондо окончательно и бесповоротно подтвердил его предположения.
— Угодно ли вам взглянуть на то, как я буду вешать картину?
— Весьма угодно, синьор. Очень рад, что вы пришли, — говорил Джокондо, ведя их по длинному тусклому коридору мимо гостиной, где супруги принимали гостей, мимо помпезной парадной столовой и музыкальной гостиной. — Некоторые мои друзья имели удовольствие увидеть портрет во время вашего показа. Они уверяют, что я не разочаруюсь. Но я не хотел смотреть картину в присутствии зевак. Я готов и подождать, чтобы насладиться ею частным порядком, без чужих глаз. — Наконец они дошли до задних комнат дома. Джокондо отворил маленькую дверь. — Прошу, мой личный кабинет, — объявил он. — Картина будет висеть здесь.
Леонардо оглядел крохотную, темную, воняющую плесенью каморку. Единственное окно находилось слева, по углам высились рулоны тканей. Массивный деревянный стол уродливой формы был завален пуговицами, катушками ниток, кипами тесьмы и кружев. Крепкий смолистый дух горящих в камине дров не заглушал застоявшихся в помещении запахов.
Джокондо сдвинул на край столешницы стопку книг и какие-то принадлежности для шитья. Протянул руки.
— Ну вот, давайте-ка ее сюда.
Леонардо крепче сжал портрет. В огромном для такой комнатушки камине потрескивали только что подброшенные поленья. Стоит хотя бы крохотной искорке случайно выскочить из очага на старый вытертый ковер, и эта конура мгновенно займется огнем, а все ее содержимое превратится в груду золы.
— Принимаете ли вы в кабинете посетителей, синьор?
Леонардо многократно бывал в доме Джокондо, но ни разу — в кабинете.
— Разве что кого-то из членов семьи, ближайшего партнера время от времени, а в общем — нет, никого. Это мой личный кабинет. Для уединенных раздумий о несуетном, так сказать.
— И значит, никто другой не увидит портрета?
— О, я предпочитаю иметь супругу в своем безраздельном владении. Давайте-ка ее сюда. — Джокондо в нетерпении потирал пальцы. Леонардо не двигался, и тогда Джокондо повторил: — Маэстро Леонардо? Ну что же вы? Картину давайте.
Леонардо кивнул, но все же держал портрет под мышкой.
— Мастер, — прошептал Салаи.
Больше держать ее при себе невозможно. Невозможно. Она принадлежит ему.
— Ну разумеется. — Леонардо передал наконец свое произведение владельцу.
Джокондо схватил со стола нож и взрезал по краю льняную ткань — словно обертку, в которую мясник завернул добрый шмат мяса.
— А вот и она. — Он поднял портрет к свету.
Леонардо отвернулся к крохотному слепому окошку, чтобы не видеть свою работу в этой затхлой конуре. Он уже сказал ей свои прощальные слова.
— Интересно, интересно… — бормотал Джокондо, — но… странно. Я еще не видел ничего подобного. — Он замолчал, вероятно, подыскивая слова для похвалы. — Позвольте, но где же штуки шелка, где моя музыкальная шкатулка, где фамильный герб ее отца? И этих восхитительных опаловых пуговиц не видно — тех, что выписаны из Венеции. И моего портрета нет. И потом, что это за пейзаж такой у нее за спиной? Что-то я его не узнаю… Но правы мои друзья. Она здесь совсем как настоящая. Прямо как живая. Будто сидит передо мной прямо сейчас и всегда будет со мной, в моем кабинете…
От скрежета дерева по камню Леонардо вздрогнул — это Джокондо елозил портретом по столешнице.
— Осторожнее, пожалуйста, — предостерег его Салаи. — Живопись требует бережного отношения.
Лиза больше не принадлежала Леонардо, она — собственность своего супруга. Она жена и мать, и она дорожила этими своими званиями.
— Вон там. Самое подходящее для нее местечко. Она словно специально предназначена для него. Посмотрите, маэстро. Не правда ли, смотрится превосходно?
— Да, — не поворачиваясь, уронил Леонардо.
— И кстати, я слыхал, что в свои картины вы любите зашифровать какой-нибудь ребус. Это правда?
Леонардо смотрел вниз, на то, как блестит Арно в скупых лучах солнца. Река снова текла в прежнем русле, следуя пути, начертанному для нее природой.
— Если так, вы должны сказать, какую загадку припрятали в моей картине. Ну просто обязаны. Клянусь, я никому не разболтаю, это точно, но для меня будет особенным удовольствием знать то, что сокрыто от других. Говорят, что вы добавили или, скажем так, зашифровали математическую задачку в вашем… э-э-э… «Святом Иерониме», кажется? И нечто такое, связанное с созвездиями, есть в вашей Мадонне — той, что в скалах. И еще говорили о музыкальной фразе в портрете синьоры де Бенчи? А, нет, там стихи, а ноты, они в… — Джокондо наморщил лоб.
Леонардо смотрел в окно и думал обо всех секретах, больших и маленьких, которые за долгие годы рассыпал по своим картинам. Досужие зрители никогда не обнаружат их, а сам он ни за что не проговорится, но сейчас все прежние загадки казались ему мелкими и незначительными в сравнении с той, которую он запрятал в портрете Лизы. О, эта тайна много глубже остальных, хоть и не имеет никакого отношения ни к науке, ни к математике, ни к звездам. Ее не постичь, опираясь на знания из истории, литературы или механики. Как бы старательно ни выискивали ее глаза или разум. Ее можно только почуять. Сердцем.
Ибо на сей раз его секрет — любовь.
Лишь тот, в ком живет любовь, способен открыть тайну, спрятанную им в чертах Лизы. Если же сердце зрителя глухо к любви, Лиза покажется ему безжизненной и обыденной, как оловянная тарелка. Таким людям никогда не понять, что в Лизе так привлекает других. Они отмахнутся от картины как от безделки. Тех же, кто любит или любил, портрет тронет и очарует. По непонятным причинам образ Лизы будет вечно преследовать их. Они и объяснить не сумеют, чем она их так заворожила. Только они откроют рты, чтобы высказать, что у них на душе, слова ускользнут от них, и очарование вмиг рассеется, как дымок от церковной свечки. Так и с самой любовью: стоит отстраниться, чтобы изучить ее, как предмет изучения мгновенно улетучится. Ибо любовь не живет под пристальным отстраненным взглядом, однако от близости и безусловной веры распускается, словно цветок. Она цветет в дальних тайниках сердца, в тишине, где нет места мысли. Истинно любить возможно, лишь погрузившись в любовь с головой, отдавшись ей всецело — точно так же, как постичь секрет моны Лизы возможно, лишь безраздельно отдав ей сердце.
За окном рассыпался и ворвался в каморку чей-то звонкий смех.
— Что это творится там, снаружи? — спросил Джокондо. — Столько людей сегодня высыпали на улицы. Хотел бы тешиться надеждой на то, что все это — в честь моего нового портрета, но даже я понимаю, что это лишь мое глупое мечтание. — Джокондо подошел к окну и из-за плеча Леонардо посмотрел вниз. — Такое столпотворение бывает только на праздники.
Леонардо был далек от желания что-то объяснять шелкоторговцу и послал вопросительный взгляд Салаи.
— А это сегодня открывают статую Давида на площади, синьор, — сказал понятливый Салаи.
— Ах да, конечно. Не могу поверить, что забыл об этом! — Джокондо махнул Леонардо рукой, прося пропустить его поближе к окну. — Я-то ожидал, что вы посетите церемонию, маэстро. Что будете восседать в креслах для особо почетных гостей.
— Я не люблю толпу.
— Не любите толпу! — рассмеялся коммерсант. — Давайте пойдем туда вместе! Хорошая прогулка — лучший способ отметить чудесное приобретение для моего маленького чистенького кабинета.
Собираясь на выход, Леонардо нарочно наклонился, чтобы не оказаться лицом к камину и картине. Он не желал запомнить портрет висящим над уродливым столом в этой затхлой каморке. Он хотел, чтобы в памяти он остался таким, каким был выставлен в его просторной светлой студии, — купающимся в солнечных лучах, в окружении принадлежащих ему вещей.
Однако, подняв голову, он оказался лицом к лицу с Лизой. С живой, а не нарисованной.
Она стояла в проеме двери и не отводила взгляда от портрета над письменным столом. Ее глаза блестели. Краска медленно разливалась по ее груди и шее. Леонардо надеялся, что она улыбнется. Но она не улыбалась.
— Не правда ли, он — совершенство? — Джокондо быстро пересек комнатушку и обнял Лизу за талию. — Теперь-то мне не придется делить тебя ни с кем. — Он чмокнул ее в щеку.
Леонардо хотел рассказать ей о том, сколько народу пришло в его студию поглядеть на ее портрет, обсудить ее, увидеть. Но он знал, что не сможет задушевно поговорить с ней в присутствии супруга, и, кроме того, теперь он понял, сколь незначителен был приготовленный для нее, но не состоявшийся подарок. Что значит один вечер всеобщего восхищения в сравнении с вечностью заточения в этих убогих стенах?
— Мы собрались на церемонию открытия нового Давида, которого изваял тот юноша. Люди очень волнуются. Вон их сколько на улице, ты только посмотри. — Джокондо указал рукой на окно, но Лиза не отрывала взгляда от портрета. Небольшая бороздка залегла меж ее бровей.
Помнила ли она прощальную полуулыбку, которую подарила ему, выходя из его студии? Догадывалась ли о том, как выглядела в тот момент? И видела ли сейчас, глядя на свое изображение, то, что тогда увидел он? Или что-то свое?
— Лучше бы нам поспешить, не то пропустим все самое интересное. — Джокондо оглядел себя в маленькое зеркальце, висящее на стене, и напялил красную шелковую шляпу. — Идем, Лиза. — Он подал супруге руку.
— Прошу извинить меня, я не могу. Что-то голова разболелась.
— О! — Джокондо выглядел разочарованным. — Но тогда ты все пропустишь. Надеюсь, тебе скоро полегчает. Идемте, маэстро.
Неужели пришло время уходить? Так скоро? Он посмотрел на Лизу, рассчитывая на один последний взгляд, одну последнюю крохотную улыбку, последний всполох стыдливого румянца на ее лице. Но она, не меняя выражения, не отводила глаз от своего портрета. Как будто его, Леонардо, и не было в этой комнате.
— Маэстро Леонардо, per favore, — нетерпеливо поторопил с порога Джокондо.
Леонардо почувствовал, как отяжелели, налились свинцом его ноги, когда он последовал за Джокондо, оставив Лизу в комнатушке. Идя сумрачным узким коридором, он оглянулся на кабинет, где она все еще стояла. И в первый раз увидел свою картину висящей над столешницей уродливого стола. С этого расстояния она выглядела как заурядный домашний портрет, маленький и неинтересный, сосланный в крохотную приватную комнату.
Пока Джокондо уводил Леонардо все дальше и дальше от Лизы, он напоминал себе о том, что она — жена и мать и дорожит этими своими званиями. Пусть это несправедливо, но так устроен мир, которому она принадлежит. Она не могла бы уйти с ним. Это невозможно.
Микеланджело
Микеланджело что было духу мчался через Понте-алле-Грацие, самый длинный мост во всей Флоренции. Он задыхался, легкие жгло огнем, но он не останавливался. Он не хотел опоздать на церемонию.
Лишь когда друг Граначчи ушел со сторожевой башни, Микеланджело осознал всю глубину и силу своего желания увидеть открытие статуи. Он в кровь разбивал руки, подорвал зрение, работал как одержимый, едва не умер от переутомления, навлек на себя гнев отца, довел до безумия брата, спалившего их отчий дом, — и все это ради того, чтобы вызвать Давида к жизни. Он влил свою кровь в этот мрамор и наполнил своим дыханием его легкие. Он вложил в статую всего себя, и это он сам сейчас обнаженным предстанет перед всей Флоренцией там, на площади Синьории.
Уже перебравшись на северный берег Арно, он вдруг понял, что буквально взмок и его неказистая одежда пропахла потом. Он подумал было остановиться у реки и вымыться, но тут же отказался от этой затеи. Тогда он точно опоздает на церемонию.
Да и не впервой, с некоторой стыдливостью решил Микеланджело, ему придется в неопрятном виде явиться на важное общественное мероприятие.
Он свернул на улицу, всегда бойкую и оживленную, и с удивлением увидел, что она практически пуста. Впрочем, задумываться об этом было некогда, так как он уже свернул в переулок, в другом конце которого виднелись изящные арки Лоджии деи Ланци и выход на площадь Синьории. Статуя его Давида установлена на несколько шагов вправо от лоджии. Значит, он уже почти на месте. Однако все подходы к площади были запружены народом. Желудок Микеланджело свело от волнения. Неужели церемония окончилась и люди уже расходятся?
— Permesso, — пробормотал он, вклинившись в людскую массу. Он надеялся на то, что опоздал все же незначительно.
Только начав пробираться через толпу, он осознал, насколько она огромна, настоящее столпотворение. Все эти люди, как и он, двигались к площади. Он встал на цыпочки, чтобы посмотреть поверх голов, но увидел впереди бескрайнее человеческое море. Должно быть, городские власти установили там кордон и осматривают каждого, кто входит на площадь, опасаясь новых актов вандализма.
— Permesso, — повторил он уже громче. Сунулся в одну сторону, потом в другую, но ему не удалось даже на шаг приблизиться к площади. — Scusa!
— Осади, ты, олух, — рявкнул на него дородный фермер.
— Мне надо на площадь.
— Всем надо, не видишь, что ли. А места на всех не хватает, capito?
— Да нет же! Площадь может вместить всех флорентийцев.
— Может, не может, какая разница, там уже полно народу. Так что стой и не дергайся. Ишь, ухарь выискался!
Фермер расправил плечи и полностью перегородил дорогу Микеланджело.
— Deici, — взвился над толпой многоголосый хор.
Почему это толпа кричит «десять»?
Следом раздалось:
— Nove.
— Начался обратный отсчет? — взревел Микеланджело. — Они что, уже считают от десяти до одного, чтобы открыть статую?
— А ты как думал, — раздраженно огрызнулся фермер.
— Otto.
— О нет! Подождите! — У Микеланджело от волнения запылали уши. — Их надо остановить. — Давид совсем рядом, поверни за угол — и вот он. Но туда уже не проберешься, и похоже, надежды увидеть его открытие у него никакой. — Пустите! Это я изваял эту статую, я скульптор! Мне надо быть там!
— Sette.
Фермер презрительно фыркнул, оглядывая расхристанного Микеланджело.
— Такой же скульптор, как я — папа римский.
— Sei.
Господи, уже шесть! Микеланджело лихорадочно соображал. Если взобраться на крышу городского совета, можно помахать оттуда флагом, тогда его заметят со сцены. Или пробраться по головам? Попросить здоровяка-фермера поднять его себе на плечи, оттуда можно шагнуть на плечи того обритого монаха, потом перепрыгнуть на плечи вон того кудрявого дядьки, оттуда — на плечи той девушки с нежным профилем…
— Cinque.
Стоп. Это же не абы какая девушка! Вон как въелась в ее руки красная краска. Цвет шерсти и шелка, цвет любви его брата. Мария, дочка шерстяника, возлюбленная Буонаррото. Она стоит недалеко от сцены. Если привлечь ее внимание, она сумеет помочь ему.
— Мария! Мария! — задыхаясь, закричал Микеланджело.
— Quattro.
На его крики обернулись сразу несколько женщин и девиц. Понятное дело, чуть не половину синьор и синьорин в этой толпе зовут Мариями. А фамилию той Марии он никогда и не знал. Она могла быть Марией ди Джованни, или Луиджи, или Франческо — по имени отца? Или по профессии? Они же шерстяники, возможно, их фамилия как-то связана с их занятием — с красильщиками или ткачами?
— Tre.
— Мария Буонарроти! — завопил что было сил Микеланджело. Это лучшее, что пришло ему в голову.
Чудо! Она обернулась. Увидела его.
— Микеланджело? — В ее зеленых глазах вспыхнула паника. — Ты же должен быть там! — Мария указала рукой на сцену.
— Due.
Микеланджело опустил голову, плечи его поникли. Он стоял всего в нескольких шагах от Давида, но все же пропустит его открытие.
— Э-э-э-э-эй! — пронзительный голос Марии взвился над толпой и покатился по всей площади, как перезвон соборных колоколов в день церковного праздника. Микеланджело и не представлял, что у человека может быть голос такой невероятной силы.
Толпа прекратила отсчет. Все стали оглядываться в поисках источника звука.
— Скульптор пришел! — крикнула Мария и быстро протолкалась к Микеланджело. Схватив за руку, она потащила его за собой. — Иногда и голос может пригодиться, а? — прошептала девушка. И Микеланджело мысленно перенесся в тот далекий день, когда голос Марии, чистый, сильный, высокий, плыл над площадью Дуомо, выводя скорбный гимн на панихиде по почившему папе. Не удивительно, что его брат любил эту прекрасную девушку.
Меж тем по толпе передалась весть, что на церемонию явился автор скульптуры. И люди стали расступаться перед Микеланджело, как воды Красного моря по велению Моисея. Глядя поверх голов, Микеланджело увидел, что защитную изгородь вокруг Давида уже сняли и статуя высилась на своем пьедестале, прикрытая лишь огромным черным пологом. Вот-вот вся Флоренция увидит его Давида.
Граначчи и Джулиано да Сангалло протянули ему сверху руки, и с их помощью Микеланджело взобрался на помост.
— Уф, в последний миг поспел, а? Чуть не пропустил самое главное, amico mio, — с ухмылкой прошептал Граначчи.
Микеланджело оглядел площадь, и богохульное ругательство невольно слетело с его губ.
Людское море затопило площадь и выплескивалось на соседние улицы. Собралась вся Флоренция: монахи, ювелиры, кузнецы, городская знать, домохозяйки, проститутки, светские франты, попрошайки. Маленькие дети сидели на плечах у отцов, те же, кто постарше, как спелые груши, свисали со стоящих в лоджии статуй. Целые семейства свешивались с балконов выходящих на площадь домов. Так вот почему в городе так пусто, догадался Микеланджело. Они все сбежались сюда, на церемонию.
Позабытые в спешке и суете страхи с новой силой набросились на Микеланджело. Зрение затуманилось, перед глазами запрыгали уже знакомые черные точки. Но почему ему казалось, что чьи-то руки ласково сжимают его плечи?
— Отдышись, figlio mio, просто подыши, сыночек, тебе нельзя пропустить этого.
Микеланджело сделал два глубоких вдоха. Чернота перед глазами прошла, зрение потихоньку прояснилось, и он повернулся к отцу, который заботливо гладил его по плечам.
— Вы пришли, отец, — счастливо прошептал Микеланджело.
— Все вокруг пошли, мы решили, что тоже должны быть здесь, — угрюмо буркнул Лодовико.
И правда, за спиной Лодовико выстроились другие родственники. Буонаррото держал за руку свою Марию. Рядом — его бабушка, тетка, дядя. Даже старший брат Лионардо — и тот пришел! А ведь Микеланджело не видал его с того дня, как Лионардо подался в доминиканский орден. Возле него — самый младший брат Джизмондо, хотя предполагалось, что он все еще воевал в числе прочих наемников со злокозненными пизанцами. Микеланджело растроганно сгреб братьев, старшего и младшего, в объятия. И тут заметил Джовансимоне — тот стоял в сторонке, как бы отдельно от семьи. Микеланджело кинулся к нему.
Они встали нос к носу, брат перед братом.
Микеланджело видел Джовансимоне в последний раз еще до пожара, учиненного в доме. Он мысленно перебрал внушительный список грехов, в которых желал бы упрекнуть братца.
— Прости, я очень виноват, — сказал Джовансимоне. — Прости меня за все. — В глазах его блестели неподдельные слезы. — Я больше никогда так не буду.
— Ну конечно будешь, и еще как, — ответил Микеланджело. — И я снова все тебе прощу.
Они обнялись.
— Signore e signori, — громко начал Пьеро Содерини. Передние ряды передали его слова дальше, и они поплыли по толпе, пока не достигли последних рядов на другой стороне площади. — Перед вами скульптор.
Содерини сделал знак Микеланджело, и тот ощутил, как гордость заполняет его существо. Ветерок развевал края скрывающего статую черного полога, и Микеланджело быстро зашептал молитву, благодаря Бога за то, что успел к открытию.
— Не соблаговолишь ли сказать несколько слов, прежде чем мы продолжим церемонию? — спросил Содерини.
Микеланджело помотал головой, не в силах вымолвить даже слово «нет».
— Такие церемонии удаются куда лучше, если раззадорить толпу хорошей речью, — прошептал Содерини ему в ухо. — Давай, скажи им что-нибудь такое, духоподъемное.
Микеланджело, глядя на море голов, привычно запустил руки в карманы туники, надеясь зарыться пальцами в успокоительный бархат мраморной пыли, но карманы оказались пустыми.
— Смелей, мой мальчик. Они ждут, — прошептал ему в другое ухо Лодовико.
Микеланджело хотелось, чтобы Давид уже был обнажен, а не запеленут в это покрывало. Тогда они бок о бок ринулись бы в бой. А пока он один-одинешенек, и Господь не торопится вложить в его голову ни красивых слов, ни торжественных речей.
Но он же скульптор, а не лицедей.
Точно так же как Давид — пастух, а не воин.
Правда, Давиду предстоит вступить в бой. «Но у него хотя бы есть его праща и камень», — угрюмо подумал Микеланджело.
По его хребту пробежал холодок.
И вдруг мысли повернули в неожиданное русло. А ведь свой камень есть у всех детей Божьих, даже если они не догадываются об этом. В самом деле: у красильщика шерсти и шелка — его проворные, хваткие пальцы, умеющие перебирать волокна быстрее, чем конкуренты; у фермера — его плодородная земля и крепкая лошадка, неутомимо таскающая плуг, а также любовь к труду на земле. У кого-то это курица, продолжающая исправно нести яйца, даже несмотря на старость, или крепко сбитая повозка, которая передается от поколения к поколению. У брата Буонаррото — безграничная любовь к женщине; у их отца — безграничная любовь к сыновьям. У Марии — ее волшебный голос. У Макиавелли — острый, как лезвие, ум; у Содерини — обезоруживающая улыбка политика; а у Леонардо да Винчи, скрепя сердце был вынужден признать Микеланджело, — и вовсе полный карман таких камней.
Свой камень есть и у него, Микеланджело. Его «камень» не умеет зажигать толпу вдохновенными речами или уморительными шутками, пускать разноцветные дымы, проделывать фокусы и играть музыку. Его камень — это его страсть к мрамору. Если Содерини хочет, чтобы он выдал публике нечто вдохновляющее, у него лишь один способ сделать это.
Он схватил конец веревки, которой был обвязан прикрывающий Давида полог, и резко потянул.
— Любуйтесь! Мой камень.
Леонардо
— Знаете, почему мне так любопытно поглядеть на Давида этого юного скульптора? — вопрошал Джокондо, уводя Леонардо по коридору все дальше и дальше от Лизы. — Вовсе не потому, что он какой-то там символ свободы Флоренции, или великий объект поклонения христиан, или какую там еще чушь болтают о нем. Меня даже не интересует сам этот парень с его страстью к ваянию, из-за которой он чуть не уработался до смерти, хотя отчасти дело и в этом тоже. Больше всего меня привлекает другое: ему твердили, что это невозможно, а он наперекор всем взял да изваял статую.
Леонардо резко остановился.
— Маэстро Леонардо? Вы как, в порядке?
Дыхание Леонардо замедлилось. Внешние звуки отступили куда-то вдаль. Безликие унылые стены коридора расцвели красками.
— Маэстро? — тревожно окликнул его Джокондо.
Крутанувшись на высоких каблуках, Леонардо стремительно зашагал обратно, к кабинету Джокондо. Длинные атласные фалды камзола развевались за ним, как паруса.
— Маэстро Леонардо! Куда вы?! — удивленно воскликнул коммерсант.
Услышав слова мужа, Лиза обернулась и увидела, как Леонардо спешит в ее сторону. Она вздрогнула, ее рот приоткрылся от удивления.
— Моей супруге нужен отдых, — предупредил Джокондо.
А Леонардо, будто не слыша, продолжал шагать в сторону кабинета.
Лиза от неловкости замотала головой. На ее щеках проступил густой румянец. Ждала ли она, что он поцелует ее? Сердилась и желала прогнать его вон? Может, хотела, чтобы он забрал ее отсюда? Или чтобы раз и навсегда оставил в покое? Судя по выражению ее лица, она подумала обо всем этом одновременно.
— Синьор! — Джокондо уже перешел на крик.
В кабинете Леонардо отчаянно хотелось заключить Лизу в объятья. Она принадлежала ему. Они должны быть вместе. И это возможно.
Однако Леонардо не остановился возле нее, не кинулся к ней. Он пронесся мимо, подскочил к столу и схватил портрет.
— Что такое вы делаете? — спросил Джокондо, добежав до кабинета. Как и Леонардо, он миновал Лизу и кинулся прямиком к портрету.
Леонардо сунул картину под мышку.
— Портрет не окончен.
— А на мой вкус, вполне окончен, — возразил Джокондо.
— Мне лучше знать, когда моя работа окончена, а когда нет. И вот эта не окончена. — Он взглянул на Лизу. Она больше не отводила глаз и смотрела прямо на него. — Я должен забрать его с собой.
— Вы не можете забрать его. Я ваш заказчик. Картина принадлежит мне, — отбросив любезности, заявил Джокондо.
— Пока картина не окончена, она моя.
Лиза кивнула, но так быстро и неуловимо, что заметил это только Леонардо.
— Ну хорошо… хорошо… допустим. Когда же она будет окончена? — спросил Джокондо.
— Я сам решу. Я почувствую, когда наступит этот момент.
— Но я заплатил за нее большие деньги, маэстро. И заплатил вперед. — Джокондо цепко ухватил Леонардо за локоть. — Если не оставите мне картину, я буду вынужден обратиться к властям.
— Салаи, дай мой кошель.
Салаи подошел к Леонардо и, отвернувшись от присутствующих, вполголоса сообщил:
— Господин, мы потратили все деньги, что он заплатил нам.
— Неважно, чьи это деньги, Салаи, дай сюда сотню флоринов.
— Здесь нет столько.
— Что?!
— Мы потратили… — Салаи придвинулся к нему ближе и перешел на шепот: — Я все потратил. — Он втянул голову в плечи. — И пока город не заплатит за вашу фреску, у нас не будет денег, чтобы возместить расходы этому господину. Лучше уж, мастер, оставьте картину здесь.
Леонардо вздохнул. Это целиком его вина.
Джокондо требовательно протянул руку:
— Полагаю, у вас есть кое-что, принадлежащее мне.
— Да, спорить не буду, — согласился Леонардо. Он избегал смотреть на Салаи. Или на Лизу. И опустил взгляд на свой перстень. — Думаю, этого, — сказал он, снимая перстень с пальца, — более чем достаточно, чтобы покрыть мой долг перед вами. — Леонардо уронил сверкающую птичку в ладонь Джокондо.
— Нет, — прошептал Салаи.
Шелкоторговец хотел было возразить, но блеск золота, рубинов и изумрудов закрыл ему рот.
— Это настоящее?
— Перстень подарен мне королем Франции Людовиком XII. На него глубокое впечатление произвели мои мечты о полетах в небе наравне с птицами. Заверяю вас, вещица — не подделка.
— Вы думали, что сможете летать? — удивился Джокондо.
— Нелепо, знаю. — Он поймал Лизин взгляд. — Но я потчевал его величество занятными рассказами о моих экспериментах с полетами, и он подарил мне это. Чтобы воодушевить меня и поддержать в осуществлении моих замыслов. — Теперь у него осталась лишь одна мечта, над осуществлением которой он будет трудиться, покинув этот дом. — За этот перстень вы сможете нанять сотню живописцев, и они напишут вам сотню портретов.
— Нисколько в том не сомневаюсь, — кивнул Джокондо.
— Тогда я могу уйти? С портретом?
— Да, конечно… — пробормотал Джокондо, не в силах отвлечься от сверкающих камней.
На один последний короткий миг Леонардо встретился глазами с пронзительным взглядом Лизы. Она попыталась спрятать улыбку, но не сумела укротить радость. Леонардо повернулся и пошел к двери.
— Но вы собираетесь окончить портрет, ведь правда? — крикнул ему в спину Джокондо. — И тогда приносите его сюда. Надеюсь, вы позволите мне снова оплатить его?
— Безусловно, — отозвался Леонардо, крепко прижимая к себе картину. — Я человек слова. И всегда оканчиваю то, что обещаю окончить.
Микеланджело
Солнечные лучи отражаются от беломраморной кожи. Мускулы напряжены, ребра подрагивают, колени, словно пружины, готовы вот-вот разогнуться, взгляд сосредоточен на надвигающемся противнике. Давид стоит, как живой, освободившись от закрывавшего его полога, и мужественно взирает на публику.
Когда Микеланджело сдернул полог, реакция была мгновенной и такой бурной, что сердце скульптора переполнилось радостью. Единый одобрительный рев зародился на дальней стороне площади, такой же — на противоположной, третий достиг апогея в первых рядах, и наконец волны восторга столкнулись и отхлынули назад, слившись в дружный хор. Прямо перед помостом худая молодая женщина рухнула на колени и запела молитвы Богу. Мальчишка, сидящий на отцовских плечах, пронзительно засвистел в знак одобрения.
Микеланджело столько времени провел со своим Давидом, что уже не в силах был судить о нем, а мог лишь положиться на мнение горожан, впервые увидевших его. Он смотрел на статую их глазами. Восхищенными глазами отца Бикьеллини, настоятеля церкви Санто-Спирито, позволившего Микеланджело анатомировать трупы в мертвецкой при своем храме и воспринимавшего Давида как объект религиозного поклонения. Глазами солдата, который размахивал флагом Флоренции, — для него Давид был символом отваги. И глазами молоденькой служанки, мечтательно взирающей на мраморную стать Давида, — в нем явно воплотились ее желания. Глазами Буонаррото, который в этот момент переговаривался с Марией и ее родными, — им Давид возвещал о грядущем счастье. В глазах же отца Микеланджело Давид — предмет, которым можно и нужно гордиться.
Давид больше не принадлежал Микеланджело. Он принадлежал всем, кто стоял на площади, каждому флорентийцу и каждому паломнику или путешественнику, который когда-либо посетит Флоренцию. Любой, кто встанет перед Давидом, увидит его по-своему и на своем языке будет делиться с ним своими страхами и надеждами. И как людям свойственно меняться, общаясь с другими людьми, так и Давид с каждым новым человеком, новым разговором тоже будет меняться. Не формой и не фактурой мрамора, а душой. Всякий, кто посмотрит на него, оставит ему частичку своей души, а он отдаст частичку своей.
Микеланджело снял с плеча суму и передал отцу. Лодовико заглянул внутрь, и глаза его расширились, будто он увидел что-то страшное. Но Микеланджело знал: это от радости. Ведь тяжеленная сума доверху набита золотыми флоринами. Микеланджело был очень рад, что наконец освободился от этой ноши.
Он обернулся, чтобы поздравить с успешным открытием гонфалоньера Содерини, но глава городского правительства куда-то исчез. Вместо него перед Микеланджело стояла черноволосая красавица в длинном платье из черного бархата, с усыпанным драгоценными камнями распятием на шее. Ей было не больше двадцати, но она смотрела на Микеланджело как человек, хорошо осознающий свою власть.
Микеланджело инстинктивно приосанился и склонил перед ней голову.
— Феличе делла Ровере, — представилась она. В ее речи не слышалось ни намека на провинциальный акцент, свойственный многим не знающим грамоты итальянцам. Эта дама явно получила хорошее образование. — Я эмиссар из Ватикана.
Микеланджело поднял на нее глаза. По многочисленным слухам, Феличе делла Ровере — незаконная дочь нынешнего папы Юлия II.
— Его святейшество папа видел вашу Пьету в соборе Святого Петра. Он опасался, что вы способны лишь единожды сотворить такое чудо, и послал меня сюда разузнать, насколько талантлив ваш резец. — Она слегка склонила голову набок. — Приготовьтесь в самом скором времени послужить своей церкви. — Феличе сделала реверанс и, прежде чем пораженный Микеланджело успел вымолвить хоть слово, плавно повернулась и ушла.
Двое вооруженных стражей помогли Феличе взойти в карету, и лошади понесли ее прочь. Сам его святейшество папа, наместник Христа на земле, обладатель наследия святого Петра, пожелал нанять его, Микеланджело Буонарроти, простого камнереза из Флоренции. В восторге он издал странный звук — то ли победный клич, то ли смех — и опустился у ног Давида. Он победил.
Микеланджело старался рассмотреть каждое лицо в этой толпе. Все жители Флоренции от мала до велика собрались на площади — городские чиновники и представители всех гильдий и цехов, мастера искусств, купцы и ремесленники, фермеры из округи.
Вся Флоренция была здесь, кроме одного человека.
Леонардо да Винчи, похоже, единственный пропустил торжественную церемонию, но именно его Микеланджело желал видеть больше остальных. Не для того, чтобы покрасоваться победой в деле, которому Леонардо предрекал провал, а потому, что в глазах Микеланджело он все равно оставался величайшим мастером всех времен. Леонардо — единственный, чьего благосклонного внимания жаждал Микеланджело. Но и на этот раз маэстро отказал ему в нем.
Вдруг над площадью раздался какой-то низкий то ли рев, то ли звон.
Микеланджело вздрогнул. Что это? Он растерянно огляделся, стараясь понять, откуда наплывал этот звук.
Звук повторился. Потом еще и еще. Он походил то ли на глухой металлический гул, то ли на вой очень крупного и очень страждущего животного. Неужели вандалы прорвались на площадь и снова угрожали Давиду? Или Медичи явились под стены Флоренции, чтобы обстрелять ее из своих пушек?
— Guarda, — закричал какой-то мужчина, указывая рукой вверх, на колокольню дворца Синьории. Микеланджело поднял голову и увидел в широкой арке на верхушке колокольни гонфалоньера Пьеро Содерини.
Он звонил в колокола. La Vacca подала свой голос!
Впервые за долгие годы над городом поплыл ее низкий тревожный звон. Не в честь какой-нибудь официальной церемонии, не по случаю праздника или казни предателя. Все люди на площади сейчас же поняли, что это означало.
Это был призыв к борьбе.
— Viva Firenze! — провозгласил с колокольни Содерини. Те, кто стоял ближе всего, подхватили его слова, передали следующим, и вмиг они разнеслись по всей площади, словно подхваченные порывом ветра. Рокот медленно зарождался в недрах толпы и скоро сложился в те же два слова: «Viva Firenze! Viva Firenze!» Звук нарастал и усиливался, и наконец все флорентийцы подхватили призыв и в унисон начали скандировать: «Viva Firenze! Viva Firenze!» Над толпой распустились флаги. Дети дружно подняли руки в победном жесте. Мощный хор человеческих голосов и колокольного звона плыл над городом, и Микеланджело верил, что он эхом отдается по всем окрестностям Флоренции, достигает ушей пизанцев, французов, солдат папской армии, императора Священной Римской империи, а в особенности — коварных Медичи. И все они содрогнутся от страха, услышав этот протяжный звон и рев армии горожан-флорентийцев.
— Похоже, я ошибался. — Макиавелли стоял на помосте рядом с Микеланджело, обозревая толпу. — Что ни говори, а Флоренция готова защитить себя. — Коротко поклонившись, он направился к дверям дворца Синьории. Микеланджело смотрел ему вслед и размышлял о том, что из всех знаков внимания, которыми когда-либо удостаивал его загадочный дипломат, эти слова, пожалуй, больше всего походят на комплимент.
Граначчи протиснулся через толпу и расцеловал Микеланджело в обе щеки.
— Не подумываешь ли ты о том, чтобы высечь свое имя на Давиде, как сделал это на Пьете? — хитро спросил он, не отрывая глаз от сияющего белизной мраморного гиганта. — Можешь даже ввести это в обычай и подписывать все свои скульптуры.
— Нет уж, благодарствую, amico mio, — стараясь перекричать людской шум, ответил Микеланджело. — Думаю, я позволю ему самому говорить за себя.
Леонардо
Гул пробудившейся колокольни La Vacca застал Леонардо на Понте-Веккио. Он сидел на перилах моста и мечтательно созерцал бегущие внизу воды Арно. Когда народ на площади Синьории начал скандировать: «Viva Firenze», Леонардо повернул голову к портрету Лизы — он был прислонен возле него, как бы составляя ему компанию, — и сказал:
— Статуя, видно, пришлась им по вкусу.
Праздник на площади длился уже более часа, но в конце концов счастливые флорентийцы начали расходиться по домам. Большинство из них не обращали никакого внимания на странного мужчину, который сидел на перилах моста и болтал ногами над речным потоком, словно беззаботное дитя. Леонардо улыбался, кивал кому-то из проходящих, но ни с кем не заговаривал. И даже не пытался достать блокнот, чтобы зарисовать эти взволнованные лица. Это он сможет сделать как-нибудь потом, в другой день. А сегодня ему хотелось сидеть вот так, над водой, и ни о чем не думать.
Но вот людской поток иссяк, и Леонардо снова остался один. Старинный мост, где в будние дни у многочисленных лавок мясников и бакалейщиков не протолкаться от покупателей, по воскресеньям закрыт для торговли и пустынен. Сидя на мосту и не ведая, куда идти и чем заняться, он вдруг почувствовал, как внутри у него зарождается странное ощущение. Не мысль. Не физическое недомогание. Скорее, чувство. Вероятно, он жил с этим чувством давно, но редко позволял себе осознавать его.
Внезапно он понял, что это — неодолимая, безудержная тяга к живописи.
Пусть он больше не связан контрактом с монахами-сервитами и не обязан доделывать алтарную роспись для церкви Сантиссима-Аннунциата, но сейчас он захотел вернуться к сюжету той росписи — со святой Анной, Мадонной и младенцем Иисусом. Мало того, при мысли о фреске «Битва при Ангиари» для залы Большого совета он испытал внезапный и мощный прилив вдохновения. Следом в его сознании как по волшебству вспыхнул невероятно яркий, хотя и несколько необычный образ: Иисус, поднявший одну руку для благословения, держит в другой руке таинственный прозрачный стеклянный шар. Этот причудливый образ почему-то вселил в его душу покой и умиротворение. Нет, пока он не готов взяться за него и запечатлеть кистью и красками; пожалуй, он вернется к этому замыслу позже. Например, в следующей картине. Всего сильнее в нем горело желание добавить еще мазок-другой к портрету Лизы.
— Синьор! — крикнул ему с дальнего берега какой-то юноша.
Голос вывел Леонардо из задумчивости. Он поднял голову и увидел, что к нему через мост бежал элегантно одетый молодой человек. Леонардо схватил портрет Лизы и быстро засунул себе под мышку. Он не испытывал желания прямо сейчас показывать его кому бы то ни было.
— Синьор! Вы первый, кого я встретил с того момента, как вошел в город, — сказал юноша, остановившись возле Леонардо. — Я уже начал подозревать, что враги вторглись во Флоренцию и всех ее жителей до единого взяли в плен.
— Да что вы! Всего лишь воскресенье, сонное и ленивое. — Леонардо невольно отметил, что юноша необычайно привлекателен. Ему лет двадцать, вряд ли больше. Мелковатые, но красивые черты лица, огромные круглые глаза. Волосы длинные и ухоженные, а костюм свидетельствовал о богатстве — в таком не стыдно было появиться и при королевском дворе.
— Вы живописец? — спросил юноша, указывая на портрет под мышкой Леонардо.
— Да, пожалуй. Картина, которую я ношу с собой, выдает мое занятие.
— Знаете, а я ведь тоже художник. — Молодой человек широко улыбнулся. — Из Урбино. Вообще-то я направляюсь в Рим изучать античное искусство, но на подходах к Флоренции услышал от кого-то, что сегодня у вас на площади Синьории открывают изумительнейшее за всю историю произведение искусства. Это же правда? — спросил он, восторженно распахнув глаза.
— А, так вы хотите посмотреть Давида?
— Ну конечно! А как же! — Юноша просиял. — Мне говорили, эту статую обязательно нужно увидеть, чтобы понять будущее искусства.
— В таком случае и мне следует взглянуть на нее. — Леонардо соскочил с перил и отряхнул полы камзола. — Andiamo, я отведу вас на площадь.
Молодой человек без умолку болтал, пока они шли к площади Синьории. Его отец, рассказывал он Леонардо, служил живописцем у герцога Урбино, и потому он вырос при дворе. Учился в урбинском отделении мастерской Перуджино, и в местной гильдии живописцев его уже целых три года считают вполне самостоятельным художником. Он расписал по заказу парочку алтарей и, разумеется, изучил творчество всех признанных мастеров: Мазаччо, Боттичелли, Андреа Мантеньи и даже великого Леонардо да Винчи. Все по копиям, конечно, но он отлично запомнил каждое из их произведений.
Леонардо всю дорогу лишь молча кивал. Юнец, возможно, и помнит все его картины, но самого их создателя не узнал. Для него Мастер из Винчи — отголосок былых времен. Наверное, нынешняя молодежь уверена в том, что он уже давно умер.
Они повернули за угол и вышли на опустевшую площадь. На другой ее стороне, у входа во дворец Синьории, высилась статуя Давида. И даже на расстоянии было видно, что мраморный гигант безраздельно царил на всем этом пространстве. Под лучами закатного солнца, проглядывающего меж окружающих площадь зданий, белоснежный мрамор испускал божественное сияние.
— Che bello, — восхищенно выдохнул юный спутник Леонардо и со всех ног помчался к Давиду.
Леонардо шел медленно, размеренно, чтобы иметь возможность разглядеть статую с разных расстояний. Впервые увидев камень Дуччо, он и представить не мог, что из этой бросовой искалеченной погодой и временем глыбы получится хоть какая-то фигура. А Микеланджело не только сумел нарисовать в воображении, но и ухитрился изваять из покореженных останков мрамора классически прекрасного гордого гиганта. Даже издали статуя выглядела колоссом, вышедшим из рук античного мастера. А поза Давида, со слегка опущенным левым бедром, стала для Леонардо откровением. Должно быть, она родилась под влиянием того дня, когда Микеланджело, не помня себя от ярости, колошматил молотком по мрамору и отхватил сбоку огромный кусок. Но там, где Леонардо увидел лишь непоправимый ущерб, Микеланджело разглядел потенциал и изящно обыграл нехватку камня слегка смещенной в сторону постановкой фигуры.
Подойдя ближе, Леонардо понял, что Давид не только услаждает глаз воплощенной классической красотой, — он передает внутренние переживания реального человека, настоящего мужчины, приготовившегося к противостоянию с превосходящим его в силе противником. Праща лежит на плече, камень покоится в руке, взгляд сосредоточен на подступающем враге — этот Давид еще не выиграл битву с Голиафом, ему только предстоит вступить в смертельный бой. Он далек от избитого образа доблестного юноши-воина, исполненного беспредельного мужества и веры в свою непобедимость. Его раздирают сомнения, он переживает тяжелую внутреннюю борьбу. Левая часть его тела натянута, как тетива, рука и нога согнуты, шея повернута, ребра проступают сквозь кожу, тогда как правая сторона раскована и готова к встрече с судьбой. Какие-то мышцы Давида напряжены, другие расслаблены; ребра как будто подрагивают от взволнованного дыхания; часть пальцев крепко сжаты, другие кажутся безвольными. Даже ступни, и те вроде бы спокойны, но одновременно словно в страхе цепляются за землю.
А лицо! Оказавшись прямо перед Давидом, Леонардо почувствовал, что у него перехватило дыхание. В этом лице потрясающе ясно и правдиво сочетались надежда и страх, тревога и ужас, страсть и решимость, гордость и отвага. Леонардо мгновенно узнал это выражение. Конечно, черты совсем другие. Нос у Давида длиннее и ровнее. Щеки полнее и округлее. Губы куда изящнее. Но этот широкий лоб, изборожденный такими знакомыми складками озабоченности, он уже видел по меньшей мере дюжину раз. Как и залегшие под глазами Давида морщинки, пронзительно точно передающие утомление, тревогу и душевное смятение. Леонардо прекрасно знал это выражение.
Он видел его всякий раз, когда сталкивался с Микеланджело.
Впервые встретив у себя в студии тощего, замызганного, дурно пахнущего скульптора с необузданным нравом, Леонардо и вообразить не мог, что молодой неотесанный камнерез сподобится сотворить столь великолепное произведение искусства. Пусть у Леонардо больше опыта, знаний и ума, однако у Микеланджело есть нечто такое, чего нет и уже никогда не будет у Леонардо. Микеланджело инстинктивно умел отдавать своим произведениям весь свой разум, все сердце и всю страсть своей души до последней капли. Недаром статуя исполнена жизни — и причиной тому не овеянный легендами мрамор и не сноровистость, с какой скульптор владел молотком и резцом, а пылкая душа самого Микеланджело. В сравнении с ним Леонардо — пока еще подмастерье в делах страсти, только начинающий понимать, сколь много ему предстоит изучить.
Леонардо повернулся к своему юному спутнику. Тот стоял недвижно и не отводил восхищенного взгляда от мраморного гиганта.
— Как тебя зовут, mio ragazzo?
— Рафаэль Санти, синьор, — учтиво ответил юноша. — А как ваше имя?
Леонардо пренебрежительно взмахнул рукой:
— Не стоит и упоминания. Скажи лучше, Рафаэль, какого ты мнения об этой маленькой статуе?
— Она потрясающа, синьор, я не нахожу слов, чтобы выразить, как она великолепна.
— В таком случае я очень рекомендую тебе, как и всякому юному художнику, сделать с нее зарисовки. — Леонардо полез в карман, чтобы достать лист бумаги и огрызок сангины.
— Благодарю, синьор, но — видите — это всегда при мне. — Рафаэль показал Леонардо свой альбом. Он сел у подножия статуи и пролистал до чистой страницы. Леонардо с удивлением увидел, какие красивые, полные изящества рисунки выходят из-под руки юного живописца. Правда, они еще слегка нескладны; художнику очевидно не хватало практики, и все же Леонардо был поражен воздушной легкостью и грациозностью изображенных фигур. Молодой человек перевернул лист с копией Леонардовой «Мадонны в скалах». У Рафаэля она пронизана таким умиротворением, что Леонардо лишь покачал головой. Даже неопытные юнцы с улицы, без имени и звания, и те уже превосходили его.
Вдруг Леонардо заметил на другой стороне площади какого-то человека, наблюдающего за ним. Он невысок и мускулист, с чахлой бородкой и буйной черной шевелюрой. Леонардо даже на расстоянии ощущал магнетизм его взгляда.
Леонардо приосанился и повернулся к скульптору лицом. Указал рукой на Давида и склонился в глубоком почтительном поклоне, какого удостаиваются лишь королевские особы. Распрямившись, он приложил руку к сердцу.
Все еще под взглядом Микеланджело Леонардо демонстративно раскрыл свой альбом и взял мелок. Затем примостился на ступенях перед статуей и, сосредоточив все внимание на Давиде, начал зарисовывать его. В конце концов, единственный способ продолжать учение — это копировать произведения истинных мастеров.
Кода
Давид оставался перед дворцом Синьории (сейчас это величественное здание называют Палаццо Веккио) до 1873 года. Затем статую перенесли под крышу, в галерею Академии изящных искусств, чтобы защитить от воздействия осадков и выветривания. В 1991 году какой-то сумасшедший набросился на Давида с молотком и отколол второй палец на левой ноге. Бывшие в тот момент в музее посетители схватили вандала и держали до прихода представителей властей.
Сегодня Давид — одна из самых знаменитых скульптур в мире, более трех миллионов человек каждый год приезжают во Флоренцию, чтобы полюбоваться статуей в музее Академии.
В 1516 году Леонардо да Винчи переехал во Францию, где стал придворным живописцем короля Франциска I. Леонардо умер на руках короля 2 мая 1519 года. До последних дней художник не расставался с одной картиной, которую держал в своих личных комнатах, — с портретом моны Лизы дель Джокондо. И до самой своей кончины он утверждал, что произведение не окончено. После его смерти портрет перенесли в залу дворца Франциска I — Фонтенбло. В 1680-е годы король Франции Людовик XIV, по некоторым свидетельствам, перенес картину в Версаль. После Великой французской революции ее разместили в Лувре — бывшем королевском дворце, превращенном в музей. С того момента портрет моны Лизы несколько раз перемещали в разные места для сохранности. Предполагается также, что несколько лет он провисел в спальне Наполеона во дворце Тюильри. В 1911 году итальянский эмигрант похитил «Мону Лизу» из Лувра и держал ее у себя в течение двух лет. Затем портрет нашли — к счастью, не пострадавшим.
По сей день «Мона Лиза» остается главной достопримечательностью Лувра. Согласно оценкам, каждый год порядка шести миллионов человек приходят в музей, чтобы увидеть ее.
Примечание автора
Вопросом, который вдохновил меня на написание этой книги, я впервые задалась двадцать лет назад, когда изучала в колледже творчество Микеланджело и Леонардо да Винчи. Оба они в 1501–1505 годах жили во Флоренции. И по свидетельству историков, питали друг к другу открытую неприязнь. Многие их современники упоминали о том, что между двумя мастерами искусства нередко возникали замешанные на жестоком соперничестве прилюдные стычки и перепалки. Впрочем, историки искусства традиционно сводят их творческое соперничество к «дуэли фресок», заказанных обоим мастерам городским советом Флоренции. В романе упоминается об этом заказе — фреске «Битва при Ангиари», — сделанном Мастеру из Винчи в 1503 году. Микеланджело включился в состязание по окончании работы над Давидом — ему городской совет заказал расписать фреской «Битва при Кашине» противоположную стену. И в течение нескольких месяцев, пока скульптор не перебрался в 1505 году в Рим, эти двое поневоле творили свое искусство бок о бок, в одной и той же зале. Однако ни один не довел работы до конца. Все последующие века историки искусства горевали о том, что состязание великих так ничем и не окончилось.
У меня же зародилось сомнение: неужели и правда ничем? Можно ли считать случайностью то, что до этого легендарного состязания Микеланджело изваял «Давида», а Леонардо написал «Мону Лизу»? Простое ли это совпадение, что два самых известных в западной цивилизации произведения искусства родились в одном городе и практически в одно время? Да и поверит ли кто-нибудь в то, что два блестящих дарования, не чуждые соревновательного духа, не попытались превзойти один другого? Соперничество с якобы непобедимым конкурентом раззадоривает и вынуждает приложить еще больше усилий, чтобы подняться к новым высотам, каких ты никогда не достиг бы в одиночестве. Разве элементарная логика не предполагает, что юный Микеланджело своим талантом и успехом подстегнул стареющего Леонардо написать непревзойденный портрет моны Лизы, так же как надменный гений Леонардо побудил Микеланджело вложить в Давида весь свой скульптурный талант? В романе я постаралась ответить на этот вопрос.
Леонардо действительно рисовал Давида. Впервые увидев этот набросок (в настоящее время он хранится в Британской королевской коллекции), я сразу же представила, как Леонардо делал эту зарисовку, сидя у подножья статуи, а Микеланджело издали смотрел на него. Так, благодаря рисунку Леонардо, и родилась идея этой книги.
Роман «Камень Дуччо» — итог моих двадцатилетних исследований и погружения в исторические реалии тех времен, но, безусловно, это и плод моей фантазии. Я позволила себе вольность — пересказала историю двух этих характеров в том виде, в каком она сложилась за два десятка лет в моем воображении.
Леонардо действительно был рожден вне брака и лишен своим отцом наследства, однако подробности их взаимоотношений неясны; на мой взгляд, это была самая болезненная тема в жизни Леонардо. Есть свидетельства о том, что ему предназначали камень Дуччо, но вся сцена с конкурсной комиссией вымышлена, хотя и основывается на бытовавшей во Флоренции традиции проводить подобные конкурсы. Служа военным инженером под началом Чезаре Борджиа, Леонардо находился в основном вне полей сражений, правда, существуют сведения, что сами сражения он видел. Не знаю, удалось ли ему воплотить на практике конструкцию многоствольной пушки на основе бронированной повозки, но мне нравится думать, что шансы претворить кое-что из своих необычайных изобретений в жизнь у него все же имелись. Леонардо и Макиавелли одновременно находились в лагере Чезаре Борджиа, это исторический факт, и мне очень хотелось бы подслушать их беседы. В альбомах Леонардо — множество чертежей и набросков конструкций летательных машин и не меньше — рисунков птиц. В его бумагах упоминается о пробном полете, но, скорее всего, он был неудачен — в ином случае Леонардо не преминул бы описать свой успех. Флоренция действительно поручала ему передвинуть русло Арно, и этот проект из-за сильной бури окончился катастрофой, унесшей восемьдесят жизней. Однако место отводного канала я географически придвинула ближе к городу, а наводнение приблизила по времени на несколько месяцев — в угоду сюжету. Леонардов перстень с птицей — мой вымысел. Причины, по которым художник так и не передал портрет моны Лизы ее супругу и своему заказчику, мне неизвестны. Как и то, почему он до последних дней жизни держал портрет при себе. Боюсь, этого нам никогда не узнать.
По свидетельству Джорджо Вазари, знаменитого биографа мастеров искусств эпохи Возрождения, Микеланджело высек свое имя на Пьете после того, как эту скульптуру ошибочно приписали некоему Гоббо (часть историков утверждают сегодня, что это чистый миф; но со стороны беллетриста глупо было бы упускать такую красивую историю). В действительности Микеланджело сохранил полученные за Пьету деньги, это по моей авторской воле и ради сюжетной канвы его ограбили по дороге домой во Флоренцию. Хотя он и правда был задержан при входе в Болонью, и его другу пришлось выручать его. Эта история вдохновила меня и в итоге переплавилась в неприятности, по милости которых Микеланджело оказался в тюрьме Барджелло. Отец Микеланджело в самом деле очень противился избранной сыном профессиональной стезе, а брат Джовансимоне являлся в семье «паршивой овцой» и вечным источником неприятностей. В какой-то книге мне встретился эпизод, в котором он сжег дом семейства Буонарроти в Сеттиньяно (да, Буонарроти владели этим домом, хотя он и приносил мало дохода; дом же во Флоренции они арендовали). Эта история навела меня на мысль о том, чтобы сжечь их флорентийский дом. Камень Дуччо на самом деле выглядел так, как описано в романе: покалеченный погодой и неумелыми попытками предыдущих ваятелей и с глубокой выбоиной с одного бока. И Микеланджело действительно возвел времянку, чтобы вдали от посторонних глаз работать над этим мрамором. Правда, это убежище было сложено из кирпича; я же позволила себе представить, что оно сколочено из досок, и это позволило мне выстроить ряд сюжетных поворотов. История не оставила нам свидетельств о встрече наших героев и их возможной перепалке в мертвецкой над трупом; мне нравится думать, что такое драматическое столкновение могло иметь место. Перевозка Давида к дворцу Синьории, в том числе нападение вандалов в первую ночь, — исторически достоверные факты. Дата официальной церемонии открытия тоже соответствует истории, однако я не имею представления о том, как проходило действо. Было ли это событие столь знаменательным и произвела ли статуя такой фурор, как я описала? Хочется надеяться, что да. И, безусловно, никто и никогда не узнает подробностей внутреннего творческого процесса. Я не верю в то, что хотя бы одно истинное произведение искусства родилось быстро и просто, без мук и сомнений, и потому предприняла попытку изнутри исследовать чувства и переживания этих двоих мастеров в момент, когда они работали над своими шедеврами.
Как принято у писателей, пишущих об эпохе Возрождения, я перевела все даты на нынешний общепринятый календарь, чтобы не путать читателя. Во Флоренции времен Возрождения новый год начинался не раньше 25 марта — церковного праздника Благовещения.
Полное изложение истории создания этого романа, в том числе объяснения, в каких местах и как я позволяла себе прибегнуть к творческой свободе, а также полный перечень библиографических источников можно найти на моем сайте .
Примечания редакции
1. Речь идет не о нынешнем соборе Святого Петра, а о церкви, построенной в 326 г. при первом христианском императоре Константине. Прим. пер.
2. Примерно 12,2 м. Прим. пер.
3. Braccio (ит. локоть) — единица длины, равная примерно 55 см. Прим. пер.
4. Сервиты, полное название Ordo Servorum Mariae, орден служителей Девы Марии — нищенствующий монашеский орден, основанный во Флоренции в XIII в. Базилика Сантиссима-Аннунциата была главной церковью ордена. Прим. пер.
5. Ввиду распространенности содомии во Флоренции времен Возрождения в 1432 г. была учреждена особая судебная коллегия, разбиравшая обвинения в содомии, называлась Ufficiale di notte, досл. Ночная канцелярия. Прим. пер.
6. Библия — Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 26.
Оглавление
1499. МИЛАН Леонардо. Декабрь. Милан 1500 Микеланджело. Январь. Рим Леонардо. Зима. Мантуя 1501. ФЛОРЕНЦИЯ Микеланджело. Весна Леонардо Микеланджело Леонардо Микеланджело. Август Леонардо Микеланджело Леонардо. Осень Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо 1502 Микеланджело. Зима. Флоренция Леонардо Микеланджело. Весна. Флоренция Леонардо. Ноябрь. Чезена Микеланджело. Декабрь. Флоренция 1503 Леонардо. Зима. Рим Микеланджело. Весна. Флоренция Леонардо Микеланджело. Август. Флоренция Леонардо. Осень. Флоренция Микеланджело Леонардо Микеланджело. Декабрь. Флоренция Леонардо 1504. ФЛОРЕНЦИЯ Микеланджело. Зима Леонардо Микеланджело. Весна Леонардо Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо Микеланджело. Май 1504 года. Флоренция Леонардо Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо. Лето Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо. 8 сентября Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо Микеланджело Леонардо Кода Примечание автораМИФ Культура
Подписывайтесь на полезные книжные письма со скидками и подарками: mif.to/kultura-letter
Все книги по культуре на одной странице: mif.to/kultura
#mifbooks
Над книгой работали
Шеф-редактор Ольга Киселева
Ответственный редактор Ольга Нестерова
Литературный редактор Юлия Тржемецкая
Арт-директор Мария Красовская
Дизайн обложки Мария Сатункина (дизайн-студия «Космос»)
Верстка Вячеслав Лукьяненко
Корректоры Наталья Витько, Юлия Молокова
ООО «Манн, Иванов и Фербер»
mann-ivanov-ferber.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2020
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





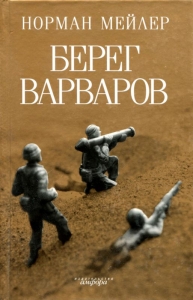
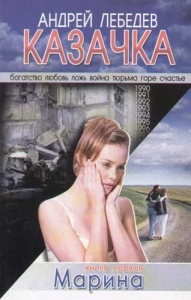



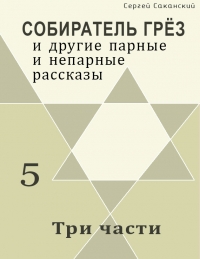


Комментарии к книге «Камень Дуччо», Стефани Стори
Всего 0 комментариев