Евгений Германович Водолазкин Идти бестрепетно: между литературой и жизнью
© Водолазкин Е.Г.
© ООО «Издательство АСТ»
Далеко-далеко…
Детский сад
Названием учреждения мы обязаны немецкому педагогу Фридриху Вильгельму Августу Фрёбелю, но первый детский сад задолго до него организовал Роберт Оуэн. Это был тот Роберт Оуэн, которого старшее поколение помнит по принудительному изучению научного коммунизма. Даже те, кто справедливо называл коммунизм антинаучным, знали, что именно у Оуэна Маркс позаимствовал какие-то глупости, которые легли в основу коммунистической теории. Так что, подобно другому неисправимому мечтателю, основатель детского сада может быть определен как тот самый Оуэн.
Попав в детский сад лет около трех, я, признаюсь, ничего не знал ни о Фрёбеле, ни об Оуэне, но сама идея собирать население на закрытой территории уже тогда вызывала мое отторжение. Лагеря – пионерские и другие, разного рода военные сборы, – всё это не рождало в душе моей радости. Еще меньше мне нравился коллективный труд – начиная с изготовления снежной бабы и оканчивая взрослыми масштабными задачами.
Не то чтобы я был против масштабных задач – нет, скорее, мне казалось (да и сейчас кажется), что они решаются путем персональных усилий. Мне могут возразить, что есть задачи, которые только коллективом и решаются – ну, скажем, создание большой снежной бабы. Здесь я, пожалуй, соглашусь. Да, большой снежной бабы в одиночку не слепишь. Но, может, и не нужна она такая? Мне кажется, я уже в детстве понимал, что для представительниц прекрасного пола размер – не главное.
В прежние годы было больше снега, и в детском саду мы только тем и занимались, что скатывали гигантские шары, толкая их втроем, а то и вчетвером. Тогда-то я осознал, что значит нарастать как снежный ком. Катимый нами ком с хрустом пожирал весь выпавший снег, оставляя за собой неровные, черные от прошлогодней листвы дорожки. Проблема состояла в том, что потом мы не могли поставить один ком на другой. Это было наказанием за гигантоманию. Сами себе мы напоминали Робинзона Крузо, вытесавшего лодку, которую не смог дотащить до воды. Чудовищных размеров колобки стояли до конца зимы и из всего, что в нашем саду было снежного, таяли последними.
Если быть точным, то детский сад у меня был не один, а два. Первый из них в силу возраста я помню смутно. От этого периода моей жизни осталось, за несколькими исключениями, четверостишие:
Это Ленин на портрете В рамке зелени густой. Был он лучше всех на свете — И великий, и простой.Можно было бы только удивиться, что из всех в-лесу-родилась-елочек в голове застряли именно эти строки, но удивляться здесь, собственно, нечему: компостирование мозгов в СССР начиналось еще во внутриутробный период. Текст зацепился в памяти строкой «В рамке зелени густой». Непосредственность детского восприятия не позволяла мне принять эту загадочную рамку, в то время как я видел, что детсадовский Ленин помещался в самой обычной деревянной рамке. До какого-то возраста я еще пытался дать таинственным строкам приемлемое объяснение, перенося, например, место действия в джунгли, но со временем понял, что остальные зарифмованные утверждения были еще более сомнительны.
Два детских сада слились в моей памяти в один, и я не вижу ничего дурного в том, чтобы объединить их и в этом повествовании. Второй детский сад здесь как бы поглощает первый, но имеет, по сути, на это все права. Этот детский сад соответствовал своему названию в полной мере, потому что дети там гуляли в самом настоящем саду.
Для того чтобы в него попасть, следовало свернуть с улицы во двор и, войдя в одно из парадных, подняться на второй этаж. Вход в детский сад открывала обычная квартирная дверь. Дом стоял на небольшом холме, который в условиях городской застройки совершенно не был виден. Между тем, даже закрытый домами, холм оставался на месте и продолжал свое тайное существование. Он открывался лишь тому, кто, поднявшись на второй этаж, выходил с противоположной стороны дома. С этой стороны второй этаж становился первым. И там был выход в сад.
Сад, если мне не изменяет память, был фруктовый, а по периметру его росли акации. Вместе с холмом сад продолжал набирать высоту, но, поскольку дело шло уже к вершине холма, подъем был не очень заметен. По крайней мере, я не помню, чтобы перемещение по саду воспринималось бы как движение вверх или вниз. Именно в этом саду лепили снежных баб – зимой, а летом были другие занятия.
Например, дуэли. Точнее, одна дуэль, разыгрывавшаяся бессчетное количество раз, – между Онегиным и Ленским. Актерский состав был стабильным: я и какой-то мальчик, чьего имени уже не помню. Побывав с родителями на «Евгении Онегине», оба мы были потрясены до глубины души. Любовная коллизия нас оставила тогда равнодушными, но грозное «Теперь сходитесь!» произвело неизгладимое впечатление. В сцене дуэли я, в соответствии с именем, играл Онегина, а мой товарищ (уж не Владимир ли?) – Ленского.
Предполагаемый Владимир был толст и после моего выстрела падал крайне неловко. Он осторожничал, выбирал место на траве и зачем-то хлопал себя по ляжке. Я неоднократно показывал, как ему следует действовать, говорил, что здесь уж не выбирают, куда падать, но всё было тщетно. Покачавшись на полусогнутых ногах, он сначала касался земли рукой, а потом под треск сучьев валился на бок.
Любовную сторону «Евгения Онегина» я открыл уже не в детском саду – как и волшебную музыку этой оперы. Мне купили пластинку, и я слушал ее, пожалуй, чаще, чем стрелялся в свое время с Ленским. Выучив на память все арии, я пел их в меру своих скромных возможностей. И даже сейчас, когда я редко что-либо слушаю (и уже совсем не стреляюсь), после второй-третьей в дружеской компании всё еще могу что-то изобразить. Не уверен, что друзьям мое пение доставляет удовольствие, но на то они и друзья, чтобы идти на определенные жертвы. Корни же этого сомнительного вокала восходят, несомненно, к моим оперным дуэлям.
Нужно сказать, что дуэли относятся к самому позднему моему детсадовскому периоду. Это было, так сказать, верхним фа моего дошкольного существования. Начиналось же всё гораздо скромнее. Первые года два детский сад был главным моим детским несчастьем. Меня там никто не обижал, но нежелание идти туда можно было бы сравнить только с нежеланием идти к зубному врачу. Более того, в рейтинге моих нежеланий зубной уступил бы, думаю, детскому саду, потому что в первом случае это был естественный, но перебарываемый страх боли (в моем детстве не было анестезии), а во втором – непреодолимое отчаяние, непонятное никому, в том числе и мне.
Замечу, что и вел я себя иррационально. Я послушно вставал, умывался, позволял напялить на себя кофту и бесформенные шаровары (помнится зимний вариант) и спокойно, в общем, доходил до двери детского сада. Там я резко разворачивался и продолжал движение уже в противоположном направлении. Когда меня возвращали, я начинал рыдать, упираться и просить не оставлять меня в этом грустном месте.
Всех, кому довелось сопровождать меня в детский сад, изумляло то обстоятельство, что свои демарши я начинал непосредственно перед дверью. Прямо меня об этом не спрашивали (такой вопрос намекал бы на допустимость акции), но косвенным образом интересовались, отчего это мои истерики разыгрываются в последний момент, вместо того чтобы случиться во время умывания или натягивания тех же шароваров. В конце концов, куда лежит курс, мне было известно изначально.
Что мог бы я им ответить? Ну, разумеется, я знал, в каком направлении мы будем двигаться, и тосковать я начинал, едва открыв глаза. Вообще говоря, утро было для меня довольно безрадостным временем. Тьма за окном, пластмассовый голос радиоточки – всё это не прибавляло настроения. Но. Я находился дома – и в благодарность за это готов был пялиться в снежную тьму, слушать радиоточку, да мало ли на что еще был я готов! До сада, думал я, еще много чего произойдет. Так безнадежный больной оставшееся ему время не хочет отравлять истерикой.
Я сдерживался даже тогда, когда мы уже шли по улице. Растягивая отведенные мне минуты до размеров вечности, я говорил себе, что до детского сада еще идти и идти, что прежде мы еще пройдем мимо аптеки, мимо какого-то бронзового типа на коне, мимо колючих кустов. Проходя мимо кустов, я думал, что еще нужно будет зайти во двор, подняться на второй этаж. Ну, а на втором этаже всё, понятно, и начиналось.
Когда меня спрашивали, отчего я так плачу, идя в детский сад, я отвечал, что там слишком яркие лампы. С точки зрения взрослых, освещение не могло быть серьезной причиной страдания, и в жизни моей не происходило изменений. Придумай я что-нибудь вроде невозможности поладить с детьми (воспитателями), мои жалобы, наверное, были бы встречены с бóльшим сочувствием. Я же говорил чистую, хотя, с точки зрения здравого смысла, невероятную правду: ничто в саду не приводило меня в такое отчаяние, как пронзительный свет люминесцентных ламп. Эти ядовитые лучи были так непохожи на мягкий свет моего дома. Они безжалостно высвечивали те недостатки дошкольного учреждения (прежде всего, наличие в нем злобных и энергичных детей), которые при другом освещении остались бы, возможно, в тени.
Всякое изменение в устоявшейся картине мира вызывало во мне новый приступ горя. Так, настоящим потрясением стала для меня замена обеденных столов. Как-то утром вместо удобных, хотя слегка и обветшавших столов питомцы детского сада обнаружили длинноногих монстров неестественно желтого цвета. Дома я сказал, что, сидя за этими столами, невозможно достать до еды, и предложил не отправлять меня в сад. Звучало это еще менее правдоподобно, чем в случае с лампами, и в сад я был отведен.
Каково же было мое удивление, когда на следующий день ножки у столов оказались укорочены (отпиленные их части были аккуратно сложены в углу), столы опустились до нужного уровня, и блюда детсадовской кухни стали вновь доступны. Радость от этих блюд была небольшой, но возвращение привычного размера столов подействовало на меня успокоительно.
(Педагогическая вставка: маленькие люди не любят перемен. Они любят, чтобы сегодня было так же, как вчера, а завтра – как сегодня. Потому, например, не стоит с ними чрезмерно путешествовать: частые поездки их утомляют. А еще мне кажется, что им нравится не столько читать, сколько перечитывать, потому что это возвращение к знакомому…)
Упомянутые мной блюда – отдельная тема, при воспоминании о них мне до сих пор икается. Манная, в комках, каша, красные (под свеклу) бруски в борще, пахнущие хлоркой макароны и резиновые груши компота – меню было, в общем, небогатым. Удержать эти деликатесы в организме удавалось немногим. В моих ушах до сих пор звучат унылые препирательства с воспитательницей относительно того, сколько нужно съесть, а сколько можно оставить.
Вспоминая всё это, я долго сомневался, отправлять ли мне свою дочь в детский сад. И, даже отправив, ждал, не будет ли сад вызывать у нее те же страдания и те же жалобы. По первому сигналу я был готов забрать ее из сада, сказать, уходя, всё, что не высказал в детстве, и проклясть это заведение навеки. Но, к моему изумлению, дочь ходила в детский сад с охотой и даже сердилась, если я забирал ее слишком рано. Это был не мой детский сад, но ведь все они так похожи. Мне не подошел бы любой.
Впрочем, детские мои страдания со временем тоже закончились. Что-то со мной произошло (говорили: перерос), и годам к пяти с половиной я ходил в сад уже не без удовольствия. Конечно, питание не улучшилось, и я мало что там ел (завтракать, например, мне вообще разрешили дома), но ведь не в еде состояла мучительность моего детсадовского существования. Я больше не впадал в депрессию при мысли о том, что мне нужно идти в сад, общаться, среди прочих, с теми, кого я не любил… Всякое ведь случайное и, пожалуй, не очень добровольное собрание людей предполагает общение с теми, к кому в вольной жизни ты бы не подошел. Оно предусматривает также закрепленное место в иерархии, в то время как очень уж хочется исходить из того, что каждый человек – вне любых конструкций, поскольку неповторим.
Во второй, благополучный, период моей детсадовской жизни с иерархией всё у меня было в порядке. Я имел возможность спокойно стреляться на дуэлях (для этого требовалась довольно высокая степень свободы) и делать всё то, что доступно право имеющему. Более того, сферу доступного я понимал в каком-то смысле шире, чем остальные детсадовцы.
Например, я позволял себе пародировать сотрудниц детского сада, вплоть до (о, ужас!) его заведующей Ады Георгиевны. Мое обращение к образу Ады Георгиевны было связано с ее манерой есть, а точнее – с массой пневматических эффектов, сопровождавших принятие ею жидкой пищи. Успех моего представления был обеспечен, поскольку все знали, как именно она ест: воспитатели и заведующая почему-то ели в одно время с детьми.
Интересно, что поддержка моих пародий не ограничилась воспитанниками детского сада: благодарные зрители нашлись и среди воспитательниц. Как все нормальные люди, воспитательницы не любили начальство, и не любили, надо думать, всей душой. В отсутствие заведующей они просили меня изобразить, как Ада Георгиевна ест рассольник, как пьет горячее молоко – и я не отказывал. Судя по тому, как они хохотали, получалось у меня неплохо. Особенно в номере с рассольником, предполагавшем втягивание в рот не только жидкости, но и огурцов.
Детский сад был маленькой моделью жизни, в которой дни славы и успеха чередуются с периодами неудач. Как-то в советский праздник 23 Февраля наше дошкольное сообщество посетили солдаты близлежащей военной части. Они рассказывали о своей непростой жизни, расспрашивали нас о нашей жизни – тоже непростой, и как-то так незаметно выяснилось, что у моего приятеля Алеши Семенова как раз 23-го день рождения. И тогда ему был сделан подарок: Алешу посадили на стул, и два самых рослых солдата подняли его со стулом к самому потолку. Он сидел там, под потолком, вцепившись в стул обеими руками, и в глазах его страх соединялся с абсолютным счастьем. Смотрел на нас Алеша со своей высоты, а мы стояли вокруг него маленькие – меньше даже, чем обычно. И тут в надежде, что меня тоже поднимут на стуле, я крикнул, что у меня день рождения 21 февраля. Да, я не рассчитывал на то, что меня поднимут на ту же высоту: с датой рождения вышла у меня промашка. С другой же стороны, разница была небольшой, и, в сущности, 21-е – это почти 23-е, так что на половину Алешиной высоты меня уж можно было как-нибудь поднять.
Меня не подняли, даже не оторвали от земли. Было сказано, что почти не считается, и это прозвучало как голос справедливости. Это произнесли не солдаты – они были славными ребятами, и совершить еще один подъем именинника для них было делом плевым. Если ничего не путаю, голос этот принадлежал старейшей сотруднице дошкольного учреждения, периодически произносившей мудрые, но гадкие вещи. Так оказался сорван мой взлет, а счастье было так возможно.
Упущенный шанс взмыть к потолку стал одним из крупных разочарований моего детства. Бóльшим разочарованием была лишь неосуществленная мечта поплавать на листе тропического растения виктория регия. Где-то я прочитал, что такой лист выдерживает вес до 25 килограммов и потому-де тропические дети спокойно пользуются им как лодкой. Я мечтал об этом долго – класса до второго-третьего, с тоской осознавая, что неумолимо набираю вес. А потом жизнь как-то расширилась, прибавила в красках, и мечта моя исчезла сама собой.
Завершая рассказ о моем детском саде, скажу, что, несмотря на обилие яблонь, он, конечно же, не был райским садом. Но в том, как последний раз лязгнули за мной его двери, обозначилось неожиданное сходство с дверями Рая. Я больше не имел права на этот сад. Его, скрытого за домом, забором, акациями, я не мог даже увидеть. Мне кажется, что, будучи изгнаны из Рая, Адам и Ева страдали не только оттого, что там было хорошо, а здесь плохо, но и от мысли, что туда уже нет возврата.
Тяжело знать, что куда-то уже не вернуться или чего-то уже не вернуть: это проклятие временем и пространством. Проклятие, если о более частном, мешками под глазами, нависшим над ремнем животом, ну, и в широком смысле опытом – теми вещами, которые увеличиваются независимо от нашего желания. Я давно не взвешивался, но отчетливо осознаю, что это будет больше 25 килограммов. Понятно, что виктория регия поплывет без меня.
Татьянин день
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект об учреждении Московского университета. В прежние времена события предпочитали датировать церковными праздниками и днями памяти святых. Так 25 января, день великомученицы Татьяны, стал в России Днем студентов.
Для меня и моей жены это был двойной праздник. Во-первых, моя жена – Татьяна. А во-вторых – мы оба были студентами. В то замечательное время мы находились в разных точках не существующего ныне государства, но ход событий нашей студенческой жизни был примерно одинаков. Ход этот начинался обычно с колхоза, что превосходно описал в романе «Душа моя Павел» Алексей Варламов.
Если на колхозных грядках моя будущая жена занималась сбором арбузов, то я имел дело с такой деликатной культурой, как хмель. Хмель, в сравнении с арбузом, занимает в истории более прочное место. Само это слово вызывает легкое опьянение. Впрочем, я пьянел тогда не от хмеля – скорее, от начала новой, взрослой жизни.
По вечерам (мы с Таней тогда еще не встретились) я сидел в компании сборщиц хмеля. Головы девушек украшали сплетенные из хмеля же венки. Всё происходило во дворе нашей хозяйки, усталой мрачноватой женщины, выращивавшей индюков.
Это был необычный двор. Да, девушки, да, венки, коптилка на столе, но главное – выраставшее за нашими спинами волшебное дерево. Днем оно было простой яблоней, а ночью преображалось: на ветвях его сидели индюки, напоминавшие невиданных размеров яблоки. Отчего-то птицы предпочитали ночевать именно там.
Виделось в этом что-то сказочное, к реальному миру непричастное. В общей беседе индюки участия не принимали. На своих ветвях они сидели неподвижно и молча. Вероятно, мы мешали им спать, но открытого неудовольствия – как и положено фольклорным птицам – они не выказывали.
Сейчас, имея время от времени дело с театром, я смотрю на картину наших ночных сидений другими глазами – и понимаю, что более прекрасной декорации я не видел. Не могу пока решить, какой пьесе она соответствовала бы в наибольшей мере («Синяя птица»?), но при первом же удобном случае опишу ее в деталях художнику-оформителю. Строго говоря, такое дерево логично было бы увидеть на фольклорной практике, куда филологов отправляли то ли после второго, то ли после третьего курса, но факт остается фактом: встретилось оно мне в колхозе.
Словно предвидя мои будущие занятия «Словом о полку Игореве», на фольклорную практику меня командировали на границу России, Украины и Белоруссии. Волшебного дерева там не оказалось, но были свои экзотические птицы. Звали их Люся и Коля.
Коля собирался жениться. Сложилось так, что на свадьбу Колина невеста не явилась: возможно, полюбила кого-то другого. А может быть – это ведь тоже причина для неявки – в последний момент осознала, что Коля ей совсем не нравится. Так или иначе, ситуация складывалась критическая.
Жених умеренно грустил. Сильные чувства обнаружил лишь его отец, оплативший роскошный свадебный стол. Используя ненормативную лексику, земляк князя Игоря потребовал, чтобы сын тут же нашел себе другую невесту. Тот вяло сопротивлялся, но отец, показав на стол, поклялся, что другого такого в Колиной жизни не будет.
Молодой человек пошел в клуб, где как раз собирались давать кино, и спросил, кто за него пойдет замуж. Тут же встала невысокая девушка и сказала на местном диалекте: «Я пиду». Осмотрев претендентку, свое решение Коля озвучил со всей определенностью: «Ты хоч мала, та цыцьката. Беру». Резолюция была, возможно, не самой поэтичной, но брак их оказался счастливым. Записывая эту историю от самого Коли, я отмечал про себя красоту славянской речи и загадочность путей, ведущих к счастью.
Особенность отечественного высшего образования состоит в неразрывной связи науки и жизни. Мне жаль наших соотечественников, прозябающих в университетах Англии или США, – они много потеряли. Я, например, не слышал ни об одной студенческой поездке в колхоз под Кембридж. Да и на фольклорной практике где-нибудь в штате Канзас вряд ли запишешь историю, сопоставимую по классу.
Разнообразие методов обучения воспитывало в наших студентах особые качества, делало их, что ли, особой кастой. Как в свое время выразилась одна моя сокурсница, «аэлитой общества». В любых жизненных обстоятельствах они способны отделить зёрна от плевел, агнцев от козлищ, а теорию, наоборот, соединить с практикой. «Суха теория, мой друг, / А древо жизни пышно зеленеет» – это сказал не наш студент, но ведь – мог бы…
Подобно теории с практикой, соединились и наши с Татьяной студенческие пути. Точнее, с поступлением в аспирантуру Пушкинского Дома эти пути стали не совсем студенческими. От студенчества оставалось еще общежитие, ну и, наверное, легкость в восприятии жизни (она и сейчас до некоторой степени остается). Мы со всей страстью отдались совместным научным исследованиям. Но – древо жизни пышно зеленело…
Стоит ли говорить, что создание пары Евгений – Татьяна в Пушкинском Доме не могло не найти поддержки, и по окончании аспирантуры нас приняли на работу. Наш союз предлагал альтернативное развитие сюжета бессмертного романа в стихах. Можно догадываться, что пушкинские герои ни разу не были в колхозе, да и в целом не имели богатого студенческого опыта. В результате непростую ситуацию (а счастье было так возможно) они сумели усложнить до предела.
Далеко-далеко…
Коты (под этим обозначением я подразумеваю лиц обоего пола) сопровождают нас всю нашу жизнь – с высоко поднятым хвостом, сибирские и сиамские, персы и шартрезы, пушистые и бесшерстные. Многократно воспетые отечественной и зарубежной литературой. Оставим в покое классику – уже наш XXI век дал два замечательных романа о котах. Имею в виду «Путь Мури» Ильи Бояшова и «Дни Савелия» Григория Служителя. И всё же о котах нужно писать больше: они того стоят.
Как известно, кот – древнее и неприкосновенное животное. Здесь можно было бы поговорить о египетских кошках, но единственное мое впечатление о них (помимо Эрмитажа) связано с посещением мюнхенского Музея Резиденции. Не могу сказать, что между мной и тамошними обитателями возникло взаимное чувство. Не пробежала, выражаясь языком любовных романов, искра симпатии – и ничто не ёкнуло ни в них, ни во мне. Для любителя котов зрелище было удручающим: за стеклами витрин располагались десятки – если не сотни – туго спеленатых четвероногих. Да, почет, да, обожествление и возможность мяукнуть, так сказать, в вечность. Но до чего же грустно они смотрелись в этом баварском мавзолее – уж так они были не похожи на наших веселых спутников жизни.
Если говорить о древности, то, в связи с родом моих занятий, мне ближе Древняя Русь, где котов никто не мумифицировал. Русское Средневековье отзывается о котах самым уважительным образом. К примеру, Житие Никандра Псковского рассказывает о том, что святому однажды понадобился кот. Он обратился к одному из посетивших его «пользы ради душевныя»: «Чадо Иосифе, несть у меня кота. Но сотвори ми послушание – сыщи ми кота». Другая, литературно обработанная редакция Жития детализирует этот сюжет, избегая при этом слов «кот» и «мышь». Повествование приобретает эпический характер: «Не обленися принести мне некоего животна, малых животных, пакость творящих, зверски терзающего и некосно изъядающаго».
Судя по ответу Иосифа, поручение по средневековым меркам было не из легких: «Да где такову аз вещь обрящу, тебе угодну?» Никандр дает ему точный адрес обладателя кота, и Иосиф поручение выполняет. Но не до конца. Вместо того чтобы отнести животное старцу, он отправляется домой, закрывает его в темном месте и не дает ему еды и питья. Иррациональное поведение Иосифа объясняется тем, что действовал он «по наносу Дияволю». Когда Иосиф все-таки является к Никандру, святой укоряет его: «Иосифе, почто кота сего в темницы смиряеши три дни?» История заканчивается благополучно и для Иосифа, и для кота. Это – одно из немногих упоминаний котов в древнерусской литературе.
Происхождению котов посвящен средневековый анонимный апокриф о мыши в Ноевом ковчеге. Не знакомый с дарвинизмом автор видел это следующим образом. В ковчеге, собравшем, как известно, каждой твари по паре, царило полное согласие. Уж как-то так сложилось, что животные смогли там друг с другом поладить: так бывает в трудные времена. И только мышь, в которую вселился Дьявол, вела себя деструктивно: не сказав никому ни слова, она стала прогрызать в ковчеге дыру. Обитателям ковчега сразу стало понятно, чем могут кончиться подобные вещи. И тогда произошло следующее: лев чихнул (по-древнерусски – «прыснул»), из его ноздри выскочил кот – и задушил мышь. Так, по утверждению древнего сказания, возникли коты.
В наше время достать кота гораздо проще. Чаще всего это получается само собой – так было и у меня. Своего кота я получил в детском саду, куда ходила моя дочь. Однажды вечером, когда я забирал ее из сада, ко мне подошла воспитательница. Она сказала, что у детсадовской кошки Муси появились котята, и попросила взять одного из них. Мусю знали не только дети (она проводила с ними всё свое свободное время), но и родители, поскольку кошка не пропускала ни одного родительского собрания.
Получалось, что предлагаемый мне котенок происходил из хорошей – хотя и неполной – семьи. Для Петербурга это очень важное обстоятельство. Я легкомысленно последовал за воспитательницей в подсобное помещение. Счастливая мать сидела в коробке с двумя еще не пристроенными сыновьями. Один из котят довольно злобно на меня зашипел, и в душе моей шевельнулись первые сомнения. По правде говоря, я не был уверен, что мне нужен кот, но не мог найти причину для отказа. Чувствуя себя некоторым образом участником телеигры, я попросил разрешения позвонить жене. И позвонил. И ничего это не дало: жена впала в ту же растерянность, что и я. Ситуация, видимо, была предрешена. Из двух котят я выбрал нешипевшего. Домой мы вернулись втроем.
Я помнил, что лошадям даются имена по первым слогам имен их родителей, но родительница нашего котенка была, как сказано, матерью-одиночкой. Обычная кошачья история. Муся, которую поматросили и бросили, последствия вынуждена была расхлебывать одна. Поскольку родословная нашего нового жильца ограничивалась мамой Мусей, мы назвали его Мусиным.
Первый вечер прошел в счастливом созерцании крохи, но уже наутро начались суровые будни. При дневном свете (в Петербурге это редкость) выяснилось, что кот наш косоглазый. Мы утешали себя тем, что косоглазых котов на свете не так уж много и что в известном смысле это даже плюс. Дальнейшие открытия были менее радостного свойства. Мусина пришлось срочно избавлять от блох (которые, как оказалось, бывают и в хороших семьях), а также учить ходить в правильное место. При этом наши с Мусиным представления о правильных местах существенно расходились. Спустя несколько недель обнаружилось также, что наш котик не признавал специальных приспособлений для точения когтей. Найдя себе подходящее кресло, Мусин сосредоточился на нем. Через пару месяцев оно превратилось в лохмотья. Кроме того, он придумал себе развлечение: перебирая лапами по нижней части дивана, скользил на спине по ковровому покрытию. Временами переключался на обои, обувь и мягкие игрушки.
Самой большой потерей стали ноутбук и лазерный принтер. Он не был луддитом, наш Мусин, и не объявлял войну машинам. К этим предметам он попросту ревновал. Собственно, это было отношением не к технике, а к тому, что в работе за компьютером не принимал участия он. Оргтехнику Мусин усиленно метил, чтобы всем было ясно, что ею пользуются не только хозяева. Сначала вышел из строя принтер, а потом – с шипением и дымом – ноутбук. И то, и другое починке не подлежало, потому что (так мне объяснил компьютерный мастер) речь шла о солевом растворе, который является хорошим проводником. После воздействия воды (мастер поднял бутылку минералки) он бы компьютер починил, а после солевого раствора – никогда. Что ж, виноват был только я, лишив кота легального доступа к ноутбуку.
Купив новую технику, я работал на ней уже вместе с Мусиным. У компьютера ставился дополнительный стул. Я переводил древнерусские хронографы или, скажем, набирал церковнославянские тексты житий, а Мусин сидел рядом. Он зорко следил за правильностью перевода и помогал составлять комментарии.
Из рассказов моей бабушки, учительницы биологии, я знал, что даже домашние коты принадлежат к отряду хищных. Что это значит на практике, я понял, когда Мусин стал на нас охотиться. Наш добрейший котик иногда вдруг выскакивал из-за диванов и стульев и старался поймать наши ноги. Очевидно, он выбирал объект по силам, потому что больше всех доставалось нашей пятилетней дочери. Мусин не кусал, не царапал – просто фиксировал свою победу. Но сама внезапность его действий заставляла нас постоянно думать о ногах.
Гостей Мусин не любил. Точнее, не всех гостей, а тех, которые его не замечали и говорили, как ему казалось, на посторонние темы. В таких случаях он начинал метаться по квартире и всячески привлекать к себе внимание. Но стоило кому-то сказать: «Какой красивый котик!» (а он был действительно красив), как он мгновенно успокаивался и садился рядом с тем, кто догадался это произнести. Наш благодарный кот соглашался на любой вид внимания, включая фамильярное «Косой с колбасой».
Иногда я брал его на руки и декламировал детскую загадку о том, как «далеко-далеко на лугу пасутся ко…». И хотя в моей версии ответом были коты, выслушивать эту пургу Мусин был не намерен. Вкусивший от плодов науки, он считал такие загадки игрой на понижение.
Разумеется, я не был первым, кто писал в соавторстве с котами. Так, знаменитый Юрий Валентинович Кнорозов, расшифровавший письменность майя, создавал свои работы вместе с кошкой Асей. Свою статью о происхождении языка он подписал двумя именами – своим и Асиным. Когда редактор вычеркнул Асино имя, Кнорозов был вне себя. Мусин на своей подписи не настаивал. Скромный герой труда, он легко отказывался от указания своего авторства, потому что знал, что дискриминация котов в издательских кругах – всё еще обычное дело.
Настоящим потрясением для Мусина стало мое обращение к прозе. В соответствии со своими офтальмологическими особенностями, на всё, что не касалось науки, он вообще смотрел косо. Первое время мое новое увлечение представлялось ему прямой изменой науке, но впоследствии взгляды его изменились. Литература стала ему казаться предметом, достойным внимания, и при первых звуках клавиатуры он по-прежнему прибегал, требуя поставить рядом стул.
Вообще говоря, современную литературу он оценивал совсем неплохо. Вершин, равных «Коту Мурру», он в ней не видел, но ему казалось, что после беспокойных девяностых она начинает выруливать в нужном направлении. Наши с ним вкусы в целом совпадали. После того как роман «Путь Мури» получил «Нацбест», его взгляд на литературный процесс стал еще более оптимистическим.
Помимо романа Бояшова, Мусин ценил и более далекие от его любимой темы вещи. Он зачитывался романами финалистов «Большой книги», «Ясной Поляны», а также «НОСа», название которого ему казалось на редкость удачным. Не отвергал наш кот и «Русского Букера», ценя его за смелые решения. Премия Андрея Белого ему нравилась всем, кроме приза: к яблокам и водке он был равнодушен.
Всматриваясь в тенденции развития литературы, Мусин решительно указывал на сходство поэтики постмодернизма с поэтикой средневековой. Из наших с ним бесед впоследствии родилась статья «О средневековой письменности и современной литературе». По цензурным соображениям она была опубликована только под моим именем. В целом Мусин находил, что литература становится серьезнее и глубже.
Он не любил жанровой литературы – фэнтези, лавбургеров и триллеров. Считал, что в центре повествования должен находиться кот, в крайнем случае – человек, но никак не поиск убийцы или, скажем, любовные отношения. Любуясь однажды в зеркале своей чисто вымытой шерстью, предложил мне написать роман «Пятьдесят оттенков серого». Не знаю, делился ли он своими мыслями еще с кем-то, но впоследствии действительно появилась книга с таким названием. Думаю, что все-таки не делился: замысел Мусина было гораздо тоньше и возвышенней.
Окончательно с моими литературными занятиями его примирил роман «Лавр». Когда в современный текст мы с ним включали древнерусские цитаты, он с удовольствием вспоминал счастливые деньки, безраздельно посвященные медиевистике.
Жизнь с Мусиным мы вспоминаем как годы счастья. Он всё больше обнаруживал человеческие черты, а мы – тут уж никуда не денешься – кошачьи. По мнению специалистов, я до сих пор неплохо мяукаю. Мы понимали друг друга с полувзгляда. Обычно Мусин был немногословен и ориентировался, скорее, на интонацию. Он отлично понимал: как сказано нередко важнее того, что сказано. Перенося это наблюдение в плоскость творчества, подчеркивал, бывало, что форма в литературе – это, по сути, содержание.
Мусин прожил у нас шестнадцать лет. Потом начались проблемы с почками, бесконечные анализы и приезды скорой ветеринарной помощи. Я, не воткнувший шприц ни в одно человеческое тело, делал ему уколы и ставил капельницы. Он сносил это стойко и не сопротивлялся. До сих помню его глаза, полные понимания бесполезности этих манипуляций. В таких случаях коты обычно знают, куда лежит курс. Принимая уже ненужное, в сущности, лечение, он заботился скорее о нас. Он давал нам выполнить наш долг до конца. Хотя зачем я его выполнял, так до сих пор и не понимаю.
Его уход стал для нас огромной потерей. И нам трудно было поверить, что это навсегда. Далеко-далеко… На каких лугах пасется он сейчас?
В одном из богословских сочинений я прочитал, что у нас есть надежда. Да, животные, вероятно, не воскресают сами по себе. Но в назначенный день они восстанут из мертвых через нас. В облаке нашей к ним любви – согретые ею, как оренбургским пуховым платком (в таком умирал наш Мусин), вносимые нами в райский сад. И мы снова будем вместе.
Ждановская набережная между литературой и жизнью
Ждан – ребенок, которого очень ждали. Неждан – соответственно, наоборот: в отношениях мужчины и женщины случается и такое. От прозвища Ждан происходит фамилия Жданов, рождающая у отечественного читателя смешанные чувства. Многие еще помнят, как оканчивали учебные заведения имени Жданова или жили на названных в его честь улицах.
Я – счастливое исключение: более десяти лет мы с семьей прожили на Ждановской набережной, которая к тому Жданову не имела никакого отношения. Наш Жданов, точнее, братья Ждановы, Иван и Николай, были «учеными мастерами», владевшими в XIX веке Петровским островом у Петроградской стороны. На острове братья производили березовый деготь, древесный уксус и синьку. Речка, омывавшая остров с севера, стала называться Ждановкой – отсюда и Ждановская набережная. Всё очень достойно.
На Ждановской набережной мы поселились в доме номер одиннадцать – монументальном сооружении сталинского ампира, напоминающем триумфальную арку. Две части этого дома, построенные в 1955 году на месте двух деревянных домов, и в самом деле соединяет арка, под которой боязливо пробегает Офицерский переулок. По этому переулку маршировали офицеры и курсанты Военно-космической академии, направлявшиеся для построения на стадион Петровский (когда-то – им. Ленина).
Квартира наша была двусторонней: окна большой комнаты выходили на мост через Ждановку и стадион Петровский, окна спальни и кухни – на Офицерский переулок. По которому, повторю, маршировали военнослужащие в своем несуетном движении на стадион. Заслышав барабанную дробь в переулке, я подходил к окну спальни и наблюдал их приближение к арке. Когда первые шеренги скрывались под аркой, переходил к противоположному окну. Любовался тем, как, игнорируя колебательный закон, они самозабвенно чеканили шаг на мосту. И ничего, вопреки школьному учебнику физики, с мостом не происходило.
По мосту ходили также болельщики «Зенита». Ходили, как и следовало ожидать, нестроевым шагом, так что за них я был в целом спокоен. В отличие от скупых на слова военных, болельщики много кричали, а еще больше – мочились, заходя во двор. Чтобы остановить этот поток, наш сосед выводил своего бульдога. Бульдог, и сам способный при случае пометить территорию, входил в ступор: такого количества меток он не видел никогда.
Помимо бульдога, в связи с домом на Ждановской вспоминаются птицы. Одна из них – соседский попугай, которого мне довелось спасать. Как-то раз в нашу дверь позвонила соседка и сказала, что ее попугай, залетевший в щель между шкафом и стеной, не может выбраться. Она просила о помощи. Вероятно, в ее глазах я был тем, кто способен помочь попугаю. Я не люблю птиц, хотя люблю, скажем, котов (тут уж, видимо, либо одно, либо другое), но отказать соседке не смог. По условиям задачи шкаф не отодвигался, его можно было только разобрать, и мне пришлось забраться на него по стремянке. За стенкой шкафа, где-то у самого пола, я увидел маленького попугая. Он находился так далеко, что достать его казалось делом совершенно невозможным. Получалось, что хозяйке следовало выбирать между шкафом и попугаем.
Чтобы сделать для попугая хоть что-нибудь, я затребовал швабру. Я был уверен, что он испугается, забьется еще дальше, но не предпринять попытки не мог. Протолкнув ручку швабры вниз, я начал осторожно подводить ее к птице. К моему изумлению, спасаемый не стал капризничать и проявил благоразумие. Без лишних слов (неизвестно, был ли этот попугай говорящим) он схватился за ручку обеими лапами и был извлечен на поверхность. Зная свою хозяйку, попугай, возможно, подозревал, что выбор будет сделан не в его пользу.
Птицы на Ждановской набережной залетали в окна, садились на балкон – сказывалась близость зеленого Петровского острова. Однажды рано утром я проснулся от громкого карканья ворон. Карканье, даже тихое, имеет оттенок скандальности. Уж это, видимо, дар такой, особенность породы: есть у меня знакомая (не ворона) – что бы она ни говорила, создается стойкое впечатление скандала.
Накрыв голову подушкой, я всё еще пытался заснуть, но не тут-то было: зазвонил телефон. Обругивая ворон, звонившего и испорченное утро, я снял трубку. Звонили из дома напротив. На моем балконе, как выяснилось, сидел совенок, которого и атаковали разъяренные вороны. «Если вы снимете совенка с балкона, – пообещали в трубке, – мы готовы взять его себе». Есть просьбы, выполнять которые соглашаешься только спросонья. Я, поколебавшись, пообещал попробовать. Пусть я не знал, как с балконов снимают совят, но, утешал я себя, не знал ведь я и того, как из-за шкафов достают попугаев. Я снял с дивана плед и подошел к балконной двери.
Сидевшая на балконе птица опровергала все мои представления о совятах. Единственный совенок, с которым я до этого имел дело – игрушка, подаренная моей дочери, – был размером с ладонь. Совенок на моем балконе (использую доступную мне систему мер) был больше громадного плюшевого кота, также подаренного дочери. Птица подслеповато смотрела по сторонам и вяло уворачивалась от ворон. Вороны пролетали над ней на бреющем полете, но касаться ее, кажется, остерегались. Раздумывая, как на такого совенка набросить плед, я начал осторожно открывать балконную дверь. Здесь мне повезло меньше, чем с попугаем. Не догадываясь, что спасение близко, сова (назовем вещи своими именами) взмахнула крыльями и в сопровождении ворон улетела куда-то в глубь двора. В дом на Ждановской залетала ко мне еще одна птица, но о ней я рассказал в романе «Соловьев и Ларионов», так что не буду повторяться.
Роскошь и основательность нашего дома, как это нередко случается с помпезными вещами, были чисто внешними. Так, сооружение дворцового типа почему-то не имело лифтов. Стены между квартирами (намеренно?) были исчезающе тонкими, так что я оказывался невольным свидетелем семейных ссор на этаже, не говоря уже о меланхолических фортепианных экзерсисах нашей соседки. Бывали странные дни, когда события непреднамеренно соединялись – утренний марш военных, вечерний футбол, бурная ссора, переходящая в «Лунную сонату», и я, печатающий на машинке (ушедший из жизни звук) очередную научную статью.
Позднее, когда кое-что из этого было мной описано в упомянутом романе, кто-то из критиков поставил мне на вид то, что безденежный аспирант (герой романа) не мог поселиться в таком монументальном доме. Но, во-первых, дом оказался не столь уж монументальным, а во-вторых, будучи вчерашним аспирантом, я ведь – поселился. И вообще, выражение не мог в отношении русской действительности следовало бы использовать как можно реже. Я, младший научный сотрудник – что в определенном смысле хуже аспиранта, – жил в этом доме, не подозревая, что делать этого не могу. Хотя денег, это правда, не было: занятия древнерусской литературой их не предусматривали. Но я пытался подрабатывать.
Идея подработки пришла (есть в научном мире солидарность) от наших западных коллег. Время от времени они стали присылать к нам своих студентов для совершенствования их русского языка. Мы селили их в большой комнате, а сами – с дочерью нас было трое – жили в спальне. Очередного нашего гостя мы обучали русскому на перемену с женой. Занятия проходили дважды в день: утром, на свежую голову, грамматика, вечером – чтение и разговорная речь, включавшие постановку произношения. Где-то и сейчас ходят по Европе наши языковые клоны, и сквозь их ощутимый акцент нет-нет да и промелькнут наши с Таней интонации. А может быть, и мысли – мы многое с ними обсуждали.
Одной из первых наших учениц была, помнится, француженка Катрин. Мы читали с ней хрестоматию, включавшую хорошо написанные и легкие для понимания русские тексты. Одним из таких текстов был фрагмент «Аэлиты» Алексея Толстого, в котором желающие лететь на Марс приглашались к семи вечера на Ждановскую, 11. Я, не перечитывавший «Аэлиты» с дней ранней юности, не поверил своим ушам: красиво смягчая согласные, Катрин воспроизводила мой нынешний адрес.
Есть люди с обостренным вниманием к цифре. Таким, без сомнения, был один мой одноклассник, который после диктовки списка литературы на лето подошел после урока к учительнице за уточнением. Занося в тетрадь по внеклассному чтению повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69», он, оказывается, не успел записать номер бронепоезда. Он боялся прочесть о бронепоезде не с тем номером. Напомнив себе одноклассника, я переспросил у Катрин номер дома. Уже начиная понимать невероятность совпадения, девушка повторила адрес: Ждановская набережная, дом 11.
Прежний деревянный домик под этим номером (а если учитывать левую часть нынешнего строения, то два домика) был невзрачен. Но во дворе именно этого дома размещалась мастерская инженера Мстислава Сергеевича Лося, прототипом которого, как считается, был Юзеф Доминикович Лось, преподаватель Первой высшей школы авиационных техников им. Ворошилова, располагавшейся в соседнем здании. В отличие от Мстислава Сергеевича, Юзеф Доминикович в космосе не был. В 1937 году он попал в НКВД, вернуться откуда было, пожалуй, труднее, чем с Марса. Он и не вернулся.
Нужно сказать, что литература и жизнь на Ждановской набережной сталкивались не только в лице двух инженеров. Область реального была представлена прежде всего автором «Аэлиты», жившим по возвращении из эмиграции в доме номер три, комфортабельном по тем временам здании с видом на Тучков мост. В этом же доме находилась квартира Федора Сологуба и его жены Анастасии Чеботаревской, в чьей жизни Тучков мост сыграл роковую роль. В седьмом номере Ждановской набережной около года прожил Н.Г.Чернышевский, персонаж набоковского «Дара» и автор одного из самых странных текстов русской словесности. Наконец, компанию перечисленным лицам составлял – по созвучию с названием набережной – А.А.Жданов. Подобно Чернышевскому, Жданов художественных произведений не писал, но опубликованный им в 1946 году текст оказал на литературный процесс существенное влияние.
Возвращаясь к Ждановской, 11, замечу, что, помимо запуска космического корабля, там происходили события менее, возможно, масштабные, но совершенно реальные и достойные упоминания. Так, в девяностые годы прошлого уже века, время многочисленных взрывов, гремевших по самым разным причинам, я нашел в нашем парадном торт. Перевязанное кокетливой ленточкой изделие лежало на подоконнике и, несомненно, готово было взорваться. Собственно, если бы не эта ленточка, я прошел бы мимо и не обратил на торт внимания – мало ли что лежит в питерских парадных… Но ленточка на торте показалась мне штрихом избыточным, созданным как бы для контраста с грядущей катастрофой. Если угодно, кондитерским вариантом профессора Плейшнера, который с таким беззаботным видом понятно ведь, что попадет в западню.
Я приложил к коробке ухо: в ней не тикало. Подумав, позвонил в две квартиры на моей лестничной площадке и спросил, не забывали ли их обитатели на окне торт. Нет, не забывали. Особенно это касалось квартиры, населенной алкоголиками (сам не знаю, зачем я к ним позвонил), которые в ответ только улыбнулись – стеснительно и беззубо. От того, чтобы выбросить всё это из головы и сесть за пишущую машинку, меня удерживало одно обстоятельство: в течение часа-двух домой должна была вернуться жена. Во времена пишущих машинок не было мобильных телефонов, и я не мог позвонить ей с предупреждением. Да и о чем, строго говоря, я мог бы ее предупредить? О коробке с тортом? Я мог бы только встретить ее внизу, провести мимо коробки и, если что, взорваться вместе с ней. Но для этого мне бы пришлось караулить ее внизу – неопределенное, повторяю, время.
Я выбрал путь, к которому призывали листки, приклеивавшиеся в те дни к парадным дверям и предлагавшие о подозрительных предметах сообщать в милицию. «Не знаю, – сказал я в трубку, – является ли торт сам по себе подозрительным предметом, но то, что он лежит в парадном, кажется очень…» Мне не дали закончить и велели не подходить к торту. Ровно через четыре минуты в описанный Алексеем Толстым двор влетела спецмашина. Из нее вышли люди в чем-то вроде скафандров, что опять-таки связывало происходящее с полетом на Марс. На вытянутых руках один из них внес в парадное штангу с прибором и медленно приблизил к торту. Подержав ее так некоторое время (напряженные лица стоящих), он сказал, что в коробке – кондитерское изделие. А еще поблагодарил за бдительность и спросил, могут ли они с товарищами это изделие съесть. Я отдал им его без колебаний. Весь двор следил за тем, как из нашего парадного космонавты выносили торт. Глядя на отъезжавшую машину, я не мог избавиться от чувства, что перевязанная ленточкой коробка все-таки взорвется. Что, погрузив зубы в первый же кусок… Нет, торт они съели без единого взрыва.
Жизнь на Ждановской набережной вообще была спокойной. Берега небольших рек дышат умиротворением. Годы спустя, после одной из встреч с читателями, ко мне подошел человек, представившийся краеведом Петровым. Он подарил мне свою книгу о Ждановской набережной, из которой я много чего узнал о моем бывшем доме. Стоит ли говорить, что часть жизни краеведа Петрова, как и моей собственной, прошла на Ждановской, 11. Только он жил там в шестидесятые годы, а я в девяностые. Подозреваю, что в поисках хозяина торта я звонил в ту квартиру, где Петров, тогда еще не краевед, провел свое детство.
Тему совпадений уместно завершить рассказом о письме Катрин из Парижа. Студентка Сорбонны сообщала, что на семинаре по русскому языку ее группа читала «Аэлиту». Когда на первой же странице романа обнаружилось место полета на Марс, Катрин поделилась с одногруппниками, что по этому адресу она жила. Никто не отреагировал, потому что сообщение Катрин сочли шуткой не во французском духе. Чтобы замять неловкость, преподавательница подтвердила, что – да, ей известно: девушка действительно была в Петербурге. «И жила по этому адресу!» – повторила Катрин, осознавая, что доверие аудитории уменьшается с каждым ее словом. «И жили… – согласилась преподавательница. – Главное, не волнуйтесь».
Легко сказать. Попробуй тут не волноваться, когда мир настолько тесен. Когда даже на одной маленькой набережной друг с другом связано столько событий – литературных и реальных, столько людей, адресов и времен. Всё соединено в единую цепочку, и одно звено вытягивает за собой другое. И ничто не исчезает.
Какие разные похороны
Приехав в середине марта на Парижский книжный салон, я остановился в гостинице возле площади Республики. Первый вечер у меня оказался свободным, и я отправился на прогулку. Гуляя, всегда придумываю себе точку, к которой иду. Цель, пусть даже условную: без этого движение для меня словно бы теряет осмысленность. В этот раз я решил дойти до кладбища Пер-Лашез. Оно прекрасно, да и в качестве конечной точки движения (кладбище все-таки) выглядит вполне убедительно.
Пер-Лашез располагается на пологом холме, до которого я дошел минут за сорок. Кладбище мемориальное, хотя поначалу (сейчас в это трудно поверить) оно было у горожан непопулярно. С мертвой точки дело сдвинулось только тогда, когда с рекламными, выражаясь современным языком, целями на Пер-Лашез перенесли прах Лафонтена и Мольера. На парижских покойников это произвело впечатление, и с тех пор кладбище стало расти как на дрожжах. В разное время там появились могилы Бальзака, Пруста, Уайльда, Пиаф и даже неведомо как сюда пробравшегося батьки Махно.
Собственно, я бывал здесь прежде, и пришел сюда не ради них. Мне нравилась тишина этого места. Покой города мертвых посреди бурлящего жизнью Парижа. Потянуло меня сюда, возможно, и потому, что несколько месяцев назад на далекой от Парижа Украине я хоронил своего отца.
У ворот Пер-Лашез меня встретили два привратника. Я поздоровался, они не ответили: кладбищенские люди суровы. Моего появления они никак не поощрили, но и дальше идти не препятствовали. Я пошел. Прежде чем повернуть на одну из кладбищенских улиц (там самые настоящие улицы), обернулся. Привратники беззвучно смотрели мне вслед. Я понял, что дальше остаюсь наедине с собой: живых, по всей вероятности, здесь больше не было.
Отец. Он родился в Нальчике, рос в Баку, а предки его с Волги и Ставрополья. В Киеве оказался, женившись на моей матери. Они прожили вместе четыре года, родили меня, затем расстались. Отца я видел нечасто даже в киевском детстве, а уж переехав в Петербург – совсем редко. В каком-то смысле его смерть сделала наши встречи чаще – теперь об отце мне стали напоминать самые разные вещи. Мелькнувшее в толпе пальто – у него было такое же, сходный тембр голоса по радио…
Отзывается ли он оттуда, думалось мне на кладбище, на мои мысли о нем? Может ли настроиться на мою волну? Никогда не выезжавший за пределы СССР – присутствует ли сейчас на Пер-Лашез? Речь о метафизическом присутствии, конечно: других вариантов нет. В отличие от Мольера, на перенесение сюда его праха отец не имеет никаких шансов. Да и едва ли в этом нуждается.
Мой отец похоронен на сельском кладбище в украинской глубинке. Родом из этого села – вторая жена моего отца, Таисья, добрая и заботливая женщина. Она решила, что в селе отцу будет лежать спокойнее. Я думаю, она права, – при том даже, что в жизни отец никогда не искал спокойствия.
Служа четыре года во флоте, вставал за полчаса до подъема, чтобы не позволять никому себя будить. Находил легальные возможности не соответствовать флотскому распорядку. По приезде в Киев распорядок дня его не стал проще: утром и днем – завод, затем вечерние занятия в Политехническом институте, а ночью разгрузка вагонов, потому что денег катастрофически не хватало. Каждый семестр ему приходила повестка об отчислении из Политехнического. Взяв ее, он направлялся в деканат, коротко и зло требовал восстановления. В правомерности своей злости он не сомневался: попробовали бы сами учиться после ночи на товарной станции и завода. Его восстанавливали: куда им было деться?
Точно так же он впоследствии добивался, чтобы одного нашего родственника после восьмого класса не отчисляли из школы. Отцу не хотелось, чтобы тот шел в профессионально-техническое училище.
– Но такое же училище окончил, заметьте, Королев… – вяло сопротивлялся директор школы.
– Вот если бы парень был Королевым, я бы не возражал против училища, – отрезал отец. – Но он не Королев.
О смерти отца я узнал ночью, а днем, не дожидаясь заверенной телеграммы, вылетел в Киев. Летел через Минск, предупрежденный, что без такой телеграммы могут возникнуть сложности с украинскими пограничниками. Не возникли. Пограничники спросили, с какой целью я прибыл, и пропустили меня без звука. Похоже, мы всё еще один народ.
Рано утром Таисья, мой сводный брат Саша и я забирали отца из морга. Гроб поставили в приехавшую из села «Газель». Сели в Сашину машину и поехали впереди «Газели». На выезде из Киева остановились у какого-то базара купить цветов, это заняло минут десять. Вернувшись, застали водителя «Газели» в состоянии горького веселья: есть мимика, общая для плача и смеха. Он показывал на стоявшую рядом машину автоинспекции. Неправильно припарковался. Я предложил ему с ними поговорить, но водитель только махнул рукой:
– Хиба ж то люды? Тварюкы.
Те, о ком он говорил, писали протокол – писал, точнее, тот, кто расположился на переднем сиденье, второй стоял, прислонившись к машине, и курил. Я все-таки направился к ним – в сущности, я шел платить. Они видели мое приближение, но не поворачивались. Поздоровавшись, я сказал:
– Вэзу батька ховаты. И оцэ трэба платыты штраф?
Я произнес это без всякого нажима, можно сказать – без выражения. Сидевший перестал, однако, писать. Сквозь прижатые к губам пальцы с шумом выпустил воздух. Неестественно длинное «ф». Потер лоб и откинулся на спинку сиденья.
– Нэ трэба.
Вот тебе и раз: нэ трэба. Как-то даже неожиданно. Я пожал полицейскому руку и сел в машину моего брата. Водитель «Газели» смотрел на меня с уважением. Из его кабины доносилась веселая музыка. Пусть отец послушает – он любил такую. Будучи навеселе, пел советские песни.
А на Пер-Лашез тоже раздавалась музыка – не советская, допустим, но тоже неплохая: предположительно, джаз. Она наплывала издалека и была едва слышна – не столько даже музыка, сколько ритм, отбивавшийся контрабасом. Такого эффекта нет при использовании динамика. Игнорируя статус слушателей, на кладбище звучала живая музыка. Я медленно двинулся на звуки. Да, это был джаз.
Мой сводный брат Саша. Он вовсю нажимал на газ, и я представлял себе, как в следующей за нами «Газели» на ухабах подпрыгивает в гробу отец. Может быть, даже под музыку. Саша спешил, потому что в село нужно было успеть к определенному времени. Иногда он говорил с кем-то по телефону и по-украински отдавал короткие указания относительно поминок. Ливень сменялся солнцем, которое робко отсвечивало в каплях на ветровом стекле. Затем снова начинался ливень. Не отрываясь от дороги, Саша выразил надежду на то, что тучи разойдутся, потому что, если будет ливень, то с отца смоет грим. Да, согласился я, это было бы неприятно. Я забыл, что в морге накладывают грим.
По приезде выяснилось, что спешка была напрасна. В селе не было и следа суеты. К машинам, остановившимся у церкви, подходили, а затем уходили люди, снова подходили и уже оставались стоять. Застывали, скрестив руки на груди (засунув в карманы, заложив за борт ватника), иногда с наждачным звуком почесывали щеки. Курили.
Кто-то сказал, что нужно съездить за Тоней, и мы с Сашей поехали на соседнюю улицу за Тоней. После некоторого ожидания на дорожке сада показалась согнутая под прямым углом старуха. Опираясь на две клюки, она медленно двинулась к нам. В слаженных движениях ее рук и ног было что-то столь же спортивное, сколь и экзотическое, из области, скажем, забега жуков. Голова согнутой Тони была приподнята, и большие ее глаза не мигая смотрели на нас. Тоня была доставлена к церкви.
По улице медленно плыли две подставки под гроб и деревянная конструкция в форме буквы «п» со множеством просверленных в ней отверстий. Когда всё это оказалось в церкви, мы с несколькими мужиками внесли отцовский гроб и установили его на подставках. В церкви (она постепенно заполнялась народом) было холодно. В ожидании отпевания некоторые выходили греться на улицу. П-образная конструкция была положена на гроб, а в ее отверстия вставили свечи. Мне показалось, что, когда их зажгли, стало теплей. От вида огня, как бы мал он ни был, всегда становится теплей. И, пожалуй, радостней: окруженный десятками волнующихся огоньков, отец уже не выглядел так скорбно.
Какая-то женщина связала ему ноги и хотела было связать руки, но заметила, что на груди его лежит только левая рука. Правая почему-то была вытянута вдоль тела. Женщина замерла с удивленным лицом. Не понимала, как в таком случае связывать руки. Я тоже не понимал этого, как и того, зачем это нужно делать перед отпеванием. Был в этом, видимо, свой скрытый смысл.
– Нэ згынаеться, – сказала женщина о руке.
Среди всеобщей тишины к гробу проковыляла Тоня.
– Я зигну.
Она прислонила обе свои палки к гробу и взялась за руку отца. Я внутренне напрягся, но она без особого усилия прижала его правую руку к левой. Да уж, не зря мы везли Тоню. Женщине с веревкой ничто теперь не мешало связать отцовские руки.
Я поднял глаза и увидел вошедшего священника. Он стоял у изголовья гроба и задумчиво наблюдал за связыванием. Отпевание прошло с тем спокойным достоинством, с которым в этом селе, по-видимому, делалось всё.
– Вы раба Божого Гэрмана розв’язалы? – спросил священник, закончив.
– Та розв’язалы, батюшко.
Я видел: развязали.
– Ну, тоди з Богом!
Было дано несколько инструкций на том божественном языке, которого мой отец за годы своей киевской жизни так и не выучил. Через несколько минут к церковным дверям подъехали старенькие «Жигули» с прицепом, и на этот прицеп был установлен открытый гроб. Прицеп смотрелся не хуже орудийного лафета.
Процессия тронулась. Впереди шел человек с крестом, чуть сзади двое с хоругвями, за ними священник с хором, далее – «Жигули» с отцом на прицепе, за прицепом Таисья, Саша и я, за нами Тоня (две собачки по бокам), а дальше – всё село. «Жигули» ехали медленно, но грунтовая дорога была тряской. Руки моего отца (особенно пригнутая Тоней правая) стали приподниматься. Локти еще покоились на животе, а вот кисти уже парили в воздухе. Казалось, что, лежа в гробу, отец собеседует с небесами. Руки его покачивались, что придавало беседе спокойный и какой-то даже непринужденный вид.
До кладбища было около полукилометра. Каждую сотню метров процессия останавливалась, и священник, сопровождаемый певчими, читал заупокойные молитвы. В сравнении с дорогой пребывание на кладбище мне показалось коротким. Когда первые комья земли ударились об отцовский гроб, я поразился громкости ударов. Они были подобны барабану и совершенно не соответствовали тишине этих похорон. После того как могилу закопали, все пошли на поминки в кафе прямо через кладбище. Я двинулся было за ними, но кто-то остановил меня:
– У родычив своя путь.
«Путь» в украинском – женского рода. Не знаю, что из этого следует и следует ли вообще. Мне показали ту дорогу, по которой надлежало идти одним лишь родственникам покойного. Ко мне присоединились Таисья и Саша, и через четверть часа мы были уже в кафе. После прочитанной священником молитвы воцарилось безмолвие. То есть время от времени раздавалось тихое бу-бу-бу, звяканье приборов, но ни общих разговоров, ни тем более тостов не было. Последними оказались слова молитвы.
На Пер-Лашез играл джазовый оркестр. Придя сюда на звуки музыки, я наблюдал, как под блюз гроб медленно вплывал в двери крематория. Я не знал, что на этом кладбище есть крематорий, но главное – подумать не мог, что оно – действующее. Что можно вот так расположиться рядом с Сарой Бернар, Бомарше или, скажем, Шопеном – без особых церемоний лечь или на худой конец рассыпаться пеплом. Оказывается, можно, – да еще под замечательную музыку.
Играли настоящие профессионалы, не какой-нибудь кладбищенский оркестр. Да и не кладбищенский это был репертуар. Они понимали друг друга с полуслова, кивали друг другу и строили рожи – как то и положено джазовым музыкантам. Импровизировали. Лучи заходящего солнца передали им свою красноту. Особенно – женщине в вызывающе алом пальто: она буквально пылала. Ни на чем не играла, просто стояла, притоптывая, рядом с музыкантами. Лицо ее украшал клоунский нос – тоже красный, державшийся на резинке.
Одни входили в здание крематория, другие выходили. Это напоминало вечеринку в тот ее момент, когда нет уже общего веселья и каждый предпочитает устраиваться самостоятельно. Я в нерешительности остановился у двери, но кто-то (какое гостеприимное учреждение) открыл ее и спросил меня:
– Простите, вы заходите?
– Да. Конечно…
Даже по моей лаконичной речи он сразу понял, что я не француз. Улыбнулся – зачем, мол, иностранцу крематорий? И в самом деле – зачем? Хотя ответ я, конечно, знал. Я давно уже хотел в туалет, обычная кладбищенская история, на кладбищах потому что прохладно и ветрено.
Я нашел туалет по указателю. Перед ним сидела на стуле красивая смотрительница (в Париже их называют «мадам Пи-пи»), и я отчего-то сразу понял, что она – наша. Как таможенник безошибочно узнаёт контрабандиста, человек, долго живший за границей (а я жил), легко опознаёт соотечественников. Я обратился к ней по-русски. Она ответила с легким провинциальным акцентом. Пользуясь неожиданной встречей, рассказала, как много людей мочится мимо писсуара – с виду приличные люди, а на самом деле…
– Примете работу, – пошутил я.
Она посмотрела на меня с сомнением.
Мало-помалу все собрались на площади перед крематорием. Оркестр блеснул феерической импровизацией. Я подошел к человеку, стоящему с краю, и спросил:
– Простите, что это?
– Похороны.
– Необычные…
Он кивнул. Я хотел спросить что-то еще, но не отважился. Собственно, я не понимал, чтó именно здесь можно спросить.
Женщина с клоунским носом собирала всех в круг и призывала танцевать. Оркестр перешел на народные мелодии. По ощущениям народные – такими они мне казались, потому что были просты и прекрасны. А еще под них танцевали по-народному, с притопами и прихлопами. Мне тоже хотелось танцевать, но я понимал, что для гостя столицы это было бы уже слишком.
– Кто эта женщина? – нашел я все-таки вопрос для моего собеседника.
– Вдова. Ее муж был джазовым музыкантом.
Когда вдова проходила мимо нас, я заметил, что глаза ее мокры от слез.
– А зачем она надела этот нос?
Он сжал свой нос двумя пальцами и сказал гнусаво:
– Выражает презрение к смерти.
Вот как. Я постоял еще немного и двинулся в сторону выхода. Я еще не уходил с кладбища, просто гулять решил у выхода. Мне почему-то пришло в голову, что гуляющих в дальних уголках запросто могут здесь запереть на ночь. По дороге я видел еще одну похоронную процессию. На этот раз гроб несли не к крематорию, а к открытой могиле. Значит, на Пер-Лашез можно и в самом деле хоронить не только в виде пепла. Что ж, это хорошо. Прибегая к оксюморону, я бы сказал, что кладбище должно быть живым. То есть, даже становясь мемориальным, оно не должно забывать о своем изначальном предназначении. На вторые похороны лишних не допускали. Служители кладбища стояли на дорожке, отрезая путь любому возможному наблюдателю. Вероятно, чтобы не привлекать внимания, похороны здесь назначаются на вечер.
В воротах я столкнулся с джазовыми музыкантами. Даже выйдя на улицу, они продолжали играть. Шли, видимо, в ближайший ресторанчик помянуть покойника. Чтобы не сложилось впечатления, что мной взят курс на участие в поминках, я перешел на другую сторону улицы. Меня узнал мой собеседник и, перекрикивая оркестр, напомнил мне: «Презрение к смерти!». Поднял две руки, соединенные в замок. Я повторил этот жест, и так мы стояли несколько секунд. Полная солидарность. Мне вспомнились поднятые руки отца – тоже своего рода выражение презрения к смерти. Не такое, может быть, яркое, как в Париже (разные, что и говорить, похороны), но тоже вполне определенное. Только умер, а уже обращается наверх. Через ее, смерти, голову.
Праздник, который праздник, который всегда с тобой
Не верьте тому, кто говорит, что у него нет дня рождения. Он есть у каждого – у принца и нищего, толстого и тонкого, отцов и детей. Это – то, чего у нас не отнять. Человека снимают с должности за утратой доверия, лишают орденов и званий, а дня рождения – не лишают. В стремительно меняющемся мире день рождения остается оплотом постоянства. Может быть, поэтому мы так любим этот праздник?
Иногда человек выживает в автокатастрофе, и тогда принято говорить о его втором рождении. Теоретически количество таких дней может быть неограниченным – если, скажем, подобные вещи с кем-то происходят регулярно. Все эти дни такой человек вправе отмечать как свои дни рождения.
Известны случаи, когда количество дней рождения увеличивалось без всякого риска для жизни. Так было с гениальным Юрием Валентиновичем Кнорозовым, расшифровавшим письменность майя. В паспорте Юрия Валентиновича значилось, что родился он 19 ноября, но что-то заставляло его считать, что произошло это 31 августа. Большой истории из этого Кнорозов не делал – просто праздновал день рождения дважды в году, и при расшифровке письменности это ему не помешало. Может быть, даже помогло: тот, кто не капризничает, всегда добивается большего. Важно лишь не делать из даты культа.
Движимый примерно этими соображениями, однажды я отмечал свой день рождения в Мюнхене. В середине, если не ошибаюсь, июня я почувствовал настоятельную необходимость отпраздновать этот день со своими друзьями. Мы провели славный вечер, в конце которого одна из гостей посетовала на свою память, потому что отчего-то ей казалось, что я родился в феврале. Я как мог ее успокоил, заверив, что с ее памятью все в порядке и что я действительно родился в феврале.
Я не ожидал, что на моих немецких друзей это произведет такое впечатление. В наступившей тишине кто-то спросил:
– Значит, сегодня ты празднуешь не день рождения?
– Отчего же, – возразил я, – именно этот день я и праздную.
– То есть, у русских это подвижный праздник?
Мои друзья все еще не теряли надежды подвести под происходящее общее правило.
– Неподвижный – если его, конечно, не двигать.
– Так что же ты сегодня празднуешь?
Мы вращались в заколдованном круге.
– День рождения, который у меня, да, в феврале. Какое это имеет значение – когда праздновать? Главное, чтобы он был… Надеюсь, вы не сомневаетесь, что он у меня есть?
Снова возникла пауза. Один из моих научных коллег сообщил присутствующим, что я – автор цикла исследований по хронологии, и это почему-то всех успокоило. Получалось, что у сегодняшнего события имелась какая-то научная основа. Какое-то, возможно, хронологическое открытие, которое позволяло мне сдвигать отмечание на четыре месяца. Кто-то даже добавил, что разница календарей – большое неудобство.
Случалось, однако, что я праздновал свои дни рождения и вовремя. Помню свое двадцатилетие. Пафос возрастал с количеством выпитого. Пили стоя. Бывает так, что кто-то предложит выпить стоя (например, за дам), а потом вроде как уже и не сядешь, потому что все тосты кажутся по-своему важными. Не встанешь – обязательно кого-нибудь обидишь. И тамада уже давно дремлет, и смысл тоста не всегда ясен, а кто-то непременно предлагает: за это нужно пить стоя. Своего рода вечный двигатель, не требующий дополнительного завода.
В какой-то момент прозвучал тост за то, чтобы и через полвека наши подруги любили нас так же, как любят сейчас. Нормальный студенческий тост в духе гаудеамус игитур, хотя сказанное, если вдуматься, оставляло вопросы. Должны ли это быть подруги, сидящие за столом (к тому времени семидесятилетние), или какие-то другие, более молодые подруги. Сомнения разрешил внезапно проснувшийся тамада. Обведя гостей ошеломленным взглядом, он заявил, что за это надо пить лежа.
День рождения – это повод думать и о тех, кто родился в один день с тобой. Для меня таким человеком является замечательная писательница Людмила Евгеньевна Улицкая. Из наших с ней встреч особенно мне запомнилось общение на вручении премии «Большая книга». Мы стояли у пластмассового столика на сцене Дома Пашкова. На столике размещались врученные нам букеты и статуэтки. Под приветственные речи кто-то из нас задел этот столик – и всё врученное нам оказалось на полу. Мы опустились на колени (что могло быть воспринято залом как жест уважения к премии) и, обменявшись несколькими фразами, собрали статуэтки и букеты. Всё было снова тщательно расставлено на столе. Тем временем на авансцене нас продолжали поздравлять.
Свойство пластмассовых столиков таково, что падать с них предметы могут не по одному разу – и они, конечно, упали. Мы снова опустились на пол – и тут Людмила Евгеньевна сказала мне добрые слова о моем романе. Как большой писатель, она поступила единственно возможным образом: при повторяющемся действии текст должен быть другим. Как-то незаметно мы вступили в диалог о романах из шорт-листа и о литературном процессе в целом – что для людей, родившихся в один день, вполне естественно. Зал, а в какой-то момент и ведущие переключились на нашу коленопреклоненную беседу, чуждую пафоса и полную любви к художественному слову.
Очень важно родиться в один день с достойными людьми. При выборе этого дня следует проявлять предельную собранность – по крайней мере, родителям.
Служба попутчика
Есть в Германии междугородная служба попутчика. Она находит человека, готового взять тебя в свою машину в нужном тебе направлении. Ты платишь ей за это небольшие деньги. Тому, кто тебя везет, ты тоже платишь небольшие деньги (и то не всегда), а по совокупности это получается вдвое дешевле поезда. Очень удобная служба.
Однажды летом я воспользовался ею, добираясь из Берлина в Мюнхен. Созвонившись с водителем по имени Курт, я приехал на условленную улицу. Машина уже ждала. По ее виду (старенький «Фольксваген») было понятно, что платить придется. Не платят в роскошных машинах вроде «Мерседеса». Их экстравертированные владельцы берут попутчиков не ради денег: таких водителей интересует общение. А «Фольксваген» – это совсем другая история, там интересуются заработком.
Курта я опознал сразу. Полуприсев на капот, он курил. Курт курит, придумал я начало скороговорки. Курт лысеет. Коротко стрижется, как все лысые. И это в тридцать с небольшим. С другой стороны машины стояла девушка, по виду студентка.
– Хайди. Тоже пассажирка, – сказал Курт.
Пассажирка Хайди не отреагировала. Возможно, слов Курта она просто не слышала. Обмахивалась газетой – отсутствующе и как-то даже непреклонно. Так обмахиваются после ссоры.
– Вы русский? – спросил меня Курт, и я кивнул. Он улыбнулся: – Я ведь в хорошем смысле спрашиваю.
Предполагался, оказывается, и плохой. Но Курт ничего не имел против русских. Он сказал мне:
– Давайте так: полдороги машину веду я, полдороги вы – и я не беру с вас денег за поездку. Получается по три часа.
Я отказался. Я пробормотал, что так мы можем уехать слишком далеко. Курт развел руками и пригласил нас занять места в машине. Увидев, что Хайди села на заднее сидение, я сел на переднее. Садиться рядом с таким независимым человеком мне было просто неловко. Как только мы тронулись, я прислонился к боковому стеклу. Его прохлада была приятна. Я закрыл глаза. Ночь накануне я провел с берлинскими друзьями и за время дороги надеялся отоспаться.
– Чем занимаетесь? – спросил Курт.
Я открыл один глаз: это относилось ко мне.
– Русской литературой. Преподаю. – Глаз мой закрылся. – Вы не будете против, если я вздремну?
– А вы не будете против, если я вздремну? – отозвался Курт. – Простите, но когда на переднем сидении кто-то спит, я тоже начинаю засыпать.
Он сразу поехал как-то так, что машину начало трясти. Голова моя дробно стучала о стекло. Чтобы прекратить вредительство Курта, я решил пересесть на заднее сиденье. Там, как я надеялся, подразумевалось мое право на сон. Курт не возражал. Когда машина остановилась, я перебрался к Хайди. Сидя у противоположных дверей, некоторое время мы ехали молча. Я пытался снова задремать, а Хайди читала газету. Курт хотя и был слегка обижен, сдаваться не собирался.
– После нашей с вами беседы, – сказал он мне, – обратиться к вам девушка просто постесняется. Она могла бы рассказать что-то интересное, но ведь вы, Проф, хотите спать. Можно, я буду называть вас «Проф»?
От перемены мест результат не изменился – Курт продолжал говорить. Ему, конечно, не повезло: я хотел спать, а Хайди была замкнутой. Если бы он не брал с нас денег, думалось мне, мы с Хайди, вероятно, были бы обязаны его развлекать. Поддерживать разговор, оплачивая тем самым свой проезд. Но ведь мы ехали на коммерческой основе. Это он хотел бесплатных бесед. Он был настоящим халявщиком, этот Курт.
От его болтовни мой сон мало-помалу прошел. Приоткрыв глаза, я тайком наблюдал за Хайди. Она была субтильной и смуглой – есть такой немецкий тип. Вслед за песней определяю его для себя как тип персидской княжны. Которую (я мысленно взвесил Хайди) не так уж сложно выбросить из лодки. Из поезда, автомобиля, откуда угодно: беззащитна, только бросай. Она сидела прямо, едва касаясь спинки сидения. Короткие рукава, подсвеченный солнцем пух на руках. Так выглядит лето.
Сквозь ресницы, в которых все еще плавала немецкая девушка, я увидел насмешливый взгляд Курта. Взгляд сверлил меня из зеркала заднего вида. Курт подсмотрел, как я любуюсь ее беззащитностью.
– Теперь она не расскажет ровным счетом ничего. Только из-за вас, Проф.
– Если это будет интересный рассказ, я готов бодрствовать, – пошел я на уступки. – Например, если Хайди расскажет нам свою жизнь. Расскажете, Хайди?
– Вам это не кажется агрессией? – спросила меня Хайди. – Почему я должна рассказывать свою жизнь?
– Вы не должны, – ответил я. – Скорее, у вас есть возможность. Знаете, существует такой русский жанр – разговоры в купе. В купе рассказывают жизнь такой, как она была. Или такой, как мечталась, – неважно – никто ведь не проверяет. Главное здесь в том, что, выйдя из купе, собеседники не встречаются больше никогда.
– Вы хотите, чтобы я перед вами, фигурально говоря, разделась?
– Не он хочет – русская литература, – вступился за меня Курт. – В русской литературе все только и делают, что друг другу исповедуются. Почитайте Достоевского.
– А я читала, – сказала Хайди. – И у меня сложилось странное впечатление. Мне показалось, что все русские – как бы это помягче сказать? – истерики.
– Ну, не все. – Курт, не оборачиваясь, показал на меня. – Наш-то спокоен.
Хайди попыталась сложить газету, но у нее не получилось. Утратив форму, газета приобрела объем. Хайди снова развернула газету и ребром ладони ударила ее по линии сгиба. С коротким всхлипом газета согнулась пополам. Еще раз согнулась и шлепнулась на сидение между нами. Сопротивление подавлено. Победительнице машут экологичные ветряки по обе стороны дороги. Что никогда не интересовало русскую литературу – это экология.
Глядя на меня из своего зеркала, Курт сказал:
– Вы подали хорошую идею, Проф, но в наших условиях она неосуществима. Немецкие мальчики и девочки – другие: исповедоваться они никогда не будут. В нашей среде это не принято, у нас – дистанция.
– Так я и предлагаю ей другую среду. – Я указал на себя большим пальцем. – Со мной можно.
– С ним можно, – подтвердил Курт.
Я продолжал наблюдать за Хайди. Она вела себя как человек, который готов выступить с заявлением. Вдыхала ртом. Покусывала губы. Созрев, произнесла:
– Ладно, я ведь – не та, кто портит игру. Расскажу вам кое-что о себе.
Она только что окончила университет, работает ветеринаром. Любит животных, иначе бы не работала. Животные – как маленькие дети. Не могут объяснить, где у них болит, обо всем приходится догадываться самой. Профессия не так чтобы захватывающая, но дает возможность зарабатывать на жизнь. Хотя сейчас всё сложнее: на запад Германии, где она живет, всё чаще переезжают восточные немцы. Они готовы работать за меньшие деньги и сбивают цены. Хайди надеется, что среди нас нет восточных немцев (я успокаивающе киваю) и что своим рассказом она никого не огорчила.
– Я – восточный немец, и огорчен, – сказал Курт. – Но огорчен другим. В вашем рассказе нет доверительности. Это не русская литература. Это рассказ для отдела кадров. Простите.
– Тогда расскажите о себе, – предложила Хайди. – Демонстрируя доверительность.
– Отлично. Рассказываю.
Курт – программист, хобби – альпинизм. До воссоединения Германии жил в восточном Берлине. Горы в ГДР никакие, и Курт мечтал о Кавказе. Для СССР, однако, требовалась виза, получить которую было сложно. В отличие от СССР, с восточных немцев визу не требовала Румыния, что и было использовано хитроумным Куртом. Раздобыв ключ проводника, он садится в поезд Берлин – Бухарест. Этот поезд (такова география) два часа идет по территории Украины, причем делает там техническую остановку. Во время остановки Курт открывает дверь своим ключом, преспокойно выходит на Украине и направляется на Кавказ. Пробыв три недели в горах, он задумывается о возвращении и выбирает легальный путь: поезд Москва – Берлин. Советским пограничникам путешественник показывает внутренний паспорт и – билет общества немецко-советской дружбы, в которое однажды вступил по наитию. Пограничники ошеломленно рассматривают эти бумажки, пытаясь в голубых глазах немца прочесть, насколько он вменяем. Создавая атмосферу непринужденности, Курт повторяет слово «дружба» (другие ему не вспоминаются). Идут долгие переговоры по рации. Детали их Курту непонятны, ясно лишь, что в рядах пограничников царит растерянность. Ситуация нетипична, и в отношении восточно-германских друзей они боятся поступить неправильно. Оглядываясь по сторонам, пограничники заталкивают Курта обратно в купе и уходят. Таким же образом Курт ездил и в последующие годы. Всего – восемь раз, до падения стены. Потом он уже ездил в Альпы.
Слушая Курта, я думал о том, что восточные немцы теперь больше похожи на нас, чем на западных немцев. Хайди – сдержанная, а Курт – вот он какой: наш человек. Как же мало времени им для этого понадобилось…
В окрестностях Лейпцига мы остановились у кафе и съели по пицце. Курт выпил безалкогольного пива, а мы с Хайди – по паре стопок немецкой водки «Горбачев». «Горбачев» был ее заказом. Из-за жары пить водку мне не хотелось, но я сделал это ради девушки. Она русифицировалась прямо на глазах.
Когда мы сели в машину, Хайди стала рассказывать о своих молодых людях. Упреков со стороны Курта больше не последовало: истории для отдела кадров явно не предназначались. Хайди последовательно описала друзей, их интересы, а также места, где она с ними занималась любовью. Это были парки, ночные пляжи и примерочные дорогих магазинов. В одном магазине их обнаружили по движению ног: пара не учла, что дверь там не доходила до пола. Да (Хайди щелкнула пальцами), она никогда не занималась любовью в машине, хотя что, казалось бы, могло быть естественней…
Курт спросил:
– Проф, а почему вы отказались вести машину – у вас нет с собой прав? Их ведь здесь никто не спрашивает.
– Я не умею водить машину.
Курт присвистнул.
– И ничего в своей жизни не водили? Даже «Жигули»?
Я задумался.
– Бронетранспортер. На военных сборах я водил бронетранспортер.
– Ну, после этого вполне можно вести машину. Соблюдая, конечно, правила – разметка дороги, там, красный свет…
– Для бронетранспортера не существует красного света, – строго ответил я.
До бывшей немецко-немецкой границы мы ехали по шоссе гитлеровских времен – огромным бетонным блокам. На стыках блоков колеса издавали короткий хлопающий звук. Он задавал ритм нашего движения до границы. После границы начался шестиполосный автобан, а с ним – пробка. Мы открыли окна. Попросив разрешения положить мне голову на колени, Хайди сняла кроссовки и сунула ноги в окно. Мы ехали на малом ходу, а Хайди вращала оранжевыми, в полоску, ступнями. Из параллельных рядов нам приветственно махали. О раскрепощающем влиянии русской литературы там даже не догадывались. Голова Хайди ерзала по моим бедрам. Широко раскрытые глаза упирались в мой подбородок.
– Знаете, Проф, – сказала Хайди, – считается, что самое сексуальное в мужчине – это ум. Ум и опыт. Мне кажется, девушка физически ощущает, как они входят в нее со зрелым мужчиной…
В зеркале мне подмигнул Курт. На такой градус доверительности не рассчитывал никто. Поколебавшись, я легонько нажал Хайди на нос: в сложившейся ситуации действие было единственно правильным.
– Я думаю, это заблуждение юности – насчет вхождения ума и опыта. Входит, Хайди, только одно, никогда не догадаетесь – что.
– Догадаюсь.
Машина стала снова набирать скорость. Хайди села и закрыла окно. По обе стороны дороги потянулись ярко-желтые поля рапса, и лица сидящих в машине стали желтыми. За ними последовали заросли баварского хмеля, но цвет наших лиц уже не изменился. Наверное, мы просто устали.
Под Нюрнбергом зашли в придорожный ресторан выпить кофе.
– Так что же мне теперь делать? – спросила Хайди.
– В каком смысле? – не понял я.
– Вообще.
Курт выдохнул сквозь неплотно сомкнутые губы. Длинное «ф», начинающееся с «п». В ответственный момент так делают все немцы.
– Лечите ваших звериков, – сказал он. – Остальное прояснится по ходу дела.
Хайди посмотрела на меня.
– А что в таких случаях советует русская литература?
– Советовать бессмысленно. Да это и не входит в задачи литературы.
– Что же тогда входит в ее задачи?
– Не знаю. Может быть, создавать среду.
До Мюнхена мы ехали молча. Прощаясь, Хайди предложила оставить мне номер ее телефона.
– Вы же знаете законы жанра, – напомнил я. – Их нельзя нарушать.
Мы расплатились с нашим водителем и обнялись – все втроем. Одной щекой я чувствовал колючего Курта, другой – вспотевшую Хайди.
– Вы женаты? – спросила Хайди. – Вы не хотите мне звонить, потому что вам было бы неловко перед женой?
– Скорее – перед русской литературой, – ответил Курт, пряча деньги.
Я пожал плечами – вероятно, мне было бы неловко перед обеими. Забросил сумку на плечо и двинулся в сторону дома. Проезжая мимо меня, Курт посигналил.
Моя футбольная биография
Первое, что в моей жизни помню о футболе, – это квакающие удары резинового мяча по асфальту. Раз или два в моем детстве мне удалось коснуться кожаного мяча, который кто-то выносил во двор в качестве предмета коллекционного. Присутствующим позволялось сделать один или два удара, но играть таким мячом было, конечно же, роскошью. Прикосновения к этому мячу принадлежали к сфере сакрального, а для игры появлялся всё тот же резиновый зеленого цвета мяч. Помню игры в квадрат, «на короля ворот», «в одно касание». В последней задействовалась стена дома, поэтому наши касания нередко сопровождались звоном стекла.
На хорошем поле и хорошим мячом я стал играть в Мюнхене, где в начале девяностых мы с семьей жили в университетском богословском коллегиуме. По вечерам студенты, аспиранты и даже профессора-богословы играли в футбол. В духе западной политкорректности, игравшие были обоего пола. Подчеркиваю это особо, поскольку отношения между полами тесно переплелись тогда с футболом.
Во время одной из игр я резко пошел на мяч – так резко, как может это делать только человек, всё свое детство мечтавший о кожаном мяче. Мне противостояла девушка по имени Мириам, которая в последний момент убрала от мяча ногу. Наша отечественная футбольная школа не предусматривает таких маневров: когда двое борются за мяч, оба отыгрывают эпизод до конца.
Не знаю, зачем девушка убирала ногу. Вероятно, тяга ее к мячу была несравнима с моей. А может, вид мой был таков, что ногу она предпочла убрать. Дело кончилось тем, что вся сила, вложенная в удар по мячу, пришлась на ногу Мириам. Результатом оказалась – до сих пор не могу вспоминать это без трепета – ее раздробленная ступня. Скорая помощь, мы, несущие Мириам на носилках, больница.
Через неделю происходит следующее. Мы играем в том же составе (за исключением, естественно, Мириам). Передо мной оказывается богослов Клаус, который в точности повторяет ее ошибочное движение. Через секунду Клаус лежит на поле с раздробленной ступней. Дальше всё происходит, как в повторяющемся кошмарном сне: скорая помощь, носилки, больница – та, в которой уже лежит Мириам. Я в отчаянии. Моя жена налагает запрет на мое участие в немецком футболе, и я с этим соглашаюсь. Мы оба боимся, что мои футбольные выступления выставляют нашу страну в невыгодном свете.
Самое удивительное в этой истории, что это правда. В больнице Клаус смотрит на Мириам, что называется, с новым вниманием, у них завязываются отношения (благо, характер травм этому не препятствует). По выходе из больницы выясняется, что, в отличие от Клауса, Мириам не только поставлена на ноги, но и беременна. Через девять месяцев у пары богословов рождается дочь София. Как поет Борис Гребенщиков, нога судьбы – притом левая, потому что я левша.
Впрочем, моя немецкая футбольная карьера на этом не закончилась. После долгих уговоров я вернулся на поле – и даже играл в каком-то университетском первенстве. Очевидно, мои товарищи надеялись, что в ответственных матчах я смогу вывести пару-тройку соперников из строя. Не последнюю роль в этих уговорах сыграло, возможно, и естественное стремление молодых богословов к браку: они видели, что мое участие в игре этому способствует.
Уехав из Мюнхена, я не расстался с футболом. В те годы в Пушкинском Доме сложилась отличная команда. По понедельникам после работы мы переходили через Малую Неву на Петроградскую сторону. Там было неплохое по российским меркам поле, где мы играли с дворовыми командами «на вылет». Несмотря на увеличившийся груз лет (а также пива, которым заканчивались матчи), мы обыгрывали почти всех.
Нас искренне удивляло, что эти успехи не производили никакого впечатления на руководство «Зенита». В питерской команде менялся тренер за тренером, но ни один из них так и не появился на Петроградке. Так что радость от наших успехов несла в себе и оттенок горечи. В отличие от тех, кто выступал на стадионе «Петровский», наши финансовые запросы были гораздо скромнее. Мы как-то даже подсчитали, что Российская Академия наук платит нам приблизительно в 800 раз меньше. Игнорирование команды Пушкинского Дома зенитовским руководством мы могли объяснить лишь одним: наша игра казалась ему слишком академичной.
Был, однако, в моей жизни момент, когда «Зенит» обратил на меня внимание. Странным образом я заинтересовал его не как футболист, а как писатель. В солнечный апрельский день 2015 года мне позвонили из зенитовской пресс-службы и попросили дать интервью. Текст, как мне было сказано, предполагалось поместить в программке матча «Зенит» – «Севилья». Беда подкралась с неожиданной стороны: «Зенит» сыграл с «Севильей» вничью и выбыл из Лиги чемпионов. С тех пор из питерской команды ко мне не обращались ни разу. Ощущая вину перед «Зенитом», слабое свое оправдание вижу в том, что в матче с «Севильей» на поле меня все-таки не было…
Оглядываясь на свою долгую футбольную жизнь, не могу сказать, что она была бесполезной. В конце концов, ее результатом стала немецкая девочка София. Она, скорее всего, не подозревает о моем существовании, но я о ней временами думаю. Иногда мне хочется поздравить ее с днем рождения, к которому я некоторым образом имею отношение. Останавливает меня то, что я не могу определить степень нашего родства.
Кстати, о поздравлениях. Среди звонков и писем, полученных в Новый год, особо во мне отозвалось пожелание замечательного тележурналиста Кирилла Набутова: «И чтобы без травм!» Не думаю, что Набутов имел в виду какие-то конкретные события, поскольку ни одного матча с моим участием – так уж сложились обстоятельства – он не комментировал. Да, разумеется, лучше без травм… А если без травм не получается? Ничего объяснять я ему на всякий случай не стал. Просто дал понять, что для поднятия спортивных (и демографических) показателей РФ не пожалею усилий. Что по-прежнему готов выйти на поле и проявить свои лучшие качества.
Ильин день
2 августа 1930 года архангельский протоиерей Александр Нечаев произнес на проповеди следующие слова: «Бог есть, и те издевательства, которые сейчас проводятся над Ним: агитация, демонстрации, ссылки духовенства и т. д., – не пройдут бесследно. Рано или поздно Он расправится своим Страшным судом над нашей несчастной землей».
2 августа – день пророка Ильи, протоиерей Александр – брат моей прабабушки, а слова эти выписаны мной из следственного дела № 2100, начатого 17 августа 1930 года. На правах родственника я получил возможность с ним ознакомиться.
Судя по дате открытия дела, реакция ОГПУ не была мгновенной. По крайней мере, в 1930 году она могла быть и оперативнее. Может статься, доносчик был занят срочным делом или – возможно ведь и такое! – попросту не мог решиться на донос. В каком-то смысле это даже говорит в его пользу, ведь, независимо от принятого этим человеком решения, две недели колебаний – это не так уж мало.
Потом появляются свидетель С. и свидетель У. Свидетель С., сам ссыльный, признаётся, что «еще тогда говорил в церкви: „За такую проповедь отцу Александру не поздоровится“». Свидетель У. расширяет доказательную базу обвинения, цитируя сказанное отцом Александром: «Во времена существования Ильи Пророка тоже было много безбожников, но Бог помог с ними справиться Церкви. И теперь нас Бог не оставит в борьбе с ними».
«Во времена существования Ильи Пророка» – это некоторым образом литературный изыск, и я не уверен, что отец Александр, человек прекрасно образованный, выражался именно так. Но текст, составленный старшим уполномоченным секретного отдела ПП ОГПУ Северного края Вышлецовым, и в целом не лишен причудливости. В конце концов, во времена существования старшего уполномоченного работали Платонов и Зощенко. Не думаю, чтобы Вышлецов ими зачитывался, скорее – наоборот: они слушали его речь и вводили ее в большую литературу.
Временами дело № 2100 производит впечатление сюрреалистическое. По требованию следователя отец Александр полностью воспроизводит свою проповедь от 2 августа. Вышлецов ее как умеет записывает, превращая протокол допроса в своего рода богословское сочинение, перемежающееся то тут то там со стилистически чуждыми вкраплениями. Не покривлю душой, если скажу, что, работая над романом «Лавр», я использовал, среди прочего, и литературный опыт коллеги Вышлецова.
Как и предвидел свидетель С., отцу Александру «не поздоровилось». Один срок сменялся другим, появлялись новые доносчики и новые обвинения. Отец Александр не то чтобы провоцировал судьбу или открыто протестовал (социальный протест был ему чужд как идея) – скорее не считал нужным скрывать свои взгляды. Он делал лишь то, в чем видел свой пастырский долг: вселял надежду и не давал впасть в отчаяние. В конце концов, в храме перед ним стояли не просто «слушатели» – это были люди, за которых он отвечал.
В отношении себя он, кажется, давно все решил и больше ничего не боялся. Свидетель К. приводит во время допроса еще одну фразу священника, произнесенную им на проповеди: «Христос пострадал за нас, так и мы должны пострадать, перенести все эти невзгоды». Предполагаю, что в первую очередь он адресовал ее себе.
Было бы ошибкой видеть в отце Александре что-то исключительное. Сходными качествами в большей или меньшей степени обладали его единомышленники из архангелогородцев и ссыльного духовенства. Имена их мы узнаём, к сожалению, тоже из очередного протокола допроса (дело № 17535, 1937 год). Их перечисляет свидетель З., ставший прототипом одного из героев моего романа «Авиатор». «Все указанные, – разъясняет он, – проживают в Архангельске и, встречаясь друг с другом, ведут контрреволюционную агитацию». Изложено тоже ведь не без блеска.
И вот что я думаю обо «всех указанных». Их, выражаясь по-лесковски, крепкостояние не ограничивается годами гонений. Память о них может приподнять и нас нынешних, продвинутых, информированных, через губу произносящих «РПЦ» вместо прежнего «Церковь». Не будучи ханжой, я далек от мысли, что всем нужно срочно маршировать на богослужение. Крепка только та вера, которая рождается в свободном сердце, и потому мне кажутся неприемлемыми теократии. Они способны убить живую веру.
Но тут ведь вопрос даже не в вере или безверии. Здесь тысячи, десятки тысяч людей, умиравших за други своя, отстаивавших храмы от разрушения, отчуждения, осквернения. Мне кажется, что в этом случае достаточно простого человеческого чувства. Если не любви, то уважения – от верующих и неверующих.
Я взрослый парень – и знаю, что бывают пьяные священники на «Мерседесах». Есть так называемое «магнитное» отношение к материалу, вооружась которым, можно добыть еще какое-то количество подобных сведений. И это будет правдой. Но – какой-то нижнего уровня, если угодно, жалкой правдой. Как правдой является, скажем, то, что Достоевский играл в рулетку. Разве это что-то объясняет в «Братьях Карамазовых»? И разве от правды о пьяных священниках меркнет правда новомучеников, владыки Антония Сурожского или отца Александра Меня? Она способна поднять до неба, как огненная колесница, вознесшая в свое время Илью.
Отец Александр Нечаев умер в концлагере, отсидев половину последнего, десятилетнего, срока. В нашей семье рассказывали, что он принял сан под некоторым – как бы помягче сказать? – влиянием отца. Если это действительно так, то – позволю себе парадокс – его выбор был по-настоящему свободным. Иначе в годы гонений он бы от него отрекся.
И последнее. Однажды я получил письмо от потомка человека, свидетельствовавшего против отца Александра. Письмо очень личное, и я не буду его пересказывать. Скажу лишь, что оно меня по-настоящему тронуло. Я ответил. Получалось, что говорили не только мы и наши предки: как-то незаметно подключились и все остальные. Будто, отправляя письмо, нажал случайно на «ответить всем». Такая некоторым образом всеобщая беседа. Со-чувствие, со-единение – с живыми, с умершими, со всей нашей непростой историей.
Дом и остров
Под стрекотание пленки, в черно-белом: 1919-й, голодающий Петроград, крупный план петропавловского шпиля. Мой прадед, директор гимназии (вросшее в переносицу пенсне), отправив семью к знакомым в Киев, уходит добровольцем в Белую армию. Что ему тогда увиделось – мутный рассол Сиваша, лазурное небо Ялты? – я ведь даже не знаю, где он воевал. Известно лишь, что на родной Троицкий проспект прадед уже не вернулся: там все знали, по какой надобности он отсутствовал. После разгрома белых прадед («Петербург, я еще не хочу умирать») отправился к семье на Украину, что в конечном счете и спасло ему жизнь. Петербург остался где-то далеко, стал лучом давнего счастья и семейным преданием. Покинутым домом, в который семья вернулась спустя лишь долгие десятилетия – в моем лице.
Цветные кадры аэропорта Пулково. В город на Неве я прилетел осенью 1986 года, поступив в аспирантуру Института русской литературы, более известного как Пушкинский Дом.
Приехав туда, я попал на подготовку праздничного капустника. Дмитрия Сергеевича Лихачева, моего будущего многолетнего учителя (формально – начальника), поздравляли с 80-летием. ДэЭса – так его называли в Отделе древнерусской литературы – приветствовали те средневековые герои, о которых он писал. Мне досталась роль Василька Теребовльского, коварно ослепленного князьями. Романс Василька исполнялся мной под гитару. Голос мой, как положено, дрожал – до некоторой степени от сочувствия Васильку, но главным образом оттого, что я поздравлял всемирно известного академика. В сравнении с тем, что довелось повидать ДэЭсу в концлагере, княжеское преступление было, видимо, не самым страшным злом, но слушал он меня сочувственно.
Потом мы сыграли капустник еще раз на отмечании юбилея в ресторане. К моменту выступления мне удалось промочить горло, и голос мой дрожал уже меньше. Нужно сказать, что к пирам у Лихачева было отношение древнерусское. Ему нравилось собирать близких людей – дома, в банкетных залах или на даче в академическом поселке Комарово. Восьмидесятилетие Дмитрия Сергеевича мы праздновали в интуристовском ресторане, потому что в обычных ресторанах (кто сейчас помнит антиалкогольную кампанию?) после семи вечера не подавали водку. Ничего, кроме вина, Лихачев не пил, но, зная, что его сотрудники не отвергают напитков и покрепче, предпринял всё, чтобы эти напитки были.
Закругляя тему пиров, вспомню последний день рождения Дмитрия Сергеевича, на котором мне довелось присутствовать. К тому времени я давно уже не пел. Под влиянием Лихачева я стал человеком письменного текста и написал ему стихотворение. В этом стихотворении отразилась, среди прочего, любимая академиком мысль, что возрождение России начнется из провинции:
Спадает зной. Вдали грустит баян. Захлопыванье ставен. Скрип ступенек. Деревня Комарово: из крестьян Здесь ныне каждый третий академик. Мужского рода кофе на столе, Изыскан слог, и чувствуешь в волненье, Как рост образованья на селе Готовит всей России возрожденье.Да, тогда я уже не пел. Но пока пел, слушал меня не только Дмитрий Сергеевич. Всё спетое, как выяснилось, произвело впечатление на мою соученицу по аспирантуре Таню, русскую немку из Казахстана. Лихачев называл ее «тихой душой нашего сообщества». Определение было удивительно точным. Не будучи тихой душой нашего сообщества, я проявил активность, и через год с небольшим Таня стала моей женой.
Весь этот год наши отношения мы скрывали. Нам казалось, что Дом, в который мы оба попали, подразумевает лишь один род любви – любовь к науке. Всякие иные связи, устанавливаемые между исследователями, виделись нам не то чтобы предательством – скорее дурным тоном. Мы жили в общежитии аспирантов, вполне по советским меркам неплохом. Я располагал там «койко-местом», а Таня, как аспирантка третьего курса, завершающая диссертацию, – отдельной комнатой.
Исследовательницу, к тому времени добившуюся в науке значительно больше моего, я посещал ежевечерне. После насыщенного дня, проведенного в Пушкинском Доме или в библиотеке, я неутомимо интересовался способами датировки древнерусских рукописей, особенностями новгородского диалекта или переводом отдельных древнерусских фрагментов. Мой научный аппетит к вечеру удваивался.
Я думаю, девушка не хуже меня догадывалась, куда лежит курс, но отказать пытливому исследователю не могла. В те годы – годы бескорыстия и взаимопомощи – это не было принято. Я слушал Танины объяснения, и чувствовал, как к моим ушам приливает кровь, и прижимал к ним холодные ладони, и ничего сквозь прижатые ладони не слышал. Я ничего не слышал бы и без них. Смотрел на воздушные Танины пальцы, втайне лелея мечту оставить свое одинокое койко-место и переселиться к ней. Как-то незаметно это и случилось.
Вообще говоря, в отношении людей семейных научное общежитие не было дружественным местом. Его возглавлял некто Валентин Иванович, партиец со стажем и человек трудной судьбы. Трудности его, по слухам, состояли в том, что, будучи прежде директором интуристовской гостиницы, он попался на организации сексуслуг для постояльцев. Голубоглазых ленинградских комсомолок Валентин Иванович передавал в жадные руки империалистов, получая вознаграждение – и это оказалось самым тяжким пунктом обвинения – в иностранной валюте. Ему светил немалый срок, но какие-то немыслимые связи в обкоме партии в последний момент его спасли. Впрочем, в Смольном всё еще хранили память о благородных девицах, и проступком Валентина Ивановича (а особенно тем, что попался) довольны не были. Валентину Ивановичу придумали свое наказание, и оно оказалось изощренным: его поставили директором аспирантского общежития.
Вопиющее безденежье отечественных аспирантов оставляло организаторский опыт Валентина Ивановича невостребованным. Влача непривычное для него безвалютное существование, директор общежития скатился к мелкому вымогательству в рублях. Когда мой коллега Владислав попросил на время учебы поселить в общежитии и его жену, Валентин Иванович удивился. «Странная просьба, – сказал он. – Представьте, что я попросил бы у вас, скажем, тысячу рублей». Будучи филологом, аллегорию Владислав понял, но тысячи рублей (по тем временам значительной суммы) у него не было.
У меня тоже не было тысячи, но я с моей (будущей) женой жил совершенно бесплатно. Об этом факте нашей – тогда уже общей – биографии Валентин Иванович не знал, иначе, не сомневаюсь, это влетело бы нам в копеечку. Что же касается коллеги Владислава, то он после некоторых раздумий написал письмо Горбачеву, которое, как и положено, в конечном счете приземлилось в Смольном. Разбираться в сложившейся ситуации прислали одного академика-биолога. Собрав обитателей общежития, академик долго стыдил Владислава и аспирантов за то, что отрывают Михаила Сергеевича от важных дел. Пристыдив всех, кроме Валентина Ивановича, академик удалился. Впоследствии выяснилось, что перед нами выступал крупный специалист в области беспозвоночных.
Но контроль осуществлялся не только со стороны Валентина Ивановича. Почти ежедневно нас посещали многочисленные соседи по общежитию. Они (молодость наблюдательна) время от времени регистрировали происходившие в Таниной комнате перемены. Одной из таких перемен оказались однажды мои носки, ненавязчиво выглядывавшие из-под Таниной кровати.
– Чьи это носки? – последовал простодушный вопрос.
Таня тогда сменила тему, но было очевидно, что наша маленькая тайна доживает последние дни. Несмотря на то, что я стал прятать носки так далеко, что и сам порой не находил их впоследствии, они обладали удивительным свойством показываться в самый неподходящий момент. Выныривать из ниоткуда в компании моих футболок, зубных щеток и бритвенных принадлежностей.
Впрочем, всем всё уже было ясно, вопрос заключался лишь в констатации факта. А с этим мы всё еще медлили. Дело шло к окончанию аспирантуры – сначала Таниной, потом моей. И Тане, и, позднее, мне Лихачев предложил работу в Пушкинском Доме. Когда для принятия меня на работу понадобилось решать непростую проблему ленинградской прописки, Дмитрий Сергеевич (перед этим он хлопотал о прописке для Тани) пригласил к себе нескольких сотрудников Отдела древнерусской литературы.
– Не хочется лишний раз обращаться в Смольный с просьбами, – сказал он. – Я слышал, что Женя и Таня… дружат. Если они станут мужем и женой, Женя получит прописку автоматически. Вы не могли бы поинтересоваться их планами?
– Но… Дмитрий Сергеевич, – развели руками сотрудники, – как можно спрашивать о таких вещах?
– Только в лоб, – ответил Лихачев.
На следующий день всем стало известно, что хлопотать о моей прописке не нужно. С этого дня для коллег мы перешли в совсем другой статус, и в этом было что-то семейное. Так родители, обнаружив, что дети выросли, начинают давать им подчеркнуто взрослые советы. Звенящее молчание, окружавшее прежде запретные сферы, сменяется столь же гулким пониманием и солидарностью. Случалось, институтские дамы шепотом указывали Тане аптеки, где «выбрасывали» презервативы – один из дефицитов тех времен. Мы же, следуя академической этике, продолжали делать вид, что предметом нашего общения является исключительно наука. Когда после свадьбы Танин живот стал все-таки расти, стало очевидно, что наши с ней отношения носят совершенно неакадемический характер.
Свадьбу мы праздновали трижды – в Караганде, Киеве и Питере. При этом в каждом из городов получили талоны на приобретение колец и кое-чего из одежды. Стоял 1989-й год, и в свободной продаже ничего было уже не купить. Справедливости ради скажу, что талонами мы воспользовались только для покупки Таниного свадебного платья, колец и обуви – на всё остальное денег у нас не было. Свадебный костюм мне подарили мои родственники. Зато обувь, которая была в абсолютном дефиците, мы купили в каждом из трех городов. Заполняя шкаф обувными коробками, мы чувствовали себя брачными аферистами.
Нашу питерскую свадьбу отмечали в общежитии, где для этих целей нам была предоставлена «ленинская комната». В этой комнате лежали подшивки центральных газет и стоял, как полагалось, бюст того, чье имя комната носила. К нему, однако, у меня были большие претензии, и его присутствия на моей свадьбе я потерпеть не мог. Кроме того, зная взрывной характер некоторых гостей, я допускал, что присутствие вождя мирового пролетариата добром не кончилось бы и для него самого. Вынести Ленина из комнаты было единственно возможным решением.
Это был довольно большой Ленин, и вначале я даже засомневался в возможности вынести его одному. С другой стороны, мне не хотелось делать кого-либо соучастником события с непонятным, по сути, исходом: время-то было еще советское. Подойдя к бюсту, я приподнял его – несмотря на внушительный размер, он был совсем не тяжелым. Ленин оказался полым. Подобно прочим советским конструкциям (включая и сам Советский Союз), большая вещь оказалась чистой видимостью. Я вынес ее безо всякого труда.
Рядом с комнатой нашелся недействующий туалет, я поставил Ленина туда и накрыл сверху газетами. Тут же выяснилось, что поступок мой оказался идеологически неверным. Первым мое внимание на это обратил сотрудник хозчасти.
– Вы долго думали? – спросил он меня, показывая на Ленина в туалете.
Думал я действительно недолго – на это у меня просто не было времени. Вынос Ленина был произведен в половине шестого, за полчаса до ожидаемого прихода гостей. Тучи начали сгущаться с неимоверной скоростью. Администрация общежития, собравшись на экстренный совет, признала мой поступок аморальным. Тщетно я доказывал, что туалет недействующий и не содержит экскрементов, что, останься вождь в комнате, кто-нибудь из гостей мог бы его повредить в состоянии аффекта, – высокое собрание считало, что празднование свадьбы нужно отменить. Валентин Иванович почему-то отсутствовал, иначе, не сомневаюсь, мы бы решили вопрос на коммерческой основе.
Наши препирательства длились до 17 часов 58 минут. В 17:59 к общежитию подъехала черная «Волга», из которой вышел Д.С.Лихачев. Встречая его с думой о Ленине, я не ожидал, что появление моего начальника окажет на всех столь благотворное влияние. Администрация очевидным образом испытывала шок. Оставив распри, мы радостно приветствовали знаменитого академика. О наших идеологических разногласиях он так ничего и не узнал.
– Приглашали к шести, я не ошибся? – спросил меня Дмитрий Сергеевич.
– Приглашали к шести, – подтвердил я.
Все остальные пришли в семь.
Дмитрия Сергеевича попросили быть посаженым отцом, и они с женой Зинаидой Александровной сидели рядом с нами. Их удивительная, к тому времени почти шестидесятилетняя семейная жизнь словно бы задавала тональность нашей семейной жизни. Мне кажется, что в нашей любви, которая, благодарение Богу, длится не один десяток лет, весома роль и этого благословения.
Лихачевы просидели за столом пять часов, заметив, что поставили рекорд длительности пребывания в гостях. Нашлись, однако, те, кто отважился побить и этот рекорд. В два часа ночи некоторые из наших гостей позвонили домашним, сообщив, что опоздали выехать до разводки мостов и вынуждены остаться ночевать у нас. Празднование продолжалось весь следующий день. Часов около двух ночи их родные были вновь оповещены об объективной невозможности вернуться домой. На вопрос домашних, что же им помешало вернуться на этот раз, наши гости со всей прямотой вновь указали на разведенные мосты. В те бурные дни я понял, что в Петербурге является уважительной причиной. Причиной, против которой не возразишь.
На следующее утро я увидел за столом милиционера. Несмотря на форму, пришел он, как выяснилось, не по службе. Милиционер сосредоточенно доедал салаты и запивал их коньяком. Закончив с тем, что оставалось на столе, он поздравил нас с бракосочетанием и спросил, есть ли еще алкоголь. Алкоголя, к моему удивлению, больше не оказалось. Милиционер покачал головой, взял большой фужер и слил в него то, что оставалось на дне всех стоявших на столе емкостей – включая бокалы. Он назвал это милицейским коктейлем и, подмигнув нам, выпил одним глотком. Больше мы его не видели.
За праздником пошли будни. Освоившись в Пушкинском Доме, я осознал, что в нем трудится не только Дмитрий Сергеевич, но и многие другие люди – очень разные. Трудился, например, Николай Андреевич, специалист по гражданской обороне, не скрывавший того, что сотрудничает и с некоторыми другими ведомствами. Николай Андреевич был невысок, сед (волосы аккуратно зачесаны назад) и, как я сейчас вспоминаю, довольно-таки стар. Никогда не смеявшийся, он нередко улыбался краями губ, как бы давая понять, что слова собеседника им принимаются не вполне всерьез и, возможно, будут еще проверены. Время от времени Николай Андреевич собирал пушкинодомцев и рассказывал, как им надлежит вести себя в экстермальной ситуации. Иногда дублировал свои сообщения в письменном виде, вывешивая их на доске объявлений под заголовком «Внимание всем».
Однажды в Пушкинский Дом пришел сумасшедший. В Пушкинский Дом время от времени приходят сумасшедшие, и ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Обычно это спокойные люди – авторы оригинальных концепций и статей. Как-то раз в Отделе древнерусской литературы появился даже потомок князя Игоря – тоже вполне спокойный человек. Особенность сумасшедшего, пришедшего в тот день, как раз в том и состояла, что он был неспокоен. И хотел видеть Лихачева.
Дмитрий Сергеевич, который не отказывал в беседе никому, в тот момент принимал очередного посетителя. Когда пришедший выразил твердое намерение ждать, сотрудницы нашего отдела позвали меня. Допускать его до 85-летнего академика им казалось небезопасным, и они попросили меня как-то справиться с посетителем. Я попытался с ним заговорить, но он ответил, что говорить будет только с Лихачевым. В свои тогдашние 25 я был крепким парнем и в случае необходимости скрутил бы этого больного человека без труда. Проблема состояла в том, что я не понимал, есть ли такая необходимость. Не испытывая любви к полицейским методам, я не решался применить силу лишь на том основании, что мне не хотят отвечать. Пауза затягивалась.
В этот момент вошел Николай Андреевич, которому уже доложили о сложившейся обстановке. Он пересек комнату маршевым шагом и, приблизившись к нарушителю спокойствия, произнес всего два слова: «Ваши документы». Пришедший в буквальном смысле затрясся. «Следуйте за мной», – не меняя своей лаконичной манеры, скомандовал Николай Андреевич. Будучи выше Николая Андреевича на голову и вдвое его моложе, посетитель покорно затрусил за ним. Мой внутренний либерализм не помешает мне быть откровенным: это было эффектно.
Помню одухотворенное лицо Николая Андреевича 19 августа 1991 года. Вероятно, ситуация в этот день ему и в самом деле виделась экстермальной. Он вальяжно ходил по коридорам и предлагал сохранять спокойствие, разъясняя, что невиновных не тронут. От его успокоительных слов становилось и в самом деле не по себе. Пройдя мимо Николая Андреевича, я поднялся в Отдел древнерусской литературы. Я стремился туда, как стремятся к острову во время шторма. Собственно, этим словом Лихачев наш Отдел и называл. Спасая от ареста нашего коллегу, имевшего неосторожность переписываться с Солженицыным, он сказал ему: «Вы не понимаете, что живете на острове».
Войдя в отдел, я вначале подумал, что он пуст. Но это было не так. В дальней комнате сидел Лихачев. Почему-то он напомнил мне полковника Турбина, ожидавшего своих в пустой гимназии. Поздоровавшись, Лихачев произнес: «Какие мерзавцы!» Я согласился. Дмитрий Сергеевич рассказал мне, что его внучка Вера с семьей накануне отправились поездом в Германию. Он гадал, успели они пересечь границу или нет.
Вернувшись домой, я бессмысленно следил из окна за машинами. Дома я был один: Таня с годовалой дочкой Наташей гостила у родителей в Караганде. Покрутив без надежды колесико радиоприемника (звучал только Чайковский), я внезапно поймал волну «Открытого города». Радио призывало всех мужчин города двигаться в сторону Исаакиевской площади на защиту Ленсовета. Услышав про всех мужчин города, я подумал, что так могли бы призывать древних новгородцев, римлян, афинян. Свистел в этих словах ветер истории, который в тот вечер увлек и меня. Мне хотелось позвонить Тане в Караганду, но я не позвонил. Из-за разницы во времени там было уже поздно, а главное – я боялся, что она будет просить меня остаться дома. Не успев поужинать, я положил в карман горбушку черного хлеба, взял зонтик и вышел на улицу.
Было поздно, автобусы не ходили, и я стал ловить машину. Первым остановился «фольксваген», в котором сидели насмерть перепуганные финны. Ехать на Исаакиевскую площадь они не собирались, как раз наоборот: с несвойственным им темпераментом выясняли дорогу на Хельсинки. Второй машиной оказалось такси, которое и отвезло меня на Исаакиевскую, точнее, на впадающую в нее Большую Морскую, где мы уперлись в первую из баррикад. Брать с меня деньги таксист отказался. По его словам, всех, кто в эту ночь ехал к Исаакию, питерское такси возило бесплатно. Я вышел из машины и направился в сторону площади.
Подготовка там кипела вовсю. На подступах к площади из обломков мебели, батарей и проволоки возводились баррикады, рядом с ними поперек дороги устанавливались автобусы, а недалеко от памятника Николаю I разливался по бутылкам бензин. Приготовлением «коктейля Молотова» занималась пополнившая ряды сопротивления милиция. На стене Мариинского дворца работал громкоговоритель. Он рассказывал о том, как по Москве уже идут танки и как одного из горожан уже намотало на гусеницы. В заключение сообщалось, что на Питер двигается псковская танковая дивизия. Страшно почему-то не было.
Не по себе стало только тогда, когда на площадь прибыли полтора-два десятка карет «скорой помощи». Медицинскую сторону дела героизм обычно выносит за скобки – а напрасно. Вполне вероятно, настоящий героизм начинается не в бою, а позже, в больничной палате, в операционной и перевязочной. Вкупе с со общениями о псковской дивизии эта мысль действовала на нервы. Ее обоснованность подтверждали «скорые» и курившие рядом с ними врачи. Их белые халаты трепетали на прохладном уже ночном ветру.
Я смотрел на баррикады и думал о том, что для танков они не составляют ровно никакого препятствия. Препятствием они станут лишь для тех, кто бросится убегать с площади: эти груды мусора будет трудно преодолеть. Я решил про себя, что, если появятся танки, убегать с площади не буду. Мне казалось, что наиболее безопасной является точка в центре циклона. Я подумал, что лучше всего забраться на цоколь памятника Николаю I, который – я на это надеялся – не будут ни таранить, ни обстреливать. Однажды большевики уже пощадили его, оценив уникальность конструкции (он стоит всего на двух точках опоры – задних ногах коня). Неизвестно, правда, вспомнили ли бы танкисты о точках опоры в ту ночь.
В ту ночь танкисты не появились. Говорили, что на каждом километре пути колонна теряла сразу по несколько танков. Машины выходили из строя одна за другой, поскольку танкистам не хотелось давить мирное население. Выражаясь сообразно случаю, до смерти не хотелось. Не знаю, так ли это было на самом деле, но около трех часов ночи по радио объявили, что колонна прекратила свое движение. Ленсовет поблагодарил всех за поддержку и призвал расходиться по домам. Живя тогда на противоположном берегу Невы, на Ржевке, последовать этому призыву я не мог. Как это обычно случается в Питере, проблема состояла в мостах: до их сводки оставалась еще пара часов.
Минуя баррикады, я выбрался на Невский. Шел и думал, что сегодня в последний раз иду по свободному Питеру, что уже завтра псковская дивизия возьмет себя в руки и доедет-таки до города, а уж тогда начнется совсем другая жизнь. Я не представлял себе, что это будет за жизнь и останется ли в ней место Пушкинскому Дому – дому и острову одновременно. Сам себе я напоминал прадеда: в сходных обстоятельствах мы с ним поступали сходным образом – каждый в доступной ему форме. Теперь мне оставалось лишь уехать к семье в Казахстан, и симметрию можно было бы считать соблюденной. Было ли здесь дело в каких-то наших семейных чертах или в особенных качествах Родины, то и дело ставящей нас перед неразрешимыми вопросами, – я не знал. Я чувствовал лишь, что и мной, и прадедом двигала вовсе не воинственность (я – ученый, он – учитель) и не тяга к борьбе. Скорее это была попытка не допустить сползания к скотству, которое безошибочно угадывалось в лицах новых вождей.
Я шел по Невскому и не знал, что уже на следующий день перед стодвадцатитысячной толпой на Дворцовой выступит Лихачев и объявит новое «руководство» самозванцами, а еще через два дня станет ясно, что путч провалился. Что через недолгое время люди Исаакиевской и Дворцовой, ожидавшие для России разумного, демократического, западного пути, демократическим властям России окажутся неинтересны – так же, впрочем, как и сама Россия окажется неинтересной Западу. Из менее масштабных вещей не знал я того, что двадцать лет спустя мое тогдашнее блуждание по Исаакиевской будет вызывать у меня улыбку. Что многолетние занятия историей откроют мне: человечество не имеет цели, цель имеет только человек. Им одним, говоря всерьез, и стоит заниматься. Во всем, что шире человека, есть какая-то ненадежность.
У Московского вокзала я неожиданно разговорился с военным – кажется, майором. В эту ночь многие друг с другом разговаривали – особенная была ночь.
– Вы готовы стрелять по мирным людям? – спросил я его.
– Постараемся без этого обойтись, – ответил майор.
Я кивнул и двинулся дальше. Дойдя до площади Александра Невского, остановился. Дальше идти было некуда – впереди чернела громада разведенного моста. Увидев ее, я вдруг разом почувствовал усталость и голод. Вспомнил о взятой горбушке и полез в карман. Горбушка была уже слегка подсохшей, примятой, но (подумалось) не раздавленной. Я вдохнул ее кисловатый запах, и мост начал медленно опускаться.
Совсем другое время
Мое первое воспоминание – настенные часы в перевязочной. В полуторагодовалом возрасте я лежал в ожоговом отделении после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком. Из позднейших рассказов знаю, что меня вывели на кухню нашей коммуналки в присланном родней матросском костюмчике, и там-то я схватился за чайник – только что вскипевший, поставленный зачем-то на табуретку. Родители (до их развода оставалось немногим более двух лет), гордясь то ли мной, то ли новой вещью и щедростью родни, – показывали меня соседям, а я неуклонно приближался к предназначенному мне чайнику, и некому было меня остановить.
Мне, в сущности, тогда повезло: кипяток попал не на лицо, а на бок («Что это у тебя на боку?» – спрашивают меня знакомые на пляже), и я не был обезображен. Я не помню, как бился-катался по полу нашей кухни, как прилетевшая «скорая» не могла стащить с меня узкий костюмчик, не помню даже больничных перевязок. А часы – помню. Вероятно, боль перевязок отпечаталась в моей зарождавшейся памяти в виде двух черных стрелок и круглого, с черным же ободком, циферблата. Сейчас понимаю, что с самого начала мне было предъявлено то же, что некогда Адаму: время и страдание. Точнее, страдание, которое вывело меня из состояния вневременности и включило хронометр моей персональной истории.
Вневременность – райское качество, а детство – маленький личный Рай. Человек выходит из него, как выходят из равновесия, ибо Рай обладает абсолютным равновесием и полнотой. Покинувший Рай сталкивается с проблемами питания, плотской любви, квартиры, денег, но главное – времени. Время – синоним конечности, потому что бесконечное не подлежит счету. Погружение во время не происходит в одночасье, оно имеет длительность – так, чтобы иметь возможность привыкнуть (хотя одна уже мысль о длительности мгновенно переводит рассуждение во временнýю плоскость). Все происходит постепенно – как вход в холодную воду.
Будучи изгнан из Рая, Адам жил еще какое-то время, по нашим меркам – большое: 930 лет. И все же эта длинная жизнь уже не шла ни в какое сравнение с вечностью. Вечность была потеряна. Она медленно уходила, даря свои последние отблески – немыслимое долгожительство праотцов. И хотя Мафусаил прожил даже дольше Адама (969 лет), общий курс был очевиден: с каждым поколением длительность жизни лишь уменьшалась. Когда фараон спрашивает праотца Иакова, сколько ему лет, Иаков отвечает, что – 125, что малы и злы были годы жизни его и не достигли они лет жизни его отца.
Личная история в определенной степени повторяет историю всеобщую, и время в нашу жизнь входит не сразу. Детское время – совершенно особое, оно не похоже на взрослое. Это совсем другое время. Оно вязкое, почти неподвижное, почти не время еще, в нем нет главного свойства времени – необратимости.
Вот я четырехлетний стою по подбородок в море и смотрю, как девочка Надя вываливает в воду сырой песок из ведерка. В песке – совок. Сырой песок движется медленно, и совок движется медленно. Сползают. Я стою в море раскинув руки, словно держась за поверхность воды. Сохраняю по мере сил устойчивость. Волнуюсь, что совок упадет вместе с песком (просчитывание событий – свойство, мучившее меня с тех пор, как себя помню). Не смею об этом сказать, опыта ведь никакого, не было еще таких случаев в моей практике: чистое предвидение, боюсь быть смешным. Не исключается, что песок выпадет, а совок останется. Или, например, совок тоже выпадет, но, увидев свое падение, вернется. Время обратится вспять и все такое. Если Надя так поступает, значит, из чего-то же она исходит. Есть, стало быть, в этом какой-то смысл.
Оказалось – не было смысла, так нередко бывает в жизни. Все, что было в ведерке, в полном составе отправилось на дно моря и там растворилось. Надя растерянно смотрела на воду. Мне было жаль совка, жаль Надю, но грустнее всего было оттого, что ситуация разрешилась по законам логики – логики и земного притяжения – а не по каким-то другим, менее жестким, законам.
Тут возникает мой кузен Петр, он намного старше нас с Надей, мы для него мелюзга, но он входит в Надино положение и без устали ныряет, чтобы найти совок. Петр – и в этом есть что-то от героического эпоса – переворачивает подводные камни, спрашивая жестами из-под воды: здесь? Камни, все в бурых водорослях, обнаруживают обращенную ко дну голую изнанку. Или, может быть, здесь? Мне даже кажется, что камни глухо стучат под водой. Надя беззвучно плачет: о том, куда упал совок, она не имеет ни малейшего представления. Надя, два года спустя ставшая моей первой любовью. А совок так и не нашли – вот она, цена беспечности.
Мы идем по набережной, и я смотрю, как мягко соединяются с асфальтом сандалии моего кузена – с пятки на носок. Я тоже пробую так идти, но безуспешно. В моих шагах никакой пластики, мои сандалии не имеют такого постепенного соприкосновения с землей, негнущиеся, как вся детская отечественная обувь. Существенно то, что в данном случае мы идем не с пляжа, а на пляж, и впереди еще купание, ведерко с песком и все остальные события.
В детстве безгранично не только время, но и пространство. Безгранично в том смысле, что нет границ между местом, где живу постоянно, и приморским городом, куда приезжаю. Как-то они легко переходят друг в друга, без лишних слов. Сутки в поезде – и начинает пахнуть морем, гниющими водорослями, рыбой. У носов кораблей колыхание портовой неопрятности – бутылочных горлышек, арбузных корок, обрывков газет. Даже плюнуть туда страшно: вот, мол, слюна из моего рта в такой грязище будет плавать. Но ничего, плевал.
Все эти события я с трудом привязываю к конкретным годам. Потеря совка (1968) датируется только потому, что это моя первая поездка к морю. И первое воспоминание после ожога – сопоставимое с ним по силе. Такого больше уж не повторялось. Что повторялось: пляж, бабушка курит на ветру. Порывы ветра срывают с сигареты пепел и даже искры. Напоминает Везувий. Курит бабушка и в безветрии. Пепел падает без внешних причин, исключительно под собственной тяжестью. Бабушка шершавой рукой стряхивает его с подстилки, на которой мы сидим. Рядом курит дядя Саша, моряк. Сделав затяжку, он позволяет части дыма выйти наружу, но это лишь прием, игра в кошки-мышки: мощным вдохом выпущенный дым затягивается обратно в рот, умеренно открытый – ровно настолько, сколько необходимо для таких операций. Многие его рассказы начинаются с фразы «Дул страшнейший норд-ост…». Дядя Саша толст, и живот его огромен – в особенности на пляже. Непонятным для меня образом дядя Саша является отцом худенькой Нади и ее старшей сестры Наты. А также сыном Наталии Владимировны, подруги моей бабушки. В том, кто кем друг другу приходится, я в свое время разобрался не сразу. Широкому кругу перечисленные имена мало что… Все понятно.
Вот еще из раннего: смотрю, как Ната качается на качелях. Чуть не задевает меня ногами. Просит отойти. Объясняет, как это опасно – быть задетым по лицу ногой. Говорит: «Ноги – грубое дело». Одно из первых запомнившихся мне выражений. Грубое дело. Ноги, значит. Емко, можно сказать – исчерпывающе. Ната мне кажется рассудительнее Нади, только любят ведь не за рассудительность.
Летом мы ездили к ним, зимой – они к нам. Ожидая их, я просил, чтобы, если не хватит кроватей (с этим действительно были сложности), Надю положили со мной. На бабушкин осторожный вопрос, как я пришел к подобной мысли, внятного ответа у меня не было. К Наде мне было приятно прикасаться – но об этом ведь так прямо не скажешь. А еще приятно было сидеть под столом, клеить елочные игрушки, следить за метелью из жарко натопленной комнаты. Это – с обеими.
Надю и Нату я называл Белками, почему – не знаю. Поздняя версия: бабушка читала мне о девочках-белочках и мальчиках-зайчиках. Если дело обстояло так, то Белки должны были называть меня зайцем – называли ли? Что-то я не помню такого, и спросить некого – бабушка умерла. Впрочем, симметрия здесь не обязательна – ни в именовании, ни в чувствах. Ее и не было.
Белки приехали как-то на Новый год, и в один из дней Надя сказала мне: «Дурак!». Между прочим сказала, может быть, даже ласково – есть ситуации, когда необходимо произнести что-нибудь в этом роде. Обычное детское слово, незлое и необидное. Я был им поражен в самое сердце, плакал даже. «Дурак!» Лет пять-шесть мне было, я знал это слово, иногда им уже и пользовался, но чтобы Надя – мне… Отношения с Белками были той частью бытия, которая все еще пребывала в Раю. Надино же слово было нерайским. Точнее, как раз и было тем яблоком в саду, к которому понятно, что лучше не прикасаться, но Надя зачем-то сорвала его.
Они приезжали и летом. Все вместе мы отправлялись на электричке отдыхать в деревню Клáвдиево. Я довольно смутно представлял положение Клавдиева в мире, но четко помнил две последние станции перед ним: Кичеево и Немешаево. И хотя в те годы мне не случалось путешествовать в одиночку, где бы на свете ни возникли тогда на моем пути Кичеево и Немешаево, я бы всегда мог с уверенностью сказать, что последует за ними.
Клавдиевские – как, впрочем, и приморские – впечатления многослойны. И я не могу с уверенностью отделить один слой от другого. Самый ранний эпизод – это, пожалуй, преодоление высохшей канавы, неглубокой даже для меня тогдашнего. Меня переводили через нее Белки, которым это очень нравилось. Они были чуть старше меня, и я был объектом их взрослой заботы. Мне это тоже нравилось – я был рад такому неожиданному вниманию. Увидев, что предприятие удалось, в дальнейшем Белки переводили меня через все подряд – канавы, бордюры, дорожки, – взяв под руки с обеих сторон. Было в этом что-то балетное.
Одним из самых сильных, хотя и чуть более поздних моих клавдиевских воспоминаний стала пани Мария. Она была полькой, а фамилия ее – непреднамеренно – Поляковская. Роль ей в Клавдиеве выпала необычная, и рядовые клавдиевцы были пани Марии, прямо скажу, не чета. Она родилась в семье инженера, строившего Юго-Западную железную дорогу, и получила хорошее воспитание. В клавдиевском ее домике стояло фортепиано, на котором она обучала игре деревенских девушек. Как и почему их семья осталась жить в пыльном Клавдиеве, я себя тогда не спрашивал: все происходящее на свете – и в этом преимущество детства – казалось мне естественным. Сейчас спрашиваю, но не нахожу ответа.
Иногда пани Мария для нас играла. Надевала старинные бусы, кольца и играла. Загрубевшие от немузыкальных ее занятий пальцы с шумом плюхались на клавиши. Так, напоминая о материальности искусства, в первом ряду партера слышен топот балерин. Время от времени раздавалось приятное щелканье – это касалось клавишей одно из колец пани Марии. Она не могла играть без колец.
Рассказывала об отце, пане Антоне, – «бардзо элегантський». Бардзо. Отменного воспитания человек. Пана Антона железнодорожная общественность отправляла по деликатному делу к министру железных дорог Клавдию Семеновичу Немешаеву в Петербург. Напомнить министру, что в его, министра, честь в свое время были названы две станции – Немешаево-1 и Немешаево-2 (пан Антон разворачивал карту и показывал на ней станции). Вот это-то, собственно, обстоятельство сбивало с толку машинистов (жестом показывал, как сбивало). Так нельзя ли, высокочтимый Клавдий Семенович (деликатно спрашивал), переименовать Немешаево-2 в Клавдиево? Нельзя ли, значит, в данном случае поменять фамилию на имя? Оказалось, можно.
Мы с Надей в Клавдиеве раскачиваемся в гамаке. Мы – в лодке, которая уходит от погони. Надя на веслах, а я лежу (ранен, может). Беглецы, одни в целом мире. Надя раскачивает гамак движением ног, и он взлетает так высоко, что захватывает дух. Ритм и энергия Надиных движений меня ощутимо волнуют. Из райского состояния мы вышли уже несколько лет назад. Я кладу руку на полоску кожи между ее майкой и юбкой, но она этого не замечает. Я робко глажу ее по спине – никаких возражений. Очевидно, как раненый я имею на это право.
Помню клавдиевские имена. Мы снимали дачу у Ольги Максимовны. Самой Ольги Максимовны память не сохранила, но имя ее осталось. Она делила дом и сад с бывшим то ли мужем, то ли зятем, которого называла чудовищем. Делила в прямом смысле: по дому проходила перегородка, по саду – забор. Из-за этого забора чудовище угощало нас вишнями. Лица его мы не видели – только руки, полные темно-бордовых ягод. Целиком показываться (предположение основывалось на «Аленьком цветочке») он, видимо, боялся. За пугающей внешностью у него скрывалось доброе сердце, которого Ольга Максимовна так и не смогла разглядеть.
Но мы продолжали ездить и на море. Там, на море, у Белок не квартира была – колониальная лавка. Пробковый шлем, африканские маски, панцирь морской черепахи, акулья челюсть, рыба-меч. Не говорю уже о банальных раковинах и морских звездах – они лежали на каждом свободном месте. Все отнятые у моря предметы наполняли квартиру солоноватым запахом. Имелась также прекрасная библиотека, в том числе «Библиотека приключений», которую я – лет уже в восемь-десять – читал запоем в летние приезды к ним. Все приключения этой библиотеки память сохранила в декорациях их квартиры. И с ее запахом.
Взрослея, мы с Белками не то чтобы перестали общаться – скорее не были уже исключительным достоянием друг друга. У меня – и, несомненно, у них – появились новые друзья, которые доставляли нам радость. Одной из главных радостей моего детства было просыпаться от прикосновения моих друзей по двору. Жили мы с бабушкой на первом этаже, двери во двор не закрывались, можно было войти рано утром и разбудить меня. Я до сих пор помню эти пробуждения и сопровождавшее их ощущение счастья.
Было еще словечко – «выйдешь?». От него повышалось настроение. Не призыв, не команда («выходи во двор!»), а вопрос, точнее – вопрос-команда. Утром будят – выйдешь? Конечно, выйду, как же можно не выйти? Во дворе были свои развлечения, в известном смысле – даже свое море. То и дело под землей прорывало водопровод, и, чтобы добраться до него, выкапывали яму. Она тут же наполнялась водой. Воду откачивали, но труб не меняли – просто латали старые. После починки яма вновь заполнялась водой, и ее через какое-то (длительное) время снова откачивали, и снова латали трубу. Если вода больше не появлялась, через месяц-другой яму закапывали и покрывали участок асфальтом – до следующей (скорой) аварии. Все делалось не совсем уж спустя рукава, но и без ажиотажа, с чисто русским фатализмом. И никто во дворе не выказывал неудовольствия – ни взрослые, ни (уж тем более) дети. Сидя на краю ямы, мы болтали ногами в прохладной глинистой жиже. А спины нам грело жаркое летнее солнце. Удивительное было наслаждение, и не скажешь ведь, что редкое.
Во дворе, под маслиной, стоял стол, по бокам две скамейки. На одной из них сидел старый Илья – спиной к столу, облокотившись о него, разбросав руки. Из глубин памяти всплывает робкое сомнение, что был это, возможно, дядя Вася. Как бы то ни было, сочетание казалось вечным: маслина, стол со скамейками, человек. Потом человека не стало. Говорили, что Илья, проходя зимой мимо дворового крана, поскользнулся на наросших разводах льда и убился насмерть. Причем убился точно Илья. Кто бы в конечном счете ни сидел разбросав руки – Илья или дядя Вася, – мне его потом очень не хватало.
Рос еще во дворе пирамидальный тополь – очень высокий. Бабушка рассказывала, что его посадил Сергей, который давно умер. В голове моей не укладывалось, как это тополь растет, в то время как Сергей умер. Или, скорее, наоборот: как это он умер, если тополь растет. Имя Сергея мы с друзьями произносили с тихой печалью, оно нам очень нравилось, а Сергей казался молодым и красивым. Это было одной из первых моих встреч со смертью. Более ранней встречей были только похороны во дворе, когда я поднялся в квартиру покойницы и долго смотрел на нее. Смерть тогда не выглядела явлением всеобщим. Случай безымянной покойницы, как и случай Сергея, казались мне их личной неудачей.
Место сидевшего на скамейке под маслиной заняла баба в платочке – очень ненадолго. Баба была воплощением иронии и скепсиса. Нас, вернувшихся из школы (кожаный запах ранца, звяканье ручек в пенале), она встречала фразой на чужом, хотя и вполне понятном языке: «Школяри… Копийка вам цина в базарный дэнь». Не знаю, насколько была оправданна такая жесткая оценка. Может быть, и оправданна… Баба исчезла так же неожиданно, как и появилась.
Была в моей жизни еще одна Белка – кошка. В отличие от приморских Белок, – воплощение злобы и человеконенавистничества. Всякого проходившего мимо встречала шипением и попыткой схватить за ногу. Находясь рядом с плитой или стульями (предметы, под которыми животное любило отдыхать), следовало всегда быть начеку. Почти любое движение рядом с ней Белка считала нападением и немедленно бросалась в контратаку. О том, чтобы погладить киску или, не дай бог, взять ее на руки, не могло быть и речи. Частичное исключение делалось Белкой только для моей бабушки. Впрочем, я был не из тех, кто отступает перед трудностями, и, надев перчатки из толстой кожи, несколько раз отрывал Белку от пола. Сейчас понимаю, что дело могло кончиться пусть не ожоговым отделением, но уж наверняка офтальмологическим.
Между тем, Белку ценили. Она отлично ловила крыс, что для нашей квартиры было качеством актуальным. Будучи профессионалом, пойманных крыс Белка не ела, предпочитая мясо, которое бабушка давала ей в награду. Справившись с крысами в квартире, Белка начала ловить их на помойке и приносить в квартиру. Однажды сосед Эдуард покрасил в кухне пол (это был единственный раз, когда на моей памяти в кухне что-либо красилось), и по этому полу Белка протащила очередную крысу со двора. Выгнав Белку с крысой, Эдуард закрасил образовавшуюся дорожку и закрыл входную дверь. Дождавшись ухода Эдуарда, Белка с крысой влезла через форточку и протащила-таки добычу через кухню до нашей с бабушкой двери.
Собственно, Белка появилась в нашей квартире уже на грани моего взросления. Наверное, поэтому черты ее лишены размытости и предстают во всей своей четкости. Вместе с тем, образ Белки подернут и дымкой эпоса, слагавшегося прежде всего мной. Я придумывал о ней массу историй, которые всем рассказывал и о которых Белка ничего не знала, иначе (мяу!) она бы мне их ни за что не простила.
Лет с десяти время моей жизни начало встраиваться в общую хронологию, и моя личная история мало-помалу стала частью истории всеобщей. События разворачивались стремительно. Я вырос, закончил школу, выучился на литературоведа, отпустил бороду, затем ее сбрил, обзавелся семьей, мы много путешествовали, из литературоведа я превратился в литератора (точнее, совмещаю одно с другим), вновь отпустил бороду, по совету жены – короткую, в виде трехдневной щетины, поседел и приобрел неожиданно респектабельный вид: карманники на Невском (они принимают вас за иностранца, пояснили мне в полиции) стали проявлять ко мне то внимание, на которое прежде я просто не мог рассчитывать.
Отношений с Белками я почти не поддерживал. Первой отпала Надя. Она вышла замуж и, как человек цельный, послала к чертовой бабушке все, что не имело отношения к ее новой семейной жизни. Ната со временем также вышла замуж – за неразвитого парня с большими усами – то ли радио-, то ли сантехника. На вопрос о круге его чтения следовал ответ, что всем видам литературы он предпочитает техническую. Когда у них родился больной ребенок, муж Нату бросил. Она выживала за счет того, что в нескольких местах мыла полы, а ее отец дядя Саша, к тому времени списанный на берег, продавал на улицах газеты. В те годы я побывал у них, но квартиры не узнал. В ней больше не было ни «Библиотеки приключений», ни просто библиотеки, ни даже мебели. Квартира превратилась в бомжатник, где, помимо хозяев, жили собаки, якобы выращиваемые на продажу. Ната, однако, не теряла присутствия духа. Помимо мытья полов, она публиковала в местной газете стихи и вступила в компартию (независимой уже) Украины. Последние известия об этой семье шли урывками – в основном через мою мать, которая с Натой переписывалась. Рассказывали, что, продавая газеты зимним ветреным днем (дул страшнейший норд-ост, вспомнилось мне), дядя Саша поскользнулся и сломал шейку бедра. Прохожие занесли его домой, но в больницу он не обращался. Нога его срослась неправильно, и он уже больше не ходил. А потом пришло письмо от Наты, где сообщалось, что у нее последняя стадия рака печени. Когда мои родные попытались с Натой связаться, к телефону уже никто не подходил.
Иногда мне кажется, что в разрушении этого маленького приморского Рая виновато время. Не то время, которое «время перемен», «трудное время» и т. д., а время как таковое, как потеря вневременности. Мне даже мерещилось, что нужно просто отмотать время назад, и – восстановится Натина печень, дядя Саша поднимется с обледенелого тротуара, вернется на свои полки «Библиотека приключений», Белки под руки (надо полагать, задом наперед) поведут меня обратно через канаву, совок, вынырнув из воды, втянется в детское ведерко, а кипящий чайник медленно остынет.
Памяти пишущей машинки
Русские спешат на помощь «Титанику»
В один из весенних дней в Петербурге на Зверинской улице открылся художественный салон. Назывался он «Господин Зверинский». Стрелка-вывеска над подворотней приглашала пройти в третий по счету двор и купить недорогую, но хорошую картину.
После некоторых колебаний указанию последовал кинорежиссер Николай Ярвинен, проходивший мимо. Режиссеру Ярвинену не работалось уже более полугода, и он мог позволить себе отклонение от маршрута. Тем более что маршрута в строгом смысле у него не было.
Не то чтобы Ярвинен специально интересовался живописью – просто название, а главное, местоположение салона привлекли его внимание. Накануне он расстался со второй женой, и третий двор внезапно увиделся ему следующим элементом таинственного паззла. «Паззла, имя которому жизнь, – подумал не без пафоса режиссер. – Что бы ни ждало меня в третьем дворе, по отношению к моей второй жене это будет шагом вперед».
При появлении режиссера Ярвинена в салоне зазвенел колокольчик, и из-за висевшей в глубине помещения бархатной портьеры вынырнул невысокий плотный человек. Он кивнул посетителю как давно знакомому и спросил, не господин Ярвинен ли он. Отметив, что его узнали (а его узнавали не всегда), режиссер ответил любезностью и поинтересовался у встречавшего, не он ли господин Зверинский. Тот ответил, что название салона связано с улицей, а его фамилия – Сипяго.
Сипяго и в самом деле говорил довольно сипло. Архип осип – Осип охрип, мелькнуло в голове у режиссера. Он улыбнулся. Замечание о господине Зверинском было шуткой работника искусства.
– Простите, – он деланно смутился. – Конечно, я мог бы догадаться, что господина Зверинского не существует.
– Почему не существует? – Сипяго показал на стол, и Ярвинен увидел рыжего кота. – Господин Зверинский собственной персоной.
Услышав свое имя, кот поднял голову. За его спиной висел натюрморт с апельсинами, отчего господин Зверинский и сам казался большим апельсином. Неудивительно, что Ярвинен его сразу не заметил. Перед котом стояла хрустальная салатница с водой.
– Вода без запаха, и коты ее не чувствуют, – пояснил Сипяго. – Поэтому воду котам следует давать в прозрачной посуде: там они видят ее благодаря бликам. Лучше всего в хрустале.
Перед мысленным взором Ярвинена предстали бродячие коты Петроградской стороны: похоже, они все-таки обходились без хрустальной посуды. Режиссер пожал плечами, и от Сипяго это не укрылось. Зазвонил телефон, он снял трубку.
– Полина, тебя!
Из-за портьеры вышла рыжая Полина: в салоне умели ценить этот цвет. Ярвинену подумалось, что на работу девушку взял, должно быть, не кто иной, как господин Зверинский. Начальство любит видеть свое отражение в подчиненных, а привилегированное положение Зверинского казалось очевидным. Когда Полина взяла трубку, Сипяго повторил не без вызова:
– Коты могут пить только из хрусталя.
Господин Зверинский, предполагаемый автор идеи, бросил на Ярвинена обиженный взгляд. Помедлив, режиссер кивнул и стал рассматривать картины. Ничего увлекательного он не увидел. Еще дюжины две натюрмортов. Девочка с авокадо, м-да. Виды Петербурга (Ярвинен был почему-то в этом уверен) срисовывались с открыток: Никольский собор, панорама Невского проспекта, Исаакиевская площадь. Летний сад: Венера, возглавляющая шеренгу дубов, неправдоподобно крупные желуди на дорожке. Уж лучше бы, честное слово, авокадо. Этикеток с названиями картин Ярвинен не читал – они добросовестно отражали имена достопримечательностей. А что, собственно, еще они могли отражать?
Одна этикетка лежала на полу, и что-то в ней привлекло внимание режиссера. Он наклонился. Текст ее выгодно отличался от прочих: «Русские спешат на помощь „Титанику“». Оглянувшись, он встретил три безмолвных взгляда. Показал на этикетку:
– А где картина?
– Какая? – спросила Полина.
Кот, которому угол стола закрывал обзор, спрыгнул на пол и приблизился к этикетке.
– «Русские спешат на помощь „Титанику“».
Такой картины не помнил никто. Да и этикетка была не похожа на те, что висели на стенах салона. Сипяго предположил, что она выпала из папки какого-то художника.
– Марченко? – попыталась угадать Полина.
Сипяго снисходительно улыбнулся.
– Ну, это вряд ли. Марченко рисует военные корабли. Отчего бы его, спрашивается, заинтересовал «Титаник»?
Взяв стремянку, Полина достала с верхнего стеллажа картину Марченко:
– «Авианосец „Унрю“».
– «Унрю»? – переспросил Ярвинен. – Вы уверены?
– Да, «Унрю». – На обратной стороне картины она прочитала краткую справку. – По-японски это значит «дракон, летящий по небу на облаке». В 1944 году был потоплен американской подводной лодкой.
Сипяго задумался. Корабль был хоть и военный, но затопленный, и это в какой-то степени роднило «Унрю» с «Титаником». Решили звонить Марченко. Уже набирая номер, Сипяго спросил у Ярвинена:
– Вам действительно нужна эта картина?
– В высшей степени.
Марченко долго не подходил к телефону. Гудки в трубке отзывались звоном капели по жестяному отливу окна. Ударившись о жесть, капли превращались в водяную пыль, искрившуюся на вечернем, отраженном от противоположного окна, солнце. Даже в третьем дворе светит солнце, думал Ярвинен, кто мог этого ожидать? Вот что значит весна. Весной так все устроено, что самый что ни на есть третий двор, любой, что называется, колодец по части солнца не обделен, оно и сюда заглядывает…
Марченко все-таки откликнулся – недовольный. От чего-то там его оторвали, и мембрана передавала ноющие интонации того, кто утомлен всеобщим вниманием. Кто с удовольствием бы обругал, но считается с последствиями. Узнав, что вопросы задаются по просьбе клиента, Марченко несколько приободрился и даже предложил написать картину с таким названием. Ярвинен отрицательно помахал рукой. Нет (еще один взгляд на «Авианосец „Унрю“»), ни в коем случае.
Сипяго подошел к двери и выглянул наружу.
– Закрываетесь? – догадался гость.
– Есть такое дело. – Закрыв дверь, Сипяго повернул в замке ключ. – Вместе с тем, нам не хотелось бы оставлять вас с вашей проблемой наедине.
Он сделал знак Полине. Когда девушка скрылась за портьерой, Сипяго сказал, что она вообще-то художница, а в салоне подрабатывает. Через минуту Полина появилась с бутылкой водки и тремя стопками. Еще раз ушла и вернулась с банкой зеленого горошка, шпротами и буханкой бородинского хлеба.
– Сейчас важно всё спокойно обсудить, – сказала она, начиная резать хлеб. – То есть по-деловому, без паники.
Кот снова запрыгнул на стол.
– Да, паника нам не нужна, – согласился Ярвинен.
Хлеб уже не был мягким, и для того чтобы его нарезать, приходилось прилагать усилия. В такт движениям Полины трясся господин Зверинский и плескалась в салатнице его вода.
Когда водка была разлита, Сипяго предложил выпить за успех предприятия. Ярвинен не до конца понимал, о каком предприятии идет речь, но охотно выпил: сидеть с этими людьми ему нравилось. С ними он чувствовал себя спокойно и по-домашнему. Ему было приятно даже то, что Полина только пригубила – это характеризовало ее как девушку благоразумную.
– Прежде всего, – сказал Сипяго, – нужно решить, будем ли мы продолжать поиски картины или закажем новую.
– Если прикинуть, со сколькими художниками мы работаем, – Полина показала на забитые картинами стеллажи, – обзванивать их мы можем до утра.
Присутствующие машинально перевели взгляд на стеллажи (господин Зверинский когтем подцепил в банке шпроту), и Ярвинен подумал, что не прочь остаться здесь до утра. Однако звонить всю ночь напролет никто не собирался. Полина – и в этом также сказывалось ее благоразумие – считала, что картину лучше заказать. Так можно было определить не только сюжет полотна, но и его стиль.
Встав из-за стола, она пригласила всех еще раз к «Авианосцу „Унрю“».
– Стиль этой картины… – Она резко обернулась к коту. – Нет, ты действительно думаешь, что тебя никто не видит? Ну, раз сделали вид, что не заметили, ну, два, – сколько же можно?
От предельного непонимания господин Зверинский зажмурился. Перед ним лежало полшпроты.
– Что касается стиля, – сказал Сипяго, – то он зависит от изображенного на картине. Что мы знаем об исторической подоплеке сюжета? Русские действительно пришли на помощь «Титанику»?
– Название не утверждает, что они пришли. – Ярвинен развел руками. – Сказано только, что они спешили.
– Значит, могли и не прийти, – предположила Полина. – Мне кажется, это ирония: русские – спешили.
– А в чем здесь ирония? – Сипяго жестом пригласил всех обратно за стол.
– Мы же знаем, чем дело кончилось. Русские спешат довольно медленно…
Полина засмеялась, но ее не поддержали ни Сипяго, ни господин Зверинский (полшпроты перед ним исчезли). Ярвинену нравилось, как смеется Полина, и он улыбнулся.
– Главное, что спешили, – сказал Сипяго. – Людей нужно судить по намерениям, поскольку на результате лежит проклятие бытия. Может быть, им тоже встретился айсберг – мы же не знаем.
Все снова сели за стол. Во время очередного тоста кот приложился к своей салатнице.
– Не исключаю, что смысл мог быть аллегорическим, – произнес особым, между стопкой и закуской, голосом Ярвинен. – Имеется в виду иносказание.
– Какое? – спросил Сипяго.
– Ну, я не знаю… Какое-нибудь историческое. Россия – Запад, например. – Ярвинен посмотрел на Полину. – А вы как думаете?
– Я просто не поняла. Запад – это «Титаник»? А мы кто?
– А мы русские. Которые спешат.
– Отличная, кстати, идея. – Сипяго плеснул водки себе и Ярвинену. – Падение нравственности, культ потребления. Плюс великое переселение народов – с Юга и Востока на Запад.
– А тут еще мы плывем, – сообщила Полина господину Зверинскому прямо в ухо.
Кот встал, выгнулся дугой и зевнул. Снова лег. Никто никуда не плывет.
Сипяго взялся было за бутылку, но заметил, что она пуста.
– Слетать в круглосуточный? – Он посмотрел на Полину.
– Да, дорогой, слетай.
Дорогой… Ярвинен спрашивал себя, кем она ему приходится. Женой – вряд ли. Любовницей? Сестрой? Точно – не матерью. Полина, вообще говоря, могла бы… Он засмотрелся на то, как ее пальцы растворялись в шерсти кота. Могла бы стать его третьей женой. Господина Зверинского тоже стоило бы взять с собой – кормили бы его шпротами. А Сипяго (дверь за ним с хлопком закрылась) приглашали бы по воскресеньям.
Ярвинен положил Полине руку на плечо.
– Хотите, я сниму вас в кино?
– Нет, – сказала Полина. – А что за фильм?
– «Русские спешат на помощь „Титанику“».
– Круто!
Рука Ярвинена продолжала лежать на плече Полины.
– В центре действия – рыжая девушка Полина. Она работает официанткой на трансатлантическом пароходе «Торжок». Девушка нема. Она уговаривает капитана отправиться на помощь тонущему лайнеру.
– Немая – уговаривает?
– Она убеждает капитана жестами. Полина знает, что среди пассажиров «Титаника» находится режиссер немого кино Хаккинен, зарабатывающий на круизе демонстрацией карточных фокусов. Заработанные деньги должны пойти на съемки фильма с Полиной в главной роли. В ходе гонки со временем девушке приходится столкнуться со взрывом паровых котлов, бунтом на корабле и, ну, скажем…
– С айсбергом.
– Да, с настоящим айсбергом. Кажется уже, что время упущено, но Хаккинена подхватывает Гольфстрим и несет навстречу «Торжку». Чтобы хоть как-то согреться, он продолжает показывать карточные фокусы. Из воды его достают уже без сознания, но живым. В кулаке он сжимает червовую даму, цветом волос удивительно похожую на Полину.
Ладонь Ярвинена скользнула по волосам Полины.
– Потрясающе! – засмеялась Полина.
Ее губ осторожно коснулись губы режиссера.
Вернувшись с бутылкой, Сипяго бросил на Ярвинена внимательный взгляд.
– Кажется, вы тут с Полиной совсем загрустили.
Ярвинен кивнул.
– Просто я вчера расстался с женой. Причем – со второй.
Сипяго помолчал.
– А я додумал сюжет. Это может быть корабль с русским флагом, который плывет в сторону Евросоюза. Море можно изобразить в виде карты – чтобы уж все было ясно.
– Карты? – не поняла Полина.
– Ну да, смятой такой карты в виде волн…
Сюжет Ярвинен нашел замечательным. Особенно ему понравилось, что корабль плывет как бы по суше. Когда он спросил, не может ли взяться за него Полина, Сипяго быстро ответил:
– Она – экспрессионистка. Здесь нужна манера, соответствующая идее.
Ярвинен хотел было возразить, что для плавания по суше нужна немалая экспрессия, но Полина откинулась на стуле:
– Наивное искусство?
Сипяго был строг.
– Представь себе, я тоже так считаю. – Он обернулся к Ярвинену. – Вам знаком примитивист Нелюбин? Можно было бы заказать ему.
– Надеюсь, он достаточно примитивен, – откликнулся режиссер. – Я готов внести задаток.
Решили сразу позвонить Нелюбину, но каким-то образом выяснилось, что уже второй час ночи. Нелюбин вроде бы не должен был спать, он бы поговорил, но его жена… Там были сложные отношения. Описывая жену, Полина положила ладонь на запястье Ярвинена:
– Люба, между прочим. А он – так уж получилось – Нелюбин: разлад был запрограммирован.
Брать задаток Сипяго отказался, и это выглядело странно. Нерадостно как-то. Обменялся с Ярвиненом телефонами, сказав, что позвонит, когда картина будет готова. Гость открыл новую бутылку и наполнил стопки. Заметил, что стопка Полины была в этот раз пуста.
– Полина, скажете?
– Я скажу, – коротко доложил Сипяго. – На ход ноги.
Такого тоста Ярвинен не ждал.
Ход ноги. Это словосочетание он повторял, идя по ночной Зверинской. Оно казалось ему пошлым, каким-то даже вульгарным, в особенности – единственное число. Сипяго. Дракон, летящий по небу на облаке. Явно ревновал, иначе отчего бы он свернул такой душевный вечер? На Большом проспекте в лицо ударил ветер с Невы. Он был по-весеннему теплым, хотя кое-где все еще лежал снег.
Прошло несколько дней, а звонок из салона не поступал. Потеряв терпение, Ярвинен позвонил сам. Сипяго сообщил, что, по словам жены, примитивист Нелюбин в запое, так что придется немного подождать. Спросил еще, так ли уж срочно нужна картина, и Ярвинен ответил, что срочно. Помявшись, Сипяго сказал, что в экстренных случаях Нелюбин пишет, не выходя из запоя, при этом результат оказывается, в сущности, еще интереснее.
Прошло две недели, и Ярвинен снова позвонил Сипяго. Тот был вне зоны доступа. Ярвинен подумал, что в конце концов ему нужен доступ не к Сипяго, и отправился на Зверинскую. Он вошел в третий двор, но не нашел ни Полины, ни Сипяго, ни даже господина Зверинского. На двери висел замок. За стеклом, отражая взлохмаченные ветром волосы Ярвинена, висело сообщение о том, что салон переехал.
Месяца два он методично обходил петербургские салоны и галереи и не пропускал ни одного вернисажа. Поиски оказались тщетны. Если салон и переехал, думалось ему, то в какие-то такие края, откуда нет возврата. Например, в Австралию. Очень скоро о Ярвинене стали говорить как о человеке, фанатично преданном искусству. Его постоянно видели на лекциях по современной живописи, на открытии галерей и юбилеях художников.
В конце года, когда подошел его собственный юбилей, ему устроили пресс-конференцию. Газеты сообщали, что после затяжного творческого кризиса режиссер приступил к работе. Правда, о сути ее юбиляр говорить отказался, считая это дурной приметой. В ответ на настойчивые просьбы журналистов приоткрыть завесу тайны он вроде бы проговорился, что это будет что-то о помощи русских «Титанику».
Идея показалась неожиданной, но многообещающей. По мнению прессы, сильной стороной проекта в нынешней международной обстановке являлось обращение к положительному опыту. Особо подчеркивалась новизна материала: о факте, положенном в основу фильма, прежде не было известно ничего.
Памяти пишущей машинки
Есть вещи, вышедшие из обихода. Например, лорнет: никто никого давно уже не лорнирует. За исключением энтузиастов, никто не нюхает табак. Исчезновение этих реалий было постепенным. Но, мне кажется, ничто с такой скоростью не ушло из нашей жизни, как пишущая машинка.
Она вышла из употребления на моей памяти. В начале своей научной карьеры лет десять я печатал статьи на портативной машинке «Любава». Это наименование, связанное то ли с женским именем, то ли с городком в Восточной Пруссии (нем. Löbau, польск. Lubawa: выпускалась машинка по лицензии немецкого «Роботрона»), пребывало в центре моей жизни. Оно не вызывало во мне ничего кроме благодарности и было востребовано ежедневно.
В детстве я удивлялся: отчего машинка пишущая, если на ней печатают? Вероятно, удивление мое разделялось многими, потому что повседневным названием изделия было печатная машинка. В этом, собственно, и был главный ее фокус: текст написанный она превращала в напечатанный. День, когда я впервые сел за печатную машинку, в моей личной истории сравним с первыми оттисками Гутенберга в истории всеобщей.
В последних классах нашей школы преподавалась машинопись, к неудовольствию многих – только девочкам. Мальчиков почему-то обучали слесарному делу (логика здесь была ясна не вполне, поскольку те, кто чувствовал это призвание, покинули школу после 8-го класса). Наша профподготовка невольно наводила на мысль о существовании во взрослой жизни двух основных профессий – слесарей и машинисток.
Машинистка – одно из редких обозначений профессии, которые существуют только в женском роде, потому что машинист – это нечто совсем иное. Я знал только одного мужского представителя этого ремесла, профессионала высочайшего класса. Это был знаменитый петербургский поэт андеграунда Евгений Вензель, печатавший диссертации всему Пушкинскому Дому.
Можно было бы рассказать историю пишущей машинки и даже, чего доброго, остановиться на ее конструктивных особенностях, но я не стану этого делать. Биография покойной интересна, но на фоне других изобретений человечества не так чтобы уникальна. Ее подробности – как, впрочем, и исчерпывающие технические характеристики – в один клик можно найти в интернете.
Скажу о другом. Печатная машинка была в каком-то смысле предметом одушевленным. Ее очеловечивала причастность к самым сокровенным моментам творчества – как литературного, так и научного. Это она готовила нам множество открытий чудных, предоставляя пятый, почти нечитаемый экземпляр текстов Мандельштама, Георгия Иванова, Набокова, Булгакова, Солженицына, Бродского и многих других. В равной с читающими степени машинка несла ответственность за распространение самиздата и арестовывалась вместе с ними. Подобно отпечаткам пальцев, снимались индивидуальные отпечатки ее букв.
Некоторые остались верны ей до сих пор. Я знаю нескольких человек, которые всё еще продолжают печатать на машинке. Упомяну, что Дмитрий Сергеевич Лихачев, уже имея компьютер, до конца жизни отдавал предпочтение «Ундервуду» 1946 года.
Мне вспоминается, как однажды, почти уже тридцать лет назад, я заехал к Дмитрию Сергеевичу, чтобы подписать характеристику для поездки в Германию. Я привез ему готовую характеристику – такого рода тексты составляли обычно сами характеризуемые. Когда мы выпили чая, я передал Дмитрию Сергеевичу это малоинтересное сочинение, которое – таковы были особенности жанра – не читал никто, включая адресата.
Академик текст прочел – и нашел, что он написан слишком сухо, что не все мои заслуги в нем отражены. По его мнению, характеристику следовало переписать. Я понял это как мое домашнее задание, даже спросил, когда мог бы привезти ему новый вариант. Но Дмитрий Сергеевич сел за «Ундервуд», вставил в него свой личный бланк и начал печатать.
Наблюдая за тем, как его пальцы скользили по клавиатуре, я думал о том, что для этого человека нет проходных текстов, что ответственность (в данном случае – ответственность руководителя) существует для него только в серьезно понятом смысле. Уже тогда я видел происходящее в пожелтевшем глянце будущего воспоминания – мы ведь обычно сразу знаем, что запомнится. Одним из самых ярких штрихов этой картинки был почему-то «Ундервуд».
Интересный разговор о пишущей машинке состоялся у меня с Андреем Георгиевичем Битовым, которого я по делам пушкинодомского альманаха посетил года за полтора до его смерти. Битов рассказал мне, что все свои тексты он сразу печатает на машинке. Я сначала подумал, что неправильно его понял. Уточнил, существуют ли у него при этом рукописные черновики. «Нет, – сказал Андрей Георгиевич, – пишу сразу на машинке». Когда же я поинтересовался, как он правит текст, Битов ответил, что он его не правит: вся предварительная работа производится у него в голове. Мне хотелось спросить, как это возможно, но я промолчал. Получается, есть люди, чьи тексты выходят из головы уже готовыми.
Мне это было непонятно, потому что обычно писатели редактируют свои тексты довольно основательно – будь то структура фразы или противоречия, возникающие по ходу создания книги между различными ее частями. Как это происходило у блестящего стилиста Битова, навсегда останется тайной – его и пишущей машинки.
Вообще говоря, пишущие машинки унесли с собой много тайн. Как-то они с нами со всеми взаимодействовали – не по-компьютерному, без нахальных подсказок и нелепых предложений. Мой компьютер, например, при описании древнерусских рукописей обозначение «собр.» (библиотечное собрание, в котором хранится рукопись) заменяет на «СОБР». Допускаю, что он не прочь сменить Академию наук на силовое ведомство. Если мои подозрения верны, то здесь его ждет разочарование. Говорят, что сверхсекретные документы по-прежнему печатаются на машинке.
Поэт Малой Садовой
Скудные биографические очерки, появившиеся в газетах в связи со смертью Евгения Вензеля, дают перечень классических андеграундных профессий: грузчик, сторож, матрос береговой охраны в яхт-клубе. Почему-то мне ни разу не встретилось упоминания о занятии, которое прославило этого человека в академических кругах Петербурга: Вензель виртуозно печатал на машинке.
Собственно, по этой линии мы и познакомились. Время от времени я носил ему для печати тексты – сначала диссертацию моей жены, а потом – и свою собственную. Имя Жени Вензеля в Пушкинском Доме было синонимом высшего машинописного класса.
Помимо своей филигранной работы, Женя (не помню, чтобы кто-то называл его иначе) был известен тем, что много лет не выходил из дома. С ним нельзя было встретиться у метро или оставить работу на вахте института – все знали, что тексты Жене нужно приносить. Вне своей квартиры он появлялся только в виде телефонного голоса: «Здравствуйте. Это ваш тезка». Если к телефону подходила моя жена, неизменно звучало: «Здравствуйте. Это ваша машинистка». Название профессии (оно существует только в женском роде) укрощало любую феминистку, и Женя не упускал случая женщинам об этом напомнить.
Как человек, чьей кожи не касалось солнце, Женя был болезненно бледен, как предпочитавший согреваться изнутри – небрит. Согревающие средства по его просьбе порой доставлялись вместе с текстами. Так, мне вспоминается один редкий по красоте питерский весенний день. Щедрая эта красота не обошла и сумрачную Женину квартиру на Съезжинской. Солнечный луч, заглянувший туда словно из любопытства, безошибочно нащупал мой портфель, содержавший, да, не только тексты.
Разговор зашел о литературе. Закуской была квашеная капуста – почему-то только она, но ее было много. Мы поочередно тыкали вилками в сочащуюся рассолом капустную массу и неспешно подводили итоги развития современной русской поэзии. Женя заявил, что будет оценивать любого названного мной поэта по 40-балльной системе. Отчего система было именно такой, мне было не ясно. Возможно, она соотносилась с крепостью потребляемого напитка. Помню, что одно из самых высоких мест на Жениной шкале занимал Бродский: ему досталось 37 баллов.
О своих стихах Женя почему-то никогда не говорил, и от него их я никогда не слышал. Между тем, многие стихи его были очень хороши. Они отражали великолепное знание традиции и производили впечатление разнообразием решавшихся проблем – от любовных до, так сказать, межнациональных. К последним относятся самые, возможно, известные его строки:
Мой отец – еврей из Минска. Мать пошла в свою родню. Было б, право, больше смысла вылить сперму в простыню. Но пошло, и я родился половинчатей отца: я – как русский – рано спился, как еврей – не до конца.Было даже то, что не без условности допустимо назвать физиологической лирикой:
Говорила мне ноздря: – Здря сморкаешься ты, здря!Можно было бы сказать о роли Вензеля в круге «Поэтов Малой Садовой», о том, что его женой была замечательная поэтесса Елена Шварц. Но это должен быть отдельный, серьезный разговор, для которого нет места в небольшом очерке. Не сомневаюсь, что такой разговор состоится. Я же, пытаясь вытянуть свои встречи с Женей в единую сюжетную линию, ограничиваюсь сейчас отдельными воспоминаниями.
В один прекрасный день в дверь нашей квартиры позвонили. Это был… Женя Вензель. С таким же успехом в дверях мог стоять (сидеть) Медный всадник или Исаакиевский собор. Не уверен, что в этом случае я удивился бы больше: из всех достопримечательностей Петербурга Женя казался мне самой неподвижной.
В руках у него было несколько книг и какое-то деревянное изделие. Изделие оказалось изящной подставкой для книг, которую Женя сделал собственноручно. Он объяснил мне ее конструкцию (она была непроста, эта подставка) и сказал, что это подарок. Книги же совершенно неожиданно он определил как залог. «Любви?» – спросила моя жена. «Нет, – серьезно ответил Женя. – Я хочу одолжить у вас денег».
Драматизм ситуации стал мгновенно ясен. Вошедший в жизнь компьютер лишил Женю работы, и это заставило его покинуть квартиру. Мы дали ему денег и сказали, что не нужно не только залога, но и возврата. Женя покачал головой. Деньги он мог только одолжить.
Самой большой из принесенных книг была антология поэзии «Строфы века», изданная Евгением Евтушенко. В антологию были включены Женины стихи, и мы понимали ее ценность для автора. Женя беззлобно обругал Евтушенко за выбор стихов, за то, что тот опубликовал их без спроса, но в целом у меня сложилось впечатление, что тезку он готов простить. Мы попытались еще раз убедить Женю не оставлять книги, но он был непреклонен. Мне кажется, что, помимо гарантии возврата денег, Жене хотелось дать нам возможность полистать антологию.
Деньги он вернул. Это был второй и, кажется, последний его визит к нам. Выход из квартиры открыл ему, что жизнь существенно изменилась. Женя рассказал, что в его парадное въехал господин уголовно-процессуального вида. Увидев Женю на лестничной площадке, он показал на него пальцем: «Челентано!» (Наш друг был действительно чем-то на него похож.) «Буду, блин, называть тебя Челентано», – сообщил новый сосед. Описывая сцену, Женя пожал плечами: «Челентано так Челентано. Со мной же всегда можно договориться».
Жизнь прозаика чаще всего скучна. Можно сказать, прозаична. Жизнь поэта почти всегда – продолжение его творчества, граница между ними условна и нарушается с обеих сторон. Евгений Вензель не был исключением.
Иди бестрепетно!
Когда приводят цитаты из моего романа «Авиатор», чаще всего предпочитают призыв «Иди бестрепетно!». Принадлежит он Терентию Осиповичу Добросклонову, эпизодическому персонажу, совершенно не рассчитывавшему на цитирование.
Тема бестрепетности стала в моей жизни актуальной по случаю, прямо скажу, примечательному. Один известный и почитаемый мной человек недавно прислал мне письмо. Осознавая некоторую необычность излагаемого, он начал с заверений, что это не розыгрыш, а просьба его знакомой девушки.
От меня требовалось немногое: написать своей рукой пресловутое «Иди бестрепетно!», сканировать и послать ему. Это могло бы показаться делом рутинным (чего только мне ни приходилось писать в жизни), если бы не конечная цель предприятия. Высказывание моего героя девушка собиралась носить на своем теле в виде татуировки. Как говорит в проблемных ситуациях замечательный писатель Сергей Носов, здесь было подумать о чем.
Прежде всего, я не знал деталей. Мыслилась ли моя цитата как замечание общего характера или предназначалась какому-то конкретному человеку? Если не ответить, то, по крайней мере, уйти от этого вопроса помогла классика. Оправдывая себя тем, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, я выслал требуемый скан. Оставался, однако, другой вопрос – насколько такое утверждение справедливо по сути?
Да, был я свидетелем ситуаций, когда проявление решительности казалось оправданным. Однажды, много лет тому назад, мы с моей тетей гуляли по Москве, и на тогдашней улице Герцена нас с ног до головы облило водой проезжавшее такси. Таксист, разумеется, мог запросто лужу объехать, но нарядная моя тетя – по-человечески это очень понятно – была для него слишком большим искушением.
Облив нас, водитель остановился метрах в двадцати у светофора. Тетя ускорила шаг и пошла в полном смысле слова бестрепетно. Думаю, что усилием воли она этот светофор и зажгла. Предугадать тетино слово таксисту я не мог – догадывался лишь, что оно будет кратким, но горьким. Преподавание русского языка иностранцам научило ее обходиться минимумом языковых средств. Открыв дверь такси, негромко, но очень внятно тетя произнесла: «Чтоб ты сам себя задавил». Мы двинулись дальше. Спустя минуту я обернулся: дверь оставалась открытой, таксист – неподвижным. Сказанное – пугало, хотя техническая сторона проекта, судя по всему, так и осталась для него непонятной.
На фоне положительных примеров бестрепетности существует, однако, немало примеров противоположных. Как человек, отвечающий за высказывания Терентия Осиповича, считаю нужным подчеркнуть, что польза бестрепетных действий, подобно всему на свете, имеет свои границы.
Недавно нашу общественность всколыхнуло видео, на котором молодой человек из Петербурга бьет бомжа по лицу ногой. Бестрепетность здесь состоит не столько в самом ударе (а выполнен он мастеровито – чувствуется практика), сколько в том, что это было снято и выложено в интернет. Нехватка в равной степени чувств и мозгов (большинство такого рода преступлений раскрывают саморазоблачения) в юном поколении становится пугающей.
В этой связи можно вспомнить и знаменитых девочек-живодерок, от чьих развлечений становится нехорошо. Тому, что они вытворяли, ужаснулись не только любители животных, но также и любители людей – путь от одного к другому здесь прямой. Невозможность издевательств над животными и людьми рождена одними и теми же данными нам тормозами. Если таких тормозов нет, в опасности и те, и другие.
Впрочем, было бы несправедливым ограничиваться одной лишь молодежью. Вовсе не только молодежь выгоняет инвалидов из кафе, не пускает их в самолеты или отказывает в строительстве пандусов, запирая их навеки в четырех стенах. Всё это, опять-таки, совершенно бестрепетно.
Может быть, нужна как раз трепетность? Может, пришло время призывать именно к ней всякого, перед кем старик, ребенок или инвалид? Вообще-то это положено чувствовать самому, но человек – он во всех смыслах растет, и некоторые задержавшиеся в развитии чувства воспитываются. Особенно если воспитание происходит по новейшим методикам – например, в виде татуировки.
Так вот, вернемся к тату. Представьте себе, недели через две после своей просьбы знакомый прислал мне фотографию красивой девушки. Лицо ее в кадр не вошло, а грудь была целомудренно прикрыта, но даже то, что осталось доступным для обозрения, несомненно говорило о красоте: после пятидесяти обретаешь способность определять красоту даже по косвенным признакам. Под левой грудью девушки помещался призыв идти бестрепетно, выполненный знакомым корявым почерком. Несмотря на мои сомнения в универсальности призыва, здесь он смотрелся убедительно. Агитация была, что называется, очень наглядной.
Показав жене фотографию, я сказал ей, что Терентий Осипович был бы доволен. «Ты, по-моему, тоже», – ответила жена. Что ж, возможно… Возможно, и я тоже.
Фотография на фоне литературы
В детстве я мечтал научиться фотографии, но неудача подстерегала меня уже на первом этапе: я никак не мог правильно заправить пленку в проявочный бачок. Понимая, что добром дело не кончится, я бросил фотографию и занялся сферой, исключающей всякое упоминание о бачках, – литературой. Впоследствии, когда проявка пленки ушла в прошлое, мои отношения с фотографией стали менее напряженными. И сегодня я с очевидностью осознаю, что в наступившую эпоху литература и фотография имеют много общего. И та, и другая как никогда остро ставят вопрос о границе: а) между искусством и не-искусством; б) между профессионалами и непрофессионалами.
Начну с первого. Ко времени появления фотографии в 1820-х годах существовала богатая традиция живописи, и эти две стихии, конечно, не могли не сравнивать: живопись, мол, искусство, а фотография – документ. В то же время, ничего подобного не переживала литература, хотя текст, как известно, может быть и искусством, и документом. Иными словами, граница между искусством и не-искусством не связана со способом создания произведения – будь то кисть, фотоаппарат, гусиное перо или печатный станок. Граница определяется здесь другим обстоятельством – наличием, выражаясь в духе Ю.М.Лотмана, системной или внесистемной информации.
Несмотря на грозные термины, ситуация легко поясняется примерами. Системной информацией является, скажем, объявление о продаже обуви, где обозначаемое (обувь) и обозначающее (текст) вполне совпадают. Примером же внесистемной информации является самый короткий рассказ Хемингуэя («For Sale»): «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Нужно ли объяснять, какой трагический сверхсмысл содержит это объявление?
Вообще говоря, объявления и реклама как явления, вырастающие из повседневности, обладают большим эстетическим потенциалом. Они вроде бы не претендуют на оригинальность, но именно это отсутствие претензий и делает их эстетическим объектом. Неслучайно самым смешным является клоун с серьезным лицом. Известный питерский фотохудожник Алексей Савкин в 90-е годы сделал замечательный по-своему снимок наружной рекламы на одном из вологодских домов: «Общество с ограниченной ответственностью „Родина“».
Таким образом, сверхсмысл отличает искусство от не-искусства. Это как пар над водой: он вроде бы и вода, но уже в другом агрегатном состоянии. Для образования пара нужен, как известно, огонь, и всякий раз этот огонь – разного происхождения. Чаще всего его разводит художник, но бывает, что это одинокий костер на берегу, счастливая находка, попадающаяся фотодилетантам вроде меня. Вспоминаю сфотографированный мной полуразрушенный дом в Пскове с крупной, слегка выцветшей надписью: «Счастье есть».
Существует, наконец, сверхсмысл, который дает время. Он появляется, к примеру, тогда, когда мы рассматриваем старые фотографии. За конкретными людьми стоит стиль эпохи – с его неповторимыми особенностями в одежде, прическах или, скажем, манерой держаться перед камерой. Есть у меня такая книга – «Совсем другое время». Я долго думал над тем, как же это другое время выразить на обложке. И нашел единственно возможное решение – поместил фотографию 1912 года из семейного альбома.
В старых фотографиях есть глубина времени. Ведь само фотографирование происходило совершенно не так, как сейчас. Человек приходил к фотографу не просто нарядным – он являлся во всей своей несиюминутности, показывал себя не только нынешним, но и прошлым. Может быть, даже будущим: мне иногда кажется, что в глазах этих людей уже отражается достоверное и грустное знание о предстоящем XX веке.
Если разобраться, фотография так же далека от «объективной реальности», как и картина. Точнее, она отражает реальность творческого замысла. Но фотография обладает иллюзией объективной реальности, и это ее качество способно использоваться искусством. Это другой, как бы реалистический, фланг искусства, который существует параллельно искусству вымысла. В этом параллельном существовании заключен особый смысл, как заключен он в одновременном использовании в блюде сахара и соли.
Порой оба этих фланга способны сочетаться в творчестве одного человека. Художник Михаил Шемякин известен виртуозным использованием приема деформации реальности. Но тот же Шемякин является блистательным фотографом, и, как мне кажется, эта игра с контрастами его радует. У него есть удивительный альбом «Тротуары Парижа», где снятые им случайные, самой природой (если, конечно, это применимо к парижским тротуарам) начертанные линии преображаются в восхитительные рисунки. Стирается ли тут граница между искусством и действительностью? В определенном смысле – да. При этом нужно учитывать одну «мелочь»: не всякий, кто фотографирует парижские тротуары, способен осмыслить эти изображения художественно.
Что касается границы между профессиональным и непрофессиональным (это, напомню, составляет пункт «б»), то и здесь литература и фотография переживают сходные процессы. По подсчетам С.И.Чупринина, писателями в современной России считает себя примерно 700 000 человек. Формально говоря, все 700 000 имеют на это право: его, в частности, дает интернет, принимающий все тексты (воспользуюсь выражением С.С.Аверинцева) с гостеприимством кладбища.
Статистики в отношении фотографов у меня нет, но что-то мне подсказывает, что она окажется намного более впечатляющей. Количество фотографов будет, очевидно, в большей или меньшей степени соответствовать числу владельцев мобильных телефонов. Сопровождается ли такой количественный рост в области литературы и фотографии ростом их качества? Боюсь, что нет.
Итак, скажу, как в анекдоте, что мы имеем две новости – плохую и хорошую. Одна из новостей состоит в том, что границы между искусством и действительностью, профессионалами и непрофессионалами сейчас как никогда тонки. Вторая новость – всё осталось на своих местах: даже нарушая всевозможные границы, искусство осталось искусством, а профессионалы – профессионалами. Не знаю, какая из новостей хорошая, а какая – плохая. Не исключаю, что обе хорошие. Можно спокойно жить дальше.
«Фотография, при всей легкости исполнения, ставшей возможной благодаря современной технологии, является одним из сложнейших видов нового изобразительного искусства, – писал мне в письме Михаил Шемякин. – Нарисовать яблоко или портрет сидящего напротив тебя человека сможет далеко не каждый, а сфотографировать – любой имеющий в руках камеру. И красиво, и похоже. Но красиво – не есть красота, и похожесть не есть схожесть глубинная.
Фотография может раскрыть внутренний мир человека, а может являть собой скуку, безвкусицу и пустоту. Рисунок, картина – это отражение мира, преломленное в сознании художника. Фотография – это взгляд на мир художника, наблюдателя или неофита. И на то, чтобы овладеть подлинным мастерством, пристальным, серьезным взглядом на вещи, на окружающий мир, понять игру света и тени, вникнуть в законы композиции фотографии, уходит иногда вся жизнь».
Мягко, но твердо
Этой весной мы с женой две недели были в Японии. Там случилась такая же задержка с приходом весны, как и у нас, поэтому цветущей сакурой мы, считай, и не любовались. С лекциями и встречами проехали шесть городов, но сакура в этот год объявила глухую и повсеместную забастовку. Мы, конечно, видели пару-тройку цветущих деревьев, но это не имело ничего общего с тем великолепием, которое нам было обещано. Все остальные обещания принимающая сторона выполнила.
Ежедневно к нам прикрепляли двух волонтеров, которые отвечали за нашу целость и сохранность. Нас приглашали в музеи и храмы, купали в термальных источниках и одевали в кимоно, водили в дорогие бутики и в магазины, где любая вещь стоит не дороже ста йен (местные русские любовно называют их «стойенками»). По теплоте приема я мог бы сравнить Японию разве что с Сербией, но у сербов (считать ли это их недоработкой?) нет термальных источников, даже кимоно нет.
Из того, чего нет ни в Сербии, ни у нас, назову еще зияющее отсутствие чаевых. Это трудно себе представить, но устроено дело так: вы даете таксисту купюру, а он возвращает вам всё до последней японской копеечки. Не ждет, пока вы добровольно откажетесь от своих денег, не говорит, что у него нет сдачи, а дает денежку и, не вставая с места, рычагом открывает вам заднюю дверь. В ресторанах же еще причудливей: получив от официанта счет, вы при выходе оплачиваете его в кассе.
Сама еда – невероятно вкусная и полезная, всё крутится вокруг сырой рыбы. Наслаждение длится примерно три дня. Потом происходит нечто необъяснимое, и вы не можете этого есть. То ли организм переполняется чем-то таким, чего в России нет, то ли начинается тоска по Родине, и есть становится невозможно.
Между тем, верные долгу, волонтеры указывают вам на очередной ресторан национальной кухни. Вы, не желая их обидеть, начинаете оттягивать момент обеда или откровенно хитрить. Говорите, например: а сегодня, ребята, мы приглашаем вас в итальянский ресторан. Ребята удивлены, но желание гостя – закон. Не без труда мы находим итальянский ресторан, берем меню… Кухня оказывается стопроцентно японской. Из итальянского – только флаги.
Что на меня произвело наибольшее впечатление – аристократизм японцев. Я долго подбирал определение их манеры говорить, двигаться: аристократизм. Приведу пример. Известно, что, чем дальше на восток, тем громче становится речь. Так вот, японцы, самые восточные из восточных народов, говорят тихо. Тише, между прочим, нас – особенно женщины.
Японские женщины – отдельная песня. Удивительно красивы и одеваются с большим вкусом. Юны: глядя порой на женщину, не можешь определить ее возраст даже приблизительно – то ли 17, то ли 47. После 50, правда, всё ясно даже с японками.
Теперь о самом главном – о литературе. О том, как и что японцы читают, способен сказать один факт. Недавно был сделан новый японский перевод «Братьев Карамазовых». Так вот, за небольшое время был продан миллион экземпляров. Повторю: мил-ли-он. Если же учесть, что среди ныне живущих писателей с мировым именем значительна часть имен японских (Кадзуо Исигуро, Харуки Мураками, Рут Озеки и др.), можно смело утверждать, что на литературной карте мира Япония является великой литературной державой.
Непосредственным поводом нашего приезда стало издание японского перевода моего романа «Лавр». Было бы преувеличением сказать, что я этот перевод изучил. Вместе с тем, в руках я его держал (очень симпатичные иероглифы) и кое-какое представление об особенностях текста составил – на основании впечатлений моих японских коллег. Главной особенностью японского «Лавра» является то, что, в отличие от оригинала, играющего современным и древнерусским языковыми пластами, он располагает только пластом современным. Древнерусского пласта от японского переводчика никто не ждал, а вот древнеяпонский казался желательным.
Да, есть категория того, что обычно определяется как lost in translation. Ладно, пропало бы три слова или, там, хорошая фраза – но здесь, как мне казалось, исчезли элементы несущей конструкции. Я готов был расстроиться. Но один мудрый японский коллега посоветовал мне этого не делать. Он сказал, что как цельное повествование, созданное на японском языке, такой вариант несомненно лучше. Что в историко-культурном контексте Японии все мои стилевые экзерсисы будут поняты не обязательно в правильном русле. И ведь правда: пословицы, например, переводятся не дословно – в языке перевода для них подыскивают тоже пословицы. Другой коллега предположил, что главный герой здесь вообще будет воспринят не в поле русской святости, а, скорее, в буддийском или синтоистском ключе.
Незадолго до отъезда мы побывали в знаменитом «саду камней». На ровной, посыпанной гравием площадке в таком саду положены 15 больших и малых камней. Фишка такого сада состоит в том, что, с какой стороны ты бы ни смотрел на эти камни, видно только 14. Один же из камней всегда скрыт другими камнями. Мол, в любом, даже самом очевидном явлении есть своя тайна.
Случилось мне однажды редактировать перевод с японского. И был там рассказ о том, как один человек надлежащим образом ответил другому, причем сделал это – дословно – «мягко, но твердо». Следуя редакторскому рефлексу, это выражение я уже готов был убрать, как вдруг оценил его красоту – и остановился. Это ведь какой силой и мудростью нужно обладать, чтобы произнести что-то мягко, но твердо! Вот я могу говорить либо мягко, либо твердо, а чтобы так – соединяя полюса…
С такими людьми хочется иметь дело. Мягкие интонации в адрес оппонентов не мешают им в течение десятилетий твердо отстаивать свои интересы. Их нынешняя открытость к чужому не отменила внимания к собственным корням, и японское дерево не было смыто безжалостным потоком глобализма. И даже, допустим, роман они переведут не так, чтобы порадовать чужих, а чтобы было понятно своим. Скрытностью они вроде бы не отличаются, но есть у них этот пятнадцатый камень, которого не видно. Мы привычно называем их соседями – даже в Петербурге, на некотором отдалении.
Время взросления
Есть народы, для которых крещение стало одним из этапов их истории. Крещение Руси оказалось, по сути, началом русского этноса. Племена (вовсе не только славянские), разбросанные по огромной территории, стали единым народом.
Случилось это благодаря, по меньшей мере, трем революционным событиям.
1) Вместо дышавшего на ладан язычества на Русь пришла великая монотеистическая религия – христианство. В то время как русское язычество письменностью не злоупотребляло и в серьезно понятом смысле ее не знало, христианство принесло с собой огромное количество текстов – богослужебных, толковательных, исторических, житийных и т. д.
2) Покинув исторический вакуум, Русь окунулась в гущу мировой истории. Из византийских исторических книг она не только узнала о том, что было на свете до 988 года. Русь поняла, как надлежит эту историю строить и оценивать.
3) Христианство открыло канал для творческой энергии древнерусских людей. Иногда говорят, что эта энергия пробивалась сквозь христианство, как цветок сквозь асфальт. Порой, смягчая, уточняют, что в Средневековье (уж так оно получилось) искусство приняло религиозные формы. Всё не так: в Средние века христианство и было искусством.
Чтобы понять роль христианства в средневековом мире, нужно отдавать себе отчет в том, что в Средневековье не было неверующих. Да, были еретики, были язычники, но и у них существовала своя метафизика. Новое время родило атеизм как иной тип сознания, если угодно – иной тип веры. Не то чтобы в Новое время выяснились какие-то обстоятельства, позволяющие усомниться в существовании Бога. Я думаю, рост атеизма с увеличением знания о мире вообще никак не связан. Он отражает общее наступление на метафизику. История словно переворачивается вверх ногами. Если в Средневековье не было (не должно было быть) неверующих, то в советском государстве, напротив, не должно было быть верующих.
Я часто думал: отчего большевики считали Бога своим конкурентом? Отчего тысячами расстреливали священников? Ответ я вижу в одном: события 1917 года – это великая революция против метафизики. Операция по замене метафизических ценностей физическими, материальными. Исчерпывающий ответ Нового времени средневековой Руси с ее чрезвычайным метафизически напряжением. С точки зрения нынешней эпохи, то и другое – полюса. Избыточное напряжение на одном из полюсов создает такое же напряжение на противоположном. В целом это соответствует происходившему на Западе – с той, может быть, разницей, что напряжение на полюсах там было не так велико.
Мы живем в эпоху, когда в вопросах веры нет единомыслия: есть верующие, атеисты, агностики, и такое положение вещей имеет свои преимущества. Потому что вере для глубокого понимания себя иногда требуется безверие, как живущему на Рублевке полезно хоть изредка ощущать себя бездомным.
Парадокс? Да, пожалуй. Многие сложные явления можно описать, только прибегнув к парадоксу. Церковь изначально парадоксальна. Назову только некоторые взаимоисключающие понятия, которые ей так или иначе приходится связывать друг с другом.
Небесное и земное. Нельзя все население РФ заставить жить по законам неба, а главное – и не нужно. Дело Церкви – напоминать о том, что эти законы существуют, и по мере возможности применять их на земле. Каждый шаг Церкви строго оценивается ее оппонентами. Если это шаг в направлении идеала – вознеслась, если шаг к пастве с ее буднями – погрязла.
Личное и общественное. Христианство вообще и Православие в частности – глубоко персоналистическая религия потому хотя бы, что ответ на Страшном суде персонален. Не менее значимо, однако, социальное измерение христианства. То, что мы называем сейчас этическими категориями, регулирующими нашу общественную жизнь, в большинстве своем было сформулировано христианством. Здесь, как и в предыдущем пункте, все дело в балансе: излишний акцент на личном ведет к самоизоляции, сосредоточение на народном порой оборачивается музеем под открытым небом, превращая веру в этнографию.
Новое и старое. Самая, может быть, благодарная почва для критических высказываний. Церковь-де не замечает того, что старое сменилось новым. Так в том-то и дело, что в главном не очень-то оно сменилось. Жизнь в основных своих пунктах осталась прежней, а кроме того, по совету Бродского, стоит обратить внимание на то, чем она вообще кончается. Меняются декорации. Одежда меняется, вид телефонов. Я видел, как в некоторых реформированных церквях, пытаясь быть современными, клали богослужебные тексты на ритмы поп-музыки. Это не прибавляло современности. Через пару-тройку лет эти песнопения становились милым ретро, под которое трудно думать о чем-то неэстрадном. Это – случай Ахилла с черепахой, и погоня за новым здесь бессмысленна.
Выясняется, между тем, что все перечисленные парадоксы находят свое решение. Не в последнюю очередь за счет того, что Церковь у нас состоит из разных людей, и каждый найдет себе там собеседника по душе – «простого сердцем» или интеллектуала, доброго или «крутенького». Или не найдет собеседника – так тоже случается.
Будучи недавно в Польше, я случайно оказался свидетелем обряда конфирмации. Войдя в подростковый возраст, юные члены Католической церкви подтверждают выбор веры, сделанный за них родителями. Удивительно красивый обряд. Мне кажется, что в определенном смысле мы сейчас подтверждаем (или не подтверждаем) выбор, сделанный за нас святым Владимиром.
Мы стали взрослыми. У нас за спиной общий опыт, общие взлеты и падения, но выбор – он персонален. Можно верить, и не верить, или – верить во что-то другое. Важно лишь понимать масштаб явления, к которому считаешь себя причастным, или – от которого отказываешься. Всё взвесить и принять решение. Это – занятие для взрослых.
О старом и новом
По лентам новостей прошли сообщения о том, что новогодний символ, «Иронию судьбы», то ли переводят с Первого канала на другой, то ли вообще отменяют. Стали раздаваться голоса, утверждающие, что фильм пропагандирует пьянство, что он устарел и т. п. Здравствующие участники фильма восприняли этот факт философски, покойные же по понятным причинам его не комментировали. А можно ли (я спросил у ясеня) отменить мечту? И способна ли устареть сказка?
Вопреки первому впечатлению, вопросы отнюдь не риторические и – вовсе не только о фильме. Люди, прожившие жизнь в нашей стране, ставят диагноз молниеносно: наехали. Вообще говоря, хотелось бы. Такой ответ позволил бы расправить плечи и задать могучий чернышевский вопрос. Только вот что делать – как раз и не скажешь, потому что совершенно непонятно, на кого именно наехали.
На Эльдара Александровича? Так на него не очень-то и наедешь: он там, где Новый год уже не празднуют, да и годов нет, сплошная вечность. На моего нетрезвого тезку Лукашина (поскольку до фильма алкоголизма в нашей стране не было)? На Барбару Брыльску (в порядке контрсанкций)? Маловероятно. Да и кто, собственно, наехал?
Боюсь, ответ будет философским: время. Можно предположить, что те, для кого рязановский фильм был частью жизни, уже не составляют большинства. Многие из них последовали за режиссером и созерцают там совсем другие вещи. Оставшиеся, хоть и продолжают смотреть «Иронию судьбы», но перешли в ту возрастную категорию, которая представляет для рекламодателей второстепенный интерес. Не сомневаюсь, что в этом отношении телевидение располагает точной статистикой – там работают профессионалы.
Тревогу они забили не сегодня, а, по меньшей мере, тогда, когда было снято продолжение великого фильма. Попытка войти в прежнюю реку и привлечь внимание новых поколений не удалась. Под взгляды собравшихся на берегу продолжатели дела Рязанова дружно пошли на дно. Их героический, хотя и заведомо обреченный поступок имел одно несомненное достоинство: по-своему, по-телевизионному, он продемонстрировал неповторимость произведений искусства, а заодно – их полную безоружность перед временем. Они устаревают. Все, не только кино.
Что для меня грустнее всего – устаревают и книги. В сравнении с кино их сопротивляемость времени, конечно, выше, но она не безгранична. В среднем это лет 100–150. По истечении этого срока книга становится чем-то вроде адмирала в отставке: с ней обращаются почтительно, торжественно отмечают юбилеи, но к повседневной жизни отношения она больше не имеет.
К некоторым книгам литературная судьба проявляет благосклонность, продлевая их век за счет перемены читательской аудитории. Имею в виду тот эффект, который я бы назвал литературным омоложением. Книги, изначально написанные для взрослых, со временем переходят в категорию детской литературы. Даниэль Дефо, Вальтер Скотт, Александр Дюма – этот список можно продолжать. Речь идет, подчеркну, о хорошей взрослой литературе, превратившейся в хорошую детскую литературу. Понятно, что данная закономерность имеет тематические и стилевые ограничения. Кафки или Пруста она, скорее всего, не коснется.
Впрочем, общей судьбы не избежали и книги, сменившие читателя. На наших глазах они устаревают второй раз – теперь уже в качестве детской литературы. Судя по замечаниям коллег и друзей, ныне подрастает первое поколение, в значительной степени отказавшееся от детской классики в пользу современной детской литературы. В лучшем случае. В худшем – в пользу компьютерных игр.
Более того, дистанция начинает возникать и в отношении «взрослой» классики. Учителя-словесники неоднократно жаловались мне, что всё чаще сталкиваются с непониманием при изучении корифеев русской словесности. Соединив их под общей кличкой Толстоевский, школьники плохо представляют себе не только каждого писателя в отдельности, но и в целом минувшее, его реалии и проблемы. Прежние споры о Наташе Ростовой потеряли накал, да и возникают чаще всего под нажимом учителя. Это прискорбно, но объяснимо. Для читателя книга – это прежде всего возможность отождествления себя с литературным героем. Трудно отождествить себя с тем, кого не понимаешь.
Может показаться, что мои новогодние заметки имеют не вполне праздничный вид. Это не так. Просто праздник я воспринимаю во всей его полноте, как делает это всякий, кто перед тем, как встретить под бой курантов Новый год, провожает год прошедший. Ведь этот бой объявляет о наступивших переменах, иначе говоря – о встрече нового со старым. Так что, празднуя приход нового, мы должны отчетливо понимать, куда девается старое. А старое, как правило, исчезает. Навсегда. Лишь изредка, подобно ручью, оно скрывается под землей, чтобы когда-нибудь снова появиться на поверхности – среди других людей и пейзажей.
Я не киновед, но отчего-то мне кажется, что нечто подобное в конце концов произойдет и с живительной влагой «Иронии судьбы». Потому что так случается с вещами, в своей области образцовыми. Которые вроде бы должны были уйти со своей эпохой, но непостижимым образом переходят в новую. Произведения как будто прежние, но каждой новой эпохой они понимаются по-другому, – такая вот диалектика отношений старого и нового.
Главное же в том, что настоящие чувства способны жечь нас даже спустя века. Есть редкие случаи, когда мы все-таки видим их сквозь толщу времен и не вполне уже понятных обстоятельств. В конце концов, о чем бы ни было произведение, оно о человеке, а не об обстоятельствах: «Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи?»
В силу своей профессии хорошие примеры я часто нахожу в Средневековье. Тексты там не устаревали, и под одной обложкой могли сосуществовать сочинения с тысячелетней разницей в возрасте. При таком положении вещей «Ирония судьбы» была бы внесена в программную сетку центрального телеканала на тысячу лет. В сентябрьскую, между прочим, сетку, поскольку год начинался 1 сентября. Наученный спорами о пластиковых бутылках в «Лавре», сразу же разъясняю, что это моя фантазия: ТВ в Средневековье не существовало, и Новый год никто не праздновал. Даже в сентябре.
О перемещении предметов
Порой случаются вещи удивительные и даже таинственные. Например, недавнее возвращение в Московскую юридическую академию мемориальной сталинской доски. Насколько мне известно, автор идеи до сих пор так и не засветился. Один из профессоров академии предположил, что это сделал завхоз, и направление мысли мне представляется продуктивным. Еще более убедительным выглядело бы объяснение, что доска вернулась на прежнее место сама. Вспоминая фильм «Сталкер», допускаешь, что энергия мысли способна двигать не только стаканы, но и более крупные предметы. Как показывают общественные опросы, мысль о Сталине необходимой энергией уже обладает.
Не будучи марксистом, в высказываниях типа «бытие определяет сознание» я не вижу особой ценности. Между тем и другим существуют сложные взаимоотношения, но, реши я блеснуть крылатой фразой, поменял бы их местами. Если мы начертим график «объективных предпосылок» исторических катаклизмов, а рядом поместим график самих катаклизмов, то они не совпадут.
Так, в России были годы более трудные, чем 1917-й, но никаких переворотов тогда не происходило. Порох для этого взрыва был заготовлен давно и рассыпанным оказался как раз-таки в сфере сознания. Те, кто чиркал там спичками, даже не представляли, сколько взрывчатки в этом месте сложено. Точно так же причины Первой мировой войны к «объективным предпосылкам» имеют минимальное отношение. Причиной была стремительная электризация атмосферы. Почитайте поэтов, воспевавших начинавшуюся бойню, – Лёрша, Баума, Аполлинера, Брюсова. Если и двигали ими какие-то предпосылки, то, очевидно, субъективные.
Здесь уместно перейти к роли личности в истории. Истории вообще и терроре как ее особом отрезке. Я убежден, что не бывает таких всесильных господ, которые являются к мирно отдыхающим гражданам и организуют жесточайший террор. Террор приходит туда, где к нему готовы. Разработай Иосиф Виссарионович программу истребления народонаселения, скажем, в Швейцарии, он не нашел бы там понимания. На берегу Женевского озера его, что называется, не ждали. Террор разворачивается там, где по каким-то причинам на него есть запрос.
Причины эти сложны, и всякий раз они – разные. В данном случае важно, что диктатор – это только функция, которая рождается состоянием общества. Его, диктатора, личные качества определяют количество декалитров пролитой крови, но не решают вопроса о кровопролитии – к моменту появления диктатора он уже решен. Нам в отношении кровопролития не повезло: в 30-е годы все пошло по наихудшему сценарию.
Но если в отношении террора существует готовность его принять, если значительная часть населения сотрудничает с органами не за страх, а за совесть, – значит ли это, что в терроре есть вина общества? Ответ однозначен: да, значит. Следует ли из этого, что главный организатор террора не виноват? Нет, не следует. Сказано ведь, что соблазн должен прийти в мир, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Евангелие от Матфея).
В отношении Сталина у нас действует странный принцип «зато». Да, мол, истребил миллионы людей, да, искалечил судьбы оставшихся в живых, но зато – и следует каталог достижений. Впрочем, даже то, что обычно называют в качестве сталинских заслуг, рождалось не благодаря, а вопреки диктатору. Но важно здесь другое. Совершенно очевидно, что существуют преступления, после которых нет «зато». Просто нет.
Вступив на трон, Борис Годунов проявил себя, выражаясь современным языком, как эффективный менеджер. И вдруг – на тебе! – слышит: «Нельзя молиться за царя Ирода». Можно спорить об исторической достоверности сюжета, но отношение русской литературы к убийству сомнений не вызывает. Да что там к убийству – к слезинке ребенка. А литература, замечу, – выражение духа народа. Куда это делось?
В нашей истории героизм одних неразделимо сплелся с преступлениями других, и в этом наша проблема. Собственно, в этом проблема любого народа, но у нас контрасты доведены до высшей точки. Как нам с этим быть? Трудный вопрос. По крайней мере, прекратить объяснять убийства сограждан исторической целесообразностью.
Средневековые историки не извлекали из событий «практических» уроков. Они понимали, что история повторяется в самой незначительной степени. За внешним сходством стоит совершенно иное содержание: несмотря на кажущееся подобие событий, каждое время решает присущие лишь ему проблемы. Всякое событие имеет множество причин, которые никогда уже не сойдутся в прежнем узоре, и именно поэтому «практическая» польза истории относительна. Есть, однако, измерение, в котором ценность исторических описаний абсолютна, и измерение это – нравственное. Оно имеет лишь одно направление – добро и зло, между которыми осуществляется выбор.
Нравственный взгляд на историю – это позиция, способная объединить людей самых разных партий, потому что при всей их разности представления о добре и зле у людей одной цивилизации близки. Это тот случай, когда история будет источником духовного обогащения, а не орудием войны.
История не может быть парадом побед. В ней есть свои взлеты и падения – это нормально. И писать ее нужно прежде всего для себя – в качестве дневника, что ли. В дневнике стараются не лгать и ведут его не только для того, чтобы не забыть: может быть, в большей степени этим занимаются, чтобы разобраться в пережитом. И если дневник этот не будет искренним, если вместо реальных, пусть порой и ужасных, персонажей в нем будут действовать раскрашенные куклы, мы так и не поймем, что с нами происходило. И получится, что всё – в том числе страдания – было зря.
Можно вспомнить, что Библия – это, в сущности, историческая книга. Тоже своего рода дневник – только предельно честно написанный. Так вот, Библия рассказывает разные «компрометирующие» истории. О том, например, как упился вином Ной, как обманул отца Иаков, каким любвеобильным был Соломон, как трижды отрекся от Христа апостол Петр. Священное Писание, как видим, не боится рассказывать это даже о тех, на ком лежит печать святости. Так почему мы боимся правды о Сталине, на котором лежит совсем даже другая печать?
Дети пограничья
Если разобраться, каждый из нас имеет к пограничью какое-то отношение. Границы защищают и нарушают, раздвигают или, допустим, пересекают в ходе научной командировки. Испытывают при этом разные чувства, кроме одного: равнодушия. Особенно – рожденные в СССР.
Одно из первых впечатлений в сфере пограничного связано у меня с рассказом моей тети, преподавательницы русского языка как иностранного. Этот рассказ навсегда определил мое уважительное отношение ко всему связанному с границей. С коллегой-преподавательницей тетя ехала в долгосрочную командировку – если не ошибаюсь, в Венгрию, – с целью обучать местное население русскому. Заняв свое место в купе, Жанна Серафимовна (так звали коллегу) обнаружила легкое, но естественное для путешественника волнение. Вечер прошел в спокойной беседе о методике преподавания русского как иностранного.
Наутро, умывшись и позавтракав, Жанна Серафимовна как бы между прочим заметила, что через шесть часов граница. Тетя, не знакомая с расписанием поезда, рассеянно кивнула. Когда Жанна Серафимовна констатировала, что граница будет через пять часов, тетя удивилась. Ее пожилая коллега не везла ни оружия, ни наркотиков, ни даже цветных телевизоров, пользовавшихся в странах народной демократии большим спросом. Столь явная сосредоточенность на границе выглядела, прямо скажем, необъяснимой.
После того как тетю проинформировали о том, что граница будет через четыре часа, в купе повисла тревожная тишина. Она нарушалась раз в час скупыми сведениями о том, сколько осталось до границы. На пограничном пункте Чоп Жанна Серафимовна сошла с ума, и ее сняли с поезда.
Разумеется, описанный случай говорит прежде всего об особенностях психического склада преподавательницы, но некоторым образом отражает и повышенное внимание советских граждан к границе. С развалом СССР, однако, это отношение изменилось. Граждане РФ стали гораздо беспечнее.
В 1998 году я ехал на поезде в Краков, где в составе российской делегации должен был выступать на Международном съезде славистов. Получив польскую визу (тогда Польша еще не была членом Евросоюза), я, в отличие от Жанны Серафимовны, не испытывал ни малейшего беспокойства. Может быть, поэтому вопрос польских пограничников о том, где моя виза, застал меня врасплох. Задавший этот вопрос держал мой паспорт в руках, и я счел это шуткой. В конце концов, подумалось мне, почему его представления о юморе должны непременно соответствовать моим?
Но пограничник не шутил. Он сообщил мне, что визой является отдельный листок, который мне должно было выдать консульство. Когда я предложил ему внимательнее всмотреться в штамп в паспорте, он ответил, что это всего лишь свидетельство моего обращения в консульство. Я огорчился, решив, что этот человек движим духом стяжательства. Я категорически отрицал наличие какого бы то ни было листка и сообщил, что дальнейшее общение с пограничниками прекращаю. Ответственность за мое отсутствие на Съезде, добавил я, ляжет именно на них. Сила моей убежденности была такова, что пограничники заколебались. Подозреваю, что мое отсутствие на Съезде им не грозило ровно ничем, но – невероятное дело! – посовещавшись минуту-другую, они ушли.
Я въехал в любимую мной Польшу, выступил там с докладом, а по возвращении домой обнаружил на письменном столе запрошенный листок. Я испытал жгучий стыд. Единственным, что меня оправдывало в этой истории, была полная убежденность в своей правоте – иначе я не вел бы себя так с этими бдительными ребятами.
Не менее бдительным оказался встретившийся на моем пути русский таможенник, когда лет пятнадцать назад я возвращался домой после долгого пребывания в Германии. Его внимание привлекли сумки с подаренными мне немецкими книгами. Он сообщил мне, сколько может взять с меня за превышение по весу, но я заверил его, что превышения нет (точнее, тот, кто пробыл за границей более полугода, имеет на него право). Затем тревогу таможенника вызвало то, что я, возможно, везу книги для продажи, но мне и здесь удалось его успокоить: там не было двух одинаковых экземпляров. Мало-помалу я начал чувствовать себя Жанной Серафимовной.
Последним, что обеспокоило этого человека, было соответствие немецкой научной литературы моим собственным исследованиям. Выяснив по бумагам, что я специалист по древнерусской литературе, он предупредил меня, что будет анализировать книги на предмет их необходимости в моих научных занятиях. Вероятно, он опасался, что в трактовке ранней русской истории я могу примкнуть к норманистам. Достав первую из книг, он раскрыл ее на фотографии античной вазы и вздохнул. Поздравил меня с тем, что книга – о Древней Руси, и дальше смотреть не стал.
Замечу, что в дальнейшем таможенное мое общение складывалось без сучка и задоринки. Сейчас, спустя годы, могу ответственно сказать, что из виденных мной бесчисленных таможен наша – одна из самых корректных. Признáюсь заодно, что я к их ведомству ближе, чем можно было бы подумать. Все дело в том, что Пушкинский Дом располагается в бывшем здании таможни. Раз в год, в день таможенника, над нашим домом развевается таможенное знамя.
Так что в каком-то смысле все мы там – таможенники, по крайней мере, люди, связанные с пограничьем. Потому что всякий литературовед, и уж тем более – литератор, стоит на границе между литературой и жизнью. Он знает, что, будучи зыбкой, эта граница проходима в обе стороны. И такое положение вещей ему кажется естественным.
Русский акцент
Марта Шрайбер преподавала немецкий иностранцам, а Юрий Фролов был ее студентом. После третьего курса Челябинского техуниверситета он по студенческому обмену приехал в Мюнхен. Имя «Юрий» Марта произносила без конечного йота, а слово «Челябинск» не способна была выговорить вообще. Юрий мог бы упростить Марте задачу, назвавшись, скажем, кратким «Юра», но он этого не сделал. Юрий значит Юрий – он предпочитал, чтобы его приняли во всей сложности. Впрочем, учебному процессу это не мешало – немецкий Марта знала хорошо, и в данном случае это было главным. В конце концов, для того, чтобы обучать немецкому, не обязательно произносить слово «Челябинск».
Юрий изучал вроде бы немецкий в школе, но по прибытии в Мюнхен знания его не подтвердились. По шестибалльной системе уровень знаний Юрия оценили как нулевой, что было ему как-то даже и обидно. С другой стороны, по результатам теста Юрия отправили на полугодовые курсы, а это автоматически продлевало его пребывание в Мюнхене. Продлению Юрий был рад, поскольку с возвращением в Челябинск не торопился.
В общей сложности занятия длились семь часов в день. Начинались они с двухчасовой разминки в лингафонном кабинете, а затем, после обеда, группу брала к себе Марта. Она спрашивала домашнее задание и объясняла новый материал. Когда отвечал Юрий, Марта неизменно говорила: «Ваша задача, Юри, избавиться от русского акцента». Несмотря на небольшой преподавательский стаж, девушка различала акценты очень хорошо.
В конце занятий, чтобы снять всеобщую усталость, Марта изображала разные типы произношения – английский, французский, итальянский и, конечно же, русский. Русский у нее получался с раскатистым переднеязычным «р». Показав русский выговор на примере слова «шпрехен», Марта обычно произносила слово «коррида» – и это было по-настоящему смешно. «Шпрррехен, – рычала Марта, наслаждаясь произведенным впечатлением, – а должно быть: шпхехен. Не гром, а ветерок, легкое такое грассирование. Шпхехен. Повторите, Юри». Юрий повторял, и вся группа дружно сползала от смеха под столы.
Занятия заканчивались около восьми вечера. Часть группы шла к ближайшему метро, а часть – в том числе и Юрий – уезжала домой на велосипедах. Посчитав количество предполагаемых поездок, он в первые же дни решил, что дешевле будет купить подержанный велосипед. Дешевле и полезнее для здоровья. К тому же велосипедный путь Юрия домой частично совпадал с путем Марты.
В сущности, их пути могли бы совпадать и полностью (общежитие Юрия находилось неподалеку от ее дома), но возле триумфальной арки Юрий сворачивал в Английский сад – огромный парк в центре города. Он ехал по темному парку, а она – по ярко освещенной улице, тянувшейся вдоль парка. Марта не раз пыталась отговорить своего ученика ехать через парк, но он не поддавался. «Чего вам не хватает на этой улице для нормальной езды?» – спрашивала она его. «Риска, – отвечал Юрий, глядя ей в глаза. – Для русского человека Мюнхен – слишком благополучный город. Мне нужно постоянно чувствовать риск». В глазах Марты не было ничего, кроме удивления.
Стоял конец октября, и когда они выходили на улицу, было уже темно. В мигающем свете рекламы они отмыкали замки своих велосипедов. Включали велосипедные фонари: Марта – новенький галогеновый, Юрий – старый, работающий на электрогенераторе. Прислоняя колесико генератора к шине, Юрий думал о том, что его мышечная сила, в отличие от батареек Марты, ничего не стоит. При небольшой стипендии, которая ему была назначена, это имело значение.
На широких велосипедных дорожках – например, на Королевской площади – они ехали рядом. На узких дорожках, какие обычно бывают на улицах, Юрий выезжал вперед. Все, что они проезжали, было очень не похоже на Челябинск. Время от времени Марта предлагала остановиться и проводила короткие экскурсии. Она говорила медленно, как на занятиях, но все равно Юрий многого не понимал.
Однажды на площади Каролины Марта показала ему обелиск памяти баварцев, погибших в 1812 го-ду в составе войск Наполеона. Несмотря на то что баварцы сражались в России, надпись на обелиске сообщала, что погибли они за независимость своей родины. Юрия надпись озадачила, но он ничего не сказал. Возможно, в воспроизведении Марты он в очередной раз чего-то не разобрал. Не исключено, наконец, что это была широко понятая независимость.
Нужно заметить, что с каждым днем по-немецки Юрий изъяснялся все лучше. Память его была цепкой, он на лету хватал новые слова и интонации. В их совместных с Мартой поездках Юрий был уже не только слушателем, но все больше и больше – рассказчиком. Как-то раз он рассказывал ей о времени, проведенном в армии, и о том, как научился разбирать автомат Калашникова за шесть секунд. А собирать за двенадцать. «Зачем же его нужно разбирать так быстро?» – спросила Марта. – «Ну, – махнул рукой Юрий, – на всякий случай…». – «Если на случай боя, – продолжала рассуждать Марта, – то автомат нужно не разбирать, а собирать. Я бы вообще сказала, что оружие лучше хранить в собранном виде, а не собирать его в последний момент». Медленное и четкое произнесение прибавляло сказанному убедительности. Как человек, помогший советом в чужой ему области, Марта испытывала легкую гордость.
На досуге Юрий размышлял о том, что и в самом деле не знает, зачем разбирают и собирают автомат на время. Как много, удивлялся он, вещей необъяснимых, но ставших частью русского бытия, – что, собственно, и отличает нас от них. Марта же удивлялась тому, как иррационально устроена русская жизнь. Вот рядом с ней едет симпатичный парень, который, живя в России, зачем-то разбирал и собирал автомат, а оказавшись в Мюнхене, так же необъяснимо стремится в неосвещаемый парк. Такого рода вещи, думалось Марте, будут всегда стоять между нами. Это как то, что она блондинка, а он шатен, – это не вытравляется, потому что сидит на генетическом уровне.
В одной из следующих поездок Юрий заметил, что в русской армии много бессмысленного. Он рассказал о том, как перед приездом армейского начальства солдат заставляли пришивать опавшие листья к веткам и красить их зеленой краской. «Зачем?» – спросила Марта. «Затем, – ответил Юрий, – что повсюду осень, а в воинской части – лето». Отпустив на мгновение руль, Марта развела руками как человек, которого уже трудно удивить. Пришивания листьев своими глазами Юрий хотя и не видел, но слышал о нем от армейских «дедов». То, что он действительно видел (например, сало в манной каше), было не менее удивительным, но каким-то совсем уж неаппетитным.
Немецкую лексику Юрий впитывал как губка, и его возможности воспринимать и выражать действительность по-немецки росли не по дням, а по часам. Теперь Марта рассказывала ему не только о Мюнхене, но и о своих летних поездках с родителями. О том, как лежала в Сорренто на черном вулканическом песке, о катании на лыжах под Инсбруком и о посещении Диснейленда под Парижем. Описывала, как всем классом собирали деньги на немецкие книги для детей Зимбабве, как, купив книги, распределили их по десяти посылкам, причем в каждую посылку вложили еще по несколько плиток шоколада. Дети Зимбабве (печальная трель велосипедного звонка) им так и не ответили.
Юрий, в свою очередь, рассказывал о посадке деревьев на школьных субботниках (ни одно не принялось), о работе в стройотряде после первого курса и песнях у костра. Гитару в какой-то момент положили близко к огню, и никто не заметил, как она загорелась. Они с ребятами сидели и слушали звуки лопающихся струн. «Как у Чехова…» – задумчиво сказала Марта.
Однажды Юрий описал ей, как, вооружившись цепями, ездили они с ребятами под Челябинск бить торговцев наркотой. «Зачем – бить?» – спросила Марта. «Так ведь наркотой торгуют…» – «А полиция зачем?» – «Какая полиция… Полиция с ними в доле». Они остановились на красный свет, и Марта повернулась к нему. Произнесла еще медленнее, чем обычно: «В этом, знаешь, разница между нами и вами. Такие вещи должна делать только полиция».
Успехи Юрия в немецком поражали всех. Над ним уже давно никто не смеялся – наоборот, перед занятиями просили просмотреть домашнее задание. Русский акцент Юрия таял на глазах. Его «р» стало образцовым – оно переливалось где-то в глубине горла и вызывало зависть всей группы. Еще одну произошедшую с Юрием перемену заметила только Марта: он перестал ездить через Английский сад. Теперь их пути полностью совпадали. Юрий провожал Марту до самого ее дома, а потом ехал к своему общежитию, до которого было еще минут пять.
Стремительное продвижение Юрия в изучении языка произвело на Марту самое глубокое впечатление. Такой ученик требовал, безусловно, особого внимания, и оно (это отметила вся группа) было проявлено. Все чаще Марта подходила к столу Юрия, предлагая ему ответить на вопрос, вызывавший затруднения у всех остальных. Иногда ставила ногу на перекладину его стула, и ее колено оказывалось у самого лица Юрия. Отвечал он всегда правильно.
Узнав, что Юрий – некрещеный, Марта неожиданно для себя предложила ему креститься. К ее удивлению, Юрий не возражал. Через месяц после этого разговора он был крещен в католической Театинеркирхе, мимо которой они ездили каждый день. В день крещения в храме присутствовала вся группа. По удачному стечению обстоятельств разговорной темой недели была «Религия», и на занятиях Юрино крещение обсуждали во всех деталях.
В один из бесснежных зимних вечеров, садясь на велосипед, Марта сказала: «Сегодня я хочу проехать через Английский сад». На вялый вопрос, зачем ей это нужно, девушка ответила: «В спокойном Мюнхене мне не хватает риска. Вероятно, я стала немного русской». На поездку по парку ее спутник, конечно же, согласился.
Когда свернули в парк, Юрий поехал впереди. Он знал здесь каждую тропинку и показывал дорогу. Марта тоже неплохо знала парк, но знала его дневным, а ночью он казался ей незнакомым и пугающим. Это был ненастоящий и приятный страх, потому что впереди, в метре от нее, краснел задний огонек велосипеда Юрия. Этот огонек вел Марту за собой.
Внезапно он погас – одновременно с передним светом. «Генератор, – пробормотал Юрий, останавливаясь. – Придется вам ехать впереди». На весь безграничный парк галогеновая лампочка Марты была единственным светом. Теперь впереди ехала Марта. И хотя она знала, что след в след за ней едет Юрий, прежнего умиротворения уже не чувствовала. Вслушивалась во влажный шепот дороги под шинами, в чмоканье рассекаемой лужи (мгновение спустя такое же – из-под велосипеда Юрия), и все это не прибавляло ей спокойствия. Прибавляло тревоги и неуюта того, за чьей спиной едет кто-то не вполне знакомый. В самом деле, насколько хорошо она знала Юрия? И почему это у него так внезапно исчез свет? Потому что – сама же отвечала – все на свете происходит внезапно. И что, спрашивается, он мог с ней здесь сделать? Незаметно поворачивала голову. Что-то определенно мог…
Марта едва не налетела на двух стоявших на дороге людей. В первый момент она их не заметила. Резко тормозя, почувствовала, как заднего крыла ее велосипеда коснулся велосипед Юрия. Стоявшие уступать дорогу не собирались. Когда один из них взял с багажника сумку Марты, стало понятно, что это грабеж. В руках второго блестел нож, но держал он его как-то неубедительно. У Марты даже мелькнуло в голове, что настоящий грабитель должен держать нож по-другому.
Порывшись в сумке, тот, что без ножа, нашел кошелек и достал из него несколько купюр. Не торопясь, засунул их в карман джинсов. Кошелек вернул в сумку, сумку положил на багажник. Обратился к Юрию: «Деньги, быстро». В отсвете фонаря Марта видела лицо Юрия – на нем отражалась скорее задумчивость, чем страх. Юрий, поколебавшись, достал кошелек и отдал грабителю. Там была только какая-то мелочь. «Мобильники», – сказал тот, что с ножом. Из отобранных мобильников его товарищ вынул сим-карты и вернул владельцам: «Будете звонить». Нож дважды блеснул над велосипедами, и колеса со свистом сдулись. Сделав шаг к обочине, грабители исчезли.
Какое-то время Марта и Юрий катили свои велосипеды молча. «Это наркоманы, – нарушила тишину Марта. – Вы видели, как у этого типа дрожал в руке нож?» – «Им явно на дозу не хватало», – подтвердил Юрий. Когда они вышли из парка на улицу, Марта сказала: «И правильно, что вы никак не стали им препятствовать». Юрию показалось, что в этих словах промелькнул оттенок разочарования. Он бросил на Марту быстрый взгляд, но ничего такого на ее лице не заметил. «В таких случаях разумнее уступить, – продолжала Марта. – А завтра мы напишем заявление в полицию». – «Да, – согласился Юрий, – пусть этим делом занимается полиция».
Через два месяца они обвенчались.
Владыка
Митрополит Антоний Сурожский принадлежит к числу тех, кого не нужно представлять: о нем знают если не все, то очень многие. Его выступления и статьи не нуждаются в пояснении или комментировании: доходя до предельных глубин, они предельно просто изложены. Впрочем, для комментария нужно иметь еще и право: вряд ли многие современники владыки признают его за собой. Слишком уж разные у нас с ним калибры. Лучшее, что, наверное, можно сделать, – это вспоминать о нем. Свидетельствовать по праву любви и благодарности.
Моя с ним первая встреча связана с тем, что я с трепетом называю чудом. Прилетев в Лондон на какую-то конференцию, я пошел на воскресную службу в Успенский кафедральный собор. Попеременно звучали церковнославянский и английский, прихожане переговаривались по преимуществу по-английски, а сам собор прежде был англиканской церковью, построенной (сколько же тут всего соединилось!) в неороманском стиле.
Православие здесь напоминало о вселенском своем характере и не желало иметь ничего общего с этнографическим музеем. Если бы идея музея реализовалась в этом отдельно взятом храме, то музей был бы английским: митрополит Антоний привел к православию многие сотни англичан. Я думал об этом, глядя на необычные – готические какие-то – лица прихожан. И это при том, что англичан не очень-то куда-то приведешь: редко они позволяют себя вести – такой народ.
Владыка попросил прощения, что во время богослужения сидит. Сказал: «Просто не могу стоять». После службы выслушал всех, кто хотел к нему обратиться. Когда подошла моя очередь, я рассказал ему о своей беде: моя дочь тогда серьезно болела. Владыка принес бумажную иконку Богородицы и велел отвезти ей. В Германии, где мы тогда жили, была назначена правильная терапия, и дело пошло на поправку.
Скептик вежливо спросит: нельзя ли считать, что результат был связан с качеством немецкой медицины? Конечно, можно. Сотворение чуда предполагает разнообразные пути и инструменты. Не сомневаюсь, однако, что в отсутствие немецкой медицины владыка использовал бы какие-нибудь другие средства.
Спустя несколько лет мы, будучи в Лондоне, всей семьей пришли в Успенский храм поблагодарить митрополита Антония. Он взял меня за запястье – неожиданно энергично, почти жестко – и спросил: за что? Я рассказал. Он нас благословил тогда, и это стало для нас его прощальным благословением. Я не так чтобы очень эмоциональный человек (неофитская экзальтированность прошла много лет назад), но у меня возникло стойкое чувство, что я разговаривал со святым.
Впоследствии я ощущал его поддержку в моих литературных трудах. Работая над романом «Лавр», держал в уме одну его проповедь, в которой шла речь о бывшем белом офицере, убившем по трагической случайности во время боя свою жену. Ему отпустили этот грех, но легче не становилось. И тогда владыка Антоний сказал этому человеку: «На исповеди вы просили прощения у Бога, но Бога вы не убивали. А пробовали ли вы просить прощения у своей жены?» Через некоторое время офицер пришел к владыке и сказал: «Я попросил у нее прощения. И мне стало легче».
В романе «Лавр» герой ведет бесконечный диалог с возлюбленной, погибшей по его вине. В «Авиаторе» убийца просит прощения у убитого, а в романе «Брисбен» герои продолжают беседовать с умершей приемной дочерью. Работая над этими текстами, я постоянно вспоминал и эту проповедь, и беседы покойного митрополита о болезни и смерти.
Он призывал не бояться смерти и не прятать ее в дальний угол нашего сознания. Рассматривать смерть как часть жизни. Со смертью оканчивается время, но не более того. Время (прошу прощения за невольный каламбур) – временно, а человек родится для вечности. Сила бесед владыки была в том, что он не толковал мир с указкой в руке, не чувствовал себя спикером, что ли, горнего мира.
Он открывал бытие, удивлялся ему вместе с теми, кто его слушал. Это ведь чрезвычайно важно – с кем удивляться: с ребенком или со старцем. Удивление с владыкой Антонием было, что называется, высшего качества: старческую мудрость он соединял в себе со свежестью детского взгляда. Оттого повседневность казалась ему удивительной, а невероятное – закономерным. Попроси прощения у убитой – такое ведь может сказать только тот, кто живет по законам чуда.
Поначалу обычное обращение к епископу – «владыка» – казалось мне несоответствующим пастырю Антонию. Виделось тяжелым, как латы. А потом я как-то привык. В конце концов, тот, кто воюет со злом, должен быть хорошо экипирован. Кроме того, «владыка» перекликался в моем сознании с «властителем» (умов), каковым митрополит Антоний, конечно же, являлся. Умов и сердец.
Уходя, человек продолжается не только в вечности, но и во времени: живым остаются его дела, высказывания, книги. Становясь сущностью метафизической, ушедший продолжает свое присутствие на земле. Такая как бы репетиция бессмертия. Владыка Антоний уже не здесь, но мы продолжаем читать его проповеди – и плакать над ними, и улыбаться им. И удивляться, конечно же.
Настоящее время счастья
В ряде языков – в том числе русском – слово счастье обнаруживает родство со словом часть. Надо понимать, речь идет о счастливой части. Более того, при этом как бы подразумевается, что есть и другая у-часть. Она, как можно догадываться, уходит кому-то другому, не-при-част-ному к счастью. Есть о чем задуматься.
Следует ли понимать дело так, что где-то существуют, условно говоря, пять выигрышных шаров, а остальные тридцать один – несчастливые? От такой трактовки сильно отдает лотереей – или, если использовать регистр повыше, – фатализмом. Его, возможно, исторически и отражает эта самая часть. Но нам ли быть фаталистами?
Считающий счастье лотереей заведомо отдается внешним обстоятельствам. Но счастье не может быть внешним, иначе это какое-то второсортное, лотерейное счастье. Что, собственно, можно выиграть в лотерею? Долгое время я полагал, что ничего. Но однажды, когда я продавил раскладушку, моя мама сообщила мне, что раскладушка была выиграна в лотерею. С высоты прожитых лет свидетельствую: этот выигрыш не сделал нас счастливыми.
Счастье – явление внутреннее. Если раскладушка как-то в нем и поучаствовала, то скрипка ее была не первой. Там имелись более важные вещи: скрип дачных ворот, стук спелых яблок о крышу веранды, запах сжигаемых соседом листьев и ночные беседы, отрывки которых нет-нет да и всплывают в моей памяти. В сущности, для счастья требовалось не так уж много материала.
Взрослея, я понял, что счастье – это, по преимуществу, то, что было – и вспоминается. Это открытие заставило меня смотреть на моменты, способные стать счастьем, как бы из будущего, видеть их в пожелтевшем глянце фотографий. Есть совершенно очевидные случаи счастья. Ну, просто так всё складывается, что иначе толковать происходящее невозможно: «…Абажур зажегся матово / В голубой овальной комнате. / Нежно гладя пса лохматого, / Предсказала мне Ахматова: / „Этот вечер вы запомните“». Георгию Иванову предсказала.
Можно, конечно, видеть настоящее из будущего – на манер космонавта, оплетенного проводами и трубками, рассматривающего свою станцию из безвоздушного пространства. Пространство будущего, если вдуматься, и в самом деле безвоздушно. Будущее – мыслительная категория, никто там еще не бывал во плоти. Вдох полной грудью получается только в настоящем.
Я часто думал: отчего булгаковские «Дни Турбиных» хочется бесконечно перечитывать? Отчего исторический деятель, для которого нет ни слова оправдания, побывал, по некоторым сведениям, на этом спектакле пятнадцать раз? Если это действительно так, то речь идет о том единственном случае, когда я его понимаю.
Эта пьеса – о счастье. Не о гражданской войне, и даже не о бесстрашии и долге, – о счастье. Стоит себе посреди бурлящего города Ноев ковчег, и всякий, кто сюда входит, наполняется покоем и радостью. «Дни Турбиных» – гениальная пьеса, потому что гениальность – это когда не можешь объяснить, как сделано. Знакóм тебе в вещи каждый винтик, а отчего она летает – не догадываешься. Ясно лишь одно: территория счастья создается нами – вопреки войнам и переворотам, – по крайней мере, в какой-то степени создается.
Иногда, вслед за Александром Сергеевичем, говорят о привычке как замене счастью. Выстраивая эту пару, Пушкин неожиданным образом указывает и другой путь. А что, если развернуть конструкцию на сто восемьдесят и попробовать счастье сделать заменой привычки? Утренний кофе, клочья тумана на крышах, звуки пианино во дворе – разве это не счастье? Это ведь только кажется, что туман серый. Если смотреть внимательно (Клод Моне), легко заметить, что он розовый. Всё зависит от взгляда или, как сейчас любят говорить, – от оптики.
Мысли о счастье чаще всего приходят под Новый год. Это понятно: запасы грядущего года кажутся нетронутыми. Поздравляя с новолетием, поздравляют и с новым счастьем, в котором, очевидно, не сомневаются. Но разве старое счастье – хуже? У него есть, по крайней мере, одно бесспорное качество: оно – проверенное, потому что было.
В конце концов, неважно, чем вызваны мысли о счастье. Главное – что они есть, а это уже полпути к счастью. Мне кажется, что если дано нам будет что-то вспомнить в нашем инобытии, то это будут, среди прочего, встречи Нового года. Потому что окажется, что ночь напряженного ожидания счастья сама по себе была счастьем. Оливье, мандарины и бессмертная новогодняя сказка, доказывающая, что счастье возможно – пусть не сразу и не для всех (два человека там все-таки оказываются не у дел), но возможно. За ним, по большому счету, не обязательно лететь в город на Неве (хотя – почему бы и не туда?). Важно лишь помнить, что оно повсюду. И в настоящем. Настоящее – время счастья.
Последняя реальность оптимизма
Слово как бытие
Всякий год, оканчивающийся на девятку, для Набокова – юбилейный. Как, кстати говоря, и для любимого им Пушкина, родившегося на 100 лет раньше. Это совпадение не оставалось Набоковым не замеченным: он вообще ценил совпадения. В дате рождения (22 апреля) он совпадал с другим известным лицом, но к такому сближению относился с меньшим воодушевлением. Ему казалось, что в этом пункте судьба что-то напутала в цифрах, и день рождения предпочитал праздновать на день позже.
На самом деле судьба знала, что делает, и символика цифр была красноречивой. Год рождения связывал Набокова с русской культурой, а день рождения – с русской историей. Первая вознесла его к вершинам мировой литературы, вторая же – обрекла на вечные скитания, избрав для него походную смерть в отеле.
Случилось так, что я почти видел юбиляра – парадоксальным образом, на вечере его памяти, состоявшемся много лет назад в Мюнхене. Слово почти могло бы показаться здесь неуместным, если бы не относилось к его сыну Дмитрию. Он был действительно копией отца, по крайней мере – в тот вечер. Сообщив, что его немецкий is very limited, Дмитрий Владимирович сказал, что будет говорить по-английски. Далее последовало объявление, что в этот вечер он будет играть своего отца. Так и случилось.
Набоков-младший был в ударе. Он говорил по-набоковски и по-набоковски двигался. Пел романсы на стихи отца, и магия сходства была столь велика, что я готов был поверить в еще один открывшийся дар автора «Лолиты». Прощаясь, Дмитрий Набоков передал переполненному залу привет от отца и проинформировал собравшихся, что в настоящий момент тот находится в полете. Летит в вечность – в неплохой, нужно заметить, компании. Слева (движение левой рукой) – Пушкин, справа (движение правой) – Джойс. На мгновение распростертые его руки замерли: Набоков обнимающий. Столь же необычный, как Набоков поющий.
Лет в двадцать началось мое серьезное увлечение Набоковым. Он казался мне непревзойденным и рожденным не на земле. Такие тексты, думалось мне, остаются после инопланетных визитов, потому что созданы из отсутствующих здесь материалов. Со временем, однако, материалы эти стали находиться. В их выявлении, отвлекаясь от древнерусских штудий, посильное участие принял и я. Сопоставив набоковское «Отчаяние» с романом английской писательницы Дороти Сейерс «Чье тело?», я, как это бывает в индийских фильмах, обнаружил, что передо мной родственники. Дело было не только в теме двойничества, убийстве, переодевании и т. д. В романе Сейерс угадывались черты того стиля, который впоследствии так виртуозно был развит Набоковым.
В английской литературе Сейерс была не одинока. Она писала в подчеркнуто литературном, сдобренном иронией стиле, который формировали Уайльд, Честертон и другие. В известной степени Дороти Сейерс была женским вариантом Честертона, находя в своем творчестве место для таких разных стихий, как детективы и богословие. Богословием Набоков, как известно, не увлекался, но в умении работать с фразой превзошел своих учителей.
Постепенность «сотворения Набокова» становится очевидной, если выстроить его тексты по хронологии. В ранних произведениях писателя слышатся самые разные аккорды – начиная с тургеневских. В этом восхождении есть своя человечность, и это то, что не отпускает автора в ледяное совершенство космоса.
С годами я не то чтобы разлюбил Набокова – скорее, пресытился им. Эклеры нельзя есть бесконечно: в какой-то момент понимаешь, что хочется ржаного хлеба. Может быть, поэтому из всех набоковских вещей мне сейчас ближе «Другие берега». Вместе с тем, я не люблю разговоров о том, что Набоков – «ненастоящий», что это-де феномен стиля. Да, феномен стиля, но такой, при котором форма становится содержанием. Цветы муранского стекла начинают благоухать.
Набоковское волшебство – это волшебство называния. В сущности, одна из основных задач литературы – называть неназванное. Сад в снегу: «Деревья в саду изображали собственные призраки…» («Дар»). Ему было известно, что происходит с читателем, и его гениальное пижонство не вызывает ни малейшего протеста: «На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. ‹…› Я тогда еще не умел – как теперь отлично умею – справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает» («Другие берега»).
И ведь замирал. Лет двадцать в набоковских краях мы с женой отдыхали на даче, гуляли временами возле усадьбы Рукавишниковых-Набоковых, в 1995 году сгоревшей, но потом восстановленной (в знак солидарности с усадьбой впоследствии сгорела и наша дача). Мы видели эти места его глазами, и оттого они были по-особому прекрасны.
Единственной претензией к Набокову могло быть только то, что его описания порой ярче реальности. Собственно, реальность и не прощала ему этого – и брала масштабом, которого не может воссоздать ни один, даже самый гениальный автор. Но если посмотреть на дело пристальней, становится ясно, что слово и бытие – не соперники, а граница между ними условна. Набоков – свидетель Божьего мира во всех его мельчайших деталях, удивительная такая оптика. Словно пришел в этот мир и бросил на него первый взгляд. Или, наоборот, последний – пронзительный и щемящий.
Пророк и его отечество
Слово «пророк» у нас как-то обесценилось. Его всё больше понимают как предсказателя: что-то среднее между астрологом и экстрасенсом. Оно потеряло свой ураганный библейский смысл. Но в тяжелое время каждый народ рождает того, кто об этом смысле напоминает. Таким человеком был для нашей страны Александр Исаевич Солженицын.
Да, пророк предсказывает, но это не значит, что он всецело увлечен будущим. Непосредственный его адресат – современники. Отсюда понятна другая, не менее важная роль пророка: обличение. Это не желчное отругивание от недругов, потому что недругов у пророка нет. Единственный его враг – это то разрушение, которое постигает его народ.
«Постигает», в сущности, не вполне верное слово, поскольку намекает на внешнее воздействие. Самое опасное разрушение идет изнутри. Оно страшнее внешнего, потому что против внешнего врага можно ополчиться всем миром и встретить его во всеоружии. Но как ты поднимешь оружие на себя, если враг в тебе самом?
Таким оружием является пророк, который не отделяет себя от своего народа. Он говорит не с трибуны, а из гущи людской, проходя сквозь те же, а чаще – гораздо бóльшие испытания, и потому на лице его – не торжество обличителя, а скорбь страдальца.
Обличение пророка – особого свойства. Оно питается не ненавистью, а любовью. Так, строгий тон близких является проявлением любви и попыткой уберечь от ошибок. Чужие не делают замечаний, и общение с ними зачастую более приятно, но их обаяние не связано с любовью: оно основано на равнодушии.
В библейские времена ни у кого не возникал вопрос о праве пророка на проповедь: чуткие к метафизике, древние люди читали это право в каждом его слове и в каждом движении. Сейчас такое право для многих неочевидно. Иные требуют это право доказать. Звучат даже фразы о том, что легко было, дескать, Солженицыну давать советы из далекого американского рая. При этом необъяснимым образом из памяти говорящих начисто исчезает тот лагерный ад, сквозь который писатель прошел. Уже одно лишь пережитое страдание дает право на высказывание. В еще большей степени это право дается сутью сказанного.
Глядя в будущее, пророк видит настоящее и помнит о прошлом. Предвидимое им будущее необходимо – в том прежде всего смысле, что его нельзя обойти. Значит ли это, что усилия настоящего бесплодны? В своей заостренной форме вопрос звучит так: если все равно предсказанное состоится, то зачем и силы тратить? С точки зрения повседневности вопрос кажется правомерным. Все, однако, выглядит иначе, если посмотреть sub specie aeternitatis, с точки зрения вечности. Именно такой взгляд присущ пророку.
Вечность – это когда все три времени сплавляются в одно, чтобы в конечном счете прекратить свое существование. Один из путей преодоления времени – покаяние. Покаяние не изменяет хода событий, но в то же время как бы переписывает его задним числом. При этом понятно, что с точки зрения вечности задних чисел не бывает. Настоящее покаяние – это возвращение к состоянию до греха, своего рода преодоление времени.
Не случайно понятие покаяния («раскаяния», по терминологии Солженицына) занимает особое место в философии писателя. Там оно неразрывно связано с идеей исправления. Да, всякое покаяние подразумевает исправление, но у Солженицына ударение ставится на обязательности исправления. Этой теме посвящена его работа «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» (1973). Покаяние рассматривается в ней как начальный этап пути. «Раскаяние, – пишет Александр Исаевич, – есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь – то, чтó в частной жизни называется исправлением. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более – в национальной».
Покаяние у Солженицына – всенародный процесс. Скептики могут задаться вопросом: как эта всенародность мыслится? Что ее обеспечит? Коллективный выход на Красную площадь? Ответ, однако, столь же прост, сколь и убедителен. Покаяние – дело глубоко персональное, оно не может быть иным. Но личное покаяние каждого оказывает влияние на стоящего рядом. Это не значит, что по цепочке – один за другим – будет охвачена вся страна, да это и не нужно. Достаточно, если покаются многие, достаточно – даже если некоторые: это совершенно изменит общественную атмосферу.
К сожалению, этого не случилось. Призыв писателя к покаянию был встречен с неожиданной агрессией, которая усилилась в последнее время. Солженицын обвиняется в том, что льет воду на мельницу врагов России. Так ведь уж лучше, честное слово, лить воду, чем кровь. Но главное: зачем нам сражаться с чужими мельницами? Речь идет прежде всего о нас самих, которые ради создания великой и победоносной истории готовы защищать палачей. Величие истории состоит не в ее гладкости. И если говорить о победах, то разве не победа признать свои грехи? Она – самая трудная, потому что это победа над собой.
Реакция на Солженицына была тем более неожиданной, что еще вчера всё произошедшее в годы коммунистического террора казалось раз и навсегда установленным и очевидным. Не хватило тогда лишь малости: покаяния тех, кто считает себя духовным наследником воплощавших утопию. Да что там покаяния: простого «простите» и то никто не услышал.
Звучит в лучшем случае оправдание, что, вот, мол, хотели счастья человечеству. Лучше всего этот тезис был сформулирован в соловецком лозунге: «Железной рукой загоним человечество к счастью!». Утопии страшны тем, что невыполнимы. Отсюда и железная рука, и море крови. И вместо просьбы о прощении – компьютерное «Что-то пошло не так».
Существует неканоническая точка зрения на Ад. Частично ее выразил Алеша Карамазов, отвечая отцу: «Да, там нет крючьев…» Там, согласно этой точке зрения, другое наказание. При созерцании Божьей правды, хлынувшей на всех потоком света, мрак грехов становится еще непрогляднее. И наказанием грешников становится безмерный стыд, который они испытывают за содеянное.
На исповеди нужно говорить только о грехах. О другом вроде бы не требуется. В историческом масштабе мы исповедуемся сами перед собой. И только от нас зависит, выберем ли мы самооправдание (оправдываются обычно внешними обстоятельствами) или попытаемся найти глубинные причины, которые в конечном счете лежат внутри нас. Поиск причин дает возможность делать выводы. В этом, видимо, и состоит начало покаяния, которое в буквальном переводе с греческого (µετάνοια) означает «перемена мыслей».
Перемене мыслей способствуют разные события, и прежде всего – взгляд назад. Этот взгляд может содержать подробный анализ пройденного пути (или его отрезка), как мы видим это в исторических трудах. Здесь уместно вспомнить о напряженном внимании Солженицына к истории. Он ведь был не только писателем, но и историком в серьезно понятом смысле. Парадокс этого внимания состоит в том, что чем пристальнее вглядываешься в подробности исторических событий, тем очевиднее сквозь них проступает вечность. Так под неотрывным взглядом облака неожиданно складываются в единую величественную картину.
Говоря о солженицынском наследии, не могу обойти и такого вопроса: что нового могут сказать о лагерях современные авторы, их, к счастью, не видевшие? Что они могут добавить к сказанному Солженицыным, Лихачевым, Шаламовым, Разгоном, Ширяевым? Что прибавишь к тому, что вполне передать можно не столько словами, сколько нечеловеческим криком? Видимо, ничего – кроме разве что эха, которое этот крик оставил в нашей исторической памяти. Только вот мне кажется, что это эхо звучит все глуше.
Имея в виду вышедшие романы с лагерной темой – в том числе такие разные тексты, как «Обитель» Прилепина и «Зулейха открывает глаза» Яхиной, – неоднократно писали, что эта тема уже надоела. Я не ханжа, и очень даже могу себе представить, что нечто способно надоесть. Но если учесть, что упоминают всего несколько текстов, вышедших в разные годы, в то время как ежегодно публикуется более трехсот романов, выглядит это несколько неожиданно.
В 2011 году под моей редакцией вышла книга «Часть суши, окруженная небом». В ней собраны свидетельства о Соловках монастырского и лагерного периода. Во многом из работы над этой книгой возник мой роман «Авиатор», где лагерная тема очень значима. Главный герой книги Иннокентий Платонов, родившийся в 1900 году, в 20-е годы становится заключенным Соловецкого лагеря особого назначения.
Другой персонаж романа, Воронин, имеет своим прототипом соловецкого вохровца Успенского, о котором в воспоминаниях пишет Д.С.Лихачев. Спустя годы Иннокентий находит Воронина, и тот оказывается единственным его современником. Иннокентий идет к нему. Воронин адресует ему фразу: «Покаяний не жди». После непродолжительной беседы сообщает: «Я устал».
На одном обсуждении «Авиатора» за границей ведущий сказал мне, что самым ужасным местом романа для него стали слова Воронина «я устал». После всего, что он сделал, – только устал? Да лучше бы он проклял Иннокентия, закричал на него, – но устал… Он спросил, не символ ли это нашего общества, которое уже успело устать. Очень надеюсь, что – нет.
Слушая этого человека, я вспомнил строки из Откровения Иоанна: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 15–16). Сказано это было о Лаодикийской церкви, но, по-моему, и о нас, теплохладных. Сейчас, как, может быть, никогда, нам нужен тот, кто холоден или горяч. Если иметь в виду Солженицына, то уж, конечно, горяч, температура – доменная. Только при такой и можно жечь сердца глаголом – иначе их просто не растопить.
Не казаться, а быть
Биография выдающегося русского поэта Александра Галича не из рядовых: успешный литератор и сценарист, променявший советское благополучие на непростую долю диссидента, позднее – эмигранта. Трагическая зигзагообразная линия, оборвавшаяся в Париже (1977, смерть от удара током).
Начало ее – Екатеринослав. Город, где родился Александр Галич, сейчас делит свое имя с рекой. Словно был затоплен при строительстве ГЭС и, подобно Калязину, напоминает о себе уцелевшей колокольней. А мог бы, пожалуй, быть назван Галичем: подходящее название для города.
С грустью отмечаю, что от колокольни по имени Галич осталась одна верхушка. Молодые Галича не знают. Для того чтобы понять, о чем он пел, требуется некоторое умственное усилие. Дело не только в ушедших реалиях – в широте кругозора, тоже в значительной степени ушедшей. Да и не пел он: скорее, декламировал под музыку. Собственно, его стихи и были музыкой:
Быть бы мне поспокойней — Не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони: По ночам – на дыбы.Рассказывая одной студентке о Галиче, услышал уточнение: «Типа, рэпер?». Типа того. С той лишь разницей, что его стихи на бумаге только приобретают в красоте, а стихи рэперов не приобретают. Строго говоря, даже среди бардов (а Галича принято рассматривать в этом контексте) он – единственный, чьи песни и в печатном виде безупречны.
Разумеется, глупо спорить о том, что лучше – оргáн или банджо, у каждого инструмента свое предназначение. Особенность Галича состояла в том, что он умел играть на том и на другом. Его мудрость не подавляет, со стихами она соединяется естественно, как виски с содовой, и так же легко пьется. Эти тексты настолько хорошо сделаны, что даже их горечь («не уксус еще, но уже не вино») не разъедает губ:
Мутный за тайгу Ползет закат. Строем на плацу Пятьсот зэка. Ветер мокрый хлестал мочалкою, То накатывал, то откатывал, И стоял вертухай с овчаркою И такую им речь откалывал…Всякая строка в стихах Галича кажется единственно возможной. Его тексты, пользуясь определением Лескова, «нестертые», словно был у автора доступ к некой небесной кладовой, где все слова с иголочки и ни одного б/у.
Отдельная тема – смех Александра Галича, который не без колебаний назову сатирой. Сатира зачастую несмешна, она проседает под грузом своей идейности. Сатирические же песни Галича вызывают гомерический хохот: достаточно вспомнить цикл о Климе Петровиче Коломийцеве. Не менее известный персонаж – Егор Петрович Мальцев:
По площади по Трубной Идет он, милый друг. И всё ему доступно, Что видит он вокруг. Доступно кушать сласти И газировку пить. Лишь при советской власти Такое может быть.Юмор сквозил даже в режиссуре его трагической, в общем, судьбы. Говорят, что в день отъезда Александра Галича в эмиграцию фильм по его сценарию «Вас вызывает Таймыр» в телесетке заменили на картину «Будь здоров, дорогой».
Он был тесно связан со своим временем. Кому-то может показаться, что слишком тесно. Когда это время ушло, его песни потеряли в актуальности. Это так и не так. Историю своего времени он проецировал на историю всемирную, где все уже когда-то случалось и выглядело («и римский опер, жаждая награды…») до странности похожим. Во многих его стихах открывается иное измерение, и оттого лагерные сюжеты там перемежаются с библейскими. Это область вневременного, и тленья, нужно думать, убежит.
Настоящее творчество – это собеседование с Богом или (у всех ведь складывается по-разному) с собственной совестью:
– С добрым утром, Бах, – говорит Бог.
– С добрым утром, Бог, – говорит Бах.
Такие диалоги не устаревают.
Последняя реальность оптимизма
Фазиль Искандер создал огромный мир, который вполне укладывается в пределы небольшой Абхазии. Этот мир он описывал с любовью, иногда – с улыбкой.
Познакомился я с Искандером на 90-летнем юбилее Дмитрия Сергеевича Лихачева, большого поклонника его прозы. 1996 год. Торжественная часть проходила в здании петербургской Академии наук, а неформальная – в Юсуповском дворце. Этот дворец словно создан для неформальных событий – разного свойства.
Выступая в Академии, Фазиль Искандер сказал, что понял, отчего Дмитрий Сергеевич так долго живет. «Очевидно, уважаемый академик поставил себе задачей пережить советскую власть. Эту задачу он выполнил». Помолчав немного, Искандер добавил: «А теперь можно и пожить».
В Юсуповском дворце царила непринужденность. В огромном зале были расставлены круглые столы, за каждым из которых сидело по несколько человек. Нам с женой тогда повезло: мы оказались за одним столом с Искандером. На мое предложение выпить Фазиль Абдулович неожиданно ответил по-немецки: «Abgemacht!». («Договорились!») Под знаком этого слова прошел весь вечер. Я наполнял стопки, а Искандер неизменно кивал. Abgemacht.
Это безмятежное застолье наполняло радостью. Источником радости, наряду с юбиляром, был Искандер: его присутствие всегда было праздником. Хозяин дворца отсутствовал (банкет был устроен городом), и не было повода сомневаться в качестве напитков.
Немецкое одобрение Фазиля Абдуловича напомнило мне замечательную историю о приморском ресторане в Абхазии, когда-то им описанную. В купальных костюмах входить в ресторан запрещено, поскольку этот костюм состоит из одних лишь плавок. Но все стремятся войти в него именно так. Подходят к ближайшему столику и, дав деньги, просят купить для них пару бутылок пива.
За одним из столов сидит немец. Возле него тоже появляется человек в плавках и просит купить пива. Не отрывая взгляда от просящего, немец спокойно отвечает: «Verboten». Нарушитель дресс-кода отступает. Немец задумчиво смотрит вдаль, понимая, что для этой страны он нашел самое нужное слово. «Verboten» значит «запрещено». С точки зрения немца, всё ведь очень просто: всего-то и нужно, что одеться и войти в ресторан на легальных основаниях.
Я сказал автору, что несколько раз рассказывал эту историю в Германии. «А немцы что?» – спросил Фазиль Абдулович. «Смеются, – ответил я. – Правда, не понимают, над кем: над собой или над нами». Искандер тоже засмеялся: мы с немцами тут друг друга стоили.
В Искандере, уроженце Кавказа, было, на мой взгляд, что-то немецкое. Это его начало я оценил в полной мере, готовя сборник воспоминаний о Лихачеве. Я позвонил Фазилю Абдуловичу с просьбой что-нибудь написать в память о Дмитрии Сергеевиче. Он обещал. Не получив в условленное время текста, я опять позвонил Искандеру. Оказалось, что он только что вышел из больницы – у него были проблемы с глазами. Узнав об этом, я сказал, что, наверное, писать в такой ситуации было бы лишним. «Нет, – возразил он. – Я возьму себя в руки – и напишу». И написал.
В одном из текстов Искандера деревенский старик говорит, что злодея можно простить один раз, можно простить второй. А на третий становится понятно, что он не способен жить с людьми, и надо что-то предпринимать. Это «что-то» было по-крестьянски суровым. Трудная жизнь не терпит баловства. У нее нет времени на перевоспитание. Личная порядочность в таких обстоятельствах – условие выживания. Порядочность Искандера всегда была незыблемой – он был строг к себе. Писателя время от времени обманывали – достаточно вспомнить строительство дома в Переделкине. Так бывает с мудрецами. Пространство их мыслей располагается выше повседневности.
Вспоминаю тост Искандера на лихачевском юбилее. Он оглядел роскошный зал своим особым – я бы сказал, каким-то свирепым, – взглядом. Искандер не был ни в малейшей степени свиреп, а взгляд – был. Всякий видевший его понимает, о чем идет речь. Под стать взгляду был и голос. Вернее, интонация. «Когда я смотрю на этот зал, – трескуче произнес Фазиль Абдулович, – мне кажется, что произошла революция…» Выдержав мхатовскую паузу, Искандер закончил: «И к власти пришла интеллигенция». Интеллигенция к власти не пришла – ни тогда, ни потом. Она нигде не приходит к власти. Да и зачем ей власть? Разумеется, это была шутка.
Не все великие писатели умеют шутить. Искандер – умел. Юмор его немного грустный, но оттого – неотразимый. Смех – это дистанция. По отношению ко времени, к окружающим, но прежде всего – к самому себе. Роман Искандера «Человек и его окрестности» начинается так: «Юмор – последняя реальность оптимизма. Так воспользуемся этой (чуть не сказал „печальной“) реальностью». Конечно, воспользуемся. Abgemacht.
Шато.ру
Название этого французского городка – Châteauroux – звучит как русский электронный адрес. И это в высшей степени символично: недалеко от него находится замок русского художника Михаила Шемякина. Слышится в этом что-то рыцарское, а может, и сказочное. Я знаю Шемякина много лет – он самый настоящий рыцарь, так что в этом пункте всё сходится. Только вот жизнь обитателей замка оказалась совсем не сказочной.
Погостить в замке нас с женой Шемякины звали давно. Мы благодарили, но не ехали: писатель-реалист, я отдавал себе отчет в том, что Шемякин безумно занят, да и гости – такая уж это профессия – имеют свойство быстро надоедать. Ну, и опять-таки слово «замок». Всякий, кто воспитывался на Вальтере Скотте, не может так вот запросто приехать в замок. Уж и не знаю, какой для этого нужен повод – особый какой-нибудь. Быть может, рыцарский турнир. Михаил, однако, придумал кое-что получше: обсуждение нового проекта. Это в корне меняло дело, и мы взяли курс на Шатору.
Нужно сказать, что шемякинские проекты – особая тема. В общепринятом представлении художник – это тот, кто рисует. Шемякин не только рисует: по совместительству он является чем-то вроде научно-исследовательского института. Проведя тридцать лет в науке, могу предположить, что по объему и тщательности работы это одно из самых эффективных учреждений подобного рода. В одном лице там соединяются спонсор, административная и научная составляющие. Если учесть, что во всех этих позициях заместителем Михаила является жена Сара, фамилия Шемякин исчерпывает списочный состав института.
Предмет занятий – история изобразительного искусства в самых разных ее формах. Так, много лет Шемякин собирает и анализирует отражение тех или иных тем и образов в живописи. Рука в искусстве, башмак в искусстве. Смерть в искусстве. Таких коллекций у него более семисот. Шемякин следит за всеми заметными мировыми публикациями в области искусства и покупает их в трех экземплярах. Из двух экземпляров вырезаются репродукции, наклеиваются на картон и распределяются по коллекциям. Два экземпляра здесь требуются потому, что нередко оказываются нужны репродукции на обороте. Третий экземпляр идет в библиотеку. Библиотека (она далеко не ограничивается искусством) занимает в замке 14 залов.
Это, собственно, и объясняет идею покупки замка. Если учесть, что, помимо собственных произведений, собрание Шемякина включает работы старых мастеров и современников, понятно, что замок – это вовсе не каприз художника. Стоит ли говорить, что к диснеевским сооружениям, вводящим в ступор население Подмосковья, он имеет весьма отдаленное отношение – даже внешне. Первый, не сохранившийся, замок на купленной Шемякиными земле был построен в XII веке, ныне же стоящий относится к рубежу XVI–XVII веков.
У меня не ахти какой опыт в приобретении замков, но даже я знаю, что купить замок – еще не самое дорогостоящее дело. Не удивлюсь, если такая покупка по плечу даже нашему чиновнику средней руки. Дорого – содержать.
Я понял это, когда, осматривая коллекции, мы с хозяевами обошли все здание. На верхнем этаже то тут, то там возникали пластиковые бочки с водой – явно не коллекционные. На мой вопрос о художественной природе емкостей Шемякин ответил, что они здесь поставлены ввиду прохудившейся крыши: во время дождя с потолка капает вода. Он обратился было в ремонтную фирму, и ему назвали ориентировочную стоимость починки – 200 000 евро. Есть о чем подумать. И это лишь один из печального ряда таких сюжетов.
У художника много непредвиденных трат, и некоторые, честное слово, вызывают уважение. Один из наших городов обратился к нему с просьбой набрать студентов и в течение четырех лет здесь, во Франции, читать им искусствоведческие курсы. И вот надо же такому случиться: после первого года обещанные деньги кончились. Литературно выражаясь – иссякли. Хозяин замка (рыцарь же!) ребят не бросил: теперь он возит их сюда за свой счет. Самолет, гостиница, питание – за счет преподавателя. Утешает лишь то, что организаторы обучения продолжают выплачивать ему зарплату: 80 евро в месяц. Сумма внушительная, но ее хватает не на всё.
А теперь главное. Замок со всеми его коллекциями Михаил Шемякин решил завещать России. При том, что не одна Россия проявляет к такому наследству интерес. Точнее, до конца не ясно, проявляет ли она его вообще. Потому что интерес, на мой взгляд, выражается прежде всего в поддержке. Так происходило и происходит везде. Есть тому примеры и в нашей истории.
Так, А.Ф.Онегин (Отто), создавший в Париже первый в мире музей Пушкина, в 1909 году завещал свое богатейшее собрание России. Ответным жестом стала выплаченная ему значительная сумма, за которой последовали ежегодные (также значительные) выплаты, предназначенные для пополнения коллекций. После смерти Онегина его собрание было перевезено в Россию – уже советскую. Ложкой дегтя в этой по-настоящему красивой истории стало то, что собрание Онегина оказалось разделено между несколькими музеями.
Поезда в Шатору отправляются с Аустерлицкого вокзала Парижа. Спросив у пожилой парижанки дорогу, мы с женой чуть было не перепутали вокзал. После подробного объяснения она для верности переспросила: «Вам ведь в Шато-Руж, правильно?». «Нет, – ответили мы, – нам нужен поезд в Шатору. Шато-ру». Мне кажется, это наш общий поезд.
Прогулки с Шаровым
Мне позвонили через час после Володиной смерти. Я знал, что недуг его тяжел, но звонок потряс. Верилось в то, что он все-таки справится. Большой русский писатель.
Слово «большой» определяло Шарова всесторонне. Если бы кому-то пришло в голову (к счастью, не приходило) построить русских литераторов по росту, во главе колонны стоял бы, думаю, он. По писательским и человеческим качествам Шаров оказался бы, вероятно, на том же месте. Этой своей высоты Володя стеснялся. Наклонялся к уху собеседника, делая вид, что одного с ним роста.
Его творчество, на мой взгляд, определяли две основные темы – история и религия. Всего две, но – самые важные. Первая связана со временем, памятью и опытом. Без памяти нет опыта, без опыта нет сознания. Нет ни личности, ни народа. Вторая тема связана с поисками того, что мы называем смыслом жизни. Об этом речь идет уже в раннем творчестве Шарова, прежде всего в «Репетициях» – великом, без преувеличения, романе.
Писателя занимала религиозность как таковая, тот «ген», который отвечает в человеке за веру и к которому после октябрьского переворота подошли с «отверткой». Как произошло, что многие христиане оказались способны так быстро поверить в нечто противоположное христианству? Шаров предложил один из вариантов ответа. Ответ вызвал споры, но это было попыткой объяснить необъяснимое.
Проза его по-бунински кристальна, ей чужды трюкачество и фейерверки. Ее красота глубинна и не нуждается в спецэффектах. Знаю, что Володя не любил ритмической прозы. Надо полагать, с точки зрения вкуса, она казалась ему сомнительной. И, действительно, чаще всего с этим трудно спорить. Образцом того, каким должен быть ритм (а он, вообще говоря, должен быть), служат тексты самого Шарова.
Это ритм тонкой настройки, лишенный вычурности и естественный, как стук дождя по крыше. Он и создавал свои романы, шагая по комнате и произнося фразу за фразой. Так, конструируя самолет, деталь за деталью проверяют на аэродинамические свойства. Чтобы ни одного лишнего изгиба. Ни одного ненужного слова.
Замечательный английский литературовед и переводчик Оливер Реди рассказывал мне, как, переводя «Репетиции», пытался поймать этот ритм, потому что без него романов Шарова не понять. Даже, подобно автору, ходил, по-моему, по комнате. И был счастлив, когда английский текст зазвучал по-шаровски.
Мы познакомились с Володей на Лондонской книжной ярмарке в 2011 году. Если быть более точным, не на самой ярмарке: поздним вечером случайно столкнулись на одной из улиц. Мы оба оказались любителями одиноких ночных прогулок. В сценарии вроде бы значилось, что, поздоровавшись, каждый из нас следует своим курсом. Но ведь не последовали (может, в тот вечер и не было курса), а отправились в путешествие по ночному Лондону. Я думаю, причиной было то, что речь как-то сама собой зашла об истории.
Прогулка, мог бы сказать я, закончилась под утро – только она удивительным образом не закончилась. С той же неторопливостью мы прошли через Прагу, Брно, Иерусалим, Нью-Йорк – выступая в свободное от прогулки время на тамошних книжных салонах. У Володи была мягкая, стеснительная какая-то манера выступлений, включавшая в себя редкую для литератора способность не выходить за пределы поставленного вопроса. Возможный, но нежелательный ход мысли он отсекал коротким «так или иначе». «Иначе» произносил по-маяковски, с ударением на «и». Было в этой присказке что-то свободное, на однозначности не настаивающее – так или иначе. В жизни всегда возможны варианты.
Когда-то меня спросили, кто самый недооцененный писатель России. Я не задумываясь ответил: «Шаров». Его, действительно, долго не замечала пресса, «широкий» читатель, литературные премии. В последние годы ситуация стала меняться. Шаров получил «Русского Букера», и на фоне всех букеровских скандалов этот лауреат выглядел бесспорным.
Он и по-человечески был бесспорным, и – редкий случай – не имел, по-моему, ни завистников, ни врагов. Стеснительная улыбка и полная сосредоточенность на собеседнике. С ним всегда было легко: ни разу не видел его в дурном настроении.
Последний раз мы виделись с ним на одном из московских торжеств. Когда начали расходиться по домам, Володя спросил, скоро ли отправляется мой поезд на Питер. Отправлялся нескоро. «Ну, что ты будешь сидеть на вокзале, – сказал он, – поехали ко мне». Я заколебался было, но все-таки не поехал. Представил, как Володя и его семья будут вынужденно ожидать моего поезда.
Сейчас, спустя время, в памяти всплывает его лицо в тот вечер – так в проявочной ванночке сквозь муть раствора обнаруживаются контуры давней фотографии. Смотрю на Володино лицо – какое там вынужденное ожидание! Любовь и доброта. Ох, как жалею, что не поехал: в том, как он приглашал меня, было уже что-то прощальное.
У писателя немного привилегий. Одна из них состоит в том, что он может продолжать беседу с читателем и после смерти. Хороший писатель предвидит какие-то вопросы из будущего и заранее дает на них ответы. Шаров был ответственным человеком, и к такому случаю, я думаю, подготовился. Вопросы-то не завтра еще появятся, а ответы уже готовы. Ждут. Прогулка с Володей продолжается.
Из жизни полиглотов
Пушкинский дом
Я служу в учреждении с длинным названием Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. На самом деле – просто Пушкинский Дом. Это здание на набережной Макарова, 4 в Петербурге туристы путают порой с Мойкой, 12, но – Пушкин в Пушкинском Доме не жил. Жаль, конечно, потому что дом – красивый, с колоннами, отчего бы ему там и в самом деле не жить? Будь на то наша, пушкинодомская, воля, мы бы его там поселили.
Нам всем хочется сделать что-то для Пушкина, да и не только нам. Фотографию моей дочери на фоне Спасской башни Кремля одно немецкое издание сопроводило пояснением, что это Пушкинский Дом. Несмотря на фактическую неточность, немцы обнаружили знакомство с нашей системой ценностей. Есть своя логика в том, чтобы на главной площади страны стоял именно его дом.
Пушкинский Дом является одним из самых знаменитых музеев и рукописных хранилищ. Основан он был в 1905 году в первую очередь как хранилище рукописей и вещей пушкинской эпохи. Это определило и его имя, и его научную судьбу. Со временем он стал авторитетнейшим центром по изучению русской литературы в целом.
Значительная часть изданий Пушкинского Дома – результат коллективного труда, предполагающего работу в некоем общем регистре. Среди наиболее известных коллективных работ можно упомянуть две многотомных истории русской литературы, академические издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Тургенева и других. Большую известность получила многотомная антология «Библиотека литературы Древней Руси».
Феномен Пушкинского Дома вряд ли объясним без обращения к традициям русской науки, в большей степени академической, чем университетской. В отличие от многих других стран, где академии теряются в ряду прочих научных сообществ, оплотом фундаментальной науки в России следует считать Академию наук. Частью этой научной республики, посвятившей себя исследованиям и отказавшейся от преподавания, располагающей высочайшим авторитетом и избирающей своих immortels, является Пушкинский Дом.
Развитие Пушкинского Дома как исследовательского и издательского учреждения не перечеркнуло его первоначального предназначения – быть хранилищем. Главным сокровищем Пушкинского Дома являются, без сомнения, рукописи Пушкина, по которым осуществляются академические издания сочинений поэта. В Отделе рукописей Пушкинского Дома хранятся автографы большинства наших классиков. Именно отсюда русская классика начинает свое победоносное шествие по стране, рассматривающей пушкинодомские издания как эталонные. Так обстоят дела сейчас, так было и в советское время.
Власть, понимавшая, что ни Достоевского, ни, тем более, протопопа Аввакума нельзя обвинить в антисоветской пропаганде, ощущала в то же время их абсолютную несовместимость с существующим строем. Может быть, поэтому тома Собрания сочинений Достоевского или, скажем, «Памятников литературы Древней Руси» невозможно было найти в открытой продаже.
На конференции в Пушкинском Доме приходили сотни людей. Объяснение этому можно видеть как в уровне представлявшихся докладов, так и в именах выступавших. Играла роль и общая ситуация в стране. Испытывая целый ряд ограничений, культурные люди советской России приобретали определенные особенности, отличавшие их от зарубежных современников. К таким особенностям можно отнести и повышенное внимание к гуманитарным наукам, и умение вкладывать в их проблематику особый смысл. В историко-культурных работах среди прочего искали ответов на те вопросы, которые невозможно было открыто поставить в отношении современности. Посетителям научных заседаний предоставлялось самостоятельно строить необходимые проекции и видеть чуть дальше официально очерченных горизонтов.
Пушкинский Дом был по-настоящему народным домом. В нем были свои герои и властители дум, и он переболел всеми болезнями, которыми болело общество. Он не закрывался в годы блокады, и полуживые сотрудники института дежурили на башне здания, чтобы в случае необходимости тушить летящие сверху немецкие «зажигалки». После войны, подобно многим другим академическим учреждениям и университетам, Пушкинский Дом был местом идеологических «проработок». К этому периоду относится замечание, сделанное в институтской уборной Борисом Михайловичем Эйхенбаумом: «Только здесь и дышится легко».
Когда в Пушкинский Дом пришел я, ситуация была уже другой. Самым привлекательным для меня местом был Отдел древнерусской литературы (его возглавлял Дмитрий Сергеевич Лихачев). Любил я ходить и в Литературный музей Пушкинского Дома, где собеседниками вошедшего становились русские классики. Когда я аспирантом бродил по его залам, мне бросилось в глаза, что от большинства писателей остались, среди прочего, кошельки. Уже тогда я понял, что проблема заработка была для них не последней. Принадлежа к цеху современных литераторов, я пользуюсь банковской карточкой, но проблема от этого, как ни странно, не ушла.
Наряду с Медным Всадником и Исаакиевским собором Пушкинский Дом давно уже стал одним из мифов Петербурга, обретя вторую, литературную, жизнь. В отличие от прочих литературных символов города, Пушкинский Дом дважды литературен: он является персонажем русской литературы, позволяя себе в то же время ее изучать. Свое последнее стихотворение Пушкинскому Дому посвятил Блок. Это произошло благодаря настойчивости сотрудницы Пушкинского Дома Евлалии Казанович, позвонившей Блоку с поэтическим заказом. Для интересующихся укажу телефон: 6-12-00.
Самым широким образом словосочетание «Пушкинский Дом» трактуется в одноименном романе Андрея Битова. Название академического учреждения становится в нем обозначением страны, для которой литература – и в первую очередь Пушкин – значит очень и очень много. В определенном смысле Россия действительно является Пушкинским Домом.
В заключение – интересный, что называется, факт. Пушкинский Дом положил начало целому ряду широко известных музеев. Так, до 1953 года его частью была последняя квартира Пушкина (Мойка, 12), а также Тригорское, Пушкинские горы, Михайловское и Царское Село. Хранившиеся в Пушкинском Доме предметы послужили основой экспозиции музеев Блока и Некрасова. Несмотря на расставание с такими привлекательными филиалами, мы, сотрудники Пушкинского Дома, не расстраиваемся. Помня о том, что Пушкинским Домом остается вся страна, с этим легко примириться.
Что мы можем сделать для Пушкина
За границей убеждены: русские любят, когда им задают масштабные вопросы. У меня, скажем, спрашивали, что лично я делаю для процветания моей страны. Я отвечал, что в сфере моей ответственности (история литературы) всё более или менее в порядке.
Кажется, мой ответ показался недостаточно масштабным, и следующий вопрос (нотки разочарования) был сужен до пределов литературы: правда ли, что Пушкин лучше всего отражает душу своих соотечественников, то есть нашу с вами душу? Чтобы не разочаровывать собеседников еще больше, я коротко ответил, что – да, отражает. Для обстоятельного ответа следовало бы еще разобраться с нашей душой, но в официальной обстановке делать это затруднительно.
Обдумывая после свои ответы (говорят, это лучше делать до), я нашел в них следы упрощенчества и некоторой даже однобокости. Так, несмотря на хорошее состояние литературоведения и литературы, есть в нашей жизни, прямо скажем, непушкинские сферы. Не достигает наша действительность высот русского слова, да и с идеей процветания не соотносится. Возникает подозрение, что есть на свете вещи, перефразируя писателя Данилова, поважнее литературоведения.
Да и в смысле отражения нашей души тоже есть подумать о чем. Душу Пушкин, конечно, отражает. А кто отражает то, чем эта душа окружена, – загаженные парадные, разбитые дороги, безумные ток-шоу и сериалы? Трудно в такой обстановке процвести. И душу, отраженную Пушкиным, сохранить трудно.
Есть ли надежда? Есть. Как ни странно, она связана опять-таки с Пушкиным – об этом говорит народная мудрость. Всякий раз, когда начинается выяснение того, кто именно должен выполнить ту или иную работу, возникает это имя. Кто будет мыть парадное – Пушкин? А кто чинить дорогу?
В этом состоит наше особое отношение к поэту. Кто-нибудь слышал, чтобы испанцы в таких случаях апеллировали к Сервантесу? Или англичане – к Байрону? Пропустил однажды вратарь Канн четыре мяча в Петербурге – что-то я не помню, чтобы на ворота «Баварии» (кто за вас, Оливер, будет играть?) предлагали поставить Гёте. А Пушкина – предлагают. Вместо каждого из 11 игроков нынешней сборной.
Нужно признать, что Пушкин известен за границей не всем. Есть немецкий анекдот о том, как беседуют два соседа – образованный Ганс и необразованный Курт.
– О чем тебе говорит имя Пушкин? – спрашивает Ганс.
– Это название водки, – отвечает Курт. – Она продается в нашем супермаркете.
Ганс хохочет.
– До чего же ты, Курт, серый. Пушкин – это великий русский поэт.
Курт обиженно сопит.
– Ганс, а что тебе говорит имя Майер? – спрашивает он после паузы.
Ганс удивлен.
– Ничего не говорит. А кто такой Майер?
– Майер – это человек, с которым тебе изменяет твоя жена.
Знать о Майере в данном случае вроде бы важнее, чем о Пушкине. Но ведь ревнуем же мы, по слову другого поэта, к Копернику, «его, а не мужа Марьи Иванны, считая своим соперником». Никакого Майера, только Пушкин. Мы слишком многим ему обязаны.
Когда встает вопрос о благодарности великим, дело обычно ограничивается вещами символическими. Я предлагаю вполне реальную, связанную с русским языком, поскольку в нынешнем своем виде наш язык был создан Пушкиным. Каждый год 6 июня я стараюсь придумывать слова, которых в нашем языке вроде как нет. Точнее, они есть, но имеют такой непривлекательный облик, что их и произносить не хочется. Чаще всего это касается аббревиатур и заимствований. Так, одним из моих приношений Александру Сергеевичу стала замена слову афтершок. Оно обозначает повторные толчки земной коры после землетрясения. В качестве замены афтершоку я предложил послетрясение.
Мое другое предложение коснулось слова, обозначающего то место в гостинице, где встречают постояльцев. Место это у нас неуверенно называется ресепшн. Неуверенность выражается в регулярной замене «с» на «ц», неоправданно долгом шипении и подавленном состоянии после произнесения.
Сложность замены слова «ресепшн» связана с тем, что все возможные кандидаты уже при деле, преимущественно больничном: приемная, регистратура и так далее. Существует обходной путь в виде выражения у портье, но самого места (а вдруг портье отлучится?) оно не называет.
6 июня, в день рождения Пушкина, я предложил неравнодушной к языку общественности подумать над заменой этого варваризма каким-нибудь более благополучным словом. К 9 сентября, дню рождения Льва Толстого, такое слово нашлось.
Подобно любой демократической процедуре, выбор этого слова оказался непрост. Начальным этапом стал сбор вариантов замены. Всего на конкурс было прислано 54 слова, из которых жюри (мои коллеги-пушкинодомцы и я) выбрало 10 лучших. Эта десятка была поставлена на голосование, в котором приняли участие 3 170 человек. Так определилась тройка финалистов:
– рецепция (17 %, вариант Левона Арустамяна),
– привечальня (16 %, вариант Елены Вайнбергер),
– гостевая (14 %, вариант Раиса Загидуллина).
На этом этапе, по условиям конкурса, вновь подключилось жюри, выбравшее слово-победитель.
По мысли организаторов, такой порядок конкурса позволял учесть мнения как носителей языка, так и его исследователей. Задачей конкурса не являлась обязательная замена иностранного слова русским. Многие слова иностранного происхождения прекрасно освоены нашим языком и давно получили русское гражданство.
В этом отношении поиск эквивалента не доходил до французского радикализма, предполагающего замену иностранных слов «родными». Напомню, что Закон Тубона во Франции предписывает СМИ использовать только французские слова. Если таких слов нет, в ход идут неологизмы.
В результате долгих дебатов жюри отдало предпочтение слову «гостевая». Оно – своего рода viamedia между уже использующимся в другом значении словом рецепция и словом привечальня, слишком, я бы сказал, ярким. Именно этот вариант – гостевая – можно было бы рекомендовать владельцам гостиниц и прессе для обозначения места регистрации в отеле.
Конкурс порадовал прежде всего тем, что подтвердил неравнодушие нашего общества к родному языку. Собственно, об этом же говорит невероятная популярность «Тотального диктанта» – одного из самых примечательных явлений последних лет. Приятно и то, что активное участие в конкурсе приняли люди, объединяющие в себе русскую культуру с иными. Их чувство языка отличается особой тонкостью и свежестью восприятия.
Не то чтобы организаторам конкурса хотелось непременно истребить английское слово ресепшн, да и вина его вовсе не в происхождении. Оно представляет большую группу слов – варваризмов, – пока русским языком не освоенных, и нет оснований полагать, что освоено оно будет быстро и безболезненно – хотя бы в силу его фонетического облика. Словарь определяет варваризм как «слово из чужого языка или оборот речи, построенный по образцу чужого языка, нарушающий чистоту речи носителя родного языка».
Часто варваризмы обозначают новые реалии. В оборот их вводят передовые, но очень занятые граждане, которым недосуг заниматься переводом. Вместе с инвестициями, технологиями, сценариями телепередач и другими полезными (и не очень) вещами они заимствуют обозначающие их слова. Подобно деревенской няне моей бабушки, глотают лекарство вместе с упаковкой. На выходе, так сказать, появляются изящные штучки вроде краудфандинга, стартапа, стендапа или мерчендайзера.
Считается, что язык – это самонастраивающаяся система. Это действительно так. Но в эпоху электронных СМИ эта система больше не настраивается сама. Точнее, настраивается как может, но против постоянной трансляции слов-пришельцев у нее не много шансов.
Я противник запретов, но если наравне с паркингом дикторам посоветуют произносить стоянка, у последней будет возможность побороться за место под солнцем. Многие иностранные слова не приживаются, как не приживаются некоторые русские неологизмы. Симпатичные вроде бы слова – земленебо (горизонт), мокроступы (калоши), а ведь не прижились. И это нормально. Но благодаря словотворческой активности мы имеем в современном языке самолет, пароход, паровоз, холодильник, пулемет и даже летчик, хотя лично мне больше нравится авиатор.
Иностранные заимствования – это лишь частный случай неласкового обращения с языком. Не менее опасно, на мой взгляд, забывать о придаточных предложениях, которые делают речь разнообразнее и глубже. Один мой коллега как-то сказал, что, если ночью его останавливают на улице и он слышит придаточное предложение, чувство опасности проходит. Человек, употребляющий сложные конструкции, уличную драку не начнет. Не знаю, во всех ли случаях это наблюдение действительно, но мой коллега, безусловно, прав в том, что сложноподчиненное предложение – это верный знак того, что человек обладает организованным сознанием и в его картине мира существуют полутона.
Особую проблему составляет непонимание значения слов – и вовсе не только иностранных. Так, в последнее время слово фактура всё чаще используется в значении совокупность фактов, хотя обозначает оно характер поверхности объекта. Можно вспомнить также о неразличении откровения и откровенности и о многом другом.
Мне представляется, что общественному обсуждению проблем языка можно было бы придать институциональный характер. Польза от этого состояла бы не столько в поиске замены отдельным словам, сколько в перемене отношения к языку вообще. Это заставляло бы нас думать об «экологии языка», если пользоваться термином Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил об «экологии культуры».
Язык – это не просто система знаков, не набор кнопок, соответствующих тем или иным понятиям и явлениям. Это удивительный организм, живущий своей собственной жизнью. Мы его формируем, но в не меньшей степени и он формирует нас. При произнесении слова мерчендайзер не распухает язык и не меняется прикус. Такого рода лексика, вообще говоря, никакой медицинской опасности не представляет. Но, используя варваризмы, мы рискуем стать понятно кем. Пушкин бы этого не одобрил.
Вопросы на ответы
Писательство – это одна из форм выхода креативной, как сейчас принято говорить, энергии. Речь идет именно о форме, потому что наполнением является та странная сила, которая заставляет человека заниматься научным исследованием, танцевать в Большом театре, расписывать храм или писать романы. Эта сила может быть большой и не очень, может находить для себя только одно выражение или реализоваться по-разному – в зависимости от обстоятельств и внутреннего состояния. Она может возникнуть как рано, так и поздно, а потом неожиданно исчезнуть. Опасно думать, что это дается навсегда.
Из всего перечисленного наугад мне пришлось заниматься литературоведением и писательством, или, пользуясь расхожим bon mot, быть ихтиологом и рыбой. Точнее, превратиться из ихтиолога в рыбу. Примерно так, я думаю, чувствовал себя Навуходоносор, сменивший жизнь царя на жизнь животного, когда «власи ему яко льву возрастоша и ногти ему аки птицамъ» (Дан. 4:30). Приведенная цитата вызывает в памяти распространенное представление о писателе, но речь идет лишь о том, что пережитой опыт заставил Навуходоносора взглянуть на ушедшее от него царство новыми глазами.
Царственное положение филолога имеет, несмотря на свою высоту, множество ограничений – как верховная власть вообще. Главное из ограничений – это необходимость познания мира в рационалистическом русле, в то время как с течением жизни все больше ощущаешь, что рациональное объясняет не весь мир, а только какую-то его часть. Именно ощущаешь, а не понимаешь, и это ощущение рождается приобретенным опытом. Опыт – не механическая сумма пережитых событий. Это события, пропущенные через себя, что-то вроде лечебной настойки, где травы уже не присутствуют в своем изначальном виде, а представлены целебной вытяжкой.
Используя чеховское противопоставление жены и любовницы применительно к литературоведению и литературе, я сейчас уже не уверен, что мои отношения с филологией были супружескими. Не филология была моей первой любовью.
Лет начиная с восьми я занимался переложением советских песен в короткие рассказы. Это было моим первым литературным опытом при полном отсутствии опыта житейского. К счастью, эти попытки были вовремя пресечены моей тетей, преподававшей в Люблинском университете русский язык. Как человек, преподающий русский язык в то непростое время, тетя была строгой, как преподаватель польского университета – антисоветски настроенной.
Она назвала мои рассказы малохудожественными. Тогда же прозвучали вопросы о том, что я хотел написанным сказать, кому адресованы эти тексты, и вообще – зачем весь этот пафос. Стоит ли говорить, что на эти вопросы у меня не было ответов – да и не вопросы это были. Годы спустя, уже став филологом, я понял, что граница между вопросами и ответами весьма условна.
Вряд ли в перечне того, о чем мечтаешь ребенком, есть профессия филолога. Не могу сказать, что я когда-либо мечтал им быть. Но слова моей тети о художественности, пусть даже малой, задели меня не на шутку – особенно в связи с тем, что я не понимал, о чем, собственно, речь. Надо ли удивляться, что именно это стало моим первым шагом на пути к литературоведению.
Шаг в сторону изучения текстов, однако, не исключал интереса к их созданию. Я говорю это к тому, что история с женами и любовницами в моей жизни не так проста. Учась на филологическом факультете, я быстро раскусил своих однокурсников: мягко говоря, не все из них мечтали о бесстрастном текстологическом делании. Филфак они рассматривали как трамплин к чему-то гораздо менее бесстрастному и текстологическому. Эти ребята готовились к прыжку в царство гармонии и свободы.
Годы показали, что не все прыжки завершились полетом. Некоторые из атлетов так и не оторвались от земли. Это не значит, что все они предались штудиям на незыблемом монолите источниковедения. Твердая почва под ногами стимулирует и другие, по выражению одного автора – более приземистые интересы. Об этом говорит количество открытых моими сокурсниками риелторских контор, фирм по ремонту квартир и туристических агентств.
В числе недопрыгнувших был, разумеется, и я, приземлившийся в одной из общеобразовательных школ. Неудача состояла не в школе как месте службы, а в зияющем отсутствии у учеников интереса к литературе. Разочарование мое было особенно велико потому, что я следовал не замшелой школьной программе, а своему собственному выбору. Поняв, что, с точки зрения предстоящих экзаменов, этот путь ведет в никуда, мои ученики справедливо меня игнорировали. Впрочем, надоесть друг другу всерьез нам не довелось: очень скоро открылось место в аспирантуре Пушкинского Дома.
Возвращаясь к литературе и ведущим к ней путям, скажу, что филфак не является главным из них. Не исключаю, что он вообще ведет в другую сторону. На мой взгляд, умение писать имеет в писательстве второстепенное значение. Используя платоновское понятие эйдоса, некоего идеального образа вещи, можно сказать, что писатель – это тот, кто устанавливает с эйдосом прямые отношения. Дальше наступает выбор средств его, эйдоса, отражения. Этот выбор зависит от личных склонностей отражающего. Склонности могут реализоваться в живописи, музыке или, скажем, в виртуозном умении выпиливать наличники.
Говоря так, я ни в коей мере не ухожу в сферу парадоксального, и уж тем более – художественного мышления, имея в виду вполне конкретные вещи. Если мы возьмем, к примеру, искусство Нико Пиросмани, то это – совершенное отражение эйдоса. Таким же совершенным его отражением является творчество украинской крестьянки Марии Примаченко, соединяющей живописные элементы с поэтическими. На ее картине, изображающей некоего фольклорного зверя, атакуемого змеем, стоит подпись: «Цей звір п’є яд, а смокче його гад». Другое ее полотно, изображающее зверя, который пожирает дракона, озаглавлено: «Атомна вiйна – будь проклята вона!». Выяснение вопросов техники или специального образования обоих художников вряд ли приведет нас к пониманию феномена их творчества.
После смерти Лескова в печати возникло неприличное, по сути, обсуждение его образованности. Повод дало отсутствие у писателя систематического образования – за исключением начальных классов гимназии. Но, во-первых, у него было обширное и своеобразное несистематическое образование. Читал он древнерусские книги, читал, как можно догадываться, «Макбета»… А во-вторых – ну давайте представим себе Лескова в образе университетского профессора: ведь тогда это был бы Умберто Эко. Но не Лесков.
Я хочу сказать, что установивший связь с эйдосом вовсе не обязан оканчивать филфак; что в том диалоге, который он ведет, художественная техника может присутствовать, а может – и нет. Если обратиться к примерам, более традиционным для искусства – из области, скажем, драмы, – то можем вспомнить о двух основных ее законах. Первый – сильный конфликт, второй – сильные характеры, способные довести этот конфликт до развязки. Эти законы безотказно действовали со времен Античности. До Чехова. Появляется Чехов – и пишет так, словно драмы до него не было. У него нет сильных конфликтов, и тем более – сильных характеров. Его герои – слабые люди. Они перебирают струны гитары, говорят о том, что нужно работать, нужно в Москву. И ничего вроде бы не происходит – а мы плачем, потому что конфликт у Чехова – не между героями. Он какой-то другой природы. Скорее всего – между пресловутым эйдосом и жизнью.
Да, писатель может писать хорошо. Посредством туго закрученного стиля он может создать то электрическое напряжение, которое мы называем искусством. Например, Набоков. Но это не является общим правилом. Может быть, вообще правилом не является.
Рассуждения о природе художественного творчества подводят нас к вопросу о его цели. На мой взгляд, цель литературы – сосредоточусь на том, что мне ближе, – это выражать невыраженное. Литература не обязана никуда вести. Не обязана проповедовать (проповедь – почтенный, но совершенно особый жанр). Литература призвана открывать эйдос. Использую здесь несовершенный вид, потому что процесс этот не имеет конца. Писатель вводит в оборот словесные и мыслительные конструкции, тем самым давая пищу уму читателя. Те шары, без которых боулинг невозможен. Читатель знает, что такое страх смерти, – особенно тогда, когда за гробом видит только пустоту. Набоков дает определение этого страха: раковинный гул вечного небытия. Так пронзительно и компактно этого чувства не описывал до него никто.
Литература не обязана давать ответы: порой гораздо важнее правильно поставить вопрос. При этом ответов будет столько же, сколько читателей. И это естественно, поскольку истина не одномерна. Шутка советского времени упоминала о вопросах газеты «Правда» на ответы Леонида Ильича Брежнева. Эта шутка оказалась глубже, чем нам, смеявшимся, тогда казалось.
Вопрос возникает, вообще говоря, тогда, когда уже есть ответ – пусть и в зачаточном состоянии. И никакие отговорки в духе курицы и яйца здесь не работают: ответы появляются раньше вопросов. На материале архаичных загадок это доказали фольклористы. Вопрос – это декларация о незнании. Незнании – чего? Это нечто, стало быть, уже мыслится.
Есть доречевая мысль, но это почти еще не мысль. Таковой она становится, облачившись в слово. Задача первостепенной важности – вывести аморфное знание из области мысли в область речи, перевести летучий газ в формулу. Перефразируя сократовское «знаю, что ничего не знаю», можно с полным правом сказать: «Не знаю, что кое-что знаю». Это кое-что своими вопросами достает из подсознания литература, потому что – какой же ответ без вопроса? Говорят, на смертном одре Гертруда Стайн спросила: «Так каков же ответ?». Все молчали. Она улыбнулась и произнесла: «В таком случае – в чем вопрос?».
Рецептивная эстетика говорит нам, что текст – это еще не произведение. Произведение – это текст в восприятии читателя. Именно поэтому глубокие литературные произведения никогда не бывают равны себе. В каждый следующий момент они уже другие, потому что читатель другой. Он видит в тексте те вопросы, которых, возможно, не видел сам автор. И наоборот – авторские вопросы новому читателю уже непонятны. На свои ответы он, читатель, выбирает себе другие вопросы: их там на всех хватит. Это говорит о том, что хорошо выполненная работа может использоваться многократно и по-разному. Так, великие произведения, писавшиеся для взрослых («Три мушкетера», «Робинзон Крузо» – ряд можно продолжить), по прошествии лет становятся гордостью детской литературы.
Хорошие тексты живут долго, хотя жизнь их вряд ли предвидима автором. Впрочем, формы их существования – вопрос не столь уж важный. Дело не в форме, а в существовании. Это хорошо выражено Ильей Сельвинским в стихотворении «Молитва»:
Народ!
Возьми хоть строчку на память.
Ни к чему мне тосты да спичи.
Не прошу я меня обрамить:
Я хочу быть всегда при тебе.
Как спички.
Для самого себя круг моих художественных интересов я формулирую предельно узким образом: смысл жизни. Всё дело в том, что на этом вопросе сосредоточены и мои нехудожественные интересы. Это началось лет в четырнадцать, когда я по-настоящему открыл смерть. Подобно всякому человеку, я повторял путь Адама, познавшего добро и зло, после чего ему было предъявлено время и связанная с ним конечность, а значит – смерть. Время и смерть мне кажутся исходными пунктами для понимания смысла жизни.
Смерть страшит человека не столько уходом с земной поверхности, сколько бессмысленностью существования. Эта проблема неизбежно возникает перед всеми, кто начал жить. «Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще кончается?» – любил повторять, по свидетельству Довлатова, Иосиф Бродский. Те, кто заметил, реагируют в основном двумя способами. Первый связан с мужественным решением справляться с этой ситуацией своими силами. Второй – со стремлением, по слову Псалмопевца, возложить на Господа печаль свою (Пс. 54:23). Я выбрал второе. Для такого решения я находил основания как рациональные, так и иррациональные.
Прежде чем начать писать, долгие годы я занимался медиевистикой. Поздний приход в литературу – вещь нередкая. Умберто Эко, начавший писать около 50-ти, заметил в одном из интервью, что в жизни каждого мужчины наступает время, когда ему требуются перемены. Некоторые в этом случае убегают с любовницей на Багамы, а он, Эко, – решил писать. Мне кажется, что для исследователя Средневековья это очень естественное решение. И взвешенное.
Занятия медиевистикой требуют взвешенных решений. Она не поставляет материала для экстремистских заявлений, потому что материал, с которым она имеет дело, по большому счету, не приспособишь к современности. Она оперирует такими категориями, которые ставят современность в тупик. Для нее нет национальных и государственных границ, нет политической целесообразности, – есть лишь простое разделение на истину и ложь. Эту тему, желая предстать человеком взвешенным, я развивал недавно в интервью одной лос-анджелесской газете. Я сказал, что истина редко находится на полюсах: обычно она пребывает посередине. Именно поэтому из всех веков я выбрал Средние.
Медиевистика дала мне, пожалуй, наиболее внятные ответы на мои вопросы. Мало-помалу я входил в резонанс с особым средневековым временем, круто замешанным на вечности. Главным достижением этих лет я считаю то, что научился не торопиться. К занятиям литературой я приступил довольно поздно – имея определенный опыт, а главное – спокойствие. «Спокойствие, только спокойствие!» – цитировал я себе героя Астрид Линдгрен, – и до сих пор нахожу этот призыв оправданным.
Мой друг, замечательный писатель Леонид Юзефович, однажды сказал мне, что мои романы не похожи один на другой, а я не похож на свои романы. Это суждение, для меня – не скрою – очень приятное, открывает актерскую природу писателя. Создание романа, понятое в ответственном смысле, – это маленькое сотворение мира. И в этом мире писатель в ответе за всех и за вся – от чайных ложек до падения империй. Травы, небеса и, конечно же, чайные ложки должны быть как новенькие, потому что в старых декорациях игра не станет жизнью. Исходя из этого обстоятельства, я не сравниваю свои романы друг с другом, потому что это было бы равнозначно сравнению зеленого с горячим. Когда я слышу сокрушенное «Да, „Авиатор“ – это не „Лавр“!», я искренне не понимаю, о чем идет речь.
Да, особенности материала в «Лавре» дают бóльшие возможности для новаторства, да и жанр жития – такова уж наша современность – не самый распространенный. Но «Авиатор» предоставляет пространство в противоположном направлении, которое, имея в виду Тынянова, можно было бы назвать традиционализмом. По какому-то глубокому внутреннему счету эти книги для меня равны. Я бы даже сказал, что «Авиатор» – более личный текст, и в этом смысле – очень мне дорогой.
Художественная особенность «Лавра» состоит не только в смешении языков и времен, но и в особом, пульсирующем повествователе, представляющем то средневековую, то современную оценку событий. Всё это призвано стягивать роман воедино, приглашать древнерусских людей к нам – или, наоборот, нам со спокойной душой вливаться в Средневековье.
Если говорить о художественных задачах «Авиатора», то это, среди прочего, – попытка быть камертоном в той музыке, которая у каждого читателя своя, быть первым звеном в ассоциативной цепочке. Здесь важно было найти баланс между индивидуальным и типическим, потому что слишком индивидуальное, авторское отрезает читателя от текста. Подобный же эффект возникает тогда, когда преобладает типическое.
Все мои предыдущие тексты в каком-то смысле – романы воспитания. Используя название первой книги «Лавра», можно сказать, что они в той или иной степени – книги познания. Все они описывают ситуацию восхождения – пусть зигзагообразного, но движения вверх.
В романе «Брисбен» описывается ситуация прямо противоположная. Главный герой его едет, что называется, не на ярмарку, а с ярмарки. Состоит ли смысл жизни – которая подходит к концу у героя, – в достижении поставленной цели, и если да – то что делать тогда, когда цель достигнута? Или же он разлит по всей жизни равномерно, является ее неразделимым целым, а не верхним фа, которое в какой-то момент удалось взять герою? На этой высокой ноте я, пожалуй, остановлюсь.
Поющий в степи
Гладко написанный текст – это еще не литература. Литература – это то, что возникает над текстом, как электрическое поле вокруг проводов, и возникает – с опытом. Под опытом я понимаю не механическую сумму пережитого, а результат внутренней работы, который включает и пережитое, и выводы из него, и что-то такое, что приходит без всякой видимой причины. Это возникает чаще всего в зрелом возрасте.
Когда меня спрашивают, жалею ли я о том, что время упущено, отвечаю: нет, не жалею, потому что время упущено не было: внутренняя работа шла. Начни я писать раньше – мог бы, наверное, публиковать тексты, создающиеся на чистой технике: детективы, фантастику, еще что-нибудь. Но жанр, стиль (а с ними – глубина погружения) обладают удивительной цепкостью, и не всегда у начавшего «в легком жанре» впоследствии получается сменить регистр. Я знаю талантливых людей, которым, несмотря на все усилия, это так и не удалось.
Ко времени публикации моих первых вещей вопрос самореализации (а он важен для всякого человека) в моей жизни уже не был основным. Опорной ногой я стоял в науке (медиевистике), и страха «не состояться» у меня не было. В случае литературной неудачи я бы продолжал заниматься Древней Русью (как, впрочем, занимаюсь ею и сейчас), эта работа доставляет мне радость.
У каждого человека существует логика его развития. Это только кажется, что поезд внезапно сменил колею. На самом деле стрелка была уже давно переведена. Вообще говоря, обращение к писательству не может быть произвольным, для всякого высказывания должна возникнуть необходимость. Помните старый анекдот о лорде Генри, который до тринадцати лет не говорил – и вдруг произнес фразу: «Однако сэндвич подгорел». Сбежался весь дом, все стали спрашивать: «Лорд Генри, почему вы молчали тринадцать лет?» И он ответил: «Потому что тринадцать лет с сэндвичами всё было в порядке». Я начал писать, когда мой сэндвич подгорел.
* * *
На вопрос о политических взглядах я отвечаю, что у меня их нет. По крайней мере – нет такой их совокупности, которую я всегда мог бы предъявить. Я не принимаю ни одну политическую идеологию как систему. Отдельные положения идеологий могут быть вполне симпатичными. Так их и нужно обсуждать – по отдельности, но, честное слово, не стоит ничего принимать в пакете.
Ни одна идеологическая система полностью не укладывается в границах нравственности: что-нибудь обязательно выпирает. Политическая идеология – это своего рода комплексный обед. Так вроде бы и дешевле, и мороки меньше, да только обязательно подадут и то, чего не любишь. И проследят ведь, чтобы всё съел, – такая это кухня.
Я не поклонник революции как таковой. Это не лучший способ решения общественных проблем. Несмотря на красивую фразу о том, что революции – локомотивы истории, эта самая история упорно показывает, что в какой-то момент локомотив обязательно идет не туда. Но самое печальное в этом виде транспорта то, что с него уже не соскочить. Когда оказываешься в людском потоке, начинают работать совсем другие законы, безжалостные и от тебя не зависящие. Поэтому я, как персоналист, считаю, что в такие моменты надо блюсти себя и не сливаться с массами. Хочешь сделать добро обществу – борись с бесами в себе самом, их там достаточно. А всякая попытка исправлять зло в целом, спасать мир глобально мне кажется бессмысленной.
Вообще, я бы сказал, что переломные эпохи – не лучшее время для литературы. Возьмем, скажем, Петровскую эпоху или время большевистского переворота. Писать по-прежнему уже нельзя, а как по-новому – еще не очень понятно. Это не значит, что в такие времена не бывает хороших произведений – несмотря на избыточную нервность, публицистичность, они появляются. В такие эпохи труднее всего приходится роману, который на одних эмоциях не напишешь. Это дальнобойное орудие, которое требует дистанции (вспомним, когда был написан лучший роман о войне 1812 года).
Мы сейчас живем после очередного катаклизма, землетрясения, вызванного распадом СССР. Подземные толчки еще ощущаются, но почва уже тверда: общество с постсоветской реальностью в целом освоилось. Герои романов привыкают к спокойной обстановке, когда мотором действия являются не пожар или киллер, а, так сказать, внутренние ресурсы персонажа.
* * *
Любая книга только наполовину создается автором – вторая половина создается читателем, его восприятием. По большому счету, сколько читателей – столько и книг. Меня не пугают даже самые странные интерпретации моих книг: значит, и это было заложено в моем тексте. Не обвиняю читателя даже тогда, когда он не хочет быть соавтором – и попросту закрывает мою книгу. Это ведь я и никто другой написал что-то такое, что родило в читателе подобный отклик.
Навыки создания текстов, как и возможность продолжения рода, человек обретает в довольно раннем возрасте. Но эти опыты – даже вполне состоятельные стилистически – еще не означают, что брак автора с литературой заключен. Важна духовная составляющая, некое силовое поле, в котором созданная конструкция оживает. Создание литературного произведения (поскольку всякий автор – демиург) неизбежно напоминает сотворение человека: в созданного из персти Адама вдувается жизнь. Делать глиняных человечков не так уж сложно, но ведь главная задача – заставить их двигаться.
Создание литературного героя уподоблю отцовству. Автор предоставляет героям некий генетический материал, и закономерно возникает ожидание (в том числе у самого автора), что страницы романа будут усеяны маленькими авторскими копиями или копиями отдельных его черт. Когда же эти человечки появляются на свет, выясняется, что они не очень похожи на автора. Потому что зачатие – процесс двусторонний, и в качестве партнера автора выступает то, что мы называем «объективной реальностью». Эта реальность, сидя в голове у того же автора, вынашивает и формирует плод, именно она делает героя неуправляемым. Когда же автор волевым образом вмешивается «от себя», он, на мой взгляд, добавляет не столько то, что ему, автору, свойственно, сколько то, что ему несвойственно: это своего рода компенсирующая функция литературы. Сходство автора с героем чаще всего обманчиво.
«Историю» я люблю придумывать сам, поэтому не пишу биографических романов и не написал ни одной книги в «ЖЗЛ». Не рассматриваю это как большое свое достоинство. Я очень ценю писателей, которые способны влезть в шкуру исторического лица – и сантиметр за сантиметром исследовать логику его поведения. Это великий дар и великое терпение, которых я, видимо, лишен. В моих романах почти нет исторических лиц. Когда я пытаюсь о них писать, мне чудится окрик конвоя: шаг влево, шаг вправо… Для того чтобы хорошо описать историческое лицо, надо быть большим актером и вживаться в роль. Я же по типу скорее режиссер – и требую от героев действовать так, как я скажу.
Иногда меня называют постмодернистом. Не могу сказать, что «чистые» постмодернисты мне как-то по-особому близки. Постструктуралистское заявление о том, что автор – инструмент языка, было понято ими слишком буквально. Философия художественного творчества учит нас (из современных авторов это хорошо выражено у о. Владимира Иванова), что у настоящего произведения должен быть свой эйдос, первообраз, выражением которого это произведение является.
Один из недостатков постмодернизма (а у него, разумеется, есть и свои достоинства) заключается в том, что за стилевой эквилибристикой порой ничего не стоит. Такая себе рама без портрета. Другое дело, что какие-то характерные для постмодернизма приемы могут быть использованы для отражения эйдоса. И это – случай Венедикта Ерофеева и Саши Соколова. Вещи их – настоящие, боль – невыдуманная, а всё остальное – вопрос средств выражения.
Что касается моих предпочтений как человека пишущего, могу сказать, огрубляя, что ценю реалистическое сюжетное повествование. Из чего, разумеется, вовсе не следует, что я должен писать, как Мамин-Сибиряк. Я учитываю современную литературную технику, и иногда – как в хорошем автомобиле – мне доставляет удовольствие нажимать на разные ее кнопки и педали. Важно лишь не забывать, куда едешь.
* * *
Приступая к роману «Лавр», я хотел рассказать о человеке, способном на жертву. Не какую-то великую однократную жертву, для которой достаточно минуты экстаза, а ежедневную, ежечасную жизнь-жертву. Культу успеха, господствующему в современном обществе, мне хотелось противопоставить нечто иное. Несмотря на «нравственную» проблематику, менее всего меня привлекала возможность учить: это не дело литературы, да и права такого мне никто не давал. Пока писал книгу – сам учился, мы с ней делали друг друга. Литература призвана изображать, а уж читатель решит, нравится ему изображение или не нравится, и что он вообще будет с ним делать.
Я понимал, что, взятый с нынешней улицы, такой герой будет неубедителен, а то и попросту фальшив. И обратился к древней форме – к житию, предназначенному для такого рода повествования, только писал это житие современными литературными средствами. И определил его в итоге как неисторический роман.
История этой «неисторичности» такова. В традициях издательства – помещать на обложке слоган, короткое определение особенностей книги. Меня попросили такое словосочетание придумать. И я придумал – в беседах с Еленой Данииловной Шубиной, моим издателем и другом. На обложке слоган оказался под названием – и неожиданно для меня стал восприниматься как подзаголовок. Теперь я вижу, что по своему типу он действительно очень напоминает подзаголовок, хотя ни в коем случае таковым не является. В качестве части названия его теперь нередко фиксируют и в библиографических описаниях, что – ошибка, потому что по правилам библиографии книжные данные следует списывать не с обложки, а с титульного листа.
Если же говорить о сути определения, то мне хотелось дистанцироваться от исторического романа, решающего, как правило, другие проблемы. При таком взгляде на вещи точность исторических деталей – дело второстепенное, хотя и в этом крупных ошибок я старался не допускать. Исторический роман – подобно детективному, фантастическому, любовному – принадлежит к так называемой жанровой литературе. Ее мотором является не столько характер героя, сколько сюжет – историческое событие, преступление, перемещение в будущее, адюльтер и т. д. В «Лавре» меня интересовала не история, а, выражаясь по-лермонтовски, «история души». Определение романа как неисторического – это сигнал читателю. Рекомендация не искать в книге того, чего в ней нет.
Есть два основных типа отношения к истории. Одни ищут в прошлом то, чего нет сейчас, другие – наоборот – то, что существует и в современности. И то и другое приводит к захватывающим открытиям. В своих занятиях историей я в разное время принадлежал к обоим типам. Сейчас же я всё больше склоняюсь к мысли, что история – это не более чем сцена, которая предоставляется каждому для его неповторимой роли. Костюмы, декорации – всё это выдается каждой конкретной эпохой и от человека не зависит, как не зависит от него и игра других актеров. Единственное, за что человек отвечает, – это его собственные действия, и вот здесь-то следует проявлять предельную сосредоточенность. Иными словами: история всеобщая есть лишь фон для истории личной. Личная история для человека как индивидуальности – самая важная.
Для меня самого этот роман стал совершенно неожиданным. Я понимал, насколько непростое занятие – писать о святом. Кроме того, никогда не думал, что как писатель вообще буду приближаться к древнерусским делам, хотя бы потому, что это моя профессия.
Я почти тридцать лет занимался средневековым миром – он очень отличается от современного. У этого мира есть много достоинств, которые, к сожалению, не видны: то, что мы знаем о Древней Руси по нашей литературе, часто имеет лубочный, неподобающий вид. Эта культура стала частью меня, а я – как это ни странно – ее частью, потому что продолжаю ее воспроизводить тогда, когда она уже стала историей. Если взять количество прочитанного мной в жизни, то древнерусских текстов окажется больше, чем современных. Просто потому, что по много часов в день я читаю тексты Древней Руси.
Постепенно я почувствовал, что у меня есть понимание того, как они строятся, – глубинное понимание. Мне кажется, что если бы меня перенесли в XV век, я был бы неплохим древнерусским писателем: я знаю, как тогда требовалось писать. Но поскольку меня в XV веке никто не ждет, я решил перенести тот опыт, который у меня есть, в литературу века XXI-го.
Мне повезло в том, что мой личный опыт вошел в резонанс с современным состоянием литературы. Я использовал множество древнерусских приемов, которые еще несколько десятков лет назад показались бы экзотикой и были бы литературой отвергнуты. А сейчас они оказались ко двору – современная культура была к ним подготовлена посредством постмодернизма. Совершенно по другой дорожке литература сейчас пришла к тем вещам, которые когда-то были основами средневековой поэтики. Но я пришел к ним – со стороны Средневековья.
Примерно полгода я обдумывал стиль романа. Вернее, это были полгода ожидания, после которых я мало-помалу стал осознавать, что необходимую манеру письма нашел. Стиль в романе – один из главных героев. Он не должен был иметь отношения ни к историческому роману, ни к этнографическим экзерсисам. Это не должен был быть сюсюк в духе превратно понятого благочестия. Я мечтал о тексте, который бы читался не только глазами, но и душой, который бы раскрывал красоту русского языка в самых разных его пластах – временных, социальных и т. д., который бы, наконец, свидетельствовал об отсутствии времени. Я пошел даже на то, чтобы подбросить в средневековый лес пластиковую бутылку, – и вот уже семь лет вынужден объяснять этот поступок; но читательские вопросы показывают, что труд этот напрасен. Сейчас я ограничиваюсь защитой редакторов: нет, не просмотрели; а цель своего поступка оправдываю борьбой за экологию.
В моем романе герой проживает четыре жизни под четырьмя разными именами. Мы смотрим на человека во времени – и видим человека вне времени. Вне времени и пространства. Этот эффект «Лавра» одна питерская студентка отважно охарактеризовала словом «хронотоплес».
«Лавр» – попытка упразднить время и пространство, точнее – показать, что всё достигается работой духа, если понимать свое время как часть вечности. Средневековый человек жил в вечности. Его жизнь была длиннее за счет того, что она была разомкнута: не было времени, не было и часов в нашем понимании. Время определяли по солнцу. И с пространством было иначе, чем сейчас. Дойти до Иерусалима было подвигом – настоящим, без кавычек. Но при этом люди понимали, что двигаться в пространстве не обязательно. И то, чего они хотят достичь за морем, вполне можно обрести и здесь. Вообще, в Средневековье время не переоценивалось: в отсутствие идеи прогресса с его течением не связывали особых надежд. Исходили из того, что люди лучше не становятся, поскольку технический прогресс не приводит к улучшению духа и мысли. В определенном смысле личная история человека казалась важнее истории человечества: народы не совершенствуются, совершенствуются люди.
Мой уход в прошлое связан, скорее всего, с тем, что тогда существовала традиция описания «добрых людей» (выражение В.О.Ключевского), а сегодня она как-то растворилась. Это вовсе не значит, что «добрых людей» сейчас нет, просто описывать их всё труднее. Положительный герой – это вообще головная боль литературы Нового времени. Литература Средневековья таких проблем не испытывала – потому, может быть, что это была не совсем литература. Иными словами, для «положительно-прекрасного человека» я выбрал соответствующую ему историко-литературную среду. Разумеется, есть и другие пути, и современный материал, но для того, чтобы написать второго князя Мышкина, нужно быть известно кем.
* * *
В романе «Авиатор» я описывал безделушки начала XX века, автомобили, крики охтинских молочниц, стук колотушек по торцовой мостовой. Всё это было передним краем истории, ведь жизнь существует не в виде абстрактных исторических законов. Она предстает перед человеком в своих бытовых подробностях, в той повседневности, которая и становится первой жертвой времени.
Загадочные взаимоотношения людей и предметов позволяют оживить те временные отрезки, которые мы впоследствии называем историческими эпохами. Среди описываемого быта этих лет особую роль играют вещи, которые мы используем и сейчас. Они работают на стыке известного и неизвестного, «вытаскивая» за собой всё ушедшее – то, что мы называем приметами времени. Лишают их экзотичности и насыщают воздухом.
В «Авиаторе» я пытался предложить читателю разделить со мной радость творчества и стать соавтором. Ступая, как по мосткам, на то, что продолжает существовать, читатель подходит к тому, чего уже нет: к звукам, краскам и запахам старого Петербурга. Номинальный автор – всего лишь камертон: он задает тональность, начало ассоциативной цепочки, которую достраивает уже читатель, основываясь на своем собственном опыте.
А когда эта цепочка выстроена, попробуйте ее удалить – и вы поймете, что такое потеря. «Авиатор» – это роман о потерях, о том, что нет замены ушедшим, и «никто не придет назад», как сказал бы Блок. А еще – о вине и покаянии.
Человек живет среди тех людей и предметов, которые ему даны с его временем. Он любит их и испытывает перед ними чувство вины, как это происходит с героем «Авиатора». И нет у человека другого времени и других спутников. И описать это может только литература.
По сути дела, литература – это последовательное проникновение в сферу невыразимого, отвоевывание у нее новых пространств. Художественные новации возникают не из праздного интереса, они – инструменты, при помощи которых с явлений снимают проклятие невыраженности. Новые инструменты появляются только тогда, когда старые уже не достигают цели. Как читателя меня интересует то новое, что удалось выразить. Как исследователя – те инструменты, при помощи которых удалось выразить новое. Как писателя – то, что всё еще остается невыраженным.
Призвание писателя – быть чем-то вроде блюдца на спиритическом сеансе: крутиться в центре стола и составлять из букв тексты. Писатель должен уметь конвертировать бытие в слово. Писательство – это, по сути, называние. Присвоение слов тому, что волновало, но оставалось безымянным – будь то соленая хрупкость кожи после пляжа или проветривание (морозное марево в форточке) больничной палаты. Первым писателем был Адам, которому Господь дал право наименовать окружавших его животных. Давая животным имена, Адам перевел их из единичного в общее – и сделал достоянием всех. Дело писателя – ловить музыку сфер и переводить ее в ноты. Быть, если угодно, «лучшим акыном степи»: петь о том, что видит. Что, подчеркну, видят и все там живущие. А поет – только он, потому что он способен превращать степь в текст.
Литература: будущее в прошедшем
Прошлое возвращается. Всякое возвращение предполагает предшествующий уход. А прошлое, возможно, никуда и не уходило, и его отсутствие в конечном счете оказывается мнимым. Так, отпечатавшись в генах, определенные черты могут какое-то время не проявляться, но это не значит, что они исчезли. Они ждут своего часа, и этот час при желании можно назвать возвращением.
Идея возвращения прошлого не нова и еще в Античности отражалась в представлении о цикличности времени. Христианская цивилизация разомкнула этот круг и в качестве модели предложила спираль: да, события повторяются, но на другом уровне и в иных условиях. Такое понимание мира отразилось у раннехристианских мыслителей, рассматривавших Христа как нового Адама, Богоматерь как новую Еву (таких пар существовало великое множество).
В тот момент, когда уход прошлого кажется бесповоротным, спираль делает обратный виток, и возвращение начинает свой разбег. В новых явлениях мы с удивлением узнаём старые черты. Продолжая генетическую метафору, пресловутую спираль можно уподобить спирали ДНК. Очередной ее виток сделал, как кажется, актуальным вопрос о возрождении определенных черт Средневековья.
В сущности, этот вопрос для европейской философии не нов. Среди тех, кто касался его в Западной Европе, назову недавно ушедшего Умберто Эко. В русской философии этим вопросом занимался, среди прочих, Николай Бердяев, еще в 1923 году написавший работу «Новое Средневековье: Размышление о судьбе России и Европы».
Я постараюсь показать, что современные литературные тексты обнаруживают высокую степень сходства со средневековыми. Это позволяет предположить, что Новое время – по крайней мере, в области словесности – близко к своему концу, что начинается какая-то новая культурная эпоха, которая во многом перекликается со Средневековьем.
Я бы хотел избежать того, что в немецком литературоведении называется «magnetische» Quellenforschung, – «магнитного» отношения к источникам, при котором исследователь замечает лишь то, что соответствует его концепции. Поскольку средневековые и современные тексты принадлежат к разным эстетическим системам, я буду пользоваться принятым разделением на «литературу» и «письменность», определяющим соответственно Новое время и Средневековье.
Культура Средневековья представляла собой уникальную систему – по-своему стройную и логичную. Если бы эта система не обладала такими качествами, она бы не смогла успешно работать на протяжении многих веков. Уже одна длительность существования этой системы говорит о ее высокой стабильности и продуктивности.
Важной чертой средневековой письменности является ее фрагментарная структура – то, что в трудах историков называют «литературой ножниц и клея». Используя не менее образное выражение Николая Лескова, тексты Средневековья можно уподобить «лоскутным одеялам орловских мещанок», сшитых из кусочков тех тканей, с которыми прежде приходилось работать швее. Что это значит?
В Средневековье не столько сочиняли, сколько компилировали. Новые тексты в значительной степени состояли из фрагментов текстов-предшественников. Не пересказывали другие тексты, давая о них общее представление, а включали их фрагменты. С точки зрения средневекового книжника, текст, описывающий явление, был частью самого явления. Это та неразделимость слов и вещей, о которой писал Мишель Фуко. Человек Средневековья осознавал, что на свете существует много близких явлений. Это давало ему право описывать сходные явления посредством одних и тех же текстов.
Например, «Повесть временных лет», первая русская летопись, рассказывает о смерти преступного (в летописи – «окаянного») князя Святополка. Для характеристики Святополка летописец использует два фрагмента византийской Хроники Георгия Амартола: один о сирийском царе Антиохе IV Эпифане, другой об Ироде. Почему летописцем заимствованы именно эти фрагменты? Ответ прост. Бегство Святополка и смерть его в чужой земле привели летописца к мысли использовать текст об Антиохе, смерть которого была сходной. Фрагмент же об Ироде возникает потому, что эпитет Ирода – «окаянный», а Святополк, как мы помним, тоже «окаянный».
Случалось, что создатель жития святого включал в свой текст фрагменты житий других святых, чаще всего – соименных описываемому святому. Современному сознанию это может показаться невероятным: житие – сочинение биографическое, как можно дополнять его фрагментами других биографий? Иначе смотрел на дело человек средневековый. Если у двух святых одно и то же имя (а имена неслучайны!), то почему не быть похожими их судьбам?
Безудержному дроблению средневековых текстов и их обмену фрагментами противостояла не менее мощная тенденция к их объединению. Вместе эти два течения создавали равновесие, необходимое для функционирования системы. Средневековье создало огромное количество компиляций, объединяющих не фрагменты, а отдельные произведения. Речь идет о сборниках, организованных по тематическому, хронологическому и другим принципам. Здесь же можно вспомнить и об иерархической системе средневековых жанров, в которой простые жанры входят в состав более сложных.
Теперь, когда мы установили, что средневековые тексты в каком-то смысле напоминают конструктор «Лего», возникает законный вопрос: как такая система могла существовать? Первым подводным камнем, на который должен был бы вроде бы наткнуться средневековый книжник, является привычный для нас причинно-следственный принцип в изложении событий: он не может не нарушаться чужеродными вставками.
Но удивительная особенность средневековых текстов как раз и состоит в отсутствии причинно-следственной связи между событиями – по крайней мере, привычной для нас причинно-следственной связи. Наиболее очевидно это проявляется в средневековом (как русском, так и западноевропейском) историческом повествовании. В отличие от современных историографических текстов, события там не следуют одно из другого. Всякое новое событие является в определенном смысле новым началом.
Если в современном историческом повествовании событие является структурной единицей, то в Средневековье роль этой единицы выполняет хронология – год (в русских летописях) или царствование (в византийских хрониках). В этих текстах не одно событие порождает другое событие, а год следует за годом или царствование – за царствованием. Понятно, что такого рода история не нуждается в причинно-следственности.
Но даже в тех средневековых жанрах, где структурной единицей повествования является событие (например, в агиографии), причинно-следственная связь также отсутствует. Жития состоят из мелких сюжетов, которые нанизываются один за другим на временную ось и не являются, за редким исключением, причиной друг друга: основой композиции здесь является также хронология. Подобно событиям историографии, причины событий агиографических лежат вне их ряда: они пребывают в сфере провиденциального. При таком взгляде на вещи ни причинно-следственность, ни даже хронология не могли стать помехой древнерусскому книжнику в конструировании нового текста.
Ввиду всего сказанного может создаться впечатление, что в мире средневековых текстов царило броуновское движение, но это совсем не так. В функционировании этих текстов существовали свои закономерности. Какие же произведения были способны сохранять при переписке свой текст неизменным (в науке это называется стабильностью текста)?
Стабильность средневекового текста во многом зависела от его близости к Священному Писанию, главной книге Средневековья. Священное Писание – текст текстов, стоявший в центре духовной жизни человека, – имело особую судьбу. Это выражалось в том, что всякий новый список Священного Писания изготавливался с привлечением не одной, а двух и более рукописей. Сопоставляя рукописи, книжник следил за исправностью священного текста и исправлял возможные ошибки и отклонения от канонического текста.
Важно подчеркнуть, что такое отношение отмечается не только в отношении библейских текстов, но в известной мере и в отношении текстов, излагавших библейские события, – например, переведенной с греческого Хроники Георгия Амартола. Если же взять шкалу стабильности средневековых текстов на другом полюсе, полюсе максимального удаления от сакрального, можно увидеть, что тексты при воспроизведении значительно изменялись. Так, очень разные варианты представляют списки Девгениева деяния, переведенного на Руси образчика византийского героического эпоса: его текст в высшей степени нестабилен.
Особое место занимали библейские цитаты. В отличие от прочих цитат, они были естественны в любом окружении. Они как бы обозначали собой присутствие Библии в каждом конкретном произведении, ведь любой средневековый текст являлся по большому счету продолжением или конкретизацией Священного Писания. В той или иной степени Священное Писание задавало тональность большинства средневековых компиляций. Распадающаяся на фрагменты магма текстов замыкалась, в свою очередь, на главном тексте христианской письменности.
Характерный пример идеологической универсальности фрагментов – отрывок «Повести временных лет», посвященный нападению русского войска на Константинополь, состоявшемуся еще до принятия Русью христианства. Он заимствован летописью из Хроники Георгия Амартола, описывающей это нападение весьма неодобрительно. Русский летописец, цитируя византийского хрониста, не предпринимает ни малейшей попытки отредактировать нелестное для русских повествование: русский христианин смотрит на русских язычников с тем же неодобрением, что и византийский христианин.
Ответы на все вопросы о мире Божьем – в Священном Писании. Этот мир целен, а потому и фрагменты текста, отражающие различные его явления, в известном смысле универсальны и соединимы друг с другом. Кроме того, Средневековье не имеет персонального стиля, есть лишь стиль жанра. В средневековой письменности, этом котле фрагментированных текстов, всё работает на то, чтобы такая культурная система могла существовать.
Говоря о других механизмах, позволяющих средневековой фрагментарной (центонной) письменности сохраняться столько веков, упомяну об особом отношении к хронологии. Хронология, которая в большинстве случаев связывала события друг с другом, не являлась непреодолимым препятствием для расстановки фрагментов в произвольном порядке. Даже в историографических произведениях, наиболее неравнодушных ко времени, отмечается множество анахронизмов.
В этом же контексте следует отметить и особенности средневекового отношения к тому, кто именно говорит. Субъект высказывания был не то чтобы неважен – скорее, он уступал в важности требованию истинности высказывания. Иными словами, имело значение не столько то, кем сказано, сколько то, что сказано. Это было причиной возникновения «странных речей» ряда древнерусских персонажей. Так, злодеи называли себя злодеями, люди иной веры – неверными, а языческие волхвы обильно цитировали Псалтирь. С точки зрения русского автора, эти персонажи говорили правильные вещи, и он не задавался вопросом, насколько естественны эти тексты в их устах. В ситуации, когда речь одних легко было вкладывать в уста других, возникали широкие возможности для соединения самых разных текстов.
С проблемой субъекта высказывания тесно связана проблема автора. Безразличие к тому, кто сказал, о котором шла речь выше, вносит свою специфику и в средневековое понимание авторства. Имя рядового книжника не важно читателю – важен созданный им текст, соответствие (или несоответствие) этого текста истине. Средневековый автор чувствовал себя не столько автором, сколько транслятором, – потому средневековая письменность в массе своей анонимна. Отсутствие претензий на авторство как раз и придавало естественность «плагиату» Средневековья. Впрочем, и анонимность имела свои исключения. Безусловно значимым было авторство Отцов Церкви. Подписывали свои тексты также те, кто имел на это духовное или общественное право – Кирилл Туровский, Иван Грозный, протопоп Аввакум.
Еще одним фактором, способствовавшим свободному соединению фрагментов, являлось фактическое отсутствие границ средневекового текста. О границах текста можно говорить только в отношении каждой конкретной его копии (списка) – лишь там они выражены материально. Если же под текстом мы будем понимать всю совокупность списков, в которых отражено произведение, то увидим, что граница эта подвижна. Текст Нового времени, несмотря на наличие черновиков и редакций, располагает, как правило, «каноническим» вариантом, определяющимся автором. В средневековом же тексте каждый список является в той или иной степени редакцией, подобно тому как всякий переписчик – в той или иной степени соавтором. Средневековые редакции не обладают правами исключительности, и новая редакция не перечеркивает старой: они существуют параллельно.
Средневековый текст принципиально незавершаем. Ярким образцом этого свойства являются летописи, которые продолжались многими поколениями летописцев. Произведения других жанров также могли дополняться – в каждом новом списке. Таким образом, термин «текст», применяемый к Средневековью, всякий раз характеризует динамическую систему с размытыми границами и структурой.
Теперь посмотрим на дело с точки зрения древнерусского читателя. Средневековые тексты «не надоедали» и обладали немыслимым для Нового времени долголетием. Войдя однажды в оборот, они редко из него выпадали и продолжали переписываться. В рамках одной компиляции спокойно могли уживаться произведения с тысячелетней разницей в возрасте. Характерный для нашего времени процесс устаревания текстов Средневековью был знаком в самой незначительной степени. Отсутствие идеи прогресса, ретроспективная направленность средневекового сознания лишали более «свежие» тексты преимущества. Более того: если уж говорить о преимуществе, то им пользовалось всё то, что несло на себе отблеск первоначальности.
В читательском восприятии тексты соотносились не столько с конкретными текстами, сколько с повествовательными моделями – летописной, житийной и т. д., – то есть с идеальным выражением того или иного типа повествования. Встречая в новом тексте знакомые фрагменты, средневековый человек радовался. В его глазах дежавю было не грехом, а достоинством, повторением первоначального и бесспорного. Сами же тексты в восприятии древнерусского читателя не располагались в порядке своего появления, они существовали вне времени.
Средневековый читатель воспринимал любой текст как non-fiction, как «то, что было в реальности». Это была книжность реального факта, а точнее – факта, который считался реальным. Следует отметить, что реальностью являлось не только то, что было, но и то, что должно было быть. Примеры средневекового отождествления должного с имевшим место предоставляет древнерусская агиография. Автор жития исходил из того, что подобие новопрославленного святого его небесному покровителю выражается не только в имени, но и в словах и поступках. Это и было основанием для использования текста одного жития в другом.
«Реальность» являлась, в сущности, одним из топких мест Средневековья. С одной стороны, многое из того, что тогда входило в сферу «реального», сейчас едва ли было бы к ней отнесено. С другой стороны, совершенно исключался вымысел – даже художественный: древнерусская литература не признавала его (вымысел – грех) ни в каком виде.
Подчеркну, что все особенности средневекового восприятия, о которых мы говорили, – это особенности внехудожественного восприятия текста; понятие же художественности в полной мере свойственно лишь Новому времени. Это понятие неотделимо от присущей Новому времени идеи прогресса, подразумевающей смену одних художественных достижений другими. Несмотря на то что в древнерусских текстах присутствуют элементы художественности (повторы, анафоры и эпифоры, игра слов и т. д.), эстетические качества текста еще не осознаются как самоценные. Умение писать литературно еще не становится предметом специальных размышлений.
Таковы, если коротко, черты средневековой русской литературы, которые, как уже было сказано, во многом соответствует чертам западного Средневековья. Перейдем к новейшей русской литературе – в ее соотношении со средневековой поэтикой.
Говоря о своеобразии литературы постсоветского периода, чаще всего упоминают философию и поэтику постмодернизма. В самом деле, то новое, что пришло в русскую литературу этого периода, связано с постмодернизмом. Являясь авангардом современной литературы, постмодернизм в то же время не определяет ее полностью. В разных текстах постмодернистская поэтика проявляет себя в разной степени, а нередко вообще не проявляет. Я не ставлю своей задачей рассматривать специфические проблемы постмодернизма или определять генезис и особенности русского постмодернизма. Для целей этой статьи достаточно апеллировать к тем общим положениям, которые не вызывают особых разногласий.
Соблюдая определенную симметрию в рассмотрении древнего и нового материала, начну с проблемы фрагментарности. Центонный характер современного текста не подразумевает дословного воспроизведения предшествующих произведений. Эти произведения представлены обычно аллюзиями, цитатами, пересказом и т. д. Особый тип – стилевое цитирование, яркие примеры которого мы находим в творчестве Владимира Сорокина. В его текстах мы встречаемся чуть ли не со всей русской литературой – от Средневековья до классиков XIX и XX веков.
Вместе с тем, ничто в рамках постмодернизма не препятствует и текстуальному заимствованию. Постмодернистский способ мышления в определенном смысле освобождает текст от обреченности быть собственностью и возвращает его к тому, что Карл Крумбахер применительно к Средневековью назвал «литературным коммунизмом». Следует подчеркнуть, что сознание Нового времени не совпадает ни со средневековым, ни с постмодернистским. В понятийной системе Нового времени текстуальное заимствование без ссылки на источник может существовать только в статусе плагиата. В этом отношении показательны недоразумения, сопровождающие выход произведений одного из признанных современных прозаиков Михаила Шишкина. Критики традиционалистского направления отказались принимать использованные Шишкиным приемы. Наиболее острой оказалась реакция на то, что в его романе «Венерин волос» использован фрагмент воспоминаний Веры Пановой «Моё и только моё».
Как уже было отмечено, прямо или косвенно цитаты Средневековья в большинстве случаев замыкались на Священном Писании. В отсутствие подобной замкнутости в Новое время роль суперкниги до некоторой степени выполняет литература как целое – по крайней мере, те тексты, которые способны быть узнанными. Цитата становится своего рода знаком принадлежности к литературной традиции. Подобно тому как средневековый агиограф Епифаний Премудрый сплетает жития святых из библейских цитат, современные авторы создают свои тексты из литературных цитат. Ярким примером этого может служить роман Владимира Березина «Путь и шествие».
Как и в средневековой письменности, тенденция к дроблению и цитатности сопровождается в современной литературе не менее мощным движением к объединению. Ощутимо вырос интерес к сборникам, включающим в себя тексты разных авторов – прежде всего тематическим (таким, например, как сборники журнала «Сноб»: «Всё о моем отце» (2011), «Всё о Еве» (2012), «Красная стрела» (2013), «Ностальгия» (2014), «Всё о моем доме» (2015), ставшие бестселлерами). В области нон-фикшн ситуация очерчена еще более резко. Востребованность изданий энциклопедического типа, словно напоминая о популярности древнерусских энциклопедических сборников, достигла невиданных прежде масштабов.
Фрагментарная структура многих современных текстов открывает возможности и для разговора о «смерти автора», начатого применительно к современности Роланом Бартом. Несмотря на мрачноватый оттенок, выражение «смерть автора» отражает вполне определенную тенденцию современной литературы, перекликающуюся с тем, что было в Средневековье. И хотя автор новейшего времени, в отличие от средневекового, не устраняется от подписи текстов (и получает, замечу, гонорар), ослабление авторского начала, столь долго утверждавшегося Новым временем, очевидно. Автор не только становится до определенной степени редактором прежних текстов, но и осознаёт это. Тем самым он с неожиданной, постмодернистской стороны примыкает к средневековой традиции, в которой автор является не столько создателем, сколько посредником. Он, так сказать, подает блюдо из овощей, выращенных предшественниками.
Благодаря интернету текстам была возвращена средневековая открытость, отобранная книгопечатанием Нового времени. Собственно, само книгопечатание возникает именно тогда, когда текст ощущает потребность в защите своих границ и структуры. Некоторые произведения (например, роман «Люди в голом» Андрея Аствацатурова) уже создаются в блогах, и даже если какой-то их этап фиксируется печатным изданием, ничто не мешает этим текстам по-летописному продолжать свое развитие в интернете.
Обратимся к еще одной важной теме, уже затрагивавшейся выше на древнерусском материале, – теме реального. Главное, что бросается в глаза при взгляде на современную литературную продукцию, – это ее несомненное тяготение к невымышленному. Прежде всего речь здесь может идти о литературе, обозначаемой всё еще очень размытым термином нон-фикшн. Помимо всего того, что по определению не принадлежит к художественной литературе (от поваренной книги до учебника по алгебре), существует обширная область того, что находится на пограничье и способно пересекать границу в ту или иную сторону.
Это пограничье ощутимо расширилось за счет биографической и автобиографической прозы, претендующей на повышенную степень реальности описываемого. Помимо чисто мемуарной литературы, имеющей свою нишу в любые времена, в современной словесности популярны тексты, ставящие знак равенства между автором и повествователем (Андрей Аствацатуров, Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов и другие). Писатели первого ряда – Павел Басинский, Дмитрий Быков, Алексей Варламов, Александр Кабаков, Валерий Попов, Евгений Попов, Захар Прилепин – создают биографические книги, отмеченные широким читательским интересом, а нередко и литературными премиями. Пору нового расцвета переживает серия «Жизнь замечательных людей» – об этом говорит не только количество издаваемого, но и – опять-таки – имена авторов. Возникают, наконец, успешные литературные проекты, предполагающие максимальное сближение с реальностью. Один из них – книга Антона Понизовского «Обращение в слух» (2013), составленная из записанных скрытым микрофоном реальных рассказов, подвергшихся литературной обработке.
Симптоматично решение Нобелевского комитета присудить премию 2015 года Светлане Алексиевич. Книги Алексиевич многими рассматриваются как публицистические, документальные, а потому не художественные и не литературные. Между тем, вопрос о принадлежности их к литературе не столь однозначен. Подобно большому городу, поглотившему окружающие деревни, последние десятилетия литература сильно расширила свои границы. Вполне возможно, что книги Алексиевич пребывают уже в пределах этих границ.
В современном литературном обиходе возникает понятие «новый реализм». Несмотря на то, что этим термином обозначают себя по меньшей мере три группы разных писателей, появление его симптоматично. Существует четко выраженный культурный запрос на «реальность», связанный, надо полагать, с определенной девальвацией выдуманной действительности Нового времени.
Строго говоря, вымысел литературы Нового времени не был в полной мере вымыслом. По большому счету он тоже являлся разновидностью реальности. Придуманные автором события в то же время были реальными – на чем-то ведь основывался авторский опыт. Скажем так: это были события, происходившие в другом месте, в другое время и перенесенные на страницы произведения. Это была реальность, иначе структурированная. Реальность, разложенная на элементы и иначе собранная, иными словами – условная реальность. Если угодно, то, что условились считать реальностью.
Особенность многих нынешних текстов как раз в том и состоит, что они всё более стремятся отражать безусловную реальность. В этом – еще один пункт их сходства со Средневековьем, тексты которого без зазоров укладывались в определение нон-фикшн. Движение в сторону нон-фикшн и «новый реализм», с одной стороны, и противопоставленное этому деструктивное начало постмодернизма – с другой, – суть разные ответы на одну и ту же проблему – девальвацию «реальности» литературы Нового времени. И это является общемировой тенденцией.
Слово Нового времени соотносится с реальностью, в то время как слово постмодернизма, подобно слову Средневековья, соотносится прежде всего с реальностью предшествующих текстов. Текстовая реальность – тоже реальность, поскольку читательский опыт – это тоже жизненный опыт. Этот опыт, разумеется, присутствует и у человека Нового времени, но только постмодернизм открыто (часто – иронически) признаёт первостепенную важность этого опыта. «Реальность» художественного текста постмодернизм возводит в абсолют, доводя ее до абсурда и тем самым разрушая.
То деструктивное начало постмодернизма, о котором шла речь выше, очевидным образом было свойственно лишь его начальной фазе. От разоблачения и разрушения реальности Нового времени постмодернизм переходит к созиданию новой реальности. Может быть, именно в этой точке постмодернизм перестает быть постмодернизмом, переходит во что-то другое, чему пока нет названия.
Разрушая условную реальность литературы Нового времени, постмодернизм взрывает вымысел как таковой. Художественному миру не хватает достоверности, и он наполняет себя реальностью или симулирует ее. Таким образом, вопрос «реальности» описываемого неизбежно приводит нас к проблеме художественности. Точнее, к признанию того, что художественность в привычном смысле – том смысле, который развивало Новое время, – начинает исчезать. В настоящее время можно говорить если не о смерти художественности, то о ее размывании. Литература некоторым образом стремится к дохудожественному состоянию, которое повторится на новом этапе – с памятью о преодоленной художественности.
После размывания художественности Нового времени будет создаваться новая художественность и новая литература. К концу XX века слова оказались обременены дополнительными значениями – настолько громоздкими, что первоначальный смысл слова был под ними безвозвратно погребен. Под грузом литературной традиции слова изнемогали: невозможно было употребить слово без того, чтобы не вспомнить всех, кто его употреблял до этого. Собственно говоря, постмодернизм тогда и возник, когда пользоваться словами стало невозможно. Эта гроза стала очистительной.
Сказанное не означает, что «пересозданию» в одночасье подвергнется вся литература – думать так нет оснований. Сходство современного этапа со Средневековьем состоит не столько в том, что словá снова «ничьи» и доступны для использования, сколько в том, что литература становится по-средневековому неоднородной и в определенном смысле без-граничной. Существует и, видимо, долгое время будет существовать обширный пласт консервативной литературы, стилистически слабо окрашенной. Значительная часть новейшей литературы, как и в Средневековье, становится литературой реального факта – или факта, который мыслится реальным. Эта сфера расширяется за счет нон-фикшн. В сущности, граница фикшн и нон-фикшн, литературы и не-литературы, становится довольно зыбкой и играет всё меньшую роль.
Размывание художественности идет не только по линии стирания границ между фикшн и нон-фикшн, поскольку фикциональность сама по себе не определяет художественности, а, скорее, сопутствует ей. По-средневековому стирается также грань между профессиональным и непрофессиональным текстом, между элитарным и массовым. Особую роль в появлении новых текстов стал играть интернет. К созданию текстов подключились те слои населения, которые прежде были обречены на молчание. Можно спорить о том, благом ли стало то, что они обрели голос, но то, что голосов стало больше, не вызывает сомнения. По подсчетам литературного критика Сергея Чупринина, только тех, кто считает себя литератором, сейчас в России около 700 000. Количество же блогеров подсчету, видимо, не подлежит.
Как и в Средневековье, мир на современном этапе становится текстом, хотя в каждом из случаев это разные тексты. Средневековый мир читался и толковался как состоявшийся текст – текст, написанный Богом, исключающий непродуманное и случайное. Ключом к этому тексту было Священное Писание, которое помогало увидеть и истолковать знаки, щедро рассыпанные в повседневности. Для того, кто сейчас завершает эпоху Нового времени, мир – это набор цитат, литература, отразившая его целиком и вразбивку. Но на этом этапе рождается и восприятие мира как потенциального текста, который творится вместе с бытием. Такое восприятие присуще, например, блогеру, описывающему минута за минутой прошедший день. Еще длящееся событие заранее переживается им как текст, который должен быть записан.
Несмотря на то что многие функции литературы (например, развлекательную) взяли на себя кино, телевидение, компьютерные игры и т. д., общая текстовая масса увеличилась. В этой магме текстов то, что мы привыкли считать собственно художественной литературой, занимает сейчас относительно скромное место. Да и эта литература зачастую стесняется своей литературности. Портрет, пейзаж и прочие «признаки художественности», казавшиеся неотъемлемым атрибутом литературы Нового времени, в новейших текстах не являются чем-то само собой разумеющимся.
Подобно средневековой письменности, современной литературе свойственно смешение стилей и жанров. Нехудожественные по своему происхождению фрагменты соседствуют с художественными в пределах одного текста. Разумеется, «нехудожественные» фрагменты в современных текстах обретают художественность контекстуально, но в самой легкости этого смешения без труда угадывается Средневековье.
Создание новых текстов (а значит, и новой поэтики) в эпоху Нового времени в той или иной степени означало отрицание прежних произведений и прежней поэтики. Бытование этой литературы зиждилось на идее эстетического прогресса, предполагающего смену одного стиля другим. В Средневековье, не знавшем идеи прогресса ни в общественной жизни, ни в эстетике, старое и новое не противопоставлены: новые тексты инкорпорируют старые. Такого же рода симбиоз мы видим в литературе постмодернизма, не отторгающей текстов предшественников, но делающей их частью себя. Подобно тому, как в Средневековье это позволяла делать внехудожественная природа большинства текстов, процесс инкорпорирования в нынешних условиях также сопровождает преодоление художественности литературой.
Прогрессистский тип мышления, господствовавший всё Новое время, не кажется теперь единственно возможным. Ощущение конца истории выражено как в чрезвычайной популярности антиутопий, так и – парадоксальным образом – в либеральной философии, не лишенной утопических черт (Френсис Фукуяма). И то, и другое несовместимо с прогрессистским мировосприятием Нового времени. Это то, что приходит с новой культурной эпохой и сближает ее со Средневековьем. Всякое время в Средние века мыслится как потенциально последнее. Даже если оставить за скобками периодическое ожидание конца света, в Средневековье не было принято говорить о будущем, и уж во всяком случае – о светлом будущем.
Свойственное современной культуре, выражаясь в духе Дж. Барнса, предчувствие конца имеет свои основания. Применительно к нашей теме можно предположить, что период литературы Нового времени действительно заканчивается. Судя по всему, культуру ожидает не просто очередная смена типа художественности, как это было при смене великих стилей Нового времени. Вполне вероятно, что мы действительно находимся в начальной фазе новой формации, которой пока нет имени.
Некоторые из перечисленных черт сходства средневековых текстов с текстами новейшими можно в той или иной степени найти и в литературе Нового времени. Но, как кажется, дело здесь в степени проявленности этих черт, поскольку именно степень говорит о значимости и зрелости явления. Некоторые черты сходства могут показаться случайными. Взятые по отдельности, они как будто и в самом деле случайны, но в своей совокупности заставляют еще раз задуматься, не кроется ли за этим закономерность.
Средневековье сменилось Новым временем, и письменность сменилась литературой. Прямое «следование за» предполагает прежде всего «отталкивание от» и обращение к тому, что было до этого. Так, дети зачастую оказываются похожи не на родителей, а на дедушек и бабушек. Новое время в литературе развивало индивидуальное начало, оно стало временем необходимого разграничения и обособления – текстов, авторов, читателей. Тексты приобрели границы, авторы – индивидуальный стиль, а читатели – соответствующие их склонностям сегменты книжной продукции. Нынешний этап развития культуры доказывает, однако, что и это положение вещей не окончательно. Как показывает проведенный анализ, никогда еще послесредневековая литература так близко не соприкасалась со средневековой, как сейчас.
Разрушив традицию, постмодернизм сам становится традиционным, превращается в тот язык выражения, на котором говоришь, не очень задумываясь о его, языка, собственных качествах. Вполне возможно, мы уже идем по средневековому пути и являемся свидетелями нового создания литературы. Я бы не отважился сказать, что от литературы мы сейчас в полной мере переходим к письменности. Речь, скорее, может идти о том, что наступающая эпоха является синтезом Средневековья и Нового времени. Можно утверждать, что наступает время, очень Средневековью созвучное, рифмующееся с ним.
Из жизни полиглотов
Встречал я людей, которые «Антигона» читали как «Антинога», считали, что кинолог – это специалист по кино, а полиглот – обжора. Поговорим о полиглотах, ведь даже те, кто это слово не связывают с глотанием, знание языков не всегда считают великим преимуществом. А зря.
На строгое отношение к полиглотам я впервые обратил внимание в Ясной Поляне – во время экскурсии, которую наши тамошние коллеги проводили для сотрудников Пушкинского Дома. Как-то так получилось, что к нашей группе примкнула чета тульских пенсионеров – Мария, помнится, и Николай. Это были благодарные слушатели. Обозначая внимание, они кивали в такт речи экскурсовода, кое-что записывали. Так, я заметил, что на Марию произвело впечатление сообщение о том, что Толстой знал пятнадцать языков. «Правда, – тут же оговорилась экскурсовод, – в совершенстве только три: французский, английский и немецкий». Эта информация показалась Марии достойной записи.
После экскурсии я отчего-то замешкался – и увидел их, спускающихся рука об руку по лестнице. Парное движение, замечательный кинокадр. Одухотворенное лицо Марии: «Вот, Коля, человек знал пятнадцать языков!» На середине лестницы пара остановилась. «Маш, – он посмотрел на нее не без сарказма, – но в совершенстве-то только три». Бескомпромиссно, хотя и не без ревности. Знай свое место, полиглот.
Между тем, мне известны случаи, когда полиглоты приносили и прямую пользу. Недавно, в Страстной четверг, когда в церкви читаются Д венадцать Евангелий, я вспомнил историю, рассказанную мне моим добрым товарищем, переводчиком Дмитрием Петровым. Однажды в Риме он вел курс итальянского языка. Курс был предназначен для соотечественников, хотя, не сомневаюсь, Петрову было чему научить и итальянцев. По окончании занятий (а это был вечер Страстного четверга) всей группой они решили пойти в русскую церковь, что находится недалеко от вокзала Термини.
Церковь была полна народу, и вошедшим удалось найти место лишь у самого входа. Вскоре в их направлении двинулся один из священников. Вежливый Дмитрий, пропуская его, посторонился было, но оказалось, что священник шел именно к нему. «Вас ждет настоятель», – сказал он полиглоту. Через мгновение священник рассекал толпу в обратном направлении, крепко держа Дмитрия за руку.
Поприветствовав Петрова, настоятель перешел к делу: «Двенадцать Евангелий мы читаем обычно на двенадцати языках. В этом году – так уж сложилось – нам не хватает немецкого и английского. Вот вы нам и поможете – пусть это будет вашим послушанием». Настоятель спросил, получал ли раб Божий Димитрий когда-нибудь благословение участвовать в литургии – и носит ли он крест. Благословения Петров не получал, но крест носил. Настоятель благословил его, выдал ему облачение чтеца – и Дмитрий свое послушание исполнил. Вслед за древнееврейским, греческим, латинским, церковнославянским, русским, грузинским, румынским, итальянским и т. д. – чтение Двенадцати Евангелий прозвучало в церкви Святого Николая также на немецком и английском.
Потом настоятель рассказал Петрову, что, исчерпав земные возможности по поиску англо-немецкого чтеца, он обратился с молитвой к Богу. Это был крепкий в вере человек – из тех, кто (вспомним чеховскую историю), выходя молиться о дожде, берет с собой зонтик. Понятно, что, получив немедленную помощь, он не очень-то удивился. «Но как вы узнали, что я владею языками?» – изумился Петров. «Очень просто, – ответил настоятель. – Мои прихожане учат итальянский по Вашей программе на телеканале „Культура“».
Изучение языков – процесс длительный и трудоемкий. Здесь (страшно подумать) даже взятку давать бесполезно, потому что в языке нет обходных путей. У того же Дмитрия Петрова во время нашего совместного выступления как-то спросили, можно ли выучить язык во сне. «Можно, – уверенно ответил Петров. – Но у этого метода есть существенный недостаток: когда просыпаешься – всё забываешь».
Иностранному языку трудно не только учиться, но и обучать. В молодости мне также случилось преподавать русский иностранцам. Бывали дни, когда я чувствовал, что мои возможности на пределе. Особенно – когда речь шла о немцах, которые, ценя логику и систему, по любому лингвистическому поводу требовали от меня общего правила. Я искал эти правила, но, поскольку в пособиях их часто не оказывалось, я начинал выводить их сам, перебирая в памяти весь доступный мне материал. В таких ситуациях я испытывал синдром сороконожки, поскольку во многих случаях правила просто не выводятся. Как не выводятся они для всех сорока ног задумавшегося насекомого.
Да, язык – это система, но не механическая, а живая, и, значит, полная исключений и противоречий. Аналогия в языке значит больше, чем логика или этимология. Есть, скажем, в народном языке слово «лебедить». Это переосмысление слова «лебезить» (однокоренное – лобзать), намекающее на избыточную трепетность лебедя. Но народная этимология поставляется вовсе не только «простыми людьми». Самый известный пример – вполне интеллигентское слово «довлеть». Довлеть – это, вообще говоря, быть достаточным (однокоренное слово – довольно). Иллюстрируя это значение, один мой коллега говорил, что кому-то довлеет стакан водки, а кому-то – два. Но почему же, спрашивается, это слово приобрело значение, близкое к «тяготить»? По одной простой причине: оно похоже на слово «давление». В данном случае – давление в нефизическом смысле. Какая уж тут логика…
Вывод – один. Он напоминает напутствие молодоженам: не стóит близкому человеку навязывать свои правила. Нужно его просто любить, слышать и принимать таким, какой он есть. Это – и лучший способ поладить с языком. И уж, конечно, не бояться.
В этом отношении положительным примером является еще один полиглот – Генрих Шлиман. Основой его метода было бесстрашие по отношению к языку. В каждой посещаемой им стране Шлиман с первого дня начинал говорить на ее языке. Кому-то это может показаться невозможным. Но казалось ли кому-то возможным найти Трою на основании мифа? А он нашел. Учите языки: обязательно что-нибудь найдете.
Информация и деформация
Волга впадает в Каспийское море. Пушкин родился в 1799 году. Расстояние от Петербурга до Москвы – 634 километра по прямой. Это примеры информации, которая соответствует действительности. С этим никто не спорит. Кажется, именно последнее обстоятельство в современном мире является гарантом истинности. Если бы спорили, информации, боюсь, не поздоровилось бы.
Порой ошибочно считают, что есть бесспорные истины. Бесспорны они по той простой причине, что о них не спорили. Не было пока таких групп населения, которым бы указанные истины мешали. Они напоминают неуловимого Джо, который только потому неуловим, что его никто не ловит.
Например, в Средневековье бесспорным считалось то, что земля плоская. В качестве особого мнения существовала точка зрения о том, что земля – шар. Получив такую информацию, выдающийся византийский книжник Косьма Индикоплов только посмеялся: если бы земля была круглой, то люди на противоположной стороне земли должны были бы ходить вверх ногами. Он называл их антиподами. И, положа руку на сердце, по тогдашнему состоянию знаний о мире (VI век) его позицию следует признать предпочтительной: за ней стояла очевидная логика.
Взгляды Косьмы не покажутся столь уж экзотическими, если вспомнить, что два крупнейших государства по обе стороны океана ныне рассматривают друг друга как антиподов. В XXI, напомню, веке. До отрицания сферичности земли еще не дошло, но информация о хождении вверх ногами уже распространяется.
Беда информации как таковой в том, что в самые разные времена она упорно рассматривается как знак чего-то другого. Так, гелиоцентрическую систему в Средневековье связывали с уходом от истинной веры, так же как сейчас, допустим, людей либеральных убеждений принято обвинять в отсутствии патриотизма. В этой связи напомню, что верующие в настоящее время считают землю круглой, а либералы ряда постсоветских стран являются по совместительству убежденными националистами.
Качества знака приобрел Исаакиевский собор, неожиданно оказавшийся в центре противостояния «оппозиционеров» и «лоялистов» (термины, разумеется, условны): отношение к его передаче Церкви странным образом маркирует социальную ориентацию. Предвидя грядущие споры, политически неангажированный Монферран поместил на фронтоне собора инструкцию по применению: «Храм Мой храм молитвы наречется», но позиция над схваткой уже не принимается.
Самые, казалось бы, абстрактные материи в одночасье могут стать предметом ожесточенных споров. Таяние арктических льдов, открывшее новые возможности добычи углеводородов, породило всплеск интереса к геологии: никогда еще так пристально не смотрели на границы шельфов. Распад Югославии обернулся повышенным вниманием к империи Александра Македонского: имеет ли право современная Македония так называться? Не говорю уже о результатах Второй мировой войны: попытки их пересмотра вызваны интересом не к прошлому, а к настоящему. Еще в большей степени – к будущему.
Явления теряют свою сущность и становятся манифестацией чего-то другого. В стороне от этого процесса не остались даже нормы русского языка, хотя «Беларусь», «в Украине», два «н» в названии эстонской столицы введены в обиход отнюдь не лингвистами. Не спортсменами придуманы массовые, без доказательств персональной вины, дисквалификации олимпийцев, поскольку дело здесь не в олимпийцах. Недалек, видимо, тот час, когда лунная проблематика из обсерваторий переместится в военные ведомства, и выражение «свалился с Луны» приобретет дополнительный зловещий смысл.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что информация – дама несвободная, и связи ее непредсказуемы. В условиях, когда тебя постоянно используют, трудно сохранять невинность. Порой информация имеет лишь один источник – воображение, но это крайний случай: незабываемая пробирка Колина Пауэлла с белым порошком вовсе не является нормой. Существуют гораздо более изящные приемы, учитывающие наличие реальных фактов. Такой подход не игнорирует действительность – он ее деформирует.
Одним из методов деформации является помещение героя репортажа в негативный контекст. Показав человека, говорящего правильные, но нежелательные для производителя информации слова, могут добавить, что, по некоторым сведениям, он бьет свою жену. Ложь вроде как небольшая, но она уничтожает говорящего со всеми его словами. Если по тем или иным причинам (скажем, при отсутствии жены) это сложно, есть беспроигрышный вариант – во время пламенной речи показать сидящую на мусорном бачке ворону. Действует безотказно.
Не меньший эффект дает разный объем сведений о своих и чужих. Потребитель информации подсознательно на стороне того, о ком больше говорится, – это азы теории СМИ. Отдельная история – «магнитное» отношение к материалу, ярким примером которого является подборка мнений с улицы. Дело даже не в том, что непонятно, кто те прохожие, которые делятся своим мнением (они вполне могут существовать) – изюминка метода в том, что эти мнения нерепрезентативны. Количество «за» и «против» определяется исключительно производителем информации.
Невиданные возможности манипуляции открылись тогда, когда в подаче информации текст стал уступать место изображению. Изображению очень легко стать знаком, и так же легко это превращение скрывать, поскольку что же может быть достовернее изображения? Хрестоматийный пример из области семиотики, науки о знаках: на экране показывают, как в Лондоне кричит человек. Кричит только он один, но создается впечатление, что кричит весь Лондон, потому что знак имеет свойство обобщать. И, как следствие, замещать действительность.
Если перевести этот пример в практическую плоскость, можно указать, допустим, на популярность крупных планов плачущих детей. Никто не знает, отчего они плачут, но плач их для всякого нормального человека невыносим. Он взывает к наказанию виновного – кем бы тот ни был. Поиски виновного в таких случаях долго не тянутся. Заказчику репортажа он, оказывается, давно известен. Так было обеспечено информационное прикрытие не одной военной интервенции.
Я живу рядом с домом известного петербургского автора, отличавшегося умением поставить вопрос. Мне не слишком нравится его проза, еще меньше – его ответ. Но вопрос его, в сущности, неплох: что делать? Проблема, о которой я пишу, глобальна, и в таком масштабе ее, боюсь, не решить. Ответ, на мой взгляд, нужно искать в сфере персональной.
Состоит он в необходимости очистить всякое явление от чуждых ему связей, как от ракушек очищают днище корабля. И тогда станет очевидно, что свое особое предназначение имеют соборы, дети, олимпиады, языковые нормы и всё сущее на земле. Оно не связано с политической целесообразностью. Важно лишь время от времени об этом вспоминать.
Знаки и значения
Говоря о знаковой природе искусства, обычно имеют в виду, что художественное произведение является той каплей, в которой отражается мир или, по крайней мере, его часть. Капля – знак, мир – означаемое.
Когда сообщают, что автор хотел выразить своим фильмом определенные вещи, фильм автоматически становится знаком. Так учит нас семиотика, наука о знаках. Когда же спрашивают, чтó, собственно, автор хотел сказать своим фильмом, знáком становится не фильм, а вопрос. Он – знак того, что к автору (пауза) много претензий и его, автора (вздох), ждут непростые времена. В частности, этот вопрос задают создателям фильма «История одного назначения». Иногда сами же и отвечают.
Говорят, Толстого спросили, о чем «Анна Каренина», и он будто бы сказал, что для ответа ему понадобилось бы написать роман еще раз. Независимо от авторства, bon mot указывает на сцепление сюжета, героев, мотивов, диалогов, портретов, пейзажей и т. д. Вынь что-то одно – все остальное зашатается. Художественное произведение – будь то роман или фильм – это единое и неделимое высказывание, не распадающееся на темы измены, труда или, там, железных дорог.
Зачем, спрашивается, растаскивать на куски нашумевший фильм «История одного назначения»? Не буду перечислять все запомнившиеся эпизоды: многие эту картину видели или, на худой конец, знают ее сюжет. Любимая сцена большинства критиков – банная: солдат демократично отпустили для помывки, а они – пожалуйста – подожгли баню, чтобы, значит, голые девки выбегали. Знаковая для многих сцена. Для демократов – антидемократическая (несостоятельность русского либерализма), для патриотов – непатриотичная (русскый-то человек там каков…).
Знаком какой идеологии является эта сцена? Да никакой. Свойство знака – обобщать, а здесь нет обобщения. Да, мы такими бываем. И не такими – тоже бываем. Можно было, конечно, в противовес показать и второе, но художественное высказывание не предполагает ни баланса, ни статистики.
То, какие мы разные, хорошо понимал Лесков, написавший рассказ «Бесстыдник». В одной компании герой Крымской войны рассказывает, как по милости воров-интендантов не было у солдат ни сносного обмундирования, ни провизии, ни оружия. Узнав, что при беседе присутствует петербургский интендант, он перестает стесняться в выражениях. И тогда героя начинает успокаивать как раз-таки интендант. Он говорит, что русский человек – как кошка: всюду на четыре лапы приземляется. Что, если бы он, интендант, был в Крыму, то стал бы героем, а герой, окажись он интендантом, жировал бы в Петербурге. А если бы, между прочим, «Бесстыдника» экранизировали, то мгновенно нашлись бы актуальные параллели: и Крым, и торговля армейским имуществом, и многое другое, о чем Николай Семенович не подозревал.
В советское время нас так приучили к эзоповому языку, что до сих пор нет сил перейти на другой. Знаки видели даже там, где их не было. Если уж кто-то показывал кукиш в кармане, то обсуждалось (шепотом назывались фамилии) значение каждого пальца. Но не этим ведь искусство входит в вечность. Еще Набоков призывал не разбрасывать по роману шпильки, потому что никто их впоследствии не будет собирать.
Главная задача искусства – рассказывать о человеке. Не о политической системе, не о придворных интригах, даже, по большому счету, не об истории. Рассказывать нужно об истории души. Фильм Авдотьи Смирновой, как я его понимаю, – об истории души Григория Колокольцева, мечущегося между любовью к ближнему, представлениями о долге, ну и, конечно, мыслями об удачной карьере.
Настоящий Колокольцев не был генеральским сынком. Отца-генерала, великолепно сыгранного Андреем Смирновым, создатели фильма придумали для того, чтобы свести в кинофокусе все мотивы решения главного героя. Можно было обойтись и без отца (тогда возникла бы другая драматургия), но режиссер и сценаристы сделали другой выбор, и имели на это полное художественное право.
Здесь мы подходим еще к одной проблеме, решавшейся в «Истории одного назначения»: она ведь в буквальном смысле – история. Создание фильма по реально происходившим событиям – это такая шахматная партия, в которой все ходы записаны до начала. Можно, конечно, подставить пешку-другую, но в целом не разбежишься. Тем более удивительно, что все фигуры в этой партии безупречны. И это не фигуры уже – человеки.
Сила художественного взгляда Авдотьи Смирновой в том, что в блистательной книге Павла Басинского он сосредоточился на проходном, вроде бы, эпизоде, занимающем три с половиной страницы. Объем достаточно большой, чтобы развернуться в полноценный сценарий, и достаточно малый, чтобы обеспечить творческую свободу. Павел Басинский, Авдотья Смирнова и Анна Пармас на «Кинотавре» заслуженно получили приз за лучший сценарий.
Да, в жизни все было несколько иначе. Жизнь смягчает драматургию. Вскоре после заседания суда большинство участников событий (кроме Шабунина, естественно) были приглашены в имение Толстых на именины Софьи Андреевны. Несвойственный драматургии тайм-аут, словно все решили перевести дух, – и это закономерным образом в фильм не попало. Но спустя какое-то время Стасюлевич действительно утопился – именно так, в шинели, только надев ее задом наперед, чтобы предельно сковать движения рук.
Примечателен и эпилог этой истории, частично вошедший в фильм. Какой-то он очень наш. Вскоре после казни могилу расстрелянного приказано было сровнять с землей, потому что возле нее начались народные радения: народ жалостлив. В советское время они продолжились на иной манер – прах Шабунина, как жертвы царизма, был перенесен на кладбище города Щекино. Новой власти требовались новые святые.
У этой истории есть множество измерений: юридическое, политическое, общественное (тогдашнее и нынешнее), историческое. «История одного назначения» имеет дело с самым высоким – нравственным – измерением и является его знаком. Все остальные – существенно ниже.
Загадка между бытом и бытием
Когда Михаил Шемякин сказал мне, что собирается иллюстрировать загадки, я, признáюсь, удивился. Он достал из стола книгу Дмитрия Садовникова «Загадки русского народа», изданную в 1901 году, и пару десятков готовых иллюстраций. В первый момент мне показалось, что принятое им решение также принадлежит к области загадок. Но когда я посмотрел рисунки, все недоумения рассеялись, и вопрос «Зачем?», адресованный Шемякину, не слетел с моих губ. Конечно – загадки, конечно – Садовников! И конечно же – гениальный Шемякин, который в известном смысле сам – загадка русского (отчасти – кабардинского) народа!
Я спросил, сколько всего будет иллюстраций. «Триста», – ответил Михаил. По количеству спартанцев, неожиданно подумалось мне. И ведь есть в загадках что-то спартанское. Среди фольклорных жанров они самые бескомпромиссные (либо отгадываешь, либо нет), самые неприхотливые (даже без рифмы обходятся), и – что важнее всего – закрывают собой трещины единого, по определению, мирозданья. Собственно, это даже не трещины – настоящие пропасти, если иметь в виду сопоставление повседневной утвари и мира как творенья, быта и бытия:
Синенька шубенка Покрыла весь мир. (Небо) Сито, Вито, Кругловито, Кто ни взглянет, Тот заплачет. (Солнце) Рассыпался горох По сту дорог, Никто его не сберет: Ни царь, ни царица, Ни красна девица, Ни бела-рыбица. (Небо и звёзды)В вопросе восстановления единства мира мы подошли к одной из существенных функций загадок. Они наделяют предметы зеркальными свойствами таким образом, что один предмет в той или иной степени является отражением другого – будь то явления разного порядка или вещи, принадлежащие к одной сфере. Вот как обозначается, допустим, пыль:
Серое сукно Тянется в окно.Еще одна бытовая загадка:
Шла свинья из Саратова, Вся исцарапана. (Терка)Языческая убежденность в сходстве разных вещей, отразившаяся в загадках, была с готовностью воспринята христианством с его универсалистским видением мира. Очень разные вещи потому и похожи, что при всех своих различиях они созданы по одним законам. По этой причине, например, описание свойств животных, бытовавшее еще в эллинистический период, без малейших трудностей перешло из одной историко-культурной эпохи в другую. Будучи снабжено христианскими толкованиями, это описание стало одной из популярнейших книг Средневековья («Физиолог»). Да, на первый взгляд сообщения «Физиолога» не вполне загадки, но ведь загадка предполагает не только вопросительную, но и повествовательную структуру. Считается, что в древнейших загадках вопросительный элемент вообще был несущественным. Главное в загадке – сопоставление. «Физиолог» рассказывает, скажем, о том, что львенок родится у львицы мертвым и только три дня спустя приходит лев и вдыхает в него жизнь. Так, говорит христианский комментатор, и Христос после распятия три дня лежал во гробе и только после этого воскрес.
Множество сопоставлений предлагает апокрифическая «Беседа трех святителей». Некоторые вопросо-ответные пары предоставляют, что называется, цифры и факты:
Григорий спросил: «Сколько в мире крупных островов?»
Василий ответил: «Семьдесят два острова, а на тех островах живут семьдесят два разных народа».
Григорий спросил: «Сколько костей в человеке?»
Иоанн ответил: «Двести девяносто пять костей и столько же суставов».
Другие пары «Беседы трех святителей» описывают мир в поэтической форме:
Что значит: двое стоят, двое идут, двое расходятся?
Двое стоят – небо и земля, двое идут – солнце и луна, двое расходятся – день и ночь.
Сходство, казалось бы, несходных явлений видит Толковая Палея, представляющая собой яркий образец древнерусской толковательной литературы. Так, трехдневное пребывание Ионы в чреве кита прообразует трехдневное пребывание Христа во гробе; сладость яблока, съеденного Адамом, противопоставлена горечи уксуса, выпитого Христом; Исав и Иаков символизируют Ветхий и Новый завет и т. д.
Мир человека Средневековья – и в не меньшей степени эпох, предшествующих Средним векам, – это мир знаков, которые необходимо правильно читать. Загадка – это означающее, разгадка – означаемое. Это позволяет вроде бы увидеть здесь первичность разгадки (некоторые исследователи ее и видят, полагая, что ответы всегда старше вопросов), но такой взгляд был бы, пожалуй, не совсем точен. Он полезен лишь в том отношении, что отрицает иллюзию первичности вопросов. Сама идея первичности связана со временем, как связана со временем идея причинно-следственности. На самом же деле видеть в загадке причину разгадки у нас ровно столько же оснований, сколько для того, чтобы видеть дело ровно наоборот. Двухчастная структура (загадка-разгадка, вопрос-ответ) дехронологизирована, она говорит о двуединстве, в котором одна часть немыслима без второй.
Вот почему не тайна, а сопоставление как таковое – главная пружина загадки. Это обстоятельство подтверждается, например, успехом детективного сериала «Коломбо», особенностью которого является то, что убийца известен изначально. Зрителя интересует не разгадка сама по себе, а процесс ее нахождения и возвращения двуединого существования загадки и разгадки.
Образцом для иллюстраций Михаила Шемякина послужил русский лубок – художественно им освоенный и по-шемякински деформированный. Это давняя традиция обращения элитарного искусства к так называемой «низовой культуре». Здесь достаточно вспомнить Марка Шагала, многие известные полотна которого также восходят к «народным картинкам». Не являясь специалистом в живописи, замечу лишь, что темы и стиль иллюстраций Шемякина соотносимы прежде всего с крестьянским бытом. Это, собственно говоря, соответствует ареалу распространения загадок ко времени их записи. Крестьянство справедливо расценивается Шемякиным в качестве основного носителя фольклора и – шире – национальных традиций. Между тем, у загадки в истории был длинный путь, крестьянством вовсе не ограничивавшийся.
Об этом пути Шемякин, изваявший сфинксов, поставленных против «Крестов», знает как никто другой. По нашим меркам загадка сфинкса не была сложной. Предлагалось всего-навсего угадать, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером – на трех. Наказание за недогадливость – смерть. Остается лишь удивляться большому количеству жертв – совершенно несоразмерному степени трудности загадки. Загадка шемякинских сфинксов оказалась куда сложнее. Она касается той земли, перед которой друг Шемякина Владимир Высоцкий стоял «как перед вечною загадкою». Вечная загадка не то чтобы совсем не решается – если есть загадка, то обязательно должна быть разгадка, – просто она решается вне пределов исторического времени. О богатой истории загадки Михаил Шемякин знает и как автор «Карнавалов Петербурга», потому что карнавал – тоже ведь род загадки.
История эта в самом деле богата. Загадки, как и большинство фольклорных жанров вообще, изначально имели культовый смысл. Загадки принято связывать с ритуалами, сопровождающими смерть, обряды плодородия, половую жизнь, инициацию и т. д. Этим, в частности, объясняется прочная связь загадки с табу. Эта табуированность порой распространяется даже на те загадки, которые по своей тематике ее вроде бы не предусматривают. Так, некоторые бытовые загадки оказываются подчеркнуто эротичными:
Маленький Филимончик Всем под подольчик. (Порог) Тычу, потычу, Ночью не вижу, Дай-ка, невестка, Днем попытаю.Это замок и ключ, символ в фольклоре известный, намекающий в данном случае и на непростые отношения разных поколений, живущих в одной избе.
Частым действующим лицом загадок являлся дедушка Сидор, отличавшийся особой подвижностью:
Дедушка Сидор На бабушку прыгал.В данном случае в облике дедушки Сидора предстает коромысло. В другой загадке именем дедушки обозначается сон:
Дедушка Сидор Гнет бабушку сидя: Эдак-то негоже, Давай-ка лежа.Есть, наконец, загадки, разгадать которые вроде бы невозможно:
Один говорит: «Полежим!» Другой говорит: «Постоим!» Третий говорит: «Побежим!» (Дорога, верстовой столб, ветер)Другой пример:
Стоит добро; В то добро Зашло добро; Я взял добро Да добром добро Из добра выгнал вон. (Корова во ржи)Еще более сложная конструкция:
Шел я дорогой: стоит добро И в добре ходит добро. Я это добро взял да приколол, Да из добра добро взял. (Лошадь и жеребенок в пшенице)Существование такого рода загадок оправдывается исключительно тем, что на них тоже имеется ответ. Их появление доказывает, что любой фрагмент бытия может быть зашифрован. На этом принципе основаны шуточные загадки современного детского фольклора. Например, описывается нечто зеленое, висящее на веревке, – отгадчик «сдается» и спрашивает, что это. «Селедка», – отвечает загадавший. «Почему зеленая?» – удивляется собеседник. Следует объяснение: «Моя селедка – в какой цвет захочу, в такой и покрашу».
Разумеется, и у такого типа загадок есть своя традиция. Если мы вновь вернемся к загадке о лошади с жеребенком в пшенице, мы не сможем не отметить структурное ее сходство со знаменитой загадкой Самсона из 14 главы Книги Судей. В убитом силачом льве завелся рой пчел, а с ними – мед, который Самсон ел. Это событие послужило ему основой для загадки, загаданной на брачном пиру: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое» (Суд. 14:14). Как известно, даже эта загадка была отгадана, хотя путь к разгадке не был прям.
В истории культуры у загадки было много разных функций, из которых одни приходили на смену другим. Загадки сопровождали культ, были тайным знанием или подтверждением мудрости. Недаром в Житии Петра и Февронии, тексте, в значительной степени ориентированном на фольклор, героиня говорит загадками. Кроме того, загадка поэтизировала быт, сопоставляя его с явлениями вселенского масштаба. Остраняя привычные вещи, она позволяла взглянуть на них новыми глазами. Отдельным важным ее качеством всегда была драматургичность, потому что загадка подразумевает диалог. Неслучайно важнейшие вещи, предназначенные для изучения, предлагались в вопросо-ответной форме – например, катехизис.
Функция загадки в современной культуре сведена преимущественно к развлечению и располагается этот жанр по большей части в детском сегменте фольклора. Здесь можно вспомнить примеры, давно уже ставшие классикой:
Город, где живет один мужчина и сотня женщин
(Севастополь)Можно вспомнить загадки-перевертыши, предполагающие два варианта ответа – при этом в качестве правильного выбирается тот, который не совпадает с вариантом отвечающего:
Ходят ли на балконе?
(Основана на созвучии слов «на балконе» и «на бал кони».)Некоторые из этих текстов отражают довольно спорные орфографические и орфоэпические варианты:
Летела сорока, а за нею сорок
(Сорок может якобы трактоваться как мужская особь сороки и как числительное.)Щека турка обагрилась кровью
(Сопоставляется с сомнительной «щекатуркой» (штукатуркой).)В моем детстве существовала и такая загадка. Задававший вопрос брался за пуговицу вопрошаемого и интересовался: «Слива или вишня?». Если ответом была «слива», вопрошавший объявлял, что «пуговица счастливая», и все кончалось благополучно. Если же выбор падал на «вишню», пуговицу безжалостно отрывали, объясняя, что «пуговица лишняя». Проводивший эту легкую экзекуцию чувствовал себя, вероятно, немного сфинксом. Наконец, относительно недавно мне пришлось услышать и совершенно недетскую загадку: «Днем кусает, ночью плавает» ( вставная челюсть). Сразу не отгадаешь.
Есть, впрочем, загадки, в отгадывании которых не помогает ни сообразительность, ни уловки. Даже вопрос здесь способен поставить только посвященный – не говоря уже о том, чтобы дать ответ. Это область прорицаний. Во всех отношениях загадочный персонаж Китоврас удивляет Соломона тем, что плачет при виде свадьбы и смеется, глядя, как человек выбирает себе сапоги на семь лет. Загадочное поведение Китовраса немедленно находит свое объяснение. Оказывается, ему известно, что жених не проживет и тридцати дней, а выбиравший сапоги на семь лет не проживет и семи дней.
Так же загадочны действия юродивых, забрасывающих камнями дома людей благочестивых и гладящих стены домов людей неправедных. В первом случае бесы изгнаны вовне, именно их и забрасывает камнями юродивый. Во втором – из домов изгнаны ангелы, они сиротливо стоят у стен, и юродивый просит их не покидать грешников. Действия юродивого потому и являются загадкой, что опираются на те связи между предметами, о которых окружающие не подозревают. Абсурдность загадки в глазах обычного человека – это результат, так сказать, недостаточной его информированности. Когда, согласно «народному» Житию Василия Блаженного, святой удивляет Ивана Грозного тем, что выливает поднесенную ему чашу на землю, разница между Василием и Иваном состоит как раз в степени их знания и – способности к чудотворению. Царь не догадывается о том, что ровно в это время в Новгороде разгорелся пожар и что пролитой чашей блаженный огонь погасил.
Неожиданное, выглядящее порой абсурдным сопоставление явлений в загадках, более всего, как кажется, и интересует Шемякина. «Предлагаемый проект, – пишет художник в предваряющем издание буклете, – это обращение к уникальной способности русского народа балансировать между абсурдом и реальностью, и умение рождать в своем творчестве фантасмагорические образы и миры. При помощи рисунков проект наглядно раскрывает этот феномен, обыгрывая сюрреалистические моменты, которыми пестрят загадки».
В сущности, рисунки Шемякина закрепляют абсурд как основное значение сопоставляемой пары. Отгадка – бытие предмета, загадка – инобытие. Шемякин закрепляет инобытие в рисунке, как бы уравнивая его с бытием, а, может быть, и ставя его выше, в вопросо-ответной паре давая предпочтение вопросу. Потому что правильно поставленный вопрос в искусстве, пожалуй, важнее ответа.
Близкие друзья Повесть
1
В межвоенные годы дружили родители трех детей – Ральфа Вебера, Ханса Кляйна и Эрнестины Хоффманн. Они познакомились на Северном кладбище Мюнхена, где могилы их близких находились рядом. Посещая кладбище в дни поминовения, семьи, бывало, встречались. Иногда вместе возвращались домой через Английский сад, потому что все три семьи жили недалеко друг от друга на противоположном берегу реки Изар. Со временем они стали встречаться и помимо кладбища.
Гуляя в Английском саду, заходили в биргартен «Аумайстер», где взрослые пили пиво, а детям заказывался оранжад. Выпив оранжада, дети убегали играть. Они были одного возраста.
– За соседним столиком сидит писатель Томас Манн, – сказал однажды отец Эрнестины Хоффманн. Не увидев отклика у присутствующих, он добавил: – Его рассказ «Смерть в Венеции» начинается рядом с нашим Северным кладбищем.
Глаза говорившего были прищурены, а голос – тих и гнусав. Было понятно, что речь идет не о рядовом явлении. Три семьи украдкой смотрели на писателя. Они видели лишь его спину. Его руку, несущую сигару к пепельнице. Край скатерти трепетал на августовском ветру, и время от времени рука прижимала этот край к столу. С каждым порывом ветра ощущался тонкий сигарный аромат. Подошедший официант прихватил скатерть скрепой. Наблюдавшим за писателем было приятно, что Северное кладбище ценят не только они.
Между семьями установилась молчаливая договоренность, и теперь на кладбище они приходили в одно и то же время. Они мыли мраморные кресты, вырывали выросшую у могильного цоколя траву и сажали цветочную рассаду. Ральф подкрашивал металлические части памятников. Все знали, что еще с шести лет его посещает учитель рисования.
– Вы можете себе представить, что когда-нибудь на Северном кладбище будем лежать и мы? – спросил Ханс у Ральфа и Эрнестины, глядя, как мыльная вода затекает в трещины камня, как смоченная поверхность становится глянцевой и яркой, а часть, еще не тронутая тряпкой, выцветает на глазах.
– Нет, – ответил Ральф.
– А я могу, – сказала Эрнестина. – И поскольку мы близкие друзья, предлагаю каждому дать слово, что он будет похоронен здесь. Мы не должны расставаться ни при жизни, ни после смерти. Вы даете мне слово?
– Даем, – ответили, подумав, Ханс и Ральф.
– В конце концов, это будет нескоро, – пожала Эрнестина плечами.
Ее немного задело, что они ответили не сразу. Кроме того, согласие Ральфа весило в ее глазах меньше согласия Ханса, ведь Ральф, судя по ответу, не верил в свою смерть.
Сохранились некоторые даты. Например, 10 июля 1932 года – день двенадцатилетия Эрнестины. Семьи гуляли по Английскому саду, а затем обедали в «Аумайстере». Семейство Кляйн подарило Эрнестине золотоволосую куклу Монику, которая умела плакать и закрывать глаза. Семейство Вебер преподнесло ей мяч, сшитый из разноцветных лоскутов кожи.
– Похоже, окружающие считают меня совсем еще ребенком, – прошептала мальчикам Эрнестина.
Дети ели мало, преимущественно – мороженое, сливы и персики. Вскоре они встали из-за стола и пошли играть в мяч. Сначала они бросали его друг другу. Их ладони встречали мяч с глухим звуком, изредка – со звонким шлепаньем. Мяч взлетал высоко, медленно оборачиваясь вокруг своей оси. Против солнца становился черным, как становилась черной луна, поглощавшая свет во время солнечного затмения. Игравшие в мяч наблюдали затмение два года назад при большом стечении народа здесь же, в Английском саду.
Они пинали мяч босыми ногами, и Эрнестина ушибла палец. Мальчики показали ей, как следует бить по мячу «щечкой». Они по очереди брали ножку Эрнестины обеими руками и прикасались ею к шершавой поверхности мяча. Эрнестина попробовала ударить правильно. Сначала мяч прокатился, лениво приминая траву. В этот раз у него не было явной цели, он никуда не спешил, его кожаные лоскуты слились в один неопределенный цвет. От второго удара мяч пулей вылетел из-под ноги девочки и скрылся в дальних кустах. Сидя на корточках, Ханс и Ральф смотрели на Эрнестину снизу вверх. Глаза ее блестели, а лицо было покрыто капельками пота.
Не говоря ни слова, она сорвалась с места и побежала за мячом. Мальчики молча следили за тем, как колыхались верхушки кустов. Так по пузырькам на водной глади узнают о перемещениях аквалангиста. Когда верхушки замерли, мальчики позвали Эрнестину, но она не ответила. Еще раз позвали и, не получив ответа, бросились к кустам. Царапая лицо и руки, преодолевали скрещение ветвей и представляли себя покорителями джунглей. В середине зеленого моря открылась маленькая поляна. На поляне стояла Эрнестина и держала в руках мяч. Аккуратно сложенная, рядом лежала ее одежда. Эрнестина была совершенно голой.
– Мы – близкие друзья, – сказала она, – и у нас не может быть тайн. Чтобы доказать это, мы должны друг перед другом раздеться.
Эрнестина перебросила мяч с руки на руку. Оба мальчика, замерев, смотрели на нее.
– Что же вы не раздеваетесь? – спросила Эрнестина.
Ральф нерешительно расстегнул рубаху. Одна за другой спустил лямки коротких баварских штанов и посмотрел на Ханса. Ханс покраснел. Ральф приостановился. Он смотрел на товарища, всем видом давая понять, что часть пути он уже прошел, но теперь ожидает того же и от него. Ханс покраснел еще больше и тоже спустил лямки. После этого оба раздевались быстро, словно наперегонки. Через минуту все трое стояли голыми.
Мальчики смотрели на Эрнестину. Ее лобок был покрыт светлым, словно приставшим, пухом (у них ничего такого не было). И мяч в руках. И левая нога слегка отставлена. Ритмично сгибалась в колене, как бы отбивая мгновения их молчания. И от этого движения подрагивали ее соски.
Глядя на Эрнестину, мальчики чувствовали головокружение. Они стыдились своих безволосых тел, стыдились этой затянувшейся минуты, догадываясь, что происходит нечто не вполне допустимое даже между близкими друзьями. Что-то не вполне пристойное. Непристойность состояла не столько в обнажении тайн Эрнестины, сколько в том, как она стояла. Как перебрасывала с руки на руку мяч.
Вернувшись к родителям, дети были молчаливы. Родители подумали, что они поссорились, но вмешиваться в дела детей не считали нужным. На небе быстро сгущались тучи. Чтобы успеть добраться домой до грозы, решили срочно собираться. Ветер, неожиданно холодный и сильный, трепал юбки женщин. Последнюю четверть пути шли под редкими, но крупными каплями. Вдалеке блестела молния, сопровождавшаяся неестественно поздним громом. Кукла Моника в руках матери Эрнестины плакала и закрывала глаза.
Однажды Эрнестина рассказала мальчикам про зубного врача Аймтербоймера. Усаживая Эрнестину в кресло, он неизменно поглаживал ее по попке, а когда сверлил зубы, как бы нечаянно касался ее груди. С отвратительной ритмичностью нажимал на педаль бормашины, и на лысине его появлялась испарина. Он промокал лысину гигиенической салфеткой.
– А еще он нацист, и это самое отвратительное, – сказала Эрнестина. – Давайте поклянемся, что ни за что на свете не станем нацистами. Пусть это будет еще одной нашей тайной.
Все поклялись. Отношение к нацизму в их семьях было разным.
Аймтербоймер возникал в рассказах Эрнестины и в последующие годы. Он вел себя вызывающе, несмотря на то что был женат и имел дочь грудного возраста.
– Вероятно, ему нравится твоя арийская внешность, – предположил однажды Ральф.
Белокурая Эрнестина покраснела.
– Я не хочу, чтобы меня ценили за внешность, – ответила она. – Тем более – такие слизняки и нацисты, как Аймтербоймер.
– Ты можешь пожаловаться родителям, – робко сказал Ханс. – Или сменить зубного врача.
– Знаешь, это было бы отступлением перед трудностями.
Эрнестина смерила его взглядом, полным сожаления. Ханс покраснел.
Ханс Кляйн. Долгое время он был ниже всех в классе и соответствовал своей фамилии. Ханса Кляйна одноклассники называли Ganz Klein [1]. Но с четырнадцати лет он начал стремительно расти. К шестнадцати годам догнал своего друга Ральфа, который всегда считался высоким.
Ральф Вебер. Несмотря на его явные способности к рисованию, родители хотели, чтобы он стал офицером. Хотел прежде всего отец, но мать не возражала. И хотя она боялась за сына (профессия подразумевала опасность), ей нравилось смотреть, как офицеры маршируют на парадах. В те времена никто не упускал возможности пощеголять в военной форме, и даже штатские люди нередко предпочитали одежду военного покроя. Таких предпочтений, впрочем, не было у Ральфа. Попытки Вебера-старшего заговорить о возможной военной карьере не находили в сыне ни малейшего отклика.
Эрнестина Хоффманн. Как это обычно случается, она повзрослела быстрее мальчиков. Эрнестина не стала красавицей, но обладала несомненной притягательностью. И хотя на нее заглядывались многие, всем остальным она предпочитала близких друзей – Ханса и Ральфа. Время от времени мальчики признавались Эрнестине в любви, но она отвечала, что это – любовь по привычке. А значит, не любовь, а привязанность.
Как-то раз (это было после окончания гимназии) Ханс собрал всю компанию в «Аумайстере» и сделал Эрнестине предложение. Глядя на опрокинутое лицо Ральфа, Эрнестина сказала:
– У нас необычная ситуация – с самого детства мы втроем. Я предлагаю необычное решение: давайте жить вместе.
– Как это? – не понял Ханс.
– Эрнестина хочет сказать, что она не боится условностей, – пояснил Ральф. – Я их тоже не боюсь.
– По-французски это называется l’amour de trois [2], – тихо сказала Эрнестина.
Она и Ральф смотрели на Ханса. Тот криво улыбался.
– La mort de trois [3]. По-моему, лучше уж так.
Ханс, оказывается, тоже учил французский.
– Одно другого не исключает, – попробовал пошутить Ральф. – Мы ведь обещали, что будем лежать на одном кладбище.
Ханс встал, расплатился с кельнером и ушел, не попрощавшись. Через два месяца Эрнестина стала его женой.
Когда это произошло, Ральф понял, что задыхается от любви. Эрнестина была его отобранным воздухом, исчезновение которого не заметить невозможно. Иногда ему казалось, что он полюбил ее только после случившегося, но ведь это ничего не меняло. Ссылаясь на занятость, Ральф отклонял приглашения своих друзей встретиться. Они понимали истинную причину отказов и приглашали его всё реже. Впрочем, сказать, что они не виделись, было бы не совсем верно.
Чуть ли не каждый вечер Ральф ходил к дому на Амалиенштрассе, где после свадьбы поселились молодые. Вжимаясь в нишу противоположного дома, Ральф видел, как в их квартире на втором этаже зажигается свет. Он следил за тем, как руки Эрнестины задвигают шторы, и его сердце падало. Шелк штор колебался на сквозняке, тускло отражая уличные фонари. Ральф прижимался затылком к шершавой штукатурке ниши. Не было ничего чувственнее этого колебания шелка. В кругу близких друзей близость Ханса и Эрнестины была наиболее ощутимой. Ральф ловил себя на том, что ему было больно не столько от их соединенности, сколько от своей отверженности.
Однажды, вернувшись домой, Ральф нарисовал их нагое стояние в кустах. Несмотря на прошедшие годы, память хранила картинку во всех деталях. Эрнестина. Ханс. Ральф. Он и сейчас мог бы быть рядом, если бы не Ханс. Странно, но к Хансу он не испытывал ничего плохого. Вероятно, понимал, что заслуга Ханса в звенящей остроте его нынешних чувств не уступает заслуге Эрнестины.
Известно, что Ральф перечитал «Вертера». То, что в школе ему казалось придуманным и слезливым, сейчас заиграло новыми красками. Ральф по-прежнему продолжал считать, что все неприятности на свою голову Вертер придумал сам (как придумал их Ральф в отношении Эрнестины), но на фоне той боли, которую он смаковал по капле, уже не имело значения, как именно она была вызвана. Это состояние длилось почти год. Потом оно прошло.
Ральф стал уставать от своей любви. Он больше не ходил к окнам друзей и тайно не следовал за Эрнестиной, когда она выходила одна. Но эта перемена не порадовала Ральфа. Жизнь его потеряла наполненность и как бы сдулась. Когда отец Ральфа в очередной раз заговорил о военном будущем сына, тот, к его удивлению, не возражал. Ральф чувствовал, что скоро начнется война, и ему было всё равно – с кем. Возможно, он подспудно надеялся, что война встряхнет его чувства.
Но война началась не сразу. Ей предшествовало тягостное время военной муштры, и это было не лучше штатского прозябания. Подготовка немецкого офицера состояла в чересполосице учебы и службы. После сдачи вступительных экзаменов в офицерское училище Ральф был направлен на год в пехотный полк солдатом. Служба была не столько трудной, сколько скучной. Собственно, трудности и были одной из немногих радостей Ральфа.
Многочисленные марш-броски он встречал в приподнятом настроении, потому что нагрузка на тело освобождала его дух и очищала разум. Он бегал по пересеченной местности в полной амуниции. Знал, что первые два-три километра бывает тяжело, но затем открывается второе дыхание. Он явственно ощущал это дыхание за спиной, словно в помощь ему, Ральфу, рядом дышало дополнительное «я», Ральф № 2, без которого ему бы просто не хватило воздуха. Слушая это дыхание, отрывистое и шумное, он наблюдал, как колеблются ветви деревьев, садятся на кроны птицы, а из травы выскакивают кузнечики. Все – медленно, все – одновременно, в такт ударам о землю его свинцовых сапог. А на границе поля волновались кусты, и ветер выворачивал их листья наизнанку, как снимаемое белье, а в кустах – там кто-то стоял, там ждал кто-то и дышал так же отрывисто и шумно, как Ральф…
Отношение будущего офицера к трудностям было замечено начальством и принято за служебное рвение. Первый курс училища Ральф окончил с отличием. После четырех месяцев теоретических занятий в Мюнхене он был направлен в другой полк – на этот раз ефрейтором. Через полгода вновь был вызван в Мюнхен, где получил звание унтер-офицера. Затем, как и в предыдущий раз, последовали четырехмесячные занятия и новый полк. В своем третьем по счету полку Ральф уже выполнял обязанности старшины роты. Через полгода его опять затребовали в Мюнхен, и всё повторилось в четвертый раз. Перед присвоением очередного звания Ральф почувствовал, что по-настоящему устал. И трудности его уже не увлекали.
Он был близок к тому, чтобы под каким-нибудь предлогом покинуть армию, но тут началась война. В войну нельзя было схитрить и сослаться, например, на здоровье. Человека, ушедшего из армии в такое время, неминуемо признали бы дезертиром – если не трибунал, то, по крайней мере, общественное мнение. Не приходится сомневаться, что общественное мнение той поры обладало явными признаками трибунала.
Погоны лейтенанта Ральф получал уже в Польше. Маршируя по варшавской брусчатке в составе своего полка, он ловил на себе испуганные взгляды с тротуаров. Впереди колонны ехал бронетранспортер. За ним чеканил шаг знаменосец, и на древке полкового знамени неистовствовала кисть. На макушке знаменосца плясала седая прядь. Голова его была темно-русой, и лишь одна непослушная прядь – седой. Знаменосец приковывал внимание стоявших на тротуаре. На его макушке сосредоточился и Ральф, которому по сторонам смотреть не хотелось. Было очевидно, что молодцеватость марширующих здесь никого не радует.
2
Россия встретила Ральфа блеском реки Буг сквозь ивовые заросли. Шум кустов покрывал в его ушах рев танков, а качание ветвей отвлекало от движения людей и техники. Присмотревшись, Ральф заметил, что часть ветвей перемещается вместе с техникой. Будучи закреплены на броне, движущиеся ветви оказались элементом маскировки. Ральф удивился тому, сколько неожиданного способны скрывать в себе кусты.
Для переправы через Буг наводили понтонный мост. Когда танки ехали по мосту, носы понтонов качались. Они напоминали качание гондол у причала Сан-Марко, где Ральф, случалось, гулял с родителями, приехав на каникулы в Венецию. Тот же плеск воды о блестящие борта, солнечные блики на волнах.
Однажды в Венеции они встретили Эрнестину с родителями. Эрнестина была в шляпе гондольера. С рассеянным видом смотрела на противоположный берег канала, и голубые ленты шляпы трепетали на ветру. Когда обе семьи обедали с видом на собор Святого Марка, Эрнестина смотрела на собор.
– Девочка стала задумчивой, – улыбнулась мать Ральфа.
– Скорее – стеснительной, – предположила мать Эрнестины.
При этих словах Ральф впервые поймал взгляд Эрнестины. Он знал, что его подруга не так стеснительна, как это может показаться.
Всё остальное в России на Венецию похоже не было. Особенно дороги. На грунтовых дорогах, по которым приходилось маршировать пехоте, можно было идти только в первых трех шеренгах. Все последующие скрывались в густой пыли. И уже никто не спасался от нее, когда приходилось отступать на обочину, пропуская бронемашины и танки. Такого количества пыли Ральф не видел еще никогда. Ее густой слой лежал на лицах солдат, делая их пепельными, бровастыми, лишенными мимики. Пыль забивалась под воротник, попадала в глаза, рот, нос, уши. Ральф старался дышать носом, но пыль постоянно скрипела на зубах. И даже после изнурительных сплевываний (тягучая слюна на подбородке) рот не становился чище. Казалось, что вместе со слюной организмом выделялась и пыль. Она сгущала слюну наподобие цемента и делала идущих бессловесными. Иногда Ральф промывал рот водой, но дневной запас воды во фляге был ограниченным.
В дожди пыль превращалась в грязь. Хорошего в этом было только то, что грязь не приходилось вдыхать. Она глухо чавкала под ногами и летела с колес проезжавших машин. Когда машины застревали, их приходилось подталкивать всё той же пехоте. Пехота толкала машины и думала о том, что вышедшему из сухой кабины толкать в известном смысле сложнее, чем тому, кто месит эту грязь с самого утра. На благодарственный сигнал шофера отвечала вялым взмахом.
Один за другим брали города, неизвестные Ральфу. Витебск, Смоленск, Орел. Ральф не мог правильно выговорить их названий. Зачем, спрашивается, они их завоевывали? Витебск горел, и Ральф наблюдал его ночное пламя. Снопы искр принимали причудливые формы, становясь шарами, змеями, человеческими фигурами. Взмывали в небо и летели над городом, как на картинах Шагала. Выставку Шагала Ральф видел в Париже. Тогда он еще не терял надежды полетать над Мюнхеном с Эрнестиной. Взявшись за руки.
Ральф стал вести дневник. Он не записывал в него всего, что ему довелось увидеть. Не рассказывал о разорванных в клочья телах сослуживцев. О том, как нес руку фельдфебеля Рота, завернув ее в полковую газету: он опознал руку по часам, и она была единственным, что осталось от фельдфебеля. Об отставших солдатах, которых затем нашли повешенными на сучьях придорожного дуба, с выклеванными птицами глазами. Они были повешены двумя тесными гроздьями и покачивались на ветру – четыре плюс три. Некоторые медленно вращались. Ральф не писал об ужасном. Он не хотел, чтобы впоследствии этот дневник ему было страшно открыть. Если он, конечно, останется в живых. Дневник иногда напоминал ему новостные выпуски, которые он слушал вечерами по радиоприемнику – они тоже редко сообщали о плохом.
Вообще говоря, Ральф не столько писал, сколько рисовал. Тексты были скорее подписями к изображенному. Сидя на ступеньке походной кухни, нарисовал, как солдаты едят – каждый из своего котелка. Задумчиво жуют, опустив стриженые головы. Как бы рассматривают внимательно, что там, в котелке. На самом деле (поясняла подпись под рисунком) ничего не рассматривают, просто для них это случай побыть наедине с собой. Необходимость постоянно находиться на людях едва ли не страшнее прочих тягот.
Сидя в офицерской палатке, изобразил ее содержимое. На одной линии лежат матрасы, на центральной стойке висит умывальник, выше – аккумуляторная лампа. Записал: «В ряду матрасов важно занять место с краю, тогда есть возможность отвернуться и думать о своем». Мы знаем, о чем он думал. Рядом с некоторыми зарисовками военного быта появляется Эрнестина. Всегда – одетая. Еще записал: «Привалился во сне к брезенту палатки, простудил левый бок». Что такое бок – печень, почки, селезенка? Видимо, он и сам этого не знал. К врачу, нужно думать, не обращался: вся местность в немецких потрохах, а у него, видите ли, бок. Конечно, не обращался. Обматывал чем-то теплым, грелку ставил.
Идея с дневником исчерпала себя довольно быстро. Последняя запись датируется августом 1941 года, она без рисунка. Рассказано о движении на танке по кукурузному полю – сверху, на броне. Это самое опасное место для путешественника, потому что (объяснили Ральфу) сидящие на броне обстреливаются снайперами. Сидящие на броне – первоклассная мишень. Ральф попросился проехать куда-то, куда – не сообщается, да это и не важно, особенно – снайперу. Над Ральфом – раскаленное солнце, под ним – раскаленная броня. Танк качает, как на волнах, а по бокам бескрайнее море кукурузы. Машина рассекает зеленую стихию, оставляя широкий двухколейный путь. Отдельные, прошедшие между двух гусениц стебли приподнимаются, но встать в рост больше не могут. Они пытаются расправить свои продолговатые изломанные листья. Их движения напоминают агонию. Описан хруст початков под гусеницами, которого, понятное дело, нельзя было расслышать. Ральфу жаль эти початки, и оттого он слышит их фантомный хруст. Чего он не слышит – это соприкосновения пули с броней. Он его видит – у самой ноги. Инстинктивно подтягивает ноги к животу, как будто новая пуля может ударить в то же место. Пальцем ощупывает вмятину на броне.
Все дальнейшие свидетельства получаем не из дневника. Главное из них связано с пополнением возглавляемой Ральфом роты. Роль исторических обстоятельств в армейском пополнении бесспорна (беспрецедентные потери вермахта, призыв на военную службу гражданских), но в этом послании времени лейтенант Вебер обнаружил и строки, адресованные ему лично. В 1942 году с пополнением в его роту попал Ханс Кляйн.
Удивительного в этом не было ничего. По крайней мере, ни Ральфа, ни Ханса, ни даже Эрнестину эта встреча не удивила. Ведь если ваш близкий друг марширует в Россию, а спустя два года судьба забрасывает туда и вас, то под чьим же еще, спрашивается, началом вы можете там служить? Этот риторический вопрос, узнав о неожиданной встрече, поставила в письме Эрнестина. В огромной немецкой армии она знала только двух человек, и они, по ее представлениям, не могли не встретиться.
Письма Эрнестины очевидным образом не замечали длительного отсутствия Ральфа в кругу близких друзей. Они адресовались сразу обоим («Мальчики, привет!»), причем предпочтения ни одному из мальчиков демонстративно не выказывалось. Эрнестина была убеждена, что в сложившихся обстоятельствах Ханс, ее муж, не мог обладать перед Ральфом никакими преимуществами. Ведь даже это ее «мальчики» возникло из нежелания поставить кого-то в обращении первым.
По их просьбе Эрнестина подробно описывала происходящее в Мюнхене. К великой радости Ральфа и Ханса, там не происходило ничего особенного. В письмах Эрнестины беззвучно скользили по Амалиенштрассе автомобили, волновались кроны деревьев в Английском саду, а в «Аумайстере» всё так же загибало ветром край крахмальной скатерти. И хотя Томаса Манна в этом заведении уже не было, в целом обстановка в Мюнхене не очень отличалась от довоенной. «Пошла на днях лечить зубы к доктору Аймтербоймеру, – писала Эрнестина. – Он всё такой же охальник, ставя мне пломбу, норовил коснуться груди. И смешно, и жалко. У него недавно умерла жена».
От рассказов Эрнестины Ральфу и Хансу становилось легче. Каждое ее письмо приносило подтверждение, что их счастливая детская жизнь пусть где-то далеко, но – существует. Детством им теперь представлялось всё, что было до войны, потому что война оказалась одновременно временем взросления и смерти. Их неумолимо поглощало русское пространство – бескрайнее, а главное – враждебное. Враждебность сказывалась не только в том, как на них смотрели здешние жители, – она ощутимо сквозила даже в движении облаков, в том, как лежали поля и текли реки.
Чтобы не сойти здесь с ума, Ральф и Ханс вспоминали родные места. Даже не вспоминали – проживали их и проезжали. Мысленно садились в трамвай на Людвиг-штрассе и медленно – остановка за остановкой – двигались на нем в сторону Унгерерштрассе. Их общая память помогла восстановить все названия, и уже через несколько поездок они не пропускали остановок. Выйдя на Северном кладбище, углублялись в Английский сад. Старались не ходить по одним и тем же дорожкам, всякий раз выбирали новые. Обсуждали, по какому из мостиков переходить ручей, у каких деревьев сворачивать с дороги. Свернув, шли по траве босиком. Трава – мягкая, ласкает ступни, скользит между пальцами. На траве едва заметный след, она как будто кем-то примята. След ведет к кустам. Ральф и Ханс останавливаются и молча смотрят на кусты. В висках у них стучит, босые ноги врастают в траву, руки что есть силы сжимают обувь. Пыльные армейские сапоги.
Письма Эрнестины были бодрыми. Их тон не был связан с положением дел на фронте – для немцев оно становилось всё хуже и хуже. Оптимизм Эрнестины основывался на их обещании друг другу быть похороненными на Северном кладбище. Даже в самом худшем случае (в первую очередь он касался «мальчиков») посмертное воссоединение оставалось на повестке дня. Эрнестина почему-то исходила из того, что тела павших доставляются в Германию.
О том, что это было не так, хорошо знали Ральф и Ханс. Потери не обошли их роту стороной, и они неоднократно участвовали в похоронах убитых. Первое время для покойников заказывали гробы, затем их стали класть в ящики из-под снарядов, когда же не стало хватать и ящиков, тела просто заматывали в брезент. На могиле ставился крест, на крест вешали каску похороненного. В ночное время эти могилы осквернялись местным населением, а позднее, после передислокации войск, могилы (и это все предчувствовали) осквернялись и днем. В конце концов они сравнивались с землей, и лежащим в них становилось легче, поскольку уже никто не знал об их подземном существовании.
С каждым днем убитых оказывалось всё больше, но остававшихся в живых это уже не могло испугать. Напротив, к своей жизни они относились всё беспечнее и, казалось, дорожили ею в очень небольшой степени. Горячее желание вернуться домой, которое все чувствовали в начале войны, у многих сменилось безразличием. Во время боя они поднимались в рост в спешно вырытых неглубоких окопах. Это не было вызовом смерти (смерть в таких случаях колеблется) – у них просто болела спина. Больше всего в жизни им хотелось распрямиться. Больше, может быть, самой жизни. И они погибали, потому что у таких людей уже не было иммунитета к смерти.
Моясь в походном душе, Ральф всякий раз думал о том, что намыливает свое тело, возможно, в последний раз. Эта мысль делала мытье в высшей степени ответственным, и мочалка в руках Ральфа ходила вдвое быстрее обычного. Опустив голову, он смотрел, как сквозь мокрые и оттого заметные волосы на груди спускались мыльные хлопья. Они струились по животу и – ниже, прерывисто стекая с той части его тела, что была знакома лишь ему и Эрнестине. Ну, и Хансу еще. Конечно, Хансу, он ведь был там, в кустах, третьим.
Ханс стоял под соседним душем, в отличие от Ральфа – безволосый. Это тело, думал Ральф, это тело входило в тело Эрнестины и оставляло в нем свой влажный след. Надевая черные армейские трусы, Ральф еще раз посмотрел на тело Ханса – невоенное, нетренированное, неинтересное. Его выбрала Эрнестина. Ральф не испытывал ни ревности, ни даже обиды. Собственно, здесь было уже не так важно, кого выбрала Эрнестина. Жизнь здесь протекала в другом измерении. Возможно, это была уже совсем другая жизнь.
Здесь, на войне, Ральф почувствовал, что значит любить ближних. Они его уже не раздражали, как то бывает в отношении тех, с кем невозможно расстаться. Ральф осознал, что его окружение – ненадолго, что вскоре оно исчезнет, уйдет на два метра под землю. А может быть, уйдет он. Разговаривая со своими солдатами, смотрел в их выцветшие глаза. Иногда брал за руку повыше локтя. Рука была теплой – даже сквозь суровую форменную ткань. Ральф помнил негнущиеся руки убитых, и возможность ощутить живое наполняла его радостью.
То же самое, вероятно, чувствовал Ханс. Он стал задумчивей и как-то мягче. Однажды он вдруг сказал Ральфу:
– Знаешь, я понял, что не против того, чтобы жить втроем.
Ральф молча смотрел на него.
– Помнишь, у Эрнестины была такая идея? – Ханс положил ему руку на плечо. – Так вот: я не против.
Теперь перед отбоем Ханс выводил Ральфа за палатку и шепотом делился с ним подробностями их будущей жизни. Ханс был не против того, чтобы всем спать в одной постели (несложно ведь заказать такую постель?) и заниматься с Эрнестиной любовью по очереди. По поводу любви с Эрнестиной он приводил такие подробности (об этом будем знать только мы втроем), что Ральф лишь утирал на лбу испарину. Если Ральф этого стесняется, он, Ханс, может в ответственный момент выходить. Допустимо, наконец, иметь две спальни – с тем, чтобы Эрнестина сама выбирала, с кем будет проводить ночь.
– Ты пойми, – горячо шептал Ханс, – главное здесь то, что отныне мы не просто близкие друзья. Мы – братья и сестры. Мужья и жены. Назови это как хочешь…
Ральф внимал взволнованным словам и лихорадочно обдумывал возможности отправки Ханса в тыл. Он отчетливо понимал, что смерть Ханса близка, и пытался предпринять все усилия, чтобы ее предотвратить. Ральф также понимал, что все усилия бессмысленны.
3
Ханс погиб. Встал во весь рост в окопе и был смертельно ранен. Его скорбное стояние Ральф увидел с противоположного фланга. Сминая солдат, опрокидывая пулеметы, он бросился к Хансу, чтобы ударом под дых заставить его сложиться, согнуться, упасть на дно окопа. Ральф бежал, а Ханс всё стоял и задумчиво смотрел вдаль, и ветер шевелил его пшеничную челку. С края бруствера осыпáлась земля. В ближайшей ложбине – снизу, из окопа, Хансу это было хорошо видно – клубился туман. Стояло раннее утро, и в воздухе еще чувствовалась резкость. Ханс узнавал этот воздух, он отвык от него, но никогда не забывал. Это был воздух детства, утреннего парка, велосипедной (шорох гравия под шинами) прогулки. Ханс вдыхал его трепещущими ноздрями.
После ранения он прожил еще день и ночь – почти сутки. Всё это время ему кололи морфий. Из-за поврежденного легкого он не мог говорить. Он показал Ральфу, что просит побыть с ним, и Ральф просидел эти часы с умирающим. Бóльшую часть дня Ханс пребывал в забытьи. Вечером он нащупал на постели руку Ральфа и уже ее не отпускал. Под утро Ханс попытался что-то сказать, но Ральф ничего не понял. Это были звуки выдохшегося сифона, не имевшие уже ничего общего с человеческой речью. Ханс сжал руку Ральфа, и Ральф наклонился к самому его рту.
– Обещай, что женишься на Эрнестине, – просипел Ханс.
Ральф обещал. Ему опять приходилось обещать то, выполнение чего было обусловлено событиями маловероятными. В отличие от детского неверия в смерть, сейчас Ральф не очень-то верил в то, что выживет. Да не очень-то к этому и стремился.
Ханс умер тихо, Ральф этого не заметил. Даже многочасовое его рукопожатие не стало слабее. О том, что его держит за руку покойник, Ральфу сказала сестра. Ральф отреагировал не сразу. Глядя на мертвого Ханса, он попытался сопоставить его с Хансом живым. С маленьким Хансом в Английском саду. На мелкой речке Изар. На Северном кладбище, наконец, где у него теперь было немного шансов упокоиться. Ханса мертвого с Хансом живым не связывало решительно ничего. Ральф освободил свою руку и закрыл покойному глаза.
Закрыл свои глаза. Стоя с закрытыми глазами, попросил сестру:
– Не передавайте его пока похоронной команде.
Он почувствовал ее руку на своей спине.
– У нас здесь нет холодильника, и мы не можем хранить тела.
– Понимаете, он обещал, точнее, все мы обещали… Ладно, это не имеет значения…
Ральф открыл глаза, словно ожидая, что Ханс сделает то же самое. Но Ханс оставался неподвижен. В ноздри умершего сестра затолкнула ватки с раствором и набросила ему на лицо простыню.
– А сейчас еще и лето… Вы не представляете, как они быстро разлагаются.
По просьбе Ральфа после отпевания солдаты перенесли тело Ханса в одну из ротных палаток. Кто-то вспомнил о пустом ящике для снарядов, использовавшемся как сундук. Из ящика вытряхнули содержимое и положили в него Ханса.
Отправившись в Острогожск, где квартировала основная часть полка, Ральф добился встречи с полковым командиром. Ральф просил предоставить для Ханса цинковый гроб и место в самолете, но командир лишь пожал плечами. Он закурил и посоветовал Ральфу взять себя в руки. Положив спичку в пепельницу, выпустил дым. Помолчал. В транспортных самолетах не стало хватать мест даже для раненых, а они (энергичное затаптывание окурка в пепельнице) как-никак – живые. Стоял лицом к окну и спиной к Ральфу. Ральф отдал честь и попросил разрешения уйти. Командир кивнул, не оборачиваясь.
– В сложившейся обстановке не до сантиментов, – произнес он в окно. – Надеюсь, Вебер, я не открыл вам военную тайну.
Там же, в Острогожске, Ральф попытался найти мастерскую по производству гробов, но всё – вплоть до продовольственных магазинов – было закрыто. А он ведь не продовольствие искал – гроб цинковый. Не знал ни слова по-русски. Петляя по улицам под неожиданно жарким русским солнцем, то и дело выходил к реке Тихая Сосна. Ральф не догадывался, что значат эти два прохладных слова, и название реки его не успокаивало. В отчаянии он думал о том, что в Острогожске, видимо, никто не умирает. Или, наоборот, уже умерли все: на улицах не было ни души. Последнее обстоятельство делало знание русского избыточным.
В роту Ральф вернулся только вечером. Первым делом приоткрыл ящик с Хансом. Он даже не успел рассмотреть Ханса по-настоящему, как в нос ему ударил застоявшийся трупный запах. Ральф захлопнул крышку и сел на нее сверху. Стояла ночь, и продолжать поиски было бессмысленно. После бессонной ночи, после утомительных поисков в городке у него уже не было сил. Он сам не заметил, как вытянулся во всю длину крышки. Подобно Хансу, сложил руки на груди. И заснул.
Открыв утром крышку ящика, Ральф понял, что времени на поиски гроба у него немного. Ханс ему очень не понравился. При солнечном свете на лице убитого были отчетливо видны синие пятна. Из приоткрывшегося рта тускло поблескивал зуб. О запахе говорить не приходилось. Проходя мимо ящика, солдаты отворачивались. Было видно, что происходящее действует им на нервы.
После завтрака (он отметил про себя, что смог позавтракать) Ральф поехал в ремонтное подразделение. Там, к его удивлению, нашлись цинковые листы, а также те, кто знал, как с ними следует обходиться. Ральф пожалел, что приехать сюда додумался не сразу. Он оказался далеко не первым, кто обратился к ремонтникам по такому поводу. Ханс был доставлен к ним во второй половине дня. По размеру ящика для снарядов они за час соорудили ящик из цинковых листов и положили в него Ханса. Глядя, как тело размещали в ящике и запаивали швы между листами, Ральф подумал, что видит Ханса в последний раз. Впрочем, то, что он видел сейчас, уже не было Хансом. Ящик цинковый положили в ящик деревянный и привезли в роту.
– Он теперь в двойной упаковке, – сказал солдатам Ральф, – и вам больше нечего бояться.
Ханса солдаты не боялись. После пройденного и пережитого ими они вообще мало чего боялись. Солдаты видели смерть ежедневно – на поле боя и в лазарете, где им регулярно приходилось дежурить. Им, конечно, не нравилось, что отныне они должны были видеть ее и в расположении роты. И хотя у солдат больше не оставалось места, где бы они могли отдохнуть от смерти, они не роптали. Они чувствовали, что в странностях Ральфа есть своя правда.
Справедливости ради нужно сказать, что в дальнейшем Ральф не очень интересовался их мнением. После смерти Ханса он ушел в себя и с окружающими общался только по необходимости. По вечерам Ральф включал радиоприемник и наслаждался музыкой. Переходя с программы на программу, старался найти Баха или Моцарта. Однажды попал на трансляцию Вагнера из Байройта, но вскоре выключил. Ему казалось, что во всем происходящем есть доля и его, Вагнера, вины.
Новостей Ральф больше не слушал. Не потому, что сейчас они были менее оптимистичны (они и раньше его не слишком радовали), – новости попросту перестали его интересовать. Дикторы не сообщали ничего такого, что могло бы стать пищей для его ума или чувств. Всё, что его волновало, в свою очередь, совершенно не соотносилось с интересами дикторов.
Больше всего Ральфа волновало, как о смерти Ханса сообщить Эрнестине. С одной стороны, всё было просто. Извещение о гибели рядового Кляйна он был обязан послать ей как командир роты. Он посылал такие извещения много раз. Для них существовали специальные бланки, в которые следовало вписать персональные данные погибшего. В извещении указывалось, что рядовой пал смертью храбрых и что настоящая бумага служит основанием для начисления пенсии вдове. С другой стороны, именно Ральф такого письма отправить и не мог, точнее – не мог отправить лишь его. Прежде он должен был написать ей как Ральф, а это было сложнее всего.
Он оттягивал свое письмо до ближайшего письма Эрнестины, на которое ему волей-неволей пришлось бы отвечать. Ответ мысленно писал уже примерно неделю, но никак не мог найти нужного тона. Одни слова ему казались сухими («Должен тебе сообщить, Эрнестина…»), другие («Пришла беда…») – безвкусно-сентиментальными. Кроме того, сам факт его, Ральфа, всё-еще-жизни был в каком-то смысле неприличен. Ведь Ральф не просто существовал в некой параллельной плоскости – все последние месяцы он находился с Хансом в одной упряжке, и вдруг – пожалуйста! – сообщает о его смерти. Почему не наоборот? Такие вещи прямо не ставят в вину, но вина подразумевается. Так считал Ральф. Он страстно желал, чтобы письмо от Эрнестины не приходило как можно дольше.
И письмо не приходило. Ральф знал, что ее молчание не было забвением. Оно было скорее свидетельством присутствия, почти физического присутствия Эрнестины в их армейской жизни. Эрнестина поняла, что случилось, без извещения – так иногда происходит между близкими людьми. Ее молчание не было и обвинением. Просто с уходом Ханса исчез их треугольник. Разрушилась странная геометрия отношений. Или не разрушилась? Иногда Ральфу казалось, что не разрушилась…
На несколько месяцев его подразделение оставили стоять под Острогожском, а в октябре решили перебросить поближе к передовой. Часть пути проделали по железной дороге. При погрузке ротного имущества возникли сложности. Немецкие вагоны, рассчитанные на узкую европейскую колею, остались за границей, а русских вагонов не хватало. В тот небольшой отсек вагона, который был отведен роте, ящик с телом Ханса смог войти лишь в вертикальном положении. Дорогу до Миллерова Ханс проделал стоя. Ральф ехал и думал о том, выдержат ли кости покойного такую нагрузку. Он ничего не знал о свойствах тела в период разложения.
За Миллеровом железнодорожные пути оказались разрушены, но одной этой неприятностью дело не ограничилось. В Миллерове цинковый гроб Ханса разгерметизировался. Произошло ли это в результате движения по рельсам, погрузки или плохой пайки, выяснить оказалось невозможно. Да и волновали состав роты не столько причины, сколько следствия. Размещенный в палатке, ящик распространял нерезкий, но вполне ощутимый запах. Слабость запаха почему-то придавала ему особую отвратительность. После морозной ночи (полог палатки пришлось держать открытым) и открытого ропота солдат Ральф снова бросился на поиски ремонтной роты. Вернулся он с мастером, который быстро нашел щель на стыке листов и запаял ее. Запах прекратился.
Постояв в Миллерове несколько дней, двинулись по шоссе в Белую Калитву. Название «Миллерово» отдавало чем-то своим, на Белую же Калитву воображения Ральфа уже не хватало. От нескончаемого движения он чувствовал смертельную усталость. Поймав себя на том, что мечтает о смерти, даже не испугался. Представил, как дома на панихиде сообщают, что он погиб в Белой Калитве. Улыбнулся. В Мюнхене он не знал никого, кто бы смог произнести это название.
В утро отъезда Ральф нанял подводу для доставки гроба к месту новой дислокации. Ехали по степи. Ральф сидел, свесив ноги и облокотившись о ящик. Острое ребро ящика чувствовал своими ребрами. На ухабах слышал, как внутри глухо стучит тело Ханса. Мужик, правивший лошадью, произносил негромкие русские слова. Они выходили медленно, цеплялись друг за друга, составляя одну бесконечную фразу. Мужик говорил вроде бы с Ральфом, не понимавшим его речи, но, может быть, и не с Ральфом, может быть, и сам с собой, с лошадью, со степью. От произносимого веяло удивительным спокойствием. Ральф качал головой в такт его тихим словам. В такт ухабам. Да, он не понимал этих слов по отдельности, но в целом, конечно же, понимал.
Всё пройдет – таков был их общий смысл. Пройдут ночные бомбардировки, перемещения войск, столкновения государств. Сами государства тоже пройдут. Небо и земля – останутся. Роща, ветер… Пролетел бомбардировщик, и след его стерт облаком, как губкой. Будто и не пролетал, а? Звери останутся и насекомые – все те, кто не принимал участия в боевых действиях. Это ведь только кажется, что все заняты войной. А муравьи, если разобраться, строят свои муравейники, птицы летят на юг. Мужик приставил большой палец к ноздре и сморкнулся на дорогу.
– А я вот Ханса везу. – Ральф постучал по крышке ящика. – Близкого друга.
Мужик кивнул. В отличие от товарищей Ральфа, у него это не вызвало удивления. Почему бы и не Ханса? Каждый возит то, что считает нужным.
После Белой Калитвы началась изматывающая дорога на юго-восток. Несмотря на октябрь, стояла жара. Идущим всё время хотелось пить, а воду теперь подвозили с перебоями. В редких калмыцких поселениях ели арбузы. Степь сменялась пустыней.
Армия шла по пыльной потрескавшейся земле, на которой ничего не росло и никто не жил. И никому уже было не понятно, зачем завоевывали эту безлюдную землю. Безлюдную и бесчеловечную, имевшую в избытке лишь солнце и песок. В песке ставили палатки и рыли окопы, песок высыпали по вечерам из сапог. В нем буксовали машины, и на одном из отрезков пути от них пришлось отказаться. В тот день ящик с Хансом солдатам пришлось нести на руках.
Вопреки опасениям Ральфа, они уже не роптали. Покойник Ханс мало-помалу стал неотъемлемой частью роты – чем-то вроде полкового знамени. В конце концов, он продолжал числиться в ее списках, потому что официально смерть его так и не была зарегистрирована. В каком-то смысле Ханс продолжал делить общие тяготы – палатки, окопы и переезды, а один раз во время боя в ящик попала пуля. Ханса спасло лишь то, что она ударила в металлическую ручку, выгнув ее до неузнаваемости. Цинковый лист пуля бы прошила насквозь.
Однажды покойному пришлось ехать на двугорбом верблюде. Ящик на горбах не закреплялся и съезжал, но главная сложность была даже не в этом. Груз необычной формы и размеров не нравился самому верблюду. Животное саботировало перевозку ящика с редкой изобретательностью. Поняв, что за каждым брыканьем следует плеть хозяина-калмыка, верблюд стал выгибать те части тела, в которые упирался ящик. Глядя на эти упражнения, Ральф вспоминал резинового верблюда своего детства – возможности той игрушки были гораздо более скромными. Не исключено, что, несмотря на цинк, настоящий верблюд чувствовал тело Ханса, а ведь вьючные животные боятся носить мертвых. Конечно, он все-таки понес Ханса, но каждым своим шагом давал понять, что в данном случае лишь покоряется обстоятельствам.
Несмотря на все усилия Ральфа сохранить дело в тайне, молва о мертвом пехотинце распространялась по войскам. В роте об этом знали и втайне Хансом гордились. Распространявшиеся слухи имели и свои положительные стороны. Время от времени Ральфу предлагали помощь. Накануне марша в Элисту в роту заехала гусеничная бронемашина и взяла ящик на борт. В Элисту Ханс въезжал на броне.
В ноябре ударили морозы. Они оказались такими же неистовыми и изматывающими, какой прежде была жара. Переносить их было тем сложнее, что обмундирование, пусть даже утепленное с учетом русских зим, было неспособно согреть. На морозе глохли моторы и замерзало масло. В декабре роту расквартировали в колхозе «Восьмое марта», но теплее от этого не стало.
Холод было тяжело выдерживать и потому, что он не сопровождался снегом. Земля, растрескавшаяся прежде от жара, ничуть не изменила своего безрадостного облика. Над выжженной травой летали клочья верблюжьей шерсти. Только трещины, казалось, теперь появлялись от мороза. По ночам в безоблачном небе тысячами ярких глаз загорались звезды. Их немигающий взгляд промораживал до самых костей.
Когда выпал снег, стало легче. Пространство преобразилось. Его бесцветность и безлюдность сменились белизной. Танкисты, согласно инструкции по камуфляжу, красили свои машины известью, и танки становились сугробами. Той зимой, по сравнению с прошедшими (замечались ли такие вещи русскими?), в калмыцких степях образовалось на восемьсот сугробов больше. Пехота играла в снежки – почти, правда, не лепившиеся из-за сильного мороза. В солдатских палатках появились сплетенные из ковыля предрождественские венки.
В день западного Рождества велись ожесточенные бои, а накануне Нового года установилось затишье. 31 декабря было отмечено внезапной оттепелью, как бы знаменовавшей краткое перемирие между морозом и жарой. В этот день всеобщей тишины противостоящие войска праздновали приход нового, 1943 года.
Гостем роты Ральфа был генерал Кайзер. Несмотря на громкую фамилию, генерал слыл человеком демократичным и все праздники принципиально отмечал в солдатском кругу. И хотя в этих посещениях можно было видеть некоторую нарочитость, даже постановочность (в прессе впоследствии появлялись фотографии брудершафтов), а излучаемое генералом фронтовое братство вызывало улыбку, объекты генеральских акций ничего не имели против. Гость привозил с собой подарки, а также очень неплохие – без скидки на фронтовые условия – напитки.
В колхоз «Восьмое марта» генерал Кайзер приехал, как всегда, внезапно, сопровождаемый адъютантом, корреспондентом и двумя ящиками шампанского. Кто-то из солдат бросился было в соседнюю роту за стульями, но генерал его остановил. Взгляд гостя упал на стоявший в углу ящик.
– Что в ящике?
– Так, – ответил Ральф, – разное ротное имущество…
– Буду сидеть на ротном имуществе. – Взгляд генерала рассеянно скользнул по корреспонденту. – Никогда не искал комфорта.
На ящике поместились генерал, адъютант, корреспондент и Ральф. Ральфа генерал посадил рядом с собой. Побарабанив по стенке ящика, гость предложил тост за фронтовую дружбу. Около полуночи по московскому времени старший стрелок Вайгант включил радиоприемник и поймал одну из немецких радиостанций. На едва различимом фоне кремлевских курантов Берлин передавал выпуск новостей. В Берлине еще не праздновали.
– А нельзя так, чтобы наше радио, но – без курантов? – поинтересовался корреспондент.
– Не представляется возможным, – ответил старший стрелок.
– Удивительно, что здесь вообще что-то ловится, – поддержал его генерал. – Ну, с Новым годом, что ли…
Кружки сошлись с глухим алюминиевым звуком. Ральф опустил свою кружку и (прости нас, Ханс) незаметно коснулся ею ящика. Его утешало лишь то, что Ханс – пусть даже в таком необычном качестве – все-таки находился за общим столом.
Гости просидели до двух. Покидая расположение роты, генерал Кайзер шепнул Ральфу:
– Первый раз встречаю Новый год на покойнике. Не выжить после этого – грех.
Он хлопнул Ральфа по плечу и сел в машину. Захлопнув за генералом дверь, адъютант пожал Ральфу руку. Солдаты продолжали праздновать до утра. Последним прозвучал тост за здоровье Ханса, и он уже никого не удивил.
Спустя неделю адъютант вернулся. На этот раз он приехал на автомобиле с верхним багажником.
– Генерал Кайзер нашел для вашего друга место в самолете, – сказал он Ральфу. – Закрепите ящик на багажнике, я отвезу его на аэродром.
Он бросил Ральфу скрученную веревку с крючьями, но Ральф ее не поймал. Он смотрел, как солдаты выносят ящик с Хансом, и уже не понимал, хочет ли он с ним расставаться.
– Здесь дорога плохая. – Адъютант проверил веревки. – Надежно закрепили?
– Намертво, – ответил кто-то из солдат, и все рассмеялись.
Сев за руль, адъютант на мгновение опустил стекло.
– Генерал Кайзер умеет ценить фронтовую дружбу.
Солдаты и Ральф отдали отъезжавшей машине честь. Прощаясь с Хансом, думали, что он, возможно, легко отделался. Они готовились к маршу на Сталинград и уже не ждали победы. Они ждали одного – окончания, каким бы оно ни было.
4
Окончание для Ральфа наступило в середине января. В бою под Сталинградом разрывом снаряда ему оторвало правую руку до локтя. Мелким осколком зацепило висок. Как ни странно, ранение он впоследствии считал одной из главных удач своей жизни. Ему повезло, что санитары обнаружили его еще во время боя, и он не успел потерять слишком много крови. Ему повезло и в том, что потери ограничились рукой: почти вся его рота сложила под Сталинградом головы. Главным же своим везением он считал то, что самолетом его переправили в Мюнхен, и война на этом для него была закончена. Не случись этого – Ральф не вернулся бы домой, потому что не возвращаются те, кого на войне охватывает равнодушие – как к ее исходу, так, в конечном счете, и к собственной судьбе.
В мюнхенском госпитале Ральфа навестила Эрнестина. От общих знакомых он уже знал, что она живет с дантистом Аймтербоймером, и сам послал ей письмо с просьбой прийти к нему в госпиталь. Эрнестина вошла, не постучавшись. Несколько минут стояла у дверей, пока забинтованная голова Ральфа медленно не повернулась на подушке. Когда его взгляд обрел фокус, он улыбнулся. Эрнестина тоже улыбнулась. Подойдя, потрепала выбившуюся из-под бинта челку.
– Глупо всё получилось. – Эрнестина смотрела куда-то в окно. – Однажды я зачем-то ему уступила, а потом уже… Понимаешь, после этого я как бы потеряла право на ожидание Ханса. Я даже не могла вам написать… Мое письмо было бы еще более гнусным, чем мой поступок.
Она опустилась на колени перед кроватью – из-за узкой юбки это получилось неловко – и прижалась губами к забинтованному обрубку руки. Левой рукой Ральф гладил Эрнестину по волосам.
– Знаешь, то, что ты не писала, даже к лучшему… Получилось, что к лучшему. Пожалуйста, не мучай себя.
Находясь еще в госпитале, Ральф начал учиться писать левой рукой. Сначала выходило коряво, но со временем дело улучшилось. Пусть почерк Ральфа (до потери руки безупречный) не стал прежним, он был вполне читаем. Это был обычный плохой почерк, в котором левая рука никак не опознавалась. Ральф стал относиться к левой руке с новым вниманием и пришел к выводу, что сильно недооценивал ее в прежней жизни.
По совету врача Ральф заказал себе протез. Это была пластмассовая рука, вид которой сразу же поверг Ральфа в уныние. Протез имитировал цвет человеческой кожи, но это не был цвет кожи Ральфа. И хотя номер колера и размеры его правой руки формально совпадали с данными левой руки, отличие двух рук было заметно. Отличие было небольшим, но, может быть, оттого и неприятным: искусственная рука симулировала жизнь, и в этом была невыносимая фальшь. Ральф отказался было от протеза и пустой рукав стал заправлять в карман пиджака. Впоследствии же по совету Эрнестины надел на протез перчатку, и чувство подделки исчезло.
Через несколько месяцев Ральфа взяли преподавателем в военное училище. Об этом похлопотал Аймтербоймер, заметивший, что для него такие просьбы – пустяк, пока у военного начальства есть зубы. Он продолжал жить с Эрнестиной и шестнадцатилетней Брунехильдой, своей дочерью от покойной жены, – такой же, как покойница, высокой и ширококостной. И с возвращением Ральфа ничто в этом отношении не изменилось.
Ральф не рассказывал Эрнестине о последних словах Ханса – они произносились тогда, когда Ханс еще (уже?) не знал, что она ему не принадлежит. Увы, на подобное завещание в ту грустную минуту он не имел никакого права. Эрнестина, в свою очередь, к теме Аймтербоймера больше не возвращалась, не говоря уже о том, чтобы ставить свою жизнь с ним под сомнение. Возможно, эта жизнь ее устраивала. А может быть, ей хотелось избежать второго предательства. Последнее объяснение нравилось Ральфу больше, и он выбрал его в качестве основного.
Время от времени он бывал у них в гостях (теперь это был дом Аймтербоймера в Швабинге) и даже встретил с ними Рождество. Было очень уютно, Ральф чувствовал себя как дома. Аймтербоймер вполне сносно сыграл на скрипке, и его лысина покрылась каплями пота. Глядя на эти капли, Ральф думал о том, что они, должно быть, выступают у него не только во время игры на скрипке… Перехватив взгляд Ральфа, Эрнестина угадала его мысли. Покраснела. Даже если бы покраснела, как он мог видеть это в полумраке? Это он придумал, что Эрнестина покраснела, и почувствовал, как краснеет сам. В конце вечера ели пирог, приготовленный Брунехильдой.
– Как у вас хорошо, – совершенно искренне сказал Ральф.
– Что ж, приходите к нам и на Новый год, – Аймтербоймер похлопал его по плечу. – Всё равно вам ведь не с кем праздновать.
Ральф поблагодарил. Он удивился второму приглашению, а заодно тому, как уверен в себе Аймтербоймер. Старик знал об истории чувства Ральфа к Эрнестине. Значило ли это, что встречи втроем он считал лучшей профилактикой неприятностей? На этот вопрос у Ральфа не было ответа.
Рождественский уют не повторился. В Новый год были и скрипка, и пирог Брунехильды, но того чувства, которое охватило всех в Рождество, – его уже не было. Ральф вспоминал свой прошлый Новый год – с сидением на гробе Ханса. Окажись Ханс на отмечании этого Нового года, его положение среди празднующих было бы еще более неестественным…
Иногда они навещали Ханса на Северном кладбище – также все вместе. Бестрепетной тевтонской рукой Брунехильда удаляла сорняки, а Ральф, как в прежние времена, подкрашивал металлические части надгробий. После кладбища отправлялись на прогулку в Английский сад и завершали ее поминальным обедом в «Аумайстере». Эта прогулка придавала посещениям Ханса легкость и какую-то даже беспечальность. И даже Брунехильда, первый раз посетившая кладбище не без нажима (как всякий безгранично здоровый человек, она не любила кладбищ), стала приходить сюда с удовольствием. Она полола траву не только на могиле Ханса, но и на могилах родственников трех друзей.
Этих могил становилось всё больше. Летом 1943 года в дом родителей Эрнестины попала авиабомба. Попала через пятнадцать минут после того, как Эрнестина оттуда вышла.
– Лучше бы я, конечно, у них задержалась, – сказала после похорон Эрнестина. – Я что-то совсем устала.
Усталость чувствовал и Ральф. Первая радость возвращения прошла, и мало-помалу его начала охватывать апатия. Он видел, к чему шло дело, и прежнее военное «уж скорее бы» теперь зрело у него и на родной земле. Впрочем, и эта земля уже вовсю ходила ходуном. Возвращаясь домой после лекций в училище, Ральф замечал на улицах всё новые и новые зияния после бомбежек.
Мюнхенские дома обрушивались, как костяшки домино, – с той лишь разницей, что валились они не подряд, а через пять-десять-пятнадцать. Это происходило так быстро, что даже образцовые городские службы уже не справлялись с уборкой, и разрушенные здания лежали на улицах бесформенными каменными трупами. Проходя мимо них, Ральф иногда заглядывался на причудливые детали руин – горшки с продолжавшими цвести растениями, раздавленные голубятни (скорбное трепетанье перьев) и чеканные флюгеры, равнодушные уже к любому ветру. Иногда дома разрушались не полностью, и на металлической трубе одиноко высился сливной бачок. С уцелевшей стены на него удивленно смотрели семейные портреты, никак не ожидавшие от бачка подобной стойкости.
Ральф не боялся бомбежек. Он верил в определенную логику происходящего и находил, что погибнуть после Сталинграда в Мюнхене было бы нелепо. Он не боялся погибнуть и потому, что со смертью не ожидал существенного ухудшения своего положения. Нынешняя жизнь большой радости у него не вызывала.
Однажды ночью его разбудил звонок Эрнестины.
– Умер Аймтербоймер, – сказала она сдавленным голосом.
– Бомба?
– Он умер на мне, Ральф…
На том конце провода послышались глухие рыдания. Ральф спустил ноги с кровати, но не нащупал тапок.
– Как неприятно… – голос всё еще его не слушался.
Всхлипы в трубке прекратились.
– Ты даже не представляешь – как!
С той ночи жизнь Ральфа и Эрнестины круто изменилась. Это была уже одна неразделимая жизнь, продлившаяся много десятилетий. Она началась почти сразу после смерти Аймтербоймера, и многие находили это неприличным. Согласитесь, мысленно отвечал недоброжелателям Ральф, в конце концов, и смерть Аймтербоймера была не вполне приличной. А если разобраться – то и жизнь.
В их с Эрнестиной соединении Ральф опять-таки видел ту логику жизни, в которой не сомневался никогда. Он не делал ничего, чтобы объединить свою судьбу с судьбой Эрнестины, но когда это произошло, ничуть не удивился. Такой ход событий казался ему естественным. Соединение с Эрнестиной было для него в какой-то мере воссоединением. К тому же как-то само собой выяснилось, что, несмотря на пережитое, они еще очень молоды. Ральф внезапно осознал, что от избытка жизненных впечатлений перестал чувствовать себя молодым: опыт автоматически превращался в возраст. В 1944 году им было по двадцать четыре года.
Через неделю после похорон Аймтербоймера Эрнестина зашла к Ральфу выпить кофе. Она стояла на пороге, и в глазах ее светились десятилетия грядущей совместной жизни. То, как они смотрели друг на друга, не оставляло места для кофе, и Ральф почувствовал это сразу, но зачем-то все-таки поставил кофе вариться и – вспомнил о нем лишь тогда, когда содержимое турки превратилось в пепел. Он и сам тогда едва не сгорел, потому что первое прикосновение к Эрнестине его обожгло. В это прикосновение он вложил все годы ожидания, всю силу разочарований и надежд. Каждой клеткой своего голого тела ощущал ее кожу и думал, что спустя много лет они снова разделись, но теперь события развиваются по-другому. Совсем по-другому.
– Никогда мне не было так хорошо, – сказала утром Эрнестина. – Я рада, что ты потерял только руку.
За этой ночью последовали месяцы безумств, когда они не видели ничего, кроме друг друга. Эрнестину удивляла безошибочность, с какой Ральф угадывал ее желания в постели, пока он в конце концов не признался, что кое-что в этой области ему приоткрыл Ханс. Эрнестина ничуть не обиделась и – более того – добавила некоторые детали, которые в свое время постеснялась сообщить Хансу.
Их любовь была сильнее бомбежек. В своей увлеченности друг другом они не заметили, как был разрушен и взят Мюнхен, а в городе расположились американские войска. Военное училище Ральфа к тому времени было уже закрыто, а слушатели распущены. Куда-то делась и Брунехильда, с которой – несмотря на все катаклизмы – они изредка встречались.
Городские власти приветствовали победителей и призывали горожан быть гостеприимными – разумеется, тех из них, кому удалось выжить после американских бомбардировок. Власти выражали глубокое удовлетворение, что Мюнхен достался не русским. Этого удовлетворения Ральф не разделял.
– Город в руинах, власти спятили, – сказал он Эрнестине. – Удивительно, что уцелел наш дом.
– Он уцелел ради нашей любви, милый.
5
Наступает мирное время. Ральф и Эрнестина венчаются и живут продажей фамильных драгоценностей. В результате долгих поисков работы Ральфу удается устроиться в хозяйственную часть Баварской государственной библиотеки. Каким-то образом вновь возникает Брунехильда, в этот раз – с чернокожим младенцем на руках. Можно было догадываться, что гостеприимство, оказанное ею американским войскам, зашло слишком далеко. Ральф и Эрнестина также пытаются завести детей, но у Эрнестины случается два выкидыша. В 1955 году возобновляется работа военного училища, и Ральфу, как не запятнавшему себя военными преступлениями, предлагают вернуться на службу. Он возвращается. Через десять лет Эрнестина получает наследство после смерти дяди из Ганновера, и Ральф выходит в отставку в чине майора. С этого времени жизнь их круто меняется.
Ральф и Эрнестина становятся профессиональными немецкими пенсионерами. Держа друг друга за мизинец, они зал за залом проходят все сколько-нибудь значимые музеи – сначала в Европе, а затем в обеих Америках. Проявляют себя беззаветными посетителями симфонических концертов и оперных премьер (аплодируя, Ральф стучит костяшками пальцев по ручке кресла), становятся членами нескольких благотворительных обществ.
В сентябре ездят в Италию. Иногда – в Венецию, где, вспоминая детские поездки, по утрам пьют кофе на площади Сан Марко, но чаще – на итальянский юг, который успели полюбить. Лежат на пляже в Поццуоли под Неаполем. Часами смотрят на море и очертания далекого берега.
– Это мыс Мизено, – Ральф перелистывает путеводитель. – Там Одиссей похоронил двух своих спутников.
– Он не отправил их тела домой…
– Вдали от дома, дорогая, это не так-то просто.
Эрнестина целует Ральфа в висок. Глядя на очертания полуострова, он думает о том, что одного спутника уже потерял. И боится когда-нибудь потерять второго – очень боится. Ветер треплет листы путеводителя и медленно засыпает его песком.
Живя в Мюнхене, всем средствам передвижения они предпочитают велосипед. В любую погоду ежедневно проезжают двадцать километров по Английскому саду. Любят говорить, что, несмотря на комфорт их нынешней жизни, самым счастливым своим временем считают конец войны.
– Мне нравится драматургия нашей жизни, ее сюжетные линии, – улыбается Ральф. – Главное, что это линии, а не точки. В нашей жизни есть свое развитие и своя логика. Ведь это имеет значение.
С конца восьмидесятых их туристическая активность несколько снижается. К этому времени Ральф переживает два инфаркта, и врачи не рекомендуют ему покидать Мюнхен. Назло врачам Ральф и Эрнестина предпринимают две поездки, сначала – в Голландию, затем – в Данию, но врачи им эти поездки прощают. В конце концов, это не те поездки, которые способны вызвать инфаркт, говорят врачи. Не поездки, например, в Россию.
В день 85-летия Ральф объявляет о своем желании ехать в Россию. Эрнестина колеблется, врачи в ужасе. Они уверены, что такая поездка несомненно обернется третьим – и финальным – инфарктом.
– Для него это очень важно, – уговаривает врачей Эрнестина. – Он ведь воевал там, у него интерес не туристический.
– Вы понимаете, какая это эмоциональная нагрузка?
– Понимаю, – вздыхает Эрнестина. – Но он, кажется, не верит в то, что умрет. Что вообще умрет.
– А может быть, он как раз для того и едет, чтобы умереть?
Подготовка к поездке идет всю зиму. В туристическом бюро на Людвигштрассе для них разрабатывают индивидуальный тур. Единственный компромисс Ральфа с медициной состоит в том, что он проделает не всю дорогу до Сталинграда, а только российскую ее часть. Впрочем, согласившись начать путь не на Западном Буге, а в Смоленске, он волею истории остается верен своим принципам. В 2006-м, как и в 1941-м, движение начнется от самой русской границы, которая к XXI веку значительно отодвинулась на восток. Надеясь, что, соответственно, сократится и задуманное путешествие, Эрнестина тайком заглядывает в последнее издание карты России. У нее вырывается невольный стон: и на этой карте Россия по-прежнему безгранична.
Менее эмоционально к работе с картами подходит Ральф. Заказывая индивидуальный тур, в новейшем атласе России он прокладывает маршрут, включающий десять основных пунктов: Смоленск – Брянск – Орел – Острогожск – Миллерово – Белая Калитва – Сальск – Элиста – Волгоград. Вместе с атласом туристическому бюро Ральф передает сохранившиеся у него карты вермахта с отмеченными крестиками деревнями, хуторами, рощами, озерами и возвышенностями, которые он хотел бы посетить. Между указанными пунктами Ральфу предлагают перемещаться на поезде как наиболее комфортабельном и надежном в России виде транспорта. От поезда он категорически отказывается – кроме перегона Лиски-Миллерово, часть которого в свое время преодолел по железной дороге. После долгих уговоров Ральф соглашается вместо поезда воспользоваться «Мерседесом», хотя первоначально речь шла об одной из русских марок. Эрнестина, в глубине души не исключавшая передвижения маршем, считает это победой.
К середине весны русские планы Ральфа отработаны до мелочей. Он оформляет дорогостоящую страховку, в которой оговаривается не только возможная репатриация тела, но и, по настоянию клиента, форма, цвет и материал гроба. Ранним утром 20 апреля из мюнхенского аэропорта «Франц Йозеф Штраус» Ральф и Эрнестина вылетают в Москву.
В Москве их встречает Коля Перепелкин, рыжеволосый улыбчивый парень. Он держит плакат с именами прибывших, но они узнали бы его и без плаката – по фотографии, данной в туристическом бюро. У Коли яркая внешность. Эрнестина пытается выговорить Колину фамилию (она учила ее еще в Мюнхене), но у нее не получается. Коля смеется: он не Перепелкин, он просто Коля («Колья», – повторяет Эрнестина). Машина везет их на Белорусский вокзал, откуда все втроем отправляются в Смоленск. Пока еще можно на поезде, до места старта допустимо ведь добираться на чем угодно.
В поезде они пьют чай и ведут длинные русские беседы. Коля – студент-германист, но подрабатывает гидом. Такой большой и ответственной поездки (выражение предельной серьезности) у него еще не было. Он постарается справиться. А вообще (Коля снова улыбается), он собирается жениться – сразу после их тура. Кто его невеста? Тоже студентка, учится на географическом. Коля выпускает воздух сквозь неплотно сомкнутые губы. Если честно, она беременна, на шестом месяце, – он кажется им легкомысленным? Ни в коем случае.
На вокзале Смоленска их ждет новенький «Мерседес». По словам Коли, его пригнали специально для этого тура из Москвы. Коля устраивает Ральфа и Эрнестину на заднем сидении, а сам садится рядом с водителем. Машина везет путешественников в гостиницу. Ральф опускает стекло и жадно всматривается в улицы.
– Узнаёшь что-нибудь? – спрашивает Эрнестина.
Ральф пожимает плечами.
– Мы завтра погуляем по центру, может, что-нибудь и узнаете, – говорит с переднего сидения Коля.
Во время прогулки по центру у Ральфа пропадает кошелек. Он замечает это, подойдя к обменному пункту, – менять ему, похоже, нечего. Ральф и Эрнестина утешают приунывшего Колю: в Мюнхене тоже воруют, их и там однажды обокрали – в 1948 году. По счастью, в Смоленске (прогресс берет свое) есть банкоматы, и Эрнестина снимает деньги со своей карточки. Эрнестина уверена, что теперь они не пропадут: на карточке пятьдесят тысяч евро.
Проведя день в Смоленске, берут курс на Брянск. Едут по дорогам местного значения, заглядывая в знакомые Ральфу деревни. Подпрыгивают на ухабах. Ральфу кажется, что деревни мало изменились (прыжок и удар днищем), что в них едва ли не те же люди и уж точно – та же пыль. Ими поднятая шестьдесят пять лет назад. До сих пор не осела (еще один прыжок). Шофер произносит короткие русские слова, не требующие перевода. Он жалеет прекрасную немецкую машину, его возмущенное лицо пляшет в зеркале заднего вида. Коля пытается подбодрить пожилую пару, которая вянет на глазах. После пяти часов езды по проселочным дорогам путешественники вынуждены вернуться на асфальтированное шоссе.
– Трасса, – хрипло бросает шофер.
– Трасса… – кивает Ральф. Губы его бескровны.
Особенности трассы таковы: предоставив едущему некоторую передышку от ухабов, она безжалостно наказывает его за потерю бдительности. Дыры в асфальте, детали грузовиков, трупы собак – предметы для нее не сторонние. Все они соприкасаются с колесами «Мерседеса» на его пути к Брянску.
Брянск. Добравшись до номера гостиницы, Ральф падает поперек кровати. Просит его не трогать. Коля всё же расшнуровывает Ральфу туфли и осторожно укладывает его на постели. Эрнестина сидит за столом, уронив голову на ладонь. Упасть на кровать ей не позволяет присутствие молодого человека.
На следующий день выезжают в Орел. В Орле Ральф и Эрнестина чувствуют себя бодрее – возможно, у них заканчивается акклиматизация. Гуляя вдоль реки Орлик, получают информацию об орловцах Тургеневе, Лескове, Бунине и Андрееве. В музее Лескова экскурсовод с порога знакомит посетителей с «Железной волей», но в переводе Коля Перепелкин предпочитает пересказать сюжет «Левши». В современном Орле Ральф не узнает города, кратко виденного им в 1942 году.
– Сейчас – лучше? – спрашивает Коля.
– По-другому, – дипломатично отвечает Ральф. Он наклоняется к самому Колиному уху. – Мы, немцы, перед вами очень виноваты. Самое плохое, что ничего в этом деле уже не поправить.
За Орлом следует Острогожск. В острогожской гостинице под Эрнестиной среди ночи разваливается кровать. Эрнестина падает на пол, а сверху ее накрывает массивная спинка. Приведенный Колей врач констатирует ушиб и прижигает йодом ссадину над бровью. Она держится молодцом. Проводив врача и Колю, пытается улыбнуться.
– Представляю, что они сейчас подумали…
– О чем ты?
– О том, как мы по ночам ломаем кровати.
Вокруг ее глаза переливается фиолетовым синяк.
Они гуляют по Острогожску. Ральф вспоминает, как когда-то безуспешно блуждал по его улицам в поисках гроба. В ходе недолгой прогулки по городу дважды встречаются бюро ритуальных услуг. Ральф отмечает, что жизнь в Острогожске стала гораздо комфортнее. И смерть – тоже.
Рано утром отправляются на место гибели Ханса. Колёса «Мерседеса» осторожно ощупывают дорогу, ухаб за ухабом, отчего машина двигается со скоростью траурной процессии. Рядом с водителем сидит Ральф с картой на коленях. Он пытается установить расположение их окопов – где-то между поселком Сельхозтехника и деревней Гнилое, – но местности не узнаёт. Вокруг лишь апрельские поля, бурые и безлюдные. То здесь, то там мелькают небольшие овраги, которые при желании можно принять за остатки окопов. Эрнестина показывает на них Ральфу, но тот только качает головой. Он ясно видит, что эти овраги образовались без человеческого вмешательства. Человек тут, похоже, вообще ни во что не вмешивался.
Ральфу становится плохо. Ему помогают выйти из машины и ведут к обочине. Он просит, чтобы его отпустили. По рукам водителя и Коли медленно съезжает на четвереньки. Стоит, упершись ладонями в землю. Сквозь пальцы Ральфа прорастает первая трава. По дрожанию плеч видно, что он плачет. Коля растерянно смотрит на Эрнестину, но та знаком просит его не вмешиваться. Садится рядом с Ральфом и молча гладит его по голове. Минут через пять все снова в машине.
Коля разворачивает план мероприятий.
– Во второй половине дня у нас поездка на подводе. Выезд из населенного пункта Лиски.
– На подводе мы ехали от Миллерова, – Ральф улыбается краями губ, – но это не имеет большого значения…
– Под Миллеровом подводы не оказалось, удалось договориться только в Лисках… Здесь у нас база в санатории имени Цюрупы.
Вид у Коли виноватый.
После обеда отправляются в Лиски, где подвода их уже ждет. Коля деловито уточняет детали поездки с кучером – мужичком в армейской телогрейке.
– По плану едем до поселка Новая Грань, – говорит Коля Ральфу и снова заглядывает в бумаги. – Здесь сказано, что кучер должен что-то говорить. Что именно?
Ральф пожимает плечами.
– Это не так важно. Я ведь всё равно ничего не понимаю.
– Вам переводить то, что он будет говорить?
– Ни в коем случае.
Они едут, и кучер говорит. Иногда причмокивает. Поводя ушами, лошадь прибавляет шагу. На сене – мягко. Ноги сидящих свисают с подводы и качаются в такт ходу лошади. За подводой на малом ходу – «Мерседес». Этот кучер не так красноречив, как прежний. Говорит с паузами, словно взвешивая каждую фразу. Ральф внимательно прислушивается, но сидит с грустным лицом. Возможно, это не то, что он ожидал услышать.
Из Новой Грани возвращаются на машине. Ночуют в санатории имени Цюрупы. После завтрака их привозят в Лиски на вокзал, и они садятся на поезд. Путь по железной дороге тих. Сопровождается звяканьем ложек в стаканах и далекими гудками тепловоза. Запахом трав из открытого окна. Отхлебнув чаю, Эрнестина с интересом рассматривает подстаканник. Она бы с удовольствием проделала весь русский путь на поезде. На идущем вдоль железнодорожного полотна шоссе то и дело виден их «Мерседес».
Тишина поездки продолжается и в Миллерове. Окна гостиничного номера выходят на железнодорожные пути, но благодаря стеклопакетам поезда здесь не беспокоят. Составы беззвучно проходят мимо, едва ощутимо отдаваясь в алюминиевом карнизе. В стаканах на стеклянном подносе. Напоминают о себе легким покачиванием кроватей, под которое так хорошо засыпать.
Утром Эрнестина не просыпается. Ральф пытается ее разбудить, но она все-таки не просыпается. Ральф знает, что Эрнестина не умерла. В пижаме выскакивает в коридор и кричит. Прибегает горничная, за ней – Коля. Они смотрят на спущенное Ральфом одеяло, смотрят на Эрнестину. Простыня под ее бедрами мокра. Щеки и губы ввалились в беззубый рот. Вставная челюсть – в стакане на прикроватной тумбочке. Приезжает «скорая». Врачи говорят, что у Эрнестины инсульт. Со всей осторожностью ее спускают в машину. Ральф держится за носилки, путаясь под ногами врачей, но ему не препятствуют.
В больнице для Эрнестины находят место в палате на двоих. Ее соседкой становится Валентина Кузьминична, старуха лет восьмидесяти. Чем больна Валентина Кузьминична, неизвестно. Она лежит, подтянув одеяло к самому носу, и молча смотрит на вошедших. Вокруг Эрнестины хлопочут врачи. Они просят Колю перевести Ральфу, что надежд на выздоровление немного. Коля оставляет прогноз без перевода, но Ральф в этом не нуждается. Он читает его на лицах врачей. На ночь для Ральфа ставят у двери палаты кушетку, чтобы он мог отдохнуть. В другом конце коридора, возле столика дежурной медсестры, в кресле устраивается Коля.
Когда Коля и сестра засыпают, Ральф встает с кушетки и на цыпочках входит в палату. В тусклом свете ночника он видит глаза Валентины Кузьминичны. Он приветствует ее наклоном головы, но Валентина Кузьминична не отвечает. И не отводит глаз. В палате пахнет мочой.
– Это как в Венеции, – шепчет Ральф соседке Эрнестины. – Там тоже такой запах от каналов. Вы бывали в Венеции?
Валентина Кузьминична смотрит в глаза Ральфу. Взгляд ее, казавшийся вначале строгим, на самом деле не строг. Скорее, печален. Ральф садится на край постели Эрнестины и берет ее за руку.
– Это прекрасный город, – он гладит Эрнестину по лицу. – Помнишь наши прогулки? Конечно, помнишь.
Эрнестина тяжело дышит, глаза ее закрыты. Ральф оборачивается к Валентине Кузьминичне.
– Там всё напоминает об уходе. Знаете, в этом городе лучше всего привыкать к смерти. Когда умирает всё вокруг, умирать ведь не страшно.
Он рассказывает Валентине Кузьминичне о беззвучном скольжении гондол и о шлепанье воды под мостами. О том, как катер «скорой помощи» однажды забирал из дома старуху. Она стояла в дверях дома, плед на плечах. У ног плескалась вода канала, и с обеих сторон ее поддерживали под руки санитары. Сев в катер, протяжно смотрела на дом, словно не знала, вернется ли. А они с Эрнестиной смотрели на нее, они были совсем еще не стары. Ральф вздыхает. Валентина Кузьминична лежит неподвижно, одеяло по-прежнему натянуто до самых глаз. Глаза полны слез.
Наутро приезжает сотрудник немецкого консульства. Ему выдают больничный халат, который он набрасывает на пиджак. Войдя в палату, поправляет у больной одеяло. На ломаном русском спрашивает врачей о ее состоянии. Слушает ответ и кивает, обозначая понимание. У носа держит надушенный платок. Подойдя к сидящему у постели Ральфу, кладет ему руку на плечо. Эрнестина издает утробный звук. Вошедший бледнеет. Вообще говоря, нехорошо ему было с самого начала. Из-под одеяла возникает худая рука Эрнестины и начинает дергаться в воздухе. Видно, как под одеялом слабо двигаются ее ноги.
– Это агония, – говорит врач. – Не нужно вам этого видеть.
Сотрудника консульства спешно выводят из палаты. Два санитара подходят к Ральфу. Втолкнув в его рот таблетку, они приподнимают его под мышки и хотят тоже вывести из комнаты.
– Не троньте его, – говорит Валентина Кузьминична. Голос ее неожиданно звучен, почти раскатист. – Того можно выводить, а этого нет. Дайте ему посмотреть на смерть, потому что она его жена. Нельзя так, чтобы в жизни смотреть только на красивое.
Но Эрнестина уже спокойна. Ральф продолжает сидеть у кровати, руки его на коленях. Он смотрит на Эрнестину. Синяк вокруг ее глаза так и не побледнел.
Все вопросы, связанные с транспортировкой тела, решают Коля и консульский сотрудник. Они хотели избавить от этого Ральфа, но он повсюду их сопровождает. Так ему легче. Через день из Ростова-на-Дону прибывает заказанный Ральфом гроб, и в него помещают Эрнестину. Из того же Ростова-на-Дону Ральф с Колей (и Эрнестиной в багажном отделении) летят в Москву, где Ральф должен сесть на мюнхенский рейс.
– Просто я очень боялся пережить ее, – говорит Ральф Коле в «Шереметьево-2».
Он добавляет что-то еще, но его голос теряется в длинном объявлении по радио. Может быть, он говорит, что хотел здесь умереть раньше нее, а получилось наоборот. Это Колина догадка, переспрашивать он не хочет. Перед тем как пройти на регистрацию, Ральф достает из бокового кармана банковскую карточку и дает ее Коле.
– Это к свадьбе, вам это сейчас нужно… От нас с Эрнестиной. Вот код на листке.
Коля хочет возразить, что это – слишком много, что он помнит, сколько лежало на карточке, и не может этого принять, но карточка уже слилась с его пальцами и сковала язык. Коля знает, что его возражения не будут приняты и карточка останется у него, но не находит в себе сил отказаться. Он не может сказать даже «спасибо», потому что этого – мало. Коля молчит. Ральф обнимает его на прощание и направляется к паспортному контролю. Через час его самолет выкатывается на мокрую взлетную полосу. Развивая скорость, рычит и подпрыгивает. Струи дождя мечутся по иллюминатору, превращаясь в бахрому водяных нитей. Самолет набирает высоту, вместе с ним – сто восемьдесят пассажиров салона и тело Эрнестины в трюме. Машина выныривает из облаков и встречается с ослепительным солнцем. Ральф внимательно смотрит в окно. Если существует возможность увидеть душу, покинувшую тело Эрнестины, то произойти это может где-то здесь. Так думает Ральф.
Внизу, под дождем, по шоссе идет Коля. Он не сел в автобус, чтобы иметь возможность выплакаться. Коля не сдерживает рыданий. Ему жаль Ральфа и Эрнестину, ему жаль свою невесту и себя, поскольку только что он видел, чем кончается жизнь. Время от времени Коля нащупывает в кармане пластиковую карточку. Сердце его наполняется неуместным ликованием, и от этого он рыдает еще громче.
Ральф переживает Эрнестину на полтора года и умирает в ноябре 2007-го. Его хоронят рядом с Эрнестиной на Северном кладбище. Кладбище регулярно посещает Брунехильда. Могилы Ральфа, Эрнестины и Ханса она содержит в образцовом состоянии.
– Они были близкими друзьями, – говорит Брунехильда, – и уже только поэтому я не могу обойти вниманием ни одну из могил. Я сама уже пожилой человек, но беру себя, что называется, за шиворот и приезжаю, чтобы за ними ухаживать. Я знаю, что такое долг, и стараюсь всегда платить добром за добро. Могу сказать, что Ральф и Эрнестина тоже помогали мне в послевоенное время, когда я осталась одна с малолетним ребенком на руках. Если учесть цвет кожи мальчика и предрассудки тогдашнего населения… Любому ясно, что мне требовалась поддержка. Конечно, в каком-то смысле Ральф занял место моего бедного папы, но, вспоминая его преданность Эрнестине, я не могу на него сердиться. За год до смерти у Ральфа что-то приключилось с головой, и в его памяти осталась только Эрнестина. Больше он ничего не помнил. Своего дня рождения не помнил. Однажды спросил меня: «Скажите, Брунехильда, а с кем мы воевали и главное – зачем?» Я в ответ просто промолчала. Если человек задает такие вопросы, лучший ответ, я считаю, молчание.
Примечания
1
Совсем маленький (нем.).
(обратно)2
Любовь втроем (фр.).
(обратно)3
Смерть втроем (фр.).
(обратно)


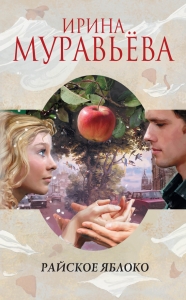
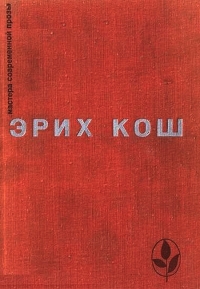





Комментарии к книге «Идти бестрепетно», Евгений Германович Водолазкин
Всего 0 комментариев