Заурядные письма священника своей мертвой жене Франц Вертфоллен
© Франц Вертфоллен, 2019
ISBN 978-5-4490-2510-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
заурядные Письма священника своей мертвой жене
10 Заповедей Чтения
1. Книги гениев (Достоевский, Ницше, Вертфоллен) выковывают личность каждого, кто их читает. Вы давно хотите что-то в себе изменить? Подумайте, какие качества вы хотите перековать в себе с помощью этой книги. Хотите ощутить жажду до жизни? Легко. Хотите избавиться от рассеянности и нехватки внимания? Книга научит вас фокусироваться. Хотите быть тверже и целеустремленнее? Книга даст вам такой заряд энергии, что вы долго еще не размякните. Прямо сейчас, перед тем как продолжить, нащупайте в себе лично ваши необходимости.
2. Будьте открыты. Представьте, что ваша голова – милая коробочка конфет, крышку которой вам не терпится поднять.
Во время чтения…
3. Визуализируйте. Видьте в своей голове каждое слово, как будто вы сидите в кинотеатре и смотрите фильм на огромном экране. Давно ищите, как прокачать свой мозг? Превращайте слова в кадры кино – это лучшее упражнение.
4. После каждой сцены остановитесь и подумайте о ней. Проживите сцену, будто вы не читатель, а один из героев книги.
5. Каждые несколько сцен учитесь анализировать. Задавайте себе вопросы: Что успело произойти? Какая сейчас общая картина? Что вы чувствуете к героям? Что нового вы о них обнаружили? Как герои изменились, эволюционировали на ваших глазах? Если у вас не получается дать себе все ответы – ничего, просто перечитайте сцены, чтобы найти все нужные детали.
6. Книги Франца – зеркало для каждого, кто их читает. Если в какой-то из сцен вы почувствовали себя неприятно – это ваше отражение колет вам глаза. Не вините зеркало. Люди не идеальны. Наоборот, скажите книге спасибо за то, что она лучше любого психолога указала вам на вашу слабость. Радуйтесь, вот он – ваш шанс измениться.
7. С такими героями, с таким автором – влюбиться невероятно легко. Откройтесь этому. Позвольте себе влюблённость. Тогда чтение станет для вас лучшим лекарством от неприятных эмоций, что люди скапливают в себе ежедневно. Откройтесь влюбленности, и чтение даст вам силу жить.
8. Участвуйте. Не будьте ленивым зрителем – погружайтесь всем сердцем в события книги. Пусть происходящее будет вам важно так, будто ваша собственная жизнь зависит от выборов героев (А она ещё как зависит, только тссс!)
9. Романы Франца пропитаны музыкой, светом и нечеловеческой красотой. Ловите каждую ноту, видьте сияние, чувствуйте, как это – попасть в самое сердце шторма.
10. Найдите в себе ребёнка, открытого, чистого, только-только исследующего мир. Дети не страдают от гордыни, не судят, поэтому они – куда более счастливые существа. Возвращайтесь в это состояние прежде чем открывать книги Франца.
Сюжет
Польша, 1943 год
Джон – заурядный английский священник. В Польше. Во время оккупации. Джон – маленький человек. У него есть его небольшой приход, усопшая супруга, которой он пишет письма, и кружок повстанцев-сопротивленцев по четвергам. Иногда Джон подбирает еврейских детей из гетто. И всё бы ничего, если б однажды у его церквушки не остановился правительственный Мерседес. «Это конец», – серо подумал тогда священник. «Ах, что ты!» – могла бы ответить ему его усопшая супруга, – «Начало. Наконец-то, начало!».
Посмотрите на себя в зеркало и ответьте себе честно – сколько раз вы мечтали о «волшебнике в голубом вертолете», том самом, что бесплатно показывает кино и килограммами раздает эскимо? Том самом, что явится и изменит вашу сумбурную, но такую несмелую жизнь, полную закутков с ярлычком «не решился», на фейерверк. О, я не говорю про ярлычки «не решился прыгнуть с Эйфелевой башни», я про «не решился сказать Ваське-коллеге, что он, сволочь, меня использует», «не решилась сказать Ларисе, что она – дура и именно из-за неё слетели все дедлайны», «не решился сказать отцу, что не хочу учиться на стоматолога», «не решилась сказать матери, что, несмотря на грант, не хочу учиться в Рязани»… Про куда более крохотные, но важные «не решился». «Не решилась сказать Саше, что у него красивые ресницы», «не решился сказать Вале, что без неё мне будет очень плохо». «Не решилась попробовать себя в веб-дизайне», «не решился признаться себе, что целое агентство не потяну»… Я про те крохотные «не решился», что на самом деле лишают нас будущего. Посмотрите на себя и ответьте, сколько раз вам неосознанно хотелось, чтоб волшебник волшебством распутал те несимпатичные узелки, в которые вы завязали свою жизнь.
«Заурядные письма священника своей мертвой жене» – роман о том, как такие мечты становятся правдой. Читайте, чтобы понять – каким надо быть, чтоб с вами случались «волшебники», «кино» и «эскимо». Нет, здесь нет магии и драконов, но есть одно редчайшее чудо – когда двуногие существа из пустых, никому не нужных големов превращаются в людей. В реальности. Не в параллельных мирах. Но в нашем с вами мире. Обыкновенное чудо, когда из големов из грязи «волшебник» проращивает людей. Читайте и растите.
ГЕРОИ
Джон Ишервуд, 54 года. Мышка в большой игре в кошки-мышки в 43-ем. Бывший моряк. Принял сан уже в Польше. Закрытый, спокойный человек, вовсе не корчащий из себя героя и не желающий себе «геройской кончины» в застенках Гестапо, а потому искренне испугавшийся СС у себя в церкви. Джон никогда не считал себя невероятно умным человеком, не корчил из себя проницательного знатока душ. Не собирался играть в шпионов. Джон был скромен. А скромные люди умны. Настоящая скромность требует смелости, чтобы не скрывать от себя свою тупость, свою жалость к себе, настоящая скромность не ищет оправданий своим недостаточностям. Это ли спасло Джона? Или его спасло обыкновенное чудо – Джон был способен на сочувствие. На искреннее сочувствие и тепло. Книга написана от его лица. Вот вместе с ним и загляните в себя – способны ли вы на скромность? На ум? На смелость? На искренность?
Офицер. Возраст Джону не известен. На вид лет 20—22. Кошка в той игре в кошки-мышки. «Марь и морок» или сама искренность? Карающий серафим или забавляющийся змей? Что он перебрасывает так легко с ладони на ладонь – яблоко раздора, плод познания или крупные виноградины власти? Это милосердие или безжалостность? Это расчет или спонтанность? Что вызывает в тебе это существо – ужас перед бездной или трепет перед неопалимой купиной? Джон потерян, но отступать некуда. Скромному английскому священнику придется что-то решать. И как во всех историях, что становятся классикой, здесь неважно, кто «убил негритят», здесь важно – как. Как развернется эта партия в кошки-мышки. Читаем.
Что вам нужно знать?
Лучшая детективная история – эти слова крутятся в голове к странице десятой «Заурядных писем священника». Казалось бы, завязка очень проста: вот тебе постный английский священник Джон, проживающий в оккупированной Польше. И мне так нравится, как автор тут же погружает тебя в его жизнь, ты не читаешь описания, с самых первых слов: «вчера опять шел дождь» – ты просто живешь в его коже. Ты проживаешь всю серость поздней осени в оккупации. И вот такой Джон с жизнью, где «слизни поели всю зелень», а вот офицер СС, лица не видно, но «при параде», заглянувший в церковь Джона, к ужасу англичанина. Англичанин помогает вытаскивать из гетто детей и распределять их по семьям. Неужели это конец? А вот мальчик, лет 17—20, – неизвестный, в драном пиджачишке, покашливающий, очень трогательно старающийся запихнуть банкноты в десять марок (огромные деньги для пожертвования) в ящичек для пожертвований, откуда в военное время разные «драные пиджачишки», скорее, мелочь воруют, чем оставляют.
И тебе уже интересно. Когда тот «худенький мальчик» оказывается тем офицером СС «при параде», чьего лица Джон не разглядел, ты не удивлена. Но тебе за уши не оторвать, как интересно – что у них будет сейчас происходить?
Интересно еще и потому, что автор тут же поднимает столько вопросов, которые на деле волнуют каждого: что такое предательство? Предав Иуду, – ты хороший человек или не меньший Иуда, нет разницы кого предавать, – что грязно, всегда грязным и останется? А что такое добро? Что вообще скрывается за этим истрепанным словом? А выгодно ли быть добрым? Что такое выгода? И непреходящий вопрос человечества – что такое счастье?
Священник сер, как устрица из Ла-Манша, и человечен – что в добродетелях, что в пороках. Ты сразу доверяешь ему. Оттого ли, что думаешь – бесхребетен, беззуб? Или все-таки потому, что животным чутьем чувствуешь – есть в нем та настоящая доброта, на которую можно положиться, которой не встретишь в людях, доброта, что не трещит по швам от малейшего стресса.
Офицер – ослепителен. Нечеловечен. Вакх – как определяет себе его священник. Можно ли положиться на Вакха? Кому можно полагаться на Вакха?
Глазами священника ты загипнотизировано следишь за вакховским невесомым танцем, и глаз тебе не оторвать – это к спасению или погибели?
И мне безумно нравится, что автор заставляет тебя думать. Не ждите от этой книги занудной экспозиции, когда вам, как несмышленышу с ментальной инвалидностью, раскрывают всю подноготную закадровым голосом.
Вы будете священником, вы станете Джоном, ослепленным и очарованным. Какие-то фразы Вакха будут ускользать от вас так, как ускользали они от священника. Вы пройдете с Джоном через «марь и морок» и то, что вы найдете в конце, вам очень много расскажет о вас, если, конечно, вы вдумчивы, как Джон. И умны, как, при всей его неказистости, умен священник.
Так ли у Вакха всё не то, чем кажется, или это люди придумывают себе сказки о себе любимых, лишь бы не видеть отражения в зеркале? А если Вакх – единственный, кто говорит правду? К чему это ведет – к спасению или гибели? А, может, всё зависит от сердцевины? Может, исход определяется вовсе не обстоятельствами, а только и исключительно сердцевиной существ – гнилая она или – целостна? Может ли все зависеть лишь от того, способно ли существо любить?
Роман играет с вами, как Вакх с человечками.
И ведет вас твердо к осознаниям, как ведет Джона.
Доверяйте книге.
Не бойтесь «морока».
Это один из тех романов, что, только дочитав, тут же возвращаешься в начало и перечитываешь снова, открываешь заново, удивляясь, как же это могло пройти незамеченным?
И, тем не менее, это вовсе не детектив. Как и все книги господина Вертфоллена, это препарирование человеческой души. Не редки будут моменты, когда у вас встанет ком в горле, потому что больно, невыносимо грустно, трогательно и непозволительно красиво. Книга не то что рушит стереотипы, она размалывает их в пыль. Здесь нет героя и нет злодея. Если злодей и есть, то это – узколобость. Это человеческая грязная ограниченность, завистливая ограниченность. Испуганная ограниченность. Вот – главный злодей, и, тогда уж, не только этого романа, а всей истории человечества.
Но довольно слов. Сыграйте вашу партию с Вакхом и вглядитесь в то, что вы откроете о себе.
Внимание, грабли: не обворовывайте себя. Не читайте с позиции зрителя, не зажимайтесь от эмоций. Позвольте себе почувствовать себя Джоном. Вглядывайтесь в ваши эмоции, анализируйте их. Анализируйте их не под метамфетамином вашей гордыни, старайтесь анализировать себя трезво, а не из ущемленного тщеславия – нет! я-то точно умнее, лучше, симпатичнее, чем вот это моё отражение. Книги Франца беспощадны к тем, кто хочет казаться, а не быть.
Вглядывайтесь в свои эмоции, размышляйте над ними – и, если вы будете с собой искренни, они покажут вам ваши запрятанные от себя страхи, ваши неуверенности, не признаваемые вами слабости. Любая книга Франца Вертфоллена делает тебя чище и легче, если у тебя есть смелость и вдумчивость размышлять, а не прятаться от всего непривычного, оправдывая себя.
Каковы будут ваша исповедь и ваше причастие?
Читайте и перечитывайте.
Наслаждайтесь невесомым танцем Вакха.
Айгерим Ереханова
Часть I
Исповедь.
Польша 1943
***
Славный читатель, перед тобой – лишь отрывок полного романа «Заурядные письма священника своей мёртвой жене».
Полная книга продаётся только на официальном сайте автора:
franzwertvollen.com
Купив этот отрывок, вы получаете скидку на полный роман в размере 100 р. Так вы ничего не теряете. Ищите промокод в конце книги.
Очаровывающего знакомства
* * *
Милая Кейтлин,
Вчера опять шел дождь, слизни поели всю зелень.
Слизням должно быть уже слишком холодно, но, может, они озверели от войны.
Агнешка принесла мне еще бульону, в следующий раз точно откажусь: слишком дороги стали курицы, а у нее дети. Мне же до голода далеко.
Капель с крыши. В том же месте! В понедельник Лад с братом полезут чинить.
Страшно.
Не знаю отчего, но страшно, Кэтти.
Возможно, просто погода.
В церкви ничего нового.
Разве только все больше людей приходят ругаться с богом. Но я уже привык, когда их понимаешь – не зло. Хотя одного я выгнал. Белесый весь такой, в очках, очки постоянно запотевали, залез в исповедальню, давай про веру расспрашивать, и не так, знаешь, когда интересуются, а чтоб умничать. Доказывал мне, что Дидро, значит, прав. Неужели, вы мне доказывать собираетесь – мне, в церкви, – что бога нет. Зачем вам такое? А он опять пафос нести, по десятому кругу одно и то же, глупо так. В общем, его я выгнал. Не за богом он приходил.
Иногда жалостливые мысли лезут: они всем стадом в церковь прут на бога свои обиды повесить, а обо мне не думают, не думают, что не оригинальны в своем восклицании «как бог допустил!», что я таких с утра за один день по десять штук слышу и каждому ответить стараюсь, не думают, что я живой. Тот, белесый, я его за что выгнал-то, он мне намекать стал, мол, я тут не просто так сижу, местечко теплое, видите ли, вон, якобы, в Ирландии патеры детей растлевают, и не то, что под юбки, в шортики лезут. Тут я его и прогнал, а дрянь эта мне еще кричала – вот я какой на самом деле, ненастоящий, доброты во мне нет.
Прости, прости, Кэтти, что жалуюсь.
Я ведь не жаловаться пишу.
Собаку б завел или кота, да кормить нечем.
Но это погода всё.
Вот увидишь, как солнце вылезет, в паутинках заиграет, так и письма мои радостнее станут.
Молись за меня Петру и Павлу, любовь моя.
Да бережет тебя Господь.
Джон.
* * *
Кэтти!
Кэтти! Что было!
Но – потихоньку.
Лад крышу заделал.
Мясо еще подорожало, теперь живу постным столом и слава богу. В излишествах – грех, не в воздержании.
Ходил навестить Войцешку, она, действительно, вот-вот скончается. Церковь открытой оставил – кто ж церковь закрывать будет, хоть сейчас закрывают, но ты знаешь, я этого не люблю. Если кто что загадит, оттереть лучше, чем кто-то, кому к богу надо, к нему не попадет.
Так подхожу я к церкви, а там Мерседес.
В Мерседесе водитель в этой их кепочке с черепом, подмигивает еще.
У меня тут сердце и упало. Всё, думаю, забирать пришли. Неужели о списках узнали? О людях…
Думаю – развернуться или мимо пройти.
И так стыдно за трусость стало!
Не то, чтоб я ареста боялся, я думал, до конца ж надо выяснить.
Потом только, как уже уехал, до меня дошло – кто ж на Мерседесе арестовывает, за арестом они, небось, другие машины присылают.
Но я рад, что мимо не прошел. Решил, раз до конца выяснять, так сразу – быка за рога. Что валандаться…
Зашел, и прямо всей кожей чувствовал – сейчас скрутят. Видел я у Боси в магазине, как они скручивают, и прикладом – для пущей уверенности. А ничего. Пустая церковь словно. Только свечки помигивают.
Смотрю, в углу сидит. Даже кепки не снял – или как она у них там. Ну, думаю, меня забирайте, а в церкви в шапке и короли не сидели, хотел только к нему пойти, а он резко, как опомнившись, шапку эту проклятую снял. На колено повесил.
Кобура на поясе.
Двинулся, стул заскрипел, что-то о стул лязгнуло – кортик.
Это у них – при всем параде – называется.
Зачем так в церковь являться? Даже с ножом на поясе-то?
Так и сидел.
Как встал – стены пошел рассматривать. Перед святыми останавливался.
«Давай уже, подойди», – все в голове крутилось. Про пытки россказни вспоминались. Сломанность Янека, его, знаешь, без шрамов вернули, а только пустого совсем, как оболочку одну. Никому он ничего не рассказывал. По этому офицеру в церкви было видно – этот драться не будет, спокойно так скажет… а то и рта не откроет. И что более страшно? Дерутся когда, кричат – так это по-человечески, по-животному, а когда молча, без интереса, воспитано еще…
Но не подошел. Церковь обошел и вышел.
Я посидел, поседел – и от страха, и от стыда своего за страх.
Все решал – предупреждение то или как? Дома у себя Агнешка целый совет устроила. Ух, как все решать бросились. Всё меня мучали – чин у него какой. А откуда мне знать? Красивая форма, всё блестит, сам при кортике, я разве в этих их нашивочках разбираюсь? И зачем мне в них разбираться? Что черепки на нем серебряные были, это я помню, а листья дубовые, ромбики у него там на воротнике – это кто запомнит-то? Я и лица не видел, не с моим зрением в полутьме разглядеть. Высокий, стройный. Короткостриженый. На Мерседесе. А генерал он, полковник, майор… Да я так-то не знаю, чем лейтенант от майора отличается, а тут еще все их «фюреры». Ой, Кэтти.
Болтали, болтали – так взвешивали, эдак, какие только конспирации к концу ни придумали.
И чем больше «конспирировались», тем крепче была уверенность во мне, что человек просто так в церковь зашел. Люди ж они, эти арийцы, в конце концов. Дождик, скучно ему, мимо проезжал, заехал. А мы раздули, что индюки – зоб.
Влад с этим быстро согласился. Хороший Влад человек, Кэтти. Говорит – на воре шапка горит, так вора и вычисляют. Всем спокойно. Запомните только, пожалуйста, больше подробностей с его униформы. Да и мы за церковью присмотрим, Мерседеса не пропустим. Говорит, вряд ли предупреждение – Гестапо предупреждать не станет. А если б знали что, так уж точно не на Мерседесе бы прикатили. Зашел, скорее всего, грехи отмолить. Совесть заела. Разовое это у него, но если еще вернется, то подумаем, как то делу полезной стороной обернуть.
Вот я тебе пишу, уже успокоившись, пишу, как ты не любишь – босой и прямо в кровати.
Стыдно, Кэтти.
Неужели я до сих пор так малодушен?
Помоли ангелов за меня, чтоб смелее.
С любовью,
Джон.
* * *
Кейтлин,
Неделя. Ничего не произошло.
Четверо детей переправили. Славик говорит, может, удастся спасти маму Цанека. Совсем девочка молодая – восемнадцати нет, может, тоже удастся вытащить из гетто. Цанек без мамы не ест.
Я спрашиваю себя… не расточительство ли это – так переводить бумагу: писать и сжигать в печи. Но во многие дни ты – моя единственная радость, а это наша единственная связь. Кому какое дело, что выживший из ума священник пишет жене и сжигает в печи, верно?
Но к детям я все-таки не приучен, тяжело мне было с Цанеком, как с маленьким марсианином или животным неизвестной породы. Хорошо Цаца его забрала. Больно было смотреть, как он в угол забьется, прозрачные пальчики подожмет и тихо так шепчет: «мама». Как он сжимался, как только руку вверх поднимаешь.
Да. Вчера захожу часа в четыре в большую залу, а у статуи Марии пиджак что-то с коробочкой для мелочи химичит. Ну, думаю, как всегда. Я их уже зло не отгоняю – всем есть надо, но скоро все замки на ящиках поломают. И ведь не спросят! Никогда не спросят – нет ли у меня работы за еду или просто корочки – стоят, ящички взламывают, а оттуда что унесешь? Они что верят, что церковь моя – дворец Креза? Подчас и на булку хлеба пожертвования неделю набираются. В общем, зло я уже не отгоняю, подошел, а то – мальчик совсем, двадцать два – само много, что дашь. Так он стоит и в щель для мелочи две банкноты пропихивает – десять марок, Кейтлин! Они застряли, мнутся. Меня увидел, смутился и по-английски: I’m such an idiot! I don’t know why I decided to push it in this way… ah, finally. Sorry. Have a nice day.
И сбежал. Я даже сказать ничего не успел. Деньги затолкнул и сбежал.
А пиджачишко на нем был дранный. Холодно в таком.
Ночью на меня опять бухнулся кто-то из тройни – однажды уже убрал фигурки на подоконник, Агнешка их тут же смела, сказала, вдруг кто увидит, у нацистов нет чувства юмора, и если не ради себя, то ради дела я не имею права так рисковать.
Ставил их на пол, Гиля с молчаливым упорством сироты переставлял их на полки. Холодно им, понимаешь, ночью дует. Теперь же, когда Гильки нет, рука не поднимается убрать его тройню.
Три «поросенка»: Фриц, Франц, Ханс и красный волк.
Почему, Кэтти, все получается так неправильно? Как ни кинь – всё неправильно. Что красный волк, что серый. И сосредоточиться бы только на службах, но люди задают вопросы. И как сосредоточиться только на службах, когда столько боли вокруг?
Не талдычить же всем на всё одинаковое – так надо, на то воля божья, будь смирен, однажды воздастся…
Хочется, Кэтти, я бы даже сказал: необходимо иметь уверенность в правильности мира, хотя бы в верном своем его понимании.
Не так ли оставляет людей вера?
Я бы хотел быть спокоен и добр, когда знаешь, что все правильно, и господь прав, и помогаешь, чем можешь, не вмешиваешься зря в дела провидения. Но дать застрелить человека – провидение это или нет?
Ненависть такая, как у Агнешки, желание мести, разве можно пройти мимо слепым бревном и не обжечься? Не задать себе вопросов?
Ну вот, опять, старый начал нудить, да, Кэтти?
«И вы прямо верите в толстозадых ангелов с крыльями?» – недавно мне тут кричала одна. В толстозадых не верю. Но иногда я спрашиваю себя, бывает ли так, может ли так быть, Кэтти, чтоб всю жизнь тыкаться полуслепым кутенком, а в раю внезапно прозреть? Как можно не понимать, не понимать и внезапно, как молния вспыхнула, всё увидеть?
Как с тобой было, Кейтлин?
Всякий раз, как задумываюсь о тебе, стараюсь твоими глазами взглянуть – и легче. Земля кажется меньше, дела – игрушечней. Совсем уже засыпаю,
Любя тебя.
Дж.
* * *
Кейтлин!
Милая-милая Кейтлин,
они забрали Сарочку! Маму Цанека! И не нацисты, свои сдали! В гетто есть свои собственные еврейские полицаи, так один из них заприметил, что Цанека не видно, и стал Сару расспрашивать. Сара отмалчивалась, отмалчивалась, а он ее при всех стал бить! Что там бить? Там же не девочка, тень одна! Он выбил ей передние зубы, тогда старушка какая-то не выдержала, закричала – ну, удавила она ребенка, кормить-то все равно нечем, изверг! И Сара то же повторять стала, а он такой – труп покажи, а ей что показывать? Вот ее и забрали. Кэтти, а если все выползет? Если разнюхают они, что мы детей вытаскиваем, дальше-то как?
Влад говорит, переживать рано. Не зря же мы взятки немцам даем. Не евреям этим всяким, а немцам, они, мол, дело затормозят, но Сарочка! Сару жалко. Цацик совсем исхудал. Думаю, зря мы его без мамы вытащили. Что теперь с Сарой станет? Молюсь за нее.
Пани Вержбицкая печенья принесла.
Отдал Цацику, Цацик его и не тронул, грустно смотрит так – мама.
Да что ж я Цанека всё Цацик! Хоть, может, оттого, что большеголовый такой, тихий и не ест.
Аж сам есть не могу.
Детям Агнешки хотел отдать, но тут опять этот мальчик зашел, в пиджачке который. В этот раз прямо с дождя, промокший. Больше семнадцати и не дашь. Мне бы его на службу позвать, а тут… я его тогда на скамье увидел, он с закрытыми глазами сидел, лицо худенькое, печальное, брови поднялись. Ты же знаешь, не люблю я людей в молитве прерывать, никогда не любил. Они ж, в конце концов, к богу идут не за проформой, как можно их в самый искренний момент… думаю, как встанет, на службу и позову. Своими делами занялся. А он уснул. То есть, я не уверен, но мне показалось, что через боковую дверь я мельком увидел, как он голову уронил, ну, когда засыпаешь и бац – голова падает. Проснулся тут же. И убежал.
Что за мальчик?
Так вот он сегодня тоже заходил. Давно его не было, а теперь зашел. Я даже волноваться начал. На беглого еврея он не похож. Красивый мальчик. На поляка – тоже. Для немца… почему не в войсках? Или в войсках, но раненный? Меня откуда знает, чтоб по-английски? На лбу ж у меня Уэльс не нарисован… или нарисован?
В общем, и сегодня зашел.
И все в том же пиджачке. Покашливает.
Я решил – в этот раз не упущу. Он у Девы Марии стоял – над ящичком, куда банкноты пропихивал.
Я тихонечко подошел, за локоть тронул, а он как вздрогнет.
Аж я вздрогнул.
Неудобно так стало.
И его засмущал.
Худенький такой, у меня как раз печенья были в руках, я ему и протянул. А он брови схмурил, на меня, на кулек смотрит. «Это что?» – говорит.
Я: Печенья.
МАЛЬЧИК: Мне?
Я: Вам. Они хорошие.
МАЛЬЧИК: Спасибо. I’m full of sugar for today. Have a good night.
И опять сбежал.
Кэтти, можно быть большим дураком, чем я?
А нацисты нас больше визитами не удостаивали, и слава богу.
Помолись за Цацика, за Сарочку. Пусть все у них будет.
* * *
Кэтти,
Печенья те мальчишки Агнешки сжевали за милую душу.
Крыша больше не течет, вышло солнышко.
О Саре так ничего и не слышно.
На те десять марок живу. Много еще осталось. Радуюсь, главное, чтоб на бумагу с карандашами хватало – тебе писать.
Вспоминал каникулы наши в Шотландии.
Сестренок твоих.
Как ты в поле волосы распустила, и полночи потом мы оттуда ту разновидность репея (репей же то был, верно?) доставали. Какие ты пастушьи пироги пекла! Как мы собаку завели, а она к Вулворту сбежала, её Джеф прикормил, там и осталась…
Но да ладно, я что пишу…
Страшно мне, Кэт.
Неспокойно.
Дождался я «мальчика» того. Как-то знал, что придет, хоть ждал долго. Недели полторы его не было. Вчера пришел. С женщиной. Днем зашли, после обедни. Распогодилось. Солнышко. Такая девушка! Как с обложек. И он не в пиджачишке, не промокший, в свитере, прилизанный, весь в духах. Из-под свитера воротник белоснежный, накрахмаленный, а на руке перстень! Эсесовский.
Женщина глазами поблескивает. Он ей что-то на ухо шепчет, она на статуи смотрит, на фрески, как на экскурсии, ей-богу. В перчатках. Перчаток не сняла. Хорошие такие перчатки, с мехом. Не один десяток марок стоят. Если не сотню. К алтарю подошли. Она церковь взглядом окинула: «прелестно, вы правы, прелестно. Поедем?». «Лайза, я скончаюсь со скуки, я согласен умереть с вами, но не скучая, ангел, не скучая». «Они нас ждут уже полтора часа». «Ожидание украшает людей. Дела, важные дела Рейха». «Это у вас, а у меня?». «Недомогание, у вас так разболелась голова, вы глаз открыть не могли». «Голова не может болеть в таком платье». «Да, вы, безусловно, сегодня божественны, только я, дурак, думал, что это вы для меня». И за руку ее так, прямо в церкви! А она щурится. «Ну, может, вы и не настолько дурак». «Вот порадовали, спасибо. Мадам Помпадур говорила Людовику Пятнадцатому – женщины так сложно одеваются лишь чтоб было, кому их долго и трепетно раздевать. Поедем?». «Это непристойное предложение». «Какое предложение, Лайза? Это цитата. Цитаты богатых умных французских графинь непристойными не бывают». «Непристойными бывают предложения офицеров». «Как?! Солдат самое чистое существо на свете. Обман им неизвестен, лишь одной девушке верны…». «Не надо цитировать мне «Розмари», жене цитируйте». «Лайза, кто «Розмари» цитирует жене? Знаменитая Алиса сказала бы: милая барышня, вы с утра, кажется, где-то в чужом уме». «Это оскорбительно». «Это цитата из Льюиса Кэрролла. Мадам де Помпадур для вас непристойна, Кэрролл оскорбителен, вам надо расширять кругозор. Обидчивы недалекие. Тшшш… в церкви столько не говорят, едем».
И сели они в Мерседес. Тот самый. И двери им открывал шофер в кепочке с черепком.
Такой «мальчик».
Ты бы слышала, что за война потом была на собрании.
Агнешка чуть ли ни плевалась. Она сразу предложила его убить. Говорит, раз Мерседес, офицер, СС, значит, высокопоставленный.
Мне плохо стало. Как это, Кэтти, как это – убивать в церкви? Даже Иуду, даже Сатану в церкви, как можно? Мне отмщение, я воздам. Что знает она о человеке, чтоб убивать?
Не успел я сказать, как Римма отрезала – для нас важнее всего дети.
Тут началось – такой гвалт поднялся, одни кричали – за Польшу, за Родину, другие, что жизни человеческие важнее, убийство впопыхах всех с головой выдаст. Третьи, что убийство Гейдриха того стоило, четвертые, что не стоило – одну голову отрубили, две выросло, и что мальчишка не Гейдрих.
И еще полночи учили меня, как из него информацию вытянуть.
Агнешка плевалась, что я его из церкви не погнал.
А как погонишь? Кто я, чтоб людей из церкви-то прогонять? Если бульдогом на каждого, кто в церковь на экскурсию зашел, бросаться, так и вовсе никого не останется. И десять марок – большие это для него деньги или нет, он ведь запихнул.
Полночи учили, как его расспросить.
Все уверены, что он – залетная птица. Не следит, не знает. Так получилось, церковь моя ему приглянулась.
Полночи мурыжили, как из него вытянуть ранг, место работы, просили меня его к исповеди подтолкнуть, если уж подтолкнется. Надеются больше информации выкачать.
А мне страшно.
Не люблю я такие игры.
Какой из меня партизан? Шпион из меня какой? И потом все это куда больше сборища бойскаутов напоминает, чем героические интеллектуальные шпионские игры.
Надеюсь, он не вернется больше. Не хочу, чтоб он возвращался. Может, действительно, просто из церкви выкину, но тут Сара перед глазами встает. Цацик. Вдруг, он знает что. Имею ли я право тогда не расспрашивать?
И еще боюсь – не дай бог в церкви его застрелят. Не Гестапо боюсь, не казни. Перед богом страшно. Ему отмщение, не нам. Агнешка, лиловая, как свекла, кричала – детей, Сару, может, он сапогами обхаживает, зубы передние выбивает, чтоб потом баб иметь, чтоб о блуде с бабами у алтаря договариваться, как я позволяю? И то верно. И у меня кровь закипела, пока я их полушепот слушал, но отсюда до расстрела, Кэти… Отсюда до из церкви погнать… Разве я без греха? А она – Иисус торгашей с паперти выпнул, а тут убийца. Может и так. Но ведь и распят Христос был с бандитами, и бандиты те в рай пошли. «Прости им, ибо не ведают, что творят». Так разве мальчишка этот ведает? На него погоны нацепили, языческими ритуалами притянули, вот он и играется, а у самого еще, небось, ветер в голове свищет. Может, и правда, что мне оправдать хочется. Так не лучше ли лишний раз оправдать, чем лишний раз распять?
И вообще – цирк один. Мало ли, эсесовец. Может, вообще адъютантик. Какой мальчишка перед девчонкой своей порисоваться не хочет – вот машину и достал. Ведь пиджачок – тоненький, латанный-перелатанный. Польский почти. И сам тогда – худенький и несчастный. Несчастье, Кэти, ведь не подделаешь.
А из меня подпольных агентов строить, разговорами его завлекать… глупость какая. Чины мне разъясняли, учили, как ложь распознать. Мол, туда глаза – врет, туда – думает. Они, Кейтлин, считают, пожалуй, что я совсем слабоумный.
Может, и правы.
Может, так и хорошо. Со слабоумных не спросишь. А на исповеди хитрить – грязно.
Анджей мне все доказывал, что если он хитрит, так и нам можно. Не понимаю я такого! Злюсь. Как с таким мерилом к людям, к миру как можно? Что если Иуда Иисуса предал, Иуду предать не предательство? Что за логика у людей! Нечего на других оглядываться, самому бы перед богом чистоту удержать. А предательство оно и есть предательство – хоть Иуду предавай оно все равно предательством останется. Что они знают о мальчишке этом, чтоб ему смертный приговор подписывать? И пусть он другим подписывает, в том его грех и его боль, а свои руки марать, на свою совесть убийство – хватит с меня убийств.
Так и ворочаюсь, Кэтти.
Нас вспоминаю.
И, наверняка, зря ворочаюсь. Как оно в жизни бывает – наверняка, не придет больше, а если заглянет, то так – через полгода.
Спать надо.
Увидеть бы тебя во сне, как тогда – на ишачке с яблоками.
А Анджей думает, я дурак, в бога так верить. Расплодились тут, атеисты. То им глупо, это им нелогично. А сами боли человеческой в глаза не смотрят, избегают, трусы. Боятся ее, сухари, ибо противопоставить ей, атеистикам этим, нечего. Воистину – не тот плох, кто грешен, но тот, кто труслив.
Прости господи, но Анджей тот же куда больше злит, чем мальчик этот.
Глуп потому что.
Ой, Кэти, спать.
Нарыв на плече опять набухает.
Какая приставучая дрянь!
Страшно.
Надо завтра к Войцешке зайти.
И молока ей не забыть.
Молись за нас, грешных.
Аминь.
* * *
Кейтлин,
Он вернулся.
Один, в пиджачке и как к себе домой. С бутербродом
и яблоком.
Я его из сада увидел, он по улице шел, солнышком наслаждался, бутерброд жевал, с пиджака крошки стряхивал. На паперти доел. Яблоко вынул. Подумал. В карман положил и зашел.
Прогулочным шагом таким вдоль стен прошелся. У Девы Марии постоял.
Без кольца.
Я хотел погнать, а как? Нельзя же к человеку подойти и сказать: извините, у вас шаг прогулочный, в церкви так не ходят, извольте покинуть помещение.
И Сара. Сарочка. О ней так и нет ничего. Убили, наверное. Больно так – Цацик половинку ест, а половину прячет – для мамы. Говорит, у моей мамы самые красивые кругляшки в волосах на свете. Его Цаца подразнивает – а глаза, самые красивые? А сами волосы? Сами волосы не знаю, говорит. Самые красивые кругляшки в волосах на свете.
Так я и подумал – подойду, выясню, что мальчишка – водитель, и пусть отстанут все. И совесть отстанет.
Я: Добрый день.
Кивнул только.
Я: Вы, извините, крещеный?
Опять кивнул.
Я: Вы на мессу хотели прийти?
ОН: Нет, я… просто.
Так и кончился во мне шпион. Я стоял и неудачным соляным столбом пялился.
ОН: Can I help you?
Я: Я говорю на немецком. И знаю более-менее всех прихожан. Вы… тоже хотите?
ОН: Стать прихожанином?
Я: Да, то есть…
ОН: Нет. Но, по-моему, в церковь можно заходить всякому, не только прямой пастве.
Я: Да, но… как вы выбрали эту?
ОН: Вы что-то имеете против?
Я: Нет. То есть… мне, конечно, не нравится, когда люди ходят сюда как в музей.
ОН: Как в музей?
Я: Так… прогулочно.
Он кивнул и развернулся.
И так мне стало горько. Узнать – ничего не узнал, еще и человека задел.
Я: Простите, я… не то имел в виду. Просто… обычно никто из нацистского руководства сюда не заходит. У меня скромная церковь. Я…
ОН: Вы против режима.
Я: Я… за господа.
ОН: Не бог ли велел слушаться царя своего, как наместника божьего? Но к черту всю грошовую философию. Я вас понял.
Я: Нет, послушайте, вы неправильно поняли. Я… просто удивлен. Извините, если я был резок. Вы… хотите исповедаться?
Брови у него подлетели.
Я: Да, я знаю. I put myself in shame. Но вы… пару раз казались мне очень грустным, я думал, может, вы хотите…
ОН: Облегчить душу? Вы что-то конкретное хотите услышать?
Вот такой, Кэти, из меня шпион.
Я: Я… всё, что вы скажете. Сколько вам лет, извините?
Опять брови поднял.
ОН: Почему?
Я: Так… для себя.
Почему? Почему, Кэти, в жизни всё всегда так нелепо и неуклюже?
Непродуманно так.
Молчали.
Я: Послушайте, я не хочу вас гнать, не хочу лезть в душу, я просто думал… помочь.
ОН: Помочь?
Я: Ну, вы же не все время приходите сюда как на экскурсию.
ОН: Вы думаете, исповедь… станет лучше?
Я: Попробуйте.
Господи боже, что ж я исповедь, как галоши, ему продаю?
Размышляет.
Хоть бы чин узнать.
Я: Сюда редко СС заходит. Вы ведь из СС?
ОН: Да.
Кратко.
Я: Лейтенант?
Молодец, Джон! Умница! Мата Хари.
Посмотрел удивлено.
ОН: Нет.
Я: Но это ваша машина… была… пару раз?
Нахмурился.
ОН: Нет. Служебная. Почему?
Я: Да я…
ОН: Для себя?
Джон, дебил редкостный, такой из тебя шпион, не только сам загремишь – всех сейчас выдашь!
ОН: Вам машина нужна?
Я: Нет, я думал… с каких чинов машины выдают, то есть, как-то так. Интересно просто.
ОН: Вы автомобилями увлекаетесь?
Я: Да! Автомобилями!
Захохотал.
ОН: Вам чин мой нужен? Вы бы так и спросили. СС-штандартенфюрер.
Ох, Кэт.
Стыдно.
Я: А на английском со мной… так и видно, что англичанин?
Посмотрел, как на идиота.
ОН: СС-штандартенфюрер. Гестапо. Работа у меня – знать.
Вот так. Те полночи планы составляли, как вызнать, а мальчик честно так, с распахнутыми глазами, в лоб.
И кто тут грязен?
Даже странно, что он так открыто.
ОН: Я думал, вы давно поняли.
И тут, Кэт, я опять как последний идиот, чуть не сказал – «пойдемте», руки сами для наручников соединились.
Как же это все-таки тяжело – врать!
Я: Значит, вы следить ходите?
Он опять, как на идиота.
ОН: За вами? А надо?
Я только головой помотал.
А он улыбается – больше семнадцати и не дашь.
Да уж – следить на Мерседесе,
с бабой.
ОН: Хотите, кофе вместе попьем? Вместо исповедальни.
Я: Английский у вас хороший.
ОН: Спасибо, но британцы так всем говорят, даже индусам.
Я: Да, но у вас правда хороший.
ОН: Кофе вы будете? Или на службе?
Я: Буду.
На часы глянул.
ОН: Ну, тогда в другой раз. У меня обед кончается. А об исповеди подумаю.
Глаза поднял.
Серые, как у Джереми.
ОН: Доверять вам можно?
И ведь Иудой себя чувствуешь, Кэт.
Улыбнулся.
ОН: Ладно. До скорого, патер. Если что, я за вами Мерседес пришлю.
* * *
Кэт,
Я вообще не успеваю тебе писать. Такая жизнь стала! Фриц упал мне на голову, пробил лоб, я их все-таки убрал. Подвесил на кухне. Молился за Гильку.
Мальчик Мерседес не прислал.
Сегодня исповедовался.
Кэт! Что это было!
В обед я услышал звук мотора, он вышел из машины при полном параде – форма сияет. Бляшки, нашивки, фуражка – вот – фуражка это, не кепка у них. В сапогах. Сапоги гвоздями по камню стучат. Так он прямо, уверенно в церковь зашел, ко мне шаг чеканил, я подумал – всё, точно арест. А он подходит, свеженький такой – ариец, ариец – пойдемте, говорит. У меня опять руки для наручников запястьями уже собрались, а он добавляет, командно так – не громко, не крикливо, но повелительно очень – «на исповедь». Так «на расстрел» произносят, а он мне – «на исповедь».
Подошли к кабине, сели. У меня сердце в самой гортани стучит.
Он фуражку на подставочку положил и молчит.
ОН: Ну. Начинайте.
Я: Я слушаю тебя, сын мой.
ОН: Вообще у меня мать прямо повернутая католичка. Я в детстве в церковном хоре пел. Месяц. Или меньше… нет, больше. Недолго, в общем.
Молчит.
Я: Когда последний раз ты исповедовался?
ОН: Лет в четырнадцать, может. Больше десяти лет назад. Нам бы быстрее, время у меня ограничено.
Тишина.
Я: Какой грех давит тебе на душу, сын…
ОН: Никакой.
Так.
ОН: Ничего на меня не давит, мысли только.
Я: Какие?
Молчит.
Я: О чем-то ты же думал, когда деву Марию просил, марки ей жертвовал, в зале…
ОН: Нет, тогда я как раз не думал.
Я: А… как… зачем, что толкнуло…
ОН: Жить не хотелось. Вам всегда хочется жить?
Я: Бывают времена апатии, сын мой, когда руки опускаются, отчаяние…
ОН: Да нет! Какая апатия? Просто жить не надо.
Я: Я, извините, не понимаю.
ОН: Ну вам никогда не хочется просто не быть, чтоб тело сдохло, черви его сожрали и всё? Ничего больше. Небытие, если угодно. Вот мне тогда жить не хотелось.
Я: Уныние…
ОН: Патер! Какое уныние? Уныние это у жирных домохозяек, которым у камелька поныть надо. Такую один раз кованым сапогом пнешь, она птицей взлетит. Не надо меня вашим унынием, отчаянием, я не «передай все в руки божия» слушать пришел. Бывают просто моменты, когда жить не хочется, и никакого бездействия или апатии. Не хочешь жить и точка. Но живешь. Я даже знаю, почему это, теоретически – от ненависти к себе. Раньше думал – из страха, но нет, или даже если и из страха, то страх тоже из ненависти к себе.
Я: Какого страха?
ОН: Не сделать. Не добиться – не доплыть, не дойти. Из всех перечерканных, недоплывших к тебе зверей, Господи, можно я буду тоже неосторожным, вельможным дожем, обожающим лебедей?
Я: Это… чьё?
ОН: Моё. Еще в четырнадцать баловался. Я думал страх это, но не страх, просто ненависть. К себе.
Я: За что?
ОН: За слабость. Или не так – за то, что хорош недостаточно.
Я: Для чего?
ОН: Для всего. Для всего, что должен бы делать.
Я: А что должны бы?
И тут я прочувствовал взгляд его на меня, как на идиота.
Всей кожей прочувствовал.
ОН: Может, мне в прелюбодеянии покаяться?
Что значит «может»?
Кэт, почему с ним всё не как у людей!
Да что ж это такое!
Что ж это за исповедь… чертова!
Отправить бы его домой, сказать – думать надо о грехах своих, раскаяться надо прежде, но…
Я: Если ты в нем раскаиваешься искренне и горячо…
ОН: Не раскаиваюсь. И Норе все равно.
Да что ж это за брак такой!
Я: Она… не любит тебя?
ОН: Я тоже так думал. Давно. Но любит, насколько рыбки любят… да, ладно, это я уже себе вру, чтоб совесть облегчить – любит. Так любит, что даже над карпьей природой своей работать готова.
Я: Так, может, ей не все равно?
ОН: Да видела она эту Лайзу, она насекомое это каблучком раздавит, не моргнет. Не в Лайзе дело. За прелюбодеяние я не раскаиваюсь, вот за не-прелюбодеяние мне перед женой нехорошо… Но все пройдет. Бесполезно, да, в прелюбодеянии тогда каяться?
Я: Бесполезно.
Помолчали.
Я только сейчас заметил, как исповедальня пахла деревом.
Хорошая исповедальня.
ОН: Ладно, я тогда лучше поеду.
Поднялся.
Кабинку обошел, занавеску мне отодвинул.
Смотрит.
ОН: Патер, вы находите меня красивым?
Господи.
ОН: Вы что? Вам нехорошо?
Я: Я… но почему?
ОН: Что? Похотливые человечки! Если я вас о красоте статуи Давида голого спрошу, вы что, тоже в яблоки упадете? Стыдно вам, священнику, так реагировать.
Я: Я… это вообще не дело! Молодой человек! Так не исповедуются. Исповедоваться надо раскаявшись, о всех грехах заранее помолившись, а не так – вы что думаете, вы рыбу на рынке покупаете – ну-ка быстро, прощения мне тут отвалил, килограмма на три…
ОН: Так, отставить. Встал, вышел. Вы что разорались? Если вас вопрос о красоте смущает, и вы не способны нормально исповедь провести, не надо мне тут лекции читать, как я к чему готовиться должен. Если у вас сознание такое развращенное, что в вопросе «красив ли я» вы секс слышите, то не надо это недовольством мелочным вуалировать.
Я: Вы… вы мне будете говорить, как я исповедовать должен?
ОН: Вы глухой, патер? Я вам говорю, что мысли о мужеложестве не должны вам в голову лезть, когда вас о красоте спрашивают.
Я: Что?! Вы! Да вы себя видели? Вы, когда глаза бесстыжим образом на меня поднимаете и спрашиваете, с соблазняющей серьезностью спрашиваете – «красив ли я?».
ОН: С соблазняю… что?! Да вы гей! С соблазняющей серьёзностью, серьезно? Так только содомит и скажет!
Кэт, я дышал, как мог, чтоб спокойнее. Считал. А он ведь не ушел. Стоял, наблюдал, и прямо поклясться могу – смеялись у него зрачки. Смеялись, бесстыжие!
Я: Зачем вы спрашиваете тогда? Зачем вопросы такие людям задают?
ОН: Вы серьезно полагаете, что я мечтаю затащить старого, костлявого, лысеющего, лошадинолицего англичанина к себе в кровать? Да вас от камамбера не отличить – и на лицо, и по запаху.
И вот, Кэт, что оскорбительнее – когда за гея считают, или вот так отчитывают? Отчего ж я тупой такой, так долго слова подбираю… Я ж потом за весь вечер столько подходящего, умного столько придумал, а тогда только и ляпнул:
Я: Да что вам надо?
ОН: Рассказать кое-что хотел. Не дрочите, не гейское. Но времени уже нет. На кофе заеду. Может быть.
И пошел.
Но обернулся – и на всю церковь, поганец:
ОН: А подобные вкусы свои скрывать надо. Я вас уже арестовать должен. За одни мысли такие – треугольник на грудь и в концлагерь. Тише, патер, такими делами заниматься надо. Тише.
Святые угодники!
* * *
Кэти,
Он пришел на кофе.
Господь сохранил. Я уже на собрание собирался, все переживал, что опаздываю и до комендантского часа не успею. Все взял почти, как стук – требовательный такой – в дверь. Точно не паства. Кто там? Гестапо. Открывайте. Глупо да, а все равно у меня от этого сердце в уши, как у зайца. Открыл. Солдаты ввалились. Пошли мои клетушки осматривать. Методично так – тут прикладом постучали, там, открывайте, говорят. Все шкафы, кровать… бац, тайник нашли – настучали прикладами-то. Открывайте. А я как открою, там же постель. Хорошо, Цацика забрали, но постель там. Открыл. А не открыл бы, так они мне что – стену бы проломили и точка.
Кэт, не пойму, страшно так почему. Ведь не должно бы. Весь испотелся. А они на тайник глянули – ни вопроса не задали, дальше пошли. Он, вообще, на шкаф походит или на гроб, но ведь кто в гробу одеяльце хранит? Промолчали. У входа встали. Тут он вошел. Все в том же пиджачишке, с коробкой в руках.
ОН: Ночи, патер. Как поживаете?
Я: Божьей помощью.
ОН: Немощно, значит. Кофе? Дела?
Я: А?
ОН: Присядьте. Джон, я, знаете, нервный из-за работы. Мне крайне не нравится, когда люди не собраны и тупят. My worst pet peeves, I can’t help to freak out on people not answering my questions and people saying «hein?». If there were an instruction for a safe interaction with me – it would be amazingly simple: don’t go silent when asked something and don’t act like you have a bloody attention disorder. Are we clear about it?
Я: Yes, sir.
И говорил он это с теплейшей улыбкой.
Страшно.
ОН: Вы хороши в кофе? Вообще, откуда у вас кофе-то… Конрад, будьте добры.
Отдал пакет какому-то детине.
Тот прошагал на кухню.
ОН: Ведите в зал.
Сели на кресла.
ОН: Вам до сих пор некомфортно? Так, не молчать.
Я: Да.
ОН: Почему?
Я: Потому что у меня по квартире ходят люди в окованных сапогах…
ОН: И вскрывают тайники.
Я: Да. Нет! Это…
ОН: Шкаф с одеяльцем. За досками. С крошками на одеяле.
Главное, не выдать остальных.
ОН: Ой, пошлые человечки! Вы что там сидите, к пыткам готовитесь? Еврея прятали или цыгана?
Я: Никого я не прятал.
ОН: Собаку держали.
Я: Да.
ОН: Породы какой?
Я: А такая… вот это… дворняжка.
ОН: Какой вы нацист, евреев и цыган дворнягами обзывать! Что, съели?
Я: Кого?
ОН: Собаку.
Я: Отдал.
ОН: Зря. Собака такое животное, дом охраняет. У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил, на могиле написал… я держал троих евреев, одного не удержал. Прекращайте сидеть в состоянии шока.
Встал.
ОН: Какая у вас холодрыга! Не двигаешься – вымерзаешь.
Я: Пиджак у вас тоненький.
ОН: Нравится? Мне тоже. Я долго такой польский искал, чтоб не выделяться. Ханс! Плащ мне принесите.
А под пиджаком водолазка из кашемира.
Часы с гербом.
ОН: Нравятся? Эти фамильные. Но я хочу себе еще у Вашерона заказать – эсесовские. Патер, будете карпом сидеть… досидитесь.
А что мне делать?
Я: Вы признаний ждете?
ОН: Невыносимые человечки! Гостеприимства. Это ваш дом или мой, что вы в углу, как сурок, зажались? Кто так гостей встречает?
Я: Гости, извините, не вламываются…
ОН: Так, давайте без эго… без вашего унтерменшства… что у вас в жизни вообще происходит, кроме меня… ну и ваших евреев? Вы на коленях благодарить должны, что я такое оживление в вашу жизнь вношу, радоваться – что-то интересное происходит, а вы… вы, как все недолюди, хомяком сидите. С мордочкой-камамбером.
Я: Интересный способ добиваться гостеприимства…
ОН: А что делать? Вам, дебилам, не пояснять, где вы дебилы, так только печи вами тогда и кормить. А печи тоже не железные. У них свой потолок. Всех не скормишь.
Я: А вы бы всех и скормили, без потолка-то…
ОН: Не знаю. А вы?
Тишина.
ОН: Эй, это я не риторически спрашиваю. Нагрянь сюда партизаны, сдали бы меня им? Или в ваш тайничок, на крошки, упрятали?
Неправильно! Все неправильно!
Я: Зачем вы приходили в церковь?
ОН: Люблю. Церкви меня успокаивают. Дева Мария у вас замечательная. В некоторых соборах я б прямо жил. Знаете, вероятно, из меня вышел бы неплохой священник, есть у меня даже ощущение, что я им был. В детстве я право не знал, кого предпочесть – Медузу Горгону из павильона или Деву Марию из фамильной часовни. Это было огромной дилеммой, пока до меня не дошло, что можно любить обеих. И что обе по сути – одно лицо. А я вам печеньки принес. Всякие разные. Марципановые. Шоколадные. Карамельные. Но марципановые – самое счастье, правда?
Я: Вы сладости любите?
ОН: Не знаю. Как говорила Мари, девка одна из Парижа, я люблю на них подрочить. Не подумайте, похотливый вы хомячок, не в прямом смысле. Я люблю, когда они стоят красиво, пахнут, когда их готовят и весь нижний этаж, как корж, пряностями пропитывается. Люблю, как накрывают. Историю люблю – откуда какая сладость. Вот про мясо мне знать как-то неинтересно. Я его не люблю, а вы?
Я: У меня нет таких интенсивных… реакций на еду.
ОН: Ужас. У вас даже такого нет. На что вы вообще тогда интенсивно реагируете?
Я: Вы пришли меня оскорблять?
ОН: Вы напрашиваетесь на оскорбления. Я так понял, хозяин дома сегодня я. Хорошо. Сидите.
И вышел из зала.
В зале остался запах духов,
очень много в них было кедра.
Кухня! Боже!
Так и есть, он стоял на кухне и рассматривал трех повешенных.
Я всегда их путал, Кэт, но сейчас очень четко вспомнил, кто есть кто.
Фриц – в черной униформе танкиста с головой зеркалом, согбенный, руками-крюками, ногами-усиками.
Франц – в серой униформе с дырой посередине, через которую вместо внутренностей видны шестеренки, голова – механизм.
Ханс – в коричневой униформе с головой-табуреткой, руками-сапогами и пивным брюшком.
У всех на попе – свастика.
Гиля, чистая душа, посадил свастику на попу, потому что это место было у всех. Так он мне объяснил. А то у Франца груди нет – шестеренки одни, у Ханса не руки, а крюки, на бедра свастику не повесишь – мала, залепил на попу.
ОН: Это что?
Я: Глина.
ОН: Да? Вы уверены, что не изобутан? Может пропиленгликоль?
Я: Нет. Обожжённая глина.
ОН: Крашенная?
Я: Да.
ОН: Где ваш еврей, который лепит это? Где эта дворняга?
Я: Его забрали.
ОН: Куда?
Я: А куда вы забираете?
ОН: А зачем вы их на люстру повесили?
Я: Они ночью падали мне на лоб.
ОН: Мстили.
Я: Может быть.
ОН: А на пол поставить?
Я: Им холодно. По полу дует.
ОН: На мебель.
Я: Какую?
ОН: Зачем вы их держите?
Я: На память. Черненький Фриц, серенький Франц, коричневый Ханс.
ОН: Может, они у вас еще разговаривают?
Я: Тыж-тыж говорят. Бах-бах. Расстрелять.
ОН: Это кто – расстрелять?
Я: Не знаю. Франц.
ОН: Не, Франц – в печь.
Я: Вы откуда знаете?
ОН: А это я вам гарантирую, тот, что Франц – точно «в печь», не тыж-тыж и не расстрелять.
Я: Будь по-вашему.
ОН: У автора есть еще шедевры?
Я: Были, но не нацисты. Другие всякие монстрики. Автору двенадцать лет только, он лепит то, что ему страшно, чтоб понять и подружиться. Это я процитировал. Он с ними дружил, потому и заботился, чтоб не на пол. По полу – дует.
ОН: А любимчик у него кто?
Я: Все.
ОН: Так не бывает. Одного всегда любят больше.
Я: Тогда не знаю.
ОН: А у вас?
Я: На меня Фриц чаще всего падал.
ОН: Вот, я же вам говорил – гей вы, еще и по-японски гей. Чтоб с тентаклями.
Я: С чем?
ОН: Японцы с тентаклями любят. Картинки у них такие.
Я: Вам видней.
ОН: Ой, не надо. Мало того, что гей с тентаклями, еще и мазохист. Увесистый Фрицик: такой ночью упадет – боль одна. Стыдились бы вы, святой отец, таких вкусов. Садитесь, кофе с печеньками пить будем. А можно мне этого, в сером, срезать?
Взял скульптурку себе, шестеренки ощупывал.
ОН: Похожи мы?
Я: Знаете, странно, но да.
ОН: Вот, это значит скульптор из вашей дворняги талантливый. Номер его у вас есть?
Детина-солдат стоял над кофеваркой и иногда, несмело поднимал глаз на мальчика… тьфу! на фюрера своего.
Вода булькала.
Кэт, как я тебя звал оттуда, с колченогого моего табурета. Почему сложно так всё – как правильно, как неправильно. Что значит номер? Зачем номер? Кого так выдам? Тоже мне, идиоты! Какой из меня шпион? Мата Хари в рясе, черт! Какой я на хрен-то Лоуренс Аравийский?
ОН: О чем думаете? Опять о пытках?
Я: Это вообще я слепил.
ОН: Расстрелять.
Солдат у кофеварки голову поднял.
ОН: Шутка.
Опустил.
ОН: Хреновое у вас чувство юмора.
Я: У вас замечательное.
ОН: Третий пункт из инструкции по безопасности: не быть со мной карпом. Не зомбируйтесь. Мне ваши эмоции интересны, не poker face.
Наблюдает. Зрачки, бесстыжие, хохотом… развлекается.
ОН: Мы с вами на исповеди остановились.
Я: Вы не раскаиваетесь.
ОН: В прелюбодеянии – да. Но это ж только в прелюбодеянии.
Я: В чем раскаиваетесь?
ОН: В убийстве. Вот вы тупите похотливой головкой французского сыра, а я здесь на деле, чтоб посмотреть, можете ли вы мне быть полезны и могу ли я спасти вас. В церкви сказали – «помощь»…
Я: Она вам нужна?
ОН: Патер, нужно быть совершеннейшим из узколобых имбецилов, чтоб на этот вопрос ответить «нет». Эта вещь нужна всем, даже ветхо… особенно ветхозаветному.
Я: В чем?
ОН: «В чем» не бывает, помощь бывает просто… когда берется и внезапно хочется жить.
Я: А вам до сих пор не хочется?
ОН: Это циклично.
Я: Вы хотите покаяться мне в убийстве?
ОН: Нет. Я хочу… подумать вместе. Так что там, у вашего еврейчонка-то номер есть?
Я: Я не запомнил.
ОН: Плохо. По номеру хоть с того света вытащить можно.
Я: Зачем он вам?
ОН: Понравилось. С автором пообщаться хочу. Ой, грызуны! Ну, конспирируйтесь. А если б номер как адекватный человек сказали бы, возможно, парня сюда уже сегодня б и привезли. Интересно мне у него узнать, о чем это он с таким Францем беседовал.
Может, по номеру что-то еще вычислить можно. Точно можно. Нельзя ему номер. Может, наказать хочет. Мертвых как накажешь? А вдруг живой, на работах каких. Не надо ему номер, да и не помню точно.
ОН: Вот так из нерешительности и убивают.
Кэт, с этим человеком реальность плывет.
Ты не знаешь, во что ты веришь.
Нет, сказки всё. Играет, как кот с мышью.
ОН: Поздравляю, патер, вы идиот. Но дело ваше. Как свободное время будет, в убийстве еврейчонка покайтесь. А так марципаном бы накормили.
Я: И расстреляли!
ОН: Зачем, уважаемый, патроны переводить? Бензин тратить – его найти, сюда притащить. Такое только ради удовольствия делают. Приятно мне с автором познакомиться, интересно. Но вы с вашим восприятием меня в роли этого монстрика его убили уже. Так что покайтесь, свечу поставьте.
Я: Вы об этом убийстве, значит?
ОН: Оно не мое. Ваше. Не о нем. Один скандинавский режиссер, фамилию забыл, считает, что у всех человеческих взаимодействий есть ритм, подсознательно все следуют именно ему. Осознанно же – глухи. Как вы полагаете, как у нас с вами ритм?
На марципановую фигурку глянул.
ОН: Это козел или свинья? Вот ваши польские свиньи, они даже пряники нормально вылепить не могут! Кстати, вы себя больше сейчас куда относите – к полякам или все же британцам?
Я: К богу.
ОН: А сколько лет вы бы мне дали?
Я: Я не знаю.
ОН: Совсем в тумане сидите. В тумане моя голова, в тумане синие очи, дракон выдыхает марь, дракон выдыхает морок. Не слышали? Это ж ирландское, из ранних версий Кухулина.
Это допрос.
Кэт, кто знал бы, что допросы – это вот так. Ясно тогда, почему выдают. Марь одна, морок. Так обязательно что-то сболтнешь.
ОН: Я похож на человека с разбитым сердцем?
Я: Похож.
ОН: Чем?
Я: Не знаю.
Чашку поставил.
ОН: Вы решили, что вы на допросе?
Я: Нет.
ОН: И врете. Раз на допросе, так уж хоть врите естественней. Попробуйте еще раз. Пробуйте, я сказал.
Я: Нет.
ОН: Не верю.
Я: Ну и ладно.
ОН: Вот это лучше. Вы любите Диккенса?
Я: Да.
ОН: Тьфу, какой отвратительный вкус! Что в этой дряни вас соблазняет – социалка, слезодавильность или занудство?
Я: Всё.
ОН: Патер, будете со мной карпом – разозлите. Я предупреждал – я нервный, злюсь легко. Я пришел сюда с самыми лучшими намерениями, вы не хотите, чтоб я их поменял.
Я: Мне нравится Чарльз Диккенс.
ОН: Чем?
Я: Психологизмом.
ОН: У Диккенса?! У него сплошные размалеванные картонки «пожалей меня, пожалей!». Отвратительно невинные идиоты.
Я: Хорошо, что нравится вам?
ОН: Так сразу? Из последнего я был в восторге от Селина, понравился мне Кокто. А если об англоговорящих, первое, что на ум приходит, – Уайльд. Ну, у вас вообще ирландцы талантливы. «О водоплавающих» ничего, но там формы много, сути нет. Думаю, со временем автор до чего-нибудь приличного созреет. Не напрягайтесь, откусите козлу-свинье голову и наслаждайтесь.
Прошелся по кухне.
ОН: Смотрите, как люди глухи. И еще требуют терпения с ними не терять. Я вам говорю, что у вас простой выбор: либо сидеть все время сурикатом в тумане, либо расслабиться и наслаждаться сахаром, жирами и беседой. Что должно сделать адекватное существо? Правильно, приступить к марципану. А что делают люди – сурикатят в тумане. Обижаются еще, когда им за подобное грызунство в зубы дают.
Я: К чему вы меня о красоте спрашивали? Своей красоте, тогда в церкви?
ОН: Нравится вам моя внешность?
Я: Я нахожу ее выигрышной.
ОН: Если б у вас такая была?
Плечами пожал.
Что за вопросы?
ОН: Это ответ?
Я: Ну, была бы такая.
ОН: Нет, это много меняет в жизни человека. Вы знаете, что в Кембридже вывели – с красивыми людьми соглашаются… как вы думаете, насколько чаще?
Я: Вдвое.
ОН: В семь раз чаще. Вне зависимости от того, согласен ли собеседник или нет с месседжем, он выразит одобрение. То есть, он может перевести тему, обойти сюжет, но психологически – улыбкой, жестами, глазами выразит одобрение. Вы знаете, кстати, что мы считываем эмоции собеседника по мышцам вокруг глаз. Поэтому все склонны искать или, наоборот, старательно избегать визуального контакта во время серьезных разговоров. Даже при приеме на работу на такие должности, как инженер или бухгалтер, предпочтение между равными кандидатами отдается тому, кто красивей. Подсознательно. Самое смешное, что осознанно вы будете объяснять ваш выбор чем угодно, кроме внешности. Вы скажете, я предпочел Икса, потому что он пунктуальнее. Когда вам докажут, что это не так, вы найдете иные оправдания выбору: вежливее, опрятнее, вдумчивее, внимательнее. Когда все возможные оправдания будут опровергнуты, испытуемые неизменно выдавали одну и ту же фразу – я просто больше ему доверяю. И все, абсолютно все отрицали, что выбрали Икса, потому что у того глаза красивее.
Это к расовому?
Что арийцы первые, потому что красивы?
ОН: Давайте, ляпните мне уже что-нибудь.
Я: Я внимательно вас слушаю.
ОН: Если кто-то даже на капельку миловидный скажет вам, что не привязан к собственной внешности – он идиот. Потому что к своей внешности привязаны даже самые жирные и страшные бабы.
Мальчик остановился.
Я поднял глаза от кружки и зря: я поймал его взгляд, и меня аж к стулу пришило.
Такие у него были глаза, как…
как у святого Себастьяна по легенде.
Чистые и в страдании.
Я: Не мучайтесь же вы так.
Не удержался и прошептал я, окошко в душу тут же захлопнулось. Взгляд остыл, серебром покрылся.
ОН: I’m a bit agitated, pardon me this hectic mood.
Я: No! Please, be at your ease.
Он сел напротив.
ОН: Thank you. Я…
Он взял в руки пустую кружку, прокрутил её.
Пространство гудело. Молодой человек что-то невероятно интенсивно проживал внутренне.
Кофе шипел на плите.
ОН: Я кое-кого усыпил.
Что?
Я: Как… как собаку что ли?
Он взглянул как умственно-отсталого. Но улыбнулся. Добро так улыбнулся.
ОН: Почти. Я знал самую красивую женщину, вы таких женщин не видели никогда и не увидите, я, честно говоря, тоже больше не встречу, – статистика подсказывает. Мне кажется, вы видели Лайзу, так вот Лайза с ней рядом – неуклюжий белый бегемот. Девочка была восхитительна, умна, талантлива, неотразима. Предана.
Задумался.
ОН: У неё были самые вкусные кесадильи. И она очень часто меня злила, но… когда не злила… у неё была такая улыбка… очень красивая улыбка с родинкой над губой. И нёбо, как у котенка, – мягкое розовое, когда она хохотала, запрокидывая голову, можно было увидеть нёбо, и даже это было красиво. Но это когда не злила. Но потом она упала в самолете, потеряла ноги и за месяц из-за гормонального расстройства превратилась из 45-килограммового демоненка в 97-килограммового мамонтенка с телом-желе. Гиппопотамчик без двух задних лапок. И я говорил ей, что даже без ног… я не мог бы ей врать… я не то, чтоб любил её… но она заслужила место в семье. Я говорил ей – даже без ног… но она не любила меня достаточно. Достаточно, чтоб встать на ноги снова. Я вкатил ей морфий, тридцать один кубик, и она уснула в гвоздиках, положив на меня свою большую водянистую руку. Такое начало. Вы меня раздражаете, когда вы не едите. Ешьте.
Я откусил лапу козлу-свинье.
Кофе ударил по нервам дрожью. Сильный кофе, хороший.
ОН: Конрад, это всё. Спасибо. Пошарьте там, они иногда не сразу пижамы уничтожают, мне номер нужен. Сколько у вас парень жил?
Я: Я… не помню.
ОН: Вы действительно имбецил. Мне нравятся фигурки, они меня забавляют, я хочу вытащить парня и посмотреть ему в глаза. Если беседа мне с ним понравится, он не еврей. Вы ломаете ему жизнь. Прямо сейчас. Потому что тупой.
Я: Я… я могу… я знаю имя и когда, но номер… если только примерно…
ОН: Конрад, выведи, запиши. И пробей. Сейчас.
И я рассказал, Кэт.
Я думал, все равно Гильке не жить, а так хоть шанс какой-то есть, вдруг действительно вытащит. Как вернулся, он полки осматривал, будто я на кухне что-то хранить буду.
Конец ознакомительного отрывка
Славный читатель, перед тобой – лишь отрывок полного романа «Заурядные письма священника своей мёртвой жене».
Полная книга продаётся только на официальном сайте автора:
franzwertvollen.com
Купив этот отрывок, вы можете ввести промокод и приобрести роман со скидкой на 100 рублей. Так вы ничего не теряете.
Ваш промокод на покупку полной книги в магазине F.W.W
локон медузы
Вводите промокод при покупке,
и вы получите скидку в размере 100 р.
По любым вопросам обращайтесь на почту fwwcodex@gmail.com, либо к куратору проекта Сигрун:
Вконтакте:
Телеграме:
Инстаграме: /
Послесловие
«Я очень хочу любить!» – это первое, что хочется побежать и воскликнуть гениальному автору, – «Я очень хочу быть полезной вам, как Священник, можно?». Хочу в мире больше красоты, такой, как у Франца и Лили, нежности и заботы – как у Евы и Колина к Францу. Я чувствую, что еще, как Священник, не такая смелая, мне еще бывает страшно открываться людям, заглянуть в них и увидеть там страхи, ущемление, злость. Увидеть в них желание не жить, а бродить недовольной коровой, как Сара, и жаловаться, даже когда дали шанс на счастье.
Мне до этой книги было страшно видеть, что люди, на самом деле, далеко не все розовые единорожки, способные на любовь. А что есть вот такие Агнешки, которые ни о чем, кроме себя не думают, и их любовь – это просто желание похвалить себя: «я молодец, я хорошая мать/я молодец, я борюсь с режимом и спасаю детей, ангел просто». Такая Агнешка может кричать: «я за мир во всем мире, нет убийству и эксплуатации», а сама, при этом, хочет убить всё, что ей указывает на её уродство. Она готова убить красивого трогательного юношу, за то, что он красив и умен, и ей в жизни никогда не жить с его легкостью и остроумием. Но при этом такие Агнешки слишком трусливы, чтоб сказать себе правду: я хочу его убить, потому что он заставляет меня чувствовать себя мусором, нет – они будут верещать: «он должен умереть, потому что он – враг!! Он же офицер СС!!». И 30 секунд после таких истеричных взвизгов Агнешки с пеной у рта доказывают, что нет ничего ценнее человеческой жизни и судить людей по форме нельзя, надо заглядывать в каждого человека и видеть его суть.
Нечего в мире доказывать, какой ты праведный, все гораздо проще: из любви ты живешь или из ненависти.
И так понимаешь, что добро – это не сотни Агнешек от смерти спасать (им все равно ничего кроме страданий и ненависти не светит, потому что они ничего кроме ненависти и не хотят), добро – это подарить смысл и желание жить Гиле, светлому и трогательному. Показать Священнику, что его жизнь, серая, почти ничем не наполненная, кроме писем мертвой жене и «слизни поели зелень», может быть другой – сияющей и богатой на краски. Добро – это подарить Джону красоту ночи с бриллиантовыми заколками Лили, гонку за руку по коридорам, смех и юность, и возможность чувствовать то же тепло, что чувствуют самые кровавые ирландские гангстеры, складывая свитера в рождественский подарок сыну.
Франц ворвался в мою жизнь. И дал прожить мне те моменты, каких у меня никогда не было и вряд ли без него случились бы.
Я даже не думала раньше, что могу к кому-то испытывать столько нежности и желания отдавать, сколько испытываю к Францу. И не просто к герою романа, – к автору книги, Францу Вертфоллену, потому что он и главный герой – одно лицо. Это чувствуется за каждой строкой, за тем остроумием и искренностью, с какими он делится жизнью.
Теперь я знаю, что такое добро. И что такое верность.
Ты верным можешь быть только тому, кто делает твой мир понятнее и безопаснее, кто таких слизней, перепуганных и потому мечтающих о великих чудесах, превращает в людей, идущих, наконец, к счастью. Ты верен тому, кто просто умеет любить.
Теперь я тоже учусь быть маленьким волшебником, что так же открывает людям глаза и они, радостные: «да, можно же не мечтать об Антарктиде/Голливуде и сидеть на попе, я могу хотя бы просто сменить нелюбимую работу, шаг за шагом учиться быть умнее и исполнительнее, просто делать то, что для меня – удовольствие». Как я после «Священника»: спасибо, блистательный офицер, я, наконец-то, готова делать вещи со своей жизнью. И, пожалуйста, можно я буду делать вещи для вас, чтоб учиться дальше и чтоб жизнь моя была богата не только слизнями, подъедающими зелень с грядок. Чтоб моя жизнь играла вашей яркостью красок.
Что делать?
Вот вам пошаговое руководство:
ШАГ 1: Ныряйте в другие книги всей душой, головой и сердцем —-shop/.
ШАГ 2: Приходите на «Вакцину от Идиократии». Это ваша исповедь, как исповедь священника – офицеру. «Вакцина» дарит незаменимую смелость быть честным с самим собой. Смелость отбросить все рамки вроде: «я не той внешности, нации, вероисповедания, бедный, плохое здоровье, сирота и т.д, потому не могу» и идти вперед. «Вакцина» учит быть сильным и не искать оправданий на пути. Дает мир, который хочется строить вместе с другими, такими же горящими людьми.
«Вакцина» – это литературный сериал Франца Вертфоллена, где сам автор проводит вас за руку по своей вселенной… и по вам лично. На «Вакцине» Франц раскладывает мир по полочкам: показывает вам, как работают люди, их мотивации, что дисфункционально и как от этого избавиться в себе.
Филигранная работа со своей сердцевиной на «Вакцине» протекает легко, потому что на примерах героев. Тебе уже не страшно видеть, что в тебе давало сбой – ты знаешь сразу, как это исправлять. И знаешь не теорией – эмоциями, ведь ты уже прожил с героем, как он или она прошли через это.
Как маленькие дети нуждаются в сказках, чтоб понять, как это – «добрый», «честный». Так и взрослые нуждаются в примерах, в проживаниях слов «смелый», «волевой», «решительный». Без понимания, КАК это работает, КАК чувствуется, слова «умный», «целеустремленный» – это просто набор звуков.
«Вакцина» учит вас чувствовать.
Учит работать с миром. Учит Жить.
Жить ярко, как герои Франца Вертфоллена.
/
ШАГ 3: Ежедневная зарядка мозга, ответы на ваши вопросы, атмосфера и цитаты из книг в пабликах «Безделушка» и «Тескатлипока и огонь». Ваш десерт.
Смотреть, как это – роскошно жить, и развивать чувство вкуса – на инстаграме @fww.codex.
И то драгоценное, чему не учат в школах и университетах, но чему учит Франц в своих видео на youtube-канале, – это умение думать и раскладывать себе мир по полочкам. Смотрите с удовольствием: F.W.W. Франц Вертфоллен.

![Байки нашего квартала [Про Турцию и турков]](https://www.4italka.su/images/articles/468359/primary-medium.jpg)

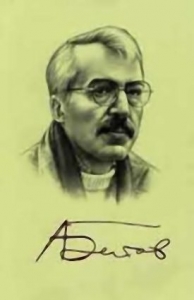





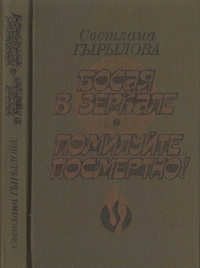
Комментарии к книге «Заурядные письма священника своей мертвой жене», Франц Вертфоллен
Всего 0 комментариев